Теодор Драйзер ДЖЕННИ ГЕРХАРДТ
Глава I
Осенним утром 1880 года немолодая женщина в сопровождении девушки лет восемнадцати вошла в главный отель города Колумбуса (штат Огайо) и, подойдя к портье, спросила, не найдется ли для нее в отеле какой-нибудь работы. Она была полная, но некрепкого сложения, держалась скромно и просто. Лицо у нее было открытое, большие глаза смотрели терпеливо и кротко, и в них таилась тень скорби, понятной лишь тем, кому случалось участливо заглянуть в лицо беспомощного, подавленного горем бедняка. Нетрудно было понять, откуда взялись у ее дочери робость и застенчивость, которые теперь заставляли ее держаться позади матери и с притворным равнодушием смотреть в сторону. В характере этой девушки воображение, природная чуткость и впечатлительность неразвитого, но поэтического ума, унаследованные от матери, сочетались с отцовской серьезностью и уравновешенностью. Женщин этих привела сюда нужда. Они казались таким трогательным воплощением честной бедности, что вызвали сочувствие даже у портье.
— А какую работу вы ищете? — спросил он.
— Может, вам нужно где прибрать или что почистить, — несмело ответила мать. — А еще я могу мыть полы.
Дочь при этих словах поежилась — не то, чтобы ей не хотелось работать, но было горько, что люди поймут, какая крайность заставляет их браться за черную работу. Портье, как подобает мужчине, был тронут горем красивой девушки. Что и говорить, из-за ее наивности и беспомощности их доля казалась еще более тяжкой.
— Подождите минуту, — сказал он и, пройдя в контору, подозвал старшую горничную.
В отеле действительно нашлась работа. Главная лестница и вестибюль оставались неубранными, так как постоянная поломойка получила расчет.
— Это ее дочка? — спросила старшая горничная, издали глядя на женщин.
— Похоже на то.
— Что ж, пускай сегодня же принимаются за работу. Девушка, наверное, будет помогать?
— Поговорите со старшей горничной, — приветливо сказал портье, вернувшись к своей конторке. — Пройдите вот сюда. — Он указал на дверь рядом. — Там с вами договорятся.
Сцену эту можно назвать трагическим завершением долгой череды несчастий и неудач, которые постигли Уильяма Герхардта, стеклодува по профессии, и его семью. Этот человек потерял работу — такие превратности судьбы хорошо знакомы бедным труженикам — и теперь с трепетом встречал каждое утро, не зная, что принесет новый день ему, его жене и шестерым детям, ибо их хлеб насущный зависел от прихоти случая. Сам Герхардт был прикован болезнью к постели. Его старший сын, Себастьян, или Басс, как называли его приятели, работал подручным в местных вагоностроительных мастерских, но получал только четыре доллара в неделю, Дженевьеве, старшей дочери, минуло восемнадцать, но ее до сих пор не обучили никакому ремеслу. У Герхардта были и еще дети — четырнадцатилетний Джордж, двенадцатилетняя Марта, десятилетний Уильям и восьмилетняя Вероника; они были еще слишком малы, чтобы работать, и всех их надо было прокормить. Единственным достоянием и подспорьем семьи был принадлежавший Герхардту дом, да и тот заложен за шестьсот долларов. Герхардт занял эти деньги в то время, когда истратив свои сбережения на покупку дома, задумал пристроить к нему еще три комнаты и веранду, чтобы семье жилось просторнее. До полного расчета по закладной оставалось еще несколько лет, но настали такие тяжелые времена, что пришлось истратить и небольшую сумму, отложенную для уплаты основного долга, и взнос в счет годовых процентов. Теперь Герхардт был совершенно беспомощен и сознавал, что положение его отчаянное; доктор прислал счет, проценты по закладной не выплачены, давно пора расплатиться с мясником, с булочником — оба они, полагаясь на его безукоризненную честность, верили ему в долг до последней возможности… Все это терзало и мучило его и мешало справиться с недугом.
Миссис Герхардт отнюдь не была малодушной женщиной. Она стала брать белье в стирку, когда удавалось найти клиентов, а в остальное время шила и чинила одежду детей, собирала их в школу, стряпала, ухаживала за больным мужем и, случалось, плакала. Нередко она отыскивала какую-нибудь новую бакалейную лавку — каждый раз все дальше и дальше от дома — и, заплатив для начала наличными, покупала в кредит до тех пор, пока другие лавочники не предостерегали легковерного благотворителя. Кукуруза была дешевле всего. Миссис Герхардт варила полный котел, и этой еды, чуть ли не единственной, хватало на целую неделю. Каша из кукурузной муки тоже была лучше, чем ничего, а если в нее удавалось подбавить немного молока, это было уже почти пиршество. Жареная картошка считалась у Герхардтов самым роскошным блюдом, кофе — редким лакомством. Уголь они подбирали, бродя с ведрами и корзинами по запутанным путям соседнего железнодорожного депо. Дрова добывались во время таких же походов на ближайшие лесные склады. Так они перебивались со дня на день, в ежечасной надежде, что отец поправится и что возобновится работа на стекольном заводе. Но приближалась зима, и Герхардтом все сильнее овладевало отчаяние.
— Я непременно должен поскорее выпутаться из этой истории, — то и дело повторял упрямый немец; его маловыразительный голос бессилен был передать гложущую его тревогу.
В довершение всех несчастий маленькая Вероника заболела корью, и несколько дней ее жизнь была в опасности. Мать забросила все дела, не отходила от ребенка и молилась. Доктор Элуонгер, движимый сочувствием, ежедневно навещал больную. Лютеранский священник, пастор Вундт, являлся с утешениями от лица святой церкви. Оба они вносили в дом дух мрачного ханжества. Это были облаченные во все черное посланцы высших сил. Миссис Герхардт думала, что теряет девочку, и скорбно бодрствовала у ее постели. Через три дня опасность миновала, но в доме не было ни куска хлеба. Получка Себастьяна ушла на лекарства. Только уголь удавалось добывать даром, но уже несколько раз детей прогоняли из депо. Миссис Герхардт мысленно перебрала все места, куда можно было бы обратиться в поисках работы, и без всякой надежды на успех отправилась в отель. И вот, чудом, ей повезло.
— Сколько вы хотите? — спросила старшая горничная.
Миссис Герхардт никак не думала, что ее станут об этом спрашивать. Но нужда придала ей храбрости.
— Доллар в день — не слишком много?
— Хорошо, — сказала старшая горничная. — В неделю наберется работы примерно дня на три. Приходите каждый день после полудня, и вы вполне справитесь.
— Спасибо вам, — сказала миссис Герхардт. — Можно начать сегодня же?
— Да. Пойдемте, я покажу, где ведра и тряпки.
Отель, куда они так неожиданно попали, был для того времени и для города Колумбуса весьма примечательным заведением. Колумбус, столица штата, насчитывает пятьдесят тысяч жителей, притом тут всегда много приезжих, а стало быть, в городе должны процветать отели и гостиницы, и это обстоятельство использовалось наилучшим образом — по крайней мере так с гордостью полагали сами горожане. Пятиэтажное здание внушительных размеров стояло на центральной площади Колумбуса, где находились также законодательное собрание штата и крупнейшие магазины. Просторный вестибюль отеля недавно был отделан заново. Пол и мраморная облицовка стен тщательно протирались и сверкали белизной. Наверх вела великолепная лестница с перилами орехового дерева и медными прутьями, придерживающими ковер на ступенях. В одном углу вестибюля видное место занимала стойка, где продавались газеты и сигары. Под лестницей была конторка, за которой дежурил портье, и помещение администрации отеля; все было отделано деревом лучших сортов и увешано газовыми рожками — новинкой того времени. В конце вестибюля помещалась парикмахерская — за дверью виднелись кресла и сверкающие бритвенные приборы. Перед отелем всегда можно было видеть два или три омнибуса, они подъезжали и отъезжали в соответствии с расписанием поездов.
В этом роскошном караван-сарае останавливались крупнейшие политические и общественные деятели штата. Несколько губернаторов поочередно избирали его своей резиденцией. Оба сенатора из конгресса Соединенных Штатов, когда дела призывали их в Колумбус, неизменно занимали здесь номера люкс. Одного из них, сенатора Брэндера, владелец считал почти постоянным своим жильцом, поскольку у этого старого холостяка не было, в сущности, другого дома в Колумбусе, кроме отеля. Среди прочих, менее оседлых постояльцев были члены конгресса, законодательного собрания штата, а также кулуарные политики, коммерсанты, адвокаты, врачи — словом, кого там только не было; вся эта разношерстная публика приезжала и уезжала, и отель жил калейдоскопически пестрой и суетливой жизнью.
Мать и дочь, внезапно закинутые судьбой в этот ослепительный мир, были безмерно напуганы. Они едва решались к чему-либо притронуться. Широкий, устланный красным ковром коридор, который они должны были подмести, казался им величественным, как дворец; они не смели поднять глаза и говорили шепотом. Когда же пришлось мыть великолепную лестницу и чистить медные прутья и решетки, обеим понадобилось призвать на помощь все свое мужество: матери — чтобы преодолеть робость, дочери — чтобы преодолеть стыд, ведь она должна заниматься этим на виду у всех. Под ними раскинулся огромный вестибюль, и все, кто там отдыхал, курил, входил и выходил, могли видеть их обеих.
— Как тут красиво, правда? — шепнула Дженевьева и вздрогнула от звука собственного голоса.
— Да, — тихо отозвалась мать; стоя на коленях, она неловкими руками усердно выжимала тряпку.
— Наверное, чтобы жить здесь, нужно очень много денег!
— Да, — сказала мать. — Не забывай протирать вот тут, в уголках. Смотри, сколько грязи ты оставила.
Дженни, огорченная этим замечанием, усердно взялась за работу и терла изо всех сил, уже не смея больше смотреть по сторонам.
Старательно, не жалея рук, они работали до пяти часов; на улице уже стемнело, и вестибюль был ярко освещен. Они кончали мыть лестницу, оставалось всего несколько ступеней в самом низу.
В это время отворилась широкая двустворчатая дверь, которая то и дело распахивалась, впуская с улицы струю холодного воздуха, и вошел высокий немолодой человек в цилиндре и широком плаще военного покроя; он резко выделялся на фоне праздной толпы — сразу видно было, что это важная особа. Лицо у него было смуглое, со строгими чертами, но открытое и приятное; над блестящими глазами нависали густые черные брови. Он на ходу взял с конторки уже приготовленный для него ключ и стал подниматься по лестнице.
Он не только осторожно обошел пожилую женщину с тряпкой, но и снисходительно махнул ей рукой, словно говоря: «Ничего, я пройду». В эту минуту дочь выпрямилась и оказалась с ним лицом к лицу; по ее глазам было видно, как она испугана тем, что очутилась у него на дороге.
Он приветливо улыбнулся и кивнул.
— Напрасно вы беспокоились, — сказал он.
Дженни только улыбнулась в ответ.
Поднявшись площадкой выше, он невольно обернулся и, взглянув на девушку, убедился, что она, как и показалось ему сразу, необыкновенно хороша собой. Он заметил высокий, чистый лоб, волосы, ровно разделенные пробором и заплетенные в косы, голубые глаза и румянец. Он успел даже полюбоваться красивым изгибом губ, почти детским овалом лица и стройной, изящной фигуркой, воплощением юности, здоровья, надежд — всего, что так высоко ценит человек уже немолодой. Затем он с достоинством пошел дальше, ни разу больше не взглянув в ее сторону, но унося с собой ее прелестный образ. Это был достопочтенный сенатор Джордж Сильвестр Брэндер.
— Какой он красивый, этот человек, который сейчас прошел наверх, правда? — немного погодя сказала Дженни.
— Да, — подтвердила мать.
— И трость у него с золотым набалдашником.
— Не надо глазеть на людей, — наставительно сказала мать. — Нехорошо.
— Я на него не глазела, — простодушно возразила Дженни. — Он сам мне поклонился.
— Незачем тебе смотреть на чужих, — сказала мать. — Может быть, им это не нравится.
Дженни снова молча принялась за работу, но блеск этого удивительного мира не мог не занимать ее. Помимо воли она прислушивалась к царившему вокруг оживлению, к разговорам и смеху, которые сливались в сплошной веселый гул. В одном конце первого этажа был ресторан; оттуда доносился звон посуды, и не трудно было угадать, что там накрывают на стол к ужину. В другом конце находилась гостиная, там кто-то заиграл на рояле. Во всем чувствовалась веселая непринужденность, обычная перед вечерней трапезой. И сердце бедной девушки забилось надеждой, ибо она была молода и нужда еще не успела придавить ее душу всей своей тяжестью. Она продолжала прилежно мыть и чистить и минутами забывала о своей усталой матери, работавшей рядом, о матери, чьи добрые глаза окружены были сетью морщин, а губы беззвучно повторяли нескончаемый перечень повседневных забот. Девушка могла думать только о том, как заманчиво все вокруг, и ей хотелось, чтобы и на ее долю выпало этого блеска и веселья.
В половине шестого старшая горничная, вспомнив о них, пришла их отпустить. С лестницей было покончено; со вздохом облегчения они оставили ее и, убрав на место ведра и тряпки, заторопились домой, причем мать была очень довольна, что наконец-то нашла работу.
Они шли мимо больших красивых зданий, и снова Дженни ощутила смутное волнение, которое пробудили в ней необычность и новизна всего виденного в отеле.
— Хорошо быть богатыми, правда? — сказала она.
— Да, — отозвалась мать, думая о больной Веронике.
— Ты видела, какая у них там огромная столовая?
— Да.
Теперь они шли мимо жилых, неказистых домов, под ногами безжизненно шуршали осенние листья.
— Вот бы мы были богатые… — почти про себя пробормотала Дженни.
— Не знаю, что и делать, — с тяжелым вздохом призналась мать. — Дома, наверное, совсем есть нечего.
— Давай зайдем еще раз к мистеру Баумену! — с живым сочувствием откликнулась Дженни, тронутая ноткой безнадежности, прозвучавшей в голосе матери.
— Ты думаешь, он еще поверит нам?
— Мы ему скажем, что нашли работу. Я сама скажу.
— Хорошо, — устало согласилась мать.
Не доходя двух кварталов до дому, они несмело вошли в маленькую, тускло освещенную бакалейную лавку. Миссис Герхардт хотела заговорить, но Дженни опередила ее.
— Вы не дадите нам сегодня в долг хлеба и немного сала? Мы получили работу в «Колумбус-Хаусе», в субботу мы непременно вам заплатим.
— Да, прибавила миссис Герхардт, — теперь у меня есть работа.
Они были постоянными покупательницами Баумена еще до того, как начались все несчастья и болезни, и он знал, что они говорят правду.
— А давно вы там работаете? — спросил он.
— Нынче первый день.
— Вы меня знаете, миссис Герхардт, — сказал он. — Мне не хотелось бы вам отказать. Мистер Герхардт человек надежный, но ведь я тоже не богат. Время сейчас тяжелое, — прибавил он, — а у меня семья.
— Да, я понимаю, — тихо сказала миссис Герхардт. Спрятав под старой шалью огрубевшие, красные от работы руки, она беспокойно сжимала их. Дженни стояла рядом в напряженном молчании.
— Ладно, — сказал наконец Баумен. — На этот раз, так и быть, еще дам в долг. В субботу заплатите сколько сможете.
Он завернул им хлеб и сало и, протягивая Дженни сверток, сказал с усмешкой:
— Когда у вас снова появятся деньги, вы, наверно, станете покупать где-нибудь в другом месте.
— Неправда, — возразила миссис Герхардт, — вы же знаете, что нет.
Но она была слишком измучена, чтобы вступать с ним в долгие объяснения. Они повернули за угол и пошли по мрачной улице, застроенной убогими домишками.
— Хотела бы я знать, достали ли дети угля? — устало сказала мать, когда они были в нескольких шагах от дома.
— Не волнуйся, — сказала Дженни. — Если не достали, я пойду и принесу.
— Какой-то дядька нас прогнал, — не успев даже поздороваться, выпалил Джордж, когда мать спросила про уголь. — Но я все-таки принес немножко, — добавил он. — С платформы сбросил.
Миссис Герхардт улыбнулась, а Дженни громко рассмеялась.
— А как Вероника? — спросила она.
— Спит как будто, — сказал отец. — Я ей в пять часов еще раз дал лекарство.
Мать приготовила скудный ужин и села у постели больной девочки, собираясь, как всегда, бодрствовать подле нее всю долгую ночь.
За ужином Себастьян внес деловое предложение, к которому все отнеслись с должным вниманием, так как он был человек практический, более других опытный во всех житейских делах. Себастьян работал всего лишь подручным в вагоностроительных мастерских и не получил никакого образования — его учили только догматам лютеранской веры, которые были ему очень и очень не по вкусу, — зато он был исполнен чисто американской энергии и задора. Рослый, атлетически сложенный и очень крепкий для своих лет, он был типичным городским парнем. У него уже выработалась своя жизненная философия: если хочешь добиться успеха — не зевай, а для этого надо сблизиться или по крайней мере делать вид, будто близок с теми, кто в этом мире, где внешнее и показное превыше всего, занимает первые места.
Вот почему Басс любил слоняться у «Колумбус-Хауса». Ему казалось, что этот отель — средоточие всех сильных мира сего. Когда ему удалось скопить денег на приличный костюм, он стал по вечерам ходить в центр города и часами простаивал с приятелями у входа в отель; он щелкал каблуками, дымил сигарами по пять центов пара и, рисуясь, с независимым видом поглядывал на девушек. Тут бывали и другие молодые люди — городские франты и бездельники, заходившие в отель побриться или выпить стаканчик виски. Басс восхищался ими и стремился им подражать. О человеке тут судили прежде всего по платью. Раз люди хорошо одеты, носят кольца и булавки в галстуках, — что бы они ни делали, все хорошо. Басс хотел походить на них, поступать как они, и его опыт по части пустого и бессмысленного препровождения времени быстро расширялся.
— Почему бы тебе не брать у постояльцев отеля белье в стирку? — сказал он Дженни, выслушав ее рассказ о событиях дня. — Это куда лучше, чем мыть лестницы.
— А как это сделать? — спросила она.
— Да просто обратись к портье.
Этот совет показался Дженни очень разумным.
— Только смотри не заговаривай со мной, если встретишь возле отеля, — предупредил он ее, когда они остались одни. — Не подавай виду, что знаешь меня.
— Почему? — простодушно спросила она.
— Ты прекрасно знаешь, почему, — ответил брат; он уже не раз говорил, что у них у всех слишком жалкий вид, из-за такой родни сраму не оберешься. — Если встретимся, проходи мимо, и все. Слышишь?
— Хорошо, — кротко ответила Дженни. Хотя брат был лишь годом старше, она всегда ему подчинялась.
На другой день по дороге в отель она заговорила с матерью о предложении брата.
— Басс говорит, что мы могли бы брать у постояльцев белье в стирку.
Миссис Герхардт, которая всю ночь мучительно раздумывала над тем, как бы заработать еще что-нибудь сверх трех долларов в неделю за уборку, одобрила идею Басса.
— Это верно, — сказала она. — Я спрошу в отеле.
Однако, когда они пришли в отель, удобный случай представился не сразу. Только под вечер судьба им улыбнулась: старшая горничная велела вымыть пол перед портье. Это важное должностное лицо явно к ним благоволило. Ему пришлась по душе добрая, озабоченная мать и хорошенькая дочка. И он благосклонно выслушал миссис Герхардт, когда она осмелилась задать ему вопрос, который весь день не выходил у нее из головы:
— Может, кто из ваших постояльцев согласится давать мне белье в стирку? Я была бы так благодарна…
Портье посмотрел на нее и снова прочел на этом невеселом лице безысходную нужду.
— Посмотрим, — ответил он и тотчас подумал о сенаторе Брэндере и генерале Гопкинсе. Оба они люди отзывчивые и охотно помогут бедной женщине. — Подымитесь наверх к сенатору Брэндеру. В двадцать второй номер. Вот, — портье записал номер на бумажке, — пойдите и скажите, что это я вас прислал.
Миссис Герхардт дрожащей рукой взяла бумажку. Ее глаза были полны благодарности, которую она не умела выразить словами.
— Ничего, ничего, — сказал портье, заметив ее волнение. — Пойдите сейчас же. Он как раз у себя.
Осторожно и почтительно постучала миссис Герхардт в дверь двадцать второго номера; Дженни молча стояла рядом.
Через минуту дверь открылась, и на пороге ярко освещенной комнаты появился сенатор. Он был в изящном смокинге и выглядел моложе, чем показалось им при первой встрече.
— Чем могу служить, сударыня? — спросил он миссис Герхардт, сразу узнав обеих.
Мать совсем смешалась и ответила не сразу.
— Мы хотели спросить… может, вам надо постирать белье?
— Постирать? — переспросил он удивительно звучным голосом. — Постирать белье? Ну, войдите. Сейчас посмотрим.
Он учтиво посторонился, пропуская их, и закрыл дверь.
— Сейчас посмотрим, — повторил он, выдвигая один за другим ящики солидного шифоньера орехового дерева.
Дженни с любопытством оглядывала комнату. Никогда еще она не видела такого множества безделушек и красивых вещиц, как здесь — на камине и на туалетном столике. Мягкое кресло и рядом лампа под зеленым абажуром, на полу толстый пушистый ковер, несколько маленьких ковриков, разбросанных там и сям, — во всем такое богатство, такая роскошь!
— Присядьте, вот стулья, — любезно сказал сенатор, уходя в соседнюю комнату.
Преисполненные пугливой почтительности, мать и дочь из вежливости остались стоять, но сенатор, покончив с поисками, повторил приглашение. Они смущенно и неловко сели.
— Это ваша дочь? — спросил он миссис Герхардт, улыбаясь Дженни.
— Да, сэр, — ответила мать. — Старшая.
— А муж у вас жив? — расспрашивал он далее. — Как ваша фамилия? Где вы живете?
Миссис Герхардт покорно отвечала на все вопросы.
— Сколько у вас детей? — продолжал он.
— Шестеро, — ответила миссис Герхардт.
— Семья не маленькая, что и говорить. Вы, без сомнения, выполнили свой долг перед страной.
— Да, сэр, — ответила миссис Герхардт, тронутая его вниманием.
— Так вы говорите, это ваша старшая дочь?
— Да, сэр.
— А чем занимается ваш муж?
— Он стеклодув. Но только он сейчас хворает.
Они беседовали, а Дженни слушала, и большие голубые глаза ее глядели удивленно и пытливо. Всякий раз, как сенатор смотрел на нее, он встречал такой простодушный, невинный взгляд, такую чудесную улыбку, что ему трудно было отвести глаза.
— Да, — сказал он сочувственно, — все это очень печально. У меня тут набралось немного белья, вы его выстирайте, пожалуйста. А на той неделе, вероятно, будет еще.
Он сложил белье в небольшой, красиво вышитый синий мешок.
— В какой день вам его принести? — спросила миссис Герхардт.
— Все равно, — рассеянно ответил сенатор. — В любой день на той неделе.
Она скромно поблагодарила его и собралась уходить.
— Вот что, — сказал он, пройдя вперед и открывая перед ними дверь. — Принесите в понедельник.
— Хорошо, сэр, — сказала миссис Герхардт. — Спасибо вам.
Они ушли, а сенатор вновь принялся за чтение, но почему-то им овладела странная рассеянность.
— Печально, — сказал он, закрывая книгу. — В этих людях есть что-то очень трогательное.
Образ Дженни, полной изумления и восторга, витал в комнате.
А миссис Герхардт с дочерью снова шли по мрачным и темным улицам. Неожиданная удача необычайно подбодрила их.
— Какая у него прекрасная комната, правда? — прошептала Дженни.
— Да, — ответила мать. — Он замечательный человек.
— Он сенатор, да? — продолжала дочь.
— Да.
— Наверное, приятно быть знаменитым, — тихо сказала девушка.
Глава II
Духовный облик Дженни — как его описать? Эта бедная девушка, которую нужда заставила помогать матери, стиравшей на сенатора, брать у него грязное белье и относить чистое, обладала чудесным мягким характером, всю прелесть которого не выразишь словами. Бывают такие редкие, особенные натуры, которые приходят в мир, не ведая зачем, и уходят из жизни, так ничего и не поняв. Жизнь всегда, до последней минуты, представляется им бесконечно прекрасной, настоящей страной чудес, и если бы они могли только в изумлении бродить по ней, она была бы для них не хуже рая. Открывая глаза, они видят вокруг совершенный мир, который им так по душе: деревья, цветы, море звуков и море красок. Это — их драгоценнейшее наследство, их лучшее богатство. И если бы никто не остановил их словами: «Это мое», — они, сияя счастьем, могли бы без конца странствовать, по земле с песнью, которую когда-нибудь услышит весь мир. Это песнь доброты.
Но, втиснутые в клетку реального мира, такие люди почти всегда ему чужды. Мир гордыни и алчности косо смотрит на идеалиста, мечтателя. Если мечтатель заглядится на пролетающие облака, его упрекнут в праздности. Если он вслушивается в песни ветра, они радуют его душу, а окружающие тем временем спешат завладеть его имуществом. Если весь так называемый неодушевленный мир захватит его, призывая столь нежными и чарующими голосами, что, кажется, они не могут не быть живыми и разумными, — мечтатель гибнет во власти стихии. Действительный мир всегда тянется к таким людям своими жадными лапами и завладевает ими. Именно таких жизнь превращает в покорных рабов.
Такой была и Дженни в этом прозаическом мире. С детства каждый ее шаг был подсказан добротой и нежностью. Когда Себастьян падал и ушибался, это она, преодолевая тревогу и страх за брата, помогала ему встать и приводила к матери. Когда Джордж жаловался, что он голоден, она отдавала ему свой кусок хлеба. Долгими часами она баюкала младших братьев и сестер, ласково напевая и в то же время грезя о чем-то. Едва научившись ходить, она стала верной помощницей матери. Она мыла, чистила, стряпала, бегала в лавку и нянчила малышей. Никто никогда не слыхал от нее ни слова жалобы, хотя она нередко задумывалась над своей горькой долей. Она знала, что многим девочкам живется гораздо привольнее и радостнее, но и не думала им завидовать; ей случалось в тайне грустить, и все же она пела свои песенки. В ясные дни, когда она смотрела из окна кухни на улицу, ее тянуло на простор, в зеленые луга. Красота природы, ее линии и краски, свет и тени волновали девочку, как прекрасная музыка. Бывало, она уводила Джорджа и других детей в заросли орешника, в уютный, тенистый уголок, где струился говорливый ручей, а вдали широко раскинулись поля. Она не умела, как делают поэты, выразить словами то, что чувствовала, но душа ее живо откликалась на всю эту красоту и радовалась каждому звуку, каждому дуновению.
Когда издалека доносилось негромкое, нежное воркованье лесных горлинок — этих духов лета, — она наклоняла голову и прислушивалась, и полные нежности звуки, словно серебряные капли, падали ей прямо в сердце.
Когда солнце пригревало жарче и сквозные тени и золотые узоры ложились на траву, Дженни не могла налюбоваться ими, ее тянуло туда, где лучи сверкали всего ярче, и, как завороженная, она уходила все дальше в мирную чащу леса.
Она чувствовала всю прелесть красок. Чудесное сияние, что разливается по небу в час заката, несказанно радовало и восхищало ее.
— Хорошо бы уплыть с этими облаками, — совсем по-детски сказала она однажды.
Она нашла качели, которые сама природа сплела из лозы дикого винограда, и теперь качалась на них с Мартой и Джорджем.
— Да, если бы была такая лодка, — сказал Джордж.
Запрокинув голову, Дженни смотрела на далекое облако — алый остров в море серебра.
— Вот бы людям жить на таком острове, — сказала она.
Мысленно она была уже там и легко пробегала по воздушным тропам.
— Смотри, пчела, — объявил Джордж, показывая на летящего мимо шмеля.
— Да, — мечтательно отозвалась Дженни, — она спешит к себе домой.
— А разве у всех есть дом? — спросила Марта.
— Почти у всех, — ответила Дженни.
— И у птиц? — спросил Джордж.
— Да, — сказала Дженни, всем существом чувствуя поэзию этой мысли, — и у птиц есть дом.
— И у пчел? — настаивала Марта.
— Да, и у пчел.
— И у собак? — спросил Джордж, увидев невдалеке на дороге одиноко бредущего пса.
— Ну, конечно, — сказала Дженни. — Разве ты не знаешь, что у собак есть дом?
— А у комаров? — приставал мальчик, заметив комариный хоровод, вьющийся в прозрачных сумерках.
— Да, — сказала она, сама наполовину веря этому. — Слушайте!
— Ого, — недоверчиво воскликнул Джордж. — Вот бы поглядеть, какие у них дома.
— Слушайте! — настойчиво повторила Дженни и подняла руку, призывая к молчанию.
Был тот тихий час, когда вечерний звон, как благословение, раздается над гаснущим днем. Смягченные расстоянием звуки тихо плыли в вечернем воздухе, и сама природа словно затихла, прислушиваясь вместе с Дженни. В нескольких шагах от нее прыгала по траве красногрудая малиновка, жужжала пчела, где-то позвякивал колокольчик, подозрительное потрескивание в ветвях выдавало крадущуюся за орехами белку. Забыв опустить руку, Дженни слушала, пока протяжный звон не замер в воздухе, и сердце ее переполнилось. Тогда она поднялась.
— О! — вырвалось у нее, и в порыве поэтического восторга она крепко стиснула руки. В глазах ее стояли слезы. Чудесное море волновавшего ее чувства захлестывало берега. Такова была душа Дженни.
Глава III
Сенатор Джордж Сильвестр Брэндер был человек необычного склада. Изворотливость политического дельца своеобразно сочеталась в нем с отзывчивостью народного представителя. Уроженец южного Огайо, он там же вырос и получил образование, если не считать двух лет, когда он изучал право в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Он знал гражданское и уголовное право, пожалуй, не хуже любого жителя своего штата, но никогда не занимался им с тем усердием, которое необходимо для выдающихся успехов на адвокатском поприще. Он неплохо зарабатывал, и ему не раз представлялась блестящая возможность заработать куда больше, если бы он пожелал пойти на сделку с совестью, но на это он не был способен. И, однако, при всей своей честности и неподкупности, он под час не мог устоять перед просьбой какого-нибудь приятеля. Лишь недавно, на последних президентских выборах, он поддержал кандидатуру человека, который — Брэндеру это было хорошо известно — отнюдь не обладал качествами, необходимыми для правителя.
Точно так же он был повинен в том, что несколько раз предоставлял государственные должности людям сомнительным, а в двух или трех случаях — явно непорядочным. Когда его начинали одолевать угрызения совести, он успокаивал себя любимым присловьем: «Мало ли что в жизни бывает». Иной раз он подолгу, одиноко просиживал в своем кресле, погруженный в невеселое раздумье, и потом, поднимаясь, с виноватой улыбкой повторял эти слова. Совесть его отнюдь не молчала, а его сердце во всяком случае чутко отзывалось на все.
Этот человек, трижды избиравшийся в законодательное собрание штата от округа, в состав которого входил Колумбус, и дважды в сенат Соединенных Штатов, никогда не был женат. В юности он серьезно влюбился, и не его вина, что это не кончилось браком. Дама его сердца не пожелала ждать его, а ему тогда предстояло еще долго добиваться положения, которое дало бы ему возможность содержать семью.
Высокий, статный, широкоплечий, он внушал уважение одним своим видом. Он пережил утраты, изведал удары судьбы, в нем было что-то, вызывающее симпатию в людях с живым воображением. Он слыл добрым и любезным, а его коллеги по сенату считали, что он звезд с неба не хватает, но очень милый человек.
Тогдашнее пребывание сенатора Брэндера в Колумбусе было вызвано необходимостью укрепить его пошатнувшийся политический престиж. На последних выборах в конгресс его партии не повезло. Сам он располагал достаточным количеством голосов и мог вновь быть избран, но для того, чтобы удержать их за собой, требовалось немало политической изворотливости. Ведь есть еще честолюбцы, кроме него. Найдется с полдюжины возможных кандидатов, и любой из них будет рад занять его место. Он отлично понимал, что сейчас от него требовалось. Противникам будет не так-то просто его одолеть, но если это и произойдет, думалось ему, президент, конечно, не откажется поручить ему какой-нибудь дипломатический пост за границей.
Да, сенатора Брэндера вполне можно было назвать человеком преуспевающим, но при всем том он чувствовал, что в его жизни чего-то не хватает. Он еще не сделал всего, что хотел. Вот ему пятьдесят два года, у него незапятнанная репутация почтенного, уважаемого и видного деятеля, но он одинок. Невольно он все снова и снова думал о том, что рядом нет никого, кому он был бы дорог. Собственная комната подчас казалась ему странно пустой, и он испытывал отвращение к самому себе.
«Пятьдесят лет! — часто думал он. — И один, один, как перст…»
В этот субботний вечер, когда он сидел у себя в комнате, к нему тихонько постучали. Он в это время размышлял о том, сколь проходящее все в мире — и жизнь, и слава, и сколь бесплодна с этой точки зрения его политическая деятельность.
«Сколько мы бьемся, чтобы завоевать какое-то положение, — думалось ему. — А пройдет несколько лет, и как мало все это будет значить для меня!»
Он поднялся, распахнул дверь и увидел Дженни. Она предложила матери отнести белье, не дожидаясь понедельника, чтобы удивить сенатора быстротой работы.
— Заходите, — сказал Брэндер и, как и в первый раз, любезно пропустил ее вперед.
Дженни вошла, ожидая похвалы за то, что они так быстро справились, но сенатор этого даже не заметил.
— Ну, милая барышня, — сказал он, — как вы поживаете?
— Очень хорошо, — ответила Дженни. — Мы с мамой решили не ждать понедельника, а принести вам белье сегодня.
— Ну, это совершенно все равно, — небрежно заметил Брэндер. — Положите вон там, на стуле.
Дженни, не подумав о том, что ей еще не заплатили, собралась уходить, но сенатор удержал ее.
— Как поживает ваша матушка? — приветливо спросил он.
— Хорошо, — просто ответила Дженни.
— А ваша сестренка? Ей лучше?
— Доктор говорит, что лучше, — ответила Дженни.
— Присядьте, — продолжал сенатор. — Я хочу с вами побеседовать.
Девушка опустилась на стоявший рядом стул. Слегка откашлявшись, сенатор продолжал:
— А чем больна ваша сестра?
— У нее корь, — объяснила Дженни. — Одно время мы даже думали, что она уже не поправится.
Слушая девушку, сенатор пристально всматривался в ее лицо, и оно казалось ему необыкновенно трогательным. Она так бедно одета и так восхищается его высоким положением. В нем шевельнулся стыд за богатство и роскошь, в которой он жил. Что и говорить, судьба высоко вознесла его!
— Я рад, что ей лучше, — мягко сказал он. — А сколько лет вашему отцу?
— Пятьдесят семь.
— Он поправляется?
— Да, сэр, он уже встает с постели, только еще не выходит из дому.
— Кажется, ваша матушка говорила, что по профессии он стеклодув?
— Да, сэр.
Брэндер хорошо знал, что местная стекольная промышленность переживает кризис. Это было одним из результатов последней политической кампании. Должно быть, положение Герхардтов действительно очень тяжелое.
— Ваши младшие братья и сестры все ходят в школу?
— Д-да, сэр, — с запинкой ответила Дженни. Ей стыдно было сознаться, что один из братьев бросил учение, потому что у него развалились башмаки. И ее мучило, что пришлось солгать.
Сенатор на минуту задумался; потом, сообразив, что у него нет больше предлога задерживать девушку, встал и подошел к ней. Вынув из кармана несколько кредиток, он протянул одну Дженни.
— Вот, возьмите, — сказал он. — Передайте вашей матушке, чтобы она распорядилась этим по своему усмотрению.
Дженни в замешательстве взяла деньги: ей не пришло в голову посмотреть, сколько ей дали. Она терялась в обществе столь замечательного человека, в его великолепном жилище и плохо понимала, что делает.
— Спасибо, — сказала она. — Вы назначите нам, в какой день приходить за бельем?
— Да, да, — ответил он. — Приходите по понедельникам. В понедельник вечером.
Она вышла, и он задумчиво притворил за нею дверь. Его интерес к этим людям был не совсем обычен. Несомненно, бедность и красота — сочетание, к которому трудно остаться равнодушным. Он уселся в кресло и предался приятным мыслям, на которые навело его посещение Дженни. Почему бы ему не помочь этой семье?
— Надо узнать, где они живут, — решил он наконец.
В последующие недели Дженни регулярно приходила за бельем. Сенатор Брэндер все больше интересовался ею и вскоре сумел победить робость и неловкость, овладевавшие ею в его присутствии. Помогло, в частности, то, что он стал называть ее просто по имени. Это началось с третьего посещения Дженни, и потом, почти бессознательно, он стал все чаще называть ее так.
Едва ли можно сказать, что это выходило у него по-отечески — такое отношение к кому-либо было очень мало ему свойственно. Но, разговаривая с этой девушкой, он чувствовал себя каким-то помолодевшим и нередко спрашивал себя, неужели она не заметит и не оценит, что в нем еще столько юношеского.
А Дженни совсем покорили блеск и пышность, окружавшие этого человека, и — хотя она этого и не сознавала — сам Брэндер. Таких обаятельных людей она еще никогда не встречала. Все, что принадлежало ему, было прекрасно, все, что он делал, — благородно, значительно, достойно уважения. Неведомо откуда, быть может, от каких-нибудь своих немецких предков, Дженни унаследовала способность понимать и ценить все это. Жить нужно именно так, как живет этот человек. Особенно нравилось Дженни его великодушие.
Восхищение сенатором отчасти передалось Дженни от матери, у которой голос чувства всегда звучал громче, чем голос рассудка. Когда Дженни принесла ей десять долларов, миссис Герхардт была вне себя от радости.
— Я только на улице увидела, что тут столько денег, — сказала Дженни. — Он велел отдать их тебе.
Миссис Герхардт взяла бумажку и, бережно держа ее в ладонях, ясно представила себе сенатора — его статную фигуру и любезное обхождение.
— Что за человек! — сказала она. — Какое у него доброе сердце!
В этот вечер и на другой день миссис Герхардт только и говорила, что об этом сказочном богаче, о том, какой он, без сомнения, добрый и великодушный. Когда дело дошло до стирки, она терла его белье чуть не до дыр, чувствуя, что, как бы она ни старалась, все будет мало. Сам Герхардт ни о чем не должен знать. Он человек таких строгих правил, что, как ни велика нужда, жене было бы нелегко убедить его взять лишние деньги, которые ими не заработаны. Поэтому она ничего не сказала, а просто стала покупать на эти деньги хлеб и мясо — совсем понемногу, чтобы неожиданное богатство так и осталось незамеченным.
Отношение матери к сенатору передалось и Дженни, и, бесконечно благодарная ему, она стала разговаривать с ним проще и принужденнее. У них установились настолько хорошие отношения, что, заметив, как понравилась Дженни маленькая кожаная рамка для фотографий, стоявшая на туалетном столе, Брэндер подарил ей эту вещицу. Всякий раз, как Дженни приходила к нему, он под каким-нибудь предлогом задерживал ее и скоро понял, что эту юную, кроткую девушку до глубины души оскорбляет нужда, в которой ей приходится жить, и что она стыдится своей бедности. Это искренне восхищало его, и он, глядя на ее жалкое платье и изношенные башмаки, спрашивал себя, как бы ей помочь, не обидев.
Нередко он подумывал о том, чтобы как-нибудь вечером пойти за нею и самому посмотреть, в каких условиях живет ее семья. Но ведь он как-никак член сената Соединенных Штатов, а эти люди, должно быть, ютятся где-нибудь на убогой окраине. И он отбросил эту мысль благоразумие на время взяло верх, и задуманный визит был отложен.
В начале декабря сенатор Брэндер на три недели вернулся в Вашингтон, и в один прекрасный день миссис Герхардт и Дженни с удивлением узнали, что он уехал. Он платил им за стирку не меньше двух долларов в неделю, а иногда и пять. Быть может, он не представлял себе, какую брешь в их бюджете пробьет его отъезд. Но делать было нечего, и им пришлось кое-как сводить концы с концами. Сам Герхардт теперь чувствовал себя лучше; обойдя немало фабрик в тщетных поисках работы, он обзавелся козлами и пилой и ходил из дома в дом, предлагая напилить дров. Работы было немного, но, не щадя сил, он все же ухитрялся заработать два, а иногда и три доллара в неделю. Этих денег вместе с заработком жены и тем, что давал Себастьян, хватало на хлеб — но и только.
Наступала веселая пора рождества, и нужда казалась Герхардтам особенно горькой. Немцы любят справлять рождество с большой торжественностью. В эти дни всего нагляднее проявляется сила их родительских чувств. Они высоко ценят радости детства и стараются, чтобы малыши всласть натешились забавами и игрушками. Перед рождеством, работая пилой, Герхардт-отец немало думал обо всем этом. Как бы ему хотелось порадовать и побаловать подарками маленькую Веронику — ведь она так долго была больна! Как бы он хотел подарить всем детям по паре крепких башмаков и сыновьям теплые шапки, а дочкам нарядные капоры. В прошлые годы они всегда получали на рождество игрушки и сласти. Ему горько было думать, что настанет снежное утро праздника, а стол не будет щедро заставлен всем, чего так хочется детям.
Что до миссис Герхардт, ее чувства легче вообразить, чем описать. Она так болезненно переживала все это, что просто не в силах была заговорить с мужем о близящемся роковом дне. В надежде сэкономить деньги на покупку тонны угля и избавить злополучного Джорджа от ежедневного паломничества на угольный склад, она ухитрилась отложить три доллара — и вот теперь решила потратить эти деньги на рождественские подарки. Герхардт-отец тоже потихоньку сберег два доллара, рассчитывая в сочельник, в критическую минуту, их выложить и хоть немного успокоить и порадовать жену.
Но когда наступил сочельник, эти жалкие пять долларов оказались очень слабым утешением. В городе царила праздничная суета. Бакалейные магазины были разукрашены остролистом. Магазины игрушек и кондитерские ослепляли своим великолепием: тут было все, что только может понадобиться уважающему себя Санта-Клаусу. И родители и дети смотрели на витрины — одни с тоскливым сознанием своей горькой нужды, другие — с неистовым восторгом и едва сдерживаемой жаждой обладать этими сокровищами.
Герхардт не раз говорил при детях:
— Санта-Клаус в этом году очень беден. Он не может принести много подарков.
Но, ребенка, даже самого бедного, не заставишь в это поверить. Всякий раз отец видел, что, несмотря на его предупреждения, глаза детей горят все тем же радостным ожиданием.
Рождество приходилось на вторник, и накануне, в понедельник, в школе не было занятий. Уходя в отель, миссис Герхардт посоветовала Джорджу набрать побольше угля, чтобы хватило на завтрашний день. Джордж сейчас же отправился в депо, взяв с собою двух младших сестер, но угля было мало, им не скоро удалось наполнить свои корзинки, и к вечеру у них оказался лишь очень скудный запас.
— Ты ходил за углем? — первым делом спросила миссис Герхардт, когда она в тот вечер вернулась из отеля.
— Ходил, — ответил Джордж.
— На завтра хватит?
— По-моему, хватит.
— Пойдем-ка, я посмотрю.
И, взяв лампу, они вышли в сарай, где был сложен уголь.
— О господи! — воскликнула миссис Герхардт. — Да тут совсем мало! Пойди сейчас же и принеси еще.
— Ну вот, — протянул Джордж, надув губы. — Я уже ходил, пускай теперь Басс идет.
Басс пришел с работы ровно в четверть седьмого и сейчас мылся и одевался, собираясь в город.
— Нет, — сказала миссис Герхардт. — Басс работал целый день. Ты должен пойти сам.
— Мне неохота, — проворчал Джордж.
— Очень хорошо, — сказала миссис Герхардт. — А если завтра нечем будет топить, тогда что?
Они вернулись в дом, но самолюбие Джорджа было слишком сильно задето, чтобы он мог считать вопрос решенным.
— Басс, ты тоже иди, — еще с порога крикнул он старшему брату.
— Куда это?
— За углем.
— Вот еще, — ответил Басс. — За кого ты меня принимаешь?
— Ну, тогда и я не пойду, — упрямо тряхнув головой, сказал Джордж.
— А почему ты сегодня не набрал угля? — резко спросил брат. — У тебя был на это целый день.
— Да-а, я собирал, — сказал Джордж. — Только угля было очень мало. Где же я его возьму, раз его нет?
— Наверное, плохо собирал, надо было постараться получше.
— В чем дело? — спросила Дженни; она вернулась позже матери, так как по дороге заходила в лавку, и теперь, едва переступив порог, сразу заметила надутое лицо Джорджа.
— Басс не хочет идти со мной за углем.
— А разве ты днем ничего не набрал?
— Набрал, да мама говорит — мало.
— Я пойду с тобой, — сказала сестра. — Пойдешь с нами, Басс?
— Нет, — холодно ответил молодой франт; он завязывал галстук и злился, что ему мешают.
— Да там и нет угля, — сказал Джордж. — Разве что с платформы скинем. А когда я ходил, так и платформ с углем не было.
— Уж наверно были! — воскликнул Басс.
— Не было, — повторил Джордж.
— Пожалуйста, не спорь, — сказала Дженни. — Бери корзинки и пойдем, а то будет поздно.
Другие дети, очень любившие старшую сестру, тоже собрались идти с нею: Вероника взяла корзиночку, Марта и Уильям — ведра, Джордж — большую корзину для белья, которую им с Дженни предстояло наполнить и тащить вдвоем. И тут Басс, тронутый готовностью сестры поправить дело и все еще сохранявший к ней какие-то братские чувства, предложил:
— Вот что, Джен. Ты иди с малышами к Восьмой улице и обожди у платформы. Я тоже там буду. Только, когда я подойду, чтоб никто из вас и виду не подал, что вы меня знаете. Просто скажите: «Мистер, сбросьте нам, пожалуйста, немножко угля!» Я залезу на платформу и сброшу сколько надо. Поняли?
— Хорошо, — сказала Дженни, очень довольная.
Они вышли из дому в снежную вечернюю мглу и направились к железной дороге. Там, где улицу пересекали широкие подъездные пути товарной станции, стоял недавно прибывший состав, груженный углем. Дети укрылись в тени одного из вагонов. Пока они стояли, дожидаясь старшего брата, пришел вашингтонский скорый — великолепный длинный экспресс с несколькими спальными вагонами новейшего образца; сверкали большие зеркальные окна, за ними виднелись пассажиры, утонувшие в мягких, удобных креслах. Дети невольно отпрянули, когда поезд с громом проносился мимо.
— Какой длинный! — сказал Джордж.
— Вот бы мне быть кондуктором в таком поезде! — вздохнул Уильям.
Одна Дженни промолчала, но мысль о дальних путешествиях, о роскоши взволновала ее больше всех. Как прекрасна, должно быть, жизнь богатых людей!
Вдалеке показался Себастьян; у него была энергичная, мужественная походка, и все в нем выдавало человека, который знает себе цену. Он был необычайно упрям и решителен, и если бы дети не исполнили в точности его наставления, он прошел бы мимо, даже не подумав им помочь.
Однако Марта отнеслась к делу с должной серьезностью и пропищала, как было велено: «Мистер, сбросьте нам, пожалуйста, немножко угля!»
Себастьян резко остановился, посмотрел на них, как на чужих, и со словами; «Что ж, можно!» — взобрался на платформу и с удивительным проворством сбросил столько угля, что с избытком хватило на все корзины. Потом, словно не желая задерживаться в столь недостойном обществе, он поспешно перешел через рельсы и скрылся из виду.
На обратном пути они встретили еще одного джентльмена, на сей раз настоящего, в цилиндре и великолепном плаще; Дженни его тотчас узнала. Это был не кто иной, как сенатор Брэндер, только что вернувшийся из Вашингтона и не ожидавший от праздника ничего хорошего. Он приехал тем самым экспрессом, который привлек внимание детей, и, желая немного пройтись, налегке, с небольшим саквояжем в руках, направлялся в отель. И вдруг ему показалось, что он увидел Дженни.
— Это вы, Дженни? — окликнул он ее, замедляя шаг, чтобы вглядеться.
Дженни, узнавшая его еще раньше, вскрикнула; «Ой, это мистер Брэндер!» — и, отпустив ручку корзины, велела младшим скорее нести уголь домой, а сама побежала в противоположную сторону.
Сенатор Брэндер пошел за нею и несколько раз звал; «Дженни! Дженни!» — но напрасно. Потеряв надежду догнать девушку и вдруг поняв, что заставило ее убежать, он решил не смущать ее, повернулся и пошел за детьми. И снова, как всегда при встречах с этой девушкой, он ощутил всю пропасть между своим и ее положением. Вот он — сенатор, а эти дети подбирают на рельсах уголь. Какие радости принесет им завтрашний праздник? Полный сочувствия, он с наилучшими намерениями шел за ними и вскоре увидел, как они вошли в калитку и скрылись в убогом домишке. Сенатор пересек улицу и стал в негустой тени осыпанных снегом деревьев. Из окна, выходившего во двор, падал желтый свет. Все вокруг было покрыто снегом. Из сарая доносились голоса детей, и раз Брэндеру показалось, что он разглядел миссис Герхардт. Немного погодя какая-то тень проскользнула в калитку. Он узнал ее. Сердце его забилось, и, сдерживая волнение, он прикусил губу. Потом круто повернулся и зашагал прочь.
Крупнейшим бакалейным торговцем в городе был некто Мэннинг, стойкий приверженец Брэндера, очень гордившийся своим знакомством с сенатором. К нему-то и явился в этот вечер сенатор Брэндер и застал его за конторкой, поглощенного делами.
— Мэннинг, — сказал он, — не можете ли вы сегодня же выполнить одно мое поручение?
— Ну, конечно, сенатор, конечно! — сказал бакалейщик. — Когда вы вернулись? Очень рад вас видеть. Я к вашим услугам.
— Подберите все, что нужно для праздника семье в восемь человек — отец, мать и шестеро детей: елку, угощения, игрушки… словом вы понимаете.
— Конечно, конечно, сенатор.
— С расходами не считайтесь. Пошлите всего вдоволь. Я дам вам адрес. — И он вынул записную книжку.
— С удовольствием все сделаю сенатор, — продолжал Мэннинг. — С величайшим удовольствием. Вы всегда были великодушны.
— Хорошо, хорошо, Мэннинг, — сказал сенатор и нахмурился, чтобы сохранить свое достоинство государственного мужа. — Отправьте все немедленно, а счет пришлите мне.
— С величайшим удовольствием, — только и мог сказать обрадованный торговец.
Сенатор вышел на улицу, но, вспомнив о стариках Герхардтах, зашел еще в магазин обуви и готового платья и, сообразив, что понятия не имеет, каких размеров нужны вещи, заказал кое-что с правом обменять покупки. Покончив с этим, он вернулся к себе.
«Подбирают уголь… — снова думал он. — До чего же я был невнимателен. Впредь не следует забывать о них».
Глава IV
Желание убежать, которое охватило Дженни при виде сенатора, объяснялось тем, что она считала свое положение унизительным. Ведь сенатор о ней хорошего мнения, какой стыд, что он застиг ее за столь низменным занятием! Она наивно воображала, что его интерес к ней вызван чем угодно, только не ею самой.
Когда она вернулась домой, дети уже рассказали матери о ее бегстве.
— Что это с тобой случилось? — спросил Джордж, когда она вошла в комнату.
— Да ничего, — ответила она, но тут же объяснила матери: — Мистер Брэндер проходил мимо и увидел нас.
— Вот как? — негромко воскликнула миссис Герхардт. — Стало быть, он вернулся. Но почему же ты убежала, глупенькая?
— Просто мне не хотелось, чтобы он меня видел.
— Ну, может, он тебя и не узнал, — сказала мать не без сочувствия.
— Да нет, узнал, — прошептала Дженни. — Он меня раза три окликнул.
Миссис Герхардт покачала головой.
— Что случилось? — спросил Герхардт, услышав разговор и выходя из соседней комнаты.
— Ничего, — ответила жена, которой вовсе не хотелось объяснять, какую большую роль сенатор стал играть в их жизни. — Какой-то человек напугал их, когда они несли уголь.
Позже в тот же вечер прибыли рождественские подарки и повергли все семейство в необычайное волнение. Герхардт и его жена не могли поверить своим глазам, когда фургон бакалейщика остановился у их дверей и рассыльный, здоровый малый, стал перетаскивать в дом пакеты. После безуспешных попыток убедить рассыльного, что он ошибся, Герхардты с вполне понятной радостью стали рассматривать всю эту благодать.
— Да вы не беспокойтесь, — уверенно сказал рассыльный. — Уж я знаю, что делаю. Ваша фамилия Герхардт, верно? Ну вот, это вам и есть.
Миссис Герхардт не могла усидеть на месте и, взволнованно потирая руки, повторяла:
— Ну, разве не чудесно!
Сам Герхардт расчувствовался при мысли о щедрости неведомого благодетеля и склонен был приписать случившееся доброте крупного местного фабриканта, у которого он когда-то служил и который неплохо к нему относился. Миссис Герхардт подозревала истинный источник неожиданной радости и была тронута до слез, но промолчала. Дженни же сразу догадалась, чьих это рук дело.
На второй день рождества Брэндер встретился в отеле с миссис Герхардт — Дженни осталась дома присматривать за хозяйством.
— Как поживаете, миссис Герхардт? — приветливо воскликнул он, протягивая руку. — Как встретили праздник?
Бедная миссис Герхардт робко пожала его руку; глаза ее мгновенно наполнились слезами.
— Ну-ну, — сказал он, похлопывая ее по плечу. — Не надо плакать. И не забудьте взять у меня белье в стирку.
— Не забуду, сэр! — ответила она и хотела еще что-то сказать, но он уже отошел.
Теперь Герхардт постоянно слышал об удивительном сенаторе из отеля, о том какой он любезный и как много платит за стирку. Простодушный труженик легко поверил, что мистер Брэндер — добрейший и благороднейший человек.
Дженни и сама думала так же и все больше восхищалась сенатором.
Она становилась так женственна, так хороша собой, что никто не мог равнодушно пройти мимо. Она была высокая, великолепно сложена. В длинном платье, в наряде светской женщины она была бы прекрасной парой для такого представительного мужчины, как сенатор. У нее были удивительно ясные, живые глаза, чудесный цвет лица, ровные, белые зубы. И при том она была умна, чутка и очень наблюдательна. Ей недоставало только воспитания и уверенности, которой никогда не бывает у человека, сознающего свое зависимое, подчиненное положение. Необходимость заниматься стиркой, разносить белье и принимать всякую малость как благодеяние связывала ее.
Теперь она дважды в неделю приходила в отель; сенатор Брэндер держался с нею приветливо и непринужденно, и она отвечала ему тем же. Он часто делал небольшие подарки ей, ее сестрам и братьям и всегда говорил с нею так просто и искренне, что под конец ощущение разделяющей их пропасти исчезло, и она стала видеть в нем не столько важного сенатора, сколько великодушного друга. Однажды он спросил, не хочет ли она учиться, думая при этом, что образование сделало бы ее еще привлекательней. Наконец как-то вечером он подозвал ее:
— Идите-ка сюда поближе, Дженни.
Она подошла, и он вдруг взял ее за руку.
— Ну-ка, Дженни, — сказал он, весело и пытливо глядя ей в лицо, — скажите, что вы обо мне думаете?
— Не знаю, — ответила она, застенчиво отводя глаза. — А почему вы спрашиваете?
— Нет, знаете, — возразил он. — Есть же у вас какое-то мнение обо мне. Вот и скажите, какое?
— Никакого нет, — простодушно ответила она.
— Нет, есть, — повторил он; ее явная уклончивость забавляла его и вызывала любопытство. — Должны же вы что-нибудь обо мне думать. Что же?
— Вы спрашиваете, нравитесь ли вы мне, да? — бесхитростно спросила Дженни, глядя сверху на львиную гриву черных с проседью волос, благодаря которой красивое лицо сенатора казалось почти величественным.
— Да, — ответил он, немного разочарованный.
Ей не хватало умения кокетничать.
— Ну, конечно, вы мне нравитесь, — с милой улыбкой сказала она.
— И вы никогда больше ничего не думали обо мне?
— Я думаю, что вы очень добрый, — ответила Дженни, робея еще больше; она только теперь заметила, что он все еще держит ее руку.
— И это все? — спросил он.
— Разве этого мало? — сказала она, и ресницы ее дрогнули.
Сенатор смотрел на девушку, и ее ответный взгляд — веселый, дружески-прямой — глубоко волновал его. Он молча изучал ее лицо, а она отвернулась и поежилась, чувствуя, хотя едва ли понимая все значение этого испытывающего взгляда.
— Ну, а я думаю, — сказал он наконец, — что вы замечательная девушка. А вам не кажется, что я очень милый человек?
— Кажется, — без запинки ответила Дженни.
Сенатор откинулся в кресле и рассмеялся — так забавно это у него получилось. Она с любопытством посмотрела на него и улыбнулась.
— Чему вы смеетесь? — спросила она.
— Вашему ответу. Хотя мне не следовало бы смеяться. Вы меня ни капельки не цените. Наверно, я вам совсем не нравлюсь.
— Нет, нравитесь, — серьезно ответила она. — Вы такой хороший.
По ее глазам было ясно, что она говорит от души.
— Так, — сказал он, мягко притянул девушку к себе и поцеловал в щеку.
Дженни ахнула и выпрямилась, изумленная и испуганная.
Это было нечто новое в их отношениях. Расстояние между Дженни и государственным деятелем мгновенно исчезло. Она увидела в нем то, чего прежде не замечала. Он сразу показался ей моложе. Он относится к ней как к женщине, он в нее влюблен. Она не знала, что делать, как себя держать.
— Я испугал вас? — сказал он.
Она посмотрела на этого человека, которого привыкла глубоко уважать, и с улыбкой ответила только:
— Да, испугали.
— Это потому, что вы мне очень нравитесь.
Подумав минуту, Дженни сказала:
— Мне надо идти.
— Ну вот, — жалобно сказал Брэндер, — неужели вы из-за этого убегаете?
— Нет, — ответила она, почему-то чувствуя себя неблагодарной, — но мне пора. Дома будут беспокоиться.
— А вы не сердитесь на меня?
— Нет, — сказала она чуть кокетливо, чего прежде никогда не бывало.
Она почувствовала свою власть над ним, и это было так ново, так удивительно, что оба они почему-то смутились.
— Как бы то ни было, вы теперь моя, — сказал сенатор, вставая. — Отныне я буду заботиться о вас.
Дженни приятно было это слышать. «Ему впору творить чудеса, — подумала она, — он настоящий волшебник». Она оглянулась, и при мысли, что перед нею открывается такая новая, удивительная жизнь, у нее закружилась голова от радости. Не то, чтобы она вполне поняла, что он хотел сказать. Наверно, он будет добр и великодушен, будет дарить ей прекрасные вещи. Понятно, она была счастлива. Она взяла сверток с бельем, за которым пришла, не замечая и не чувствуя несообразности своего положения, а для Брэндера это было горьким упреком.
«Она не должна разносить белье», — подумал он. Нежность и сочувствие поднялись в нем горячей волной. Он взял ее лицо в ладони, на этот раз как добрый покровитель.
— Ничего, девочка, — сказал он. — Вам не придется вечно этим заниматься. Я что-нибудь придумаю.
С того дня их отношения стали еще более простыми и дружескими. Когда Дженни пришла в следующий раз, сенатор, не задумываясь, предложил ей сесть на ручку его кресла и стал подробно расспрашивать о том, как живут ее родные, чего хочет и о чем мечтает она сама. Он заметил, что на некоторые его вопросы она отвечает уклончиво, особенно о работе отца. Ей стыдно было признаться, что отец ходит по дворам и пилит дрова. Опасаясь, что тут скрывается нечто более серьезное, Брэндер решил в ближайшие дни пойти и узнать, в чем дело.
Так он и поступил в первое же свободное утро. Это было за три дня до того, как в конгрессе началась ожесточенная борьба, закончившаяся его поражением. В оставшиеся дни все равно уже ничего нельзя было предпринять. Итак, Брэндер взял трость и зашагал к дому Герхардтов; через полчаса он уже решительно стучал в их дверь.
Ему открыла миссис Герхардт.
— Здравствуйте! — весело сказал он и, заметив ее смущение, добавил: — Можно войти?
При виде необыкновенного гостя добрая женщина совсем потерялась; она потихоньку вытерла руки старым заплатанным фартуком и наконец ответила:
— Да, да, пожалуйста, войдите.
Забыв закрыть дверь, миссис Герхардт торопливо провела сенатора в комнату и, придвинув стул, пригласила его сесть.
Брэндер пожалел, что так смутил ее.
— Не беспокойтесь, миссис Герхардт, — сказал он. — Я просто проходил мимо и решил заглянуть к вам. Как здоровье вашего мужа?
— Спасибо, он здоров, — ответила она. — Ушел на работу.
— Значит, он нашел место?
— Да, сэр, — ответила миссис Герхардт; она, как и Дженни, не решалась сказать, что это за работа.
— И дети, надеюсь, все здоровы и ходят в школу?
— Да, — ответила миссис Герхардт.
Она сняла фартук и смущенно теребила его.
— Это хорошо. А где Дженни?
Дженни как раз гладила белье; заслышав голос гостя, она бросила утюг и доску и убежала в спальню, где теперь поспешно приводила себя в порядок, боясь, что мать не догадается сказать, будто ее нет дома, и не даст ей возможности скрыться.
— Она дома, — сказала миссис Герхардт. — Сейчас я ее позову.
— Зачем же ты ему сказала, что я тут? — тихо упрекнула Дженни.
— А что же мне было делать?
Они не решались выйти к сенатору, а он тем временем осматривал комнату. «Грустно, что столь достойные люди живут в такой нужде, — думал он, — хотелось бы как-то им помочь».
— Доброе утро, — сказал он, когда Дженни наконец нерешительно вошла в комнату. — Как поживаете?
Дженни подошла к нему и, краснея, протянула руку. Его приход так взволновал ее, что она не могла вымолвить ни слова.
— Решил зайти и посмотреть, как вы живете, — сказал сенатор. — Дом неплохой. Сколько же у вас комнат?
— Пять, — ответила Дженни. — Вы извините, у нас беспорядок. Мы сегодня с утра гладили, поэтому тут все вверх дном.
— Понимаю, — мягко сказал Брэндер. — Неужели вы думаете, что я этого не пойму, Дженни? Не надо меня стесняться.
Он говорил так же спокойно и дружески, как всегда, когда она бывала у него, и это помогло Дженни прийти в себя.
— Пусть вас не смущает, если я еще как-нибудь загляну к вам. Я буду навещать. Мне хотелось бы повидать вашего отца.
— Вот как, — сказала Дженни. — А его нету дома.
Но пока они разговаривали, Герхардт со своей пилой и козлами как раз появился у калитки. Брэндер увидел его и тотчас узнал по некоторому сходству с дочерью.
— А вот и ваш отец, если не ошибаюсь, — сказал он.
— Неужто? — отозвалась Дженни, выглядывая в окно.
Герхардт, поглощенный своими мыслями, прошел мимо окна, не подымая глаз. Он поставил козлы у стены, повесил пилу на гвоздь и вошел в дом.
— Мать! — позвал он по-немецки, потом, не видя жены, подошел к двери и заглянул в столовую.
Брэндер встал и протянул ему руку. Сутулый, жилистый немец подошел и пожал ее, вопросительно глядя на незнакомца.
— Это мой отец, мистер Брэндер, — сказала Дженни; чувство приязни к сенатору помогло ей победить застенчивость. — Папа, это мистер Брэндер, тот самый, что живет в отеле.
— Какая, простите, фамилия? — переспросил Герхардт, поворачиваясь от одного к другому.
— Брэндер, — сказал сенатор.
— А, да! — Герхардт говорил с заметным немецким акцентом. — После болезни я неважно слышу. Жена про вас поминала.
— Я решил зайти познакомиться с вами, — сказал сенатор. — У вас, я вижу, большая семья.
— Да, — сказал отец семейства; он вспомнил, что на нем потрепанный рабочий костюм, и ему хотелось поскорее уйти. — Шестеро ребят, и все еще не пристроенные. Вот она — старшая дочка.
В комнату вошла жена, и Герхардт поспешил воспользоваться случаем:
— Уж вы извините, я пойду. Сломал пилу, пришлось бросить работу.
— Сделайте одолжение, — любезно сказал Брэндер, сразу поняв, о чем всегда умалчивала Дженни. Он, пожалуй, предпочел бы, чтобы у нее хватило мужества ничего не скрывать.
— Так вот, миссис Герхардт, — сказал он, когда та села, напряженно выпрямившись на стуле. — Я хотел бы, чтобы вы впредь не считали меня чужим человеком. И хотел бы, чтобы вы подробно рассказали мне о своих делах. Дженни не всегда со мной откровенна.
Дженни молча улыбалась. Миссис Герхардт беспокойно сжимала руки.
— Хорошо, — робко, с благодарностью ответила она.
Они поговорили еще немного, и сенатор поднялся.
— Передайте вашему мужу, — сказал он, — пусть зайдет в понедельник ко мне в отель. Я постараюсь ему помочь.
— Спасибо вам, — смущенно промолвила миссис Герхардт.
— А сейчас мне пора, — прибавил Брэндер. — Так не забудьте сказать мужу, чтобы он пришел.
— Ну конечно, он придет!
Брэндер надел перчатку на левую руку и протянул правую Дженни.
— Вот лучшее ваше сокровище, миссис Герхардт, — сказал он. — И я намерен отнять его у вас.
— Ну уж, не знаю, как я без нее обойдусь, — ответила мать.
— Итак, всего хорошего, — сказал сенатор, пожимая руку миссис Герхардт и направляясь к двери.
Он кивнул на прощание и вышел, а с полдюжины соседей, видевших, как он входил в дом, провожали его из-за стен и занавесок любопытными взглядами.
«Кто бы это мог быть?» — вот вопрос, который занимал всех.
— Посмотри, что он мне дал, — сказала дочери простодушная мать, как только за гостем закрылась дверь.
Это была бумажка в десять долларов. Прощаясь, Брэндер незаметно вложил ее в руку миссис Герхардт.
Глава V
Обстоятельства сложились так, что Дженни чувствовала себя многим обязанной сенатору и, вполне естественно, высоко ценила все, что он делал для нее и ее семьи. Сенатор дал ее отцу письмо к местному фабриканту, и тот принял Герхардта на службу. Это было, разумеется, не бог весть что — просто место ночного сторожа, но все же Герхардт снова работал, и его благодарность не знала границ. Какой добрый человек этот сенатор, какой отзывчивый — таких больше нет на свете!
Не была забыта и миссис Герхардт. Однажды Брэндер послал ей платье, в другой раз — шаль. Все эти благодеяния делались отчасти из желания помочь, отчасти — для собственного удовольствия, но миссис Герхардт восторженно приписывала их одной лишь доброте сенатора.
А Дженни… Брэндер всеми способами старался завоевать ее доверие, и наконец ее отношение к нему стало настолько сложным, что в нем очень и очень непросто было бы разобраться. А эта юная, неопытная девушка была слишком наивна и беспечна, что бы хоть на миг задуматься о том, что могут сказать люди. С того памятного и счастливого дня, когда Брэндер сумел победить ее врожденную робость и с такой нежностью поцеловал ее в щеку, для них настала новая пора. Дженни почувствовала в нем друга — и чем проще и непринужденнее он становился, с удовольствием освобождаясь от привычной сдержанности, тем лучше она его понимала. Они от души смеялись, болтали, и он искренне наслаждался этим возвращением в светлый мир молодости и счастья.
Все же временами его беспокоила мысль, от которой он не мог отделаться; он поступает не так, как следует. Не сегодня-завтра люди заметят, что в отношениях с этой дочерью прачки он переходит границы благопристойности. От внимания старшей горничной, вероятно, не укрылось, что Дженни, приходя за бельем или принося его, почти всегда задерживается у него в номере на пятнадцать–двадцать минут, а то и на час. Брэндер понимал, что это может дойти до ушей других служащих отеля, слухи распространятся по городу, и из этого не выйдет ничего хорошего, но такие соображения не заставили его вести себя по-другому. Он то успокаивал себя мыслью, что не делает ничего плохого для Дженни, то говорил себе, что не может лишиться единственной своей нежной привязанности. По совести говоря, разве он не желает Дженни добра?
Задумываясь над этим, Брэндер всякий раз решал, что не может отказаться от Дженни. Нравственное удовлетворение, которое он испытал бы, едва ли стоит боли, которую неминуемо принесет ему такая самоотверженность. Ему осталось не так уж долго жить. Обидно было бы умереть, не получив того, чего так хочешь.
Как-то вечером он крепко обнял Дженни. В другой раз усадил ее к себе на колени и стал рассказывать о своей жизни в Вашингтоне. Теперь он никогда не отпускал ее без ласки или поцелуя, но все это были лишь слабые, неопределенные попытки. Он не хотел слишком сильно ее тревожить.
А Дженни в простоте душевной наслаждалась всем этим. В ее жизни появилось столько нового, необычайного. Наивная, неискушенная, она была способна глубоко чувствовать; она еще ничего не знала о любви, но была уже достаточно взрослой, чтобы радоваться вниманию выдающегося человека, который удостоил ее своей дружбой.
Как-то вечером, стоя рядом с его креслом, она провела рукой по его волосам, откинула их со лба, потом, от нечего делать, вынула у него из кармана часы. Ее милое простодушие привело сенатора в восторг.
— А вам хотелось бы иметь часы? — спросил он.
— Еще бы, — со вздохом сказала Дженни.
На другой день он зашел в ювелирный магазин и купил золотые часики с изящными фигурными стрелками.
— Дженни, — сказал он, когда она пришла в следующий раз, — я хочу вам кое-что показать. Посмотрите-ка, сколько времени на моих часах.
Дженни достала часы из его жилетного кармана и широко раскрыла глаза.
— Это не ваши часы! — удивленно воскликнула она.
— Конечно, — ответил он, наслаждаясь ее недоумением, — они ваши.
— Мои! — воскликнула Дженни. — Мои! Какая прелесть!
— Они вам нравятся? — спросил Брэндер.
Он был очень польщен и тронут ее восторгом. Лицо ее так и сияло, глаза блестели.
— Это ваши часы, — сказал он. — Носите, да смотрите не потеряйте.
— Какой вы добрый! — сказала Дженни.
— Нет, — возразил Брэндер и, обняв ее за талию, задумался над тем, какую же он может получить награду. Потом он медленно притянул Дженни к себе, и тут она обвила руками его шею и благодарно прижалась щекою к его щеке. Ничто не могло бы доставить ему большей радости. Многие годы мечтал он о том, чтобы испытать нечто подобное.
Дальнейшее развитие этой идиллии на некоторое время прервали жаркие бои за место в конгрессе. Под натиском противников сенатору Брэндеру пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. С величайшим изумлением он узнал, что могущественная железнодорожная компания, всегда относившаяся к нему благожелательно, втайне энергично поддерживает и без того опасного для него соперника. Брэндер был потрясен этой изменой, им овладевало то мрачное отчаяние, то приступы ярости. Хоть он и притворялся, что с легкостью принимает удары судьбы, они больно его ранили. Он так давно уже не испытывал поражения… слишком давно.
В эти дни Дженни впервые узнала, что такое непостоянство мужского характера. Две недели она совсем не видела Брэндера, а потом, как-то вечером, после весьма неутешительного разговора с местным лидером своей партии, он ее встретил более чем холодно. Когда она постучала, он приоткрыл дверь и сказал почти грубо:
— Я не могу сегодня заниматься бельем. Приходите завтра.
Дженни ушла, удивленная и огорченная таким приемом. Она не знала, что и думать. В одно мгновение он вновь оказался на недосягаемой высоте, чуждый и далекий, и его уже нельзя было потревожить. Конечно, он может лишить ее своего дружеского внимания, раз ему так вздумалось. Но почему…
Через день или два он начал раскаиваться, но не успел исправить дело. Белье взяли и возвратили ему совершенно официально, и он, уйдя с головой в свои дела, ни о чем не вспоминал до тех пор, пока не потерпел обидного поражения: у противника оказалось на два голоса больше. Брэндер был совсем угнетен и подавлен этим исходом. Что ему теперь оставалось делать?
В таком состоянии застала его Дженни, от которой так и веяло весельем, надеждой, радостью жизни. Доведенный до отчаяния мрачными мыслями, Брэндер заговорил с нею сначала просто для того, чтобы развлечься; но незаметно его уныние рассеялось, и вскоре он поймал себя на том, что улыбается.
— Ах, Дженни, — сказал он ей, как ребенку, — ваше счастье, что вы молоды. Это — самое лучшее, самое дорогое в жизни.
— Правда?
— Да, только вы этого еще не понимаете. Это всегда начинаешь понимать слишком поздно.
«Я люблю эту девушку, — сказал он себе в тот вечер. — Я хотел бы никогда с ней не расставаться».
Но судьба готовила ему еще один удар. В отеле стали поговаривать, что Дженни, мягко выражаясь, ведет себя странно. Дочь прачки никогда не убережется от неодобрительных замечаний, если в ее наряде, что-нибудь не соответствует ее положению. У Дженни увидали золотые часы. Старшая горничная сообщила об этом матери.
— Я решила с вами поговорить, — сказала она. — Вам не следует посылать к нему дочь за бельем, а то уже пошли пересуды.
Миссис Герхардт так растерялась и огорчилась, что не могла вымолвить ни слова. Дженни ничего ей не говорила, но она даже сейчас не верила, что тут есть повод для серьезного разговора. То, что сенатор подарил Дженни часы, растрогало ее и привело в восторг. Ей и в голову не приходило, что доброму имени ее дочери грозит из-за этого какая-либо опасность.
Она вернулась домой очень расстроенная и рассказала Дженни о случившемся. Но та не признавала, что в ее поведении есть что-нибудь плохое. Она смотрит на это совсем иначе. Однако она не рассказала подробно о своих встречах с сенатором.
— Какой ужас, что пошли такие толки! — сказала мать. — И ты правда подолгу остаешься у него в комнате?
— Не знаю, — ответила Дженни, которую совесть заставляла хоть отчасти признать истину, — может быть.
— Но он никогда не говорил тебе ничего неподходящего?
— Нет, — ответила дочь, не подозревая, что в ее отношениях с Брэндером может быть что-нибудь дурное.
Если бы мать еще немного порасспросила Дженни, она бы узнала больше, но для собственного душевного спокойствия она была рада поскорее прекратить разговор. Хорошего человека всегда стараются оклеветать, это она знала. Дженни была немножко неблагоразумна. Люди всегда не прочь посплетничать. Жизнь так тяжела, и разве могла бы бедная девушка поступать иначе, чем поступала Дженни? От таких мыслей миссис Герхардт расплакалась.
В конце концов она решила сама ходить к сенатору за бельем.
Итак, в следующий понедельник она постучалась к нему. Брэндер, ожидавший увидеть Дженни, был удивлен и разочарован.
— А что случилось с Дженни? — спросил он.
Миссис Герхардт надеялась, что он не заметит подмены или по крайней мере ничего не скажет, и теперь не знала, что ответить. Она посмотрела на него простодушно и беспомощно и сказала:
— Дженни не могла нынче прийти.
— Но она не больна?
— Нет.
— Рад это слышать, — сказал он покорно. — А вы как себя чувствуете?
Миссис Герхардт ответила на его любезные вопросы и простилась. После ее ухода он задумался, спрашивая себя, что же могло произойти. Ему и самому было странно, что его занимают такие вещи.
Однако в субботу, когда белье снова принесла мать, он почувствовал неладное.
— В чем дело, миссис Герхардт? — спросил он. — С вашей дочерью что-нибудь случилось?
— Нет, сэр, — ответила она, слишком расстроенная, чтобы лгать.
— Почему же она больше не приносит белье?
— Я… я… — миссис Герхардт заикалась от волнения. — Она… про нее стали нехорошо говорить… — с усилием сказала она наконец.
— Кто стал говорить? — серьезно спросил Брэндер.
— Здешние, в отеле.
— Кто «здешние»? — Голос его зазвучал сердито.
— Старшая горничная.
— Ах, старшая горничная! — воскликнул сенатор. — И что же она говорит?
Мать пересказала ему свой разговор со старшей горничной.
— Вот как! — вскричал он в бешенстве. — Она смеет вмешиваться в мои дела? Хотел бы я знать, почему люди не желают смотреть за собой и оставить меня в покое. Знакомство со мной ничем не грозит вашей дочери, миссис Герхардт. Я не сделаю ей ничего плохого. Стыд и позор, — прибавил он с возмущением, — девушка не может просто прийти ко мне в отель, сразу ее начинают в чем-то подозревать. Я еще выясню, в чем тут дело.
— Только вы не думайте, я тут ни при чем, — извиняющимся тоном сказала миссис Герхардт. — Я знаю, вы любите Дженни и не хотите ей зла. Вы столько сделали для нее и для всех нас, мистер Брэндер, мне прямо совестно, что я не пускаю ее к вам.
— Ничего, миссис Герхардт, — сказал он спокойно. — Вы правильно поступили. Я вас нимало не осуждаю. Но меня возмущает, что по отелю ходят такие сплетни. Посмотрим, кто тут виноват.
Миссис Герхардт побледнела от волнения. Она боялась, что оскорбила человека, который так много для них сделал. Если бы только сказать ему, объяснить все, чтобы он не думал, будто это она распускает сплетни. Она так боялась скандала.
— Я хотела как лучше, — сказала она наконец.
— Вы совершенно правы, — ответил он. — Я очень люблю Дженни. Мне всегда приятно, когда она приходит. Я желаю ей добра, но может быть, лучше, чтобы она не приходила, по крайней мере в ближайшее время.
В тот вечер сенатор снова сидел в своем кресле и размышлял над тем, что произошло. Оказывается, Дженни дорога ему, гораздо дороже, чем он думал. Теперь, когда у него не было больше надежды видеть ее у себя, он стал понимать, как много значили для него ее короткие посещения. Он тщательно обдумал все и понял, что сплетен в отеле не избежать: видно, он и впрямь поставил девушку в очень неудобное положение.
«Пожалуй, следует покончить с этой историей, — думал он. — Я вел себя слишком неразумно».
Придя к такому заключению, Брэндер отправился в Вашингтон и жил там, пока не истек срок его сенаторских полномочий. Затем вернулся в Колумбус и стал ждать, что президент из дружеского расположения поручит ему какой-нибудь ответственный пост за границей. Но ему не удавалось забыть Дженни. Чем дольше он оставался вдали от нее, тем больше жаждал опять ее увидеть. Обосновавшись снова на старом месте, Брэндер в одно прекрасное утро взял трость и зашагал хорошо знакомой дорогой. Поравнявшись с домом Герхардтов, он решил зайти, постучал у дверей и был встречен удивленными и почтительными улыбками миссис Герхардт и ее дочери. Он неопределенно пояснил, что был в отъезде, и завел речь о стирке, как будто ради этого и пришел. Потом, когда ему посчастливилось остаться на несколько минут наедине с Дженни, он храбро приступил к делу.
— Хотите завтра вечером со мной покататься? — спросил он.
— Хочу, — ответила Дженни, для которой такое развлечение было ново и заманчиво.
Брэндер с улыбкой потрепал ее по щеке, радуясь, как мальчишка, что снова ее видит. Казалось, она хорошеет с каждым днем. В белоснежном переднике, с туго заплетенными косами вокруг головы она была так мила, что трудно было не залюбоваться ею.
Брэндер подождал возвращения миссис Герхардт и поднялся — ему больше незачем было оставаться.
— Завтра вечером я собираюсь с вашей дочкой на прогулку, — сказал он. — Хочу с нею побеседовать о ее будущем.
— Ну что ж, — сказала мать.
Она не видела в этом ничего предосудительного. Они расстались, обменявшись множеством улыбок и рукопожатий.
— Золотое сердце у этого человека, — заметила миссис Герхардт. — И как мило он всегда говорит про тебя, правда? Он может помочь тебе получить образование. Ты должна гордиться его добрым отношением.
— Я и горжусь, — чистосердечно призналась Дженни.
— Не знаю, стоит ли рассказывать об этом отцу, — сказала миссис Герхардт. — Он не любит, когда ты уходишь из дому по вечерам.
В конце концов решили отцу ничего не говорить. Он, пожалуй, не поймет.
Дженни была уже готова, когда Брэндер на другой день зашел за нею. При слабом свете скромной лампы он видел, что она приоделась ради этого случая — на ней был ее лучший наряд. Бледно-лиловое ситцевое платье с узенькими, обшитыми кружевом манжетами и довольно высоким воротником, идеально накрахмаленное и отглаженное, подчеркивало ее безукоризненную фигуру. На ней не было ни перчаток, ни каких-либо безделушек, ни хотя бы приличного жакета, но со вкусом уложенные волосы украшали ее хорошенькую головку лучше любой модной шляпки, и нескольких выбившихся завитков венчали ее легким ореолом. Когда Брэндер посоветовал ей надеть жакет, она на мгновение заколебалась, потом пошла в другую комнату и вернулась с простой серой шерстяной пелериной матери. Тут искренне огорченный Брэндер догадался, что у нее вообще нет жакета, и она собиралась обойтись без него.
«Она продрогла бы вечером, — подумал он, — и, конечно, не стала бы жаловаться».
Он посмотрел на Дженни и в раздумье покачал головой. Потом они двинулись в путь, и Брэндер тотчас забыл обо всем, кроме одного — что Дженни рядом. Она болтала о том о сем свободно, с полудетским увлечением, которое казалось ему неотразимо очаровательным.
— Послушайте, Дженни, — сказал он, когда она залюбовалась мягкими очертаниями деревьев, чуть позолоченных слабым сиянием восходящей луны. — Вы необыкновенная девушка. Я уверен, что, если бы вам хоть немного поучиться, вы писали бы стихи.
— Думаете, я бы сумела? — наивно спросила она.
— Думаю, девочка? — Брэндер взял ее за руку. — Думаю? Да я в этом уверен. Вы самая милая мечтательница на свете. Конечно же, вы можете быть поэтом. Вы живете поэзией. Вы сама поэзия, дорогая моя. И не так уж важно, умеете вы писать стихи или нет.
Ничто не могло бы тронуть ее так, как эта похвала. Он всегда говорит такие милые вещи. Кажется, никто никогда и вполовину не любил и не ценил ее, как он. И он такой добрый! Все это говорят. Даже отец.
Они ехали все дальше. Потом, словно что-то вспомнив, Брэндер вдруг сказал:
— Интересно, сколько времени. Пожалуй, нам пора возвращаться. У вас часы с собою?
Дженни вздрогнула: часы — она так боялась, что он заговорит о них! Она непрестанно ждала этого с той минуты, как он вернулся.
За время его отсутствия в семье стало совсем туго с деньгами, и Дженни пришлось заложить часы. Одежда Марты пришла в такое состояние, что девочка не могла больше ходить в школу. И вот, после долгих обсуждений, решено было отказаться от часов.
Басс отнес часы к соседнему ростовщику и после долгих препирательств заложил их за десять долларов. Миссис Герхардт истратила эти деньги на детей и вздохнула с облегчением. Марта стала выглядеть куда приличнее. Понятно, Дженни была этому рада.
Но теперь, когда сенатор заговорил о своем подарке, ей показалось, что настал час возмездия. Она вся дрожала, и Брэндер заметил ее растерянность.
— Что с вами, Дженни? — сказал он ласково. — Почему вы так вздрогнули.
— Ничего, — ответила она.
— При вас нет часов?
Дженни медлила, ей казалось невозможным солгать. Наступило неловкое молчание; потом Дженни сказала:
— Нет, сэр.
В голосе ее слышались слезы.
Брэндер тотчас заподозрил истину, стал настаивать, и она во всем призналась.
— Не надо огорчаться, дорогая, — сказал он. — Вы лучшая девушка на свете. Я выкуплю ваши часы. А впредь, когда вам что-нибудь понадобится, непременно приходите ко мне. Слышите? Непременно, обещайте мне. Если меня не будет в городе, напишите. Я больше никогда не потеряю вас из виду. У вас всегда будет мой адрес. Дайте мне только знать, и я вам помогу. Слышите.
— Да, — сказала Дженни.
— Вы мне это обещаете, правда?
— Да, — ответила она.
Минуту оба молчали.
— Дженни, — сказал наконец сенатор; под влиянием этого по-весеннему чудесного вечера его чувство прорвалось наружу, — я убедился, что не могу без вас жить. Вы бы согласились больше не расставаться со мной?
Дженни смотрела в сторону, не совсем понимая, что он хочет сказать.
— Не знаю, — неопределенно ответила она.
— Так вот, подумайте об этом, — мягко сказал Брэндер. — Я говорю серьезно. Хотели бы вы стать моей женой и уехать на несколько лет учиться?
— Уехать и поступить в школу?
— Да, после того как мы поженимся.
— Пожалуй, да… — ответила Дженни.
Она подумала о матери. Быть может, этим она помогла бы родным.
Брэндер повернулся к ней, стараясь рассмотреть выражение ее лица. Было довольно светло. На востоке над вершинами деревьев вставала луна, и бесчисленные звезды уже побледнели в ее лучах.
— Неужели я вам совсем безразличен, Дженни? — спросил он.
— Нет!
— Но вы больше никогда не приходите ко мне за бельем, — горько пожаловался он.
Это ее тронуло.
— Я не виновата, — ответила она. — Что же я могу поделать. Мама думает, что так будет лучше.
— Она права, — согласился Брэндер. — Не огорчайтесь. Я просто пошутил. Но вы бы с удовольствием пришли, если бы могли, правда?
— Да, — чистосердечно ответила она.
Он взял ее руку и пожал так ласково, что его слова вдвойне тронули Дженни. Она порывисто обняла его.
— Вы такой добрый, — сказала она с дочерней нежностью.
— Дженни, девочка моя, — с глубоким чувством произнес Брэндер, — я на все готов ради вас.
Глава VI
Отец злополучного семейства, Уильям Герхардт, родом саксонец, был человек незаурядный. Еще восемнадцатилетним юношей он возмутился несправедливостью закона о всеобщей воинской повинности и бежал в Париж. А оттуда он переправился в Америку, эту землю обетованную.
Прибыв сюда, он сначала подался из Нью-Йорка в Филадельфию, а потом и дальше на Запад; некоторое время он работал на стекольных заводах в Пенсильвании. В одной живописной деревушке этого нового света он обрел подругу жизни, о какой всегда мечтал. Это была скромная молодая американка немецкого происхождения, и с нею он переехал в Янгстаун, а затем в Колумбус, все время следуя за стекольным фабрикантом по фамилии Хеммонд, чьи дела то процветали, то приходили в упадок.
Герхардт был человек честный, и ему приятно было, что люди ценят его неспособность кривить душой.
— Уильям, — нередко говорил ему хозяин, — я хочу, чтобы ты у меня работал, потому что могу на тебя положиться.
И эта похвала была для Герхардта дороже золота.
Его честность, как и религиозные убеждения, была заложена в нем с детства, вошла в плоть и кровь. Герхардт никогда над этим не задумывался. Его отец и дед были добропорядочные немецкие ремесленники, они ни разу никого ни на грош не обсчитали, и эта упрямая честность полностью передалась ему.
Он был истый лютеранин — аккуратное посещение церкви и соблюдение всех домашних обрядов укрепило за многие годы его взгляды и верования. В доме его отца слово священника было законом, и Герхардт унаследовал убеждение, что лютеранская церковь безупречна и ее учение о загробной жизни непогрешимо и непререкаемо. Жена его, формально исповедовавшая учение меннонитов, охотно приняла вероисповедание мужа. Итак, семейство было вполне богобоязненное. Куда бы не приезжали Герхардты, они прежде всего вступали в число прихожан местной лютеранской церкви, и священник становился желанным гостем в их доме.
Мистер Вундт, пастырь лютеран города Колумбуса, был искренним и ревностным христианином, и притом слепым, нетерпимым фанатиком. Он полагал, что, танцуя, играя в карты или посещая театр, его прихожане рискуют спасением души, и без колебаний, во всю силу своих легких провозглашал, что те, кто не повинуется его предписаниям, будут ввергнуты в ад. Пить, даже умеренно, — грех. Курить… ну, он и сам курил. Целомудрие до брака и затем соблюдение его святости строго обязательны для каждого христианина. Нет спасения, говорил он, той девушке, которая не сумеет соблюсти своей чистоты, и родителям, которые допустят, чтобы дочь согрешила. Они будут ввергнуты в ад. Неуклонно следуйте стезей добродетели, дабы избегнуть вечной кары, ибо гнев праведного господа неминуемо настигнет грешника.
Герхардт, его жена и Дженни безоговорочно принимали учение своей церкви в истолковании мистера Вундта. Но Дженни, в сущности, соглашалась со всеми этим просто формально. Религия пока что не имела на нее решающего влияния. Приятно знать, что существует рай, пугает мысль, что существует ад. Юноши и девушки должны хорошо себя вести и слушаться родителей. В остальном религиозные понятия Дженни были довольно смутны.
Герхардт-отец был убежден, что каждое слово, произнесенное с кафедры его церкви, — непреложная истина. Загробная жизнь казалась ему вполне реальной.
А годы шли, жизнь становилась все более непонятной и необъяснимой, и Герхардт отчаянно цеплялся за религиозные догмы, которые давали ответ на все вопросы. О, если бы он мог быть столь честным и стойким, что господь не имел бы никаких оснований его отвергнуть! Он трепетал не только за себя, но и за жену и детей. Ведь настанет день, когда ему придется за них ответить. Не приведет ли их всех к погибели его слабость и неумение внушить им законы вечной жизни? Он рисовал в своем воображении муки ада и спрашивал себя, что ждет его и его близких в последний час.
Естественно, что столь глубокая религиозность делала его суровым в обращении с детьми. Он косо смотрел на развлечения молодежи и на ее слабости. Будь его отцовская воля, Дженни никогда не узнала бы любви. Если бы она и познакомилась где-нибудь в городе с молодыми людьми и они стали бы за нею ухаживать, отец не пустил бы их на порог. Он забыл, что и сам когда-то был молод, и теперь заботился только о спасении души своей дочери. Итак, сенатор был совершенно новым явлением в ее жизни.
Когда Брэндер впервые стал принимать участие в делах семьи, все представления папаши Герхардта о том, что хорошо и что плохо, оказались несостоятельными. Он не знал, с какой меркой подойти к такому человеку. Брэндер не был обычным кавалером, который пытался приударить за его хорошенькой дочкой. Вмешательство сенатора в жизнь Герхардта было столь своеобразным и в то же время столь благовидным, что он стал играть в ней важную роль, прежде чем кто-либо успел опомниться. Сам Герхардт — и тот был введен в заблуждение; он не ожидал из такого источника ничего, кроме почета и пользы для себя и своей семьи, а потому преспокойно принимал заботы сенатора и его услуги. Впрочем, жена не говорила ему о многочисленных подарках, полученных от Брэндера и до и после того чудесного рождества.
Но однажды утром, когда Герхардт возвращался домой после ночной работы, к нему подошел его сосед Отто Уивер.
— Герхардт, — сказал он, — я хочу с тобой поговорить. Я тебе друг и хочу рассказать, что я слышал. Видишь ли, соседи много болтают насчет того человека, который ходит к твоей дочери.
— К моей дочери? — повторил Герхардт, несказанно ошеломленный и задетый этим неожиданным нападением. — О ком ты говоришь? Я не знаю никакого человека, который ходит к моей дочери.
— Разве? — спросил Уивер, удивленный не менее своего собеседника. — Немолодой человек, наполовину седой. Иногда ходит с тростью. Разве ты его не знаешь?
Герхардт с озадаченным видом рылся в памяти.
— Говорят, он прежде был сенатором, — неуверенно продолжал Уивер. — Не знаю точно.
— А, сенатор Брэндер, — с некоторым облегчением сказал Герхардт. — Да. Он иногда заходит. Верно. Ну, так что же из этого?
— Да ничего, — ответил сосед, — только вот люди сплетничают. Он уже не молод, знаешь ли. Твоя дочь иногда ходила с ним гулять. А люди это видели, и теперь пошли пересуды. Вот я и подумал, может, тебе следует про это знать.
Слова приятеля потрясли Герхардта до глубины души. Уж верно люди не зря говорят такие вещи. Дженни и ее мать серьезно провинились. Все же он, не колеблясь, выступил на защиту дочери.
— Это друг нашей семьи, — смущенно сказал он. — Напрасно люди говорят, чего не знают. Моя дочь ничего плохого не сделала.
— Ну, понятно. Тут ничего плохого нет, — сказал Уивер. — Соседи часто болтают зря. Но мы с тобой старые друзья, и я подумал, может, тебе следует знать…
Еще с минуту Герхардт стоял неподвижно, приоткрыв рот; странная беспомощность овладела им. Как страшно, когда люди становятся тебе враждебны. Как важно, чтобы их мнение и расположение были на твоей стороне. Он, Герхардт, так старался жить, соблюдая все установленные правила! Почему бы людям не удовольствоваться этим и не оставить его в покое?
— Спасибо, что ты мне сказал, — пробормотал он, направляясь к дому. — Я об этом подумаю. Всего доброго.
Он воспользовался первым же удобным случаем, чтобы расспросить жену.
— Чего ради сенатор Брэндер ходит к Дженни? — спросил он по-немецки. — Соседи уж стали сплетничать.
— Тут нет ничего плохого, — ответила миссис Герхардт тоже по-немецки. Вопрос явно застал ее врасплох. — Он приходил только два или три раза.
— Но ты мне об этом не говорила, — возразил муж, возмущенный тем, что она терпела поведение дочери и покрывала ее.
— Нет, не говорила, — ответила миссис Герхардт в полнейшем замешательстве. — Он заходил только раза два.
— Только! — воскликнул Герхардт, поддаваясь чисто немецкой привычке повышать голос. — Только! Все соседи уже судачат об этом. На что это похоже, скажи, пожалуйста?
— Он заходил только раза два, — беспомощно повторила миссис Герхардт.
— Сейчас подходит ко мне на улице Уивер, — продолжал Герхардт, — и говорит, что все соседи болтают про человека, с которым гуляет моя дочь. А я ничего не знаю. Стою, как дурак, и молчу. Куда это годится? Что он обо мне подумает.
— Ничего тут такого нет, — возразила жена. — Дженни раза два ходила с ним погулять. Он сам заходил сюда, к нам в дом. Что тут такого, о чем толковать? Неужели девушке уж и развлечься нельзя?
— Но ведь он уже немолодой, — сказал Герхардт, повторяя слова Уивера. — Человек видный, с положением. Чего ради он ходит к такой девушке, как Дженни?
— Не знаю, — защищалась миссис Герхардт. — Он приходит к нам в дом. Я за ним не знаю ничего плохого. Разве я могу ему сказать, чтоб он не приходил?
И Герхардт умолк. Он знал сенатора с наилучшей стороны. В самом деле, чего тут страшного?
— Соседи всегда рады посплетничать. Им больше не о чем говорить, вот они и болтают про Дженни. Ты сам знаешь, она хорошая девушка. Зачем они сплетничают понапрасну? — Глаза доброй матери наполнились слезами.
— Все это так, — проворчал Герхардт, — но ему незачем ходить сюда и водить такую молоденькую девушку на прогулки. Это не годится, даже если у него и нет на уме ничего худого.
Тут как раз вошла Дженни. Она слышала голоса родителей из комнатки, которая служила спальней ей и сестре, но и не подозревала, какое значение имеет для нее этот разговор. Когда она вошла, мать повернулась к ней спиной склонилась над столом, где готовила печенье, стараясь скрыть от дочери покрасневшие глаза.
— Что случилось? — спросила Дженни, немного встревоженная натянутым молчанием родителей.
— Ничего, — решительно ответил отец.
Мать даже не обернулась, но самая ее неподвижность была многозначительна. Дженни подошла к ней и тотчас увидела, что она плакала.
— Что случилось? — удивленно повторила девушка, глядя на отца.
Герхардт промолчал, открытое лицо дочери успокоило его страхи.
— Что случилось? — мягко настаивала Дженни, обращаясь к матери.
— Ах, это все соседи, — со вздохом отозвалась миссис Герхардт. — Они вечно судачат о том, чего не знают.
— Опять про меня? — спросила Дженни, слегка краснея.
— Вот видите, — заметил Герхардт в пространство, — она сама знает, в чем дело. Так почему вы мне не говорили, что он здесь бывает? Все соседи толкуют об этом, а я до нынешнего дня ничего не знал. Что это такое, спрашивается?
— Ах, не все ли равно! — воскликнула Дженни, охваченная жалостью к матери.
— Все равно? — крикнул Герхардт, все еще по-немецки, хотя Дженни отвечала ему по-английски. — Все равно, что люди останавливают меня на улице и рассказывают про это? Постыдилась бы так говорить. Я всегда был хорошего мнения об этом Брэндере, но теперь, раз вы мне ничего не говорили, а про меж соседей пошли толки, я уж не знаю, что и думать. Неужели я должен от соседей узнавать, что делается в моем доме?
Мать и дочь молчали. Дженни уже стала думать, что они и впрямь совершили серьезную ошибку.
— Я вовсе не делала ничего такого, что надо скрывать, — сказала она. — Просто один раз он возил меня кататься, вот и все.
— Да, но ты мне об этом не рассказывала, — отвечал отец.
— Я знаю, ты не любишь, когда я вечером ухожу из дому, потому и не рассказала. А скрывать тут нечего.
— Он не должен был никуда возить тебя вечером, — заметил Герхардт, не переставая тревожиться о том, что скажут люди. — Чего ему от тебя надо? Зачем он сюда ходит? Он слишком старый. У такой молоденькой девушки не должно быть с ним ничего общего.
— Ему ничего и не надо, он только хочет помочь мне, — пробормотала Дженни. — Он хочет на мне жениться.
— Жениться? Ха! Почему же он не скажет об этом мне? — воскликнул Герхардт. — Я сам разберусь в этом деле. Не желаю, чтоб он обхаживал мою дочь и чтоб все соседи про это сплетничали. И потом он слишком старый. Я ему так и скажу. Он не должен играть добрым именем девушки. И чтоб ноги его здесь больше не было.
Угроза Герхардта привела Дженни и ее мать в ужас. Неужели он предложит Брэндеру больше не являться к ним в дом? К чему это приведет? В каком положении они окажутся перед Брэндером?
А Брэндер, конечно, снова пришел, когда Герхардт был на работе, и они трепетали, как бы отец об этом не услышал. Через несколько дней сенатор зашел за Дженни, и они отправились погулять. Ни она, ни мать ничего не сказали Герхардту. Но его не удалось долго держать в неведении.
— Дженни опять гуляла с этим человеком? — спросил он на другой день у жены.
— Он заходил вчера вечером, — уклончиво ответила та.
— А она ему сказала, чтоб он больше не приходил?
— Не знаю. Навряд ли.
— Ладно, я сам постараюсь положить этому конец, — отрезал Герхардт. — Я с ним поговорю. Пускай только явится еще раз.
И он трижды отпрашивался с работы и каждый раз тщательно следил за домом, проверяя, не принимают ли там гостя. На четвертый вечер Брэндер явился и, вызвав необычайно взволнованную Дженни, пошел с нею гулять. Она боялась отца, боялась какой-нибудь некрасивой сцены, но не знала, как поступить.
Герхардт в это время подходил к дому и видел, как она вышла. Этого было достаточно.
— Где Дженни? — приступил он к жене.
— Куда-то вышла, — ответила та.
— Я знаю куда, — сказал Герхардт. — Видел. Ну, пускай только вернуться. Я с этим Брэндером потолкую.
Он спокойно уселся и стал читать немецкую газету, исподлобья поглядывая на жену; наконец стукнула калитка, и открылась входная дверь. Тогда он поднялся.
— Где ты была? — крикнул он по-немецки.
Брэндеру, который никак не ожидал подобной сцены, стало и досадно и неловко. Дженни отчаянно смутилась. На кухне в мучительной тревоге ждала ее мать.
— Я выходила погулять, — смущенно ответила девушка.
— А разве я не говорил тебе, что бы ты больше не выходила по вечерам? — сказал Герхардт, не обращая ни малейшего внимания на Брэндера.
Дженни залилась краской, не в силах вымолвить ни слова.
— В чем дело? — внушительно произнес Брэндер. — Почему вы так с нею разговариваете?
— Она не должна выходить из дому, когда стемнеет, — грубо ответил Герхардт. — Я ей уже сколько раз говорил. Да и вам больше незачем сюда ходить.
— А почему? — спросил сенатор после короткого молчания, тщательно выбирая слова. — Вот странно. Что плохого сделала ваша дочь?
— Что она сделала? — крикнул Герхардт; волнение его росло с каждой минутой, и он все невнятнее выговаривал английские слова. — Нечего ей бегать по улицам на ночь глядя, когда надо сидеть дома. Я не желаю, чтоб моя дочь уходила вечером с человеком, который ей в отцы годится Чего вы от нее хотите? Она еще ребенок.
— Чего я хочу? — сказал сенатор, стараясь с достоинством выйти из положения. — Разумеется, я хочу беседовать с нею. Она уже взрослая, мне с нею интересно. Я хочу женится на ней, если она согласна.
— А я хочу, чтобы вы ушли и забыли сюда дорогу, — ответил Герхардт, теряя всякую способность рассуждать логично и впадая в самый обыкновенный отцовский деспотизм. — Я больше не желаю видеть вас в своем доме. Мало у меня других несчастий, не хватает еще, чтобы у меня отняли дочь и погубили ее доброе имя.
— Потрудитесь объяснить, что вы этим хотите сказать, — произнес сенатор, выпрямляясь весь рост. — Мне нечего стыдиться своих поступков. С вашей дочерью не произошло по моей вине ничего дурного. И я хотел бы понять, в чем вы меня обвиняете.
— Я хочу сказать… — Герхардт в возбуждении по нескольку раз повторял одно и то же: — Я… я хочу сказать, что все соседи говорят про то, как вы сюда ходите, и катаете мою дочь в коляске, и разгуливаете с ней по вечерам, и все это, когда меня нет дома, вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что ежели б у вас были честные намерения, вы не связывались бы с девочкой, которая годится вам в дочери. Люди раскрыли мне на вас глаза. Уходите отсюда и оставьте мою дочь в покое.
— Люди! — повторил сенатор. — Мне дела нет до этих людей. Я люблю вашу дочь и прихожу к ней потому, что люблю ее. Я намерен жениться на ней, а если вашим соседям хочется болтать, пусть болтают. Это еще не значит, что вы можете оскорблять меня, даже не узнав моих намерений.
Напуганная этой внезапной ссорой, Дженни попятилась к двери, ведущей в столовую; мать подошла к ней.
— Отец вернулся, покуда вас не было, — сказала она дочери, задыхаясь от волнения. — Что нам теперь делать?
И, по обычаю всех женщин, они обнялись и тихо заплакали. А те двое продолжали спорить.
— Ах, вот как! — воскликнул Герхардт. — Вы, стало быть, хотите жениться!
— Да, — ответил сенатор, — именно жениться. Вашей дочери восемнадцать лет, она может сама решать за себя. Вы оскорбили меня и надругались над чувствами вашей дочери. Так вот, имейте в виду, что этим дело не кончится. Если вы можете обвинить меня еще в чем-нибудь, кроме того, что болтают ваши соседи, потрудитесь высказаться.
Сенатор стоял перед Герхардтом, как величественное воплощение правоты и безупречности. Он не повышал голоса, не делал резких жестов, но в выражении его плотно сжатых губ была решимость и непреклонная воля.
— Не хочу я больше с вами разговаривать, — возразил Герхардт, слегка сбитый с толку, но не испуганный. — Моя дочь — это моя дочь. И мое дело решать, гулять ли ей по вечерам и выходить ли за вас замуж. Знаю я вас, политиков. Когда мы познакомились, я вас считал порядочным человеком, а теперь вижу, как вы поступаете с моей дочерью, и знать вас больше не хочу. Уходите отсюда, вот и весь разговор. Больше мне от вас ничего не надо.
— Очень сожалею, миссис Герхардт, что мне пришлось вступить в такие пререкания у вас в доме, — сказал Брэндер, намеренно отворачиваясь от разгневанного отца. — Я понятия не имел, что ваш муж возражает против моих посещений. Во всяком случае, это ничего не меняет. Не огорчайтесь, дело не так плохо, как кажется.
Герхардт был поражен его хладнокровием.
— Я ухожу, — продолжал Брэндер, снова обращаясь к нему, — но не думайте, что я так это оставлю. Сегодня вы совершили большую ошибку. Надеюсь, вы это поймете. Доброй ночи.
Он слегка поклонился и вышел.
Герхардт захлопнул за ним дверь.
— Теперь, надеюсь мы от него избавились, — сказал он. — А тебе я покажу, как шататься вечерами по улицам, чтоб весь свет болтал про тебя.
Больше на эту тему не было сказано ни слова, но по лицам и настроению всех обитателей дома, в котором последующие дни царило гнетущее молчание, нетрудно было понять, что они переживают, Герхардт мрачно раздумывал о том, что своей работой он обязан сенатору, и решил отказаться от места. Он объявил, что в его доме не должно быть больше никакой стирки на сенатора, и, не будь он уверен, что работу в отеле миссис Герхардт нашла самостоятельно, он запретил бы и это. Во всяком случае, ни к чему хорошему эта работа не привела. Не пойди жена в отель, не было бы и сплетен.
А сенатор был очень расстроен досадным происшествием. Обывательские сплетни всегда неприятны, но человеку с его положением оказаться героем такой сплетни и вовсе не пристало. Брэндер не знал, как поступить, и, пока он колебался и раздумывал, прошло несколько дней. Затем его вызвали в Вашингтон, и он уехал так и не повидавшись с Дженни.
Тем временем Герхардты по-прежнему перебивались как могли. Разумеется, они очень бедствовали, но Герхардт готов был мужественно переносить нужду, лишь бы честь оставалась при нем. Однако бакалейщику надо было платить не меньше прежнего. Одежда детей неумолимо изнашивалась. Пришлось соблюдать строжайшую экономию и приостанавливать уплату старых долгов, с которыми Герхардт пытался разделаться.
Потом настал день, когда надо было внести годовые проценты по закладной, а вскоре два бакалейщика, встретив Герхардта на улице, спросили, когда он вернет долг. Он без колебаний объяснил им состояние своего кошелька и с подкупающей искренностью сказал, что будет стараться изо всех сил и сделает все возможное. Но все же под ударами судьбы он пал духом. В часы работы он молился о том, чтобы небеса смилостивились над ним, а днем, когда следовало бы выспаться и отдохнуть, ходил по городу, пытаясь подыскать более выгодное место, и попутно брался за всякую случайную работу. В частности, он нанимался косить газоны.
Миссис Герхардт умоляла его не убивать себя непосильной работой, но он отвечал, что иначе нельзя.
— Нельзя мне отдыхать, когда люди останавливают меня на улице и просят расплатиться с долгами.
Положение семьи было отчаянное.
В довершение всего Себастьян попал в тюрьму. Виной этому была старая уловка с кражей угля, на которой он в конце концов попался. Как-то вечером он залез на платформу, чтобы сбросить Дженни и детям немного угля, а агент железнодорожной полиции поймал его. За последние два года на дороге не прекращалось расхищение угля, однако пока воровали понемногу, администрация смотрела на это сквозь пальцы. Но когда клиенты грузоотправителей пожаловались, что составы, следующие из угольных бассейнов Пенсильвании в Кливленд, Цинциннати, Чикаго и другие города, теряют в пути тысячи фунтов угля, дело было передано в руки сыщиков. Не одни дети Герхардтов старались поживиться на железной дороге. Многие жители Колумбуса постоянно занимались тем же, но случилось так, что именно Себастьян попался и должен был понести кару в назидание всему городу.
— А ну, слезай, — сказал сыщик, внезапно вынырнув из темноты.
Дженни и дети побросали ведра и корзинки и кинулись бежать со всех ног. Первым побуждением Себастьяна тоже было спрыгнуть на землю и удрать, но сыщик схватил его за полу пальто.
— Стоп! — крикнул он. — Тебя-то мне и надо!
— Пусти ты! — в бешенстве огрызнулся Себастьян, который был отнюдь не трусливого десятка. Он был полон отваги и решимости и хорошо понимал всю опасность своего положения.
— Пусти, говорят тебе, — повторил он, рванулся и чуть не опрокинул сыщика.
— Ну-ну, слезай, — сказал тот и злобно дернул Себастьяна, чтобы доказать свою власть.
Себастьян спрыгнул и так ударил противника, что тот пошатнулся. Завязалась борьба, но тут проходивший мимо рабочий подоспел на помощь сыщику. Вдвоем они поволокли Басса на станцию и передали железнодорожной полиции. Пальто его было разорвано, лицо и руки расцарапаны, глаз подбит. В таком виде Себастьян был заперт до утра.
Дети прибежали домой, еще не зная, что случилось со старшим братом, и ничего толком не могли рассказать, но когда пробило девять часов, потом десять, одиннадцать, а Себастьян все не возвращался, миссис Герхардт обезумела от тревоги. Сын нередко приходил домой и в двенадцать, и в час, но мать чувствовала, что в этот вечер с ним произошло что-то ужасное. Когда пробило половину второго, а Себастьян так и не явился, она расплакалась.
— Надо пойти предупредить отца, — сказала она. — Видно, Себастьян попал в тюрьму.
Дженни вызвалась пойти; Джорджа, который уже спал крепким сном, разбудили, чтобы он ее проводил.
— Что такое? — с изумлением воскликнул Герхардт при виде детей.
— Басс до сих пор не вернулся домой, — объяснила Дженни и рассказала, как неудачно они в этот вечер ходили за углем.
Герхардт тотчас бросил работу, вышел с детьми и направился в тюрьму. Он догадался о том, что произошло, и сердце его сжималось.
— Только этого не хватало! — беспокойно повторял он, неловко отирая ладонью вспотевший лоб.
В участке дежурный сержант кратко сообщил ему, что Басс арестован.
— Себастьян Герхардт? — переспросил он, заглядывая в списки. — Да, есть такой. Воровал уголь и оказал сопротивление представителю власти. Это ваш сын?
— Ach Gott! — сказал Герхардт. — О господи! — повторил он, в отчаянии ломая руки.
— Хотите его видеть? — спросил сержант.
— Да, да, — ответил отец.
— Проведите его, Фред, — обратился тот к старику караульному. — Пускай повидает парня.
Когда Герхардт, стоя в соседней комнате, увидел входящего Себастьяна, встрепанного и избитого, силы изменили ему и он заплакал. Он не мог выговорить не слова.
— Не плачь, папа, — храбро сказал Себастьян. — Я ничего не мог поделать. Ну, не беда. Утром меня выпустят.
Герхардт весь дрожал, подавленный горем.
— Не плачь, — продолжал Себастьян, всячески стараясь сам сдержать слезы. — Со мной ничего не случится. Что толку плакать.
— Я знаю, знаю, — горестно сказал старик, — но я не могу удержаться. Это все моя вина, ведь я позволял тебе этим заниматься.
— Нет, нет, — возразил Себастьян, — ты тут ни при чем. А мама знает?
— Да, знает. Дженни и Джордж только что пришли ко мне и сказали. Я только что узнал…
И он снова заплакал.
— Ну, не надо так расстраиваться, — сказал Себастьян; в эту минуту в нем пробудилось все лучшее, что было в его натуре. — Все уладится. Возвращайся на работу и не горюй. Все уладится.
— Почему у тебя щека разбита? — спросил отец, глядя на него покрасневшими от слез глазами.
— А, это у меня вышла небольшая стычка с парнем, который меня зацапал, — храбро ответил юноша и через силу улыбнулся. — Я думал, что сумею удрать.
— Напрасно ты это сделал, Себастьян, — сказал Герхардт, — Это может тебе очень повредить. Когда будут разбирать твое дело?
— Сказали, что утром, — ответил Басс. — В девять часов.
Герхардт побыл еще немного с сыном; они потолковали о том, нельзя ли родным взять Басса на поруки, о штрафе и о грозной опасности тюремного заключения, но так ни к чему и не пришли. Наконец Басс уговорил отца уйти, но прощание вызвало новый взрыв отчаяния; Герхардта вывели за дверь потрясенного, убитого горем.
«Плохо дело, — думая об отце, сказал себе Басс, когда его вели обратно в камеру. — И что-то будет с мамой…»
Мысль о матери глубоко взволновала его.
«Эх, жаль, что я не свалил того типа с первого удара, — подумал он. — И какой же я дурак, что не удрал».
Глава VII
Герхардт был в отчаянии; он не знал никого, к кому можно было бы обратиться за помощью между двумя часами ночи и девятью утра. Он зашел домой посоветоваться с женою, а затем вернулся на свой пост. Что делать? Он вспомнил только одного человека, который мог бы и, пожалуй, согласился бы чем-нибудь помочь, — стекольного фабриканта Хеммонда; но его в то время не было в городе. Впрочем, Герхардт этого не знал.
К девяти часам он направился в суд один — решено было, что остальным членам семьи не следует там присутствовать. Миссис Герхардт немедленно обо всем узнает: он сразу же вернется и все ей расскажет.
В суде Себастьяну пришлось долго ждать, так как до него перед судьей должны были предстать еще несколько человек. Наконец его вызвали и подтолкнули к барьеру.
— Воровал уголь, ваша честь, и оказал сопротивление при аресте, — пояснил арестовавший его полицейский.
Судья внимательно посмотрел на Себастьяна; расцарапанное и избитое лицо парня произвело на него неблагоприятное впечатление.
— Итак, молодой человек, — сказал он, — что вы можете сказать в свое оправдание? Откуда у вас такой синяк под глазом?
Себастьян посмотрел на судью, но ничего не ответил.
— Это я его задержал, — сказал сыщик. — Я застал его на платформе, принадлежащей нашей компании. Он пробовал вырваться, а когда я стал его удерживать, он на меня накинулся. Вот и свидетель есть, — прибавил он, указывая на рабочего, который помог ему задержать Себастьяна.
— Это он вас ударил? — спросил судья, заметив, что у сыщика распух подбородок.
— Да, сэр, — ответил тот, довольный, что будет вполне отомщен.
— С вашего позволения, — вставил Герхардт, подаваясь вперед, — это мой сын. Его послали за углем. Он…
— Мы не против, пускай подбирают то, что найдут на путях, — прервал сыщик. — Но он сбрасывал уголь с платформы своим сообщникам, их там было человек шесть.
— Разве вы не в состоянии достаточно заработать и не таскать уголь с платформ? — спросил судья и, прежде чем отец или сын успели ответить, прибавил: — Чем вы занимаетесь?
— Работаю по ремонту вагонов, — сказал Себастьян.
— А вы? — обратился судья к Герхардту.
— Я ночной сторож на мебельной фабрике Миллера.
— Хм, — произнес судья, видя, что Себастьян продолжает держаться угрюмо и вызывающе. — Так вот, с этого молодого человека можно снять обвинение в краже угля, но он, как видно, чересчур охотно пускает в ход кулаки. В Колумбусе и без того драк больше чем достаточно. Десять долларов.
— С вашего позволения… — начал Герхардт, но судебный пристав его оттолкнул.
— Я не желаю больше ничего слышать, — сказал судья. — Вот еще упрямец. Кто там следующий?
Герхардт пробрался к сыну, пристыженный и все же довольный, что дело не кончилось хуже. Денег он уж как-нибудь добудет, думалось ему. Сын участливо посмотрел на отца.
— Все в порядке, — постарался он успокоить расстроенного старика. — Только судья не дал мне слова сказать.
— Хорошо, что он не присудил больше, — озабоченно произнес отец. — Теперь постараемся достать денег.
Он отправился домой и сообщил встревоженной жене и детям о приговоре. Миссис Герхардт побледнела, но все же почувствовала облегчение: ведь десять долларов как-нибудь можно раздобыть. Дженни слушала приоткрыв рот и глядя на отца большими глазами. Вся эта история была для нее жестоким ударом. Бедный Басс! Он всегда был такой веселый и добродушный. Просто ужас, что он попал в тюрьму.
Герхардт поспешил к великолепному особняку Хеммонда, но фабриканта не было в городе. Тогда он подумал об адвокате по фамилии Дженкинс, с которым был немного знаком, и пошел к нему в контору, но не застал и его. Было еще несколько знакомых бакалейщиков и торговцев углем, но он им и без того задолжал. Пастор Вундт, пожалуй, дал бы ему денег, но для Герхардта было бы слишком мучительно признаться в случившемся столь достойному человеку. Он попробовал обратиться к двум-трем знакомым, но те, удивленные его неожиданной и странной просьбой, ответили вежливым отказом. В четыре часа он вернулся домой, усталый и измученный.
— Не знаю, что и делать, — сказал он безнадежным тоном. — Просто ума не приложу…
Дженни подумала о Брэндере, но хотя положение было отчаянное, она не осмелилась пойти просить его о помощи: она слишком хорошо понимала запрет отца и ужасное оскорбление, которое он нанес сенатору. Ее часы опять были заложены, а другого способа достать денег она не знала.
Семейный совет длился до половины одиннадцатого, и все же придумать ничего не удалось. Миссис Герхардт, глядя в пол, упрямым, однообразным движением сжимала руки. Ее муж рассеянно проводил ладонью по своим рыжеватым с проседью волосам.
— Все без толку, — сказал он наконец. — Ничего я не могу придумать.
— Иди спать, Дженни, — заботливо сказала мать. — И остальных уложи. Незачем вам тут сидеть. Может, я что-нибудь придумаю. А вы все идите спать.
Дженни ушла к себе в комнату, но ей было не до сна. Вскоре после ссоры отца с сенатором она прочла в газете, что Брэндер уехал в Вашингтон. О его возвращении не сообщали. И все же, может быть, он уже приехал. Она в раздумье остановилась перед небольшим узким зеркалом, которое стояло на убогом столике. Вероника, спавшая с нею в одной комнате, уже улеглась. Наконец решение Дженни окрепло. Она пойдет к сенатору Брэндеру. Если только он в городе, он выручит Басса, Почему бы ей и не пойти — ведь он ее любит. Он столько раз просил ее выйти за него замуж. Почему бы не пойти и не попросить его о помощи?
Она немного поколебалась, слушая ровное дыхание Вероники, потом бесшумно отворила дверь, чтобы посмотреть, нет ли кого в столовой.
В доме не слышно было ни звука, только на кухне беспокойно раскачивался в качалке Герхардт. Нигде не было света — горела лишь маленькая лампочка у нее в комнате да под дверью кухни виднелась желтоватая полоска. Дженни привернула и задула свою лампу, потом тихонько скользнула к выходной двери, открыла ее и вышла в ночь.
На небе сиял ущербный месяц, и воздух был полон смутным дыханием возрождающейся жизни, ибо снова приближалась весна. Дженни торопливо шла по темным улицам — дуговые фонари еще не были изобретены — и замирала от страха; на какое безрассудство она решилась! Как примет ее сенатор? Что он подумает! Она остановилась и застыла, одолеваемая сомнениями; потом вспомнила о Бассе, запертом на ночь в тюремной камере, и снова заторопилась.
Устройство отеля «Колумбус-Хаус» было таково, что женщина без труда могла пройти через особый ход для дам в какой угодно этаж в любой час ночи. Нельзя сказать, чтобы в этом отеле не существовало внутренних правил, но, как и во многих других отелях в то время, надзор за выполнением правил не всегда был достаточно строг. Кто угодно мог войти через черный ход, попасть в вестибюль, и здесь его заметил бы портье. Помимо этого, никто особенно не следил за тем, кто входит или выходит.
Когда Дженни подошла к отелю, кругом было темно, горел только слабый свет в подъезде. До номера сенатора надо было лишь пройти немного по коридору второго этажа. Дженни побежала наверх; она была бледна от волнения, но больше ничто не выдавало бури, которая бушевала в ее душе. Подойдя к знакомой двери, она приостановилась: она и боялась, что не застанет Брэндера, и трепетала при мысли, что он может быть здесь. В стеклянном окошечке над дверью виднелся свет и, собрав все свое мужество, Дженни постучала. За дверью послышался кашель и движение.
Удивлению Брэндера, когда он открыл дверь, не было границ.
— Да это Дженни! — воскликнул он. — Вот чудесно! А я думал о вас. Входите, входите…
Он пылко обнял ее.
— Я собирался вас навестить. Я все время думал, как бы мне уладить дело. И вот вы пришли. Но что случилось?
Он отступил на шаг и всмотрелся в расстроенное лице Дженни. В ее красоте ему чудилась свежесть только что срезанных лилий, еще влажных от росы.
Бесконечная нежность волной прилила к его сердцу.
— У меня к вам просьба, — наконец с трудом вымолвила она. — Мой брат в тюрьме. Нам нужно внести за него десять долларов, и я не знала, куда еще пойти.
— Бедная моя девочка! — сказал он, грея ее озябшие руки. — Куда же вам еще идти? Ведь я просил, чтоб вы всегда обращались ко мне! Разве вы не знаете, Дженни, что для вас я все сделаю?
— Да, — задохнувшись, едва вымолвила она.
— Так вот, ни о чем больше не тревожьтесь. Но когда же судьба перестанет наконец осыпать вас ударами, бедняжка моя? Как ваш брат попал в тюрьму?
— Он сбрасывал уголь с платформы, и его поймали.
— А! — отозвался Брэндер с искренним сочувствием.
Юношу арестовали и присудили к штрафу за то, на что, в сущности, толкнула его сама жизнь. И эта девушка пришла к нему ночью умолять о десяти долларах, которые ей так необходимы; для нее это огромная сумма, для него — ничто.
— Не огорчайтесь, я все улажу, — быстро сказал он. — Через полчаса ваш брат будет свободен. Посидите здесь и отдохните, я скоро вернусь.
Он указал ей на кресло возле большой лампы и поспешно вышел из комнаты.
Брэндер знал шерифа, ведавшего окружной тюрьмой. Знал он и судью, приговорившего Себастьяна к штрафу. Потребовалось каких-нибудь пять минут, чтобы написать судье, прося его отменить наказание и не портить юноше будущее, и отослать записку с посыльным ему на квартиру. Еще десять минут понадобилось на то, чтобы самому отправиться в тюрьму и уговорить своего друга шерифа тут же выпустить Себастьяна.
— Вот деньги, — сказал Брэндер. — Если штраф будет отменен, вы вернете их мне. А теперь отпустите его.
Шериф охотно согласился. Он тут же пошел вниз, чтобы лично проследить за выполнением своего приказания, и изумленный Басс оказался на свободе. Его не удостоили никакими объяснениями.
— Все в порядке, — сказал тюремщик. — Ты свободен. Беги домой, да гляди не попадайся больше на таком деле.
Недоумевающий Басс отправился домой, а бывший сенатор вернулся к себе в отель, стараясь решить, как быть дальше. Положение щекотливое. Очевидно, Дженни обратилась к нему без ведома отца. Это была ее последняя надежда. И теперь она ждет у него в номере.
В жизни каждого человека бывают критические минуты, когда он колеблется между строгим соблюдением долга и справедливости и соблазном счастья, которого, кажется, можно бы достигнуть, — стоит лишь поступить не так, как должно. И граница между должным и недолжным далеко не всегда ясна. Брэндер понимал, что даже жениться на Дженни будет нелегко из-за бессмысленного упрямства ее отца. Другое препятствие — общественное мнение. Допустим, он женится на Дженни — что скажут люди? Она богато одаренная натура, способная сильно чувствовать, это он знал. В ней есть что-то поэтическое, какая-то душевная тонкость, недоступная пониманию толпы. Он и сам не совсем понимал, что это такое, но угадывал в девушке богатый внутренний мир, — а это увлекло бы кого угодно на месте Брэндера, хотя ум Дженни был еще неразвит и ей не хватало жизненного опыта. «Необыкновенная девушка», — думал Брэндер, мысленно вновь видя ее перед собой.
Обдумывая, как поступить дальше, он вернулся к себе. Войдя в комнату, он снова был поражен красотою девушки и ее неодолимым обаянием. В свете лампы, затененной абажуром, она показалась ему каким-то неведомым миру чудом.
— Ну вот, — сказал он, стараясь казаться спокойным. — Я похлопотал за вашего брата. Он свободен.
Дженни встала.
Она ахнула, всплеснула руками, потом шагнула к Брэндеру. Глаза ее наполнились слезами благодарности.
Он увидел эти слезы и подошел к ней совсем близко.
— Ради бога, не плачьте, Дженни, — сказал он. — Вы ангел! Вы — сама доброта! Подумать только, вы принесли так много жертв и вот теперь плачете!
Он притянул ее к себе, и тут всегдашняя осторожность ему изменила. Он чувствовал одно: сбывается то, о чем он так тосковал. Наконец-то после стольких удач судьба дарит ему то, чего он больше всего жаждал, — любовь, любимую женщину. Он обнял ее и целовал все снова и снова.
Английский писатель Джефрис сказал, что совершенная девушка появляется раз в полтораста лет. «Это сокровище создают все чары земли и воздуха. И южный ветер, что веет полтора столетия над полями пшеницы; и благоухание высоких трав, что качаются над тяжелыми медвяными головками клевера и над смеющимися цветами вероники, укрывают вьюрка и преграждают путь пчеле; и живые изгороди из розовых кустов, и молодая жимолость, и лазоревые васильки в золотящейся ниве, и тень зеленых елей. Вся прелесть лукавых ручейков, по берегам которых тянутся к солнцу ирисы; вся властная красота дремучих лесов; все дальние холмы, от которых веет дыханием тмина и свободы, — все это повторяется снова и снова сотни лет.
Лютики, колокольчики, фиалки; сиреневая весна и золотая осень; солнечный свет, проливные дожди и росистые утра; дивные ночи; снова и снова за сто лет повторяется весь круг беспрестанно текущего времени. Неписанная летопись, которую никому и не под силу написать: кто расскажет о лепестках розы, облетевших сто лет назад? Сотни раз возвращаются ласточки в свое гнездо под крышей, сотни раз! Но вот явилась она — и целый мир жаждет ее красоты, словно цветов, которых уже нет. В очаровании ее семнадцати лет заключены чары веков, Вот почему в вызванной ею страсти таится печаль».
Если вы поняли и оценили прелесть лесных колокольчиков, повторенную сотни раз, если розы, музыка, румяные рассветы и закаты когда-либо заставляли сильнее забиться ваше сердце; если вся эта красота мимолетна — и вот она дана вам в руки, прежде чем мир от вас ускользнул, — откажитесь ли вы от нее?
Глава VIII
Значение внешних и внутренних перемен, которые порою совершаются в нашей жизни, не всегда сразу нам ясно. Мы потрясены, испуганы — а потом как будто возвращаемся к прежнему существованию, но перемена уже совершилась. Никогда и нигде мы уже не будем прежними. Думая о неожиданной развязке ночной встречи с сенатором, к которой ее привело желание выручить брата, Дженни не могла разобраться в своих чувствах. Она очень смутно представляла себе, какие перемены и в общественном и в физиологическом смысле могут повлечь за собою ее новые взаимоотношения с Брэндером. Она не сознавала еще, каким потрясением, даже при самых благоприятных условиях, является для обыкновенной женщины материнство. Она ощущала удивление, любопытство, неуверенность и в то же время была искренне счастлива и безмятежна. Брэндер — хороший человек, теперь он стал ей ближе, чем когда-либо. Он ее любит. Их новые отношения неминуемо изменят и ее положение в обществе. Жизнь ее станет теперь совсем иной — уже стала иной. Брэндер снова и снова уверял ее в своей вечной любви.
— Говорю тебе, Дженни, ни о чем не тревожься, — повторял он, когда она уходила. — Страсть оказалась сильнее меня, но я на тебе женюсь. Иди домой и никому ничего не говори. Предупреди брата, если еще не поздно, сохрани все в тайне, и я женюсь на тебе и увезу тебя отсюда. Я не могу сделать это сейчас же. Мне не хочется делать это здесь. Но я поеду в Вашингтон и вызову тебя. И вот (он достал бумажник и вынул сто долларов — все, что у него было при себе) возьми это. Завтра я пришлю тебе еще. Ты теперь моя невеста, помни это. Ты — моя.
Он нежно обнял ее.
Дженни вышла в ночную тьму. Без сомнения, он сдержит слово. Мысленно она уже жила новой, восхитительной жизнью. Конечно, он на ней женится. Подумать только! Она поедет в Вашингтон, в этот далекий, незнакомый город. А отец и мать — им больше не придется так много работать. А Басс, а Марта… она сияла от радости, думая о том, как много она сможет для них сделать.
Пройдя квартал, она замедлила шаг, и ее нагнал Брэндер; он проводил Дженни до калитки ее дома и остановился, а она, осторожно осмотревшись, легко взбежала на крыльцо и потянула дверь. Дверь была не заперта. Дженни помедлила минуту, чтобы показать возлюбленному, что все в порядке, и вошла. В доме было тихо. Она пробралась в свою комнатку и услышала сонное дыхание Вероники. Потом бесшумно прошла в комнату, где спал Басс и Джордж. Басс лежал, вытянувшись на кровати и, казалось, спал. Но когда она вошла, он шепнул:
— Это ты, Дженни?
— Я.
— Где ты была?
— Послушай, — прошептала она, — ты видел папу и маму?
— Да.
— Они знают, что я уходила из дому?
— Мама знает. Она не велела мне про тебя спрашивать. Где ты была?
— Ходила к сенатору Брэндеру просить за тебя.
— А, вот оно что. Мне ведь не сказали почему меня выпустили.
— Никому ничего не говори, — умоляюще сказала Дженни. — Я не хочу, чтобы кто-нибудь узнал. Ты же знаешь, как папа к нему относится.
— Ладно, — сказал Басс.
Но ему любопытно было, что подумал бывший сенатор, что он сделал и как Дженни с ним говорила. Она коротко отвечала, и тут за дверью послышались шаги матери.
— Дженни, — шепотом позвала миссис Герхардт.
Дженни вышла к ней.
— Ах, зачем ты уходила?
— Я не могла иначе, мама. Должна же я была что-то сделать.
— Почему ты оставалась там так долго?
— Он хотел со мной поговорить, — уклончиво ответила Дженни.
Мать смотрела на нее полными тревоги, измученными глазами.
— Ай, я так боялась, так боялась! Отец пошел было в твою комнату, но я сказала, что ты уже спишь. Он запер входную дверь, но я опять ее отперла. Когда Басс пришел, он тоже хотел тебя видеть, но я уговорила его подождать до утра.
И она опять грустно посмотрела на дочь.
— Все хорошо, мамочка, — ободряюще сказала Дженни. — Завтра я тебе обо всем расскажу. А сейчас иди спать. Как папа думает, почему Басса выпустили?
— Он не знает. Думает, может быть, просто потому, что Бассу все равно не уплатить штрафа.
Дженни ласково обняла мать за плечи.
— Иди спать, — сказала она.
Она уже думала и поступала так, словно стала на много лет старше. Она чувствовала, что должна заботиться и о себе и о матери.
Следующие дни Дженни прожила как во сне. Все снова и снова она перебирала в памяти необычайные события того вечера. Не так уж трудно было рассказать матери, что сенатор опять говорил о свадьбе, что он хочет жениться на ней, когда вернется из Вашингтона, что он дал ей сто долларов и обещал дать еще, но совсем другое дело — то единственно важное, о чем она не могла заставить себя заговорить. Это было слишком свято. Обещанные деньги он прислал ей на другой же день с нарочным — четыреста долларов, которые он советовал положить на текущий счет в банк. Бывший сенатор сообщил, что он уже находится на пути в Вашингтон, но вернется или вызовет ее к себе. «Будь мужественна, — писал он. — Тебя ждут лучшие дни».
Брэндер уехал, и судьба Дженни поистине повисла на волоске. Но она сохранила еще всю наивность и простодушие юности; внешне она была совсем прежней, только появилась в ней какая-то мягкая задумчивость. Конечно, он вызовет ее к себе. Ей уже мерещились далекие края, удивительная, чудесная жизнь. У нее есть в банке немного денег, она никогда и не мечтала о таком богатстве, теперь она сможет помочь матери. Как всегда бывает с молодыми девушками, она все еще ждала только хорошего; иначе, быть может, ею скоро бы овладели тревожные предчувствия. Все ее существо, ее жизнь, будущее — все висело на волоске. Это могло кончиться и хорошо и плохо, но для такого неискушенного создания зло становится очевидным лишь тогда, когда оно уже свершилось.
Как можно среди такой неопределенности сохранить душевное спокойствие — это одно из чудес, разгадка которых в прирожденной доверчивости всякого юного существа. Не часто бывает, чтобы зрелый человек сохранил свои юношеские представления. И ведь чудо не в том, что кто-то их сохранил, а в том, что все их утрачивают. Обойди весь мир — что останется в нем, когда отойдут в прошлое нежность и наивность юности, на все смотрящей широко раскрытыми, изумленными глазами? Несколько зеленых побегов, что порою появляются в пустыне наших будничных интересов, несколько видений солнечного лета, мелькнувших перед взором охладелой души, краткие минуты досуга среди непрестанного тяжкого труда — все это приоткрывает перед усталым путником вселенную, которая всегда открыта молодой душе. Ни страха, ни корысти; просторы полей и озаренные светом холмы; утро, полдень, ночь; звезды, птичьи голоса, журчанье воды — все это дается в дар душе ребенка. Одни называют это поэзией, другие, черствые души, — пустой выдумкой. В дни юности все это было понятно и им, но чуткость юности исчезла — и они уже неспособны видеть.
Новые переживания Дженни проявлялись лишь в задумчивой грусти, сквозившей во всем, что бы она ни делала. Порою она удивлялась, что письма от Брэндера все нет, но тут же вспоминала, что он говорил о нескольких неделях, и потому полтора месяца, уже прошедшие со дня их разлуки, не казались такими долгими.
Тем временем достопочтенный экс-сенатор весело отправился на свидание с президентом, потом окунулся в приятную светскую жизнь, — и как раз собирался навестить своих друзей в Мэриленде, но тут легкая простуда вынудила его просидеть несколько дней взаперти. Он был раздосадован, что именно теперь ему пришлось слечь в постель, но вовсе не подозревал в своем недомоганий ничего серьезного. Потом врач обнаружил у него тяжелую форму брюшного тифа, некоторое время он был без сознания и очнулся сильно ослабевшим. Казалось, он выздоравливает, но ровно через полтора месяца после его разлуки с Дженни с ним случился внезапный паралич сердца, и все было кончено. Дженни оставалась в счастливом неведении, не подозревая о его болезни, и даже не видела напечатанного жирным шрифтом сообщения о его смерти, пока вечером Басс не принес домой газету.
— Смотри-ка, Дженни, — громко сказал он. — Брэндер умер!
Он протянул ей газету, на первой странице которой было напечатано:
СМЕРТЬ БЫВШЕГО СЕНАТОРА БРЭНДЕРА
Внезапная кончина славного сына штата Огайо. Скончался от паралича сердца в отеле «Арлингтон», в Вашингтоне.
Недавно он перенес тиф и, по мнению врачей, уже находился на пути к выздоровлению, но болезнь оказалась роковой. Важнейшие вехи его незаурядной карьеры…
Дженни, безмерно потрясенная, смотрела на эти строки.
— Умер? — воскликнула она.
— Ну да, видишь, напечатано, — сказал Басс тоном человека, принесшего чрезвычайно интересную новость. — Умер сегодня в десять утра.
Глава IX
Едва скрывая дрожь, Дженни взяла газету и вышла в соседнюю комнату. Она встала у окна и снова посмотрела на эти строки, вся оцепенев от невыразимого ужаса. «Он умер», — вот все, что она могла сейчас понять, а из соседней комнаты до нее доносился голос Басса, сообщавшего о случившемся отцу. «Да умер», — услышала она и снова попыталась представить себе, что же это значит для нее. Но рассудок отказывался ей служить.
Через минуту к ней подошла миссис Герхардт. Она слышала слова Басса и видела, как Дженни вышла из комнаты, но, помня столкновения с мужем из-за сенатора, побоялась обнаружить свои чувства. У нее никогда не возникло ни малейшего подозрения о том, что произошло между дочерью и сенатором, и сейчас ей просто хотелось посочувствовать Дженни в час крушения ее надежд.
— Как это печально, правда? — сказала она с искренним огорчением. — Надо же было, чтоб он умер как раз теперь, когда хотел столько сделать для тебя и для всех нас.
Она замолчала, ожидая ответа, но Дженни словно онемела.
— Не горюй, — продолжала миссис Герхардт, — тут уж ничем не поможешь. Он хотел многое сделать, но теперь не надо об этом думать. Все кончено, и ничего нельзя изменить, ты же сама понимаешь.
Она опять замолчала, а Дженни оставалась все такой же немой и неподвижной. Видя бесполезность уговоров, миссис Герхардт решила, что Дженни хочет побыть одна, и вышла из комнаты.
А Дженни все стояла у окна и понемногу начинала понимать, что сулит ей эта новость, как безвыходно и непоправимо ее положение. Она пошла в спальню, присела на край кровати и увидела в маленьком зеркале напротив бледное, искаженное от горя лицо. Дженни растерянно смотрела — неужели это она? «Придется уехать», — подумала она и с мужеством отчаяния стала мысленно подыскивать себе убежище.
Тем временем настал час ужина, и, чтобы соблюсти приличия, она присоединилась к остальным; ей было нелегко вести себя как всегда. Герхардт заметил, что она подавлена, но не подозревал всей глубины скрывавшегося за этим отчаяния. Басс же был слишком занят собственными делами, чтобы обращать внимание на кого бы то ни было.
В последующие дни Дженни обдумывала свое трудное положение и спрашивала себя, что делать. Правда, деньги у нее есть; но ни друзей, ни опыта, ни прибежища. Она всегда жила с родителями. Порою она испытывала непонятный упадок духа, какие-то бесформенные и безымянные страхи преследовали ее. Раз поутру она почувствовала неодолимое желание расплакаться, и потом это чувство нередко охватывало ее в самые неподходящие минуты. Миссис Герхардт стала это замечать и однажды решила расспросить дочь.
— Скажи, что с тобой? — ласково заговорила она. — Ты должна все рассказать своей матери, Дженни.
Дженни, которой казалось совершенно невозможным сказать правду, наконец, не выдержала и, уступив мягким настояниям матери, сделала роковое признание. Миссис Герхардт оцепенела от горя и долго не могла вымолвить ни слова.
— Ах, это все моя вина, — сказала она наконец, охваченная раскаянием. — Я должна была понять. Но мы сделаем все, что сможем.
Тут она не выдержала и разрыдалась.
Немного погодя она опять взялась за прерванную стирку и, согнувшись над корытом, продолжала плакать. Слезы катились по ее щекам и капали в мыльную пену. Изредка она утирала их фартуком, но они снова и снова наполняли глаза.
После первых страшных минут пришло острое сознание неотвратимой беды. Что сделает Герхардт, если узнает правду? Он не раз говорил, что если когда-нибудь одна из его дочерей поступит, как поступают иные, он выгонит ее на улицу. «Ноги ее не будет больше в моем доме!» — кричал он.
— Я так боюсь отца, — часто говорила в эту пору миссис Герхардт дочери. — Что-то он скажет…
— Может быть, мне лучше уехать? — предлагала Дженни.
— Нет, — отвечала мать, — пока ему ничего не надо знать. Погоди немного.
Но в глубине души она понимала, что роковой день все равно скоро наступит.
Однажды, когда тревожная неизвестность стала для нее невыносима, миссис Герхардт услала из дому Дженни и остальных детей, надеясь, что до их возвращения сумеет все сказать мужу. С самого утра она суетилась, со страхом ожидая удобной минуты, а после обеда, так ни слова и не сказав, предоставила мужу лечь спать. Днем она не пошла на работу, потому что не могла уйти, не исполнив своего мучительного долга. В четыре часа Герхардт проснулся, а она все еще колебалась, хоть и прекрасно понимала, что Дженни скоро вернется и тщательно подготовленная возможность будет упущена. Должно быть, она так и не набралась бы мужества, если бы Герхардт сам не заговорил о Дженни.
— Она плохо выглядит, — сказал он. — Похоже, с ней что-то неладно.
— Ах, — начала миссис Герхардт, с усилием преодолевая страх и решив непременно довести дело до конца, — с Дженни беда. Не знаю, что и делать. Она…
Герхардт, который в эту минуту разбирал дверной замок, чтобы починить его, поднял голову и подозрительно посмотрел на жену.
— Что такое? — спросил он.
Миссис Герхардт стала в волнении скручивать жгутом фартук. Она старалась собрать все свое мужество и объяснить, но силы ей изменили; она закрылась фартуком и заплакала.
Герхардт посмотрел на нее и встал. Он был немного похож на Кальвина — худое, болезненно-желтое лицо, словно потускневшее от возраста и работы под открытым небом, в дождь и ветер. В минуты удивления или гнева глаза его вспыхивали. В волнении он то и дело откидывал волосы со лба и начинал шагать взад и вперед по комнате; сейчас видно было, что он встревожен и вот-вот вспылит.
— О чем это ты говоришь? — резко спросил он по-немецки. — Беда… неужели кто-нибудь… — он не договорил и угрожающе поднял руку. — Почему ты молчишь?
— Я никогда не думала, что с ней может случиться такое, — заговорила испуганная миссис Герхардт, пытаясь все же высказать свою мысль. — Она всегда была хорошей девочкой. Ах, — закончила она, — подумать только, что он погубил Дженни…
— Проклятье! — в порыве бешенства крикнул Герхардт. — Так я и знал! Брэндер! Ха! Ваш благородный джентльмен! Вот к чему привело, что ты позволяла ей бегать по вечерам, кататься в колясках, разгуливать по улицам. Так я и знал. Боже правый!
Произнося этот трагический монолог, он стал метаться по тесной комнате из угла в угол, как зверь в клетке.
— Погубили! — восклицал он. — Погубили! Ха! Так он ее погубил, вот оно что?
Вдруг он остановился, как марионетка, которую дернули за веревочку. Он стоял перед миссис Герхардт, а она отступила к столу у стены и ждала, побледнев от страха.
— Но ведь он умер! — крикнул он, словно это впервые пришло ему в голову. — Умер!
Он смотрел на жену, сжав ладонями виски, словно боялся, что голова не выдержит, — злая ирония случившегося жгла его как огонь.
— Умер! — повторил он, и миссис Герхардт, опасаясь за его рассудок, отступила еще дальше; искаженное лицо мужа сейчас ужасало ее сильней, чем причина его отчаяния.
— Он хотел жениться на Дженни, — жалобно сказала она. — Если б он не умер, он женился бы на ней.
— Женился бы! — закричал Герхардт, выведенный из оцепенения звуком ее голоса. — Женился бы! Нашла чем утешиться! Женился бы! Негодяй! Собака! Чтоб душе его вечно гореть в адском огне? Господи, дай, чтобы… чтобы… ох, если б только я не был христианином…
Он стиснул кулаки, весь дрожа от ярости.
Миссис Герхардт зарыдала; муж отвернулся — он был слишком потрясен, чтобы ей сочувствовать. Он опять стал ходить по кухне взад и вперед; пол дрожал под его тяжелыми шагами. Немного погодя Герхардт снова подошел к жене, — теперь страшная истина предстала перед ним в новом свете.
— Когда это случилось? — спросил он.
— Не знаю, — ответила миссис Герхардт, слишком испуганная, чтобы сказать правду. — Я сама только на днях все узнала.
— Лжешь! — крикнул он. — Ты всегда ей потакала. Это ты виновата, что она до этого дошла. Если б ты не мешала мне и все шло бы по-моему, нам теперь не пришлось бы так мучиться.
«До чего дошло! — продолжал он про себя. — До чего дошло! Мой сын попадает в тюрьму. Моя дочь шляется по улицам и дает повод к сплетням. Соседи говорят мне в лицо, что мои дети ведут себя неприлично. А теперь этот мерзавец ее погубил. Господи, да что же это стряслось с моими детьми!»
— И за что мне такое наказание, — бормотал он, охваченный жалостью к самому себе. — Я ли не стараюсь быть добрым христианином! Каждый вечер я молюсь, чтоб господь указал мне путь истинный, но все напрасно. Работаю, работаю… Вот они, мои руки, все в мозолях. Всю жизнь я старался быть честным человеком. И вот… вот…
Голос его сорвался, казалось, он сейчас расплачется. И вдруг в порыве гнева он накинулся на жену.
— Это ты во всем виновата! — кричал он. — Ты одна! Если б ты поступала, как я велел, ничего бы не случилось. Так нет же, ты меня не слушала. Пускай она убирается вон! вон! вон!!! Потаскушка, вот кто она такая! Теперь ей одна дорога — в ад. И пускай туда и отправляется. Я умываю руки. Хватит с меня.
Он повернулся, собираясь уйти в свою крохотную спальню, но, не дойдя до двери, остановился.
— Пускай убирается вон! — повторил он в бешенстве. — Ей нет места в моем доме! Сегодня же! Сейчас же! Я больше ее на порог не пущу. Я ей покажу, как меня позорить!
— Не гони ее сегодня, — умоляла миссис Герхардт. — Ей некуда идти.
— Нет, сегодня же! — сказал он, и на его суровом лице отразилась непреклонная решимость. — Сию минуту! Пускай ищет себе другой дом. Этот ей был не по вкусу. Так вот, пускай убирается. Посмотрим, каково ей будет у чужих.
И он вышел из комнаты.
В половине шестого, когда миссис Герхардт, заливаясь слезами, стала готовить ужин, вернулась Дженни. Мать вздрогнула, услыхав стук двери: она знала, что сейчас грянет буря. Отец встретил Дженни на пороге.
— Прочь с глаз моих! — сказал он в ярости. — Чтоб духу твоего не было в моем доме! Не попадайся мне больше на глаза. Вон!
Дженни стояла перед ним бледная, дрожащая, и молчала. Дети, вернувшиеся вместе с нею, окружили ее изумленные и испуганные. Вероника и Марта, нежно любившие сестру, заплакали.
— В чем дело? — спросил Джордж, совершенно ошарашенный.
— Пускай убирается, — повторил Герхардт. — Я не желаю терпеть ее в своем доме. Хочет быть потаскушкой — ее дело, но пускай убирается отсюда. Собирай свои вещи, — прибавил он, взглянув на дочь.
Дженни не промолвила ни слова, но дети заплакали еще громче.
— Молчать! — прикрикнул Герхардт. — Ступайте на кухню.
Он выпроводил их из комнаты и вышел сам, даже не обернулся.
Дженни тихо прошла к себе в комнату. Она собрала свои скудные пожитки и стала со слезами укладывать их в принесенную матерью корзинку. Девичьи безделушки, которых у нее набралось немного, она не взяла с собою. Они попались ей на глаза, но она подумала о младших сестрах и оставила их на прежнем месте. Марта и Вероника хотели помочь ей уложить вещи, но отец их не пустил. В шесть часов пришел домой Басс и, застав все встревоженное семейство на кухне, осведомился, в чем дело.
Герхардт хмуро посмотрел на него и не ответил.
— В чем дело? — настаивал Басс. — Чего ради вы тут сидите?
— Отец выгнал Дженни из дому, — со слезами шепнула миссис Герхардт.
— За что? — изумился Басс.
— Я тебе скажу, за что, — откликнулся по-немецки Герхардт. — За то, что она потаскушка, вот за что. Дошла до того, что ее совратил человек на тридцать лет старше ее, который ей в отцы годился. Пускай теперь выпутывается как знает. И чтоб духу ее здесь не было!
Басс огляделся, дети широко раскрыли глаза. Все, даже самые маленькие, чувствовали, что случилось что-то ужасное. Но один только Басс понял, в чем дело.
— Чего ради ты гонишь ее на ночь глядя? — спросил он. — Сейчас не время девушке быть на улице. Разве нельзя подождать до утра?
— Нет, — сказал Герхардт.
— Напрасно ты это, — вставила мать.
— Пускай уходит сейчас же, — сказал Герхардт, — и чтоб больше я об этом не слышал.
— Куда же она пойдет? — допытывался Басс.
— Не знаю, — беспомощно сказала миссис Герхардт.
Басс еще раз оглядел все, но ни слова не сказал: немного погодя мать воспользовалась минутой, когда Герхардт отвернулся, и глазами указала на дверь.
«Иди в комнату», — означал ее взгляд.
Басс вышел, а затем и миссис Герхардт осмелилась отложить работу и последовать за сыном. Дети посидели еще немного в кухне, потом один за другим и они ускользнули, оставив отца в одиночестве. Когда, по его мнению, прошло достаточно времени, он тоже поднялся.
Тем временем мать поспешно давала дочери необходимые наставления.
Пусть Дженни поселится где-нибудь в скромных меблированных комнатах и сообщит свой адрес. Басс сейчас не выйдет вместе с нею, но пускай она отойдет в сторону и подождет его на улице — он ее проводит. Когда отец будет на работе, мать навестит ее, или пусть Дженни придет домой. Все остальное можно отложить до следующей встречи.
Не успели они договориться, как в комнату вошел Герхардт.
— Уйдет она или нет? — резко спросил он.
— Сейчас, — ответила миссис Герхардт, и в голосе ее в первый и единственный раз прозвучал вызов.
— Что за спешка? — сказал Басс.
Но отец так грозно нахмурился, что он не решился больше возражать.
Вошла Дженни в своем единственном хорошем платье, с корзинкой в руках. Глаза ее смотрели испуганно, ибо она понимала, что ее ждет суровое испытание. Но теперь она стала взрослой женщиной. Она обрела силу в любви, опору — в терпении и познала великую сладость жертвы. Молча она поцеловала мать, слезы катились по ее щекам. Потом она повернулась и вышла навстречу новой жизни, и дверь закрылась за нею.
Глава X
В мире, куда в такую трудную для нее пору была брошена Дженни, добродетель всегда, с незапамятных времен, тщетно отстаивала свое право на существование; ибо добродетель — это способность желать людям добра и делать им добро. Добродетель — это великодушие, с радостью готовое служить всем и каждому, но общество не слишком дорожит этим качеством. Оцените себя дешево — вами станут пренебрегать, станут топтать вас ногами. Цените себя высоко, хотя бы и не по заслугам — и вас будут уважать. Общество в целом на редкость плохо разбирается в людях. Единственный его критерий — «что скажут другие». Единственное его мерило — чувство самосохранения. Сохранил ли такой-то свое состояние? Сохранил ли такой-то свою чистоту? Как видно, лишь очень редкие люди способны порою высказать самостоятельное суждение.
Дженни и не пыталась ценить себя высоко. У нее была врожденная склонность к самопожертвованию. Вовсе не просто было бы привить ей житейское себялюбие, которое помогает уберечься от зла.
В минуты высшего напряжения всего заметней растет человек. Он ощущает мощный прилив сил и способностей. Мы еще дорожим, еще опасаемся сделать неверный шаг, но мы растем. Нами руководят вспышки вдохновения. Природа никого не отвергает. Если среда или общество от нас отворачиваются, мы все же остаемся в содружестве со всем сущим. Природа великодушна. Ветер и звезды — твои друзья. Будь только добр и чуток — и ты постигнешь эту великую истину; быть может, она дойдет до тебя не в сложившихся формулах, но в ощущении радости и покоя, которое в конечном счете и составляет суть познания. В покое обретешь мудрость.
Едва Дженни отошла от двери, ее нагнал Басс.
— Дай-ка мне корзинку, — сказал он и, видя, что она от волнения не может выговорить ни слова, прибавил: — Я, кажется, знаю, где найти тебе комнату.
Он повел ее в южную часть города, где их никто не знал, к одной старухе, недавно купившей в рассрочку стенные часы в магазине, в котором Басс теперь работал. Он знал, что она нуждается в деньгах и хочет сдать комнату.
— Ваша комната еще свободна? — спросил он эту женщину.
— Да, — ответила она, разглядывая Дженни.
— Может быть, вы сдадите ее моей сестре? Мы переезжаем в другой город, а она пока не может ехать.
Старуха согласилась, и скоро Дженни обрела временное пристанище.
— Ты не расстраивайся, — сказал Басс, искренне огорченный за сестру. — Все утрясется. И мама сказала, чтоб ты не расстраивалась. Приходи завтра домой, когда отец уйдет на работу.
Дженни обещала прийти; Басс сказал ей еще несколько ободряющих слов, договорился со старухой, что Дженни будет столоваться у нее, и распрощался.
— Ну вот, все в порядке, — сказал он уже в дверях. — Все будет хорошо. Не расстраивайся. Мне пора идти, а утром я к тебе забегу.
Он ушел, и неприятные мысли не слишком его тревожили: ведь он считал, что сестра и в самом деле виновата. Это было ясно из того, как он расспрашивал ее дорогой, хоть и видел, что она грустна и растеряна.
— Чего ради ты на это пошла? — допытывался он. — Ты хоть раз подумала, что делаешь?
— Пожалуйста, не спрашивай меня сейчас, — сказала Дженни и тем самым положила конец его настойчивым расспросам.
Ей нечем было оправдываться и не на что жаловаться. Если уж кто и виноват, так именно она. Беда, в которую попал сам Басс и вовлек семью, и самопожертвование Дженни — все было забыто.
Оставшись одна в новом, чужом месте, Дженни дала волю отчаянию. Пережитое потрясение, стыд, что ее выгнали из родного дома, — все это было уж слишком: она не выдержала и разрыдалась. Правда, от природы она была терпелива и не любила жаловаться, но внезапное крушение всех надежд сломило ее. Что же это за сила, которая может вихрем налететь на человека и сокрушить его? Почему так внезапно врывается смерть и разбивает вдребезги все, что казалось самым светлым и радостным в жизни?
Думая о прошлом, Дженни припоминала все подробности своего знакомства с Брэндером и, как ни велико было ее горе, не чувствовала к нему ничего, кроме любви и нежности. В конце концов он не хотел нарочно причинить ей зло. Он и в самом деле был добр и великодушен. Это был по-настоящему хороший человек, и, думая прежде всего о нем, она искренне оплакивала его безвременную смерть.
В таких неутешительных размышлениях прошла ночь, а с утра по дороге на работу забежал Басс и сказал, что мать вечером ждет Дженни. Отца не будет дома, и они смогут обо всем поговорить. Дженни провела долгий, тягостный день, но к вечеру настроение у нее поднялось, и в четверть восьмого она пошла к своим.
Дома ее ждали не слишком радостные вести. Герхардт все еще охвачен неистовым гневом. Он решил в ближайшую же субботу отказаться от места и уехать в Янгстаун. Теперь в любом городе будет лучше, чем в Колумбусе; здесь он никогда больше не сможет смотреть людям в глаза. С Колумбусом для него теперь связаны самые невыносимые воспоминания. Он уедет отсюда и, если найдет работу, выпишет к себе семью, — а это значит, что надо будет расстаться со своим домиком. Все равно ему не уплатить по закладной, на что нечего надеяться.
Через неделю Герхардт уехал, Дженни вернулась домой, и на некоторое время их жизнь опять вошла в прежнюю колею, но, конечно, ненадолго.
Басс это понимал. Беда, случившаяся с Дженни, и ее возможные последствия угнетали его. В Колумбусе оставаться немыслимо. В Янгстаун переезжать не стоит. Уж если им всем надо куда-то ехать, так лучше в какой-нибудь большой город.
Размышляя над создавшимся положением, Басс подумал, что стоит попытать удачи в Кливленде, где, как он слышал, промышленность бурно развивается. Если ему там повезет, остальные смогут переехать к нему. И если отец будет по-прежнему работать в Янгстауне, а вся семья переберется в Кливленд, то Дженни не окажется на улице.
Басс не сразу пришел к этому выводу, но наконец сообщил о своем намерении.
— Хочу поехать в Кливленд, — сказал он как-то вечером матери, когда она подавала ужин.
— Зачем? — спросила миссис Герхардт, растерянно глядя на сына. Она побаивалась, что Басс их бросит.
— Думаю, что найду там работу, — ответил он. — Незачем нам оставаться в этом паскудном городишке.
— Не ругайся, — с упреком сказала мать.
— Да ладно, — отмахнулся он. — Тут кто угодно начнет ругаться. Нам здесь всегда не везло. Я поеду, и, если найду работу, вы все переберетесь ко мне. Нам будет лучше в таком месте, где нас никто не знает. А тут добра не жди.
Миссис Герхардт слушала, и в сердце ее пробудилась надежда, что им наконец станет хоть немного легче жить. Если бы только Басс сделал, как говорит. Вот бы он поехал и нашел работу, помог бы ей, как должен помогать матери здоровый и умный сын! Как было бы хорошо! Их подхватило стремительным потоком и несет к пропасти. Неужели ничто их не спасет?..
— А ты думаешь, что найдешь работу? — с живостью спросила она.
— Должен найти, — ответил Басс. — Еще не было такого случая, чтоб я добивался места и не получил. Некоторые ребята уже уехали в Кливленд и отлично устроились. Миллеры, к примеру.
Он сунул руки в карманы и поглядел в окно.
— Как ты думаешь, проживете вы тут, пока я там не устроюсь? — спросил он.
— Думаю, что проживем. Папа сейчас работает, и у нас есть немного денег, которые… которые…
Она не решилась назвать источник, стыдясь положения, в котором они оказались.
— Да, конечно, — мрачно сказал Басс.
— До осени нам ничего не надо платить, а тогда все равно придется все бросить, — прибавила миссис Герхардт.
Она говорила о закладной на дом; срок очередного платежа наступит в сентябре, и уплатить они, конечно, не смогут.
— Если нам до тех пор удастся переехать в другой город, я думаю, мы как-нибудь проживем.
— Так я и сделаю, — решительно сказал Басс. — Поеду.
Итак, в конце месяца он отказался от места и на следующий же день уехал в Кливленд.
Глава XI
Дальнейшие события в жизни Дженни принадлежат к числу тех, на которые наша современная мораль накладывает строжайший запрет.
Некоторые законы матери-природы, великой и мудрой созидательной силы, творящей свое дело во тьме и в тиши, иным ничтожествам, также созданным ею, кажутся весьма низменными. Мы брезгливо отворачиваемся от всего, что связано с зарождением жизни, словно открыто интересоваться этим недостойно человека.
Любопытно, что такое чувство возникло в мире, самое существование которого состоит в том, чтобы без конца снова и снова рождать новую жизнь, в мире, где ветер, вода, земля и солнечный свет — все служит рождению плоти — рождению человека. Но хотя не только человек, а и вся земля движима инстинктом продолжения рода и все земное является на свет одним и тем же путем, почему-то существует нелепое стремление закрывать на это глаза и отворачиваться, словно в самой природе есть что-то нечистое. «Зачаты в пороке и рождены во грехе» — вот противоестественное толкование, которое дает ханжа законам природы, и общество молчаливо соглашается с этим поистине чудовищным суждением.
Несомненно, такой взгляд на вещи в корне неправилен. В повседневные представления человека должно бы прочнее войти то, чему учит философия, к чему приходит биология: в природе нет низменных процессов, нет противоестественных состояний. Случайное отклонение от устоев и обычаев данного общества ни обязательно есть грех. Ни одно несчастное существо, нарушившее по воле случая установленный людьми порядок, нельзя винить в той безмерной низости, какую неумолимо приписывает ему мнение света.
Дженни пришлось теперь воочию убедиться в превратном толковании того чуда природы, которое, если бы не смерть Брэндера, было бы священно и почиталось бы одним из высших проявлений жизни. Хотя она и не могла понять, чем отличается этот столь естественный и жизненный процесс от всех других, но окружающие заставляли ее чувствовать, что ее удел — падение и что ее состояние — грех и порождено грехом. Все это едва не убило любовь, внимание и заботливость, которых впоследствии люди потребуют от нее по отношению к ее ребенку. Эта созревающая естественная и необходимая любовь едва ли не стала казаться злом. Дженни не повели на эшафот, не бросили в тюрьму, как карали подобных ей несколько веков назад, но невежество и косность окружающих мешали им видеть в ее состоянии что-либо, кроме подлого и злонамеренного нарушения законов общества, а это каралось всеобщим презрением. Ей оставалось лишь избегать косых взглядов и молча переживать происходившую в ней великую перемену. Как ни странно, она не испытывала напрасных угрызений совести, бесплодных сожалений. Сердце ее было чисто, на душе легко и спокойно. Правда, горе не забылось, но оно утратило прежнюю остроту — осталась только смутная неуверенность и недоумение, от которых порою глаза Дженни наполнялись слезами.
Слыхали ли вы воркованье лесной горлинки в тиши летнего дня; случалось вам набрести на неведомый ручеек, который журчит и лепечет в глуши, где ничье ухо не может его услышать? Под мертвой прошлогодней листвой, под снежным покровом распускаются скромные подснежники, словно откликаясь весенней синеве неба. Так зарождается и новая жизнь.
Дженни осталась одна, но, как лесная горлинка, она вся была ласковой песней лета. Она хлопотала по хозяйству и спокойно, безропотно ждала завершения того, что в ней происходило и для чего она служила в конце концов всего лишь священным сосудом. В часы досуга она предавалась мирному раздумью, словно завороженная чудом жизни. Когда же ей приходилось особенно много хлопотать, помогая матери, Дженни порой начинала тихонько напевать, потому что за работой легче было забыться. И всегда она смотрела в будущее спокойно, с ясным и бестрепетным мужеством. Далеко не все женщины на это способны. Жаль, что природа вообще позволяет ничтожным натурам становиться матерями. Женщины, достойные так называться, достигнув зрелости, радуются материнству и с гордостью и удовлетворением выполняют свой великий долг перед родом человеческим.
Дженни, по возрасту почти еще ребенок, физически и духовно была уже взрослой женщиной, но еще не имела ясного представления о жизни и о своем месте в ней. Необычайный случай, который привел ее к теперешнему ненормальному положению, был в известном смысле данью ее достоинствам. Он подтверждал ее мужество, отзывчивость, готовность жертвовать собою ради того, что она считала своим долгом. И если это привело к неожиданным последствиям, возложившим на нее новую, более тяжкую и сложную ответственность, — это произошло потому, что инстинкт самосохранения был в ней не столь силен, как другие чувства. Подчас она думала о предстоящем рождении ребенка со страхом и смущением, опасаясь, что когда-нибудь он упрекнет ее; но всегда спасительное сознание извечной справедливости бытия не давало ей окончательно пасть духом. Она думала, что люди не могут быть намеренно жестоки. В ней жило смутное представление о божественной доброте и любви. Жизнь прекрасна и в худшие и в лучшие часы ее, и всегда была прекрасна.
Эти мысли пришли к ней не сразу, а в долгие месяцы ожидания. Как чудесно быть матерью, даже и в таких тяжелых условиях! Дженни чувствовала, что полюбит своего ребенка и будет ему хорошей матерью, если только жизнь позволит. Но в том-то и вопрос: позволит ли жизнь?
Надо было многое сделать, сшить все необходимое для ребенка, позаботиться о собственном здоровье, о питании. Притом Дженни все время боялась, как бы вдруг не вернулся отец; но этого не случилось. Обратились к старому врачу, который всегда лечил семейство Герхардтов от всех болезней, — к доктору Элуонгеру, и он дал несколько дельных и здравых советов. Догмы религии не помешали этому сыну лютеранской церкви стать великодушным врачом и на основе долголетнего опыта прийти к выводу, что есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам и не укладывается в наши мелкие, обывательские представления о жизни.
— Так, так, — сказал он, когда миссис Герхардт рассказала ему о случившейся беде. — Ну, не горюйте. Такие вещи случаются чаще, чем вы думаете. Если бы вы знали о жизни и о ваших соседях столько же, сколько знаю я, вы не стали бы плакать. Ваша дочка прекрасно это перенесет. У нее отменное здоровье. А потом она может куда-нибудь уехать, и никто ничего не узнает. Стоит ли огорчаться из-за того, что скажут соседи? Это не такой редкий случай, как вам кажется.
Миссис Герхардт вздохнула с облегчением. Какой он умный, этот доктор. Его слова немного подбодрили ее. А Дженни выслушала его с интересом и без страха. Она думала не о себе, но о ребенке и непременно хотела выполнить все, что было велено. Врач полюбопытствовал, кто отец ребенка; услышав ответ, он поднял глаза к небу.
— Что и говорить, — сказал он, — ребенок должен быть замечательный.
Наконец настал час, когда младенцу надлежало появиться на свет. Принимал его доктор Элуонгер, ему помогала миссис Герхардт, которая будучи матерью шестерых детей, в точности знала, что надо делать. Все прошло благополучно; услышав первый крик новорожденного, Дженни всем существом потянулась к нему. Ее ребенок! Это была крошечная девочка, — слабая, беспомощная, она так нуждалась в материнской заботе. Когда ребенка выкупали и запеленали, Дженни с трепетом, с бесконечной радостью поднесла его к груди. Ее дитя, ее дочка! Дженни жаждала жить и работать для нее, и даже сейчас, совсем слабая, радовалась, что вообще-то здоровье у нее крепкое. Доктор Элуонгер предсказывал, что она быстро оправится. Он считал, что ей придется провести в постели никак не больше двух недель. И в самом деле, уже через десять дней она была на ногах, бодрая и крепкая, как всегда. Дженни была от природы сильная и здоровая, она обладала всеми качествами, которые нужны настоящей матери.
Решительный час миновал, и жизнь пошла почти по-старому. Сестры и братья, кроме Басса, были слишком молоды, чтобы понять толком, что произошло, и поверили, когда им сказали, будто Дженни вышла замуж за сенатора Брэндера, который вскоре после этого внезапно умер. Они ничего не знали о ребенке, пока он не родился. Миссис Герхардт боялась соседей, которые всегда за всем следили и все знали. Дженни ни за что не выдержала бы этой обстановки, если бы Басс, который незадолго перед тем устроился в Кливленде, не написал ей, что, как только она совсем окрепнет, вся семья должна переехать к нему и начать новую жизнь. В Кливленде дела процветают. Уехав из Колумбуса, они никогда больше не встретятся с нынешними своими соседями, и Дженни сможет найти себе какую-нибудь работу. А пока что она оставалась дома.
Глава XII
В ту пору, когда Басс попал в Кливленд, город рос не по дням, а по часам, и это зрелище сразу восстановило душевное равновесие юноши, пробудило надежду поправить и свои дела и дела семьи. «Лишь бы они приехали, — думал он. — Лишь бы им найти работу, тогда все пойдет как надо». Здесь ничто не говорило о постигших семью новых несчастьях, не было знакомых, которые одним своим видом напоминали бы о несчастьях более давних. Все насыщено было деятельностью, энергией. Казалось, стоит лишь повернуть за угол, чтобы избавиться от минувших дней и минувших провинностей. В каждом новом квартале открывался новый мир.
Басс быстро нашел место в табачном магазине и, прослужив там месяца полтора, стал писать домой, излагая свои радужные планы. Дженни должна приехать, как только сможет, а потом, когда она найдет работу, за ней последуют и остальные. Для девушек ее возраста работы сколько угодно. Временно она может поселиться вместе с ним, или, может быть, удастся снять домик из тех, что сдаются за пятнадцать долларов в месяц. Тут есть большие мебельные магазины, где можно купить все необходимое в рассрочку на вполне приемлемых условиях. Мать станет вести хозяйство. Они будут жить в своем новом окружении, никто не будет их знать и сплетничать про них. Они начнут жизнь сначала и станут порядочными, почтенными, преуспевающими людьми.
Охваченный мечтами и надеждами, какие всегда волнуют молодого, неискушенного человека на новом месте, среди новых людей. Басс наконец написал Дженни, чтобы она выезжала немедленно. К этому времени ее ребенку исполнилось полгода. Здесь есть театры, писал Басс, красивые улицы. Пароходы с озер заходят в самый центр города. Кливленд — удивительный город, и он очень быстро растет. Это больше всего нравилось Бассу в его новой жизни.
Все это произвело на миссис Герхардт, Дженни и остальных членов семейства необычайное впечатление. Миссис Герхардт слишком тяжело переживала последствия проступка Дженни и теперь стояла за то, чтобы немедленно последовать совету Басса. От природы она была так жизнерадостна и чужда унынию, что сейчас совсем увлеклась лучезарными перспективами жизни в Кливленде и уже видела осуществленной свою заветную мечту не только об уютном домике, но и о блестящем будущем детей. «Конечно они найдут работу», — говорила она. Басс прав. Ей всегда хотелось, чтобы муж переехал в какой-нибудь большой город, но он отказывался. А теперь это необходимо, и они поедут и заживут благополучно, как никогда.
И Герхардт присоединился к ее мнению. В ответ на письмо жены он написал, что с его стороны было бы неразумно отказаться от места, но если, по мнению Басса, они могут устроиться в Кливленде, то, пожалуй, пусть переезжают. Он тем охотнее принимал этот план, что его чуть не до безумия доводили тревожные мысли о том, как прокормить семью и уплатить просроченные долги. Каждую неделю он откладывал из своей получки пять долларов и посылал их жене. Три доллара он тратил на еду и пятьдесят центов оставлял на мелкие расходы: на церковные сборы, на горсть табаку да изредка — на кружку пива. Кроме того, он завел копилку и каждую неделю откладывал полтора доллара на черный день. Жилищем ему служил голый, неуютный угол на фабричном чердаке. До девяти часов вечера Герхардт одиноко сидел у ворот фабрики, глядя на пустынные, глухие улицы, а потом взбирался на чердак; здесь в удушливом запахе машинного масла, подымающемся из нижних этажей, при свете сальной свечи, старик все также одиноко заканчивал свой день: читал немецкую газету, задумывался, скрестив руки на груди, а потом в темноте опускался на колени у открытого окна и, помолясь на сон грядущий, вытягивался на своем жестком ложе. Дни тянулись бесконечно долго, будущее казалось унылым и безотрадным. И все же, возведя руки к небесам, он с безграничной верой молился о том, чтобы ему простились его грехи и дано было еще несколько лет покоя и счастья в кругу семьи.
Итак, важнейший вопрос был наконец решен. Дети изнывали от нетерпения, и миссис Герхардт втайне разделяла их чувства. Дженни должна была выехать первой, как и предлагал Басс; за нею двинутся в Кливленд и остальные.
Когда настал час отъезда Дженни, все разволновались.
— Ты скоро нас выпишешь к себе? — снова и снова спрашивала Марта.
— Скажи Бассу, чтоб поскорее, — требовал Джордж.
— Хочу в Кливленд, хочу в Кливленд! — напевала Вероника, когда думала, что ее никто не слышит.
— Ишь ты, чего захотела, — насмешливо воскликнул Джордж, услыхав эту песенку.
— А тебе-то что? — обиженно сказала девочка.
Но когда настали минуты прощания, Дженни должна была призвать на помощь все свое мужество. Хотя это делалось для того, чтобы они поскорее могли опять зажить все вместе и лучше прежнего, она невольно пала духом. Ей приходилось расставаться со своей шестимесячной дочуркой. Впереди ждал огромный, неведомый мир, и он пугал ее.
— Не тревожься, мамочка, — сказала она, собравшись с силами. — Все будет хорошо. Я напишу тебе, как только приеду. Это будет очень скоро.
Но когда надо было в последний раз взглянуть на ребенка, мужество Дженни угасло, как спичка на ветру. Склонившись над колыбелью, она со страстной нежностью смотрела в лицо дочурки.
— Ты ведь будешь хорошей девочкой? — повторяла она.
Потом схватила ребенка на руки, крепко прижала к груди и прильнула лбом к крошечному тельцу. Миссис Герхардт увидела, что она вся дрожит.
— Ну-ну, не надо так волноваться, — стала она уговаривать Дженни, — малышке будет хорошо со мной. Я сумею о ней позаботиться. Если ты будешь так расстраиваться, лучше вовсе не ехать.
Дженни подняла голову и передала девочку матери; ее голубые глаза были влажны.
— Не могу удержаться, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы.
Потом торопливо поцеловала мать, сестер и братьев и выбежала из комнаты.
Шагая по улице рядом с Джорджем, она обернулась и весело махнула рукой. Миссис Герхардт помахала в ответ и при этом подумала, что Дженни теперь с виду совсем взрослая. Перед ее отъездом часть денег пришлось истратить на новое платье, потому что иначе ей не в чем было ехать. И теперь на ней был изящный коричневый костюм, который очень ей шел, белая блузка и соломенная шляпа с белой вуалью, которую можно было опустить на лицо, Она уходила все дальше, а миссис Герхардт провожала ее взглядом, полным бесконечной любви; и когда Дженни скрылась из виду, мать с нежностью сказала сквозь слезы:
— Во всяком случае, я очень рада, что она так мило выглядит.
Глава XIII
Басс встретил Дженни на вокзале в Кливленде и тотчас же бодро заговорил о будущем.
— Первым делом надо найти работу, — начал он, а сестра, оглушенная шумом и звоном, одурманенная непривычным, насыщенным резкими запахами воздухом большого промышленного города, растерялась и уже ничего не видела и не слышала. — Надо найти тебе какое-нибудь место, — продолжал Басс. — Все равно какое, лишь бы найти. Даже если ты будешь получать хоть доллара четыре в неделю, этого уже хватит, чтоб платить за квартиру. Да еще Джордж начнет зарабатывать, когда приедет, да папа посылает, так что мы отлично проживем. Куда лучше, чем в этой жалкой дыре — в Колумбусе!
— Да, — неопределенно отвечала Дженни; она была до того захвачена новизной окружающего, что никак не могла заставить себя сосредоточиться на этой важной теме. — Да, понимаю. Я что-нибудь подыщу.
Она стала много старше, если не годами, то разумом. Испытание, которое ей только что пришлось пережить, помогло ей яснее понять, какую большую ответственность возлагает на нее жизнь. Она непрестанно думала о матери — о матери и о детях. В частности, надо постараться, чтобы Марта и Вероника устроили свою жизнь лучше, чем она. Нужно их лучше одевать; они должны окончить школу; пусть у них будет больше друзей, больше возможности расширить свой кругозор и свои знакомства.
Кливленд, как и всякий молодой, растущий город в те годы, был переполнен людьми, ищущими работы. То и дело открывались новые предприятия, но свободных рабочих рук было всегда больше, чем требовалось. Новому человеку, приехавшему в город, могло в тот же день подвернуться какое угодно место; но случалось и так, что приезжий бродил в поисках работы долгие недели и даже месяцы. Басс предложил Дженни прежде всего попытать счастья в лавках и универсальных магазинах. А уж если там не выйдет, тогда можно поступить на фабрику или еще куда-нибудь.
— Но только не упускай случая, если что подвернется, — предупредил он. — Бери сейчас же, какое место не предложат.
— А что мне говорить? — озабоченно спросила Дженни.
— Говори, что хочешь получить работу. Что тебе все равно, с чего начинать.
Дженни в первый же день попробовала последовать наставлениям брата и в награду получила несколько ледяных отказов. Куда бы она ни обращалась, нигде видимо, не нуждались в новых служащих. Она заходила в магазины, на фабрики, в мелкие мастерские, которых было множество на окраинах, но всюду ей указывали на дверь. Наконец она стала искать места прислуги, хоть и очень надеялась, что ей не придется прибегнуть к этому последнему средству. Внимательно читая объявления в газетах, она выбрала четыре, показавшиеся ей наиболее подходящими, и пошла по этим адресам. Одно место было уже занято, когда она пришла, но лицо Дженни произвело такое впечатление на даму, которая открыла ей дверь, что та предложила ей войти и стала расспрашивать.
— Жаль, что вы не пришли немного раньше, — сказала она. — Вы мне больше нравитесь, чем девушка, которую я наняла. На всякий случай оставьте мне ваш адрес.
Дженни ушла, улыбаясь, обрадованная этим приветливым приемом. Она теперь уже не казалась такой юной, как прежде, до постигших ее испытаний; лицо ее осунулось, глаза немного запали, и это придавало всему ее облику еще большую задумчивость и нежность. Она была образцом аккуратности. В опрятном, только что выстиранном и выглаженном платье она казалась такой свежей и привлекательной. Она еще не перестала расти, но видно было, что это уже не девочка, а двадцатилетняя женщина. А главное, у Дженни был счастливый характер, и, несмотря на тяжелую работу и лишения, она никогда не теряла бодрости. Для всякого, кому требовалась служанка или компаньонка, она была бы поистине находкой.
Наконец она направилась в большой особняк на авеню Эвклида; он показался ей слишком роскошным, — едва ли здесь могли понадобиться ее услуги, но, раз уж она пришла, следовало попытаться. Слуга, открывший дверь, предложил ей немного подождать, а затем провел ее на второй этаж, в будуар хозяйки дома — миссис Брейсбридж. Эта дама, приятная брюнетка того типа, что часто встречается в светском обществе, недурно разбиралась в женской красоте и сразу оценила внешность Дженни. Она поговорила с молодой женщиной и решила взять ее на испытание в качестве горничной.
— Я буду платить вам четыре доллара в неделю, и вы можете жить здесь, если хотите, — сказала миссис Брейсбридж.
Дженни объяснила, что она живет у брата, а вскоре к ним приедет и вся семья.
— Ну что ж, — заметила хозяйка, — устраивайтесь как вам удобнее. Только утром являйтесь вовремя.
Она пожелала, чтобы новая горничная сейчас же приступила к своим обязанностям, и Дженни согласилась. Миссис Брейсбридж распорядилась, чтобы Дженни дали изящную наколку и фартучек, и вкратце объяснила, что от нее требуется. Горничная прежде всего должна ухаживать за хозяйкой, причесывать ее, помогать одеваться. Она должна также открывать дверь, когда позвонят, в случае необходимости прислуживать за столом и вообще исполнять все поручения хозяйки. Будущей горничной показалось, что миссис Брейсбридж несколько сурова и суховата, но при всем том Дженни была восхищена ее энергией и властными манерами.
В восемь часов вечера Дженни сказали, что на сегодня она свободна. Она спрашивала себя, неужели действительно ее сочли подходящей горничной для такого большого, богатого дома, и была в восторге от того, что так замечательно устроилась. Хозяйка поручила ей для начала почистить драгоценности и безделушки, украшавшие будуар, и хотя Дженни работала усердно и прилежно, она не успела сделать все до восьми часов. Она спешила вернуться домой, радуясь, что сейчас скажет брату, какое место она нашла. Теперь мать может приехать в Кливленд. Теперь ее дочурка будет с нею. Теперь они в самом деле заживут по-новому, и эта новая жизнь будет гораздо легче, лучше и радостнее прежней.
По предложению Басса Дженни написала матери, чтобы та приезжала немедленно, а примерно через неделю они подыскали и сняли подходящий домик. Миссис Герхардт с помощью детей уложила нехитрые домашние пожитки, в том числе мебель, которая вся уместилась в одном фургоне, и через две недели они поселились в новом жилище.
Миссис Герхардт всегда так хотелось жить в хорошем, уютном доме. Прочная и красивая мягкая мебель, толстый ковер приятного теплого цвета, много стульев, кресел, картины, кушетки, пианино — всю жизнь она мечтала об этих прекрасных вещах, но у нее никогда не было возможности осуществить свои мечтая. И все же она не отчаивалась. Быть может, когда-нибудь на своем веку она еще насладится всем этим. Пожалуй, вот теперь счастье ей улыбнется.
Приехав в Кливленд и увидев веселую, сияющую Дженни, миссис Герхардт совсем воспрянула духом. Басс заверил ее, что они отлично проживут всей семьей. Он отвез их к себе, а потом велел Джорджу вернуться на вокзал и привезти багаж. От денег, которые сенатор Брэндер прислал Дженни, у миссис Герхардт еще оставалось пятьдесят долларов — на это можно купить в рассрочку кое-какую недостающую мебель. Басс уже внес квартирную плату за месяц вперед, а Дженни последние вечера только и делала, что мыла полы и окна, и навела в новом доме идеальную чистоту. Теперь, в первый вечер, у них было два новых матраца и ватные одеяла, разостланные на безукоризненно чистом полу; новая лампа, купленная в магазине по соседству; ящик, который Дженни заняла в бакалейной лавке для хозяйственных надобностей и который пока что служил миссис Герхардт креслом; на ужин и на завтрак был хлеб и немного колбасы. До девяти часов они сидели и строили планы на будущее, потом все, кроме Дженни и миссис Герхардт, улеглись спать. А мать с дочерью продолжали беседовать, причем решающее слово принадлежало Дженни. Мать теперь чувствовала себя в какой-то мере зависимой от нее.
За неделю весь дом привели в порядок, купили кое-что из мебели, ковер и необходимую кухонную утварь. Досаднее всего было то, что пришлось купить печку — еще один большой расход. Младшие дети поступили в школу, но было решено, что Джордж должен найти работу. Дженни и миссис Герхардт болезненно переживали всю несправедливость этой жертвы, но не знали, как ее избежать.
— Постараемся, чтоб он учился в будущем году, — сказала Дженни.
Как ни благополучно, по-видимому, начиналась новая жизнь, но доходы семьи едва покрывали расходы, и равновесие бюджета вечно было под угрозой. Басс, сперва исполненный великодушия, вскоре объявил, что достаточно, если он будет давать в общий котел четыре доллара — за комнату и за питание. Дженни отдавала весь свой заработок и уверяла, что ей ничего не нужно, лишь бы за ее девочкой был должный уход. Джордж нашел место рассыльного в магазине, получал два с половиной доллара в неделю и первое время охотно отдавал их матери. Позже было решено по справедливости оставлять ему пятьдесят центов на мелкие расходы. Герхардт, по-прежнему одиноко трудившийся вдали от семьи, присылал почти пять долларов, всякий раз напоминая, что необходимо понемногу откладывать деньги для уплаты старых долгов в Колумбусе, до сих пор лежащих на его совести. Итак, общий доход равнялся пятнадцати долларам в неделю, и на эти деньги нужно было кормить и одевать всю семью, платить за квартиру, покупать уголь и ежемесячно вносить по три доллара за купленную в рассрочку мебель, стоившую пятьдесят долларов.
Как это делать? Пусть люди обеспеченные, часто и охотно рассуждающие о том, что такое бедность с социальной точки зрения, дадут себе труд поискать ответа на этот вопрос. Только квартирная плата, уголь и освещение поглощали кругленькую сумму — двадцать долларов в месяц; на еду — еще одна, к сожалению, неизбежная статья расхода — уходило двадцать пять долларов; на одежду, взносы за мебель, всякие сборы, необходимые лекарства и тому подобное должно было хватить остающихся пятнадцати долларов, а каким образом — это пусть подскажет обеспеченному читателю его пылкое воображение. Так или иначе, концы сводились с концами, и пока что Герхардты были полны надежд и полагали, что им живется превосходно.
В ту пору их семейство могло служить достойным примером скромного и честного трудолюбия. Миссис Герхардт, которая работала, как служанка, и не получала ни малейшего вознаграждения — ни платьев, ни развлечений, ни чего-либо другого, — каждое утро подымалась чуть свет, когда все еще спали, разводила огонь и принималась готовить завтрак. В тонких, истоптанных шлепанцах, в которые приходилось вкладывать газетную бумагу (иначе они сваливались с ног), она неслышно двигалась по комнате и нередко, с бесконечной нежностью глядя на спящих крепким сном Дженни, Басса и Джорджа, от всего сердца желала, чтобы им не приходилось вставать так рано и работать так тяжело. Порою, прежде чем разбудить свою любимицу Дженни, мать всматривалась в ее усталое, бледное лицо, такое спокойное во сне, и горько жалела, что судьба обошлась с нею так жестоко. Потом ласково дотрагивалась до плеча спящей и шепотом звала ее по имени, пока Дженни не просыпалась.
Когда дети поднимались, завтрак был уже готов. Когда они вечером возвращались домой, их ждал ужин. Миссис Герхардт никого из детей не обделяла вниманием и заботой. С маленькой внучки она не спускала глаз. Она уверяла, что ей самой не нужно ни платьев, ни обуви, — ведь кто-нибудь из детей всегда может пойти и выполнить любое ее поручение.
Из всех детей одна Дженни до конца понимала мать и, нежно любя ее, всеми силами старалась ей помочь.
— Мамочка, дай я сделаю.
— Оставь, мамочка, я сама об этом позабочусь.
— Посиди, отдохни, мамочка.
В этих простых словах выражалась бесконечная любовь, связывавшая Дженни с матерью. Они всегда прекрасно понимали друг друга, и чем дальше, тем полней и глубже становилось это понимание. Дженни было невыносимо думать, что мать, словно пленница, не может выйти за порог. Весь день за работой она думала о бедном домике, где та хлопочет и трудится. Как бы хотелось Дженни дать ей отдых и скромный уют, которого мать всегда так жаждала!
Глава XIV
За то время, пока Дженни служила у Брейсбриджей, кругозор ее стал много шире. Этот великолепный дом оказался для нее школой, где она не только училась одеваться и держать себя, но и получала уроки житейской мудрости. Миссис Брейсбридж и ее супруг были люди сверхсовременные, воплощение самоуверенности, безупречного вкуса по части обстановки, умения одеваться по последней моде, принимать гостей и держаться в обществе по всем правилам самого хорошего тона. То и дело, без всякого повода, если не считать собственной прихоти, миссис Брейсбридж в кратких афоризмах излагала свою философию.
— Жизнь — это борьба, дорогая моя. Если хочешь что-нибудь получить, надо за это драться.
— По-моему, очень глупо не воспользоваться любым средством, которое поможет тебе сделать карьеру и добиться своего. (Это она сказала, слегка подкрашивая губы.)
— Почти все люди глупы от рождения. Они живут, как того заслуживают, и ни на что лучшее не годятся. Презираю недостаток вкуса, это — самое большое преступление.
Большинство этих мудрых наставлений не было обращено к Дженни. Но, нечаянно услыхав их, она не могла не задуматься. Словно семена, упавшие в добрую почву, они пустили ростки. У нее стало складываться некоторое представление об общественной лестнице, о власти. Быть может, высокое положение и не для нее, но оно существует на свете, и, если судьба улыбнется человеку, можно подняться ступенькой выше. Дженни работала и все думала, как ей добиться лучшей доли. Кто захочет жениться на ней, зная о ее прошлом? Как она объяснит существование ребенка?
Ребенок, ее ребенок — самое главное, самое захватывающее, постоянный источник радости и страха. Сможет ли она хоть когда-нибудь сделать свою дочку счастливой?
Первая зима прошла довольно гладко. Благодаря строжайшей экономии дети были одеты и ходили в школу, за квартиру и за мебель удавалось платить вовремя. Только раз возникла угроза мирному течению их жизни — когда отец написал, что приедет на Рождество домой. Фабрика должна была на это короткое время закрыться, и, естественно, Герхардту не терпелось посмотреть, как живет его семья в Кливленде.
Миссис Герхардт от души обрадовалась бы мужу, если бы не боялась, что он устроит скандал. Дженни говорила об этом с матерью, та, в свою очередь, обсудила все с Бассом, и он посоветовал не робеть.
— Не беспокойся, — сказал он, — отец ничего не сможет сделать. А если он что-нибудь скажет, я сам с ним потолкую.
Сцена произошла неприятная, но все же не столь тяжелая, как боялась миссис Герхардт. Муж приехал днем, когда Басс, Дженни и Джордж были на работе. Двое из младших детей встретили его на вокзале. Когда он вошел в дом, миссис Герхардт нежно обняла его, с дрожью думая в то же время, что сейчас все неминуемо откроется. Ей не пришлось долго ждать. Через несколько минут Герхардт заглянул в спальню. На кровати, застланной белым покрывалом, спала хорошенькая девочка. Он тотчас понял, что это за ребенок, но сделал вид, будто не знает.
— Чья это? — спросил он.
— Дочка Дженни, — робко сказала миссис Герхардт.
— Давно она здесь?
— Не очень, — волнуясь, ответила мать.
— И та, надо думать, тоже здесь, — [зажил] он, не желая даже назвать дочь по имени.
— Она работает в услужении, — вступилась за Дженни миссис Герхардт. — Она теперь так хорошо себя ведет. Ей некуда больше деться. Не тронь ее.
Живя вдали от семьи, Герхардт кое-что понял. Среди размышлений на религиозные темы у него возникали странные, непонятные мысли и чувства. В своих молитвах он признавался всевышнему, что напрасно поступил так с дочерью. Но он не решил еще, как обращаться с нею в дальнейшем. Она совершила тяжкий грех, от этого никуда не уйдешь.
Вечером, когда Дженни вернулась домой, уже нельзя было избежать встречи. Герхардт увидел ее из окна и притворился, будто с головой ушел в газету. Жена, прежде умолявшая его хотя бы взглянуть на Дженни, теперь дрожала от страха, как бы он словом или жестом не оскорбил дочь.
— Вот она идет, — сказала миссис Герхардт, заглянув в столовую, где он сидел, но Герхардт даже не поднял головы. — Скажи ей хоть слово, — успела она еще попросить, прежде чем отворилась дверь, но он не ответил.
Когда Дженни вошла в дом, мать шепнула ей:
— Отец в столовой.
Дженни побледнела, прижала палец к губам и остановилась в нерешимости. Как быть?
— Он видел?..
И замолкла, поняв по лицу матери, что отец уже знает о ребенке.
— Иди, не бойся, — сказала миссис Герхардт. — Он ничего не скажет.
Дженни наконец подошла к двери, увидела отца, на лбу которого прорезались морщины — знак глубокого раздумья, но не гнева, — и, мгновение поколебавшись, вошла в комнату.
— Папа, — вымолвила она и остановилась, не в силах продолжать.
Герхардт поднял голову, его серовато-карие глаза пытливо смотрели из-под густых светло-рыжих ресниц. При виде дочери что-то в нем дрогнуло; но он заслонился своей непреклонностью как щитом и ничем не показал, что рад видеть Дженни. В нем происходила отчаянная борьба между условной, общепринятой моралью и естественным отцовским чувством, но, как это часто бывает с недалекими людьми, сила условностей временно взяла верх.
— Что? — сказал он.
— Ты не простишь меня, папа?
— Прощаю, — хмуро отозвался Герхардт.
Дженни на миг замялась, потом шагнула к нему — он прекрасно понял, зачем.
— Ну, все, — сказал он, слегка отстраняя ее, едва она коснулась губами его небритой щеки.
Холодна была их встреча.
Когда Дженни после этого горького испытания вышла на кухню и встретила вопросительный взгляд матери, она попыталась объяснить, что все как будто сошло благополучно, но ей не удалось скрыть свои чувства.
«Вы помирились?» — хотела спросить мать, но не успела и слова сказать, как дочь опустилась на стул подле кухонного стола, уронила голову на руки и судорожно, беззвучно зарыдала.
— Тише, тише, — сказала миссис Герхардт. — Не надо плакать. Что он тебе сказал?
Дженни не сразу успокоилась настолько, чтобы ответить. Мать попыталась ее подбодрить.
— Не огорчайся, — сказала она. — Отец всегда так. А потом все уладится.
Глава XV
После приезда Герхардта встали во весь рост все проблемы, связанные с ребенком. Герхардт поневоле должен был склониться к точке зрения, естественной для деда: ведь ребенок — тоже человек, живая душа. Он спрашивал себя, окрестили ли девочку. Потом осведомился об этом вслух.
— Нет еще, — ответила жена, которая не забыла об этом священном долге, но не была уверена, примут ли ее внучку в лоно церкви.
— Ну, конечно, нет еще! — фыркнул Герхардт; он был не слишком высокого мнения о набожности жены. — Экая беззаботность! Экое безверие! Прекрасно, нечего сказать!
После недолгого раздумья он решил, что зло необходимо исправить немедленно.
— Ребенка надо окрестить, — сказал он. — Почему она этого не сделала?
Миссис Герхардт напомнила ему, что кто-то должен быть крестным отцом; к тому же, чтобы окрестить девочку, неминуемо надо будет признаться, что у нее нет законного отца.
Выслушав это, Герхардт умолк на несколько минут, но не такова была его вера, чтобы подобные затруднения могли заставить его забыть о своем долге. Как посмотрит господь на такие увертки? Это не по-христиански, и Герхардт обязан позаботиться о том, чтобы исправить дело. Дженни немедленно должна отнести ребенка в церковь и окрестить, а он и жена будут крестными; или, пожалуй, не стоит оказывать дочери такое снисхождение — он просто позаботится, чтобы ребенка окрестили без нее. Он обдумал это трудное положение и, наконец, решил, что крестины должны состояться в какой-нибудь ближайший будничный день, между Рождеством и Новым годом, когда Дженни будет на работе. Он предложил это жене и, получив ее одобрение, высказал еще одну мысль, которая его заботила:
— У девочки нет имени.
Дженни тоже говорила об этом с матерью и сказала, что ей нравится имя Веста. Теперь миссис Герхардт осмелилась сама это предложить.
— Может, назовем ее Вестой?
Герхардт выслушал жену с полным равнодушием. Втайне он уже сделал выбор. У него было про запас имя, сохранившееся в памяти со времен юности, хотя почему-то он не назвал так ни одну из собственных дочерей: Вильгельмина. Разумеется, он и не думал ни о каких нежностях в отношении к внучке. Просто это хорошее имя, и девочка должна быть за него благодарна. С рассеянным и недовольным видом Герхардт возложил свой первый дар на алтарь родственной любви, ибо в конце концов это был дар.
— Недурно, — сказал он, забывая о своем равнодушии. — А может быть, назвать ее Вильгельминой?
Миссис Герхардт не посмела ему перечить, раз уж он невольно смягчился. Женский такт выручил ее.
— Можно дать ей оба имени, — сказала она.
— Мне все едино, — ответил Герхардт, вновь уходя в свою скорлупу, из которой вылез, сам того не заметив. — Важно, чтоб ее окрестили.
Дженни с радостью услыхала об всем этом, так как ей непременно хотелось добиться для своей девочки всех возможных преимуществ, будь то в отношении религии или в любом другом. Она положила немало труда на то, чтобы образцово накрахмалить и выгладить платьице и все, во что надо было нарядить дочку в назначенный день.
Герхардт отыскал лютеранского священника из ближайшего прихода — большеголового, коренастого служителя церкви, педанта и формалиста — и изложил ему свою просьбу.
— Это ваша внучка? — спросил священник.
— Да, — сказал Герхардт. — Ее отца здесь нет.
— Так, — произнес священник, с любопытством глядя на собеседника.
Но Герхардта было нелегко сбить с толку. Он объяснил, что девочку принесут крестить он и его жена. Священник, догадываясь, в чем затруднительность положения, не стал больше расспрашивать.
— Церковь не может отказать в крещении, поскольку вы, как дед, изъявляете желание стать крестным отцом ребенка, — сказал он.
Герхардт ушел, болезненно ощущая, что тень позора пала и на него, но в то же время ему приятно было сознание исполненного долга. Теперь он отнесет девочку в церковь, ее окрестят, и тогда с него снимется всякая ответственность.
Но, когда настал час крещения, оказалось, что какая-то новая сила вызывает в нем еще больший интерес к ребенку и чувство еще большей ответственности. Он снова слышал заповеди суровой религии, утверждающей высший закон, — заповеди, которые скрепили когда-то его связь с родными детьми.
— Намерены ли вы воспитать это дитя в духе евангельской любви? — спрашивал священник в черном облачении; Герхардт и его жена стояли перед ним в маленькой тихой церковке, куда они принесли ребенка, и он задавал вопросы, какие полагаются по обряду, Герхардт сказал: «Да», — и миссис Герхардт также ответила утвердительно.
— Обязуетесь ли вы с должным тщанием и усердием наставлять ее на путь истинный примером и строгостью, беречь ее от всякого зла и научить повиноваться воле божьей, как о сем сказано в священном писании?
Герхардт слушал, и вдруг в мозгу его молнией блеснула мысль о том, что произошло с его детьми. Их тоже вот так крестили. Они тоже слышали его торжественное обещание заботиться об их праведности… Он молчал.
— Да, обязуемся, — подсказал священник.
— Да, обязуемся, — покорно повторил Герхардт и его жена.
— Предаете ли вы обрядом крещения судьбу этого младенца в руки господа, который даровал ему жизнь?
— Да.
— И, наконец, если вы готовы по совести заявить пред богом, что вера ваша крепка и обеты ваши нерушимы и приняты в сердце вашем, подтвердите это пред лицом господа, сказав: да.
— Да, — повторили они.
— Крещается младенец Вильгельмина-Веста, во имя отца и сына и святого духа, — закончил священник, простирая руки над ребенком. — Помолимся.
Герхардт склонил свою седую голову и стал набожно повторять про себя слова молитвы.
Слушая эти торжественные слова, он ощущал великую ответственность за крошечное отверженное создание, лежащее в руках его жены, почувствовал, что должен заботиться о внучке, что он за нее в ответе перед самим богом. Он благоговейно склонил голову, и, когда все кончилось и они вышли из церкви, у него не нашлось слов, чтобы выразить свои чувства. Он веровал истово и горячо. Бог был для него живым существом, высшей реальностью. Религия — это не только занимательные мысли, речи, которые выслушиваешь по воскресеньям, но могучее, живое выражение божественной воли, унаследованное от тех времен, когда люди находились в личном, непосредственном общении с богом. В исполнении ее заветов Герхардт видел отраду и спасение, единственное утешение для существа, посланного скитаться в сей юдоли, смысл чего будет открыт нам не здесь, но в небесах. Герхардт медленно шел по улице, размышлял над священными словами, слышанными и произнесенными им в церкви, и над обязанностями, которые они на него налагали, — и последняя тень отвращения, владевшего им, когда он шел с ребенком в церковь, исчезла, уступив место совершенно естественной нежности. Как бы тяжко ни согрешила его дочь, дитя ни в чем не повинно. Это беспомощное, слабое, хнычущее создание требовало от него заботы и любви. Герхардт чувствовал, что сердце его рвется к малютке, но он не мог так сразу сдать все свои позиции.
— Прекрасный человек, — сказал он о священнике, шагая рядом с женой и быстро смягчаясь под влиянием мыслей о своем новом долге.
— Да, правда, — робко согласилась миссис Герхардт.
— И церковь хорошая, — продолжал он.
— Да.
Герхардт посмотрел по сторонам, на дома, на улицу, такую оживленную в этот солнечный зимний день, и, наконец, на девочку, которую несла жена.
— Она, наверное, тяжелая, — сказал он по-немецки. — Дай-ка ее мне.
Усталая миссис Герхардт согласилась.
— Ну вот! — сказал он, взглянув на девочку и прислоняя ее головку к своему плечу, чтобы ей было удобнее. — Будем надеяться, что она окажется достойной всего, что было сделано для нее сегодня.
И миссис Герхардт хорошо поняла, что звучало в его голосе. Присутствие этого ребенка в доме, быть может, еще не раз послужит поводом для тяжких переживаний и резких слов, но другая, более могущественная сила будет сдерживать Герхардта. Он всегда будет помнить о душе девочки. Он никогда больше не откажется от заботы о ней.
Глава XVI
Последние дни, которые Герхардт провел в Кливленде, он словно робел в присутствии Дженни и старался делать вид, что не замечает ее. Когда наступило время отъезда, он уехал, не простясь с нею и поручив жене сделать это за него; потом, по дороге в Янгстаун, он об этом пожалел. «Надо было с ней попрощаться», — думал он в поезде под грохот колес. Но было уже слишком поздно.
А жизнь семьи шла своим чередом. Дженни продолжала служить у миссис Брейсбридж. Себастьян прочно обосновался в табачном магазине приказчиком. Джорджу повысили жалованье до трех долларов, а потом даже до трех с половиной. Это было нелегкое, скучное и однообразное существование. Уголь, еда, обувь и одежда были главной темой разговоров; все выбивались из сил, стараясь свести концы с концами.
Чуткую Дженни тяготило множество забот, но больше всего тревожилась она о своем будущем — и не столько из-за себя, сколько из-за дочурки и всех родных. Она не представляла себе, что ее ждет. «Кому я нужна?» — снова и снова спрашивала она себя. Как поступить с ребенком, если кто-нибудь ее полюбит? А это вполне могло случиться. Дженни была молода, красива, и мужчины охотно ухаживали за нею, вернее, пытались ухаживать. У Брейсбриджей бывало много гостей, и некоторые пробовали приставать к хорошенькой горничной.
— Деточка, да вы просто прелесть, — заявил ей один старый повеса лет пятидесяти с лишком, когда однажды утром она пришла к нему по поручению хозяйки.
— Прошу прощения, — сказала она, смущаясь и краснея.
— Право же, вы очаровательны. И незачем просить у меня прощения. Я хотел бы как-нибудь с вами потолковать.
Он попытался потрепать ее по щеке, но Дженни увернулась и поспешила уйти. Она хотела рассказать об этом хозяйке, но стыд удержал ее. «Почему мужчины всегда так себя ведут?» — думала она. Быть может, в ней самой от природы есть что-то порочное, какая-то внутренняя испорченность, привлекающая испорченных людей?
Любопытная черта беззащитных натур: они — как для мух горшок с медом, им никогда ничего не дают, но берут у них много. Мягкий, уступчивый, бескорыстный человек всегда становится добычей толпы. Люди издали чуют его доброту и беззащитность. Для обыкновенных мужчин такая девушка, как Дженни, словно огонек, около которого можно погреться: они тянутся к ней, добиваются ее расположения, стремятся ею завладеть. Вот почему многие досаждали ей своими любезностями.
Однажды к Брейсбриджам приехал из Цинциннати некий Лестер Кейн, сын владельца большой фабрики экипажей, хорошо известной в самом Цинциннати и по всей стране. Лестер Кейн нередко навещал Брейсбриджей; особенно дружен он был с миссис Брейсбридж, которая выросла в Цинциннати и девочкой часто бывала в доме его отца. Она хорошо знала мать Лестера, его брата и сестер и всегда была у Кейнов своим человеком.
— Знаешь, Генри, завтра приезжает Лестер, — сказала миссис Брейсбридж мужу в присутствии Дженни. — Я сегодня получила от него телеграмму. Вот бездельник! Я устрою его наверху, в большой восточной комнате. Будь к нему повнимательнее. Не забывай, что его отец всегда был очень добр ко мне.
— Помню, — спокойно сказал муж. — Лестер мне нравится. Он самый интересный и умный в семье. Только слишком равнодушен ко всему. Ничто его не трогает.
— Да, но он очень милый. Самый милый человек из всех наших знакомых.
— Я буду вести себя вполне прилично. Кажется, я всегда был любезен с твоими друзьями?
— Да, очень.
— Ну, то-то же, — суховато заметил муж.
Дженни приготовилась увидеть человека необыкновенного и не ошиблась. В гостиную вошел и поздоровался с хозяйкой мужчина лет тридцати шести, выше среднего роста, атлетически сложенный, с высоко поднятой головой, ясными глазами и упрямым подбородком. У него был удивительно сильный и звучный голос — и знакомые и незнакомые невольно к нему прислушивались. Говорил этот человек просто и кратко.
— Добрый день, — начал он, здороваясь с хозяйкой дома. — Рад опять вас видеть. Как поживает мистер Брейсбридж? Как Фанни?
Вопросы звучали живо и дружески, миссис Брейсбридж отвечала так же тепло.
— Я очень рада вам, Лестер, — сказала она. — Джордж отнесет ваши вещи наверх. Пойдемте в мою комнату, там уютнее. Как здоровье дедушки и Луизы?
Он пошел за нею вверх по лестнице, и Дженни, которая стояла на площадке, прислушиваясь, сразу почувствовала его обаяние. Ей казалось — она сама не знала почему, — что явился поистине замечательный человек. Весь дом словно повеселел. Хозяйка стала несравненно любезнее и приветливее. Всем хотелось угодить гостю.
Дженни продолжала работать, но не могла отделаться от впечатления, которое произвел на нее гость; она повторяла про себя его имя. Лестер Кейн. Из Цинциннати. Она то и дело украдкой на него поглядывала, — впервые в жизни ее так заинтересовал незнакомый человек. Он был такой статный, красивый, сильный. Хотелось бы ей знать, чем он занимается. И в то же время он немного пугал ее. Раз она поймала на себе его настойчивый, проницательный взгляд. Она внутренне вздрогнула и при первой возможности вышла из комнаты. В другой раз он хотел с нею заговорить, но она сделала вид, что очень занята, и поспешила уйти. Часто она, и не глядя в его сторону, знала, что он смотрит на нее, и ощущала неясную тревогу. Ей хотелось бежать от него, хотя для этого не было никакой видимой причины.
И этот человек, чье богатство, воспитание и положение в обществе ставили его гораздо выше Дженни, тоже невольно заинтересовался необыкновенной девушкой. Как и многих других, его привлекала ее удивительная женственность и мягкость. Было в ней что-то, обещавшее редкую, чудесную любовь. И он чувствовал, что ее нетрудно покорить, хотя и не понимал, почему. То, что она пережила, никак не отразилось на ее внешности. В ее поведении не было ни малейших признаков кокетства, и все же Кейн чувствовал: успех обеспечен. Он готов был попытать счастья теперь же, но дела заставили его уже через четыре дня уехать из Кливленда; он отсутствовал три недели. Дженни думала, что он больше не вернется, и ею овладело странное чувство — и облегчение и грусть. И вдруг он снова приехал. Его, по-видимому, не ждали, и он объяснил миссис Брейсбридж, что у него опять дела в Кливленде. При этих словах он бросил быстрый взгляд на Дженни, и ей показалось, что, быть может, он здесь отчасти из-за нее.
В этот его приезд Дженни часто видела его то за завтраком, во время которого ей иногда приходилось прислуживать, то за обедом, когда она могла наблюдать за гостями из залы или из гостиной, то в будуаре, когда он порою заходил поболтать с миссис Брейсбридж. Они были большими друзьями. На второй день после приезда Кейна Дженни услышала, как миссис Брейсбридж сказала ему:
— Почему вы не женитесь, Лестер? Пора бы остепениться.
— Знаю, — ответил он, — да что-то настроения нет. Хочу еще немножко погулять на свободе.
— Да, знаю я ваше гулянье. Постыдились бы. Вы так огорчаете своего отца.
Кейн усмехнулся.
— Отец не очень-то огорчается из-за меня. Он с головой ушел в дела.
Дженни с любопытством посмотрела на него. Она едва ли разбиралась в своих чувствах, но ее тянуло к этому человеку. Если бы она поняла, почему, она бежала бы от него без оглядки.
Он становился все внимательнее, нередко обращался к ней с каким-нибудь случайным замечанием и старался вызвать ее на разговор. Она не могла не отвечать ему: он был так мил и приветлив. Как-то утром он застал ее в коридоре на втором этаже, когда она доставала из шкафа белье. Они были одни: миссис Брейсбридж отправилась за покупками, а слуги спустились вниз. Кейн тотчас этим воспользовался. Он подошел к Дженни с самым решительным и властным видом.
— Мне надо с вами поговорить, — сказал он. — Где вы живете?
— Я… я… на Лорри-стрит, — пролепетала она, заметно бледнея.
— Номер дома? — спросил он, как будто она обязана была ответить.
У нее сжалось сердце.
Машинально она назвала номер дома.
Его смелые темно-карие глаза уверенно и многозначительно заглянули в большие голубые глаза Дженни, в самую глубь — и словно искра пробежала между ними.
— Ты моя, — сказал он. — Я давно искал тебя. Когда мы встретимся?
— Не говорите так, — сказала она, в волнении прижав пальцы к губам. — Я не могу встречаться с вами… я… я…
— Ах, не говорить? Вот что, — он взял ее за руку и слегка притянул к себе, — давай объяснимся сразу. Ты мне нравишься. А я тебе? Отвечай!
Она смотрела на него расширенными глазами, полными изумления и ужаса.
— Не знаю, — задыхаясь, выговорила она пересохшими губами.
— Нравлюсь?
Он мрачно, неотступно смотрел на нее.
— Не знаю.
— Посмотри на меня.
— Да… — сказала она.
Он крепко обнял ее.
— Мы еще поговорим, — сказал он и властно поцеловал ее в губы.
Она была перепугана, оглушена, как птица, попавшая в лапы кошки; и все же что-то в ней отозвалось на роковой, страшный и неотступный призыв. Лестер засмеялся и отпустил ее.
— Здесь это больше не повторится, но помни: ты моя, — сказал он, повернулся и ушел легкой, беззаботной походкой.
А Дженни, охваченная ужасом, кинулась в спальню хозяйки и заперлась на ключ.
Глава XVII
Дженни была так потрясена этим нежданным разговором, что долго не могла прийти в себя. Сначала она просто не понимала, что же произошло. Это было как гром среди ясного неба. Снова она подчинилась мужчине. «Почему? Почему?» — спрашивала она себя, и, однако, где-то в глубине души у нее был готов ответ. Она не могла бы объяснить того, что чувствовала, но она была создана для этого человека, а он для нее.
В любви, как в сражении, у каждого своя судьба. Неглупый, энергичный и напористый человек, сын богатого фабриканта, занимающий несравнимо более высокое положение в обществе, чем Дженни, почувствовал невольное, неодолимое влечение к бедной горничной. Она была внутренне близка ему, хоть он этого и не сознавал, — единственная женщина, в которой он мог найти что-то главное, чего ему всегда недоставало. Лестер Кейн знавал самых разных женщин, богатых и бедных, представительниц того класса, к которому принадлежал он сам, и дочерей пролетариата, но никогда он еще не встречал своего идеала — женщины, воплощавшей в себе отзывчивость, доброту, красоту и молодость. Однако он всегда мечтал именно о такой женщине и, встретив ее, не намерен был ее упустить. Он понимал, что если думать о браке, то ему следует искать эту женщину в своем кругу. Но если думать о кратковременном счастье, он может найти ее где угодно, хотя о браке тогда, разумеется, не будет и речи. Ему и в голову не приходило, что он мог бы всерьез сделать предложение горничной. Но Дженни — другое дело. Таких горничных он никогда не видал. У нее такой благородный вид, она очаровательна и притом, очевидно, сама этого не сознает. Да, редкая девушка. Почему бы не попытаться еще завладеть? Будем справедливы к Лестеру Кейну, попробуем его понять. Не всякий ум измеряется каким-нибудь одним безрассудным поступком; не всякого можно судить по одной какой-нибудь страсти. В наш век действие материальных сил почти неодолимо, — они гнетут и сокрушают душу. С ужасающей быстротой развивается и усложняется наша цивилизация, многообразны и изменчивы формы общественной жизни, на наше неустойчивое, утонченное и извращенное воображение крайне разнообразно и неожиданно влияют такие, например, факторы, как железные дороги, скорые поезда, почта, телеграф и телефон, газеты — словом, весь механизм существующих в нашем обществе средств общения и связи. Все это в целом создает калейдоскопическую пестроту, слепящую, беспорядочную жизненную фантасмагорию, которая утомляет, оглушает мозг и сердце. Отсюда своеобразная умственная усталость, и каждый день множит число ее жертв — тех, кто страдает бессонницей, черной меланхолией или просто сходит с ума. Мозг современного человека, как видно, еще не способен вместить, рассортировать и хранить огромную массу событий и впечатлений, которые ежедневно на него обрушиваются. Мы живем слишком на виду, нам некуда укрыться от внешнего мира. Нам приходится слишком много воспринимать. Точно вековечная мудрость пытается пробить себе дорогу в тесные черепа и уместиться в ограниченных умах.
Лестер Кейн был естественным продуктом этих ненормальных условий. У него был зоркий, наблюдательный ум той силы и склада, что встречаешь у героев Рабле, но многоликость окружающего, безмерная широта жизненной панорамы, блеск ее деталей, неуловимость их формы, их неясность и неоправданность сбивали его с толку. Он вырос в католической семье, но уже не верил в божественную природу католичества; он принадлежал к сливкам общества, но представление о том, что человек благодаря своему рождению и общественному положению может обладать каким-то неотъемлемым превосходством над другими людьми, стало для него пустым предрассудком; он был воспитан как богатый наследник, и предполагалось, что он найдет себе жену в своем кругу, но он отнюдь не был уверен, что вообще захочет жениться. Разумеется, брак — это общественный институт. Так установлено, спору нет. Но что из этого следует? Человек должен своевременно вступить в брак — это стало законом страны. Да, конечно. Но есть страны, где законом установлено многоженство. Лестера занимали и другие вопросы, например: действительно ли вселенной правит единое божество, какая форма государства лучше — республика, монархия или правление аристократии? Короче говоря, все материальные, социальные и нравственные проблемы попали под скальпель его ума и остались вскрытыми лишь наполовину. В жизни для него не было ничего бесспорного. Ни одно положение не было принято им как окончательное и неопровержимое, если не считать убеждения, что надо быть порядочным человеком. Во всем остальном он сомневался, спрашивал, откладывал, предоставляя времени и тайным силам, движущим вселенной, разрешить вопросы, которые его тревожили. Да, Лестер Кейн был естественным продуктом религиозных и общественных условий и понятий, но притом он проникся духом вольнодумства, присущим нашему народу, — духом, который порождает почти безграничную свободу мыслей и поступков. Этот тридцатишестилетний человек, по виду такой незаурядный, энергичный и рассудительный, был, в сущности, дикарь, которому воспитание и среда придали известный лоск. Подобно сотням тысяч ирландцев, которые за тридцатилетие до него прокладывали железнодорожные пути, работали в шахтах, копали канавы, таскали кирпичи и замешивали известь на бесчисленных стройках молодой страны, Лестер был силен, самоуверен и остер на язык.
— Угодно вам, чтобы я вернулся сюда на будущий год? — спросил он брата Амвросия, когда сей пастырь хотел наказать его, семнадцатилетнего школьника, за какой-то проступок.
Тот удивленно посмотрел на него и ответил:
— Это будет зависеть от вашего отца.
— Ну нет, это не будет зависеть от моего отца, — возразил Лестер. — Только троньте меня розгой, и я сам буду решать свои дела. Я не заслужил наказания и никогда больше не дам себя ударить.
Слова, к несчастью, не убедили на сей раз почтенного наставника, зато помогли крепкие кулаки, в короткой стычке Лестер сломал розгу, и это было таким серьезным нарушением школьной дисциплины, что ему пришлось уложить свои вещи и уехать. После этого он напрямик заявил отцу, что не намерен больше учиться.
— Я хочу взяться за дело, — объявил он. — Классическое образование не для меня. Возьми меня к себе в контору — и, уж будь уверен, я сумею справиться.
Старик Арчибалд Кейн, неглупый, всецело поглощенный своим делом человек с незапятнанной репутацией, был очень доволен решительностью сына и не стал ему препятствовать.
— Что же, иди в контору, — сказал он. — Пожалуй, там найдется для тебя подходящее занятие.
Начав свою деловую карьеру в восемнадцать лет, Лестер трудился весьма усердно, и постепенно отец стал такого высокого мнения о нем, что полагался на него почти как на самого себя. Когда надо было составить контракт, предпринять какой-либо важный шаг или послать представителя фирмы для заключения серьезной сделки, выбор всегда падал на Лестера. Отец слепо верил ему, и он так умно и ловко, с таким увлечением исполнял свои обязанности, что вера эта ни разу не была поколеблена.
«Дело есть дело» — таково было любимое изречение Лестера, и уже по тому, как он произносил эти слова, можно было понять, что он за человек.
Неукротимые силы кипели в нем, пламя, которое вновь и вновь прорывалось наружу, хотя сам Лестер воображал, будто может его сдерживать. У него, например, было пристрастие к вину, причем он был глубоко убежден, что знает меру. Он пил, но совсем немного, как он полагал, — только за компанию, с друзьями и отнюдь не доходя до излишества. Другая слабость коренилась в его чувственной натуре, но и тут он был убежден, что он сам себе господин, да, он с легкостью заводит случайные связи с женщинами, но всегда знает, в чем кроется опасность. Если бы люди понимали, что подобные связи по самой природе своей должны быть кратковременными, не возникало бы такого множества неприятных осложнений. Наконец, Лестер Кейн тешил себя мыслью, что он овладел секретом истинного смысла жизни: все дело в том, чтобы принимать общественные условия как они есть, лишь с кое-какими оговорками, и поступать так, как тебе самому удобнее. Не выходить из себя, не поднимать много шуму из-за пустяков, не разводить сантиментов; быть сильным и ни в чем не изменять себе — такова была его жизненная философия.
Его интерес к Дженни сперва был чисто эгоистическим. Но теперь, когда он заявил о своих мужских правах, и она, по крайней мере отчасти, покорилась, он начал понимать, что это не обыкновенная девушка, не игрушка на час.
В жизни иных мужчин наступает время, когда они бессознательно начинают оценивать женскую свежесть и красоту, не столько мечтая об идеальном счастье, сколько с оглядкой на условности окружающей среды.
«Неужели, — спрашивают они себя, раздумывая, не жениться ли, — неужели мне придется покориться общепринятой морали, соблюдать законы общества, по доброй воле стать воздержанным и скромным, дать кому-то право вмешиваться во все мои дела — и все только потому, что я заключаю в объятия существо столь же изменчивое, как я сам, женщину, чьи желания и прихоти будут становиться все навязчивей и утомительней по мере того, как будет исчезать ее красота и привлекательность?»
Эти люди, опасаясь всевозможных случайностей, какие влечет за собою законный брак, склонны признать преимущества не столь обременительной временной связи. Они стараются завладеть радостями жизни, не расплачиваясь за них. Когда-нибудь потом, думают они, можно будет установить более прочные и благопристойные отношения, избежав упреков или необходимости коренным образом что-то исправлять и улаживать.
Для Лестера Кейна пора юношеских увлечений миновала, и он это знал. Наивные мечты и идеалы неискушенного юноши исчезли без следа. Ему хотелось женской близости, но он все меньше склонен был поступиться ради этого своей свободой. Зачем надевать на себя кандалы, если можно получить все, что хочешь, оставаясь вольной птицей. Конечно, надо найти женщину, которая вполне подходила бы ему, и он считал, что нашел ее в Дженни. Все в ней отвечало его желаниям и вкусам, он еще никогда не встречал такой женщины. Жениться на ней не только невозможно, но и не обязательно. Достаточно ему сказать: «Пойдем!» — и она должна повиноваться, такова ее судьба.
Лестер спокойно, бесстрастно все это обдумал. Он прошел по убогой улице, где жила Дженни, посмотрел на жалкий домишко, служивший ей кровом. Его тронуло, что она живет так честно и трудно, в такой бедности. Не следует ли и ему поступить с нею великодушно, справедливо и благородно? Затем воспоминание о ее чудесной красоте нахлынуло на него и изменило его намерения. Нет, надо постараться завладеть ею — сегодня, сейчас же, немедленно. Вот в каком настроении он вернулся в дом миссис Брейсбридж после прогулки по Лорри-стрит.
Глава XVIII
А Дженни была охвачена безмерной тревогой, как человек, перед которым нежданно встала трудная и сложная задача. Надо было подумать о ребенке, об отце, о братьях и сестрах. Что же она делает? Неужели снова совершит ошибку и вступит в порочную, беззаконную связь? Что сказать родным об этом человеке? Конечно, он не женится на ней, если узнает о ее прошлом. Да и все равно не женится, он занимает такое высокое положение. И все же она слушала его. Как быть? Она раздумывала над этим до вечера и сначала хотела бежать, но с ужасом вспомнила, что дала Кейну свой адрес. Потом она решила собрать все свое мужество и отвергнуть его — сказать, что она не может, не хочет иметь с ним дела. Такое решение вопроса казалось ей довольно простым, пока Кейна не было рядом. Она поступит на другое место, где он не сможет ее преследовать. Все казалось очень простым, когда Дженни вечером одевалась, чтобы идти домой.
Однако у ее энергичного поклонника были свои соображения на этот счет. Расставшись с Дженни, он все точно обдумал. Он решил действовать немедленно. Дженни может рассказать все родным или миссис Брейсбридж, может уехать из Кливленда. Надо узнать подробнее, в каких условиях она живет, а для этого есть одно средство — поговорить с нею. Надо убедить ее уйти к нему. Она наверняка согласится. Она призналась, что он ей нравится. Свойственная ей мягкость, покорность, которая сразу привлекла его, по-видимому, обещала легкую победу: стоит только захотеть — и он без труда ее завоюет. И он решил попробовать, потому что его и в самом деле очень влекло к ней.
В половине шестого он вернулся к Брейсбриджам, чтобы посмотреть, не ушла ли Дженни. В шесть ему удалось тайком сказать ей:
— Я провожу тебя домой. Подожди меня на ближайшем углу, хорошо?
— Да, — ответила она, чувствуя, что не может не послушаться.
Потом она сказала себе, что должна с ним поговорить, твердо заявить о своем решении не встречаться с ним больше. Так почему бы не воспользоваться случаем и не объясниться теперь же.
В половине седьмого он под каким-то предлогом вышел из дому — вспомнил, что у него деловое свидание, и в начале восьмого ждал Дженни в закрытом экипаже возле условленного места. Он был спокоен, совершенно уверен в успехе, но под видимой твердостью и уравновешенностью скрывалось необычайное волнение, словно он вдыхал какой-то чудесный аромат, нежный, сладостный и чарующий.
В начале девятого он увидел Дженни. Неяркий свет газового фонаря был все же достаточен для того, чтобы Кейн мог ее узнать. Волна нежности поднялась в нем — так сильно было обаяние этой девушки. Когда она подошла ближе, он вышел из экипажа и остановился перед нею.
— Пойдем, — сказал он. — Садясь в карету. Я отвезу тебя домой.
— Нет, — ответила она, — я не могу.
— Идем. Я отвезу тебя. Так нам будет удобнее поговорить.
И снова это ощущение его власти, силы, которой нельзя сопротивляться. Она подчинилась, чувствуя, что не должна бы этого делать. Кейн крикнул кучеру:
— Езжай пока прямо!
Дженни села рядом с ним, и он тотчас сказал:
— Вот что, Дженни, ты мне нужна. Расскажи мне о себе.
— Мне надо с вами поговорить, — ответила она, стараясь держаться, как задумала.
— О чем? — осведомился Кейн, пытаясь в полутьме разглядеть выражение ее лица.
— Так дальше нельзя, — в волнении пробормотала Дженни. — Я так не могу. Вы ничего не знаете. Мне не следовало делать так, как утром. Я больше не должна с вами встречаться. Правда, не должна.
— То, что ты сделала утром, сделала не ты, — сострил он, подхватив ее слова. — Это сделал я. А на счет того, что ты не хочешь со мной встречаться… зато я хочу встречаться с тобой. — Он взял ее за руку. — Ты меня еще не знаешь, но я тебя люблю. Просто с ума схожу. Ты создана для меня. Слушай. Ты должна быть моей. Пойдешь ко мне?
— Нет, нет, нет! — страдальчески воскликнула Дженни. — Я не могу, мистер Кейн. Пожалуйста, выслушайте меня. Это невозможно. Вы не знаете… не знаете. Я не могу сделать, как вы хотите. Я не хочу. И не могла бы, если бы даже хотела. Вы не знаете, в чем дело. Но я не хочу поступать дурно. Я не должна. Не могу. Не хочу. Нет, нет, нет! Пустите меня домой.
Он выслушал эту отчаянную мольбу не без сочувствия, ему стало даже немного жаль Дженни.
— Почему не можешь? Что это значит? — спросил он с любопытством.
— Мне нельзя вам сказать, — ответила она. — Пожалуйста, не спрашивайте. Вам не надо знать. Но я не должна с вами встречаться. Это ни к чему хорошему не приведет.
— Но ведь я тебе нравлюсь.
— Да, да. Я ничего не могу с этим поделать. Но вы должны меня оставить. Пожалуйста!
С важностью судьи Лестер мысленно еще раз взвесил свое предложение. Он знал, что нравится этой девушке; в сущности она его любит, как ни кратко их знакомство. И его влечет к ней — быть может, не так уж неодолимо, но все же с необычайной силой. Что мешает ей уступить, тем более, если ей этого хочется? В нем заговорило любопытство.
— Вот что, Дженни, — сказал он, — я тебя выслушал. Я не понимаю, почему ты говоришь «не могу», если сама хочешь пойти ко мне. Ты говоришь, я тебе нравлюсь. Почему же ты упрямишься? Ты создана для меня. Мы бы отлично поладили. У тебя самый подходящий для меня характер. Я хотел бы, чтобы ты была со мной. Почему ты говоришь, что не можешь?
— Я не могу, — повторила она. — Не могу. Не хочу. Не должна. Ах, пожалуйста, не спрашивайте больше. Вы не знаете. Я не могу вам объяснить.
Она думала о своем ребенке.
В Лестере Кейне было сильно развито чувство справедливости и умение любую игру вести честно. Прежде всего он стремился к порядочности в своих отношениях с другими людьми. Он и теперь хотел быть нежным и внимательным, но главное — надо завоевать эту девушку! И он снова мысленно взвесил все «за» и «против».
— Послушай, — сказал он наконец, все еще держа Дженни за руку. — Я не заставляю тебя решать немедленно. Я хочу, чтоб ты все обдумала. Но ты создана для меня. Я тебе небезразличен. Ты сама признала это сегодня утром. И я знаю, что это так. Почему же ты упрямишься? Ты мне нравишься, и я могу многое для тебя сделать. Почему бы нам пока что не стать друзьями? А об остальном поговорим после.
— Но я не должна поступать дурно, — твердила она. — Я не хочу. Пожалуйста, оставьте меня. Я не могу сделать, как вы хотите.
— Вот что, — сказал он, — ты кривишь душой. Почему же ты говорила, что я тебе нравлюсь? Разве ты успела переменить мнение? Посмотри на меня. (Дженни опустила глаза). Посмотри на меня! Разве ты передумала?
— Ах, нет, нет! — сказала она чуть не со слезами, поддаваясь чему-то, что было сильнее ее.
— Тогда почему ты упрямишься? Я люблю тебя, слышишь, с ума схожу по тебе. Вот почему я в этот раз приехал. Я хотел тебя видеть!
— Правда? — удивленно переспросила Дженни.
— Да. Я приехал бы еще и еще, если бы надо было. Говорю тебе, я люблю тебя до безумия. Ты должна быть моей. Обещай, что ты уедешь со мной!
— Нет, нет, нет, — твердила она. — Я не могу. Я должна работать. Я хочу работать. Я не хочу поступать дурно. Пожалуйста, не просите. Пожалуйста, не надо. Вы должны меня отпустить. Правда же! Я не могу сделать по-вашему.
— Скажи, Дженни, — неожиданно спросил Кейн, — чем занимается твой отец?
— Он стеклодув.
— Здесь, в Кливленде?
— Нет, он работает в Янгстауне.
— А твоя мать жива?
— Да, сэр.
— Ты живешь с нею?
— Да, сэр.
Он улыбнулся.
— Не говори мне «сэр», крошка, — грубовато сказал он, — и не называй меня «мистер» Кейн. Я для тебя больше не мистер. Ты моя, слышишь?
И он притянул ее к себе.
— Пожалуйста, не надо, мистер Кейн, — умоляла она. Ох, пожалуйста, не надо! Я не могу! Не могу! Оставьте меня!
Но он крепко поцеловал ее в губы.
— Послушай-ка, — повторил он свое излюбленное словечко. — Говорю тебе, ты моя. С каждой минутой ты мне все больше нравишься. Я еще мало тебя знаю. Но я от тебя не откажусь. В конце концов ты ко мне придешь. И я не желаю, чтобы ты служила горничной. Ты не можешь оставаться на этом месте, разве что очень недолго. Я увезу тебя куда-нибудь. И дам тебе денег, слышишь? Ты должна их взять.
При слове «деньги» Дженни передернуло, и она отняла руку.
— Нет, нет, — сказала она. — Я не возьму.
— Возьмешь. Отдай их матери. Я вовсе не пытаюсь тебя купить. Я знаю, о чем ты думаешь. Но это не верно. Я хочу тебе помочь. Хочу помочь твоим родным. Я знаю, где ты живешь. Сегодня я там был. Сколько вас всего детей?
— Шестеро, — чуть слышно ответила Дженни.
«Ох уж эти семьи бедняков!» — подумал Кейн.
— Так вот возьми, — настойчиво повторил он и достал из кармана кошелек. — И очень скоро мы опять увидимся. Ты от меня не ускользнешь, детка.
— Нет, нет, — протестовала Дженни. — Я не хочу. Мне не надо. Вы не должны просить меня об этом.
Кейн попробовал настоять на своем, но она была непреклонна, и в конце концов он спрятал деньги.
— Одно скажу, Дженни: тебе от меня не уйти, — спокойно заявил он. — Рано или поздно ты все равно будешь со мною. Ты ведь сама это чувствуешь и знаешь, это по всему видно. Я не намерен от тебя отказаться.
— Бели б вы знали, как вы меня мучаете.
— Разве я в самом деле мучаю тебя? — спросил он. — Неужели?
— Да, мучаете. Я никогда не сделаю по-вашему.
— Сделаешь! Сделаешь! — горячо воскликнул Кейн; от одной мысли, что добыча ускользает, страсть его вспыхнула с новой силой. — Ты будешь моя!
И он крепко обнял Дженни, несмотря на все ее протесты.
— Ну вот, — сказал он, когда после короткой борьбы то таинственное, что их соединяло, вновь заговорило в Дженни и она перестала сопротивляться. На глазах у нее выступили слезы, но Кейн их не замечал. — Разве ты сама не видишь? Я тоже нравлюсь тебе.
— Я не могу, — всхлипнув, повторила Дженни.
Ее искреннее отчаяние тронуло Кейна.
— Что же ты плачешь, девочка? — спросил он.
Дженни не ответила.
— Ну, извини, — сказал он. — Больше я тебе сегодня ничего не скажу. Мы почти приехали. Завтра я уезжаю, но скоро мы опять увидимся. Да, детка. Теперь я не могу от тебя отказаться. Я сделаю все, что можно, чтобы тебе было не так трудно, но отказаться от тебя я не могу, слышишь?
Она покачала головой.
— Выйдем здесь, — сказал Кейн, когда карета доехала до угла. Он увидел свет в занавешенных окнах Герхардтов. — До свидания, — прибавил он, когда она выходила из кареты.
— До свидания, — пробормотала Дженни.
— Помни, — сказал Кейн, — это — только начало.
— О нет, нет! — умоляюще сказала она.
Он посмотрел ей вслед.
— Какая красавица! — воскликнул он.
Дженни вошла в дом усталая, растерянная, пристыженная. Что же она наделала? Бесспорно, она совершила непоправимую ошибку. Он вернется.
Он вернется. И он предлагал ей деньги. Это хуже всего.
Глава XIX
Хотя после этой волнующей встречи у обоих осталось ощущение какой-то недосказанности, ни Лестер Кейн, ни Дженни нимало не сомневались: этим дело не кончится. Кейн чувствовал, что девушка совсем его очаровала. Она восхитительна. Она даже не представляла себе, что она так мила. Ее колебания, мольбы, это робкое «Нет, нет, нет!» волновали его, как музыка. Бесспорно, эта девушка создана для него, и он ее добьется. Она слишком прелестна, невозможно упустить ее. Какое ему дело до того, что скажут его родные, да и весь свет?
Странное дело, Кейн был твердо уверен, что рано или поздно Дженни уступит ему и физически, как уже уступила в душе. Он не мог бы объяснить, откуда у него эта уверенность. Что-то в Дженни — ее необычайная женственность, прямой, бесхитростный взгляд — заставляло думать, что она способна на страсть, в которой нет ничего грубого и безнравственного. Это женщина, созданная для мужчины, для одного, единственного. С нею нераздельно представление о любви, нежности, покорности. Пусть только появится тот, единственный, и она полюбит его и пойдет за ним. Так понимал ее Лестер. Он это чувствовал. Она должна ему покориться, ибо он для нее — тот самый, единственный.
А Дженни предчувствовала всевозможные осложнения, быть может, катастрофу. Если он будет ее преследовать, он, конечно, все узнает. Она не сказала ему о Брэндере, потому что все еще смутно надеялась ускользнуть. Расставшись с ним, она знала, что он вернется. Она невольно сознавала, что хочет этого. И все же чувствовала, что не должна уступать, должна по-прежнему вести честную, трудную и однообразную жизнь. Это — возмездие за ее прошлое. Она должна пожать то, что посеяла.
Внушительный особняк Кейнов в Цинциннати, куда Лестер вернулся, расставшись с Дженни, был полной противоположностью дому Герхардтов. Это было большое двухэтажное здание неопределенного стиля, напоминающее французский замок, но выстроенное из красного кирпича и песчаника. Окружавший его участок, засаженный цветами и деревьями, походил на настоящий парк, и самые камни, казалось, говорили о богатстве, достоинстве и утонченной роскоши. Арчибалд Кейн, отец семейства, нажил огромное состояние, притом не путем грабежа, не каким-нибудь наглым или бесчестным способом, но благодаря тому, что сумел взяться за самое в то время нужное и потому выгодное дело. Еще в юности он понял, что Америка — страна молодая, развивающаяся. Значит, будет громадный спрос на всевозможные экипажи, фургоны, повозки, — и кто-то должен удовлетворить этот спрос. Он открыл небольшую мастерскую и постепенно превратил ее в солидное предприятие; он выпускал хорошие экипажи и продавал их с хорошей прибылью. Люди в большинстве своем честны, полагал Арчибалд Кейн; он был уверен, что им нужны добротные, на совесть сделанные вещи, и, если им такие вещи предложить, они охотно станут покупать у вас и будут обращаться к вам снова и снова, пока вы не станете богатым и влиятельным человеком. Он считал, что в торговле надо быть щедрым и всегда, продавая, отмеривать «с походом». Всю жизнь, до старости, он пользовался доброй славой у всех, кто его знал. «Арчибалд Кейн? — говорили его конкуренты. — О, это замечательный человек! Ловок, но честен. Это большой человек!»
У Арчибалда Кейна были два сына и три дочери, все здоровые, красивые, наделенные недюжинным умом, но никто из них не обладал столь широкой натурой, не был так полон сил и энергии, как сей почтенный патриарх. Сорокалетний Роберт, старший сын Кейна, давно стал правой рукой отца в финансовых вопросах: он был проницателен и прижимист — качества, весьма существенные для дельца, ибо в делах без них не обойтись. Роберт был среднего роста, худощавый, с высоким лбом и уже начинал лысеть; у него были живые бледно-голубые глаза, орлиный нос и тонкие, упрямо и бесстрастно сомкнутые губы. Он был скуп на слова, нетороплив в своих действиях и серьезно обдумывал каждый шаг. В качестве вице-президента большого предприятия, раскинувшегося на целых два квартала по окраине города, он занимал почти столь же высокое положение, как и его отец. Роберт Кейн был жесткий человек, делец с большим будущим — отец это хорошо знал.
Второй сын, Лестер, был любимец отца. Отнюдь не такой блестящий финансист, как Роберт, он зато лучше понимал скрытые пружины, движущие миром. Он был мягче, человечнее, он благодушнее ко всему относился. И, как ни странно, старик Арчибалд верил ему и восхищался им, его умом и благородством. Он охотнее обращался к Роберту, когда перед ним вставала какая-нибудь запутанная финансовая задача, но Лестера он больше любил как сына.
Из дочерей старшей была Эми, красивая тридцатидвухлетняя женщина, у которой уже подрастал сынишка; двадцативосьмилетняя Имоджин тоже была замужем, но детей пока не имела; младшая, двадцатипятилетняя Луиза, еще не вышла замуж; это была самая красивая из сестер, но зато и самая холодная и нетерпимая. Она больше всех жаждала блеска и почета, больше всех дорожила семейным престижем и мечтала, чтобы Кейны затмили всех окружающих. Она очень гордилась высоким общественным положением семьи и держалась так важно и высокомерно, что это порою забавляло, а порой и раздражало Лестера. Он любил ее, пожалуй, даже больше других сестер, но считал, что она без всякого ущерба для достоинства семьи могла бы важничать поменьше.
Их мать, шестидесятилетняя миссис Кейн, была скромная и достойная женщина; проведя первые годы замужества в сравнительной бедности, она и теперь не слишком стремилась вести светскую жизнь. Но, любя детей и мужа, она наивно гордилась их положением и успехами. Ей самой хватало и отражения их славы. Это была добрая женщина, хорошая жена и мать.
Лестер приехал в Цинциннати под вечер и сейчас же отправился домой. Старый слуга ирландец открыл ему дверь.
— А, мистер Лестер! — обрадовался он. — Вот и хорошо, что вернулись. Позвольте ваше пальто. Да, да, у нас была прекрасная погода. Да, да, дома все здоровы. Как же, ваша сестрица миссис Эми с сынком были здесь, только что ушли. Ваша матушка наверху, у себя в комнате. Как же, как же!
Лестер весело улыбнулся ему и поднялся к матери. В белой с золотом комнате, выходившей в сад, окнами на юг и на восток, он застал миссис Кейн, благообразную женщину с добрым, немного утомленным лицом и гладко причесанными седыми волосами. Когда отворилась дверь, она подняла голову, отложила книгу, которую читала, и встала навстречу сыну.
— Здравствуй, мама, — сказал он, обнял ее и поцеловал. — Как твое здоровье?
— Все по-прежнему, Лестер. Как ты съездил?
— Прекрасно. Опять провел несколько дней у Брейсбриджей. Мне пришлось заехать в Кливленд, чтобы повидаться с Парсонами. Все спрашивали о тебе.
— Как поживает Минни?
— Все так же. По-моему, она ничуть не изменилась. И, как всегда, с увлечением принимает гостей.
— Очень умная девушка, — заметила мать, вспоминая миссис Брейсбридж в юности, когда та еще жила в Цинциннати. — Она мне всегда нравилась. Такая рассудительная.
— Этого у нее и сейчас не отнимешь, — многозначительно сказал Лестер.
Миссис Кейн улыбнулась и стала рассказывать ему о разных домашних событиях. Муж Имоджин уехал по какому-то делу в Сент-Луис. Жена Роберта больна — простудилась. Умер старик Цвингль, фабричный сторож, прослуживший у мистера Кейна сорок лет. Мистер Кейн будет на его похоронах. Лестер слушал почтительно, хотя и несколько рассеянно.
Спустившись вниз, он встретил Луизу. Она была шикарна — вернее слова не сыщешь. Вышитое стеклярусом черное шелковое платье облегало ее стройную фигуру, рубиновая брошь очень шла к смуглой коже и черным волосам. Взгляд ее черных глаз пронизывал насквозь.
— А, это ты Лестер! — воскликнула она. — Когда вернулся? Поосторожнее с поцелуями, я еду в гости и уже напудрилась. Ах ты, медведь!
Лестер крепко обнял ее и звонко поцеловал. Она с силой оттолкнула его.
— Я смахнул не так уж много пудры, — сказал он. — А ты возьми пуховку и подбавь! — И он прошел в свою комнату переодеться к обеду.
Обычай переодеваться к обеду был введен в семействе Кейнов в последние годы. Гости бывали так часто, что это стало в некотором роде необходимостью, и Луиза была на этот счет особенно педантична. В этот вечер ждали Роберта и чету Барнет — старых друзей отца и матери, так что обед, конечно, предстоял торжественный. Лестер знал, что отец дома, но не спешил его повидать. Он думал о последних двух днях, проведенных в Кливленде, и гадал, когда опять увидит Дженни.
Глава XX
Переодевшись, Лестер спустился вниз и застал отца в библиотеке за чтением газеты.
— Здравствуй, Лестер! — сказал отец, глядя на него поверх очков и протягивая руку. — Откуда ты?
— Из Кливленда, — с улыбкой ответил сын, обмениваясь с отцом рукопожатием.
— Роберт говорил мне, что ты был в Нью-Йорке.
— Да, был.
— Как поживает мой старый друг Арнольд?
— Все так же, — ответил Лестер. — Он совсем не стареет.
— Надо полагать, — весело сказал Арчибалд Кейн, словно услыхал комплимент собственному крепкому здоровью. — Он всегда был воздержан. Настоящий джентльмен.
Он прошел с сыном в гостиную; они толковали о деловых и семейных новостях, пока бой часов в холле не возвестил собравшимся наверху, что обед подан.
Лестер отлично чувствовал себя в пышной столовой, обставленной в стиле Людовика XV. Он любил свой дом и домашних — мать, отца, сестер и старых друзей семьи. Итак, он улыбался и был необычайно весел.
Луиза сообщила, что во вторник Ливеринги дают бал, и спросила, поедет ли Лестер.
— Ты же знаешь, я не танцую, — сказал он сухо. — Что мне там делать?
— Не танцуешь? Скажи лучше, что не хочешь танцевать. Просто ты слишком обленился. Уж если Роберт иногда танцует, так ты и подавно можешь.
— Где же мне угнаться за Робертом, я не так подвижен, — беспечно заметил Лестер.
— И не так любезен, — уколола его Луиза.
— Возможно, — сказал Лестер.
— Не затевай ссору, Луиза, — благоразумно вставил Роберт.
После обеда они перешли в библиотеку, и Роберт немного потолковал с братом о делах. Надо пересмотреть кое-какие контракты. Он хотел бы выслушать мнение Лестера. Луиза собиралась в гости, ей подали карету.
— Так ты не едешь? — спросила она с ноткой недовольства в голосе.
— Нет, слишком устал, — небрежно сказал Лестер. — Извинись за меня перед миссис Ноулз.
— Летти Пэйс на днях спрашивала о тебе, — кинула Луиза уже в дверях.
— Очень мило с ее стороны. Весьма польщен.
— Летти славная девушка, Лестер, — вставил отец, стоявший у камина. — Хотел бы я, чтобы ты женился на ней и остепенился. Она будет тебе хорошей женой.
— Очаровательная девушка, — подтвердила миссис Кейн.
— Это что же, заговор? — пошутил Лестер. — Я, знаете ли, не гожусь для семейной жизни.
— Очень хорошо знаю, — полушутя, полусерьезно отозвалась миссис Кейн. — И это очень жаль.
Лестер перевел разговор на другое. Ему стало невмоготу от подобных замечаний. И снова вспомнилась Дженни, ее жалобное: «Ах, нет, нет!» Вот кто ему по душе. Такая женщина действительно достойна внимания. Не расчетливая, не корыстная, не окруженная строгим надзором и поставленная на пути мужчины, точно ловушка, а прелестная девушка — прелестная, как цветок, который растет, никем не охраняемый. В этот вечер, возвратясь к себе в комнату, он написал ей письмо но датировал его неделей позже, потому что не хотел показаться чересчур нетерпеливым и притом собирался пробыть в Цинциннати по крайней мере недели две.
«Милая моя Дженни!
Хотя прошла неделя, а я не подавал о себе вестей, поверь, я тебя не забыл. Ты очень плохого мнения обо мне? Я добьюсь, чтобы оно изменилось к лучшему, потому что я люблю тебя, девочка, право, люблю. У меня на столе стоит цветок, который напоминает тебя, — белый, нежный, прелестный. Вот такая и ты, твой образ все время со мной. Ты для меня — воплощение всего прекрасного. В твоей власти усыпать мой путь цветами — лишь бы ты пожелала.
Теперь хочу сообщить тебе, что 18-го я буду в Кливленде и рассчитываю встретиться с тобой. Приеду в четверг вечером. Жди меня в дамской гостиной отеля „Дорнтон“ в пятницу в полдень. Хорошо? Мы вместе позавтракаем.
Ты не хотела, чтобы я приходил к тебе домой, — как видишь, я выполняю твое желание. (И впредь буду выполнять — при одном условии.) Добрым друзьям не следует разлучаться — это опасно. Напиши, что будешь меня ждать. Полагаюсь на твое великодушие. Но я не могу принять твое „нет“ как окончательное решение.
Преданный тебе, Лестер Кейн».Он запечатал письмо и надписал адрес. «В своем роде это замечательная девушка, — подумал он. — Просто замечательная».
Глава XXI
Письмо это пришло после недельного молчания, когда Дженни уже успела многое передумать, и глубоко взволновало ее. Что делать? Как поступить? Как же она относится к этому человеку? Отвечать ли на его письмо? И если отвечать, то что? До сих пор все ее поступки, даже когда она в Колумбусе пожертвовала собою ради Басса, как будто не касались никого, кроме нее самой. Теперь надо было думать и о других: о родных и прежде всего о ребенке. Маленькой Весте минуло уже полтора года; это была славная девочка, белокурая, с большими голубыми глазами, которая обещала стать очень похожей на мать; притом она была бойкая и смышленая. Миссис Герхардт любила ее всем сердцем. Сам Герхардт оттаивал очень медленно и даже сейчас не обнаруживал явного интереса к внучке, но все же был добр к ней. И, видя эту перемену в отце, Дженни от всей души хотела вести себя так, чтобы никогда больше его не огорчать. Если она сделает какой-нибудь безрассудный шаг, это будет не только низкой неблагодарностью по отношению к отцу, но и повредит в будущем ее дочке. Ее собственная жизнь не удалась, думала Дженни, но жизнь Весты — другое дело, и нельзя каким-нибудь опрометчивым поступком ее испортить. Может быть, следует написать Лестеру и все ему объяснить. Она сказала ему, что не хочет поступать дурно. Предположим, она признается, что у нее есть ребенок, и попросит оставить ее в покое. Послушается он? Едва ли. Да и хочется ли ей, чтобы он поймал ее на слове?
Необходимость сделать это признание была для Дженни мучительна. Вот почему она колебалась, начала было письмо, в котором пыталась все объяснить, и разорвала его. А потом вмешалась сама судьба: внезапно вернулся домой отец, серьезно пострадавший во время несчастного случая на фабрике в Янгстауне.
Письмо от Герхардта пришло в среду, в начале августа. Но это было обычное письмо, написанное по-немецки, с отеческими расспросами и наставлениями и со вложением еженедельных пяти долларов; в конверте оказалось несколько строк, написанных незнакомым почерком, — известие, что накануне случилось несчастье: опрокинулся черпак с расплавленным стеклом, и у Герхардта серьезно обожжены обе руки. Под конец в записке сообщалось, что на следующее утро он будет дома.
— Ну что ты скажешь! — воскликнул ошарашенный Уильям.
— Бедный папа! — сказала Вероника, и глаза ее наполнились слезами.
Миссис Герхардт опустилась на стул, уронила на колени стиснутые руки и остановившимися глазами уставилась в пол. «Что же теперь делать?» — в отчаянии повторяла она. Ей страшно было даже подумать о том, что будет с ними, если Герхардт навсегда останется калекой.
Басс возвращался домой в половине седьмого, Дженни — в восемь. Басс выслушал новость, широко раскрыв глаза.
— Вот это худо! — воскликнул он. — А в письме не сказано, ожоги очень тяжелые?
— Не сказано, — ответила миссис Герхардт.
— Ну, по-моему, не стоит уж очень расстраиваться, — заявил Басс. — От этого толку не будет. Как-нибудь выкрутимся. Я бы на твоем месте не расстраивался так.
Он-то и в самом деле не слишком расстраивался — не такой у него был характер. Жизнь давалась ему легко. Он не способен был вдуматься в значение событий и предвидеть их последствия.
— Знаю, — сказала миссис Герхардт, стараясь овладеть собой. — Но я ничего не могу поделать. Подумать только, не успела наша жизнь наладиться — и вот новая беда. Просто проклятие какое-то на нас лежит. Нам так не везет!
Когда пришла Дженни, мать сразу почувствовала, что это ее единственная опора.
— Что случилось, мамочка? — еще в дверях спросила Дженни, увидев лицо матери. — Почему ты плакала?
Миссис Герхардт посмотрела на нее и отвернулась.
— Папа сжег себе руки, — с расстановкой сказал Бесе. — Он завтра приезжает.
Дженни обернулась и с ужасом посмотрела на него.
— Сжег себе руки!
— Да, — сказал Басс.
— Как же это случилось?
— Опрокинулся черпак со стеклом.
Дженни взглянула на мать, и глаза ее застлало слезами. Она кинулась к миссис Герхардт и обняла ее.
— Не плачь, мамочка, — сказала она, сама едва сдерживаясь. — Не надо огорчаться. Я знаю как тебе тяжело, но все обойдется. Не плачь!
Тут губы ее задрожали, и она не скоро собралась с силами, чтобы взглянуть в лицо новой беде. И вот, помимо ее воли, у нее вдруг явилась вкрадчивая и неотступная мысль. Лестер!.. Ведь он предлагал ей свою помощь. Он объяснился ей в любви. Почему-то теперь он так живо ей вспомнился — и его внимание, и готовность помочь, и сочувствие… Так же вел себя и Брэндер, когда Басс попал в тюрьму. Быть может, ей суждено еще раз принести себя в жертву? Да и не все ли равно? Ведь ее жизнь и без того не удалась. Так думала она, глядя на мать, которая сидела молча, подавленная, обезумевшая от горя. «Почему ей приходится столько страдать? — думала Дженни. — Неужели на ее долю так и не выпадет хоть немного счастья?»
— Не надо так убиваться, — сказала она немного погодя. — Может быть, папа не очень уж сильно обжегся. Ведь в письме сказано, что завтра утром он приедет?
— Да, — подтвердила миссис Герхардт, приходя в себя.
Теперь они стали разговаривать немного спокойнее и постепенно, когда все известные им подробности были обсуждены, как-то притихли, словно застыли в ожидании.
— Надо кому-нибудь утром пойти на вокзал встречать папу, — сказала Дженни Бассу. — Я пойду. Я думаю, миссис Брейсбридж ничего не скажет.
— Нет, — мрачно возразил Басс, — ты не ходи. Я сам его встречу.
Он злился на судьбу за этот новый удар и не мог скрыть досаду; он мрачно прошел в свою комнату и заперся. Дженни с матерью отравили детей спать и ушли в кухню.
— Не знаю, что теперь с нами будет, — сказала миссис Герхардт, подавленная мыслью о материальных осложнениях, которыми грозило это новое несчастье.
Она казалась совсем разбитой и беспомощной, и Дженни стало до боли жаль ее.
— Не огорчайся, мамочка, — мягко сказала она, чувствуя, что в ней зреет решение.
Мир так велик. И есть в нем люди, которые щедрой рукой оделяют других всякими благами. Не вечно же ее родным бедствовать под гнетом несчастий!
Дженни сидела рядом с матерью, и казалось, уже слышала грозную поступь грядущих невзгод.
— Как ты думаешь, что с нами будет? — повторила мать, видя, что мечта о благополучной жизни в Кливленде рушится у нее на глазах.
— Ничего, — ответила Дженни, уже ясно понимая, что надо делать, — все обойдется. Не расстраивайся. Все уладится. Как-нибудь устроимся.
Теперь она знала, что судьба возложила на ее плечи все бремя ответственности. Она должна пожертвовать собой; другого выхода нет.
Наутро Басс встретил отца на вокзале. Герхардт был очень бледен и, по-видимому, сильно измучился. Щеки его ввалились, нос еще больше заострился. Руки его были перевязаны, и весь вид — такой жалкий, что прохожие оборачивались, когда он с Бассом шел с вокзала.
— Тьфу, пропасть! — сказал он сыну. — Как я обжегся! Мне даже раз показалось, что я не выдержу, такая была боль. Какая боль! Тьфу, пропасть! Век буду помнить.
Он подробно рассказал, как произошло несчастье, и прибавил, что не знает, сможет ли когда-нибудь владеть руками, как прежде. Большой палец правой руки и два пальца на левой сожжены до кости. На левой руке пришлось отнять первые суставы, большой палец удалось спасти, но может случиться, что пальцы останутся сведенными.
— И это как раз теперь, когда мне так нужны деньги! — прибавил он. — Вот беда! Вот беда!
Когда они дошли до дому и миссис Герхардт отворила им дверь, старый рабочий, поняв безмолвное горе жены, не сдержался и заплакал. Миссис Герхардт тоже стала всхлипывать. Даже Басс на минуту потерял самообладание, но быстро оправился. Младшие дети ревели, пока Басс на них не прикрикнул.
— Брось плакать! — бодрым тоном сказал он отцу. — Слезами горю не поможешь. И потом все не так уж страшно. Ты скоро поправишься. Как-нибудь проживем.
Слова Басса на время всех успокоили, и теперь, когда муж вернулся домой, миссис Герхардт вновь обрела душевное равновесие. Правда, руки у него забинтованы, но он на ногах, нигде больше не обожжен и не ранен, а это тоже утешительно. Возможно, он снова будет владеть руками и сможет взяться за какую-нибудь легкую работу Во всяком случае, нужно надеяться на лучшее.
Когда Дженни в тот вечер вернулась домой, ее первым побуждением было кинуться к отцу, высказать ему всю свою любовь и преданность, но она побоялась, что он встретит ее так же холодно, как и в прошлый раз.
Герхардт тоже был взволнован. Он до сих пор не вполне оправился от позора, который навлекла на него дочь. Он бы и хотел быть снисходительным, но никак не мог разобраться в путанице своих чувств и сам не знал, что делать и что сказать.
— Папа, — промолвила Дженни, робко подходя к нему.
Герхардт в смущении попытался сказать какие-нибудь самые простые слова, но это ему не удалось. Сознание собственной беспомощности, мысль, что дочь любит его и жалеет и он тоже не может не любить ее, — все это было свыше его сил; он не выдержал и снова расплакался.
— Прости меня, папа, — умоляла Дженни. — Пожалуйста, прошу тебя, прости!
Он даже не решился посмотреть на нее, но, охваченный смятением встречи, подумал, что и в самом деле надо бы простить.
— Я молился, — сказал он разбитым голосом. — Хорошо, забудем об этом.
Придя в себя, он устыдился своего волнения, но близость и понимание уже установились между ними. С этого дня, хотя в их отношениях еще оставалась известная сдержанность, Герхардт больше не старался не замечать Дженни, а она была с ним по-дочернему проста и ласкова, совсем как в былые времена.
Итак, в доме снова водворился мир, но появились другие тревоги и заботы. Как прожить, когда доходы уменьшились на пять долларов в неделю, а расходы благодаря присутствию Герхардта возросли? Басс мог бы давать больше из своего недельного заработка, но не считал себя обязанным это делать. Итак, жалких девяти долларов в неделю должно было хватить на квартирную плату, на провизию и уголь, не говоря уже о случайных расходах, которые стали очень обременительны, Герхардт ежедневно должен был ходить к врачу на перевязку. У Джорджа развалились башмаки. Либо надо было еще откуда-то добыть денег, либо семье предстояло снова залезть в долги и опять испытывать все муки нужды. Под влиянием этих обстоятельств решение Дженни созрело окончательно.
Письмо Лестера оставалось без ответа. Назначенный день приближался. Не написать ли ему? Он поможет. Ведь он непременно хотел дать ей денег. В конце концов она решила, что ее долг — воспользоваться предложенной помощью. И она написала Лестеру короткую записку. Хорошо, она встретится с ним, но просит его не приходить к ней домой. Она отправила письмо и со странным чувством — смесью боязливого трепета и радостной надежды — стала ждать решающего дня.
Глава XXII
Настала роковая пятница, и Дженни оказалась перед лицом новых серьезных затруднений, осложнивших ее скромное существование. Выбора нет, думала она. Жизнь не удалась. К чему сопротивляться дальше? Если бы она могла сделать счастливыми всех своих близких, дать образование Весте, скрыть свое прошлое и самое существование Весты — быть может… быть может… ведь бывает же, что богатые люди женятся на бедных девушках, а Лестер такой добрый, и она, конечно, нравится ему. В семь утра она пошла к миссис Брейсбридж; в полдень попросила разрешения уйти под предлогом, что надо помочь матери, и направилась в отель.
Лестер уехал из Цинциннати на несколько дней раньше, чем рассчитывал, и потому не получил ответа Дженни; он явился в Кливленд хмурый и недовольный всем светом. У него еще теплилась надежда, что письмо Дженни ждет его в отеле, но там не было от нее ни строчки. Лестер был не из тех людей, которые легко отчаиваются, но сегодня он приуныл и, мрачный, поднялся в свою комнату, чтобы переодеться. После ужина он попытался развлечься игрой на бильярде и расстался с приятелями лишь после того, как выпил много больше обычного. На другое утро он поднялся со смутной мыслью махнуть рукой на это дело, но время шло, приближался назначенный час, и Лестер решил, что, пожалуй, надо бы подождать. А вдруг Дженни еще придет. Итак, за четверть часа до назначенного срока он спустился в гостиную. Какова же была его радость, когда он увидел Дженни, — она сидела и ждала, и это был знак, что она покорилась. Лестер быстро подошел к ней, довольный, радостный, улыбающийся.
— Все-таки пришла! — сказал он, глядя на нее как человек, который вновь обрел утраченное сокровище. — Почему же ты не написала мне? Ты так упорно молчала, я уж решил, что ты и знать меня не хочешь.
— Я писала, — ответила Дженни.
— Куда?
— По тому адресу, который вы мне дали. Я написала три дня назад.
— А, вот в чем дело: письмо меня уже не застало. Надо было написать раньше. Ну, как ты живешь?
— Хорошо, — ответила Дженни.
— Что-то не похоже. У тебя усталый вид. Что случилось, Дженни? Как дома, все в порядке?
Лестер задал этот вопрос совершенно случайно. Он сам не знал, почему спросил об этом. Но его вопрос помог Дженни заговорить о том, что больше всего ее волновало.
— Отец болен, — сказала она.
— А что с ним?
— Ему обожгло руки на фабрике. Мы ужасно перепугались. Наверно, он уже никогда не будет свободно владеть руками.
Дженни замолчала, и лицо ее выразило всю глубину ее отчаяния; Лестер понял, что она в безвыходном положении.
— Мне очень жаль, — сказал он. — Право, жаль. Когда это случилось?
— Почти три недели назад.
— Да, плохо. А все-таки давай позавтракаем. Я хочу с тобой поговорить. С тех пор как я уехал, мне все хотелось узнать, как живет твоя семья.
Он повел Дженни в ресторан и выбрал там уединенный столик. Стараясь развлечь ее, он предложил ей заказать завтрак, но Дженни была слишком озабочена и застенчиво, и ему пришлось самому заняться меню. Покончив с этим, он весело повернулся к ней.
— Ну, Дженни, я хочу, чтоб ты рассказала мне все о своей семье. Я кое-что понял в прошлый раз, а теперь мне надо как следует во всем разобраться. Ты говоришь, твой отец стеклодув. Теперь ему придется бросить свою профессию, это ясно.
— Да, — сказала Дженни.
— Сколько в семье детей, кроме тебя?
— Пятеро.
— Ты старшая?
— Нет, старший Себастьян. Ему двадцать два года.
— Чем он занимается?
— Он продавец в табачном магазине.
— Не знаешь сколько он зарабатывает?
— Кажется, двенадцать долларов, — додумав, ответила Дженни.
— А другие дети?
— Марта и Вероника не работают, они еще маленькие. Джордж работает посыльным в магазине Уилсона. Он получает три с половиной доллара.
— А ты сколько получаешь?
— Я — четыре.
Лестер помолчал, подсчитал в уме, сколько же у них есть на жизнь.
— Сколько вы платите за квартиру? — спросил он.
— Двенадцать долларов.
— Мать, наверно, уже не молода?
— Ей скоро пятьдесят.
Он задумчиво вертел вилку.
— Сказать по правде, Дженни, я примерно так себе это и представлял, — произнес он наконец. — Я много думал о тебе. Теперь мне все ясно. У тебя есть только один выход, и он не так уж плох, если только ты доверишься мне.
Он помолчал, ожидая вопроса, но Дженни ни о чем не спросила. Она была поглощена своими заботами.
— Ты не хочешь знать, какой выход? — спросил он.
— Хочу, — машинально ответила она.
— Это я, — сказал Лестер. — Позволь мне помочь вам. Я хотел сделать это в прошлый раз. Но теперь ты должна принять мою помощь, слышишь?
— Я думала, что до этого не дойдет, — просто сказала Дженни.
— Я знаю, что ты думала, — возразил он. — Забудь об этом. Я позабочусь о твоей семье. И сделаю это сейчас же, не откладывая.
Он вытащил кошелек и достал несколько десяти — и двадцатидолларовых бумажек — всего двести пятьдесят долларов.
— Возьми, — сказал он. — Это только начало. Я буду заботиться о том, чтобы и впредь твоя семья была обеспечена. Дай-ка руку.
— Нет, нет! — воскликнула Дженни. — Не надо так много. Не давайте мне столько.
— Не спорь, — сказал Лестер. — Ну-ка, давай руку.
Покоряясь его взгляду, Дженни протянула руку, он вложил в нее деньги и слегка сжал ее пальцы.
— Держи, детка. Я люблю тебя, моя прелесть. Я не желаю, чтобы ты нуждалась и твои родные тоже.
Дженни закусила губу и с немой благодарностью смотрела на Кейна.
— Не знаю, как вас благодарить, — наконец сказала она.
— И не надо, — ответил Лестер. — Поверь, это я должен благодарить тебя.
Он замолчал и посмотрел на нее, очарованный ее красотой. Она не поднимала глаз, ожидая, что же будет дальше.
— Почему бы тебе не бросить работу? — спросил Лестер. — Ты была бы весь день свободна.
— Я не могу, — ответила она. — Папа не разрешит. Он ведь знает, что я должна зарабатывать.
— Это, пожалуй, верно, — сказал Лестер. — Но что толку в твоей работе? Господи? Четыре доллара в неделю. Я с радостью давал бы тебе в пятьдесят раз больше, если б думал, что ты сумеешь воспользоваться этими деньгами.
Он рассеянно барабанил пальцами по столу.
— Не могу, — сказала Дженни. — Я и с этими-то деньгами не знаю, как быть. Мои догадаются. Придется все рассказать маме.
По тому, как она это сказала, Лестер заключил, что мать и дочь очень близки, раз Дженни может сделать матери такое признание. Он отнюдь не был черствым человеком, и это его тронуло. Но он вовсе не собирался отказаться от своих намерений.
— Насколько я понимаю, есть только один выход, — мягко продолжал он. — Тебе не пристало быть горничной. Это недостойно тебя. Я против этого. Брось все, и поедем со мной в Нью-Йорк; я о тебе позабочусь. Я люблю тебя и хочу, чтоб ты была моей. И тебе не придется больше тревожиться о родных. Ты сможешь купить им славный домик и обставить его по своему вкусу. Разве тебе этого не хочется?
Он замолчал, и Дженни сразу подумала о матери, о своей милой маме. Всю жизнь миссис Герхардт только и говорила об этом — о таком вот славном домике. Как она была бы счастлива, будь у них дом побольше, хорошая мебель, сад. В таком доме она будет избавлена от забот о квартирной плате, от неудобной ветхой мебели, от унизительной бедности, — она будет так счастлива! Пока Дженни раздумывала об этом, Лестер, зорко следивший за нею, понял, что задел в ней самую чувствительную струну. Это была удачная мысль — предложить ей купить приличный дом для родных. Он подождал еще несколько минут, потом сказал:
— Так ты разрешишь мне это сделать?
— Это было бы очень хорошо, — сказала Дженни. — Но сейчас это невозможно. Я не могу уехать из дому. Папа захочет точно знать, куда я еду. Что я ему скажу?
— Почему бы не сказать, что ты едешь в Нью-Йорк с миссис Брейсбридж? — предложил Лестер. — Против этого никто не может возразить, верно?
— Да, если дома не узнают правду, — удивленно глядя на него, сказала Дженни. — А вдруг узнают?
— Не узнают, — спокойно ответил Лестер. — Они не в курсе дел миссис Брейсбридж. Мало ли хозяек, уезжая надолго, берут с собой горничных. Просто скажи, что тебе предложили поехать, что ты должна ехать, — и мы уедем.
— Вы думаете, это можно? — спросила он.
— Конечно, — ответил Лестер. — А что тут такого?
Поразмыслив, Дженни решила, что это, пожалуй, выполнимо. А потом ей пришло в голову; вдруг близость с этим человеком снова кончится для нее материнством? Какая это трагедия — дать жизнь ребенку… Нет, она не может пойти на это снова, во всяком случае не так опрометчиво, как в первый раз. Она не могла заставить себя рассказать ему о Весте, но она должна сообщить ему об этом неодолимом препятствии.
— Я… — начала она и остановилась, не в силах продолжать.
— Ты?.. — повторил Лестер. — А дальше что?
— Я… — И Дженни снова умолкла.
Лестера восхищала ее застенчивость, ее нежные, робкие губы, не решавшиеся выговорить нужное слово.
— Ну что ж? — спросил он ободряюще. — Ты просто прелесть. Ты боишься мне сказать?
Рука Дженни лежала на столе. Лестер наклонился и положил на нее свою сильную смуглую руку.
— Мне никак нельзя иметь ребенка, — вымолвила наконец Дженни, опустив глаза.
Он пристально смотрел на нее и чувствовал, что ее подкупающая искренность, достоинство, которое она сохраняла даже в столь трудных, неестественных условиях, ее умение просто, непосредственно принимать важнейшие жизненные явления необычайно возвышают ее в его глазах.
— Ты необыкновенная девушка, Дженни, — сказал он. — Ты просто чудо. Но не беспокойся. Это можно уладить. Тебе незачем иметь ребенка, раз ты не хочешь, да и я тоже этого не хочу.
На смущенном, покрасневшем лице Дженни отразилось недоумение.
— Да, да, — сказал Лестер. — Ведь ты мне веришь? Я знаю, что говорю, понятно тебе?
— Д-да, — с запинкой ответила она.
— Ну вот. Во всяком случае я не допущу, чтобы с тобой произошло что-нибудь плохое. Я увезу тебя отсюда. И потом я вовсе не желаю никаких детей. Сейчас они мне не доставили бы ни малейшего удовольствия. Предпочитаю с этим подождать. Но ничего такого и не будет, пускай это тебя не тревожит.
— Хорошо, — чуть слышно ответила она.
Ни за что на свете не решилась бы она сейчас встретиться с ним взглядом.
— Послушай, Дженни, — сказал Лестер немного погодя. — Ведь ты меня любишь, верно? Неужели я стал бы тебя упрашивать, если бы не любил, как по-твоему? Я из-за тебя прямо голову потерял, это чистая правда. Просто пьян от тебя, как от вина. Ты должна уехать со мной. Должна, и поскорее. Я знаю, дело в твоих родных, но это можно уладить. Поедем со мной в Нью-Йорк. А после что-нибудь придумаем. Я познакомлюсь с твоими родными. Мы сделаем вид, что я ухаживаю за тобой, — все, что хочешь, только поедем не откладывая.
— Но ведь не сейчас же? — спросила Дженни почти с испугом.
— Если можно, завтра. На худой конец в понедельник. Ты это устроишь. Что тебя смущает? Ведь если бы миссис Брейсбридж предложила тебе поехать, тебе пришлось бы живо собраться, и никто бы слова не сказал. Разве нет?
— Да, — подумав, подтвердила она.
— Тогда за чем же дело стало?
— Всегда так трудно, когда приходится говорить неправду, — задумчиво сказала Дженни.
— Знаю, а все-таки ты можешь поехать. Верно?
— Может, вы немножко подождете? — попросила Дженни. — Это все так неожиданно. Я боюсь.
— Ни дня не стану ждать, детка. Разве ты не видишь, что я не в силах больше ждать? Посмотри мне в глаза. Поедем?
— Хорошо, — ответила она печально, и все же странное чувство нежности к этому человеку шевельнулось в ее душе. — Поедем.
Глава XXIII
С отъездом все уладилось гораздо легче, чем можно было ожидать. Дженни решила сказать матери всю правду, а отцу можно было сообщить только одно: миссис Брейсбридж уезжает и хочет, чтобы Дженни ее сопровождала. Отец, конечно, начнет расспрашивать, но едва ли у него возникнут какие-либо сомнения. В этот день по дороге домой Дженни зашла с Дестером в универсальный магазин, и Лестер купил ей сундук, немоден, дорожный костюм и шляпу. Он был очень горд своей победой.
— Когда приедем в Нью-Йорк, я куплю тебе что-нибудь получше, — сказал он. — Ты еще сама не знаешь себе цены, на тебя все станут оглядываться.
Он распорядился, чтобы покупки сложили в сундук и отправили к нему в отель. Затем уговорился с Дженни, что в понедельник перед отъездом она придет в отель и переоденется.
Вернувшись домой, Дженни застала мать в кухне, и та, как всегда, обрадовалась ей.
— У тебя был трудный день? — ласково спросила миссис Герхардт. — Ты, мне кажется, очень устала.
— Нет, — сказала Дженни, — я не устала. Не в этом дело. Просто я не совсем себя хорошо чувствую.
— Что-нибудь случилось?
— Ах, мамочка, я должна тебе сказать… Это так трудно…
Она замолчала, вопросительно глядя на мать, потом отвела глаза.
— Ну, что такое? — встревоженно спросила миссис Герхардт. Их уже постигло столько несчастий, что она все время жила в ожидании какой-нибудь новой беды. Ты потеряла место?
— Нет, — ответила Дженни, стараясь не выдать волнения, — но я собираюсь уйти.
— Да не может быть! — воскликнула мать. — Почему?
— Я уезжаю в Нью-Йорк.
Миссис Герхардт изумленно раскрыла глаза.
— Что вдруг? Когда ты решила?
— Сегодня.
— Ты это всерьез?
— Да, мамочка. Послушай. Я хочу кое-что тебе рассказать. Ты же знаешь, как нам трудно живется. Нам все равно никак не поправить наши дела. А сейчас нашелся такой человек, который хочет нам помочь. Он говорит, что любит меня, и хочет, чтоб я в понедельник уехала с ним в Нью-Йорк. Я решила ехать.
— Нет, Дженни, ни за что! — воскликнула мать. — Как же ты можешь опять пойти на такое! Подумай об отце!
— Я уже обо всем подумала, — твердо сказала Дженни. — Так будет лучше. Он хороший человек, я знаю. И у него много денег. Он хочет, чтоб я поехала с ним, и я поеду. А когда вернемся, он купит для нас новый дом и вообще станет помогать. Ты же сама знаешь, на мне никто не женится. Пускай будет так. Он меня любит. И я его люблю. Почему бы мне не поехать.
— А он знает про Весту? — осторожно спросила миссис Герхардт.
— Нет, виновато ответила Дженни. — Я думаю, лучше ему не говорить. Я постараюсь ее в это не вмешивать.
— Боюсь, ты наживешь себе беду, Дженни. Неужто ты думаешь, что это никогда не откроется?
— Я думала, может, она поживет здесь, с вами, пока ей не пора будет в школу, — сказала Дженни. — А потом я, наверно, смогу отправить ее куда-нибудь учиться.
— Так-то так, — согласилась мать. — Но, может быть, все-таки лучше сказать ему сразу? Он будет только лучшего мнения о тебе, если ты скажешь правду.
— Не в этом дело. Дело в Весте, — горячо сказала Дженни. — Я не хочу вмешивать ее во все это.
Миссис Герхардт покачала головой.
— Где ты с ним познакомилась? — спросила она.
— У миссис Брейсбридж.
— Давно?
— Да уже почти два месяца.
— И ты ни разу ни слова про него не сказала, — упрекнула ее миссис Герхардт.
— Я не знала, что он так ко мне относится, — виновато сказала Дженни.
— А может, обождешь? Почему бы ему сперва не зайти к нам? — спросила мать. — Тогда все будет гораздо проще. Ведь все равно, если ты уедешь, отец узнает правду.
— Я хочу сказать, что уезжаю с миссис Брейсбридж. Тогда папа не станет возражать.
— Да, пожалуй, — в раздумье согласилась мать.
Они молча смотрели друг на друга. Миссис Герхардт пыталась нарисовать в своем воображении этого нового, удивительного человека, который вошел теперь в жизнь Дженни. Он богат. Он хочет увезти Дженни. И хочет купить им хороший дом. Прямо как в сказке!
— И вот что он мне дал, — прибавила Дженни, каким-то чутьем угадывавшая мысли матери.
Она достала двести пятьдесят долларов, которые были спрятаны у нее на груди, и вложила их в руки миссис Герхардт.
Та в изумлении уставилась на деньги. В этой пачке зеленых и желтых бумажек заключалось избавление от всех забот — о еде, одежде, угле, плате за квартиру. Если в доме будет много денег, Герхардту не придется так убиваться из-за того, что с обожженными руками он не может работать; Джорджу, Марте и Веронике можно будет накупить хороших вещей — им так этого хочется! Дженни приоденется. Веста получит образование.
— Ты думаешь, он когда-нибудь на тебе женится? — спросила наконец мать.
— Не знаю, — ответила Дженни. — Может быть. Я знаю только, что он меня любит.
— Что ж, — помолчав, сказала миссис Герхардт, — если ты думаешь сказать отцу, что уезжаешь, так не откладывай. Ему и без того это покажется очень странным.
Дженни поняла, что победа осталась за нею. Сила обстоятельств заставила мать примириться со случившимся. Она огорчена, но все-таки ей уже кажется, что может быть, это и к лучшему.
— Я помогу тебе, — со вздохом сказала она дочери.
Миссис Герхардт было нелегко солгать, но она солгала с таким непринужденным видом, что усыпила все подозрения мужа. Новость сообщили детям, все оживленно обсуждали ее, а когда затем и Дженни повторила эту выдумку отцу, все вышло довольно естественно.
— И надолго ты едешь? — осведомился он.
— Недели на две, на три, — ответила Дженни.
— Это приятное путешествие, — сказал Герхардт. — Я побывал в Нью-Йорке в тысяча восемьсот сорок четвертом году. Тогда это был совсем маленький городок, не то, что теперь.
В глубине души он был очень рад, что Дженни так повезло. Как видно, хозяйка ею довольна.
Настал понедельник; рано утром Дженни простилась с родными и пошла в отель «Дорнтон», где ее ждал Лестер.
— Вот и ты! — весело воскликнул он, встретив ее в дамской гостиной.
— Да, — просто ответила она.
— Ты — моя племянница, — продолжал Лестер. — Я заказал для тебя смежный номер. Сейчас я пошлю за ключом, и ты переоденешься. Когда будешь готова, я отправлю твой багаж на вокзал. Поезд отходит в час.
Дженни пошла переодеться, а Лестер, не зная, как убить время, читал, курил и наконец постучался к ней. Она уже успела переодеться и тотчас открыла ему.
— Ты очаровательна, — сказал он с улыбкой.
Она опустила глаза, на душе у нее было тяжело и неспокойно. Ей пришлось столько хитрить, лгать, волноваться, чтобы сыграть свою роль, — все это давалось нелегко. Лицо у нее было усталое, измученное.
— Неужели ты огорчена? — спросил Лестер, внимательно глядя на нее.
— Н-нет, — ответила Дженни.
— Ну-ну, детка, не надо так. Все будет хорошо.
Он обнял ее и поцеловал, и они сошли вниз. Он поразился, увидев как она хороша даже в этом скромном наряде — лучшем, какой ей когда-либо доводилось надевать.
Они быстро доехали до вокзала. Кейн заказал места заранее, чтобы приехать к самому отходу поезда. Они уселись в купе пульмановского вагона, и Лестера охватило чувство величайшего удовлетворения. Жизнь предстала перед ним в самом розовом свете. Дженни рядом. Он добился того, чего хотел. Хорошо, если бы всегда все так удавалось.
Поезд тронулся, и Дженни стала задумчиво смотреть в окно. За окном потянулись бесконечные поля, мокрые и побуревшие под холодным дождем; по осеннему голые леса; среди плоских равнин мелькали фермы — домики с невысокими крышами словно старались плотнее прижаться к земле. Поезд проносился мимо крохотных деревушек, — это были просто кучки белых, желтых, бурых лачуг, их кровли почернели от дождя и непогоды. Один домик напомнил Дженни старый дом Герхардтов в Колумбусе; она закрыла глаза платком и тихо заплакала.
— Ты плачешь, Дженни? — сказал вдруг Лестер, отрываясь от письма, которое он читал. — Полно, полно, — продолжал он, видя, что она вся дрожит. — Так не годится. Будь умницей. Что толку в слезах?
Она не отвечала, и Лестер невольно посочувствовал этому глубокому немому горю.
— Не плачь, — успокаивал он ее. — Я ведь сказал тебе, все будет хорошо. Не тревожься ни о чем.
Дженни с усилием взяла себя в руки и стала вытирать глаза.
— Не надо так расстраиваться, — продолжал Лестер. — От этого только хуже. Я понимаю, тебе тяжело уезжать из дому, но слезами тут не поможешь. И ведь ты не навсегда уезжаешь. Ты же скоро вернешься. И ты меня любишь, правда, детка? Я что-нибудь для тебя значу?
— Да, — ответила Дженни, силясь улыбнуться.
Лестер снова стал читать письма, а Дженни задумалась о Весте. Ей было не по себе от сознания, что у нее есть такая тайна от человека, который уже стал ей дорог. Она знала, что должна рассказать Лестеру о ребенке, но одна мысль об этом заставляла ее содрогаться. Быть может, когда-нибудь она найдет в себе достаточно мужества, чтобы ему признаться. «Я должна ему сказать, — с волнением думала она; на нее вдруг нахлынуло сознание всей серьезности этого долга. — Если я сразу не признаюсь и мы станем жить вместе, а потом он все узнает, он мне никогда не простит. Он может меня выгнать — а куда я пойду? У меня нет больше дома. Что мне тогда делать с Вестой?»
Она обернулась и посмотрела на Лестера, охваченная ужасным предчувствием, но перед нею был всего лишь солидный, холеный мужчина, погруженный в чтение писем, — ни в его свежевыбритом розовом лице, ни во всей фигуре, которая так и дышала довольством, не было ничего грозного, напоминающего разгневанную Немезиду. Едва Дженни успела отвести глаза, Лестер, в свою очередь, посмотрел на нее.
— Ну что, оплакала все свои грехи? — весело спросил он.
Она ответила слабой улыбкой. Намек нечаянно попал в цель.
— Надеюсь, — сказала она.
Он заговорил о другом, а Дженни смотрела в окно и думала, как хорошо бы сейчас сказать ему правду — и вот ничего не выходит. «Нельзя откладывать надолго», — подумала она, утешая себя мыслью, что, может быть, скоро соберется с духом и все ему расскажет.
На другой день они прибыли в Нью-Йорк, и перед Лестером встал серьезный вопрос: где остановиться? Нью-Йорк — большой город, маловероятно, чтобы он встретил здесь знакомых, но Лестер предпочитал не рисковать. Поэтому он велел кучеру отвезти их в один из самых изысканных отелей и снял номер из нескольких комнат, где им предстояло провести недели две-три.
Обстановка, в которую теперь попала Дженни, была столь необычна, столь ослепительна, что ей казалось, будто она перенеслась в какой-то иной мир. Кейн не любил дешевой, кричащей роскоши. Он всегда окружал себя простыми и изящными вещами. Он сразу понял, что нужно Дженни, и все выбирал для нее заботливо и со вкусом. И Дженни, истая женщина, от души радовалась красивым нарядам и прелестным безделушкам, которыми он ее осыпал. Неужели это Дженни Герхардт, дочь прачки, спрашивала она себя, видя в зеркале стройную фигуру в синем бархатном платье с золотистым французским кружевом у ворота и на рукавах. Неужели это ее ноги обуты в легкие изящные туфельки, стоящие десять долларов, ее руки в сверкающих драгоценных камнях? Просто чудо, что на нее свалилось такое богатство! И Лестер обещал, что и на долю ее матери тоже кое-что достанется. Слезы выступали на глазах Дженни, когда она думала об этом. Милая, дорогая мама!
Лестеру доставляло большое удовольствие наряжать ее так, чтобы она была по-настоящему достойна его. Он пустил в ход все свои способности — и результат превзошел его самые смелые ожидания. В коридорах, в ресторанах, на улице люди оборачивались и провожали его спутницу взглядом.
— Потрясающая женщина! — слышалось со всех сторон.
Несмотря на то, что положение Дженни так резко изменилось, это не вскружило ей голову и она не утратила здравого смысла. У нее было такое чувство, словно жизнь осыпала ее своими дарами лишь на время, а потом опять все отнимет. Ей не свойственно было мелкое тщеславие. Лестер убеждался в этом, наблюдая за нею.
— Ты замечательная женщина, — говорил он. — Ты еще будешь блистать. До сих пор жизнь не слишком баловала тебя.
Его заботила мысль о том, как объяснить эту новую связь родным, если они что-нибудь прослышат. Он уже подумывал снять дом в Чикаго или в Сент-Луисе, но удастся ли сохранить все в тайне? Да и хочется ли ему делать из этого тайну? Он был почти убежден, что по-настоящему, искренне любит Дженни.
Когда подошло время возвращаться, Лестер стал обсуждать с Дженни дальнейший план действий.
— Постарайся представить меня отцу как знакомого, — говорил он. — Так будет проще. Я зайду к вам. И потом, когда ты ему скажешь, что мы хотим пожениться, это его не удивит.
Дженни подумала о Весте и внутренне содрогнулась. Но, может быть, удастся уговорить отца молчать.
Лестер дал Дженни дельный совет; сберечь старое кливлендское платье, чтобы она могла вернуться в нем домой.
— Об остальных вещах не беспокойся, — сказал он. — Я их сохраню до тех пор, пока мы не устроимся по-настоящему.
Все уладилось очень легко и просто: Лестер был отличный стратег.
Пока они были в Нью-Йорке, Дженни почти каждый день писала домой и вкладывала в эти письма коротенькие записочки, которые предназначались только для матери. Однажды она сообщила, что Лестер хочет побывать у них, и просила миссис Герхардт подготовить к этому отца; рассказать ему, что она встретила человека, который ее полюбил. Она писала о трудностях, связанных с Вестой, и мать сразу стала строить планы, как заставить Герхардта держать язык за зубами. Надо, чтоб на этот раз все шло гладко. Надо дать Дженни возможность устроить свою судьбу. Наконец Дженни приехала, и все обрадовались ей. Разумеется, она не могла вернуться к прежней работе, но миссис Герхардт объяснила мужу, что миссис Брейсбридж заплатила Дженни за две недели вперед, чтобы она могла подыскать себе место получше, с более высоким жалованьем.
Глава XXIV
Временно уладив дела Герхардтов и свои взаимоотношения с ними, Лестер Кейн вернулся в Цинциннати, к своим обязанностям. Он искренне интересовался жизнью громадной фабрики, занимавшей целых два квартала на окраине города, и все успехи и перспективы фирмы были для него таким же кровным делом, как для его отца и брата. Ему нравилось чувствовать себя необходимой частью огромного и все растущего предприятия. Когда он встречал на железной дороге товарные вагоны с надписью «Компания Кейн, Цинциннати» или видел за окнами больших магазинов в разных городах всевозможные экипажи производства своей фирмы, он испытывал горячее и радостное удовлетворение. Ведь не шутка — быть представителем такого надежного, почтенного, добропорядочного предприятия! Все это было прекрасно, но теперь в личной жизни Лестера началась новая эпоха — короче говоря, теперь появилась Дженни. Возвращаясь в родной город, он сознавал, что эта связь сможет повлечь за собой неприятные последствия. Он побаивался того, как отнесется к этому отец; а главное приходилось думать о брате.
Роберт был человек холодный и педантичный, образцовый делец, безупречный и в общественной и в личной жизни. Никогда он не преступал строго установленных границ узаконенной добропорядочности, не отличался ни отзывчивостью, ни великодушием и в сущности способен был на любое мошенничество, которое мог бы для себя оправдать каким-нибудь благовидным предлогом или хотя бы необходимостью. Как он при этом рассуждал, Лестеру было неясно, — он не мог проследить всех ухищрений логики, примирявшей жесткие приемы дельца со строжайшими правилами морали, — но Роберт как-то умудрялся сочетать одно с другим. «Он проповедует, как шотландец-пресвитерианин, и чует поживу, как азиат», — однажды сказал кому-то Лестер про брата, и это было совершенно точное определение. И, однако, он не мог ни сбить Роберта с его позиций, ни вступить с ним в спор, ибо на стороне брата было мнение большинства. Роберт поступал, а пожалуй, и рассуждал именно так, как принято.
Внешне братья были в самых дружеских отношениях, внутренне — глубоко чужды друг другу. Роберт в общем относился к Лестеру неплохо, но не доверял его способности разбираться в финансовых вопросах. К тому же братья были слишком разными людьми, чтобы одинаково смотреть на жизнь. Лестер втайне презирал брата за то, что тот посвятил себя хладнокровной, упорной погоне за всемогущим долларом. А Роберт был убежден, что легкомыслие Лестера предосудительно и доведет его рано или поздно до беды. В делах им не приходилось сталкиваться всерьез, поскольку до сих пор всем заправлял отец, но между ними постоянно возникали разногласия, и нетрудно было понять, откуда дует ветер. Лестер стоял за то, чтобы вести торговые дела на основе дружеских отношений, личных знакомств, одолжений и уступок, Роберт считал, что нужно вести жесткую линию, снижать издержки производства и сбивать цены, чтобы удушить всякую конкуренцию.
Старый фабрикант всегда старался водворять мир и тишину, но предвидел, что когда-нибудь разразится крупная ссора и тогда кому-нибудь из сыновей, а может быть, даже и обоим, придется выйти из дела, «Надо бы вам получше ладить между собой!» — часто говаривал он.
И еще одно беспокоило Лестера — взгляды отца на брак, точнее — на его брак. Арчибалд Кейн постоянно твердил, что Лестер должен жениться и что он делает большую ошибку, откладывая это. Все остальные, кроме Луизы, благополучно женились и вышли замуж. Почему бы и его любимому сыну не последовать их примеру? Старик был убежден, что холостяцкая жизнь вредит Лестеру во всех отношениях.
— Принято, чтобы человек с твоим положением был женат, — не раз доказывал он сыну. — Это придаст тебе солидности в глазах людей. Найди себе хорошую жену, обзаведись семьей. Что ты станешь делать без дома, без детей, когда доживешь до моих лет?
— Отчего же, если встречу подходящую девушку, женюсь, — отвечал Лестер. — Но пока я такой не встречал. Что же мне по-твоему, делать? Жениться на ком попало?
— Нет, конечно, но мало ли хороших девушек? Ты, наверное, сумел бы найти себе подходящую жену, если бы захотел. Например, эта Пэйс. Чем она плоха? Она тебе всегда нравилась. Не следует продолжать в таком духе, Лестер, это к добру не приведет.
Сын только улыбался в ответ.
— Ладно, отец, оставим это. Когда-нибудь я наверняка образумлюсь. Но ведь для того, чтобы пить, надо чувствовать жажду.
Старик на время сдавался, но это было его больное место. Ему так хотелось, чтобы сын остепенился и стал настоящим деловым человеком.
Лестер понимал, что такое положение вещей не позволит ему построить свои отношения с Дженни на какой-либо прочной основе. Он тщательно обдумал план действий. Безусловно, он не откажется от Дженни, будь что будет. Но надо соблюдать осторожность; не следует рисковать понапрасну. Привезти ее в Цинциннати? Какой разразится скандал, если это когда-нибудь выйдет наружу! Устроить ее в уютном домике где-нибудь за городом? Конечно, у родных рано или поздно возникнут подозрения. Брать ее с собой в многочисленные деловые поездки? На первый раз поездка в Нью-Йорк сошла благополучно. Но всегда ли так будет? Он обдумывал это снова и снова. Трудности только подстрекали его. В конце концов, может быть, самое подходящее место — какой нибудь другой город; Сент-Луис, Чикаго или Питтсбург. Он часто бывал там, особенно в Чикаго. Под конец он решил поселить Дженни именно в Чикаго. Он всегда может наведаться туда под каким-нибудь предлогом, и это только ночь езды. Да, Чикаго лучше всего. В таком большом, оживленном городе нетрудно будет затеряться. Проведя две недели в Цинциннати, Лестер написал Дженни, что скоро приедет в Кливленд, и она ответила, что он может прийти к ней домой. Она говорила о нем отцу. Она сочла неразумным оставаться дома и поступила на службу в магазин, получает четыре доллара в неделю. Он улыбнулся, прочитав это, но ее энергия и порядочность нравились ему. «Она молодец, — сказал он себе. — Я еще никогда не встречал такой девушки».
В ближайшую субботу он приехал в Кливленд, зашел в магазин, где служила Дженни, и уговорился встретиться с ней вечером. Пусть она его представит своим родителям в качестве поклонника, лишь бы с этим было покончено поскорее. Убожество дома Герхардтов и их бьющая в глаза бедность вызвали в Лестере чуть ли не отвращение, однако сама Дженни казалась ему такой же прелестной, как всегда. После того как он просидел несколько минут в столовой, к нему вышли поздороваться Герхардт с женой, но Лестер почти не обратил на них внимания. Старый немец показался ему весьма заурядной личностью — таких сотнями нанимали на самые скромные должности на фабрике его отца. Поговорив немного о том о сем, Лестер предложил Дженни поехать кататься. Дженни надела шляпку, и они вышли. На самом деле они отправились на квартиру, нанятую Лестером, где пока что хранились новые наряды Дженни. Вернулась Дженни в восемь часов вечера, и домашние не увидели в этом ничего плохого.
Глава XXV
Через месяц Дженни сообщила, что Лестер хочет на ней жениться. Разумеется, его визиты подготовили почву, и это показалось всем довольно естественным. Только сам Герхардт словно бы немного сомневался. Ему неясно было, что из этого получится. Возможно, все будет хорошо, Лестер как будто и в самом деле неплохой человек, и в конце-концов отчего бы ему не полюбить Дженни? Был же до него Брэндер. Если в нее мог влюбиться сенатор Соединенных Штатов, так почему это не может случиться с сыном фабриканта? Остается только одно препятствие — ребенок.
— Она сказала ему про Весту? — спросил Герхардт жену.
— Нет еще, — ответила миссис Герхардт.
— Нет еще, нет еще. Всегда какие-то недомолвки. По-твоему он захочет жениться на ней, если узнает? Вот, что получается, когда девушка плохо себя ведет. Теперь ей приходится изворачиваться, как воришке. У ребенка даже нет честного имени.
Герхардт снова уткнулся в газету, но невеселые мысли одолевали его. Он считал, что жизнь его совершенно не удалась, и лишь надеялся поправиться настолько, чтобы можно было найти какое-нибудь место — скажем, сторожа. Ему хотелось быть подальше от всех этих хитростей и обманов.
Недели через две Дженни призналась матери, что Лестер письмом вызывает ее к себе в Чикаго. Он не совсем здоров и не может приехать в Кливленд. Мать с дочерью сказали Герхардту, что Дженни уезжает, чтобы обвенчаться с мистером Кейном. Герхардт вспылил, и все его подозрения пробудились вновь. Но ему оставалось только ворчать; нет уж, вся эта история добром не кончится.
Настал день отъезда, и Дженни пришлось уехать, не простясь с отцом. Он до вечера бродил по городу в поисках работы, и она должна была уйти на вокзал, так и не дождавшись его.
— Я ему оттуда напишу, — сказала она.
Снова и снова она целовала дочку.
— Лестер скоро снимет для нас дом получше этого, — весело говорила она. — Он хочет, чтобы мы отсюда переехали.
И вот ночной поезд уносит ее в Чикаго; кончилась прежняя жизнь и начинается новая.
Любопытно, что хотя по милости Лестера семья теперь не так нуждалась в деньгах, дети и Герхардт ничего не замечали. Миссис Герхардт без труда обманывала мужа, покупая предметы первой необходимости, и пока что не решалась ни на какие излишества, которые теперь можно было бы себе позволить. Ее удерживал страх. Но Дженни, проведя несколько дней в Чикаго, написала матери, что Лестер настаивает, чтобы они переехали в другой дом. Письмо показали Герхардту, который только и ждал возвращения дочери, чтобы устроить скандал. Он нахмурился, но почему-то это предложение показалось ему свидетельством того, что все в порядке. Если бы Кейн не женился на Дженни, с чего бы ему помогать семье? Пожалуй, они и в самом деле благополучно поженились. Пожалуй, Дженни действительно достигла высокого положения и может теперь помогать родным. Герхардт почти готов был все ей простить, раз и навсегда.
Итак, вопрос о новом доме был решен, и Дженни вернулась в Кливленд, чтобы помочь матери с переездом. Они вместе ходили по городу в поисках приятного, тихого квартала и наконец нашли подходящее место. Был снят дом из девяти комнат, с двором, сдававшийся за тридцать долларов в месяц. Его обставили как полагается: купили удобную мебель для столовой, гостиной, хорошие стулья, кресла, кровати и все, что нужно для каждой комнаты. Кухня была со всеми удобствами, была даже ванная — роскошь, какой Герхардты прежде никогда не знали. Словом, дом был очень милый, хотя и скромный, и Дженни радовалась, что родным будет теперь хорошо и уютно.
Когда настало время переезжать, миссис Герхардт была просто вне себя от радости; сбывалась ее мечта! Долгие годы, всю свою жизнь она ждала — и вот дождалась. Новый дом, новая мебель, вдоволь места, прекрасные вещи, какие ей и во сне не снились, — подумать только! У нее блестели глаза при виде новых кроватей, столов, шкафов и прочего.
— Господи, какая прелесть! — восклицала она. — Как красиво, правда?
Дженни, очень довольная, улыбалась, стараясь скрыть волнение, на глаза ее то и дело навертывались слезы. Она так радовалась за мать. Она готова была целовать ноги Лестера за то, что он так добр к ее родным.
В тот день, когда привезли мебель, миссис Герхардт, Марта и Вероника тотчас стали ее расстанавливать и приводить в порядок. Большие комнаты, двор, по-зимнему пустынный, но где весной, конечно, будет так славно и зелено, и новая превосходная мебель, привели всех в восторг. Как красиво, как просторно! Джордж топтался на новых коврах, Басс критически осматривал мебель.
— Шикарно, — заявил он наконец.
Миссис Герхардт блуждала по дому, как во сне. Ей не верилось, что она и в самом деле хозяйка в этих замечательных спальнях, в красивой гостиной и столовой.
Герхардт пришел последним. Как он ни старался, ему плохо удавалось скрыть свое восхищение. Вид круглого матового абажура над столом в столовой был последней каплей.
— Ишь ты, газ! — сказал Герхардт.
Он хмуро поглядел вокруг из-под косматых бровей: на ковер под ногами, на раздвижной дубовый стол, покрытый белой скатертью и уставленный новыми тарелками, на картины по стенам, осмотрел сверкающую чистотой кухню и покачал головой.
— Тьфу, пропасть! Вот здорово! — сказал он. — Очень здорово. Да, очень хорошо. Надо быть поосторожнее, чтоб чего-нибудь не сломать. Так легко поцарапать вещь, а тогда уж ее хоть выбрось.
Да, даже Герхардт был доволен.
Глава XXVI
Нет смысла описывать подряд все события следующих трех лет — описывать, как семья постепенно перешла от крайней нужды к сравнительно прочному достатку, основанному, разумеется, на явном благополучии Дженни и на великодушии ее далекого супруга. Время от времени появлялся сам Лестер — важный делец, наездом бывающий в Кливленде; изредка он останавливался у Герхардтов, где его с Дженни всегда ждали две лучшие комнаты на втором этаже. Иногда он вызывал ее телеграммой, и она спешно выезжала в Чикаго, Сент-Луис или Нью-Йорк, Больше всего Лестер любил снять комнаты на одном из модных курортов — в Хот-Спрингс, Маунт-Клеменс или Саратоге — и позволить себе роскошь провести неделю-другую с Дженни под видом мужа и жены. Бывало и так, что он заезжал в Кливленд всего на день, чтобы с нею повидаться. Он все время сознавал, что перекладывает на плечи Дженни всю тяжесть довольно трудного положения, но не представлял себе, как это сейчас можно поправить. Да и надо ли поправлять. Им и так неплохо вместе.
В семействе Герхардтов сложилось очень своеобразное отношение к происходящему. Сперва, несмотря ни на что, положение казалось довольно естественным. Дженни сказала, что она вышла замуж. Ее брачного свидетельства никто не видел, но так она сказала, и она в самом деле держалась совсем как замужняя дама. А все-таки она никогда не ездила в Цинциннати, где жила семья Лестера, и никто из его родных никогда не бывал у нее. Да и сам он вел себя странно, хотя его щедрость на первых порах и ослепила Герхардтов. Даже не похоже было, что он женатый человек. Он бывал так небрежен. В иные недели Дженни, по-видимому, получала от него лишь коротенькие записки. Бывало, что она уезжала к нему всего на несколько дней. Наконец, случалось, что она отсутствовала подолгу — единственное веское доказательство прочных отношений, да и то, пожалуй, странное.
Бассу уже минуло двадцать пять, он обладал известным деловым чутьем и сильным желанием выдвинуться, и у него возникли некоторые подозрения. Он недурно разбирался в жизни и чувствовал, что тут что-то неладно. Девятнадцатилетнему Джорджу удалось занять кое-какое положение на фабрике обоев, он мечтал сделать карьеру в этой области, и его тоже беспокоила сестра. Он подозревал, что у нее не все идет, как полагается. Семнадцатилетняя Марта, Уильям и Вероника еще учились в школе. Им предоставили возможность учиться, сколько они захотят; но и они ощущали смутное беспокойство. Они ведь знали, что у Дженни есть ребенок. Соседи, как видно, сделали свои выводы. С Герхардтами почти никто не водил знакомства. Даже Герхардт-отец в конце концов стал догадываться, что дело неладно, но ведь он сам допустил это, и теперь, пожалуй, поздно было протестовать. Иногда ему хотелось расспросить Дженни, заставить ее исправить, что можно, но ведь худшее уже совершилось. Теперь все зависело от Лестера. Герхардт это понимал.
В отношениях Дженни с родными постепенно назревал решительный перелом, но тут внезапно вмешалась сама жизнь. Здоровье миссис Герхардт пошатнулось. Женщина полная, еще так недавно подвижная и деятельная, она в последние годы почувствовала упадок сил и стала тяжела на подъем; притом ее от природы беспокойный ум угнетало великое множество невзгод и тяжких тревог, и вот теперь это привело к медленному, но несомненному угасанию. Она двигалась вяло, быстро уставала от той несложной работы, которая еще оставалась на ее долю, и наконец пожаловалась Дженни, что ей стало очень трудно подниматься по лестнице.
— Мне что-то нездоровится, — сказала она. — Как бы не заболеть.
Дженни забила тревогу и предложила повезти мать на ближайший курорт, но миссис Герхардт отказалась.
— Вряд ли мне это поможет, — сказала она.
Она сидела в садике или ездила с дочерью на прогулку, но унылые картины осени угнетали ее.
— Не люблю я хворать осенью, — говорила она. — Смотрю, как падают листья, и мне все кажется, что я никогда не поправлюсь.
— Ну что ты говоришь, мамочка! — возражала Дженни, скрывая испуг.
Всякий дом прежде всего держится на матери, но понимают это лишь тогда, когда уже недалек конец. Басс, который собирался жениться и уйти из семьи, на время отказался от этой мысли. Сам Герхардт, потрясенный и безмерно подавленный, бродил по дому, как человек, который с ужасом ждет неизбежной катастрофы. Дженни никогда не приходилось так близко сталкиваться со смертью, и она не понимала, что теряет мать; ей казалось, что больную еще как-то можно спасти. Надеясь наперекор очевидности, она бодрствовала у постели матери — воплощенное терпение, забота и внимание.
Конец настал утром, после целого месяца болезни; несколько дней миссис Герхардт была без памяти; в доме водворилась глубокая тишина, все ходили на цыпочках. В последние минуты сознание миссис Герхардт прояснилось, и она скончалась, не отводя взгляда от лица Дженни. Охваченная тоской и ужасом, Дженни смотрела ей в глаза.
— Мамочка, мама! — закричала она. — Нет, нет!
Герхардт прибежал со двора и рухнул на колени возле постели, в отчаянии ломая худые руки.
— Зачем я не умер раньше! — твердил он. — Зачем я не умер раньше!
Смерть матери ускорила распад семьи. У Басса давно уже была в городе невеста, и он собирался немедленно жениться. Марте, которая стала смотреть на жизнь более трезво и практично, тоже не терпелось уйти из семьи. Ей казалось, что какое-то проклятие лежит на их доме и на ней самой, пока она здесь остается. Она собиралась стать учительницей и надеялась, что работа в школе позволит ей существовать самостоятельно. Один только старик Герхардт не знал, что ему делать. Он опять работал ночным сторожем. Однажды Дженни застала его на кухне плачущим и тотчас расплакалась сама.
— Не надо, папа, — уговаривала она. — Все не так уж плохо. Ты же знаешь, пока у меня есть хоть какие-то деньги, ты не останешься без крова. Ты можешь уехать со мной.
— Нет, нет, — возразил отец. Он действительно не хотел ехать с нею. — Не в этом дело. Вся моя жизнь пошла прахом.
Некоторое время Басс, Джордж и Марта еще пожили дома, но наконец один за другим разъехались, и в доме остались только Дженни, отец, Вероника, Уильям и самая младшая — Веста, дочка Дженни. Лестер, разумеется, ничего не знал о происхождении Весты и, что любопытно, даже ни разу не видел девочки. В тех случаях, когда он — самое большое дня на два, на три — удостаивал своим присутствием дом Герхардтов, миссис Герхардт всячески заботилась о том, чтобы Веста не попалась ему на глаза. Детская помещалась под самой крышей, и спрятать ребенка было не так трудно. Лестер почти все время оставался у себя, даже обед ему подавали в комнату, служившую ему гостиной. Он был отнюдь не любопытен и не стремился встречаться с остальными членами семьи. Он всегда любезно здоровался с ними и обменивался несколькими случайными фразами, но не более того. Все понимали, что малышке не следует быть на виду, и успешно ее прятали.
Стариков и детей всегда связывает какая-то необъяснимая приязнь, прекрасная и трогательная внутренняя близость. В первый год после переезда на Лорри-стрит Герхардт украдкой ласково щипал пухлые розовые щечки Весты, а когда никого не было дома, сажал ее к себе на плечи и катал по комнатам. Когда она подросла настолько, что начала ходить, именно он терпеливо водил ее по комнате, крепко обвязав полотенцем под мышками, пока она не научилась делать по несколько шагов самостоятельно. А когда она стала уже такая большая, что могла ходить по-настоящему, он уговаривал ее идти — уговаривал украдкой, хмуро и все-таки всегда ласково. По прихоти судьбы эта девочка — позор его семьи, несмываемое пятно с точки зрения общепринятой морали — забрала в свои беспомощные детские пальчики самые чувствительные струны его души. Он отдавал этому маленькому отверженному созданию весь жар своего сердца и все свои надежды. Девочка была единственным лучом света в его замкнутой, безрадостной жизни, и Герхардт рано почувствовал себя ответственным за ее религиозное воспитание. Разве не он настоял, чтобы ребенка окрестили.
— Скажи; «Отче наш», — часто требовал он, оставаясь с внучкой наедине.
— Оче нас, — шепелявя, повторяла она.
— Иже еси на небесах…
— Иси небесех… — повторяла девочка.
— Зачем ты учишь ее так рано? — вступалась, бывало, миссис Герхардт, услыхав, как малышка воюет с неподатливыми звуками.
— Затем, чтоб она росла христианкой, — решительно отвечал Герхардт. — Она должна знать молитвы. Если она не начнет теперь, она никогда их не выучит.
Миссис Герхардт улыбалась в ответ. Многие религиозные причуды мужа только забавляли ее. В то же время ей нравилось, что он так близко принимает к сердцу воспитание внучки. Если б только он не был порою таким суровым, таким несговорчивым. Он мучил и себя и всех окружающих.
Вновь настала весна, и рано утром, по первому солнышку, Герхардт стал выводить Весту, чтобы погулять.
— Гулять, — щебетала Веста.
— Да, гулять, — повторял Герхардт.
Миссис Герхардт надевала девочке хорошенький капор (Дженни позаботилась о том, чтобы у ее дочки было вдоволь нарядов), и они пускались в путь. Веста неуверенно переваливалась, а Герхардт, очень довольный, вел ее за руку, едва передвигая ноги, чтобы приспособиться к ее шагу.
Как-то, когда Весте было четыре года, в прекрасный майский день они отправились на прогулку. Природа радовалась весне, распускались почки на деревьях; щебетали птицы, празднуя свое возвращение с юга; всякие мошки спешили насладиться короткой жизнью. Воробьи чирикали на дороге; малиновки прыгали в траве; ласточки вили гнезда под крышами домов. Герхардт с истинным наслаждением показывал Весте чудеса природы, и она живо на все откликалась. Все, что она видела и слышала, занимало ее.
— О-о! — крикнула она, заметив мелькнувшее невысоко красное пятнышко: с ветки поблизости взлетела малиновка.
Девочка подняла руку, глаза у нее стали совсем круглые.
— Да, — сказал Герхардт, такой счастливый, как будто он и сам первый раз в жизни увидел чудесную птичку. — Это малиновка. Птица. Малиновка. Скажи, ма-ли-нов-ка.
— Ма-и-но-ка, — эхом отозвалась Веста.
— Да, малиновка — повторил Герхардт. — Она полетела искать червяка. А мы попробуем найти ее гнездо. Я, кажется, видел гнездо где-то здесь, на дереве.
Он неторопливо шагал, осматривая ветви деревьев, на одном из которых он недавно заметил покинутое гнездо.
— Вот оно! — сказал он наконец, подходя к невысокому, еще не одевшемуся листвою деревцу; в ветвях виднелись остатки птичьего жилища, полуразрушенного зимней непогодой. — Вот иди сюда, смотри! — Он высоко поднял внучку и показал ей комок сухой травы. — Смотри, гнездо. Это птичкино гнездышко. Смотри!
— О-ой! — протянула Веста, тоже показывая пальчиком. — О-ой! Нездышко!
— Да, — подтвердил Герхардт, снова опуская девочку на землю. — Это гнездо птички, ее зовут кра-пив-ник. А теперь все из гнезда улетели и больше не вернутся.
И они пошли дальше; он показывал внучке новые чудеса, а она по-детски всему изумлялась. Пройдя еще квартала два, Герхардт медленно повернул назад, словно они уже пришли на край света.
— Нам пора домой, — сказал он.
Так Веста росла до пяти лет, становясь все милей, смышленей и живее. Герхардта приводили в восторг ее вопросы и загадки, которыми она сыпала без счета.
— Что за девочка! — говорил он жене. — Все-то ей надо знать! Она меня спрашивает: где живет боженька? Что он делает? Есть ли у него скамеечка для ног? Умора, да и только!
Он одевал внучку, когда она просыпалась поутру, укладывал ее спать по вечерам, дождавшись, пока она прочтет молитву. Он проводил с нею все дни, и она стала самой большой его радостью и утешением. Не будь Весты, жизнь была бы для Герхардта куда более тяжким бременем.
Глава XXVII
Все эти три года Лестер был счастлив с Дженни. Хоть их связь и была незаконной в глазах церкви и общества, но она давала ему покой и уют, он был очень счастлив, что опыт удался. Его интерес к светской жизни в Цинциннати свелся к нулю, и он упорно отмахивался от всяких попыток женить его. Отцовская фирма была бы для него прекрасным поприщем, на котором он, несомненно, выдвинулся бы, если б только мог ею управлять; но он понимал, что это невозможно. Интересы Роберта всегда становились ему поперек дороги, и касалось ли это их взглядов или их цели, во всем братья были теперь еще более далеки друг от друга, чем когда-либо. Раза два Лестер подумывал о том, чтобы заняться каким-нибудь другим делом или войти компаньоном в другую фирму, производящую экипажи, но у него не хватало духу это сделать, Лестер получал пятнадцать тысяч в год в качестве секретаря и казначея отцовской фирмы (брат был вице-президентом), и, кроме того, пять тысяч давал ему капитал, вложенный в разные ценные бумаги. Он не был таким удачливым и ловким дельцом, как Роберт; кроме этих пяти тысяч дохода, у него ничего не было. Напротив, Роберт, несомненно, «стоил» триста или даже четыреста тысяч долларов, не считая своей будущей доли в отцовском предприятии. Оба брата рассчитывали, что наследство будет разделено с некоторым преимуществом для них: они получат по четвертой части, а сестры по шестой. Казалось вполне естественным, что Кейн-старший именно так и рассудит, поскольку сыновья фактически вели все дело. И, однако, полной уверенности не было. Старик может поступить, как ему заблагорассудится. Весьма вероятно, что он будет в высшей степени добр и справедлив. В то же время Роберт явно умеет взять от жизни куда больше. Итак, что же оставалось делать Лестеру?
В жизни каждого мыслящего человека наступает время, когда он оглядывается на прошлое и спрашивает себя, чего же он стоит и в умственном, и в нравственном, и в физическом, и в материальном отношении. Это происходит тогда, когда безрассудные юношеские порывы уже позади, когда первые самостоятельные шаги и самые энергичные усилия уже сделаны и все, к чему стремился и чего достиг, становится в твоих глазах неверным и непрочным. И в сознание многих закрадывается иссушающая душу мысль о тщете бытия — мысль, которую всего лучше выразил Экклезиаст.
Однако Лестер пытался быть философом. «Не все ли равно, — часто говорил он себе, — живу я в Белом доме, здесь, у себя, или в „Грэнд-Пасифик“?» Но самая постановка вопроса уже говорила о том, что есть в жизни вещи, которых ему не удалось достичь. Белый дом был символом блистательной карьеры крупного общественного деятеля. Свой особняк и шикарный отель олицетворяли то, что далось Лестеру без усилий с его стороны.
И вот — это было примерно в то время, когда умерла мать Дженни, — Лестер решил попытаться как-то упрочить свое положение. Он покончит с бездельем, — эти бесконечные разъезды с Дженни отнимают у него немало времени. Он найдет, куда вложить свои деньги. Если брат может находить какие-то дополнительные источники дохода, значит, может и он. Пора утвердиться в своем праве, укрепить свой авторитет в отцовском предприятии. Он не позволит Роберту понемногу все прибрать к рукам. Не придется ли пожертвовать Дженни? — и это тоже приходило ему на ум. У нее нет никаких прав на него. Она не может протестовать. Но почему-то Лестер не представлял себе, как он мог бы это сделать. Это и жестоко и бессмысленно; а главное (хоть ему и неприятно было признаться в этом даже себе), это лишило бы его многих удобств. Она ему нравилась, он, пожалуй, даже любил ее — по-своему, эгоистически. Он плохо представлял себе, как это он ее бросит.
В это самое время у него вышли серьезные разногласия с братом. Роберт хотел порвать со старой и почтенной нью-йоркской фабрикой красок, которая специально обслуживала фирму Кейн, и завязать отношения с одним концерном в Чикаго, — это было молодое предприятие с большим будущим. Лестер хорошо знал представителей нью-йоркской компании, знал, что на них можно положиться, что их связывают с фирмой Кейн давние и дружеские отношения, и потому воспротивился предложению Роберта. Отец сначала как будто соглашался с Лестером. Но Роберт излагал свои доводы с присущей ему холодной логикой, упорно глядя брату в лицо жесткими голубыми глазами.
— Мы не можем вечно держаться старых друзей только потому, что отец вел с ними дела, или потому, что ты им симпатизируешь, — сказал он. — Нужны перемены. Дело необходимо укрепить; нам предстоит выдержать сильную конкуренцию.
— Пусть решает отец, — сказал наконец Лестер. — Меня это мало трогает. Так ли, этак ли, мне все равно. Ты говоришь, что в итоге фирма от этого выиграет. Я доказывал как раз обратное.
— Я склонен думать, что прав Роберт, — спокойно сказал Арчибалд Кейн. — До сих пор почти все, что он предлагал, оправдывало себя.
Кровь бросилась в лицо Лестеру.
— Что ж, не будем больше об этом говорить, — сказал он и тотчас поднялся и вышел из конторы.
Это поражение, постигшее его как раз в то время, когда он решил взяться за ум, было для Лестера большим ударом. Случай был пустячный, но он оказался в некотором роде последней каплей, а еще досадней было замечание отца о проницательности Роберта в делах. Лестер стал спрашивать себя, не отдаст ли отец предпочтения Роберту при разделе наследства. Может быть, он что-нибудь прослышал о его связи с Дженни? Или сердится на его долгие отлучки, считая, что они идут в ущерб делу? Лестер полагал, что несправедливо было бы обвинить его в недостатке способностей или в невнимании к интересам фирмы. Он хорошо исполняет свои обязанности. Он и сейчас изучает все предложения, которые получает фирма, тщательно знакомится с контрактами, остается надежным советчиком отца и матери, но его упорно оттирают. Чем это кончится? Он много думал над этим, но так ни к чему и не пришел.
В том же году, немного позже, Роберт выдвинул план реорганизации всего управления предприятием. Он предложил построить в Чикаго, на Мичиган-авеню, огромный выставочный зал и склад и перебросить туда часть готовой продукции. Чикаго — более крупный центр, чем Цинциннати. Покупателям с Запада и провинциальным торговцам удобнее приезжать туда, чтобы вести дела с Кейнами. Это будет прекрасной рекламой, великолепным доказательством прочности и процветания фирмы. Кейн-отец и Лестер сразу же одобрили этот проект. Оба вполне оценили его достоинства. Роберт предложил Лестеру заняться постройкой нового здания. Пожалуй, было бы разумно, чтобы он проводил часть времени в Чикаго.
Идея брата пришлась Лестеру по душе, хоть он и понимал, что ему предлагают почти совсем расстаться с Цинциннати. Это почетно для него, это знак, что он играет видную роль в делах фирмы. Притом он сможет поселиться в Чикаго и взять Дженни к себе. Теперь без труда можно осуществить прежний план — снять квартиру для себя и для нее. И он поддержал Роберта. Тот улыбнулся.
— Я уверен, что это будет на пользу фирме, — сказал он.
Так как строительные работы должны были вскоре начаться, Лестер решил переехать в Чикаго немедленно. Он вызвал Дженни, и они вместе выбрали квартиру на Северной стороне; дом стоял на тихой улице неподалеку от озера, квартира была очень удобная, и Лестер обставил ее по своему вкусу. Он рассчитывал, что, живя в Чикаго, будет слыть холостяком. Ему не придется приглашать друзей к себе. Он всегда сможет встретиться с ними в конторе, в клубе или отеле. На его взгляд, все устраивалось как нельзя лучше.
Естественно, что с отъездом Дженни из Кливленда жизнь Герхардтов круто изменилась. Как видно, семья окончательно распадалась, но сам Герхардт относился к этому философски. Он уже старик, ему все равно, где ни жить. Басс, Марта и Джордж уже стали на ноги. Вероника и Уильям еще учатся в школе, но можно будет как-нибудь устроить, чтобы они жили и столовались у соседей, Герхардта и Дженни серьезно заботило только одно — Веста. Герхардт, естественно, подумал, что Дженни возьмет дочку с собой. Может ли мать поступить иначе.
— Ты рассказала ему про Весту? — спросил он, когда был уже назначен день отъезда Дженни.
— Нет, но скоро расскажу, — успокоила она его.
— От тебя только и слышишь «скоро» да «скоро», — проворчал Герхардт.
Он покачал головой. Слезы душили его.
— Плохо дело, — продолжал он, помолчав. — Это великий грех. Боюсь, что бог тебя покарает. За ребенком нужен уход. Не будь я так стар, я оставил бы девочку у себя. Теперь уже некому смотреть за ней как полагается, — и он опять покачал головой.
— Я знаю, — тихо сказала Дженни. — Я все это устрою. Скоро я заберу ее к себе. Ты же знаешь, что я ее не брошу.
— Но как же с именем? — сказал Герхардт. — Девочке нужно имя. На будущий год она пойдет в школу. Люди захотят знать, кто она такая. Не может же вечно так продолжаться.
Дженни и сама хорошо это понимала. Она до безумия любила дочку. Постоянные разлуки и необходимость скрывать даже самое существование Весты были тяжким крестом для Дженни, Это было несправедливо по отношению к ребенку, но Дженни не видела возможности поступить иначе. Она хорошо одевала Весту, у девочки было всего вдоволь. Во всяком случае она ни в чем не нуждалась. Дженни надеялась дать ей хорошее образование. Ах, если бы она с самого начала сказала Лестеру правду! Теперь, пожалуй, уже слишком поздно; и все-таки Дженни чувствовала, что тогда она поступила так, как было лучше. Наконец она решила подыскать в Чикаго какую-нибудь хорошую женщину или семью, которая стала бы за плату заботиться о Весте. В шведском квартале к западу от Ла-Саль-стрит она нашла пожилую женщину, которая показалась ей воплощением всех добродетелей, — опрятную, скромную, честную, Женщина эта была вдова, работала поденно и с радостью согласилась оставить эту работу и отдавать все свое время Весте. Дженни решила, что девочка начнет ходить в детский сад, как только удастся найти подходящий. У нее будет много игрушек, хороший уход. Миссис Олсен непременно будет сообщать Дженни о всяком, даже самом легком нездоровье ребенка. Дженни собиралась навещать Весту каждый день и думала, что изредка, когда Лестер будет уезжать из Чикаго, она станет брать дочку к себе. Жила же Веста раньше с ними в Кливленде, а Лестер об этом и не подозревал.
Договорившись с миссис Олсен, Дженни при первом же удобном случае поехала в Кливленд за Вестой. Герхардт, в горестном ожидании близкой разлуки, был полон тревоги о будущем внучки.
— Она должна вырасти прекрасной девочкой, — сказал он Дженни. — Надо дать ей хорошее образование, ведь она такая умница.
Он сказал еще, что следовало бы отдать Весту в лютеранскую церковную школу, но Дженни была не так уж в этом уверена. Время и общение с Лестером привели ее к мысли, что обычная начальная школа лучше любого частного заведения. Не то, чтобы Дженни была против церкви, но она уже не считала, что учением церкви можно руководствоваться во всех случаях жизни. Да и почему бы ей думать иначе?
На другой же день Дженни должна была вернуться в Чикаго. Веста, сгоравшая от нетерпения, была уже готова в дорогу. Пока Дженни одевала ее, Герхардт бродил по дому как неприкаянный; теперь, когда пробил час разлуки, он изо всех сил старался сохранить самообладание. Он видел, что пятилетняя девчурка совершенно не понимает, каково ему. Она была бездумно счастлива и без умолку болтала про то, как они поедут на лошадке и на поезде.
— Будь умницей, — сказал Герхардт, поднимая ее и целуя. — Смотри, не забывай учить катехизис и молиться. И ты будешь помнить своего дедушку, правда?
Он хотел еще что-то прибавить, но голос изменил ему.
Дженни, у которой сердце разрывалось при виде его горя, старалась не выдавать волнения.
— Ну, вот… — сказала она. — Если б я знала, что ты будешь так это переживать…
Она не договорила.
— Поезжайте, — мужественно сказал Герхардт. — Поезжайте. Так будет лучше.
Он молча проводил их взглядом. Потом пошел в свой любимый угол — на кухню, остановился там и застыл, глядя в пол невидящими глазами. Один за другим они покинули его — жена, Басс, Марта, Дженни, Веста. По старой привычке он крепко стиснул руки и долго стоял, качая головой.
— Вот оно как! — твердил он. — Вот оно как. Все меня покинули. Вся моя жизнь пошла прахом.
Глава XXVIII
За те три года, что Лестер и Дженни прожили вместе, их привязанность друг к другу и взаимное понимание выросли и окрепли. Лестер на свой лад действительно любил ее. Это сильное, самоуверенное, не знающее сомнений и колебаний чувство, основанное на естественном и неодолимом влечении, приближалось к подлинному духовному сродству. Нежная покорность, столь свойственная Дженни, влекла и удерживала Лестера. Дженни была такая преданная, добрая, бесконечно женственная. Лестер привык ей верить, во многом полагался на нее, и с годами его чувство становилось все глубже.
А Дженни искренне, глубоко, преданно полюбила этого человека. Вначале, когда он, как вихрь, ворвался в ее жизнь, внес смятение в ее душу и, воспользовался ее горькой нуждой, как цепью, приковал ее к себе, она немного сомневалась в нем, немного боялась его, хотя он всегда ей нравился. Но, проведя подле него все эти годы, узнав его лучше, она постепенно его полюбила. Он такой сильный, красивый, у него такой чудесный голос. Его взгляды на все, его мнения всегда так вески. Его излюбленный девиз: «Шагай напролом, не оглядывайся», — поразил ее воображение. Как видно, ему ничто не страшно — ни люди, ни бог, ни дьявол. Нередко, взяв ее смуглыми пальцами за подбородок, он смотрел ей в глаза.
— Ты прелесть, что и говорить, вот бы только смелости и дерзости побольше. Этого тебе явно не хватает.
И Дженни отвечала ему безмолвным нежным взглядом.
— Ну, ничего, — добавлял Лестер, — зато у тебя есть другие достоинства, — и целовал ее.
Его очень трогало, что Дженни так наивно старается скрывать всякие пробелы в своем воспитании и образовании. Она недостаточно грамотно писала; и вот однажды он нашел лист бумаги, — на нем рукой Дженни были выписаны трудные слова, которые Лестер часто употреблял в разговоре, и их значения. Он улыбнулся и еще больше полюбил ее за это. В другой раз, в «Южном отеле» в Сент-Луисе, она сделала вид, будто ей не хочется есть, из страха, что ее манеры недостаточно хороши и обедающие за соседними столиками могут это заметить. Она не всегда была уверена, что возьмет именно ту вилку и тот нож, какие полагается, и непривычные на вид блюда приводили ее в смущение: как надо есть артишоки? А спаржу?
— Почему ты ничего не ешь? — весело спросил Лестер. — Ведь ты голодная?
— Не очень.
— Наверное, голодная. Послушай, Дженни, я знаю, в чем дело. Но ты напрасно беспокоишься. У тебя прекрасные манеры. Иначе я не повел бы тебя сюда. И у тебя верное чутье. Не смущайся. Если ты что-нибудь сделаешь не так, я тут же подскажу.
Его карие глаза блеснули весело и ласково.
Дженни ответила благодарной улыбкой.
— Мне и правда иногда бывает немножко не по себе, — призналась она.
— Не надо, — сказал он. — Все в порядке. Не беспокойся. Я тебе все покажу.
Так он и делал.
Постепенно Дженни научилась разбираться в светских правилах и обычаях. У Герхардтов никогда не было ничего, кроме самого необходимого. Теперь у нее было все, чего только можно пожелать: чемоданы, наряды, всевозможные мелочи туалета, все, из чего создается истинный комфорт, и, хотя это ей нравилось, она не утратила присущего ей чувства меры и умения здраво судить обо всем. В ней не было ни капли тщеславия, она только радовалась, что судьба ей улыбнулась. Она так благодарна Лестеру за все, что он сделал и делает для нее. Если б только удержать его — навсегда!
Устроив Весту у миссис Олсен, Дженни погрузилась в свои домашние хлопоты. Лестер, занятый бесчисленными делами, то приезжал, то уезжал. Он снимал номер-люкс в «Грэнд-Пасифик» — лучшем отеле Чикаго; предполагалось, что здесь-то он и живет. В «Юнион-клубе» он завтракал и встречался по вечерам с друзьями и деловыми знакомыми. Одним из первых оценив достоинства телефона, он установил аппарат на квартире и в любое время мог говорить с Дженни. Дома он ночевал два-три раза в неделю, иногда чаще. Сперва он настаивал, чтобы Дженни предоставила хозяйство служанке, но потом согласился, что разумнее договориться с какой-нибудь девушкой, которая будет только приходить и выполнять самую черную работу. Дженни нравилось хозяйничать самой, недаром она всегда отличалась трудолюбием и аккуратностью.
Лестер любил завтракать точно в восемь утра. Он привык, чтобы обед подавался ровно в семь. Ему нравилось серебро, хрусталь, китайский фарфор, всякие предметы роскоши. Его одежда и чемоданы хранились на квартире Дженни.
Первые месяцы все шло гладко. Изредка Лестер водил Дженни в театр и, если ему случалось встретить кого-либо из знакомых, всегда представлял ее как мисс Герхардт. Если они останавливались где-нибудь в отеле под видом мужа и жены, он называл портье вымышленную фамилию; если же не было опасности, что их узнают, он преспокойно ставил в книге для проезжающих свое настоящее имя. И пока что все сходило с рук.
Дженни все время боялась одного: как бы Лестер не открыл ее обман и не узнал про Весту; кроме того, она тревожилась об отце и о доме. Из писем Вероники можно было понять, что они с Уильямом собираются переехать к Марте, которая теперь жила в меблированных комнатах там же, в Кливленде. Дженни беспокоило, что отец один. Ей было до боли жаль его; став калекой, он годился разве что в ночные сторожа, и Дженни с ужасом представляла себе, как он будет жить совсем один. Не переехать ли ему сюда, к ней? Но Дженни знала, что сейчас он на это не согласится. Да и захочет ли Лестер, чтобы Герхардт жил с ними? Она не была в этом уверена. К тому же, если отец приедет, неминуемо надо будет рассказать Лестеру о Весте. Все это очень мучило Дженни.
Да, с Вестой было не так-то просто. Чувствуя себя глубоко виноватой, Дженни особенно остро переживала все, что касалось дочери. Она всячески старалась искупить великую несправедливость, в которой была повинна перед своим ребенком, ибо этот самый большой свой долг она была не в силах исполнить. Каждый день она бывала у миссис Олсен, приносила игрушки, сласти — словом, все, что, как ей казалось, могло позабавить и обрадовать ребенка. Она любила подолгу сидеть с Вестой, рассказывать ей про фей и великанов, и девочка жадно слушала ее сказки. Наконец Дженни до того осмелела, что однажды, когда Лестер поехал в Цинциннати навестить родителей, привела девочку к себе и потом стала брать ее домой всякий раз, как он уезжал из города. Время шло, Дженни изучила привычки Лестера и понемногу становилась все более дерзкой, — хотя едва ли слово «дерзкая» применимо к Дженни. Она стала храброй, как может быть храбрым мышонок; она осмеливалась брать к себе Весту, даже когда Лестер был в отлучке всего два-три дня. И даже оставляла у себя кое-какие игрушки, чтобы Весте было чем заняться.
За те немногие дни, что дочурка провела у нее, Дженни с особенной силой почувствовала, какое это было бы счастье, если бы она была законной женой и матерью. Веста оказалась на редкость наблюдательным ребенком. Своими невинными детскими вопросами она то и дело бередила незаживающую рану в сердце Дженни.
— А можно мне всегда жить с тобой? — спрашивала она чаще всего.
Дженни отвечала, что пока нельзя, но очень скоро, как только можно будет, она возьмет свою девочку к себе насовсем.
— А когда это будет? — спрашивала Веста.
— Не знаю точно, моя маленькая. Теперь уже скоро. Ты уж потерпи еще немножко. А разве тебе не нравится у миссис Олсен?
— Нравится, — отвечала Веста, — только у нее ничего нет хорошего. Все старое.
У Дженни сжималось сердце, она вела Весту в магазин и накупала ей игрушек.
Лестер, разумеется, ни о чем не подозревал. Он почти не замечал, что происходит в доме. Он занимался делами, развлекался, твердо веря, что Дженни вполне откровенна с ним и до глубины души ему преданна, и ему в голову не приходило, что она может что-нибудь от него утаить. Однажды ему нездоровилось, он среди дня вернулся домой и, не застав Дженни, прождал ее с двух до пяти. Он был раздосадован и поворчал, когда она пришла, но его недовольство было ничто по сравнению с изумлением и испугом Дженни, когда она увидела, что он дома. Она вся побелела при мысли, что он может что-нибудь заподозрить, и постаралась объяснить свое отсутствие как можно правдоподобнее. Она была у прачки, потом ходила по магазинам и поэтому задержалась. У нее и в мыслях не было, что он дома. И ей так жаль, что она не могла поухаживать за ним. В тот раз Дженни поняла, что рискует все погубить.
Прошло еще три недели, и Лестер снова поехал на неделю в Цинциннати, а Дженни опять взяла Весту к себе; четыре дня мать и дочь были вполне счастливы вдвоем.
Все было бы очень хорошо, не допусти Дженни одной оплошности, о последствиях которой ей пришлось горько пожалеть. В гостиной за широким кожаным диваном, на котором часто отдыхал с сигарой Лестер, остался позабытый игрушечный барашек. На шее у него висел на голубой ленте маленький бубенчик, позвякивавший при малейшем движении. Весте почему-то вздумалось забросить игрушку за диван, а Дженни этого не заметила. Проводив Весту, она собрала все ее вещи, но так и не хватилась барашка, и он все еще стоял там, заглядевшись глазами-пуговками на солнечные луга страны игрушек, когда вернулся Лестер.
В тот вечер он лежал с газетой, мирно покуривая и нечаянно уронил за диван горящую сигару. Опасаясь, как бы от нее что-нибудь не загорелось, Лестер наклонился и заглянул под диван, но не увидел ее; тогда он поднялся, отодвинул диван и вдруг заметил барашка, стоявшего на том самом месте, куда его кинула Веста. Лестер поднял игрушку и повертел ее в руках, не понимая, как она сюда попала.
«Откуда тут взяться барашку? Наверное, его затащил какой-нибудь соседский ребенок, с которым Дженни свела знакомство, — подумал Лестер. — Надо ее немножко подразнить».
Собираясь от души посмеяться, он взял барашка, вошел в столовую, где хлопотала у буфета Дженни, и провозгласил с комической торжественностью:
— Откуда сие?
Дженни, не подозревавшая о существовании такой улики, обернулась и мгновенно вообразила, что Лестер обо всем узнал и сейчас обрушит на нее свой справедливый гнев. Она вся вспыхнула, потом смертельно побледнела.
— Это… я… я купила… это игрушка, — заикаясь, выговорила она.
— Вижу, что игрушка, — весело сказал Лестер; он заметил виноватую растерянность Дженни, но не придал этому значения. — Бедняга, скучно ему пастись в одиночестве.
И Лестер потрогал бубенчик на шее у барашка; бубенчик тихонько звякнул, и Лестер снова поднял глаза на Дженни, которая стояла перед ним, не в силах вымолвить ни слова. По добродушному виду Лестера она поняла, что он ничего не подозревает, но никак не могла прийти в себя.
— Что с тобой? — спросил Лестер.
— Ничего, — ответила она.
— У тебя такое лицо, как будто этот барашек тебя ужасно испугал.
— Просто я забыла его убрать, — невольно вырвалось у Дженни.
— У него довольно потрепанный вид, — прибавил Лестер уже не так шутливо и затем, видя, что разговор неприятен Дженни, прекратил его. Никакого развлечения не вышло из этого барашка.
Лестер вернулся в гостиную, прилег на диван и задумался. Что взволновало Дженни? Почему она так побледнела при виде игрушки? Ведь если, оставаясь одна, она приводит к себе какого-нибудь соседского малыша, играет с ним, забавляет его, в этом, конечно же, нет ничего плохого. С чего бы ей так волноваться? Он мысленно перебрал все это, но ни к чему не пришел.
О барашке больше не упоминалось ни словом. Быть может, со временем Лестер совсем забыл бы об этом случае, если бы ничто больше не пробудило его подозрений, но, видно, беда никогда не приходит одна.
Как-то вечером, когда Лестер замешкался и собрался уходить позже обычного, у дверей позвонили; Дженни возилась на кухне, и Лестер сам пошел открывать. Он увидел немолодую женщину, которая с тревожным недоумением посмотрела на него и на ломаном английском языке спросила, нельзя ли видеть хозяйку.
— Подождите минуту, — сказал Лестер и, выйдя в коридор, позвал Дженни.
Еще с порога узнав посетительницу, Дженни поспешно вышла в прихожую и затворила за собою дверь. Это сразу показалось Лестеру подозрительным. Он нахмурился и решил выяснить, в чем дело. Через минуту в комнату вернулась Дженни. Она была бледна, как полотно, дрожащие пальцы словно искали, за что бы ухватиться.
— Что случилось? — спросил Лестер; он был раздражен, и голос его прозвучал довольно резко.
Дженни не сразу нашла в себе силы ответить.
— Мне нужно ненадолго уйти, — сказала она наконец.
— Ну что ж, иди, — неохотно согласился он. — Но разве ты не можешь мне сказать, что случилось? Куда ты идешь?
— Я… я… — запинаясь, начала Дженни. — У меня есть…
— Ну? — хмуро спросил Лестер.
— У меня есть одно дело, — докончила Дженни. — Мне… мне надо идти сейчас же. Когда я вернусь, я тебе все расскажу, Лестер. Только, пожалуйста, сейчас ни о чем не спрашивай.
Она смотрела на него, словно не видя; тревога, озабоченность, нетерпеливое желание скорее уйти ясно читались на ее лице. Лестер, никогда еще не видевший ее такой сосредоточенной и упорной, был и тронут и раздосадован.
— Ладно, — сказал он, — но чего ради ты делаешь из этого тайну? Почему не сказать прямо, что с тобой случилось? Зачем надо шептаться за дверями? Куда ты идешь?
Он замолчал и сам вдруг удивился своей резкости; а Дженни, выведенная из равновесия и известием, которое ей только что принесли, и этим неожиданным выговором, вдруг ощутила прилив небывалой решимости.
— Я тебе все скажу, Лестер, все! — воскликнула она. — Только не сейчас. У меня нет ни минуты. Я все расскажу, когда вернусь. Пожалуйста, не задерживай меня.
Она бросилась в соседнюю комнату, чтобы одеться. Лестер, еще и сейчас не понимавший толком, что все это может означать, упрямо пошел за нею.
— Послушай, — грубо крикнул он, — что за глупости! В чем дело? Я хочу знать?
Он стоял в дверях — воплощенная воинственность и решимость, мужчина, привыкший, чтобы ему подчинялись. Дженни, доведенная до отчаяния, наконец не выдержала.
— Моя девочка умирает, Лестер! — воскликнула она. — Я сейчас не могу разговаривать. Пожалуйста, не задерживай меня. Я тебе все объясню, когда вернусь.
— Твоя девочка?! — повторил ошеломленный Лестер. — Что за черт, о чем ты говоришь?
— Я не виновата, — ответила она. — Я боялась… мне давно надо было тебе сказать. Я и хотела сказать, но только… только… ох, отпусти меня скорее! Когда я вернусь, я тебе все расскажу!
Лестер в изумлении посмотрел на нее, потом шагнул в сторону, давая ей дорогу; сейчас он больше не хотел ничего от нее добиваться.
— Хорошо, иди, — сказал он негромко. — Может быть, проводить тебя?
— Нет, — ответила Дженни. — Меня ждут, я пойду не одна.
Она выбежала из комнаты, а Лестер остался в раздумье. Неужели это та самая женщина, которую, как ему казалось, он так хорошо знал? Выходит, она все эти годы обманывала его! И это Дженни! Воплощенная искренность! Простая душа!
— Ах, черт меня побери! — пробормотал он, и у него перехватило горло.
Глава XXIX
Причиной всего этого переполоха оказалась одна из обычных детских болезней, наступления и исхода которых никто не мог бы предсказать даже за два часа. В этот день у Весты вдруг открылась сильная ангина, и состояние девочки ухудшалось с такой быстротой, что старая шведка отчаянно перепугалась и попросила соседку сейчас же сходить за миссис Кейн. Соседка, думая лишь о том, чтобы поскорее привести Дженни, без предисловий объявила ей, что Веста очень больна и надо спешить. Потрясенная Дженни решила, что девочка умирает, и, как мы видели, в порыве ужаса и отчаяния осмелилась сказать Лестеру правду. Она почти бежала по улице, терзаясь бесчисленными опасениями, с одной только мыслью; поспеть вовремя, увидеть свою девочку, прежде чем смерть унесет ее. Что, если уже поздно? Что, если Весты уже нет в живых? Дженни невольно все ускоряла шаг, огни уличных фонарей возникали перед нею и вновь расплывались во тьме; она уже не помнила жестких слов Лестера, не боялась, что он выгонит ее и она останется в огромном городе совсем одна, с ребенком на руках, — она забыла обо всем, кроме одного: ее Веста тяжело больна, может быть, умирает, и это она виновата, что они не вместе; быть может, если бы она сама смотрела за своей дочерью, девочка теперь была бы здорова.
«Только бы успеть! — твердила она про себя и, в порыве горя теряя, как все матери, способность рассуждать, упрекала себя; — Я должна была знать, что бог покарает меня за мой грех. Я должна была, должна была знать…»
Она распахнула знакомую калитку, бегом бросилась по дорожке к дому и ворвалась в комнату, где лежала Веста — бледная, тихая, ослабевшая; однако ей было уже гораздо лучше. Тут же были какие-то соседки и немолодой врач; все они с любопытством посмотрели на Дженни, которая упала на колени у изголовья постели и стала что-то говорить девочке.
И вот Дженни приняла окончательное решение. Она виновата перед своей дочкой, тяжело виновата, но теперь она постарается искупить свою вину. Лестер ей очень дорог, но она больше не станет его обманывать, и пусть даже он бросит ее (при этой мысли сердце Дженни больно сжалось), она все-таки поступит, как надо. Веста больше не должна быть отверженной. Ее место с матерью. Дом Дженни должен быть домом Весты.
Сидя у постели девочки в скромном домике старой шведки, Дженни поняла, как бесплодна была ее ложь: сколько тревоги и мук было из-за этого в доме родителей, как она страдала и боялась все время, пока жила с Лестером, какую пытку перенесла сегодня вечером, а для чего? Все равно правда вышла наружу. Дженни сидела, погруженная в невеселые думы, гадая, что ее ждет, а тем временем Веста постепенно затихла и уснула крепким, здоровым сном.
Когда Лестер немного опомнился после ошеломляющего открытия, ему пришли на ум вполне естественные вопросы; сколько лет девочке? Кто ее отец? Как ребенок оказался в Чикаго и кто о нем заботится? Лестер мог только задавать себе эти вопросы, но не находил ответа; ведь он ничего не знал.
Странное дело, среди этих мыслей ему вдруг припомнилась первая встреча с Дженни в доме миссис Брейсбридж. Почему его тогда так потянуло к ней? Что так быстро, чуть ли не с первого взгляда подсказало ему, что он сумеет добиться своего? Что он почувствовал в ней — нравственную распущенность, неустойчивость, слабость? Во всей этой печальной истории не обошлось без хитрости, без искусного притворства, и ведь, обманывая его, который так ей доверял, Дженни не просто обманывала — она оказалась неблагодарной.
Надо сказать, что Лестер презирал и ненавидел неблагодарность, считал ее самой гнусной и отвратительной чертой, присущей натурам низменным, и был неприятно поражен, открыв это качество в Дженни. Правда, прежде он никогда не замечал за ней этого, как раз наоборот, — однако теперь воочию убедился в ее неблагодарности и был глубоко возмущен. Как смела она так его оскорбить? Его, который, можно сказать, сделал ее человеком и возвысил до себя?
Лестер поднялся, отодвинул кресло и медленно зашагал в тишине из угла в угол. То, что произошло, слишком серьезно, и теперь нужно принять верное и твердое решение. Дженни преступна, и он вправе ее осудить. Она виновата в том, что с самого начала скрыла от него правду и вдвойне виновата, что все время продолжала его обманывать. Наконец ему пришло в голову, что она делила свою любовь между ним и ребенком, — ни один мужчина в его положении не мог бы спокойно с этим примириться. Лестера передернуло от этой мысли, он засунул руки в карманы и продолжал шагать по комнате.
Как мог человек с характером Лестера считать себя оскорбленным только потому, что Дженни скрыла существование ребенка, появившегося на свет в результате точно такого же проступка, какой она совершила позже уступив ему, Лестеру? Это пример тех необъяснимых заблуждений и ошибок, которых, как видно, не способен избежать человеческий ум — суровый страж и судья, когда дело идет о чести других людей. Забывая о своем собственном поведении (мужчины редко принимают его в расчет), Лестер верил, что женщина должна единственному любимому человеку раскрывать всю свою душу, и его очень огорчило, что Дженни поступила иначе. Однажды он пытался узнать подробности ее прошлого. Она тогда умоляла не расспрашивать. Вот когда ей следовало бы сказать о ребенке. А теперь… Лестер покачал головой.
Первым его побуждением, когда он все обдумал, было уйти и больше не видеть Дженни. Однако хотелось узнать, чем кончилось дело. Все же он надел пальто и шляпу и вышел из дому; захотелось выпить, и он зашел в первый же приличный бар; потом поехал в клуб; там он бродил из комнаты в комнату, встретил кое-кого из знакомых, поболтал с ними. Беспокойство и досада не оставляли его; наконец, потратив три часа на размышления, он нанял извозчика и вернулся домой.
В тоске и смятении Дженни долго сидела подле спящей девочки и наконец поняла, что опасность миновала. Сейчас она ничего не могла сделать для Весты, и понемногу к ней вернулись заботы о брошенном доме; она почувствовала, что должна исполнить обещание, данное Лестеру, и до последней минуты нести свои обязанности хозяйки. Возможно, Лестер ее ждет. Вероятно, он хочет услышать всю правду о ее прошлом, прежде чем навсегда с нею расстаться. С болью и страхом думая о том, что Лестер, конечно, порвет с нею, Дженни все же считала это только справедливым наказанием за все ее проступки: она этого вполне заслуживает!
Дженни вернулась домой в двенадцатом часу, свет на лестнице уже горел. Она потянула ручку двери, потом открыла ее своим ключом. Помедлив и не услышав ни звука, она вошла, готовая к тому, что ее встретит разгневанный Лестер. Но его не было. Он просто забыл погасить в комнате свет. Дженни быстро осмотрелась, но комната была пуста. Дженни решила, что Лестер ушел навсегда, и застыла на месте, беспомощная и растерянная.
«Ушел!» — подумала она.
В эту минуту на лестнице послышались его шаги, Шляпа его была надвинута на самые брови, пальто наглухо застегнуто. Не взглянув в сторону Дженни, он снял пальто и повесил на вешалку. Потом не спеша снял и повесил шляпу. Только после этого он обернулся к Дженни, которая следила за ним широко раскрытыми глазами.
— Я хочу узнать все, с начала до конца, — сказал он. — Чей это ребенок?
Дженни поколебалась мгновение, словно готовясь к отчаянному прыжку в темную пропасть, потом выговорила пересохшими губами:
— Сенатора Брэндера.
— Сенатора Брэндера! — повторил пораженный Лестер; меньше всего он ожидал услышать такое громкое имя. — Как ты с ним познакомилась?
— Мы с мамой на него стирали, — просто ответила Дженни.
Лестер замолчал: прямота ее ответов отрезвила его, и гнев его утих. «Ребенок сенатора Брэндера!» — думалось ему. Стало быть, знаменитый поборник интересов простого народа соблазнил дочь прачки. Вот типичная трагедия из жизни бедняков.
— Давно это случилось? — хмуро спросил Лестер, сдвинув брови.
— Уже почти шесть лет прошло, — ответила Дженни.
Лестер мысленно прикинул, сколько времени они знакомы, потом спросил:
— Сколько лет ребенку?
— Ей пошел шестой год.
Лестер кивнул. Стараясь сосредоточиться, он говорил теперь более властным тоном, но без прежнего озлобления.
— Где же она была все это время?
— Жила дома, у наших, до прошлой весны, а когда ты ездил в Цинциннати, я привезла ее сюда.
— И она жила с вами, когда я приезжал в Кливленд?
— Да, — ответила Дженни, — только я следила, чтоб она не попадалась тебе на глаза.
— Я думал, что ты сказала своим, что мы поженились! — воскликнул Лестер, не понимая, каким образом родные Дженни примирились с существованием этого ребенка.
— Я им так и сказала, — ответила Дженни, — но я не хотела говорить тебе про дочку. А мои все время думали, что я вот-вот расскажу тебе.
— Почему же ты не рассказала?
— Потому что я боялась.
— Чего?
— Я ведь не знала, что со мной будет, когда уехала с тобой, Лестер. Мне так хотелось уберечь мою девочку, ничем ей не повредить. Потом мне было стыдно; а когда ты сказал, что не любишь детей, я испугалась.
— Испугалась, что я брошу тебя?
— Да.
Лестер помолчал; Дженни отвечала так прямо и просто, что его первоначальное подозрение, будто она сознательно лицемерила и обманывала его, отчасти рассеялось. В конце концов всему виной несчастное стечение обстоятельств, малодушие Дженни и нравы ее семьи. Ну и семейка, должно быть! Только нелепые и безнравственные люди могли терпеть такое положение вещей!
— Разве ты не понимала, что в конце концов все должно выйти наружу? — спросил он наконец. — Не могла же ты думать, что вот так и вырастишь ее. Почему ты сразу не сказала мне правду? Тогда я отнесся бы к этому очень спокойно.
— Знаю, — сказала Дженни. — Но я хотела сделать лучше для нее.
— Где она теперь?
Дженни объяснила.
Вопросы Лестера так не вязались с его тоном и выражением лица, что Дженни совсем растерялась. Она еще раз попробовала все объяснить, однако Лестер уразумел только одно: Дженни сделала глупость, но она отнюдь не хитрила, — это было так явно, что, будь Лестер в другом положении, он от души пожалел бы ее. Но теперь мысль о Брэндере не выходила у него из головы, и он снова вернулся к этому.
— Так ты говоришь, твоя мать стирала на него. Как же случилось, что ты с ним сошлась?
Дженни до сих пор терпеливо переносила мучительный допрос, но тут она вздрогнула, как от удара. Лестер задел незажившее воспоминание о самой горькой и трудной поре ее жизни. Его последний вопрос, как видно, требовал полной откровенности.
— Я ведь была еще девчонка, Лестер, — печально сказала она. — Мне было только восемнадцать лет. Я ничего не знала. Я ходила к нему в отель и брала у него белье в стирку, а потом относила.
Она умолкла, но, видя, что он пододвинул стул и уселся с явным намерением выслушать длинный и подробный рассказ, она снова заговорила.
— Мы так нуждались тогда. Он часто давал мне деньги для мамы. Я не знала…
Она опять умолкла; Лестер, видя, что она не в силах связно обо всем рассказать, снова начал задавать ей вопросы, и постепенно невеселая история стала ему ясна. Брэндер собирался жениться на ней. Он писал ей, должен был вызвать ее к себе, но не успел: помешала внезапная смерть.
Исповедь была окончена. Долгих пять минут прошло в молчании; Лестер, опершись на камин, смотрел в одну точку, а Дженни ждала, не зная, что будет дальше, и не пытаясь сказать хоть слово в свою защиту. Громко тикали часы. На застывшем лице Лестера нельзя было прочесть ни его чувств, ни мыслей. Теперь он был совершенно спокоен и невозмутим и обдумывал, как поступить дальше. Дженни стояла перед ним, точно преступница на суде, Он — воплощенная праведность, нравственность, чистота сердечная — занимал место судьи. Итак, надо вынести приговор, решить ее дальнейшую судьбу.
Что и говорить, скверное дело — грязная история, в которой не годится быть замешанным человеку с положением и богатством Лестера. Этот ребенок делает его отношения с Дженни просто невозможными… И все же Лестер еще не мог ничего сказать. Часы на камине звонко пробили три; Лестер обернулся и вспомнил о Дженни, — бледная, растерянная, она все еще неподвижно стояла перед ним.
— Иди ложись, — вымолвил он наконец и снова задумался над своей нелегкой задачей.
Но Дженни не тронулась с места; она стояла и смотрела на него широко раскрытыми остановившимися глазами, готовая каждую минуту услышать приговор. Но она ждала напрасно. После долгих размышлений Лестер встал и пошел к вешалке.
— Иди ложись, — повторил он холодно. — Я ухожу.
Дженни невольно шагнула к нему, — даже в эту страшную минуту ей хотелось быть чем-нибудь ему полезной, — но Лестер не заметил ее движения. Он вышел, не удостоив ее больше ни словом.
Она смотрела ему вслед и слушала его удаляющиеся шаги на лестнице с таким чувством, словно ей вынесен смертный приговор и уже раздается похоронный звон над могилой. Что же она наделала? И что сделает теперь Лестер? Глубокое отчаяние овладело ею, и, когда внизу хлопнула дверь, она в тоске и безнадежности заломила руки.
«Ушел! — подумала она. — Ушел!»
В окнах забрезжил поздний рассвет, а Дженни все сидела и предавалась горьким мыслям; ее положение было слишком серьезно, чтобы она могла дать волю слезам.
Глава XXX
Угрюмый, всегда так логично рассуждавший Лестер на самом деле был далеко не уверен в том, что ему предпринять. Он сильно расстроился, однако не мог бы точно определить, что его возмущает. Разумеется, существование ребенка значительно осложняло дело. К чему это живое свидетельство былых прегрешений Дженни? Впрочем, Лестер тут же признал, что, если бы действительно захотел, давно мог бы выведать у Дженни все ее прошлое. Она, конечно, не стала бы лгать. Он мог спросить ее в самом начале. Он этого не сделал, а теперь слишком поздно. Ясно одно: о том, чтобы жениться на Дженни, нечего и думать. При его положении в обществе это исключено. Лучший выход — обеспечить Дженни материально и расстаться с ней. Когда он ехал к себе в отель, решение это было принято, хотя он и не собирался осуществлять его немедленно.
В подобного рода случаях куда легче рассуждать, чем действовать. Время укрепляет наши привычки, желания и чувства, а Дженни была для Лестера не только привычкой. За четыре года непрерывного общения он так хорошо узнал ее и себя, что не видел возможности расстаться с ней легко и быстро. Это было бы слишком больно. Он мог допускать такую мысль днем, в сутолоке своей конторы, но не по вечерам, когда оставался один. Он открыл в себе способность тосковать, и это смущало его.
Тревожили его в эти дни и рассуждения Дженни, будто совместная жизнь с ним и с матерью могла бы повредить Весте. Как она до этого додумалась? Ведь он занимает куда более завидное общественное положение, чем она. Но потом он отчасти понял ее точку зрения. Дженни в то время не знала, кто он и какую судьбу он ей готовит. Он мог очень скоро бросить ее. В предвидении этого она хотела оградить своего ребенка от опасности. Это не так уж плохо. И еще ему хотелось узнать, как выглядит эта девочка. Дочь сенатора Брэндера — это могло быть интересно. Он был блестящим человеком, а Дженни — прелестная женщина. Эта мысль вызвала в Лестере и раздражение и любопытство. То ему казалось, что нужно вернуться к Дженни и увидеть девочку — это в конце концов его право! — то он колебался, вспоминая, как принял известие о ее существовании. Он снова уверял себя, что нужно поставить точку, и этот внутренний спор длился до бесконечности.
На самом деле он был не в силах расстаться с Дженни. За эти годы она стала ему необходима. Был ли у него когда-нибудь такой близкий человек? Мать любит его, но в этой любви преобладает честолюбие. Отец — что ж, отец мужчина, как и он сам. Сестрам не до него, у каждой своя жизнь; Роберт всегда был ему чужим. С Дженни он впервые узнал, что такое настоящее счастье, настоящая близость. Она нужна ему — с каждым часом, проведенным вдали от нее, он все сильнее ощущал это. Наконец он решил поговорить с нею начистоту и найти какой-нибудь выход. Пусть возьмет дочку к себе и заботится о ней. Дженни должна понять, что рано или поздно он уйдет от нее. Нужно внушить ей, что сейчас многое в их отношениях изменилось, хотя это и не означает немедленного разрыва. В тот же вечер он поехал к себе на квартиру. Дженни услышала, как он отворил дверь, и сердце у нее тревожно забилось. Взяв себя в руки, она вышла из своей комнаты встретить его.
— Насколько я понимаю, нужно поступить так, — начал Лестер со свойственной ему прямотой. — Привези свою дочь сюда и пусть живет с тобой. Нет смысла оставлять ее у чужих людей.
— Хорошо, Лестер, — покорно ответила Дженни. — Мне всегда этого хотелось.
— А раз так, нечего и откладывать. — Он достал из кармана вечернюю газету и прошел к окну. Потом обернулся. — Нам нужно договориться, Дженни. Я понимаю, как это произошло. Я допустил большую оплошность, что не расспросил тебя вовремя, не заставил все рассказать. А ты напрасно молчала, даже если и не хотела, чтобы я вошел в жизнь твоего ребенка. Тебе следовало понять, что такую вещь все равно не скроешь. Впрочем, теперь это не важно. Я хочу сказать другое: при таких отношениях, как у нас, нельзя иметь друг от друга тайн. Я думал, что мы во всем доверяем друг другу. А теперь я не знаю, смогу ли когда-нибудь упрочить наши отношения. Очень уж все запуталось. Очень уж много оснований для пересудов и сплетен.
— Я знаю, — сказала Дженни.
— Пойми, я не намерен торопиться. По мне, все может остаться более или менее как было — на ближайшее время, — но я хочу, чтобы ты смотрела на вещи трезво.
Дженни вздохнула.
— Знаю, Лестер, знаю.
Отойдя к окну, он смотрел во двор, на окутанные сумерками деревья. Мысль о будущем страшила его, — он любил домашний уют. Неужели проститься и уехать в клуб?
— Давай-ка обедать, — холодно сказал он наконец, отворачиваясь от окна; но в глубине души он не сердился на Дженни. Просто позор — до чего скверно устроена жизнь.
Он побрел в гостиную, а Дженни пошла хлопотать по хозяйству. Она думала о Весте, о своей неблагодарности по отношению к Лестеру, о его окончательном решении не жениться на ней. Своим неразумием она сама погубила заветную мечту.
Она накрыла на стол, зажгла свечи в красивых серебряных подсвечниках, приготовила любимое печенье Лестера, поставила жарить баранину и вымыла салаг. (Последний год Дженни прилежно изучала поваренную книгу, а прежде она многому научилась от матери.) И все время она не переставала гадать о том, как-то теперь обернется ее жизнь. Рано или поздно Лестер ее бросит — это ясно. Он уйдет от нее и женится на другой.
«Что ж, — подумала она наконец, — пока он меня не бросает — и то хорошо. И Веста будет со мной». Она вздохнула и понесла обед в столовую. Вот если бы сохранить Лестера и Весту… но с этой надеждой покончено навсегда.
Глава XXXI
После этой грозы в доме на время воцарились мир и тишина. Дженни на следующий же день привезла к себе Весту. Радость соединения с дочерью заслонила все ее заботы и печали. «Теперь я смогу быть ей настоящей матерью», — думала она и несколько раз в течение дня ловила себя на том, что напевает веселую песенку.
Лестер сперва заходил к ней только изредка. Он пытался уверить себя, что должен постепенно подготовить задуманную им перемену в своей жизни — уход от Дженни. Ему неприятно было присутствие в доме ребенка, а тем более именно этого ребенка. Некоторое время он упорно заставлял себя не бывать на Северной стороне, но потом стал появляться там чаще. Несмотря ни на что, здесь было тихо, спокойно, только здесь он чувствовал себя хорошо.
Поначалу Дженни было нелегко добиться, чтобы нервная, подвижная, шаловливая девочка не мешала уравновешенному, спокойному, занятому своими делами Лестеру. Когда он в первый раз предупредил по телефону о своем приходе, Дженни строго поговорила с дочкой, сказала ей, что придет очень сердитый дядя, он не любит детей и к нему нельзя приставать.
— Будь умницей, — наказывала она. — Не болтай и ничего не проси. Мама сама даст тебе все, что нужно. А главное — не тянись через стол.
Веста торжественно пообещала слушаться, но едва ли осознала своим детским умом всю важность сделанного ей внушения.
Лестер приехал в семь часов. Дженни, постаравшись как можно красивее нарядить Весту, только что прошла к себе в спальню, чтобы переодеться к вечеру. Весте полагалось быть в кухне. Но она тихонько проскользнула вслед за матерью и остановилась в дверях гостиной, где ее и увидел Лестер, когда, повесив в передней пальто и шляпу, направился в комнаты. Девочка была очаровательная, это Лестер признал с первого взгляда. На ней было голубое в белый горошек фланелевое платьице с отложным воротником и манжетками, белые чулки и башмачки. Задорные светлые кудряшки обрамляли лицо — голубые глаза, алые губки, румяные щечки. Пораженный Лестер хотел что-то сказать, но сдержался. Веста робко удалилась.
— Девочка очень мила, — сказал Лестер, когда Дженни прошла в столовую к нему. — Трудно тебе с ней справляться?
— Не очень, — ответила Дженни.
Она прошла в столовую, и Лестер услышал такой разговор:
— Это кто? — спросила Веста.
— Шш! Это твой дядя Лестер! Я же тебе говорила, что нельзя болтать!
— Он и твой дядя тоже?
— Нет, маленькая. Не болтай. Беги в кухню.
— Он только мой дядя?
— Да. Ну, беги.
— Хорошо.
Лестер невольно улыбнулся.
Трудно сказать, как повернулось бы дело, если бы Веста была уродлива, плаксива, скучна или если бы Дженни не проявила столько такта. Но привлекательность девочки в сочетании с усилиями матери мягко отодвигать ее на задний план создавали впечатление чистоты и юности, которые всегда действуют отрадно. Лестер часто задумывался о том, что все эти годы Дженни была матерью; она месяцами не видела своего ребенка; ни словом не обмолвилась о его существовании; а между тем любовь ее к Весте не вызывала сомнений. «Удивительно, — говорил себе Лестер. — Она необыкновенная женщина».
Однажды утром, когда Лестер читал в гостиной газету, послышался какой-то шорох. Обернувшись, он с удивлением увидел голубой глаз, пристально глядевший на него в щелку приотворенной двери. Казалось бы, глаз, застигнутый на месте преступления, должен немедленно скрыться; но нет, он храбро остался, где был. Лестер перевернул страницу и опять оглянулся. Глаз все смотрел на него. Он повторил свой маневр. Глаз не сдавался. Он переменил позу, закинув ногу за ногу. Когда он опять поднял голову, то увидел, что глаз исчез.
При всей незначительности этого эпизода в нем было что-то комическое, а это всегда находило отклик в душе Лестера. И теперь, когда он вовсе не был склонен спускаться со своих неприступных высот, он почувствовал, что таинственный глаз развеселил его; губы его дрогнули и чуть было не раздвинулись в улыбке. Он не поддался новому настроению и не перестал читать газету, но отчетливо запомнил этот пустячный случай. В первый раз маленькая плутовка действительно обратила на себя его внимание.
Вскоре после этого, когда Лестер сидел однажды за утренним завтраком, неторопливо уничтожая отбивную котлету и просматривая газетные заголовки, спокойствие его снова было нарушено. Дженни уже накормила Весту и, оставив ее до ухода Лестера одну с игрушками, разливала кофе; неожиданно отворилась дверь, и Веста деловито проследовала через столовую. Лестер поднял голову, Дженни покраснела и встала.
— Что тебе здесь нужно, Веста? — спросила она.
Веста тем временем вошла в кухню, взяла там маленькую метелку и пустилась в обратный путь, всем своим видом выражая забавную решимость.
— Мне нужно мою метелку, — звонко ответила она и невозмутимо зашагала к себе, а Лестер почувствовал как что-то в нем откликнулось на такую храбрость, и на этот раз не удержался от легкой улыбки.
Так постепенно таяло неприязненное чувство Лестера к девочке, уступая место снисходительности и признанию за ней всех прав человеческого существа.
В ближайшие полгода недовольство Лестера почти совсем улеглось. Не то чтобы он примирился с несколько ненормальной атмосферой, в которой жил, но дома было так уютно и удобно, что он не мог заставить себя уйти. Очень уж сладко ему жилось. Очень уж боготворила его Дженни. Очень уж по нраву была полнейшая свобода, возможность беспрепятственно общаться со старыми знакомыми, в сочетании с тихим уютом и привязанностью, которые ждали дома. И он все медлил и уже начинал подумывать, что, может быть, и не нужно ничего менять.
За это время незаметно укрепилась его дружба с маленькой Вестой. Он обнаружил в ее повадках неподдельный юмор и с любопытством ждал новых его проявлений. Она всегда была занята чем-нибудь интересным, и, хотя Дженни следила за ней с неослабной строгостью, которая уже сама по себе явилась для Лестера откровением, неугомонная Веста вечно ухитрялась ввернуть какое-нибудь забавное словечко. Так однажды Лестер, заметив, как девочка усердно пилит большим ножом кусочек мяса, сказал Дженни, что надо бы купить ей детский прибор.
— Ей трудно справляться с такими ножами.
— Да, — мгновенно отозвалась Веста. — Мне нужно маленький ножичек. У меня ручка вот какая маленькая.
И она растопырила пальчики. Дженни, боясь как бы она еще чего-нибудь не выкинула, поспешила пригнуть ее ручку к столу, а Лестер с трудом удержался от смеха.
В другой раз, увидев, как Дженни кладет в чашку Лестера сахар, Веста потребовала:
— Мне тоже два кусочка, мама.
— Нет, милая, — ответила Дженни, — тебе сахара не нужно. Ты пьешь молоко.
— А дяде Лестеру ты положила два кусочка.
— Да, да, — сказала Дженни, — но ты еще маленькая. И, пожалуйста, не болтай за столом. Это неприлично.
— Дядя Лестер ест слишком много сахара, — последовал немедленный ответ, и Лестер, любивший сладкое, широко улыбнулся.
— Ну, не знаю, — сказал он, впервые снисходя до разговора с девочкой. — Может, ты похожа на ту лисицу, которая говорила, что виноград зелен?
Веста улыбнулась ему в ответ и теперь, когда лед был сломан, не стесняясь, стала с ним разговаривать. Так оно и пошло, и, наконец, Лестер начал относиться к девочке, как к родной; он даже готов был дать ей все, к чему открывало дорогу его богатство, при том, конечно, условии, что он по-прежнему будет с Дженни и что они придумают, как ему все же сохранить связь со своим миром, о котором он не должен был забывать ни на минуту.
Глава XXXII
Веской постройка выставочных залов и складов была закончена, и Лестер перевел свою контору в новое здание. До сих пор его деловая жизнь протекала в отеле «Грэнд-Пасифик» и в клубе. Теперь он чувствовал, что прочно обосновался в Чикаго, что отныне ему предстоит жить здесь постоянно. На него ложились серьезные обязанности — руководство многочисленным штатом конторы и заключение крупных сделок. Зато он был освобожден от разъездов — их поручили мужу Эми, который действовал по указаниям Роберта. А Роберт всеми силами пробивался вперед, он пытался перетянуть на свою сторону сестер и уже предпринял реорганизацию фабрики. Нескольким служащим, которые пользовались личным расположением Лестера, грозило увольнение. Но Лестер об этом не знал, а старик Кейн был склонен предоставлять Роберту полную свободу действий, Годы брали свое. Он был доволен, что дело его останется в крепких, надежных руках. Лестер как будто не выражал недовольства. Видимо, их отношения с Робертом изменились к лучшему.
Возможно, что все шло бы гладко и дальше, но, к сожалению, личная жизнь Лестера не могла навсегда остаться тайной. Бывало, что, проезжая с Дженни по улицам в открытой коляске, он попадался на глаза светским или деловым знакомым. Это не смущало его, ведь он холостяк, а значит, волен проводить время с кем ему угодно. Почему не предположить, что Дженни — молодая женщина из почтенного семейства, за которой он ухаживает? Он ни с кем не собирался ее знакомить и раз навсегда велел кучеру ездить как можно быстрее, чтобы никто не пытался его окликнуть и заговорить с ним. А для тех, с кем он встречался в театре, Дженни, как уже упоминалось, была просто «мисс Герхардт».
На беду многие из знакомых Лестера отличались наблюдательностью. Они и не думали осуждать его поведение. Просто им помнилось, что в прежние годы в других городах они встречали его с этой же самой женщиной. Видимо, он поддерживает с ней незаконную связь. Ну и что же из этого? Богатство и молодость на многое дают право. Кое-какие слухи дошли до Роберта, но он не счел нужным делиться с кем-либо своими соображениями. Однако рано или поздно все должно было открыться.
Это случилось года через полтора после того, как Лестер и Дженни поселились на Северной стороне. Осенью, в гнилую погоду, Лестер заболел гриппом. Почувствовав первые признаки недомогания, он решил, что это пустяк и что горячая ванна и хорошая доза хинина сразу поставят его на ноги. Но болезнь оказалась серьезной: наутро он не мог встать с постели, у него был сильный жар и невыносимо болела голова.
За последнее время, постоянно живя с Дженни, он стал неосторожен. Ему следовало бы уехать к себе в гостиницу и болеть в одиночестве. Но ему гораздо больше улыбалось побыть дома, с Дженни. Он позвонил в контору и дал знать, что нездоров и несколько дней не появится; а потом блаженно отдался заботам своей терпеливой сиделки.
Дженни, разумеется, была только рада, что Лестер с ней, больной или здоровый. Она уговорила его вызвать врача и принимать лекарства. Она поила его горячим чаем с лимоном, без устали освежала холодной водой его лицо и руки. А когда он стал поправляться, варила ему вкусный бульон и кашу.
Во время этой болезни и произошла первая серьезная неприятность. Сестра Лестера, Луиза, гостившая у знакомых в Сент-Поле и предупредившая брата, что думает повидаться с ним на обратном пути, решила вернуться домой раньше, чем предполагала. Она оказалась в Чикаго в самый разгар болезни Лестера и, узнав по телефону в конторе, что его не будет еще несколько дней, осведомилась, как ей связаться с ним.
— Кажется, он живет в «Грэнд-Пасифик», — проговорилась неосторожная секретарша. — Он нездоров.
Луиза встревожилась и позвонила в «Грэнд-Пасифик», где узнала, что мистера Кейна не видели уже несколько дней и вообще он бывает у себя в номере не чаще одного-двух раз в неделю. Тогда, заинтригованная этим, она позвонила в его клуб.
К телефону, как нарочно, подошел мальчик-посыльный, который по поручению самого Лестера не раз бывал у него на квартире. Мальчик не знал, что адрес Лестера надлежит держать в тайне — до сих пор им никто не интересовался. Когда Луиза сказала, что она сестра Лестера и ей очень нужно его повидать, мальчик ответил:
— А он живет на площади Шиллера, дом девятнадцать.
— Чей это ты адрес даешь? — спросил оказавшийся около телефона портье.
— Мистера Кейна.
— Никаких адресов давать нельзя. Ты что, не знаешь разве?
Мальчик смутился и попросил прощения, но Луиза уже повесила трубку.
Через час Луиза, с изумлением обнаружившая, что у ее брата имеется еще и третий адрес, была на площади Шиллера. Остановившись перед двухквартирным домом, она прочла фамилию Кейн на дощечке у двери, ведущей во второй этаж, поднялась и позвонила. Дженни вышла на звонок и очень удивилась, увидев перед собой нарядную даму.
— Здесь живет мистер Кейн? — надменно спросила Луиза, заглядывая в прихожую через открытую дверь. Присутствие женщины немного удивило ее, но подозрения были еще смутны.
— Да, — ответила Дженни.
— Он, кажется, болен? Я его сестра. Можно войти?
Будь у Дженни время собраться с мыслями, она придумала бы какую-нибудь отговорку, но она и слова не успела сказать, как Луиза, избалованная своим положением и привыкшая поступать по-своему, уже проплыла мимо нее в комнаты. В гостиной, примыкавшей к спальне, где лежал Лестер, она огляделась. Веста, игравшая в углу, поднялась и с любопытством уставилась на гостью. Через отворенную дверь спальни Луиза увидела Лестера; он лежал в постели, закрыв глаза, освещенный слева лучом солнца, падавшим из окна.
— Так вот ты где! — воскликнула Луиза, быстро входя в спальню. — Что это с тобой?
При звуке ее голоса Лестер открыл глаза и мгновенно все понял. Он приподнялся на локте, но не мог произнести ни слова. Наконец он с трудом выдавил из себя:
— Здравствуй, Луиза. Откуда ты?
— Из Сент-Поля. Я уехала раньше, чем собиралась, — заговорила она быстро и с раздражением, почуяв неладное. — А я тебя еле разыскала. Что это у тебя за… — она хотела сказать «хорошенькая экономка», но, оглянувшись, увидела Дженни, которая с печальным, расстроенным лицом прибирала что-то в гостиной.
Лестер вместо ответа закашлялся.
Луиза внимательно оглядела комнату. От нее не ускользнула атмосфера семейного уюта, приятная, но наводящая на опасные мысли. На стуле лежало платье Дженни, при виде которого мисс Кейн брезгливо подобрала юбку. Она взглянула на брата и прочла в его глазах странное выражение, словно он был немного озадачен, но в то же время спокоен и готов к бою.
— Зря ты сюда пришла, — сказал Лестер, не дав Луизе времени задать вопрос, который так и вертелся у нее на языке.
— Почему же зря? — воскликнула она, возмущенная его дерзкой откровенностью. — Брат ты мне или нет? А если брат, я могу прийти к тебе куда угодно. Как вам это нравится? И ты говоришь мне такие вещи?
— Послушай, Луиза, — продолжал Лестер, выше приподнимаясь на локте. — Мы ведь не дети. Ссориться нам нет смысла. Я не знал, что ты приедешь, а то принял бы известные меры.
— Известные меры! — передразнила она злобно. — Ну, еще бы! Как же иначе!
Она чувствовала, что попала в ловушку, и негодовала за это на Лестера.
А Лестер даже покраснел от гнева.
— Напрасно ты задираешь нос, — заявил он решительно. — Я ни в чем не оправдываюсь перед тобой. Я говорю, что принял бы известные меры, но это вовсе не значит, что я прошу извинения. Если ты не желаешь разговаривать вежливо, воля твоя.
— Ну знаешь, Лестер! — вспыхнула она. — Этого я от тебя не ожидала. Я думала, ты постыдишься открыто жить с… — она замялась, не решаясь произнести страшное слово, — когда у нас в Чикаго полно знакомых. Это ужасно! Я думала, у тебя все же есть чувство приличия и уважения к мнению…
— К черту приличия! — возразил Лестер. — Пойми ты наконец, что я не прошу у тебя прощения. Если тебе здесь не нравится, ты отлично знаешь, что тебе делать.
— О боже! — воскликнула она. — И это говорит мой брат! И все из-за этой твари! Чей это ребенок? — спросила она вдруг с яростью, но и с любопытством.
— Можешь успокоиться, не мой. Впрочем, хоть бы и мой, тебе-то что? Прошу не вмешиваться в мою жизнь.
Дженни слышала все, включая оскорбительные замечания по своему адресу, и сердце ее сжалось от боли.
— Успокойся, больше я не буду вмешиваться в твою жизнь, — бушевала Луиза. — Скажу только, что от кого другого, а от тебя я этого не ожидала. Да еще с женщиной, которая настолько ниже тебя! Я сначала подумала, что она… — Луиза опять хотела сказать «твоя экономка», но Лестер, не помня себя от бешенства, грубо перебил ее:
— Мне все равно, что ты о ней подумала. Она лучше многих, кто воображает себя высшими существами. Знаю я, что ты думаешь. Это все ерунда. Я поступаю, как хочу, и твое мнение меня не интересует. Я сам за себя отвечаю и прошу обо мне не заботиться.
— И не буду, можешь быть уверен, — отпарировала Луиза. — Что семья для тебя ничего не значит, это мне теперь совершенно ясно. Но будь у тебя хоть капля совести, ты никогда бы не допустил, чтобы твоя сестра очутилась в таком месте. Мне просто противно, и другие, когда узнают, скажут то же самое, вот и все.
Она круто повернулась и вышла вон, по дороге бросив уничтожающий взгляд на Дженни, которая на беду оказалась в дверях гостиной. Весты в комнате не было. Дженни немного погодя вошла к Лестеру и закрыла за собой дверь. Сказать ей было нечего. Лестер, откинув густые волосы с высокого лба, лежал на подушке, усталый и хмурый. «Какая злая ирония судьбы! — думал он. — Теперь она приедет домой и всем все расскажет. Отец узнает, и мать, Роберт, Имоджин, Эми — все узнают. И отрицать невозможно: Луиза видела достаточно». Лестер в задумчивости устремил взгляд на стену.
Тем временем Дженни, занимаясь своими домашними делами, тоже предавалась размышлениям. Так вот какого мнения о ней другая женщине! Теперь понятно, что думает свет. До семьи Лестера ей так же далеко, как до другой планеты. Для его родителей, братьев и сестер она дурная женщина, неизмеримо ниже его по своему положению в обществе, неизмеримо ниже его морально и умственно, она уличная девка, тварь. А она-то надеялась со временем восстановить свою репутацию. Эта мысль была ей всего больнее, ранила как ножом. Да, она действительно дурная и низкая в глазах Луизы, в глазах света, а главное, в глазах Лестера. Может ли быть иначе? Она молчала и не жаловалась, но боль унижения и стыда не отпускала ее. Ах, если бы как-нибудь оправдаться во мнении всех этих людей; жить честно, стать порядочной женщиной! Как это сделать? Добиться этого необходимо, но как?
Глава XXXIII
Луиза, глубоко уязвленная в своей семейной гордости, тут же возвратилась в Цинциннати, где и рассказала про свое открытие, не скупясь на подробности. По ее словам, ей отворила дверь «совсем простая, глупая на вид женщина», которая, услышав, кто она, даже не пригласила ее войти, а застыла на месте «с самым, что ни на есть виноватым выражением лица». Лестер — тот вел себя бессовестно, так и выложил ей всю правду. Когда она спросила, чей это ребенок живет с ними, он отказался ответить. «Не мой», — вот и все, что он ей сказал.
— Ах, боже мой, боже мой! — вздыхала миссис Кейн, первой узнавшая новость. — Мой сын, мой Лестер! Как он мог?
— И такая низкая тварь! — не уставала восклицать Луиза, словно желая бесконечным повторением придать больше убедительности своим словам.
— Я пошла туда просто потому, что хотела ему помочь, — продолжала она. — Мне сказали, что он нездоров, я думала, может быть, он серьезно заболел. Разве могла я предположить?..
— Бедный Лестер! — воскликнула мать. — Подумать только, что он мог до этого дойти!
Миссис Кейн попыталась разобраться в трудной задаче, но, не зная, с какой меркой к ней подойти, вызвала по телефону мужа, который пришел с фабрики и выслушал рассказ молча, с застывшим лицом. Так, значит, Лестер открыто живет с женщиной, о которой они до сих пор даже не слышали. Что же им предпринять? Родительский авторитет не поможет. Лестер сам себе авторитет, это сильная натура, и на упреки он ответит равнодушием, а может быть, и даст отпор. Если попытаться на него воздействовать, нужно пустить в ход дипломатию.
Арчибалд Кейн возвратился на фабрику огорченный и негодующий, с твердым решением что-то предпринять. Вечером у него состоялась беседа с Робертом, который сознался, что до него уже доходили тревожные слухи, но он предпочитал молчать. Миссис Кейн подала мысль — не съездить ли Роберту в Чикаго поговорить с Лестером.
— Он обязан понять, что своим поведением наносит себе непоправимый вред, — сказал старик Кейн. — Такие вещи никому не сходят безнаказанно. Он должен либо жениться на этой женщине, либо порвать с нею. Так и передай ему от меня.
— Все это очень хорошо, — сказал Роберт, — но кто будет его убеждать? У меня, по правде сказать, нет желания этим заниматься.
— Я не теряю надежды, — сказал старик. — Ты поезжай, попробуй. Вреда от этого не будет. А может, он и одумается.
— Едва ли, — возразил Роберт — Он большой упрямец. Особой пользы я в таких разговорах не вижу Но раз ты просишь, я, конечно, съезжу. И маме этого хочется.
— Да, да, — сказал вконец расстроенный старик, — ты все-таки съезди.
И Роберт отправился в Чикаго. Не теша себя надеждой на успех своего предприятия, он, однако, находил удовлетворение в том, что нравственность и справедливость всецело на его стороне.
Прибыв в Чикаго на третье утро после посещения Луизы, Роберт позвонил на склад, но Лестера там не оказалось. Тогда он позвонил ему домой и деликатно предложил где-нибудь встретиться. Лестер еще не совсем поправился, но предпочел приехать в контору. Он приветствовал Роберта по обыкновению бодро, и некоторое время они говорили о делах. Затем наступило настороженное молчание.
Роберт начал издалека:
— Ты, вероятно, знаешь, зачем я сюда приехал?
— Догадываюсь, — отвечал Лестер.
— Дома все очень встревожились, узнав о твоей болезни, особенно мама. Ты совсем поправился?
— Кажется, да.
— Луиза рассказала, что застала тебя в несколько своеобразной домашней обстановке. Ты, конечно, не женат.
— Нет.
— Та женщина, которую видела Луиза, — это просто… — Роберт выразительно повел рукой по воздуху.
Лестер кивнул.
— Я не хочу допрашивать тебя, Лестер. Я не за тем приехал. Просто наши просили меня с тобой повидаться. Мама была в таком отчаянии, что я обязан был это сделать, хотя бы ради нее…
Он умолк, и Лестер, тронутый таким почтительным и справедливым замечанием, почувствовал, что наотрез отказаться от объяснений было бы просто неучтиво.
— Едва ли я могу сказать тебе что-нибудь утешительное, — начал он немедленно. — Мне, собственно, нечего сказать. Женщина эта существует, и я с ней живу, а нашим это не нравится. Хуже всего, пожалуй, то, что по несчастной случайности вы об этом узнали.
Он замолчал, предоставляя Роберту обдумать его трезвые рассуждения. Лестер, видимо, относился к своему положению спокойно. И слова его звучали, как всегда, здраво и убедительно.
— Ты не собираешься на ней жениться? — нерешительно спросил Роберт.
— Пока нет, — хладнокровно ответил Лестер.
Минуту они молча смотрели друг на друга, потом Роберт обратил взгляд на лежавший за окном город.
— Вероятно, нет смысла спрашивать тебя, любишь ли ты ее, — отважился он сказать.
— Право, не знаю, как я стал бы обсуждать с тобой это неземное чувство, — мрачно съязвил Лестер. — Мне не довелось его испытать. Я знаю только, что эта женщина вполне меня устраивает.
Роберт опять помолчал.
— Что ж, — сказал он наконец, — речь идет о твоем благополучии и о спокойствии семьи. Будем считать, что нравственность здесь ни при чем, во всяком случае, не нам с тобой обсуждать эту сторону дела. Твои чувства касаются одного тебя. Но вопрос о твоем будущем, как мне кажется, достаточно серьезен, чтобы о нем поговорить. О сохранении доброго имени и достоинства семьи тоже стоит подумать. Отец дорожит семейной честью больше, чем многие другие. Тебе это, разумеется, известно так же хорошо, как и мне.
— Я знаю, как смотрит на это отец, — отвечал Лестер. — Все мне так же ясно, как любому из вас, но сейчас я просто не могу ничего предложить. Такие отношения складываются не в один день, и покончить с ними сразу невозможно. Женщина эта существует. Отчасти я сам тут виной. В подробности вдаваться я не намерен, в таких делах многое всегда скрыто от постороннего наблюдателя.
— Я, конечно, понятия не имею о ваших отношениях, — сказал Роберт, — и не собираюсь тебя расспрашивать, но не кажется ли тебе, что ты поступаешь не вполне честно… если только ты не думаешь жениться на ней? — добавил он, чтобы прощупать почву.
Ответ брата озадачил его.
— Возможно, я пошел бы и на это, — сказал Лестер, — если бы видел в том какую-нибудь пользу. Самое главное, что женщина эта существует и всей семье это известно. Если тут и следует что-нибудь предпринять, то только мне. Действовать за меня никто не может.
Лестер умолк, а Роберт встал и зашагал взад и вперед по комнате. Потом он опять подошел к брату и сказал:
— Ты говоришь, что не собираешься на ней жениться или, вернее, что до этого еще не дошло. Не советую, Лестер. Мне кажется, это было бы роковой ошибкой. Я не хочу поучать тебя, но подумай сам, чем это грозит человеку в твоем положении; ты не вправе так рисковать. Не говоря уже о семье, ты слишком многое ставишь на карту. Ты просто губишь свою жизнь.
Он умолк, вытянув вперед правую руку — его обычный жест, когда он принимал что-нибудь особенно близко к сердцу, — и Лестер почувствовал простую искренность его слов. Роберт уже не выступал в роли судьи. Он взывал к его разуму, а это серьезно меняло дело.
Однако Лестер не откликнулся на этот призыв, и Роберт попробовал сыграть на другой струне. Он напомнил Лестеру, как его любит отец, как он надеялся, что Лестер женится в Цинциннати на богатой девушке, пусть даже не католичке, если ему захочется, но во всяком случае на девушке своего круга. И миссис Кейн всегда лелеяла эту надежду, да что говорить, Лестер и сам все знает.
— Да, я знаю, как они на это смотрят, — перебил его Лестер, — но, право, не вижу, что можно сейчас изменить.
— Ты хочешь сказать, что пока не считаешь целесообразным расставаться с нею?
— Я хочу сказать, что встретил с ее стороны исключительное отношение и как порядочный человек обязан сделать для нее все возможное. Что именно, я еще не знаю.
— Ты считаешь, что обязан жить с ней? — спросил Роберт холодно.
— Во всяком случае, не выбрасывать ее на улицу, когда она привыкла жить со мной, — ответил Лестер.
Роберт снова опустился в кресло, словно смирившись с тем, что его призыв остался без отклика.
— Разве осложнения в семье — недостаточная причина для того, чтобы договориться с нею по-хорошему и отпустить ее?
— Не раньше чем я до конца обдумаю этот вопрос.
— И ты даже не обещаешь мне покончить с этим в ближайшее время, чтобы я по приезде мог хоть немного успокоить родителей?
— Я бы с радостью облегчил их горе, но правда остается правдой, и в разговоре с тобой я не считаю нужным идти на уловки. Как я уже сказал, такие вещи нельзя обсуждать, — это просто недопустимо и по отношению ко мне и по отношению к этой женщине, Здесь и сами заинтересованные стороны иногда не знают, как поступить, не говоря уже о посторонних. Я был бы просто подлецом, если бы дал тебе сейчас слово предпринять что-то определенное.
Роберт опять походил по комнате.
— Так ты считаешь, что сейчас ничего нельзя сделать?
— Пока ничего.
— Ну, тогда я, пожалуй, пойду. Больше нам как будто говорить не о чем.
— Может быть, ты позавтракаешь со мной? Я сейчас свободен, проехали бы ко мне в гостиницу.
— Нет, благодарю, — сказал Роберт. — Я, кажется, поспею к часовому поезду на Цинциннати. Во всяком случае, попытаюсь.
Они стояли друг против друга, Лестер — бледный и немного обрюзгший, Роберт — смуглый, прямой, подтянутый, себе на уме, и было видно, как годы изменили и того и другого. Роберт всю жизнь действовал просто и решительно, Лестера вечно одолевали сомнения. В Роберте воплотились энергия и хватка дельца, в Лестере — самонадеянность удачливого богача с несколько скептическими взглядами на жизнь. Вместе они являли замечательную картину, независимо от того, какие мысли мелькали сейчас в их сознании.
— Что ж, — сказал старший брат после паузы, — добавить мне нечего. Я надеялся, что сумею внушить тебе нашу точку зрения, но ты, конечно, стоить на своем. Раз ты сам не понимаешь, что делаешь, мне тебя не вразумить. Одно скажу: по-моему, ты поступаешь неумно.
Лестер слушал молча, и лицо его выражало упрямую решимость.
Роберт взял шляпу, и они вместе направились к дверям.
— Я постараюсь представить им дело в самом лучшем свете, — сказал Роберт и вышел.
Глава XXXIV
В окружающем нас мире жизнь всех представителей животного царства протекает в определенной сфере или среде, словно вне ее они не могли бы существовать на планете, которая в силу непреложного закона вращается вокруг Солнца. Так, рыба гибнет, покидая водную стихию, а птица платит дорогой ценой за попытку вторгнуться в царство рыб. Все живые существа — от тли, паразитирующей на цветке, до чудищ тропических лесов и морских глубин — свидетельствуют о том, что природа ограничила их деятельность определенной средой; и нам остается только отмечать, к каким нелепым и роковым последствиям приводят всякие их попытки вырваться из нее.
Однако в отношении человека эта теория ограниченной сферы не подтверждается столь же наглядно. Законы, управляющие общественной жизнью, еще не поняты до конца и не дают нам основания для обобщений. И все же мнения, требования и суждения общества тоже служат своего рода границами, вполне реальными, хоть и неосязаемыми. Когда мужчина или женщина согрешат — иными словами, преступят черту положенного круга, — уготованное им возмездие не похоже на то, что настигает птицу, вознамерившуюся жить под водой, или дикого зверя, который забрел в места, где обитает человек. Их не ждет немедленная гибель. Люди всего лишь удивленно поднимают брови, или усмехнутся язвительно, или возмущенно всплеснут руками. И все же сфера общественной жизни очерчена для каждого так четко, что всякий, покидающий ее, обречен. Человек, рожденный и воспитанный в той или иной среде, непригоден для существования вне ее. Он словно птица, привыкшая к определенной плотности воздуха и неспособная наслаждаться жизнью ни в более плотной, ни в более разреженной атмосфере.
Проводив брата, Лестер сел в кресло у окна и загляделся на панораму молодого, быстрорастущего города. За окном текла жизнь с ее кипучей деятельностью, надеждами, богатством и наслаждениями, а он, словно отброшенный внезапным порывом жесткого ветра, остался на время в стороне, и все его планы и замыслы как-то спутались. Может ли он по-прежнему беззаботно идти привычным путем? Не отразится ли противодействие семьи на его отношениях с Дженни? Неужели безвозвратно отошел в прошлое родительский дом, где раньше он чувствовал себя так легко и свободно? Да, прежних отношений с домашними, простых и дружеских, ему уже не вернуть. И прочтет ли он, как бывало, во взгляде отца одобрение и гордость? Отношения с Робертом, с рабочими на отцовской фабрике — все, все, что составляло прежде его жизнь, пострадало от злосчастного вторжения Луизы.
«Не повезло», — решил он мысленно и, оторвавшись от беспредметных размышлений, стал обдумывать, какие практические шаги он может предпринять.
Вернувшись домой, он сказал Дженни.
— Хочу завтра или послезавтра уехать ненадолго в Маунт-Клеменс. Я что-то чувствую себя неважно, там отдохну и поправлюсь.
Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. К назначенному часу Дженни собрала ему чемодан, и он уехал, сосредоточенный и угрюмый.
За следующую неделю он не спеша все обдумал и пришел к заключению, что пока никаких решительных шагов предпринимать не нужно. Лишних два-три месяца не имеют значения. Маловероятно, чтобы Роберт или кто-нибудь из семьи захотел еще раз повидаться с ним. Деловые знакомства он будет поддерживать, как и раньше, поскольку они связаны с процветанием фирмы; принудительных мер никто по отношению к нему не примет. И все же сознание безнадежного разлада с семьей угнетало Лестера. «Плохо дело, — думал он, — плохо дело». Но жизни своей он не изменил.
Такое неопределенное положение тянулось еще целый год. Полгода Лестер не появлялся в Цинциннати; потом съездил туда на важное деловое совещание, потребовавшее его присутствия, и держал себя так, словно ничего не случилось. Мать поцеловала его нежно, хоть и печально; отец как всегда, крепко пожал ему руку; Роберт, Луиза, Эми и Имоджин, будто сговорившись, ни словом не коснулись единственного предмета, который их интересовал. Но чувство отчуждения не прошло. После этого Лестер стал всячески избегать наездов в свой родной город.
Глава XXXV
Тем временем Дженни переживала сложный душевный перелом. Впервые, если не считать разногласий с собственной семьей, чье отношение глубоко огорчало ее, она столкнулась с мнением света. Теперь ей было ясно: она дурная женщина. Два раза она уступила силе обстоятельств, когда могла бы бороться с ними. Если бы только у нее было больше мужества! Если бы ее не угнетал этот вечный страх! Если бы она могла решиться поступить, как подсказывает разум! Лестер никогда на ней не женится. Ему это не нужно. Она его любит, но она может уйти, так будет лучше для него. Если она вернется в Кливленд, отец, вероятно, согласится жить с ней. Этим правильным, хоть и запоздалым поступком она заслужит его уважение. И все же она содрогалась при одной мысли о том, чтобы покинуть Лестера, — он столько для нее сделал. А отец… отец, возможно, и не захочет ее принять.
После злополучного визита Луизы Дженни стала подумывать о том, не отложить ли ей немного денег, собрав их по крохам из того, что давал Лестер. Он не скупился на расходы, и до сих пор Дженни каждую неделю посылала родным пятнадцать долларов, — на такие деньги они когда-то жили всей семьей, без посторонней помощи. Двадцать долларов она тратила на еду, — Лестер требовал, чтобы на столе у него все было самое лучшее — фрукты, сласти, мясо, виня. За квартиру они платили пятьдесят пять долларов в месяц, на одежду и всякие непредвиденные расходы определенной суммы установлено не было. Лестер давал ей пятьдесят долларов в неделю, и почему-то от них никогда ничего не оставалось. Однако Дженни вскоре отбросила мысль об экономии. Если уйти, то лучше уйти с пустыми руками. Иначе будет нехорошо.
После появления Луизы она думала об этом неделю за неделей, стараясь собраться с духом, чтобы сказать или сделать что-то решительное. Лестер был с ней неизменно великодушен и ласков, но порой она чувствовала, словно он чего-то ждет от нее. Он бывал рассеян, задумчив. Ей казалось, что после разговора с Луизой он немного изменился. Как хорошо было бы сказать ему, что она недовольна своей жизнью, и потом уйти! Но ведь, когда обнаружилось существование Весты, он ясно дал ей понять, что ее мнение для него немного значит, раз он решил, что ребенок — непреодолимое препятствие для их брака. Она нужна ему, но не в качестве законной жены. А спорить с ним трудно, он такой властный. Наконец она решила, что лучше будет объяснить ему причину своего ухода в письме. Тогда он, возможно простит ее и забудет.
Дела семейства Герхардт шли по-прежнему плохо. Марта вышла замуж. Проработав несколько лет школьной учительницей, она познакомилась с молодым архитектором, и вскоре они обручились. Марта всегда немного стыдилась своей семьи, а теперь в предвкушении новой жизни старалась как можно меньше общаться с родными. Она лишь мимоходом известила их о предстоящем замужестве, а Дженни вообще не написала и на свадьбу пригласила только Басса и Джорджа. Герхардт, Вероника и Уильям обиделись. Герхардт снес обиду молча, — слишком уж много била его жизнь. Зато Вероника не на шутку рассердилась и только ждала случая отплатить сестре, Уильям дулся недолго; он был увлечен своими планами, изучал электротехнику, про которую одна из учительниц в школе сказала ему, что это очень интересная и выгодная профессия.
Дженни узнала о замужестве Марты много позже, из письма Вероники. Она порадовалась за Марту, но с грустью подумала, что братья и сестры все дальше отдаляются от нее.
Через некоторое время Вероника и Уильям переселились к Джорджу. Произошло это по вине самого Герхардта. После смерти жены и ухода старших детей он впал в глубокое уныние, порою от него часами нельзя было услышать ни слова. Он чувствовал, что отжил свой век, хотя ему еще только шестьдесят пять лет. Мечты о мирском благополучии, которые он когда-то лелеял, рассеялись в прах. Себастьян, Марта и Джордж стали самостоятельными, он для них ничего не значил, и они ничего не приносили в дом; помогала одна Дженни, от которой он по-настоящему не должен был бы принять ни доллара. Вероника и Уильям бунтовали. Они отказывались бросить школу и идти работать, видимо, предпочитая жить на деньги, добытые, как уже давно решил Герхардт, нечестным путем. Он почти не сомневался в том, каковы истинные отношения Дженни и Лестера. Сначала он поверил, что они женаты, но, видя, как Лестер месяцами не вспоминает о Дженни, как покорно она бежит к нему по первому зову, как боится рассказать ему про Весту, он постепенно убеждался в обратном. Он не был на свадьбе дочери, не видел ее брачного свидетельства. Она, конечно, могла выйти замуж после отъезда из Кливленда, но Герхардту в это не верилось.
Он был теперь до крайности угрюм и сварлив, и детям становилось все труднее жить с ним. Вероника и Уильям капризничали и дулись. Им не нравилось, что, когда Марта вышла замуж и уехала, отец взял расходы по дому в свои руки. Он ворчал, что дети слишком много тратят на одежду и развлечения, упорно твердил, что необходимо перебраться в другой дом, поменьше, а из денег, которые присылала Дженни, всякий раз удерживал часть для каких-то непонятных им целей. Герхардт и в самом деле откладывал деньги: он задумал со временем выплатить Дженни все, что получил от нее. Он полагал, что жить на ее деньги грешно, а из своего ничтожного заработка был, конечно, неспособен с ней рассчитаться. Его грызла мысль, что если бы другие дети исполняли свой долг по отношению к нему, он не был бы вынужден на старости лет принимать подаяние от дочери, которая при всех своих достоинствах все же ведет неправедную жизнь. И домашние ссоры не прекращались.
Наконец, как-то зимой Джордж внял жалобам брата и сестры и согласился взять их к себе с условием, что они будут работать. Герхардт сперва растерялся, но затем предложил им забрать мебель и отправиться куда угодно. Такое великодушие с его стороны пристыдило их, и они даже заикнулись о том, что, может, и он стал бы жить с ними, но Герхардт наотрез отказался. Он пойдет на фабрику, где работает сторожем, и попросит у мастера разрешения спать на каком-нибудь чердаке. На фабрике его любят, ему доверяют. К тому же это будет экономнее.
Так он сгоряча и поступил, и в долгие зимние ночи можно было увидеть одинокого старика, караулящего на пустынной улице, далеко от оживленных центральных кварталов. Ему отвели угол на чердаке склада, стоявшего в стороне от фабрики с ее сутолокой и шумом. Здесь он спал днем, после работы. Перед вечером он выходил пройтись либо к центру города, либо по берегу Кихоги, либо к озеру. Он тихо брел, заложив руки за спину, задумчиво склонив голову. Иногда он разговаривал сам с собою; его удрученное состояние изредка прорывалось в горьких словах: «Поди ж ты!» или «Тьфу, пропасть!» С наступлением темноты он занимал свой пост у ворот фабрики. Питался он по соседству, в закусочной для рабочих, которую считал самым подходящим для себя местом.
Размышления старого немца бывали обычно отвлеченного или чрезвычайно мрачного свойства. Что такое жизнь? Столько усилий, столько забот и горя, а в конце концов что остается? И где — то, чего больше нет? Люди умирают и уже никак не общаются с живыми. Взять хотя бы его жену. Она умерла, а куда отлетел ее дух?
Однако Герхардт еще крепко держался за привычные с детства церковные догматы. Он верил, что есть ад и что грешники после смерти попадают туда. Ну, а миссис Герхардт? А Дженни? По его мнению, обе они были повинны в тяжких грехах. Он верил и в то, что праведников ждет райское блаженство. Но где эти праведники? У миссис Герхардт было доброе сердце. Дженни — само великодушие. А его сын Себастьян? Себастьян — хороший мальчик, но сердце у него черствое, а сыновней любви нет и в помине. Марта честолюбива, думает только о себе. Выходит, что все дети, кроме Дженни, — эгоисты. Басс, с тех пор как женился, пальцем не шевельнул для семьи. Марта уверяет, что ее заработка ей еле хватает на себя. Джордж сначала хоть немножко помогал, а потом бросил. Вероника и Уильям спокойно жили на деньги Дженни, пока он это разрешал, хоть и знали, что поступают нехорошо. А теперешнее существование его, Герхардта, разве не свидетельствует об эгоизме детей? И силы его уже не прежние. Он сокрушенно качал головой. Загадка, да и только. Все в жизни непонятно, таинственно, шатко. А все-таки ни с кем из детей он не желает жить. Они недостойны его, все, кроме Дженни, а Дженни живет грешной жизнью. Так горевал старый Герхардт.
Дженни не сразу узнала обо всех этих печальных делах. Раньше она адресовала свои письма Марте, потом, когда сестра вышла замуж, стала писать прямо отцу. После ухода младших детей Герхардт написал ей, чтобы она больше не присылала денег. Вероника и Уильям будут жить у Джорджа; у него хорошее место на фабрике, там же он пока имеет и квартиру. Он вернул Дженни то, что сумел отложить, — сто пятнадцать долларов, объяснив, что эти деньги ему не понадобятся.
Дженни ничего не поняла, но, зная упорство отца, решила не спорить с ним, тем более, что братья и сестры молчали. Однако со временем она стала яснее представлять себе, что произошло дома, и встревожилась не на шутку. Ей хотелось съездить к отцу и не хотелось уезжать от Лестера, независимо от того, как сложатся их отношения. Согласится ли отец жить с нею? Сейчас, разумеется, нет. Если она выйдет замуж, возможно; если останется одна, почти наверняка. Но если у нее не будет хорошего заработка, им придется трудно. Все сводилось к тому же вопросу; что ей делать? И все же она решилась. Найти работу на пять-шесть долларов в неделю — и они проживут. А на первое время у них будут те сто пятнадцать долларов, которые скопил отец.
Глава XXXVI
В планах Дженни был один изъян — она недостаточно принимала в расчет позицию Лестера. Он безусловно дорожил нею, хоть и не мог вырваться из замкнутого круга условностей того мира, в котором был воспитан. Однако если он и не любил ее настолько, чтобы наперекор мнению света обвенчаться с ней по той простой причине, что он выбрал себе жену по душе, все же она занимала в его жизни очень большое место, и пока что он отнюдь не собирался окончательно с ней порвать.
Лестер был уже в том возрасте, когда взгляды на женщин, раз установившись, редко меняются. До сих пор ни одна женщина его круга не нравилась ему так, как Дженни. В ней была женственность, мягкость, природный ум, она предупреждала каждое его желание; искусству держаться в обществе он обучил ее сам, так что теперь мог показаться с ней где угодно. Все это было удобно и приятно, что же еще ему оставалось желать?
А между тем беспокойство Дженни росло день ото дня. Пытаясь изложить свои мысли на бумаге, она начала и уничтожила несколько писем и, наконец, как ей показалось, сумела хоть бы отчасти выразить то, что чувствовала. Послание получилось длинное, она еще никогда таких не писала.
«Лестер, милый, когда ты получишь это письмо, меня здесь не будет, и я прошу тебя не думай обо мне плохо, пока не дочитаешь до конца. Я уезжаю и увожу с собой Весту, думаю, что так будет лучше. Право же, Лестер, так нужно. Когда ты появился в моей жизни, мы были очень бедны, да и мое положение было такое, что я думала, ни один хороший человек на мне не женится. А ты сказал, что любишь меня, и я совсем голову потеряла, а потом и я полюбила тебя, сама не знаю как.
Ведь я говорила тебе тогда, что не хочу больше поступать дурно и что я нехорошая, но когда ты был со мной, я просто не могла ни о чем думать и не знала, как уйти от тебя. Отец в это время как раз заболел, и дома все сидели голодные. Мы зарабатывали такие гроши. У моего брата Джорджа не было башмаков, мама совсем с ног сбилась. Я часто думаю, Лестер, если бы на маму не навалилось столько забот и горя, она, может, и сейчас была бы жива. Я подумала, что раз я тебе нравлюсь и ты мне нравишься, — я тебя люблю, Лестер, — может быть, большого греха и не выйдет. Ты ведь сразу сказал мне, что хотел бы помочь моей семье, и я подумала, что, может, так и нужно поступить. Очень уж бедно мы жили.
Лестер, милый, мне стыдно уходить от тебя; тебе может показаться, что это очень гадко, но если б ты знал, что я пережила за последнее время, ты бы простил меня.
Я люблю тебя, Лестер, очень люблю! Но все эти месяцы, с тех пор как приходила твоя сестра, я чувствую, что живу дурно и что дальше так жить нельзя, раз я сама знаю, как это дурно. Я виновата в том, что у меня было с сенатором Брэндером, но я была еще так молода — я совсем не понимала, что делаю. Я виновата, что с самого начала не рассказала тебе про Весту, хотя тогда мне казалось, что это правильно. Я страшно виновата в том, что тайком от тебя привезла ее в Чикаго, но я боялась тебя, Лестер, боялась того, что ты скажешь или сделаешь. Все это стало мне ясно после того, как твоя сестра побывала здесь; и с тех пор я твердо знаю, что живу нехорошо. Но я тебя не виню, Лестер, я виню только себя.
Я не прошу тебя жениться на мне. Я знаю, как ты ко мне относишься и как ты относишься к моей семье, и сама не считаю, что это помогло бы делу. Твои родные не захотят этого, и я ни о чем не стану тебя просить. А так, как мы сейчас живем, больше жить нельзя, это мне ясно. Веста подрастает, скоро она будет все понимать. Пока она думает, что ты и в самом деле ее дядя. Я столько думала, столько раз хотела поговорить с тобой, но когда у тебя серьезное лицо, мне делается страшно и я не могу выговорить ни слова. Вот я и решила — лучше напишу и уеду и, тогда ты все поймешь. Ты понял, Лестер, понял? Ты не сердишься на меня; так нужно. Прости меня, Лестер, пожалуйста, прости, и забудь обо мне. Я как-нибудь проживу. Но я так люблю тебя, так люблю, и вечно буду тебе благодарна за все, что ты для меня сделал. Желаю тебе счастья. Прости меня, Лестер.
Я люблю тебя. Дженни.P.S. Я уезжаю к отцу в Кливленд. Я ему нужна. Он совсем один. Но, пожалуйста, Лестер, не приезжай за мной. Не нужно».
Дженни положила письмо в конверт, запечатала его и до времени спрятала в надежное место.
Еще несколько дней она собиралась с духом, чтобы осуществить свой план, и наконец, когда Лестер однажды предупредил ее по телефону, что два-три дня не появится дома, она уложила в несколько чемоданов все самое необходимое для себя и Весты и послала за извозчиком. Она подумала было известить отца о своем приезде телеграммой, но потом вспомнила, что он живет на фабрике, и решила сама разыскать его. Герхардт писал ей, что Вероника и Уильям увезли не всю мебель, часть ее сдана на хранение. Значит, будет чем обставить небольшую квартирку. Покончив с приготовлениями к отъезду, Дженни села и стала ждать извозчика, но тут дверь отворилась и в комнату вошел Лестер.
В последнюю минуту он изменил свои планы. Он не обладал особой интуицией, но на этот раз словно почувствовал что-то. Сговорившись со знакомыми пострелять уток на болотах Канкаки, южнее Чикаго, он вдруг передумал и даже решил уйти из конторы раньше обычного. Что его побудило к этому, он не мог бы объяснить.
Ему было даже странно возвращаться домой в такой ранний час. Увидев посреди передней два чемодана, он остолбенел. Что это значит? Дженни в дорожном костюме, совсем готовая в путь. И Веста одета. Карие глаза Лестера широко раскрылись от изумления.
— Ты куда? — спросил он.
— Я… я, — начала она, пятясь от него, — я уезжаю.
— Куда?
— Я хотела уехать в Кливленд.
— Зачем?
— Я… я все время собиралась сказать тебе, Лестер, что, по-моему, нельзя мне больше здесь оставаться. Нехорошо это. Я все хотела поговорить с тобой и не решалась. Я тебе написала письмо.
— Письмо! — воскликнул он. — Ничего не понимаю! Где это письмо, черт побери?
— Вот, — сказала она, машинально протягивая руку к столику, где на самом виду, на толстой книге лежало ее послание.
— И ты хотела уехать от меня, отделавшись письмом? — спросил Лестер уже более суровым тоном. — Нет, я отказываюсь тебя понять. В чем дело, наконец? — Он разорвал конверт и пробежал глазами первые строки письма.
— Уведи-ка отсюда Весту, — сказал он.
Дженни послушалась. Потом, вернувшись, застыла посреди комнаты, бледная, расстроенная, обводя рассеянным взглядом стены, потолок, чемоданы, Лестера. Он внимательно прочел письмо, изредка переступая с ноги на ногу, и бросил его на пол.
— Слушай, Дженни, — заговорил он, с любопытством глядя на нее и не зная, что ему, собственно, сказать. Вот когда ему представилась возможность покончить с этой связью. Но ему этого вовсе не хочется, — все шло так мирно и хорошо. Они столько лет прожили вместе, что разъехаться теперь было бы просто смешно. К тому же он любит ее, разумеется, любит. Однако жениться на ней он не хочет, да, пожалуй, и не может. Она это знает. Свидетельство тому — ее письмо.
— Ты что-то путаешь, — продолжал он медленно. — Не знаю, что на тебя находит, но у тебя совершенно неправильный взгляд на вещи. Я ведь тебе говорил, что не могу на тебе жениться, во всяком случае сейчас. Есть много важных обстоятельств, о которых ты и понятия не имеешь. Что я тебя люблю, ты знаешь. Но необходимо считаться и с моей семьей и с интересами нашей фирмы. Ты не понимаешь, как все это сложно, а я понимаю. Но расставаться с тобой я не хочу, ты мне очень дорога. Конечно, я не могу удержать тебя насильно, ты вольна уйти. Но мне кажется, это было бы нехорошо. Неужели тебе правда этого хочется? Присядь-ка на минутку.
Дженни, надеявшись ускользнуть без объяснений, совсем растерялась. К чему он затеял этот серьезный разговор и говорит так, словно просит ее о чем-то. Ей стало больно. Он, Лестер, убеждает ее остаться, когда она его так любит!
Она подошла к нему, и он взял ее за руку.
— Послушай-ка, — сказал он. Право же, в твоем уходе нет сейчас никакого смысла. Ты куда хотела уехать?
— В Кливленд.
— И как же ты собиралась там жить?
— Я думала: возьму к себе папу, если он согласиться, он сейчас совсем один, и найду какую-нибудь работу.
— А что ты умеешь делать, Дженни, кроме того, что делала раньше? Неужели опять пойдешь в прислуги? Или станешь продавщицей в магазине?
— Я могла бы устроиться где-нибудь экономкой, — робко сказала Дженни. Это было лучшее, что пришло ей в голову во время долгих размышлений о возможной работе.
— Нет, нет, — проворчал он, качая головой. — Это не годится. Все твои планы никуда не годятся, одна фантазия. И нравственного удовлетворения это тебе не даст. Прошлого не переделаешь. Да это и неважно. Сейчас я не могу на тебе жениться. Позже — может быть, но я ничего не хочу обещать. Однако по доброй воле я тебя не отпущу, а если уж ты уйдешь, я не хочу, чтобы ты вернулась к своей прежней жизни. Так или иначе я тебя обеспечу. Неужели ты правда хочешь от меня уйти, Дженни?
Перед властной настойчивостью Лестера и его энергичными доводами Дженни была бессильна. Стоило ему коснуться ее руки, и от всех ее решений ничего не осталось. Она расплакалась.
— Не плачь, Дженни, — сказал Лестер. — Все может обернуться лучше, чем ты думаешь. Подожди немного. Снимай же пальто и шляпу. Ты ведь не уйдешь от меня?
— Не уйду! — всхлипнула Дженни.
Он привлек ее к себе на колени.
— Не будем пока ничего менять, — продолжал он. — Жизнь — сложная шутка. Разом ничего не устроишь. А потом все как-нибудь образуется. Я тоже сейчас мирюсь с тем, на что в другое время не согласился бы ни в коем случае.
Постепенно Дженни успокоилась и печально улыбнулась сквозь слезы.
— А теперь убери все это по местам, — сказал он ласково, указывая на чемоданы. — И, пожалуйста, обещай мне одну вещь.
— Что? — спросила Дженни.
— Впредь ничего от меня не скрывать, понимаешь? Ничего не решать без меня и не действовать без моего ведома. Если тебя что-нибудь мучит, приди ко мне и скажи. Я тебя не съем! Можешь говорить со мной обо всех своих заботах. Я помогу тебе с ними справиться, а если и не смогу помочь, то у нас хотя бы не будет никаких секретов друг от друга.
— Я знаю, Лестер, — сказала она, серьезно глядя ему в глаза. — Обещаю, что ничего больше не буду скрывать, честное слово. Я раньше боялась, а теперь не буду. Правда!
— Вот так-то лучше, — сказал Лестер. — Я тебе верю.
И он отпустил ее.
Первым результатом этого разговора было то, что через несколько дней речь зашла о судьбе Герхардта. Дженни уже давно о нем беспокоилась, а теперь решила поделиться своей тревогой с Лестером и как-то вечером, за обедом, рассказала ему о том, что произошло в Кливленде.
— Представляю себе, как ему там тяжело совсем одному. Я, когда хотела уехать в Кливленд, собиралась взять его к себе. А теперь не знаю, что и делать.
— Ты бы послала ему денег, — предложил Лестер.
— Отец не хочет брать у меня деньги, — объяснила она. — Он не верит, что я замужем.
— У него есть к тому основания, — спокойно заметил Лестер.
— Подумать страшно, что он ночует где-то на фабрике. Он такой старенький и совсем один.
— А другие дети? Почему они о нем не заботятся? Где твой брат Басс?
— Может быть, им не хочется о нем заботится, он такой вспыльчивый, — сказала она простодушно.
— Ну, тогда уж я не знаю, что и посоветовать, — улыбнулся Лестер. — Ему бы следовало быть покладистей.
— Да, конечно, — сказала Дженни, — но он такой старый и ему так трудно жилось.
Некоторое время Лестер молча вертел в руках вилку.
— Я вот о чем думаю, — сказал он наконец. — Раз мы решили не расставаться, лучше уехать из этой квартиры. Я уже прикидывал, не снять ли нам дом в Хайд-Парке. Правда, далеко будет ездить в контору, но жить здесь мне что-то надоело. И вам с Вестой будет неплохо иметь свой двор и сад. Вот тогда ты могла бы взять отца к себе. Он нам не помешает. Будет возиться по хозяйству, еще поможет держать дом в порядке.
— Ах, это было бы как раз для него! — вздохнула Дженни. — Он так любит все чинить, и он мог бы косить газон и смотреть за отоплением. Но он ни за что не приедет, если не будет уверен, что мы женаты.
— Да, это усложняет дело, поскольку ты не можешь предъявить ему брачное свидетельство. Старик явно мечтает о невозможном. Да и трудновато ему будет справляться с отоплением загородного дома, — добавил он, помолчав.
Дженни пропустила его слова мимо ушей. Она опять задумалась о том, как плохо и неумело устроила свою жизнь. Герхардт не приедет, даже если у них и будет прекрасный дом, где он мог бы жить. А как хорошо ему было бы с Вестой! Он бы просто воскрес.
Она грустно молчала, пока Лестер не сказал, словно отвечая на ее мысли:
— Право, не знаю, что и придумать. Раздобыть бланк брачного свидетельства не так-то легко. Подделка карается по закону. Мне бы, честно говоря, не хотелось ввязываться в такое дело.
— Да что ты, Лестер, разве можно! Мне просто жаль, что папа такой упрямый. Когда он что-нибудь заберет себе в голову, с ним ничего не поделаешь.
— Давай подождем, пока не устроимся на новом месте, — предложил Лестер. — А тогда ты съездишь в Кливленд и сама с ним поговоришь. Может быть, тебе и удастся убедить его.
Ему нравилось, что Дженни так предана отцу, и он готов был помочь ей в том, что она задумала. Старый Герхардт — мало интересный субъект, но не противный и если ему захочется поработать в большом хозяйстве, пожалуйста, Лестер ничего не имеет против.
Глава XXXVII
Слова о переезде в Хайд-Парк не были сказаны впустую. Когда через две-три недели все опять пришло в норму, Лестер предложил Дженни съездить с ним туда, чтобы присмотреть дом.
В первую же поездку они нашли то, что им было нужно, — старый дом из одиннадцати больших комнат окруженный газонами и тенистыми деревьями, посаженными, когда город еще только начинал строиться. Здесь было красиво, уютно, тихо. Дженни пришла в восторг от просторной, почти деревенской усадьбы, хотя ее и угнетало сознание, что она войдет в свой новый дом не вполне законной хозяйкой. Когда она готовилась уйти от Лестера, ее поддерживала смутная надежда, что он приедет за ней и они поженятся. Теперь на этом поставлен крест Она обещала остаться, и нужно будет как-то ко всем приспособиться. Она заикнулась было, что такой огромный дом им ни к чему, но Лестер не стал ее слушать.
— Очень возможно, что мы будем принимать гостей, — сказал он. — Во всяком случае нужно обставить дом и посмотреть, что получится.
Он дал агенту указания заключить арендный договор на пять лет с правом последующего продления, и работы на участке начались немедленно.
Дом покрасили снаружи и отделали внутри, газоны подровняли, все приняло нарядный, праздничный вид. На первом этаже разместилась большая библиотека, столь же просторная столовая, гостиная для приемов, гостиная поменьше, огромная кухня и буфетная. На втором этаже спальня, ванные и комната горничной. Все было удобно, все радовало глаз, и заботы по устройству на новом месте наполняли Дженни довольством и гордостью.
Сейчас же после переезда Дженни с разрешения Лестера написала отцу, приглашая его переселиться к ним. Она ни словом не упомянула о своем браке, предоставив ему самому сделать нужный вывод. Зато подробно рассказала, в каком красивом месте живет, какой у нее удобный дом и большой сад. «Здесь так хорошо, папа, — писала она, — тебе наверно понравится. Веста уже ходит в школу. Приезжай к нам, будем жить вместе. Это куда лучше, чем ютиться при фабрике. И я была бы так рада!»
Герхардт прочел это письмо и недоуменно нахмурился. Неужели правда? Но если бы они не поженились, разве стали бы они переезжать в такой большой дом? Или он с самого начала ошибался? Ну что ж, лучше поздно, чем никогда, но стоит ли ему-то к ним ехать? Он уже привык жить один, так неужели перебираться в Чикаго, к Дженни? Он не остался равнодушным к ее призыву и все же решил отказаться. Не мог он так открыто признать, что и на нем лежит часть вины за их размолвку.
Отказ отца сильно огорчил Дженни. Она посоветовалась с Лестером и решила сама съездить в Кливленд. Разыскав мебельную фабрику, где служил Герхардт, — беспорядочное нагромождение зданий в одном из беднейших кварталов города, — она навела о нем справки в конторе. Клерк направил ее к стоявшему на отлете складу, и Герхардту сообщили, что его хочет видеть какая-то дама. Он поднялся со своей жалкой койки и сошел во двор, любопытствуя, кто бы это мог быть. У Дженни сердце защемило, когда он вышел из темной двери — седой, с косматыми бровями, в пыльной, измятой одежде. «Бедный папа!» — подумала она. Он подошел к ней, и его испытывающий взгляд смягчился, когда он понял, какое доброе побуждение привело ее сюда.
— Ты зачем это приехала? — спросил он с опаской.
— Я хочу увезти тебя к себе, папа! — взмолилась Дженни. — Нельзя тебе больше здесь оставаться. Просто думать невыносимо, как ты тут живешь совсем один.
— Вот что, — сказал он, озадаченный, — так ты для этого приехала?
— Да, — отвечала она. — Поедем со мной. Не надо оставаться здесь.
— У меня хороший угол, — сказал он, словно оправдываясь.
— Знаю, знаю, но у нас теперь большой дом и Веста с нами живет. Неужели ты не поедешь? Лестер тоже тебя приглашает.
— Ты мне одно скажи, — потребовал он, — женаты вы или нет.
— Конечно, — храбро солгала она. — Давно женаты. Спроси хоть Лестера, когда приедешь.
Ей стоило большого труда выдержать его взгляд, но она не опустила глаз, и он ей поверил.
— Ну что ж, — сказал он, — давно пора.
— Так ты поедешь, папа? — не отставала она.
Герхардт беспомощно развел руками. Ласковая настойчивость Дженни тронула его до глубины души.
— Да, поеду, — сказал он и отвернулся, но плечи его вздрагивали, и Дженни поняла, что он плачет.
— Сейчас, со мной?
Вместо ответа он исчез в темных дверях склада: пошел собирать вещи.
Глава XXXVIII
Поселившись у Дженни, Герхардт немедленно приступил к исполнению многообразных обязанностей, предназначенных, по его мнению, специально для него. Он взял на себя заботу об отоплении и об участке, не допуская и мысли о том, чтобы чужому человеку платили жалованье, когда сам он сидит без дела. Деревья вокруг дома в безобразном состоянии, заявил он дочери. Нужно достать пилу и садовый нож, и весной он ими займется. В Германии понимают толк в таких вещах, а эти американцы — беспомощный, непрактичный народ! Затем Герхардт потребовал гвоздей и столярных инструментов и постепенно отремонтировал все шкафы и полки. В двух милях от дома он обнаружил лютеранскую церковь и нашел, что она лучше той, куда он ходил в Кливленде, а пастор — поистине человек, угодный богу. Он тут же настоял, чтобы Веста каждую неделю ходила с ним в церковь, и слушать не хотел никаких отговорок.
Начиная новую жизнь в Хайд-Парке, Дженни и Лестер были не совсем спокойны: они знали, что им будет нелегко. На Северной стороне Дженни без труда избегала знакомства и разговоров с соседями. Здесь же дом, который они занимали, был на виду; следовало ожидать, что соседи сочтут своим долгом явиться к ним с визитом, и Дженни придется играть роль опытной хозяйки. Они с Лестером подробно все обсудили, и он решил — пусть их считают мужем и женой. Про Весту можно сказать, будто она дочь Дженни от первого мужа, мистера Стовера (девичья фамилия миссис Герхардт), умершего сразу после рождения ребенка. Хайд-Парк был расположен так далеко от фешенебельного центра Чикаго, что Лестер считал себя застрахованным от встреч с городскими знакомыми. Он объяснил Дженни, как ей следует себя вести, чтобы первая же гостья не застала ее врасплох.
Не прошло и двух недель, как первая гостья действительно явилась, — то была миссис Джейкоб Стендл, особа, пользовавшаяся почетом среди соседей и жившая через пять домов от Дженни, тоже в прекрасном особняке с газонами. Она приехала в собственной коляске, возвращаясь из поездки по магазинам.
— Дома ли миссис Кейн? — спросила она у новой горничной Жаннет.
— Дома, мэм, — ответила та. — Позвольте вашу визитную карточку.
И она отнесла карточку Дженни, которая с интересом прочла незнакомое имя.
Когда Дженни вышла в гостиную, миссис Стендл, высокая брюнетка с любопытными глазами, сердечно поздоровалась с ней.
— Я взяла на себя смелость нарушить ваше уединение, — сказала она чарующе любезным тоном. — Я ваша соседка, живу наискосок от вас. Белая каменная ограда — может быть, вы обратили внимание?
— Да, конечно, — ответила Дженни. — Я хорошо знаю этот дом. Мы с мистером Кейном любовались им еще в первый раз, как приезжали сюда.
— Фамилию вашего мужа я, разумеется, слышала. А мой муж связан с электрической фирмой «Уилкс и компания».
Дженни кивнула. По тону миссис Стендл было ясно, что это — весьма крупное и доходное предприятие.
— Мы живем здесь уже несколько лет, и я прекрасно понимаю, как неуютно себя чувствуешь в новой части города. Надеюсь, вы вскоре соберетесь ко мне. Я была бы очень, очень рада. Мы принимаем по четвергам.
— С удовольствием, — ответила Дженни, внутренне содрогаясь в предвидении этой мучительной церемонии. — С вашей стороны было очень любезно зайти к нам. Мистер Кейн очень занят, но как только он немного освободится, мы оба будем рады видеть у себя и вашего мужа.
— И вы приходите вдвоем как-нибудь вечером, сказала миссис Стендл. — Мы живем очень тихо. Мой муж не любит театров и выездов. Но с соседями мы поддерживаем самые дружеские отношения.
Дженни приветливо улыбнулась. Гостья собралась уходить, и Дженни проводила ее до дверей.
— Как я рада, что вы оказались такой прелестной, — откровенно сказала миссис Стендл, пожимая ей руку.
— Благодарю вас, — отозвалась Дженни, краснея. — Право же, я не заслужила такой похвалы.
— Ну, так я буду вас ждать. До свидания.
И она с улыбкой помахала на прощание рукой.
«Кажется, сошло не плохо, — подумала Дженни, глядя вслед удаляющейся коляске. — Она приятная женщина. Надо будет рассказать Лестеру».
Побывали у них и некие мистер и миссис Кармайкл Бэрк, и миссис Филд, и миссис Боллингер; они либо оставляли свои карточки, либо заходили посидеть и поболтать, Дженни, видя, что ее считают достойной уважения, всячески старалась не ударить лицом в грязь. И это ей отлично удавалось. Она была гостеприимна и приветлива; в улыбке ее сквозила доброта, в манерах — полная естественность; она производила прекрасное впечатление. Гостям своим она рассказывала, что последнее время жила на Северной стороне, что ее муж мистер Кейн давно мечтал поселиться в Хайд-Парке, что с ней живут ее отец и дочь от первого брака. Она выражала надежду и впредь поддерживать знакомство со своими милыми соседями.
По вечерам она докладывала о своих гостях Лестеру, — сам он не желал знакомиться с этими людьми. Дженни постепенно входила во вкус. Ей нравилось завязывать знакомства, она надеялась, что в новой обстановке Лестер привыкнет видеть в ней хорошую жену и идеальную спутницу жизни. И тогда, может быть, когда-нибудь он женится на ней.
Однако первые впечатления не всегда оказываются прочными, в чем Дженни скоро убедилась. Соседи приняли ее в свое общество, пожалуй, слишком поспешно, а потом поползли слухи. Некая миссис Соммервил, сидя в гостях у миссис Крейг, ближайшей соседки Дженни, намекнула в разговоре, что ей кое-что известно про Лестера.
— Да, да. Вы знаете, милочка, репутация у него не совсем… — Она вздернула брови и погрозила пальцем.
— Да что вы говорите! — встрепенулась миссис Крейг. — А на вид он такой положительный, серьезный.
— Отчасти это так и есть, — проговорила миссис Соммервил. — Он из прекрасной семьи. Но муж рассказывал мне, что у него была связь с какой-то молодой женщиной. Уж не знаю, она это или нет. С той они жили как муж и жена где-то на Северной стороне, и он представлял ее всем как мисс Горвуд или что-то в этом роде.
— Подумайте только! — и миссис Крейг от удивления прищелкнула языком. — А знаете, ведь, наверное это та самая женщина. Фамилия ее отца — Герхардт.
— Герхардт! — воскликнула миссис Соммервил. — Вот, вот, совершенно верно. И раньше у нее, кажется, тоже была какая-то скандальная история, во всяком случае, был ребенок. Может быть, Кейн потом женился на ней — не знаю. Но семья его, насколько мне известно, и слышать не хочет о ее существовании.
— Это страшно интересно! — воскликнула миссис Крейг. — И подумать только, что все-таки женился на ней! А может быть, нет? В наше время так трудно знать, с кем имеешь дело.
— Вы совершенно правы. Иногда просто невозможно разобраться. А она как будто очень милая женщина.
— Прелестная! — подтвердила миссис Крейг. — Такая наивная. Она меня просто очаровала.
— А может быть, это все-таки не та женщина, — продолжала гостья. — Я могла ошибиться.
— Ну, едва ли! Герхардт! И она сама мне говорила, что они жили на Северной стороне.
— Тогда, значит, она и есть. Как странно, что вы о ней упомянули.
— Очень, очень странно, — сказала миссис Крейг, уже обдумывая про себя, как ей держаться с Дженни в дальнейшем.
Слухи доходили и из других источников. Кто-то видел Дженни с Лестером в коляске на Северной стороне; кому-то ее представляли под именем миссис Герхардт; кто-то был осведомлен о разладе в семействе Кейн. Разумеется, теперешнее положение Дженни, прекрасный дом, богатство Лестера, красота Весты — все благоприятно влияло на мнение света. Дженни держала себя с таким тактом, как явно была прекрасной женой и матерью и вообще производила такое милое впечатление, что сердиться на нее не представлялось возможным; но у нее было прошлое, и об этом не забывали.
Впервые Дженни почувствовала, что надвигается гроза, когда Веста, вернувшись из школы, неожиданно спросила ее:
— Мама, а кто был мой папа?
— Фамилия его была Стовер, — ответила мать, сразу почуяв, что дело неладно, что кто-то сболтнул лишнее. — А с чего это тебе вздумалось спросить?
— Где я родилась? — продолжала Веста не отвечая на ее вопрос и, видимо, задавшись целью как можно больше узнать о самой себе.
— В Колумбуса, крошка, в штате Огайо. А что?
— Анита Боллингер сказала, что у меня не было никакого папы и что ты даже не была замужем, когда я у тебя родилась. Она говорит, что я не настоящая девочка, просто неизвестно кто. Я так рассердилась, что отколотила ее.
Дженни молча, с застывшим лицом смотрела в пространство Миссис Боллингер была у нее в гостях и чуть ли не усерднее всех предлагала ей свою дружбу, а теперь ее дочка так разговаривает с Вестой. Где это она наслушалась?
— Ты не обращай на нее внимания, — сказала наконец Дженни. — Она ничего не знает. Твой папа был мистер Стовер, и ты родилась в Колумбусе. А драться нехорошо. Когда девочки дерутся, они могут наговорить всяких обидных вещей иногда просто так, сгоряча. Ты ее не трогай и не подходи к ней, тогда и она тебе ничего не скажет.
Объяснение вышло не очень удачное, но на время оно удовлетворило Весту, которая сказала только:
— Если она попробует меня ударить, я ей тоже дам.
— Да ты совсем не подходи к ней, понимаешь? Тогда она тебя не ударит. Думай о своих уроках, а к ней не приставай, не ссорься с ней, и она с тобой не будет ссориться.
Веста убежала, а Дженни глубоко задумалась. Соседи сплетничают. Ее прошлое ни для кого не секрет. Откуда они узнали?
Рана, нанесенная сердцу Дженни разговором с дочерью, еще не зажила, как ее стали бередить новые щелчки и уколы. Однажды Дженни зашла навестить свою ближайшую соседку миссис Филд и застала ее за чашкой чая с другой гостьей, миссис Бейкер. Миссис Бейкер была наслышана о жизни Дженни на Северной стороне и об отношении к ней семейства Кейн. Эта сухощавая, энергичная, неглупая женщина, несколько напоминавшая миссис Брейсбридж, была весьма осмотрительна в выборе светских знакомых. Она всегда считала, что миссис Филд держится столь же строгих правил, и, встретив у нее Дженни, возмутилась, хотя и сохранила внешнее спокойствие.
— Познакомьтесь, это миссис Кейн, — сказала миссис Филд с любезной улыбкой.
Миссис Бейкер смерила Дженни взглядом, не предвещавшим ничего хорошего.
— Миссис Лестер Кейн? — переспросила она.
— Да, — ответила миссис Филд.
— Вот как, — продолжала миссис Бейкер ледяным тоном. — Я много слышала о миссис… миссис Лестер Кейн.
И, словно забыв о существовании Дженни, она повернулась к хозяйке и завела с ней интимный разговор, в котором Дженни не могла принять участия. Дженни беспомощно молчала, не зная, как вести себя в таком щекотливом положении. Миссис Бейкер вскоре поднялась, хотя собиралась пробыть в гостях гораздо дольше.
— Никак, никак не могу остаться, — говорила она, вставая. — Я обещала миссис Нийл, что непременно заеду к ней сегодня. Да я вам, вероятно, и так уж надоела.
Она пошла к дверям и лишь на пороге обернулась в сторону Дженни и холодно кивнула ей головой.
— С кем только не приходится встречаться! — заметила она на прощание хозяйке.
Миссис Филд не сочла возможным заступиться за Дженни, ибо сама была не бог знает кто и, как свойственно недавно разбогатевшим женщинам, всячески старалась пролезть в хорошее общество. А миссис Бейкер занимала в этом обществе куда более почетное положение, чем Дженни, так что ссориться с ней не хотелось. Вернувшись к столу, где сидела Дженни, миссис Филд улыбнулась несколько виноватой улыбкой, но видно было, что ей очень не по себе. Дженни, естественно, тоже была расстроена и вскоре под каким-то предлогом простилась и ушла. Она чувствовала себя глубоко оскорбленной и понимала, что миссис Филд уже раскаивается в своем дружеском отношении к ней. С одним знакомством покончено, в этом Дженни не сомневалась. Ею снова овладело гнетущее сознание, что жизнь не удалась. Теперь уже ничего нельзя исправить, а на будущее нет надежды. Лестер не захочет на ней жениться и спасти ее репутацию.
Время шло, не принося с собой никаких перемен. Глядя на красивый особняк, аккуратный газон и раскидистые деревья, на колонны веранды, увитые легкой зеленой сеткой дикого винограда; видя, как Герхардт возится в саду, как Веста возвращается из школы, а Лестер по утрам уезжает в своей щегольской двуколке, всякий подумал бы, что здесь царит довольство и покой, что заботам и горю нет места в этом чудесном жилище.
И действительно, жизнь в доме текла спокойно, без потрясений. Правда, соседи почти перестали навещать Лестера и Дженни, и светские развлечения кончились; но это не было для них лишением, потому что и в своих четырех стенах они находили достаточно радостей и пищи для ума. Веста училась играть на рояле и делала большие успехи, — у нее был отличный слух. Дженни в голубых, лиловых, темно-зеленых домашних платьях, которые ей были так к лицу, хлопотала по хозяйству, шила, стирала пыль, провожала Весту в школу, присматривала за прислугой. Герхардт трудился с утра до ночи, — ему непременно нужно было приложить руку ко всякому домашнему делу. Одной из обязанностей, которые он сам на себя возложил, было ходить по дому следом за Лестером и слугами, выключая газ или электрические лампы, если кто-нибудь забывал их погасить, что в его глазах было преступной расточительностью.
Огорчала бережливого старика и манера Лестера носить даже самые дорогие костюмы всего несколько месяцев, а потом выбрасывать. Он чуть не плакал над превосходными башмаками, которые Лестер не желал носить только потому, что слегка стоптался каблук или кожа кое-где морщит. Герхардт считал, что их нужно отдать в починку, но на все его ворчливые увещевания Лестер отвечал, что эта обувь стала ему неудобна.
— Такая расточительность! — жаловался Герхардт дочери. — Столько добра пропадает! Вот увидишь, плохо это кончится, никаких денег не хватит.
— Он иначе не умеет, папа, — оправдывалась Дженни. — Так уж его воспитали.
— Ну и воспитание! Эти американцы ничего не смыслят в экономии. Им бы в Германии пожить, тогда узнали бы цену доллару.
Лестер, слыша об этих разговорах от Дженни, только улыбался. Старый Герхардт забавлял его.
Не мог старик примириться и с привычкой Лестера переводить спички. Бывало, Лестер, чиркнув спичкой держал ее некоторое время на весу и разговаривал, вместо того чтобы зажечь сигару, а потом бросал. Или начинал чиркать спичку за спичкой задолго до того, как закурить. На веранде был уголок, где он любил покурить летними вечерами, беседуя с Дженни; поминутно зажигая спички, он швырял их одну за другой в сад. Однажды, подстригая газон, Герхардт, к своему ужасу, нашел целую кучу полусгнивших спичек. Он совсем приуныл и, собрав в газету вещественные доказательства преступления, понес их в комнату, где Дженни сидела за шитьем.
— Вот что я нашел! — заявил он. — Ты только посмотри! Этот человек понимает в экономии не больше чем… чем… — Он так и не нашел нужного слова. — Сидит курит, а со спичками вот как обращается. Ведь они пять центов коробка стоят — пять центов! Как он, интересно, думает прожить при таких тратах? Нет, ты только посмотри, что это такое.
Дженни посмотрела и покачала головой.
— Да, Лестер совсем не бережлив, — сказала она.
Герхардт унес спички в подвал. Хотя бы сжечь их в плите — и то будет толк. Он мог бы раскуривать ими свою трубку, но гораздо удобнее для этого были старые газеты, а их набирались целые кипы, что опять-таки свидетельствовало о расточительной натуре хозяина дома. Герхардт сокрушенно качал головой. Ну как тут работать! Все против него. Но он не складывал оружия и не оставлял попыток пресечь это греховное мотовство. Сам он соблюдал строжайшую экономию. Года два носил по воскресеньям перешитый черный костюм Лестера, на который тот в свое время ухлопал уйму денег. Носил его старую обувь, храбро делая вид, что она ему по ноге, и его галстуки, но только черные, других Герхардт не любил. Он и рубашки Лестера стал бы носить, если бы умел их перешить себе по росту, а нижнее белье отлично приспосабливал для собственного употребления, пользуясь дружескими услугами кухарки. О носках и говорить нечего. Таким образом, на одежду Герхардта не тратилось ни цента.
Другие вещи, уже отслужившие Лестеру — башмаки, рубашки, костюмы, галстуки, воротнички, — он хранил неделями, месяцами, а затем с мрачной решимостью приводил в дом портного или старьевщика, которому и продавал все это добро, немилосердно набивая цену. Он держался того мнения, что все скупщики старого платья — пауки-кровососы и ни одному их слову нельзя верить. Все они врут. Жалуются на бедность, а сами купаются в деньгах. Герхардт своими глазами в этом убедился — он прослеживал старьевщиков и видел, как они поступают с купленными у него вещами.
— Мерзавцы! — негодовал он. — Предлагают десять центов за пару башмаков, а сами выставляют эту пару в своей лавчонке за два доллара. Разбойники, да и только! Могли бы дать мне хоть доллар.
Дженни улыбалась. Только она и выслушивала его жалобы, — на сочувствие Лестера Герхардт не рассчитывал. Свои собственные гроши он почти целиком жертвовал на церковь, и пастор считал его образцом смирения, нравственности, благочестия — словом, воплощением всех добродетелей.
Итак, несмотря на зловещий ропот людской молвы, эти годы оказались самыми счастливыми в жизни Дженни. Лестер, хоть его порой и одолевали сомнения относительно правильности избранного им пути, был неизменна ласков и внимателен к ней и казался вполне довольным своей семейной жизнью.
— Все в порядке? — спрашивала она, когда он к вечеру возвращался домой.
— Разумеется! — отвечал он и, мимоходом потрепав ее по щеке, шел с ней в комнаты, в то время как проворная Жаннет вешала на место его пальто и шляпу.
Зимой они усаживались в библиотеке перед огромным камином. Весною, летом и осенью Лестер предпочитал веранду, с которой открывался красивый вид на лужайки сада и тихую улицу. Здесь он закуривал свою предобеденную сигару, а Дженни, сидя на ручке его кресла, гладила его по голове.
— Волосы у тебя совсем не поредели, — говорила она. — Ты доволен?
Или журила его:
— Что это ты морщишь лоб? Разве можно? И почему ты сегодня утром не переменил галстук? Я ведь тебе приготовила новый.
— Забыл, — отвечал он и разглаживал морщины на лбу или со смехом предсказывал, что скоро у него будет огромная лысина.
В гостиной, в присутствии Весты и Герхардта, Дженни бывала с ним так же ласкова, но более сдержанна. Она любила игры и головоломки — шарики под стеклом, ребусы, настольный бильярд. Лестер тоже участвовал в этих нехитрых развлечениях. Иногда он по часу просиживал над какой-нибудь головоломкой. Дженни справлялась с ними необыкновенно ловко и бывала горда и счастлива, когда он обращался к ней за помощью. Если же он непременно хотел разрешить загадку сам, она молча наблюдала за ним, обняв его за шею и прижавшись подбородком к его плечу. Ему это нравилось, он наслаждался любовью, которую она так щедро на него изливала, и не уставал любоваться ее молодостью и красотой. С Дженни он сам чувствовал себя молодым, а больше всего в жизни страшило Лестера наступление бессмысленной старости. Он часто говорил:
— Я хочу остаться молодым или умереть молодым.
И Дженни понимала его. Любя Лестера, она теперь и сама была довольна, что настолько моложе его.
Особенно радовала Дженни растущая привязанность Лестера к Весте. Вечерами они часто собирались в библиотеке. Веста, сидя за огромным столом, готовила уроки. Дженни шила. Герхардт читал свои нескончаемые немецкие газеты. Старика огорчало, что Весте не разрешают учиться в приходской церковной школе при лютеранской церкви, а Лестер об этом и слышать не хотел.
— Чтобы ее учили какие-то немцы? Вот еще! — заявил он, когда Дженни рассказала ему о заветном желании старика. — Скажи ему, пусть оставит ее в покое.
Иногда им бывало вчетвером особенно хорошо. Лестер любил подразнить семилетнюю школьницу. Зажав ее между коленями, он принимался выворачивать на изнанку простые истины, наблюдая, как сознание девочки воспринимает его парадоксы.
— Что такое вода? — спрашивал он и, услышав ответ «Это то, что мы пьем», — удивленно раскрывал глаза и продолжал допытываться: — Хорошо, но что это такое, не знаешь? Чему вас после этого учат в школе?
— Но мы же пьем воду? — не сдавалась Веста.
— Пьем-то пьем, а что такое вода, ты не знаешь. Спроси учительницу, может быть, она тебе скажет.
И он предоставлял малышке ломать себе голову над трудной задачей.
Пищу, посуду, платье девочки — Лестер все готов был разложить на химические элементы, и Веста, смутно подозревая что-то иное за внешней оболочкой знакомых предметов, стала даже побаиваться его. Утром, перед уходом в школу, она приходила показаться Лестеру, потому что он очень придирчиво относился к ее внешности. Он хотел всегда видеть ее нарядной, с огромным голубым бантом в волосах, велел обувать ее то в туфельки, то в высокие башмачки, смотря по сезону, и, одевая ее, выбирать оттенки, подходящие к ее цвету лица и характеру.
— У девочки веселый, легкий нрав, — сказал он однажды. — Не надевай не нее ничего темного.
Дженни поняла, что и в этом вопросе следует советоваться с Лестером, и часто говорила дочери:
— Беги, покажись дяде.
Веста являлась и начинала кружиться перед ним, приговаривая:
— Смотри!
— Так, так. Все в порядке. Можешь идти.
И она убегала.
Он стал прямо-таки гордиться Вестой. Выезжая по воскресеньям на прогулку, он всегда сажал ее между собой и Дженни; он настоял, чтобы девочку отдали учиться танцам, и Герхардт был вне себя от горя и ярости.
— Грех-то какой! — жаловался он Дженни. — Только дьявола тешить! Танцевать ей нужно! К чему? Чтобы из нее вышла какая-нибудь вертушка, чтобы мы же потом ее стыдились?
— Ну что ты, папа, — возражала Дженни. — Ничего в этом страшного нет. Школа очень хорошая. Лестер говорит, что Весте полезно поучиться.
— Ох, уж этот Лестер! Много он понимает в том, что полезно ребенку. Сам в карты играет, виски пьет!
— Тише, тише, папа, не надо так говорить, — унимала его Дженни. — Лестер хороший человек, ты сам это знаешь.
— Кое в чем хороший, да не во всем. Ох, не во всем!
И он уходил, недовольно кряхтя. В присутствии Лестера он помалкивал, а Веста делала с ним что хотела.
— Дедушка, — говорила она, дергая его за рукав или гладя по жесткой щеке, и Герхардт таял. Он был бессилен перед ее лаской, что-то подступало у него к горлу и душило его.
— Знаю я тебя, озорница, — говорил он.
А Веста, бывало, щипнет его за ухо.
— Перестань, — ворчал он. — Хватит баловаться.
Но всякий мог заметить, что Веста переставала лишь тогда, когда ей самой надоедало шалить. Герхардт обожал девочку и выполнял малейшее ее желание. Он был ее покорным рабом.
Глава XXXIX
Все это время недовольство семьи Лестера, вызванное его беспорядочным образом жизни, продолжало расти. Родным было ясно, что рано или поздно неизбежен скандал. Уже носились зловещие слухи. Казалось, всем все известно, хотя открыто никто ничего не говорил. Кейн-старший просто диву давался, — как мог его сын бросить такой вызов обществу! Будь еще женщина исключительно интересна, будь это какая-нибудь известная актриса, художница, поэтесса, — увлечение Лестера можно было бы объяснить, если и не оправдать; но по описанию Луизы это весьма заурядная особа, не блещущая ни красотой, ни талантами, — непонятно, совсем непонятно!
Лестер — его сын, его любимец; какая жалость, что он не устроил свою жизнь по-человечески. В Цинциннати он нравился многим женщинам. Взять хотя бы Летти Пэйс. Вот на ком ему нужно было жениться. Красива, умна, и сердце у нее доброе. Старик Кейн горевал и сетовал, а потом ожесточился. Стыдно Лестеру так обижать отца! Его поведение противоестественно, непростительно, наконец, неприлично. Арчибалд Кейн долго терзался этой мыслью и наконец почувствовал, что так продолжаться не может, хотя затруднялся бы сказать, в чем должна выразиться перемена. Лестер сам себе голова и не потерпит замечаний. Выходит, ничего сделать нельзя.
Ряд событий в семье приблизили развязку. Луиза вскоре после своей злополучной поездки в Чикаго вышла замуж, и дом стариков опустел, разве что наезжали погостить внуки. Лестер не был у Луизы на свадьбе, хотя и получил приглашение. Потом умерла миссис Кейн, и в связи с ее смертью старому Арчибалду пришлось изменить свое завещание. Это потребовало присутствия Лестера. Лестер приехал, угнетенный сознанием, что в последнее время так мало виделся с матерью и причинил ей столько горя, но о своих делах не обмолвился ни словом. Отец хотел было поговорить с сыном, но потом передумал, — очень уж мрачно тот был настроен. Лестер уехал к себе в Чикаго, и на несколько месяцев все опять затихло.
После свадьбы Луизы и смерти жены старик Кейн переселился к Роберту, потому что наибольшей отрадой для него на старости лет были внучата. Роберт теперь держал в руках все дела фирмы, хотя окончательное разделение капитала могло состояться лишь после смерти старика. Рассчитывая в конце концов стать главою всего предприятия, Роберт, не жалея сил, угождал отцу, сестрам и их мужьям. Неправильно было бы сказать, что он к ним подлаживается, просто это был холодный расчет дельца, куда более хитрого, чем мог предположить Лестер. Личное состояние Роберта уже вдвое превышало состояния остальных детей, но он держал это в тайне и делал вид, будто располагает весьма скромными средствами. Он знал, что зависть родственников может ему повредить, и вел спартанский образ жизни, до поры до времени делая главную ставку на незаметные, но надежные наличные деньги. Пока Лестер плыл по течению, Роберт трудился, трудился не покладая рук.
То обстоятельство, что Роберт лелеял план отстранить брата от руководства фирмой, не имело особого значения, поскольку старик Кейн после долгих размышлений над чикагской жизнью Лестера сам пришел к заключению, что передать ему сколько-нибудь значительную долю капитала было бы неразумно. Видимо, он переоценил Лестера. Лестер, может быть, и умнее и сердечнее брата — по части эстетических запросов и успеха в обществе тот и в сравнение с ним не идет, — но у Роберта отличная деловая хватка, он умеет без шума добиваться своего. Если Лестер сейчас не подтянется, то чего же и ждать? Не лучше ли оставить капитал тому, кто сумеет им распорядиться? И Арчибалд Кейн уже готов был дать своему поверенному распоряжение изменить завещание таким образом, чтобы Лестер, если он не исправится, не получил в наследство ничего, кроме ничтожного годового дохода. Однако он решил дать Лестеру еще один шанс — потребовать, чтобы тот отказался от греховного образа жизни и занял подобающее ему место в обществе. Может быть, еще не поздно. Ведь у него такие прекрасные виды на будущее. Неужели он сам себе враг? Старый Арчибалд написал Лестеру, что хотел бы поговорить с ним, когда тому будет удобно, и не прошло и полутора суток, как Лестер уже был в Цинциннати.
— Я хочу еще раз поговорить с тобой по одному вопросу, Лестер, — начал старик, — хоть это мне и нелегко. Ты знаешь, что я имею в виду?
— Знаю, — спокойно ответил Лестер.
— Когда я был много моложе, я думал, что ни в коем случае не буду вмешиваться в личные дела моих сыновей, но с годами мое мнение на этот счет изменилось. На примере моих деловых знакомых я увидел, насколько благоразумный брак помогает человеку, и тогда мне очень захотелось, чтобы мои сыновья женились как можно удачнее. Я тревожился за тебя, Лестер, тревожусь и по сей день. Твоя нынешняя связь доставила мне много тяжелых минут. И матери твоей она до самой смерти не давала покоя. Ничто другое так не огорчало ее. Не думаешь ли ты, что всему есть предел? Слухи достигли даже нашего города. Насчет Чикаго не знаю, но полагаю, что там это ни для кого не секрет. А это, безусловно, вредит интересам нашего чикагского отделения. И вредит тебе. Это тянется уже так долго, что сейчас вся твоя будущность поставлена под угрозу, а ты по-прежнему упорствуешь. Почему?
— Вероятно, потому, что люблю ее, — ответил Лестер.
— Не верю, чтобы ты сказал это серьезно, — возразил отец. — Если бы ты ее любил, ты бы с самого начала на ней женился. Не стал бы ты жить с женщиной годами, позоря ее и себя и только уверяя на словах, что любишь. Может быть, это страсть, но уж никак не любовь.
— Откуда ты знаешь, что я не ней не женился? — невозмутимо спросил Лестер. Ему интересно было, как отец воспримет такую возможность.
— Неправда! — Старик даже приподнялся с кресла.
— Да, неправда, — сказал Лестер, — но может стать и правдой. Я, возможно, женюсь на ней.
— Не верю! — вскричал отец. — Не поверю я, чтобы умный человек мог сделать такую глупость. Да где у тебя голова, Лестер? После стольких лет греховного сожительства ты еще говоришь о женитьбе! Да если это входило в твои планы, почему, скажи на милость, ты не женился на ней с самого начала? Опозорил родителей, матери разбил сердце, делу нанес ущерб, стал притчей во языцех, а теперь хочешь жениться? Не верю.
Старый Арчибалд встал и выпрямился.
— Не волнуйся, отец, — поспешил сказать Лестер. — Так мы ни до чего не договоримся. Я повторяю, что, может быть, женюсь на ней. Она неплохая женщина, и я очень тебя прошу: не говори о ней дурно. Ты ее никогда не видел и ничего о ней не знаешь.
— Знаю вполне достаточно, — решительно возразил старик. — Я знаю, что ни одна порядочная женщина не поступила бы подобно ей. Да она, мой милый, за твоими деньгами охотится. Больше ей ничего не нужно — это всякий дурак поймет.
— К чему такие слова, отец? — глухо проговорил Лестер. — Ты ее не знаешь, даже в лицо не видел. Луиза приехала и наболтала что-то сгоряча, а вы и поверили. Она вовсе не такая, как ты думаешь, и напрасно ты выражаешься о ней столь резко. Ты незаслуженно обижаешь женщину, не хочешь почему-то рассуждать по-хорошему.
— По-хорошему! — перебил его Арчибалд. — А сам ты поступаешь по-хорошему? Хорошо это по отношению к твоей семье, к покойной матери, — подобрать женщину на улице и жить с ней? Хорошо это…
— Довольно, отец! — воскликнул Лестер, подняв руку. — Предупреждаю тебя, я отказываюсь слушать такие вещи. Ты говоришь о женщине, с которой я живу, на которой, возможно, женюсь. Я тебя люблю, но не позволю тебе говорить неправду. Я не подобрал ее на улице. Ты прекрасно знаешь, что с такой женщиной я не стал бы иметь дело. Либо мы обсудим все спокойно, либо я здесь не останусь. Прости меня. Мне очень жаль. Но продолжать разговор в подобном тоне я отказываюсь.
Старый Арчибалд утих. Несмотря ни на что, он уважал своего непокорного сына. Он откинулся на спинку кресла и опустил глаза. Как же ему теперь быть?
— Ты живешь все там же? — спросил он наконец.
— Нет, мы переехали в Хайд-Парк. Я снял там дом.
— Я слышал, что есть ребенок. Это твой ребенок?
— Нет.
— А свои дети у тебя есть?
— Нет.
— И то слава богу.
Лестер молча потер подбородок.
— И ты утверждаешь, что женишься на ней?
— Этого я не говорил. Я сказал, что, возможно, женюсь.
— Возможно! — воскликнул старик, снова распаляясь гневом. — Какая трагедия! Это с твоим-то будущим, с твоими возможностями! Сам посуди, могу ли я доверить долю моего состояния человеку, которому наплевать на мнение света? Выходит, что и наша фирма, и семья, и твоя репутация — все это для тебя пустой звук? Где твоя гордость, Лестер? Нет, это какая-то невероятная, дикая фантазия!
— Это очень трудно объяснить, отец, я просто не берусь объяснить. Я знаю одно — что я сам затеял эту историю и обязан довести ее до конца. Все может кончиться вполне благополучно. Может быть, я женюсь, может быть, нет. Сейчас я не могу сказать ничего определенного. Придется тебе подождать. А я сделаю, что могу.
Старый Арчибалд укоризненно покачал головой.
— Ты, я вижу, совсем запутался, Лестер. Дальше некуда. И, сколько я понимаю, ты намерен стоять на своем. Что бы я ни говорил, тебя, видно, ничем не проймешь.
— Мне очень жаль, но сейчас это верно, отец.
— Ну, так имей в виду, что если ты не проявишь должного уважения к семье и к самому себе как представителю нашей фирмы, я буду вынужден изменить свое завещание. Потворствуя твоим грязным интрижкам, я в конце концов сам становлюсь соучастником. Этого больше не будет. Расставайся с ней или женись на ней. Но то или другое ты обязан сделать. В первом случае все будет хорошо. Ты можешь прекрасно обеспечить ее — пожалуйста, я не возражаю. Я с радостью дам на это денег, сколько бы ты ни попросил. И ты получишь свою долю наследства наравне с другими детьми, как это всегда и предполагалось. Но если ты женишься — тогда дело другое. Выбирай. И не пеняй на меня. Я тебя люблю. Я тебе отец. Я поступаю так, как мне подсказывает чувство долга. Обдумай все это и дай мне знать о твоем решении.
Лестер вздохнул. Он понимал, что спорить бесполезно. Отец, видимо, не шутит, но как бросить Дженни? Он никогда не простил бы себе такой подлости. Да полно, неужели отец действительно лишит его наследства? Нет, конечно. Старик его любит, несмотря ни на что, это сразу видно. Лестер был смущен и расстроен, он не терпел принуждения. Подумать только, его, Лестера Кейна, толкают на такую низость — бросить Дженни! Он опустил голову и мрачно молчал.
Старый Арчибалд понял, что стрела его попала в цель.
— Что ж, — сказал наконец Лестер, — сейчас нам больше не о чем говорить, все как будто ясно. Я не знаю, как поступлю. Нужно подумать. Сразу я не могу ничего решить.
Они посмотрели друг на друга, Лестеру было жаль, что мнение света против него и что отец так тяжело это переживает. Старику было жаль сына, но он твердо решил вести свою линию до конца. Он не был уверен, что ему удалось образумить Лестера, но не терял надежды. Может быть, сын еще одумается.
— До свидания, отец, — сказал Лестер, протягивая руку. — Я, кажется, поспею на двухчасовой поезд. Больше я тебе ни за чем не нужен?
— Нет.
После ухода Лестера, старик долго сидел задумавшись. Так загубить свою карьеру! Отказаться от таких возможностей! Проявить такое слепое упорство в грехах и заблуждениях! Он покачал головой. Нет, Роберт умнее. Тот действительно способен возглавить крупное предприятие. Он осторожен, благоразумен. Ах, если бы Лестер обладал этими достоинствами! Старик сидел не шевелясь и все думал, думал, втайне чувствуя, что блудный сын по-прежнему занимает первое место в его сердце.
Глава XL
Лестер возвратился в Чикаго. Он отдавал себе отчет в том, что серьезно оскорбил отца. Никогда еще старый Арчибалд не говорил с ним так гневно. Но и сейчас Лестер не был убежден, что дело непоправимо; мысль, что он может сохранить любовь и доверие отца, только если решится на что-нибудь определенное, просто не укладывалась у него в голове. Что касается «мнения света», — да пусть люди болтают что угодно и сколько угодно. Он сумеет обойтись и без них. А впрочем, так ли это? Всякая слабость, даже призрак слабости, отпугивает людей. Они бессознательно сторонятся неудачников, избегают их, словно опасаясь заразы. Лестеру предстояло на себе убедиться в силе этого предрассудка.
Однажды он встретил Берри Доджа, миллионера и главу фирмы «Додж, Холбрук и Кингсбери», которая занимала в текстильной промышленности такое же место, как «Компания Кейн» — в производстве экипажей. Лестер считал Доджа одним из лучших своих друзей, был с ним так же близок, как с Генри Брейсбриджем из Кливленда или Джорджем Ноулзом из Цинциннати. Он бывал в его прекрасном доме на набережной, и они постоянно встречались то по делам, то на светских приемах. Но с переездом Лестера в Хайд-Парк дружба их сошла на нет. И вот теперь они встретились на Мичиган-авеню, возле отделения фирмы Кейн.
— А, Лестер, давно не видались, — сказал Додж, вежливо протягивая руку. Тон его показался Лестеру холоднее обычного. — Ты, я слышал, за это время женился.
— Ничего подобного, — возразил Лестер тоном человека, который хочет, чтобы слова его были поняты в общепринятом смысле.
— Зачем же делать из этого тайну? — продолжал Додж и хотел улыбнуться, но только скривил губы. Он очень старался сохранить дружеский тон и с честью выйти из щекотливого положения. — Обычно мы таких вещей не скрываем. С близкими-то друзьями можно было поделиться!
— Ну, а я, — сказал Лестер, чувствуя, как в него впивается отравленный клинок, — решил отступить от этого правила. Я не считаю, что такие события следует рекламировать.
— Дело вкуса, дело вкуса, — рассеянно проговорил Додж. — Ты, конечно, живешь в городе?
— В Хайд-Парке.
— Хороший пригород. Ну, а вообще как дела?
И он ловко переменил тему разговора, а вскоре и распрощался, небрежно помахав Лестеру рукой.
Лестера как ножом резанула мысль, что если бы Додж действительно считал его женатым человеком, он неминуемо засыпал бы его вопросами. Как близкий друг, он захотел бы многое узнать о новой миссис Кейн. Завязался бы легкий разговор, обычный между людьми одного круга. Додж пригласил бы его в гости с женой, пообещал бы сам заехать к ним. А тут — ничего, ни слова! Лестер понял, что это неспроста.
Так же вели себя супруги Мур, Олдричи и ряд других знакомых. Все они как будто считали, что он женат и остепенился. Они спрашивали, где он живет, шутили над его скрытностью, но упорно не проявляли любопытства по поводу предполагаемой миссис Кейн. Лестер начинал убеждаться, что взятая им линия не сулит ничего хорошего.
Один из самых чувствительных ударов нанес ему непреднамеренно, а потому особенно жестоко, его старый знакомый Уильям Уитни. Однажды вечером Лестер приехал к себе в клуб обедать; сняв пальто, он направился к табачному киоску купить сигару и тут, в читальне, столкнулся с Уитни. Тот был типичный клубный завсегдатай — высокий, худощавый, гладко выбритый, безукоризненно одетый, немного циник, а в этот вечер к тому же порядком навеселе.
— Ого, Лестер! — окликнул он. — Что это за гнездышко ты свил себе в Хайд-Парке? Времени, видно, не теряешь? А как ты объяснишь все это невесте, когда надумаешь жениться?
— Ничего я не обязан объяснять, — раздраженно отвечал Лестер. — И почему тебя так интересуют мои дела? Ты, насколько я знаю, и сам не святой.
— Ха-ха-ха! Это хорошо, честное слово, хорошо! Ты часом не женился ли на той красотке, с которой разъезжал по Северной стороне, а? Ха-ха! Ну и дела! Женился! А может быть, люди все врут?
— Замолчи, Уитни, — оборвал его Лестер. — Говоришь какую-то чушь.
— Виноват, — сказал Уитни развязно, но уже начиная трезветь. — Прошу прощения. Ты не забудь, я ведь чуточку пьян. Восемь порций виски, чистого, — только что пропустил в буфете. Виноват. Мы с тобой поговорим, когда я буду в форме, верно, Лестер, а? Ха-ха-ха, я и правда немного пьян! Ну всего наилучшего! Ха-ха-ха!
Этот безобразный смех долго стоял в ушах у Лестера. Он прозвучал как оскорбление, хотя Уитни и был пьян. «Красотка, с которой ты разъезжал по Северной стороне. Ты часом не женился на ней?» Лестер с возмущением вспоминал наглую выходку Уитни. Черт, это уже слишком! Чтобы ему, Лестеру Кейну, говорили такие вещи… Он задумался. Да, дорогой ценой он расплачивается за свое решение поступить с Дженни, как подобает порядочному человеку.
Глава XLI
Но это было не самое худшее. Американская публика любит посудачить о сильных мира сего, а Кейны были богаты и у всех на виду. И вот распространился слух, что Лестер, один из прямых наследников главы фирмы, женился на служанке. Это он-то, сын миллионера! Возможно ли? Вот поистине лакомый кусочек для репортеров. И газеты не замедлили подхватить пикантный слух. Светский листок «Новости Южной стороны», не называя Лестера, писал о «сыне видного богатого фабриканта экипажей из Цинциннати» и вкратце излагал его роман, добавляя в заключение: «О миссис К. известно лишь то, что раньше она служила горничной в одном почтенном семействе в Кливленде, а до этого работала в Колумбусе, штат Огайо. Кто осмелится утверждать, что романтика умерла, когда в высшем обществе еще бывают столь красочные любовные истории!»
Лестер прочел эту заметку. Сам он не выписывал «Новости», но какая-то добрая душа позаботилась о нем, и он получил по почте экземпляр, в котором нужный столбец был отчеркнут красным карандашом. Лестер рассердился, сразу заподозрив, что его собираются шантажировать, но не знал, как поступить. Ему, конечно, хотелось положить конец этой газетной болтовне, но он подумал, что протест с его стороны может только ухудшить дело. И он ничего не предпринял. Заметка в «Новостях», как и следовало ожидать, привлекла внимание других газет. Это был богатый материал, и некий предприимчивый редактор воскресной газеты решил выжать из него все, что возможно. Разогнать эту романтическую историю на целую полосу под кричащей шапкой вроде «Пожертвовал миллионами ради любви к служанке», дать снимки — Лестер, Дженни, дом в Хайд-Парке, фабрика Кейнов в Цинциннати, склады на Мичиган-авеню, — и сенсация обеспечена. «Компания Кейн» не помещала рекламы в прессе. Газетка ничем не была ей обязана. Будь Лестер предупрежден, он мог бы пресечь эту затею, послав в газету объявление или обратившись к издателю. Но он ничего не знал и потому бездействовал. А редактор постарался на совесть. Корреспондентам в Цинциннати, Кливленде, Колумбусе было предложено сообщить по телеграфу, известна ли история Дженни в этих городах. В Кливленде обратились к Бейсбриджам, чтобы узнать, работала ли Дженни у них в доме. Из Колумбуса поступили сильно искаженные слухи о семье Герхардт. Выяснилось, что именно на Северной стороне Дженни проживала несколько лет до своего предполагаемого замужества. Так по кусочкам был восстановлен весь роман. У редактора и в мыслях не было бичевать или возмущаться, скорее он воображал, что оказывает любезность. Были опущены все неприятные детали — то, что Веста, по всей вероятности, внебрачный ребенок, что, видимо, Лестер и Дженни долго состояли в незаконном сожительстве, что для всем известного недовольства семьи Лестера по поводу его брака имеются веские основания. Редактор сочинил своего рода историю про Ромео и Джульетту, в которой Лестер фигурировал как пылкий, самоотверженный любовник, а Дженни — как бедная, но очаровательная девушка из народа, которую преданная любовь миллионера вознесла к богатству и знатности. Художник газеты иллюстрировал последовательные стадии романа. Портрет Лестера раздобыли за приличную мзду у фотографа в Цинциннати, а Дженни фоторепортер незаметно снял на прогулке. Словом, все было проделано по испытанным рецептам бульварной прессы.
И вот газета вышла в свет — сплошная лесть и сладкие слова, но между строк угадывалась вся печальная, мрачная подоплека. Дженни узнала об этом не сразу. Лестер, случайно наткнувшись на роковую страницу, поспешил ее выдрать. Он был безмерно удивлен и расстроен. Подумать только, что какая-то чертова газетка может так поступить с частным лицом, с человеком, который жил спокойно, никому не мешая. Чтобы не выдать горького чувства обиды, он ушел из дому. Путь его лежал не к оживленному центру города, а прочь от него, по Коттедж-Гроув-авеню, в открытую прерию. Покачиваясь на сиденье трамвая, он старался представить себе, что думают сейчас его бывшие друзья — Додж, Бэрнхем Мур, Генри Олдрич. Да, это настоящий удар. Что делать? Стиснуть зубы и молчать или равнодушно отмахнуться от этой новой заботы? Однако ему было ясно: больше он такого не потерпит. Домой он вернулся в более спокойном состоянии и стал с нетерпением ждать понедельника, чтобы повидаться со своим поверенным, мистером Уотсоном. Впрочем, когда они встретились, оба быстро пришли к решению, что подавать в суд было бы не разумно. Лучше промолчать.
— Но больше это не должно повториться, — закончил Лестер.
— Об этом я позабочусь, — успокоил его поверенный.
Лестер поднялся.
— Черт его знает, в какой стране мы живем! — воскликнул он. — Если человек богат, ему никуда не скрыться, точно он памятник на городской площади!
— Если человек богат, — сказал мистер Уотсон, — он напоминает кота с бубенчиком на шее. Каждая мышь в точности знает, где он и что делает.
— Да, сравнение подходящее, — проворчал Лестер.
Дженни еще несколько дней оставалась в неведении. Лестер умышленно не касался больного вопроса, а Герхардт не читал греховных воскресных газет. Но потом одна из соседок просветила Дженни, бестактно упомянув в разговоре, что прочла о ней интереснейшую историю. Дженни сперва не поняла.
— Обо мне? — воскликнула она удивленно.
— Да, да, о вас и о мистере Кейне, — ответила гостья. — Весь ваш роман.
Дженни вспыхнула.
— Я ничего не знаю, сказала она. — А вы уверены, что это про нас?
— Еще бы! — рассмеялась миссис Стендл. — Ошибиться я никак не могла. И газета у меня сохранилась. Я, если хотите, пришлю вам ее с дочкой. Вы прелестно вышли на снимке.
Дженни вся сжалась.
— Я буду вам очень благодарна, — пролепетала она.
Ее мучила мысль, где могли достать ее карточку и что написано в газете. А главное — что скажет Лестер? Видел ли он заметку? Почему он ничего ей не сказал?
Дочь соседки принесла газету, и у Дженни сердце замерло, когда она взглянула на роковую страницу. Вот оно — черным по белому. Слева портрет Лестера, справа портрет Дженни, а посередине заголовок крупными буквами и стрелки: «Вот этот миллионер увлекся вот этой горничной». В тексте объяснялось, что Лестер, сын известного фабриканта экипажей из Цинциннати, пожертвовал завидным общественным положением, чтобы жениться на любимой женщине. Дальше следовали рисунки, Лестер беседует с Дженни в особняке миссис Брейсбридж, Лестер стоит с ней рядом перед почтенным, строгого вида пастором, Лестер едет с нею в роскошной коляске, Дженни, стоя у окна богато обставленной залы (о богатстве свидетельствуют тяжелые складки гардин), смотрит на чуть видный в отдалении смиренный домик.
Дженни почувствовала, что готова сквозь землю провалиться от стыда. Она страдала не столько за себя, сколько за Лестера. Что он должен был пережить? А его родные? Теперь у них в руках есть новое оружие против нее и Лестера. Она старалась успокоиться, совладать со своими чувствами, но слезы снова и снова навертывались ей на глаза. То были слезы негодования. Зачем ее преследуют, травят? Неужели не могут оставить ее в покое? Она так старается поступать хорошо. Разве люди не могли бы помочь ей, вместо того чтобы толкать ее в пропасть?..
Глава XLII
В тот же вечер Дженни убедилась, что Лестеру давно все известно: он сам принес домой злосчастную газету, решив, по зрелом размышлении, что обязан это сделать. В свое время он сказал Дженни, что между ними не должно быть секретов, и теперь не считал себя вправе утаить от нее то, что так неожиданно и грубо нарушило их покой. Он скажет ей, чтобы она не тревожилась, что это не имеет значения, но для него-то это имело огромное значение. Мерзкая газетка нанесла ему непоправимый вред. Мало-мальски сообразительные люди — а в число их входят все его знакомые и множество незнакомых — поймут теперь, как он жил все эти годы. В газете рассказывалось, что он последовал за Дженни из Кливленда в Чикаго, что она держалась стыдливо и непреступно и он ухаживал за ней, прежде чем она уступила. Это должно было объяснить их совместную жизнь на Северной стороне. Идиотская эта попытка приукрасить истинную историю их отношений бесила Лестера, хоть он и понимал, что это все же лучше каких-либо наглых выпадов. Войдя в гостиную, он достал газету из кармана и развернул ее на столе. Дженни, знавшая, что сейчас последует, стояла подле него и внимательно следила за его движениями.
— Тут есть кое-что интересное для тебя, — сказал он сухо, указывая на иллюстрированную страницу.
— Я уже видела, Лестер, — ответила она устало. — Как раз сегодня миссис Стендл показала мне этот номер. Я только не знала, как ты — видел или нет.
— Ну и расписали меня, нечего сказать. Я и не подозревал, что могу быть таким пылким Ромео.
— Мне ужасно жаль, Лестер, — сказала Дженни, угадывая за невеселой шуткой его тяжелое настроение. Она давно знала, что Лестер не любит и не умеет говорить о своих подлинных чувствах и серьезных заботах. Сталкиваясь с неизбежным, неотвратимым, он предпочитал отделываться шутками. И сейчас его слова означали: «Раз делу все равно не помочь, не будем расстраиваться».
— Я вовсе не считаю это трагедией, — продолжал он. — А предпринять тут ничего нельзя. У них, вероятно, были самые лучшие намерения. Просто мы сейчас очень на виду.
— Я понимаю, — сказала Дженни, подходя к нему. — И все-таки мне очень жаль.
Тут их позвали обедать, и разговор прервался.
Однако Лестер не мог скрыть от себя, что дела его плохи. Отец достаточно ясно дал ему понять это во время последней беседы, а теперь, в довершение всего, ими занялась пресса! Нечего больше притворяться, будто он по-прежнему близок с людьми своего круга. Они знать его не хотят, во всяком случае, те из них, которые придерживаются более или менее строгих взглядов. Есть, конечно, и веселые холостяки, и женатые прожигатели жизни и искушенные женщины — замужние и одинокие, — которые, зная правду, продолжают хорошо к нему относится; но не эти люди составляют его «общество». По существу, он оказался на положении изгоя, и ничто не может спасти его, кроме решительного отказа от теперешнего образа жизни; другими словами, ему следует порвать с Дженни.
Но он не хотел с ней порывать. Одна мысль об этом была ему глубоко противна. Дженни неустанно расширяла свой кругозор. Она теперь многое понимала не хуже самого Лестера. Дженни не какая-нибудь честолюбивая карьеристка. Она незаурядная женщина и добрая душа. Бросить ее было бы подло, а кроме того, она очень хороша собой. Ему сорок шесть лет, ей — двадцать девять, а на вид не больше двадцати пяти. Редкое счастье, если в женщине, с которой живешь, находишь молодость, красоту, ум, покладистый характер и собственные свои взгляды, только в более мягкой и эмоциональной форме. Отец был прав: он сам устроил свою жизнь, сам и проживет ее как умеет.
Довольно скоро после неприятного случая с газетой Лестер узнал, что отец тяжело болен, и с минуты на минуту стал ждать вызова в Цинциннати. Однако дела удержали его в конторе, и он еще был в Чикаго, когда пришло известие о смерти отца. Лестер, потрясенный, поспешил в Цинциннати. Образ отца неотступно стоял у него перед глазами. Независимо от их личных отношений отец всегда был для него большим человеком — интересным и значительным. Он вспоминал, как в детстве отец сажал его к себе на колени, как рассказывал ему о своей юности, проведенной в Ирландии, и о своих усилиях выбиться в люди, а после внушал ему деловые принципы, которые сложились у него на основании собственного опыта. Старый Арчибалд был правдив и честен. Подобно ему и Лестер не терпел уверток и обиняков. «Никогда не лги, — неустанно твердил Арчибалд. — Никогда не пытайся представлять факты не такими, какими сам их видишь. Правдивость — это дыхание жизни, это основа всяческого достоинства, и в деловой сфере она обеспечивает доброе имя каждому, кто крепко ее придерживается». Лестер верил в этот принцип. Он всегда восхищался воинственной прямолинейностью отца и теперь скорбел о своей утрате. Он жалел, что отец не дожил до примирения с ним. Ему уже начинало казаться, что если бы старик увидел Дженни, она бы ему понравилась. Он не представлял себе, как именно все могло бы уладиться, — он просто чувствовал, что Дженни пришлась бы старику по душе.
Когда он приехал в Цинциннати, мел сильный снег. Ветер бросал в лицо колючие хлопья. Снег приглушал привычный шум улицы. На вокзале Лестера встретила Эми. Она обрадовалась ему, несмотря на их размолвки в прошлом. Из всех сестер она была наиболее терпимой. Лестер обнял ее и поцеловал.
— Какая ты умница, что встретила меня, Эми, — сказал он. — Словно прежние времена вернулись. Ну, как наши? Вероятно, все съехались. Бедный папа, настал и его час. Но он прожил долгую, деятельную жизнь. Наверно, он был доволен тем, что успел столько сделать.
— Да, — сказала Эми, — но после маминой смерти он очень тосковал.
Они ехали с вокзала, дружески беседуя и вспоминая прошлое. В старом доме уже собрались все родственники — близкие и дальние. Лестер обменялся с ними обычными выражениями соболезнования, но сам все время думал о том, что отец его прожил долгий век. Он достиг своей цели и умер — подобно тому как яблоко, созрев, падает на землю. Вид отца, лежавшего в черном гробу посреди огромной гостиной, вызвал у Лестера давно забытое чувство детской любви. Он даже улыбнулся, глядя на решительное, с резкими чертами лицо, [еловые] выражавшее сознание исполненного долга.
— Хороший был человек, — сказал он Роберту, стоявшему рядом с ним. — Такого не часто встретишь.
— Ты прав, — торжественно подтвердил Роберт.
После похорон было решено прочесть завещание, не откладывая. Муж Луизы торопился домой, в Буффало, Лестер — в Чикаго. И на второй день родственники собрались в юридической конторе «Найт, Китли и О'Брайн», ведавшей делами старого Кейна.
Лестер ехал на это собрание с уверенностью, что отец не мог обойти его в своем завещании. Их последний разговор состоялся совсем недавно; он сказал отцу, что ему нужен срок, чтобы все как следует обдумать, и отец дал ему этот срок. Отец всегда любил его и одобрял во всем, кроме связи с Дженни. Деловая сметка Лестера принесла немалую пользу фирме. Он определенно чувствовал, что у отца не было оснований обойтись с ним хуже, чем с другими детьми.
Мистер О'Брайн — толстенький, суетливый человечек — сердечно пожимал руки всем наследникам и правопреемникам, которые прибывали к нему в контору. Он двадцать лет был личным поверенным Арчибалда Кейна. Он знал все его симпатии и антипатии, все его причуды и считал себя по отношению к нему чем-то вроде исповедника. И он любил его детей, особенно Лестера.
— Ну вот, кажется, все в сборе, — сказал он, доставая из кармана большие очки в роговой оправе и озабоченно оглядывая присутствующих. — Очень хорошо. Можно приступить к делу. Я прочту вам завещание без каких бы то ни было вступлений и предисловий.
Он взял со стола большой лист бумаги, откашлялся и стал читать.
Документ был составлен не совсем обычно; сначала перечислялись мелкие суммы, отказанные старым служащим, домашней прислуге и друзьям; затем — посмертные дары различным учреждениям и, наконец, — наследство, оставленное ближайшим родственникам, начиная с дочерей. Имоджин, как любящей и преданной дочери, была завещана шестая часть капитала, вложенного в фабрику, и шестая часть остального имущества покойного, составляющая около восьми тысяч долларов. Ровно столько же получили Эми и Луиза. Внукам по достижении совершеннолетия причитались небольшие награды за хорошее поведение. Далее речь шла о Роберте и Лестере.
«Ввиду некоторых осложнений, обнаружившихся в делах моего сына Лестера, я полагаю своим долгом дать особые указания, коими следует руководствоваться при распределении остального моего имущества, а именно: одну четвертую часть капитала „Промышленной компании Кейн“ и одну четвертую часть прочего моего имущества, движимого и недвижимого, в наличности, акциях и ценных бумагах, я завещаю моему возлюбленному сыну Роберту в награду за неуклонное выполнение им своего долга, а одной четвертой частью капитала „Промышленной компании Кейн“ и одной четвертой частью прочего моего имущества, движимого и недвижимого, в наличности, акциях и ценных бумагах, я завещаю ему управлять в пользу брата его Лестера до того времени, когда будут выполнены поименованные ниже условия. И я желаю и требую, чтобы все мои дети содействовали ему в управлении „Промышленной компанией Кейн“ и другими вверенными ему капиталами до тех пор, пока он сам не пожелает сложить с себя таковое управление или не укажет другой, лучший способ осуществления его».
Лестер негромко чертыхнулся. Краска сбежала с его лица, но он не пошевелился — не устраивать же сцену. Выходило, что он даже не упомянут отдельно в завещании!
«Поименованные ниже» условия не были прочитаны всем собравшимся, что, по словам мистера О'Брайна, соответствовало воле покойного. Однако Лестеру и остальным детям он дал их прочесть в тот же день. Лестер узнал, что будет получать десять тысяч в год в течение трех лет, за каковой срок он должен сделать следующий выбор: либо он расстанется с Дженни, если еще не женился на ней, и тем приведет свою жизнь в соответствие с желанием отца. В этом случае Лестеру будет передана его доля наследства. Либо он женится на Дженни, если еще не сделал этого, и тогда будет получать свои десять тысяч в год пожизненно. Но после его смерти Дженни все равно не получит ни цента. Упомянутые десять тысяч представляли собой годовой доход с двухсот акций, которые тоже вверялись Роберту до того времени, как Лестер примет окончательное решение. Если же Лестер не женится на Дженни, но и не расстанется с ней, он по истечении трех лет перестанет получать что бы то ни было. По его смерти акции, с которых он получал доход, распределяются поровну между теми из братьев и сестер, которые к тому времени будут в живых. Любой наследник или правопреемник, оспаривающий завещание, тем самым лишается права на свою долю наследства.
Лестера поразило, как подробно отец предусмотрел все возможности. При чтении заключительных условий у него даже мелькнуло подозрение, не участвовал ли в их формулировке Роберт; но, разумеется, он не мог утверждать этого с уверенностью. Роберт никогда не проявлял к нему враждебных чувств.
— Кто составлял это завещание? — спросил он О'Брайна.
— Да мы все понемножку старались, — ответил тот несколько смущенно. — Это было нелегким делом. Вы же знаете, мистер Кейн, вашего батюшку трудно было в чем-нибудь переубедить. Кремень был, а не человек. В некоторых из этих пунктов он чуть ли не против себя самого шел. За дух завещания мы, конечно, не несем ответственности. Это уже касается только вас и вашего отца. Мне было очень тяжело выполнять его указания.
— Я вас вполне понимаю, — сказал Лестер. — Пожалуйста, не беспокойтесь.
Мистер О'Брайн выразил свою глубокую признательность.
Лестер, все время сидевший неподвижно, словно врос в кресло, теперь поднялся вместе с другими и принял равнодушный вид. Роберт, Эми, Луиза, Имоджин — все были поражены, но нельзя сказать, чтобы им было жаль Лестера. Как-никак, он вел себя очень дурно. Он дал отцу достаточно поводов для недовольства.
— Старик-то, пожалуй, хватил через край, — сказал Роберт, сидевший рядом с Лестером. — Я никак не ожидал, что он зайдет так далеко. По-моему, можно было устроить все и по-другому.
— Неважно, — буркнул Лестер, мрачно усмехнувшись.
Сестрам хотелось его утешить, но они не знали, что сказать. Ведь в конце концов Лестер сам виноват.
— Мне кажется, папа поступил не совсем правильно… — начала было Эми, но Лестер резке оборвал ее:
— Как-нибудь переживу.
Он наскоро подсчитал в уме, каковы будут его доходы, если он не выполнит воли отца. Его двести акций дают от пяти до шести процентов дохода. Да, больше десяти тысяч в год не получится.
Родственники разъехались по домам; Лестер заехал к сестре, но, торопясь выбраться из родного города, отказался от приглашений к завтраку, сославшись на неотложные дела, и ближайшим поездом уехал в Чикаго.
Всю дорогу мысли не давали ему покоя.
Так вот, значит, как мало любил его отец! Возможно ли? Ему, Лестеру Кейну, бросили десять тысяч, да и то всего на три года, а дальше он будет получать их, только если женится на Дженни. «Десять тысяч в год, — думал он, — и то всего на три года! О господи, да столько всякий приличный конторщик может заработать. И подумать, что родной отец так поступил со мной!»
Глава XLIII
Ничего не могло так сильно восстановить Лестера против его родных, как эта попытка к принуждению. За последнее время ему стало ясно, что он совершил две серьезнейшие ошибки, сначала — не женившись на Дженни, что избавило бы его от толков и пересудов; а затем — не согласившись отпустить ее, когда она сама пыталась от него уйти. Да, что и говорить, он безнадежно запутался. Он не может пойти на то, чтобы потерять все свое состояние. Собственных денег у него совсем мало. Дженни несчастна, это сразу видно. Впрочем, иначе и быть не может, потому что и сам он несчастен. Готов ли он помириться на каких-то десяти тысячах в год, даже если женится на Дженни? Согласен ли он потерять Дженни, допустить, чтобы она навсегда ушла из его жизни? Проблема была слишком сложной. Он не мог склониться ни в ту, ни в другую сторону.
Когда Лестер возвратился с похорон, Дженни сразу заметила, что его гнетет не только естественная печаль по умершем отце. Что же еще могло случиться? Она пыталась выразить ему свое сочувствие, но залечить его рану было не так-то легко. Когда бывала оскорблена его гордость, Лестер злобно замыкался в себе, а рассердившись, способен был ударить человека. Дженни присматривалась к нему, всей душой желая помочь, но он не делился с ней своим горем. Он страдал, и ей оставалось лишь страдать вместе с ним.
Дни бежали за днями, и настало время, когда Лестеру пришлось серьезно подумать о своем финансовом положении в связи с предсмертной волей старого Арчибалда. Управление фабрикой будет реорганизовано. Роберт, согласно желанию отца, станет президентом компании. Возникнет вопрос об уточнении роли и участии в деле самого Лестера. Если он не изменит своих отношений с Дженни, он даже не может быть акционером; точнее говоря, он вообще ничто. Чтобы занимать и впредь должность секретаря и казначея, он должен иметь хотя бы одну акцию компании. Захочет ли Роберт или кто-нибудь из сестер уступить ему часть своих акций? Согласятся ли они, на худой конец, продать ему эти акции? Или родные не предпримут никаких шагов в ущерб новым прерогативам Роберта? Все они сейчас настроены по отношению к Лестеру скорее враждебно. Да, единственный выход их этого запутанного положения — бросить Дженни. Если он ее бросит, не придется выпрашивать акций. Если нет, это будет нарушением последней воли отца, и тогда он должен быть готов к любым последствиям. Снова и снова он взвешивал противоречивые доводы, и картина становилась все яснее. Он должен отказаться либо от Дженни, либо от своего будущего.
Роберт, хоть и утверждал, что все можно было бы устроить но-другому, был вполне доволен тем, как сложились обстоятельства. Его планы близились к осуществлению, а он уже давно и подробно разрабатывал их, задумав не только реорганизовать отцовское дело, но и расширить его путем слияния с другими компаниями по производству экипажей. Такое объединение с двумя крупными предприятиями на западе и на востоке страны позволило бы снизить продажные цены, избежать перепроизводства и значительно сократить общие расходы.
Через своего представителя в Нью-Йорке Роберт уже приобрел некоторое количество акций других компаний и теперь был почти готов действовать. Прежде всего нужно было, чтобы его избрали президентом компании Кейн; после этого, поскольку с Лестером можно было не считаться, он собирался предоставить пост вице-президента мужу Эми и, возможно, заменить Лестера кем-нибудь другим на должности секретаря и казначея. По условиям завещания в обязанности Роберта входило управление долей наследства, выделенной Лестеру, в надежде, что он образумится. Видимо, отец рассчитывал, что Роберт поможет ему воздействовать на брата. Роберту несколько претила такая некрасивая роль, но самая задача не представляла трудностей. В некоторых отношениях это был даже почетный долг. Лестер должен был либо образумиться, либо предоставить старшему брату руководить фирмой по своему усмотрению.
Выполняя свои обязанности по чикагскому филиалу, Лестер уже чувствовал новые веяния. Он видел, что оказался за бортом, что он всего лишь заведующий отделением на службе у собственного брата, и это сознание бесило его. Роберт ни словом не упоминал о какие-либо переменах; все, казалось, шло по-прежнему; но было ясно, что теперь каждое слово Роберта — приказ. По существу, Лестер служил у брата и получал от него жалованье. Это было унизительно и противно.
Через несколько недель он почувствовал, что больше не выдержит, ведь до сих пор он действовал вполне самостоятельно. Приближался день ежегодного собрания акционеров, ранее бывшего не более как формальностью, поскольку отец вершил все дела единолично. Теперь председательствовать будет Роберт, сестер, по всей вероятности, будут представлять их мужья, а сам он даже не сможет присутствовать. Поскольку Роберт не предложил передать или продать ему акции, которые дали бы ему право стать членом правления и занять какой-нибудь ответственный пост, он решил, как ни тяжело это было для его самолюбия, послать брату прошение об отставке. Это разрядит атмосферу. Роберт поймет, что он, Лестер, не желает принимать от него одолжений и согласен пользоваться только тем, что заработает благодаря своим способностям и с полного согласия родных. А если он все же бросит Дженни и вернется к участию в делах, то уже отнюдь не в качестве заведующего филиалом. И он продиктовал простое, откровенное деловое письмо:
«Дорогой Роберт! Я знаю, что в ближайшее время компания будет реорганизована под твоим руководством. Поскольку у меня нет акций, я не имею права ни состоять членом правления, ни занимать должность секретаря и казначея. Считай, пожалуйста, это письмо официальным заявлением о моем уходе с обеих этих должностей, и пусть правление обсудит вопрос как о замещении этих должностей, так и о дальнейшем использовании моих услуг. Местом заведующего филиалом как таковым я особенно не дорожу, но я ни в коем случае не хочу нарушать твои планы. Из всего сказанного тебе должно быть ясно, что я пока не собираюсь выполнять условие, оговоренное в завещании отца. Мне хотелось бы точно знать, как ты смотришь на это дело. Буду ждать от тебя ответа.
Твой Лестер».В своей конторе в Цинциннати Роберт тщательно обдумал это письмо. Итак, Лестер требует полной ясности, это на него похоже. При его прямоте да побольше бы осмотрительности — замечательный был бы человек! Но в нем нет коварства, нет тонкости. Он никогда не пойдет на обман, а Роберт в глубине души считал, что без этого не достичь настоящего успеха. «Иной раз необходима и изворотливость и жестокость, — думал он часто. — Почему не признаться в этом самому себе, когда делаешь крупную ставку?» И он придерживался этого правила довольно твердо.
Сейчас Роберт чувствовал, что хотя Лестер — превосходный малый и к тому же его брат, ему не хватает известной гибкости. Он слишком прямолинеен, слишком любит спорить. Если Лестер подчинится желанию отца и получит свою долю наследства, он неизбежно станет активным участником в управлении фирмой. Он свяжет руки старшему брату. Хотелось ли этого Роберту? Безусловно, нет. Его гораздо больше устраивало, чтобы Лестер, во всяком случае, на ближайшее время, остался с Дженни и таким образом сам отстранился от дел.
Обдумав все как следует, Роберт продиктовал вежливое письмо. Он еще не уверен, как лучше поступить. Он не знает, какого мнения держатся зятья. Надо будет с ними посоветоваться. Лично он очень хотел бы сохранить Лестера в должности секретаря и казначея, если только это удастся устроить. Не лучше ли повременить с окончательным решением?
Лестер выругался. Какого черта Роберт виляет и тянет? Он-то прекрасно знает, как это можно устроить. Дать Лестеру еще одну акцию — и он будет полноправным пайщиком. Роберт его боится, вот где собака зарыта. Ну что ж, на роли заведующего филиалом он не останется, будьте спокойны. Он немедленно подаст в отставку.
И Лестер написал Роберту, что все обдумал и решил попытать счастья на деловом поприще самостоятельно. Пусть Роберт направит в Чикаго кого-нибудь, кому он мог бы сдать дела. Он готов ждать месяц, но не больше. Через несколько дней пришел ответ. Роберт писал, что чрезвычайно сожалеет, но если таково решение Лестера, он со своей стороны не хочет мешать ему в осуществлении его новых планов. Муж Имоджин, Джефферсон Миджли, давно выражал желание перебраться в Чикаго. На первое время заведование филиалом можно передать ему.
Лестер улыбнулся. Роберт, очевидно, пытается извлечь пользу из создавшихся осложнений. Роберт знает, что он, Лестер, может подать в суд и оспорить назначение зятя, но знает и то, что Лестеру меньше всего этого хочется. Вся история попадет в газеты. Снова пойдут затихшие было разговоры о его отношениях с Дженни. Лучшим выходом было бы расстаться с ней. Так все опять извращалось к исходной точке.
Глава XLIV
Лестеру исполнилось сорок шесть лет. В таком возрасте оказаться совсем одному, без друзей и деловых связей, было тоскливо и страшновато, даже при наличии пятнадцати тысяч годового дохода (включая десять по отцовскому завещанию). Он понимал, что, если в ближайшем будущем он не нападет на какую-нибудь золотую жилу, его карьера кончена. Разумеется, можно жениться на Дженни. Это обеспечило бы ему десять тысяч дохода до конца его дней, но также лишило бы последнего шанса получить свою долю капитала компании Кейн. С другой стороны, он мог продать свои акции — их было у него на семьдесят пять тысяч: с них-то он и получал около пяти тысяч долларов процентами — и вложить деньги в какое-нибудь предприятие, например в другую фирму по производству экипажей. Но хочется ли ему вступать в конкуренцию со старой отцовской фирмой? К тому же это было бы очень нелегко. Конкуренция и так обострялась день ото дня, причем компания Кейн упорно удерживала первое место. Весь капитал Лестера составлял семьдесят пять тысяч долларов. Есть ли смысл вступать в бой с такими ничтожными средствами? При нынешней конъюнктуре, чтобы закрепиться в этой отрасли производства, нужны большие деньги.
Лестер, наделенный богатым воображением и недюжинным умом, на свое горе, не обладал тупой, самодовольной уверенностью в собственном превосходстве, столь необходимой для достижения серьезных успехов в коммерческих делах.
Занять видное место в деловом мире обычно удается лишь человеку одной идеи, твердо убежденному, что само провидение уготовило ему блестящую карьеру на том или ином избранном им поприще. Новый сорт мыла, или нож для открывания консервных банок, или безопасная бритва, или переключатель скоростей — что-то одно безраздельно захватывает воображение человека, жжет, как раскаленный уголь, и до краев заполняет его существование. Чтобы так гореть, нужна бедность и молодость. Предмет, которому человек решил посвятить свою жизнь, должен открывать ему путь к несчетным возможностям и несчетным радостям. И целью должно быть счастье, иначе огонь не будет гореть достаточно ярко, движущая сила не будет достаточно мощной — и успех не будет полным.
Но Лестер не был способен на такое горение. Он уже изведал большую часть так называемых радостей жизни. Иллюзии, столь часто и громко именуемые наслаждениями, уже не прельщали его. Деньги, разумеется, необходимы, и деньги у него есть, во всяком случае, достаточные для безбедного существования. Что ж, неужели поставить их на карту? А впрочем, почему бы и нет. Куда страшнее остаток жизни сидеть сложа руки и смотреть, как другие преуспевают.
В конце концов он решил поискать приложения своим силам. Он уверял себя, что торопиться некуда, что никакой оплошности он не допустит. Для начала нужно, чтобы в кругу промышленников, причастных к оптовому производству экипажей, стало известно, что он не связан больше с отцовским предприятием и готов выслушать любые предложения. И он широко оповестил всех о том, что выходит из компании Кейн и уезжает в Европу, отдохнуть. Он никогда не был за границей, да и Дженни нужно побаловать. Весту можно оставить дома с прислугой и Герхардтом, а Дженни пусть поездит, посмотрит, что есть интересного в Европе. Лестер решил побывать в Венеции, в Баден-Бадене и на других курортах, о которых много наслышался. Ему давно хотелось увидеть и египетские города и Парфенон. Он погостит в чужих краях, освежится, а затем, вернувшись домой, всерьез возьмется за что-нибудь новое.
Путешествие состоялось весной, в год смерти старого Кейна. Лестер сдал дела в Чикаго и не спеша, с большим удовольствием составил себе маршрут, постоянно советуясь с Дженни. Захватив все необходимое для дороги, они отбыли пароходом из Нью-Йорка в Ливерпуль, провели несколько недель в Англии, потом поехали в Египет. Обратный путь лежал через Грецию и Италию в Австрию и дальше, через Швейцарию, — в Париж и Берлин, Новые впечатления развлекли Лестера, и все же его не покидало неприятное чувство, что он зря тратит время. Путешествуя, не создашь крупного делового предприятия, а поправлять здоровье ему не требуется…
Зато Дженни приходила в восторг от всего, что видела, и просто упивалась этой новой жизнью. В Луксоре и Карнаке, о существовании которых она раньше и не подозревала, ей открылась древняя культура, мощная, многогранная и исполненная совершенства. Миллионы людей жили и умирали здесь, веруя в иных богов, в иные формы правления, иные правила жизни. Дженни впервые осознала, как огромен мир. Думая об ушедшей в прошлое Греции, о погибшей Римской империи, о канувшем в забвение Египте, она поняла, как ничтожны и мелки наши заботы и мысли. Лютеранское благочестие отца уже не казалось ей таким значительным, а общественное устройство Колумбуса в штате Огайо — нерушимым. Мать всегда придавала огромное значение тому, что скажут люди, что подумают соседи, а здесь Дженни видела несметное множество могил, в которых успокоились люди, и дурные и хорошие. Лестер объяснял ей, что различия в нравственных критериях вызываются иногда климатом, иногда — религией, иногда — появлением какой-нибудь исключительной личности вроде Магомета. Лестер любил отмечать, как мало значат условности в масштабах этого мира, такого необъятного по сравнению с их привычным мирком, и Дженни по-своему понимала его. Взять хотя бы ее прошлое. Допустим, она поступила дурно; для какой-то кучки людей это, может быть, и важно, но в плане всей истории человечества, всех движущих миром сил — какое это имеет значение? Пройдет немного времени, и все умрут — и она, и Лестер, и эти люди. Ничего нет реального и вечного, кроме доброты, сердечной, человеческой доброты. Все остальное преходящее, как сон.
Глава XLV
Случилось так, что за границей — сначала в Лондоне, а затем в Каире — Лестер снова встретил ту единственную женщину, если не считать Дженни, которая ему когда-либо действительно нравилась. Он не виделся с Летти Пэйс очень давно, она около четырех лет была женою Мальколма Джералда, а затем уже два года очаровательной вдовушкой. Мальколм Джералд, банкир и биржевик из Цинциннати, оставил своей жене большое состояние. У нее был ребенок, девочка, предоставленная заботам надежной няни, а сама она жила вечно окруженная поклонниками — цветом всех столиц цивилизованного мира. Летти Джералд была одаренная женщина, красивая, изящная, изысканная, она писала стихи, очень много читала, изучала искусство и от всей души восхищалась Лестером Кейном.
В свое время она по-настоящему любила его, потому что, зорко приглядываясь к людям, не нашла никого лучше Лестера. Он казался ей таким уравновешенным, таким спокойным. Он не терпел притворства. Его не привлекала фривольная легкость светских разговоров, он предпочитал говорить о простых и конкретных вещах. Сколько раз им случалось, ускользнув из бального зала, беседовать где-нибудь на балконе, глядя на дымок его сигары. Лестер рассуждал с ней на философские темы, спорил о книгах, рассказывал о политическом положении и общественной жизни в других городах — словом, относился к ней как к разумному человеку, и она долго, упорно надеялась, что он сделает ей предложение. Сколько раз, глядя на его крупную голову, на коротко подстриженные густые каштановые волосы, она с трудом удерживалась, чтобы не погладить их. Его переезд в Чикаго был для нее жестоким ударом — в то время она ничего не знала про Дженни, но инстинктивно почувствовала, что Лестер для нее потерян.
А тут Мальколм Джералд, один из самых верных и пылких ее поклонников, в двадцатый или тридцатый раз сделал ей предложение, и она согласилась. Она не любила его, но надо же было за кого-нибудь выйти замуж. Ему шел сорок пятый год, и он прожил с ней всего четыре года, причем окончательно убедился, что его жена прелестная и очень снисходительная женщина, умеющая широко смотреть на вещи. А потом он умер от воспаления легких и миссис Джералд осталась богатой вдовой. Чрезвычайно привлекательная, искушенная в светских делах, она была отягчена одной-единственной заботой — как истратить свои деньги.
Однако она не проявляла склонности бросать деньги на ветер. С юных лет идеалом мужчины стал для нее Лестер. Мелкотравчатые графы, лорды, бароны, которых она встречала в свете (а с годами у нее установились весьма обширные знакомства и связи), нимало не интересовали ее. Ей смертельно надоел внешний лоск титулованных охотников за долларами, с которыми она сталкивалась за границей. Она хорошо разбиралась в людях, была наблюдательна, умела схватить и социальную и психологическую сторону того, что видела, и, естественно, не питала иллюзий относительно этих господ и воплощенной в них «цивилизации».
— Я могла бы быть счастлива даже в убогой хижине с одним человеком, которого я когда-то знала в Цинциннати, — сказала она однажды своей титулованной приятельнице, которая до замужества жила в Америке. — Это был большой человек, человек ясного ума и чистой души. Сделай он мне предложение, я бы вышла за него, хотя бы мне пришлось самой зарабатывать деньги.
— А он был очень беден? — спросила приятельница.
— Вовсе нет. Он был достаточно богат. Но для меня это не играло никакой роли. Мне нужен был он сам.
— Со временем это все же сыграло бы известную роль.
— Ну, не скажите, — возразила миссис Джералд. — Я-то знаю, я ждала его много лет.
Лестер сохранил о бывшей Летти Пэйс самые приятные воспоминания. Когда-то она ему очень нравилась. Почему он не женился на ней? Много раз он задавал себе этот вопрос. Она была бы для него самой подходящей женой, отец одобрил бы его брак, все были бы довольны. А он тянул да тянул, потом появилась Дженни, и тут уже Летти перестала занимать его мысли. Теперь они снова встретились — после шестилетней разлуки. Он знал, что она вышла замуж. До нее дошли смутные слухи о его связи и о том, что в конце концов он женился на своей любовнице и живет на Южной стороне. О его финансовых затруднениях она ничего не знала. В первый раз они встретились июньским вечером в отеле «Карлтон». Окна были отворены, в аромате цветов, вливающемся из сада, была радость новой жизни, что охватывает весь мир с приходом весны. В первую минуту Летти растерялась, у нее захватило дух. Но она быстро овладела собой и непринужденно протянула руку.
— Боже мой, да это Лестер Кейн! — воскликнула она. — Ну, здравствуйте, как я рада вас видеть! А это миссис Кейн? Счастлива с вами познакомиться. Так приятно встретить старого друга, точно молодость вернулась! Вы меня простите, миссис Кейн, но я, право же, страшно рада видеть вашего мужа. Даже стыдно сказать, сколько лет мы с вами не виделись, Лестер! Я, как вспомню, чувствую себя совсем старухой, Нет, вы подумайте, больше шести лет прошло! Я за это время и замуж вышла, и дочка у меня родилась, и бедный мистер Джералд скончался, и, господи, чего только не случилось!
— Глядя на вас, этого не скажешь, — заметил Лестер с улыбкой.
Он обрадовался этой встрече, — когда-то они были добрыми друзьями. Он и сейчас ей нравился — это сразу было видно, — да и она ему нравилась.
Дженни приветливо улыбнулась, глядя на старую приятельницу Лестера. Эта женщина с прекрасными обнаженными руками, в платье из бледно-розового шелка с великолепным кружевным треном и с алой розой у пояса ковалась ей верхом совершенства. Дженни, так же как и Лестер, любила смотреть на красивых женщин, нередко сама указывала ему на них и ласково его поддразнивала.
— Ты бы пошел познакомился с ней, Лестер, а то сидишь все время со мной, — говорила она, заметив особенно интересную или эффектную женщину.
— Ничего, мне и здесь хорошо, — отшучивался он, глядя ей в глаза, или вздыхал: — Годы мои не прежние, а то бы я за ней приударил.
— Беги, беги, — подзадоривала она. — Я тебя подожду.
— А что бы ты сказала, если б я и вправду побежал?
— Ничего бы не сказала. Может быть, ты вернулся бы ко мне.
— И тебе все равно?
— Ты отлично знаешь, что не все равно. Но мешать тебе я бы не стала. Я вовсе не считаю, что должна быть для тебя единственной женщиной, если ты только сам этого не хочешь.
— Откуда у тебя такие понятия, Дженни? — спросил он однажды, пораженный широтой ее взглядов.
— Право, не знаю. А что?
— В них столько терпимости и милосердия. Не многие согласились бы с тобой.
— По-моему, Лестер, нельзя быть эгоисткой. Я сама не знаю, почему мне так кажется. Некоторые женщины думают иначе, но если мужчина и женщина не хотят жить вместе, зачем принуждать друг друга, — ты со мной не согласен? И даже если мужчина уйдет ненадолго, а потом все-таки вернется, — это не так уж страшно.
Лестер улыбнулся, но он не мог не уважать ее за такие человечные чувства.
В тот вечер, увидев, что Летти обрадовалась Лестеру, Дженни сразу поняла, что им о многом захочется поговорить; и она осталась верна себе.
— Вы меня простите, я вас ненадолго оставлю, — сказала она с улыбкой. — Мне нужно кое-что привести в порядок у нас в номере. Я скоро вернусь.
Она ушла и просидела у себя, сколько считала возможным, а у Лестера и Летти сразу завязался оживленный разговор. Он рассказал ей о себе, опустив некоторые подробности, а она описала ему свою жизнь за последние годы.
— Теперь, когда вы женаты и недоступны, — сказала она смело, — я вам признаюсь: я всегда мечтала, что именно вы сделаете мне предложение, — но этого так и не случилось.
— Может быть, я не посмел, — сказал он, глядя в ее прекрасные черные глаза и спрашивая себя, знает она или не знает, что он не женат.
Ему казалось, что она еще больше похорошела, что сейчас она само совершенство, изящная, уверенная в себе, остроумная, идеал светской женщины, умеющей подойти к каждому и каждого очаровать.
— Бросьте! Я знаю чем были заняты ваши мысли. Ваша заветная мысль только что сидела за этим столом.
— Не торопитесь с выводами, дорогая. Какие у меня были мысли, этого вы не можете знать.
— Так или иначе я отдаю должное вашему вкусу. Она очаровательна.
— В Дженни много хорошего, — заметил он просто.
— Вы счастливы?
— Более или менее. Нет, конечно, счастлив, насколько это возможно для человека, если он живет с открытыми глазами. А у меня, вы знаете, не много иллюзий.
— Вы хотите сказать: никаких?
— Пожалуй, что и никаких, Летти. Иногда я об этом жалею. С иллюзиями легче живется.
— Я вас понимаю. Я-то вообще считаю, что моя жизнь не удалась, хотя денег у меня почти столько, сколько было у Креза, может быть, чуточку поменьше.
— Боже мой! И это говорите вы — с вашей красотой, талантами, богатством!
— Зачем они мне? Ездить по свету, вести пустые разговоры, отпугивать идиотов, которые зарятся на мои доллары? Ах, как это бывает утомительно и скучно!
Летти взглянула на Лестера. Встреча с Дженни не помешала прежнему чувству проснуться в ее сердце. Почему Лестер достался не ей? Им хорошо вместе, как будто они давно женаты или только что объяснились друг другу в любви. Какое право имела Дженни им завладеть? Глаза Летти говорили яснее слов. Лестер печально усмехнулся.
— Вот идет моя жена, — сказал он. — Придется переменить тему разговора. А Дженни вас может заинтересовать.
— Я знаю, — ответила она и озарила Дженни сверкающей улыбкой.
У Дженни шевельнулось слабое подозрение. Может быть, это старая любовь Лестера? Вот какую женщину он должен был бы себе выбрать. Она одного с ним круга, с ней он был не менее, а может быть, и более счастлив. Уж не думает ли он сам о том же? Потом она отмахнулась от этой неприятной мысли; чего доброго, она начнет ревновать, а это было бы низко.
Миссис Джералд держала себя с Дженни крайне любезно. На следующий день она пригласила их кататься в Хайд-Парк, один раз они вместе обедали в отеле «Кларидж», а потом настал день ее отъезда, — она сговорилась встретиться со знакомыми в Париже. Она сердечно распростилась с Кейнами, выразив надежду на новую встречу. Ей было грустно, она завидовала счастью Дженни. Лестер не потерял для нее былого очарования. Скорее ей казалось, что он стал еще приятнее, обходительнее, разумнее. Она страстно жалела, что он не свободен. И Лестер — быть может, бессознательно — разделял ее сожаление.
Словно следуя за ее мыслями, он представил себе, как было бы, если бы он на ней женился. Их взгляды на жизнь, на искусство, на практические вопросы удивительно совпадали. Говорилось им свободно и легко, как старым друзьям. Принадлежа к одному общественному кругу, они понимали друг друга с полуслова, до малейших тонкостей, которые Дженни не могла бы ни уловить, ни выразить. Мысль у нее работала не так быстро, как у миссис Джералд, По натуре своей Дженни была способна и на более глубокое чувство и на более душевное понимание, но она не умела показать себя в светской беседе. Она всегда была искренна до конца; это-то ее качество, возможно, и привлекало Лестера. Но сейчас, как и всегда в подобных случаях, она от этого теряла. И Лестеру уже начинало казаться, что он сделал бы лучше, остановив свой выбор на Летти Пэйс. Во всяком случае, это было бы не хуже, и теперь его не мучила бы неотвязная мысль о будущем.
Во второй раз они встретились с миссис Джералд в Каире. Лестер, бродивший с сигарой по саду отеля, вдруг столкнулся с ней лицом к лицу.
— Какая счастливая встреча! — воскликнул он. — Откуда вы?
— Представьте себе — из Мадрида. До прошлого четверга я сама не знала, что попаду сюда. Меня Элликоты уговорили составить им компанию. Я как раз думала, где-то вы сейчас, а потом вспомнила, что вы собирались в Египет. Где ваша жена?
— В настоящую минуту, по всей вероятности, в ванне. Здесь так жарко, что Дженни готова не вылезать из воды. Я и сам не прочь искупаться.
Он опять залюбовался миссис Джералд. На ней было голубое шелковое платье, в руке — нарядный голубой с белым зонт.
— Ах, боже мой! — воскликнула она вдруг! — Просто не знаю, что мне с собой делать. Не могу я все время скитаться. Я уж думаю, не возвратиться ли мне в Штаты?
— За чем же дело стало?
— А что это мне даст? Замуж выходить я не хочу. Мне теперь не за кого выходить замуж.
Она выразительно взглянула на Лестера и отвернулась.
— Ну, кто-нибудь да найдется, — не очень вежливо сказал Лестер. — С вашей красотой и деньгами вам все равно не спастись.
— Не надо, Лестер!
— Хорошо, пусть будет по-вашему. Но я-то знаю, что говорю.
— Вы еще танцуете? — спросила она другим, светским тоном, вспомнив, что в отеле вечером будет бал. Когда-то Лестер танцевал прекрасно.
— Да вы посмотрите на меня!
— Бросьте, Лестер, неужели вы отказались от такого прекрасного развлечения? Я так до сих пор обожаю танцевать. А миссис Лестер?
— Нет, она не любит танцев. Во всяком случае, не увлекается ими. Пожалуй, это отчасти моя вина. Я в последнее время как-то забыл, что этим можно развлечься.
Он подумал, что в последнее время вообще перестал бывать в обществе. Его связь была к тому непреодолимой преградой.
— Давайте потанцуем сегодня вечером. Ваша жена не будет ничего иметь против. Зал здесь отличный. Я утром заглянула туда.
— Посмотрим, — ответил Лестер. — Я, наверное, разучился. В мои годы мне будет нелегко начать снова.
— Ну что вы, Лестер, — возразила она. — Выходит, что и мне уже нельзя танцевать? Не будьте таким степенным. Вас послушать, так вы совсем старик.
— Я и есть старик, если судить по жизненному опыту.
— Что ж, это еще интереснее, — кокетливо промолвила миссис Джералд.
Глава XLVI
Вечером, когда в бальном зале огромного отеля, выходившем в пальмовую аллею сада, уже играл оркестр, миссис Джералд отыскала Лестера на одной из веранд. Дженни сидела рядом с ним в белом атласном платье и белых туфельках, с короной густых волос над чистым лбом. Лестер курил и размышлял о судьбе Египта, о сменявших друг друга поколениях слабосильных людей, об узкой полосе земли по берегам Нила, кормившей эти поколения, об удивительной жизни тропиков и об этом отеле с его современными удобствами и нарядной толпой туристов, возникшем в древней, усталой, истощенной стране. Утром они с Дженни ездили осматривать пирамиды. Они прокатились на трамвае к подножию сфинкса. Они видели узкие переулки, полные смешанных запахов и ярких красок, кишащие оборванными, полуголыми, причудливо одетыми мужчинами и мальчишками.
— Ужасно трудно в этом разобраться, — сказала Дженни. — Они такие грязные, страшные. Смотреть на них интересно, но они все свиваются в один клубок, словно черви.
Лестер усмехнулся.
— Ты отчасти права. Но причиной этому климат. Жара. Тропики. Это обычно расслабляет, порождает чувственность. Люди не виноваты.
— Ну конечно, я их не виню. Просто они странные.
Сейчас Лестер вспоминал этот разговор, глядя на пальмы, залитые ярким, волшебным светом луны.
— Наконец-то я разыскала вас! — воскликнула миссис Джералд. — К обеду я все-таки опоздала. Мы страшно задержались на экскурсии. Я уговорила вашего мужа потанцевать со мной, миссис Кейн, — продолжала она с улыбкой.
Ее, так же как и Лестера с Дженни, разнежила теплая южная ночь. Воздух был напоен острым ароматом садов и рощ: слабо доносился звон колокольчиков и странные выкрики: «Айя! Уш! Уш!» — это вдали по узким улицам гнали верблюдов.
— Вот и отлично, — приветливо ответила Дженни. — Пусть потанцует. Я бы сама с удовольствием, но не умею.
— Тебе надо сейчас же взять несколько уроков, — живо отозвался Лестер. — И я тебе составлю компанию. Конечно, я порядком отяжелел, но что-нибудь да выйдет.
— Ну, мне не настолько уж хочется танцевать, — улыбнулась Дженни. — Но вы идите, а я скоро пойду к себе наверх.
— А может быть, ты посидишь в зале? — сказал Лестер, вставая. — Ведь я сделаю один-два тура, не больше, а потом мы бы посмотрели на других.
— Нет. Я лучше побуду на веранде, здесь так хорошо. А ты иди. Заберите его, миссис Джералд.
Лестер и Летти удалились. Это была чрезвычайно эффектная пара. Темно-лиловое платье миссис Джералд, усыпанное черными блестками, оттеняло белизну открытых рук и шеи; в темных ее волосах сверкал огромный бриллиант. Полные, румяные губы, складываясь в подкупающую улыбку, обнажали полоску ровных белых зубов.
Лестер во фраке, подчеркивающем его крепкую, статную фигуру, выглядел внушительно и благородно.
«Вот на ком ему следовало жениться», — подумала Дженни, когда он скрылся в дверях отеля; и она стала перебирать в памяти свою жизнь. Иногда ей казалось, что все ее прошлое было сном, а порой думалось, что сон продолжается и поныне. Звуки жизни долетали до нее, неясные, как звуки этой ночи. Она слышала лишь самые громкие крики, видела лишь самые общие черты, а за ними, как во сне, плыли, сменяя друг друга, неуловимые тени. Почему к ней так влекло мужчин? Почему Лестер так настойчиво добивался ее? Могла ли она в свое время устоять против него? Она вспоминала как жила в Колумбусе, как ходила собирать уголь. А сейчас она в Египте, в этом огромном отеле, к ее услугам роскошный номер из нескольких комнат, и Лестер по-прежнему ее любит. Сколько он вытерпел из-за нее! Почему? Разве она такая необыкновенная женщина? Когда-то Брэндер утверждал это. И Лестер говорил ей то же самое. И все-таки она смиренно чувствовала, что она здесь не на месте, словно в руках у нее — пригоршни драгоценных камней, которые не ей принадлежат. К ней часто возвращалось ощущение, испытанное во время первой поездки с Лестером в Нью-Йорк, — будто эта сказочная жизнь ненадолго. Судьба подстерегает ее. Что-то случится, и снова она окажется, где была — в глухом переулке, в убогом домишке, в стареньком, поношенном платье.
Потом мысли ее перенеслись в Чикаго, она вспомнила знакомых Лестера, и ей стало ясно, что именно так и будет. Ее не примут в обществе, даже если он на ней женится. Сейчас она понимала и причину этого. Глядя в прелестное, улыбающееся лицо женщины, с которой только что ушел Лестер, она читала мысль: «Ты, может быть, и очень мила, но ты не его круга». И сейчас, танцуя с ним, миссис Джералд, вероятно, думает, что сама она была бы для него куда более подходящей женой. Ему нужна женщина, выросшая в родной для него среде. От Дженни он не мог ожидать знания всех мелочей, к которым привык с детства, и правильной их оценки. Теперь-то она многое понимала. Она быстро научилась разбираться в тонкостях обстановки, туалетов, манер, светских обычаев, но это было у нее благоприобретенное, а не врожденное.
Если она уйдет, Лестер возвратится в свой прежний мир, в мир, где царит красивая, умная, безупречно воспитанная женщина, которая сейчас кружится с ним в вальсе. На глазах Дженни навернулись слезы; ей вдруг захотелось умереть. Право же, так было бы лучше.
Тем временем Лестер танцевал с миссис Джералд, а в перерывах между танцами беседовал с ней о знакомых местах и людях. Он смотрел на Летти и дивился ее молодости и красоте. Не такая тоненькая, как в юности, она и сейчас была стройна и прекрасно сложена, словно Диана. В ее холеном теле чувствовалась сила, черные глаза светились влажным блеском.
— Честное слово, Летти, — не выдержал он, — вы еще больше похорошели. Вы изумительны. Вы все молодеете.
— Вам, правда, так кажется? — улыбнулась она, вскинув на него глаза.
— Вы отлично знаете, что иначе я бы этого не сказал. Пустые комплименты — не по моей части.
— Ах, Лестер, медведь вы этакий, с вами уж и пожеманиться нельзя? Разве вы не знаете, что женщины любят пить хвалу по каплям, а не глотать залпом?
— О чем вы? — спросил он. — Что я такого сказал?
— Ничего. Просто вы медведь. Большой мальчик, непосредственный и упрямый. Но это пустяки. Вы мне нравитесь. Этого вам достаточно?
— Вполне, — сказал он.
Музыка смолкла, они вышли в сад. Лестер нежно сжал ей руку. Он не мог удержаться, у него было такое чувство, словно эта женщина принадлежит ему. А она всеми силами старалась внушить ему это. Сидя с ним в саду, глядя на развешанные меж деревьями фонарики, она думала; будь он свободен, позови он ее, и она пошла бы за ним. Она, пожалуй, пошла бы за ним и без зова, только он, вероятно не захочет. Он такой пуританин, так заботится о приличиях. Не в пример другим знакомым ей мужчинам он никогда не совершит низкого поступка. Никогда.
Наконец Лестер поднялся и стал прощаться. Наутро они с Дженни едут дальше, вверх по Нилу, в Карнак и Фивы и к вырастающим из воды храмам острова Филе. Вставать придется в несусветную рань, так что пора на покой.
— А когда вы собираетесь в Штаты? — спросила приунывшая миссис Джералд.
— В сентябре.
— Вы уже заказали билеты?
— Да, отплываем девятого из Гамбурга, пароходом «Фульда».
— Я, может быть, тоже осенью поеду домой, — засмеялась Летти. — Не удивляйтесь, если мы встретимся на пароходе. Я еще, правда ничего не решила.
— Нет, в самом деле, поедемте вместе, — сказал Лестер. — Я надеюсь, что вы не раздумаете… Мы еще, может быть, увидимся завтра утром.
Он замолчал, и она обратила на него печально-вопросительный взгляд.
— Не горюйте, — сказал он и пожал ей руку. — Мало ли что бывает в жизни. Иногда кажется, что дело совсем плохо, а выходит к лучшему.
Он думал, что ей, видимо, жаль терять его, а ему было жаль, что ее желание невыполнимо. И еще он говорил себе, что такой выход из положения для него неприемлем; а между тем это тоже выход. Почему он не сделал этого много лет назад?
Но тогда она была не так хороша, как сейчас, и не так умна, и не так богата… Ах, если бы!.. Однако он не может изменить Дженни или желать ей зла. Ей и так пришлось нелегко, и она храбро несет свое бремя.
Глава XLVII
На обратном пути Лестер и Дженни действительно провели еще целую неделю с миссис Джералд, которая решила, что попытается пожить немного на родине. Она направлялась в Цинциннати с заездом в Чикаго, рассчитывая и впредь хоть изредка встречаться с Лестером. Увидев ее на пароходе, Дженни очень удивилась, и тревожные мысли снова стали одолевать ее. Теперь положение было для нее ясно; не будь ее, миссис Джералд несомненно вышла бы замуж за Лестера. А сейчас… трудно что-нибудь сказать. Летти — самая подходящая для него жена по своему рождению, воспитанию, положению в обществе. Но в более широком человеческом плане Дженни все-таки была ему ближе, это она чувствовала безошибочно. Может быть, время поможет разрешить этот сложный вопрос: а пока они все трое по-прежнему оставались друзьями. В Чикаго они расстались: миссис Джералд проследовала в Цинциннати, а Лестер с Дженни снова водворились в своем доме в Хайд-Парке.
По возвращении из Европы Лестер всерьез стал подыскивать себе новое поле деятельности. Ни одна из крупных компаний не обращалась к нему с предложениями, главным образом потому, что у него была репутация сильного и властного человека, который, войдя в любое предприятие, непременно захочет играть в нем первую скрипку; о перемене в его финансовом положении ничего не было известно. Мелкие компании, о которых он собрал сведения, влачили жалкое существование или выпускали негодную, на его взгляд, продукцию. В небольшом городке на севере штата Индиана он, правда, обнаружил одно предприятие, имевшее, казалось, кое-какие перспективы. Во главе его стоял опытный мастер-каретник — таким в свое время был отец Лестера, — не наделенный, однако, особыми деловыми способностями. Он получал весьма скромную прибыль с пятнадцати тысяч долларов, вложенных в предприятие стоимостью тысяч в двадцать пять. Лестер решил, что с введением надлежащих методов и при наличии настоящей деловой хватки здесь можно кое-чего добиться. О быстрых успехах не могло быть и речи, крупные барыши если и были возможны, то лишь в очень отдаленном будущем. Все же Лестер подумывал о том, чтобы вступить в переговоры с хозяином этого предприятия, но тут до него дошла весть о создании каретного треста.
Все это время Роберт энергично занимался давно задуманной им коренной реорганизацией производства экипажей. Он всячески старался доказать своим конкурентам, что объединение сулит куда больше прибыли, чем соперничество и стремление вытеснить друг друга с рынка. Доводы его были так убедительны, что крупные компании сдавались на них одна за другой. Через несколько месяцев соглашение было оформлено, и Роберт стал президентом «Объединенной ассоциации по производству экипажей», располагавшей акционерным капиталом в десять миллионов долларов и основными средствами, равными трем четвертям этой суммы. Он достиг своего и был счастлив.
Лестер оставался в полном неведении относительно этих важных перемен. Несколько коротких газетных заметок о предполагаемом слиянии ряда предприятий по производству экипажей не попались ему на глаза, потому что он в это время был за границей. Вернувшись в Чикаго, он узнал, что муж Имоджин, Джефферсон Миджли, по-прежнему ведает чикагским отделением и живет в Ивенстоне; однако ссора с родными помешала Лестеру получить какие-либо сведения из первых рук. Случай вскоре открыл ему глаза на то, что произошло и — нужно сказать, — при довольно досадных обстоятельствах.
Поразительную новость сообщил ему не кто иной, как мистер Генри Брейсбридж из Кливленда, с которым Лестер встретился в клубе через месяц после приезда из Европы.
— Ты, я слышал, расстался с отцовской компанией, — заметил Брейсбридж с любезной улыбкой.
— Да, — сказал Лестер. — Расстался.
— А теперь какие у тебя планы?
— Да я тут обдумываю одно дело. Хочу завести собственное предприятие.
— Но против брата ты едва ли пойдешь? Он это не плохо придумал со своей ассоциацией.
— С какой ассоциацией? Понятия не имею. Я только что вернулся из Европы.
— Ой, смотри, Лестер, так ты все на свете проспишь, — сказал Брейсбридж. — Твой брат создал крупнейший трест в вашей отрасли производства. Я был уверен, что ты в курсе дела. Объединились все крупные компании — Вудс, Лайман-Уинтроп, Майер-Брукс. Твой брат избран президентом. Он, наверное, на одном распределении акций заработал миллиона два.
Лестер поднял брови, глаза его смотрели холодно.
— Ну что ж, я очень рад за Роберта.
Брейсбридж понял, что Лестер задет за живое.
— До свидания, дорогой, мне пора, — сказал он. — Когда будешь в Кливленде, заглядывай к нам. Мы с женой тебя любим, ты это знаешь.
— Знаю, — сказал Лестер. — До свидания.
Он побрел в курительную. После того, что он узнал, его новая затея потеряла для него всякий интерес. Хорош он будет в роли хозяина захудалой фабрики, когда его брат — президент каретного треста! Да Роберт через год пустит его по миру. Когда-то он сам мечтал о такой ассоциации. Он мечтал, а Роберт взял и создал.
Одно дело сносить удары судьбы, столь часто обрушивающиеся на одаренных людей, когда ты молод, смел, исполнен воинственного духа. И совсем иное дело, когда молодость уже позади, когда основное твое состояние ускользает у тебя из рук, а новые пути к богатству и успеху закрываются перед тобой один за другим. Откровенное нежелание «общества» признать Дженни, созданная вокруг нее газетная шумиха, размолвки с отцом и его смерть, потеря состояния, разрыв с отцовским предприятием, поведение Роберта, наконец, новый трест — все обескураживало, угнетало Лестера. Он старался не показывать вида, и до сих пор это ему как будто удавалось, но теперь он вдруг почувствовал, что всему есть предел. Домой он вернулся чернее тучи. Дженни сразу это заметила, вернее она этого ждала. Весь вечер, пока его не было дома, ее томила какая-то безотчетная тоска. И вот он вернулся, и она поняла — у него серьезные неприятности. Первым побуждением ее было спросить: «Что случилось, Лестер?» — но она сдержалась и мудро решила, что он, если захочет, сам расскажет ей обо всем. Она сделала вид, что ничего не заметила, и постаралась развлечь его ласково и неназойливо.
— Веста сегодня очень довольна собой, — начала она. — Принесла из школы отличные отметки.
— Это хорошо, — отозвался он мрачно.
— И танцевать она стала замечательно. Как раз перед твоим приходом она показывала мне новые танцы, которые только что выучила. Такая прелесть — ты просто представить себе не можешь.
— Очень рад слышать, — пробурчал он. — Я же говорил, что ей стоит учиться. И пора, пожалуй, перевести ее в другую школу, получше.
— А папа все сердится, даже смешно. Она еще смеет его дразнить, шалунья этакая. Сегодня все предлагают поучить его танцевать. Если бы он не любил ее так, он бы ей уши надрал.
— Могу себе представить! — улыбнулся Лестер. — Наш дед танцует. Ну и картина!
— Он ворчит, бушует, а ей хоть бы что.
— Молодец, девочка, — сказал Лестер.
Он искренне любил Весту и все больше интересовался ею.
Дженни продолжала болтать, и ей удалось немного рассеять мрачное настроение Лестера. А когда пришло время ложиться спать, он сам заговорил наконец о своих заботах.
— Пока мы были за границей, Роберт здесь устроил недурную финансовую комбинацию.
— А что такое? — насторожилась Дженни.
— Сколотил каретный трест, не более и не менее. Теперь его трест вберет в себя все, что в стране сколько-нибудь значительного по этой части. Брейсбридж мне рассказал, что Роберт избран президентом и что у них чуть ли не восемь миллионов капитала.
— Да что ты! — воскликнула Дженни. — Тогда тебе, вероятно, не стоит вступать в новую компанию, о которой ты говорил.
— Да, сейчас это было бы глупо. Может быть, позже, не знаю. Пока нужно подождать, посмотреть, что получится из этого нового треста. Мало ли какой курс он может взять.
Дженни была огорчена до глубины души. Никогда раньше она не слышала от Лестера ни слова жалобы. Ей страстно хотелось утешить его, но она понимала, что это не в ее силах.
— Ну что ж, — сказала она. — Есть и еще много интересного на свете. Я бы на твоем месте не стала торопиться. Время у тебя есть.
Больше она ничего не решилась добавить, но он вдруг почувствовал, что, и правда, нечего себя терзать. В конце концов еще на два года ему обеспечен более чем достаточный доход. При желании можно его умножить. И все же Лестера грызла мысль, что брат так стремительно идет в гору, а он стоит на месте, или, вернее, плывет по течению. Это было обидно; а главное — он стал чувствовать, что теряет почву под ногами.
Глава XLVIII
Сколько Лестер ни ломал себе голову, он не мог придумать, как ему снова включиться в жизнь делового мира. Узнав, что Роберт создал свой трест, он тотчас отбросил всякую мысль об участии в скромном предприятии фабриканта из Индианы. У него хватало гордости и чувства меры, чтобы понять, как нелепо было бы тягаться с братом, столь бесспорно превосходившим его своими финансовыми возможностями. Он навел справки о новой ассоциации и убедился, что Брейсбридж отнюдь не преувеличил ее размаха и мощи. Это было миллионное дело. У самостоятельных мелких фабрикантов не оставалось ни малейших шансов уцелеть. Так неужели же плестись в хвосте за своим знаменитым братом? Нет, это слишком унизительно. Метаться и изворачиваться в неравной борьбе против нового треста, зная, что родной брат волен раздавить или пощадить тебя и что против тебя используется принадлежащий тебе по праву капитал? Нет, невозможно, лучше переждать. Что-нибудь да подвернется. А пока еще у него есть на что жить, и за ним остается право, если он того пожелает, снова стать пайщиком компании Кейн. Но желает ли он этого? Вот вопрос, на который Лестер никак не мог ответить.
Он все еще был в плену своих колебаний и сомнений, когда в один прекрасный день к нему явился некий Сэмюел Росс, агент по продаже недвижимого имущества, чьи огромные рекламы на деревянных щитах красовались по всей прерии, окружавшей Чикаго. Лестер раза два встречался с ним в клубе, слышал о нем как о смелом и удачливом дельце и помнил кричащий фасад его конторы на углу улиц Вашингтона и Ла-Саль. Россу было лет пятьдесят, орлиный нос с нервными ноздрями и густые кудрявые волосы. Лестеру запомнилась его мягкая, кошачья походка и выразительные узкие белые руки с длинными пальцами.
Мистер Росс явился к мистеру Кейну с деловым предложением. Мистер Кейн, разумеется, знает, кто он такой? Со своей стороны, мистер Росс полностью осведомлен о мистере Кейне. Известно ли мистеру Кейну, что совсем недавно он, Росс, вместе с Мистером Норманом Иэйлом, представителем оптовой бакалейной торговли «Иэйл, Симпсон и Райс», создал новый пригород — Иэйлвуд?
Да, мистеру Кейну это было известно.
Еще не прошло и полутора месяцев, как последние участки в Иэйлвуде были проданы; в среднем они принесли сорок два процента прибыли. Росс перечислил еще несколько осуществленных им сделок по продаже недвижимости, о которых Лестер тоже кое-что слышал. Росс откровенно признал, что в его деле бывают неудачи; он сам пострадал раза два. Но, как известно, гораздо чаще торговля недвижимостью приносит доход. Так вот, поскольку Лестер больше не связан с компанией Кейн, он, вероятно, не прочь хорошо поместить свои деньги. Есть интересное предложение. Лестер согласился выслушать мистера Росса, и тот, поморгав круглыми, как у кошки, глазками, приступил к изложению сути дела.
Сводилось оно к тому, что он предлагал Лестеру войти с ним в долю для покупки и эксплуатации большого участка земли площадью в сорок акров, расположенного на юго-восточной окраине города и ограниченного улицами Пятьдесят пятой, Семьдесят первой, Холстед и Эшленд. Цены на землю в этом районе неминуемо должны возрасти, — намечается настоящий бум, и притом надолго. Муниципалитет уже решил замостить Пятьдесят пятую улицу. Трамвайную линию по Холстед-стрит предполагается продолжить. Компания проходящей поблизости железной дороги Чикаго — Берлингтон — Куинси, несомненно, захочет построить в новом пригороде пассажирскую станцию. За землю нужно заплатить сорок тысяч долларов, — этот расход они поделят поровну. Нивелировка, размежевание участков, мощение улиц, посадка деревьев, фонари — все это обойдется примерно в двадцать пять тысяч. Нужно будет затратить известную сумму на рекламу, в течение двух или, вернее, трех лет по десять процентов от вложенного капитала — всего девятнадцать-двадцать тысяч долларов. В общей сложности им вдвоем придется вложить в дело девяносто пять, от силы — сто тысяч, из которых на долю Лестера падает пятьдесят. Затем мистер Росс перешел к исчислению прибылей.
О перспективах на продажу намеченной земли и повышение ее в цене можно судить по прилегающим к ней участкам севернее Пятьдесят пятой улицы и восточное Холстед-стрит. Взять хотя бы участок Мортимера, на углу Холстед и Пятьдесят пятой. В 1882 году он продавался по сорок пять долларов за акр. Через четыре года акр стоил уже пятьсот долларов — такую цену в 1886 году заплатил за этот участок мистер Джон Слоссен. В 1889 году, то есть еще через три года, он перепродал землю мистеру Мортимеру по тысяче долларов за акр. По такой цене предлагается сейчас и новый, еще не разработанный кусок земли. Его можно разбить на участки площадью пятьдесят футов на сто и распродать по пятьсот долларов. Это ли не верная прибыль.
Лестер согласился, что прибыль как будто обеспечена.
Росс не без хвастовства стал объяснять, как наживают барыши на недвижимости. Непосвященному человеку нечего и соваться в это дело. В несколько недель, даже в несколько лет нельзя надеяться достичь того умения, какое у знатоков вроде него самого вырабатывалось целых четверть века. Тут важен и престиж, и вкус, и чутье. Если они договорятся и начнут действовать, руководить операциями будет он. В его распоряжении хорошо обученный штат подчиненных и крупные подрядчики. У него есть знакомства в налоговом управлении, в управлении водоснабжения — словом, во всех отделах городского хозяйства, от которых зависит судьба нового района. Если Лестер войдет с ним в долю, он. Росс, гарантирует ему барыш; сколько — это он в точности не может сказать: самое меньшее — пятьдесят тысяч долларов, но скорее полтораста иди двести. Как только Лестер изъявит желание, он ознакомит его со всеми подробностями и разъяснит, как претворить этот план в жизнь. Пораздумав несколько дней. Лестер решил, что проект мистера Росса заслуживает внимания.
Глава XLIX
Сомневаться в успехе задуманной операции не было, казалось, никаких оснований. Огромный опыт и здравое суждение мистера Росса служили залогом успеха для любого его начинания. Он досконально изучал свое дело, он умел убедить кого угодно и в чем угодно, лишь бы ему дали время подробно осветить все стороны вопроса.
Лестер не сразу позволил себя увлечь, хотя, в общем, операции с недвижимостью были в его вкусе. Земля его интересовала. Он считал, что это — солидное помещение капитала, если не размахиваться слишком широко. До сих пор он не пробовал вкладывать деньги в земельные участки, но только потому, что вращался в кругах, далеких от этих интересов. Он был человеком «безземельным», а сейчас в некотором роде и безработным.
Мистер Росс ему нравился, он, видимо, понимал толк в своем деле. Его посулы не трудно было проверить, и Лестер не преминул этим заняться. К тому же он помнил рекламные щиты Росса в прерии и его объявления в газетах. И пора было наконец прекратить затянувшееся безделье и хоть сколько-нибудь приумножить свой капитал.
К сожалению, Лестер за последнее время разучился вникать в мелкие подробности. С самого начала его деятельности в отцовском предприятии ему поручались задачи общего характера — закупки крупных партий товаров, размещение оптовых заказов, обсуждение вопросов, касающихся работы всей фирмы и далеких от практических деталей, которые имеют первостепенное значение для торговцев помельче. На фабрике не он, а Роберт исчислял до последнего цента издержки производства, следил за тем, чтобы нигде не было ни малейшей утечки. Лестер же добросовестно и с интересом выполнял поручения более общего порядка. И сейчас, когда он обдумывал предложение Росса, его интересовали широкие перспективы, а не мелочи. Он прекрасно знал, что Чикаго быстро растет и земля не может не подниматься в цене. Там, где сейчас голая прерия, очень скоро, через несколько лет, будут густо застроенные жилые пригороды. Невозможно допустить, чтобы цены на землю упали. Продажа участков может затянуться, и цены могут расти не всегда одинаково быстро, но упасть они не могут. В это убеждал его Росс, да и сам Лестер был в этом уверен.
Целого ряда случайностей он не предусмотрел. Он не подумал о том, что сам мистер Росс не вечен; что району, который сейчас представляется идеальным для жилого пригорода, может повредить застройка соседних с ним кварталов; что неблагоприятная финансовая конъюнктура может вызвать понижение цен на землю, более того — паническую распродажу участков за бесценок, перед которой не устоять даже таким опытным маклерам, как мистер Сэмюел Росс.
Несколько месяцев Лестер изучал обстановку, обрисованную его новым наставником и руководителем, а затем, придя к заключению, что риск если и есть, то очень незначительный, решил продать часть акций, приносивших ему жалкие шесть процентов, и вложить деньги в новое предприятие. Первым его взносом были двадцать тысяч долларов — половина цены на землю, которую они по соглашению с Россом оплачивали поровну; это соглашение должно было оставаться в силе до тех пор, пока не будут распроданы все участки. Затем он дал двенадцать с половиной тысяч на производство работ, а затем — еще две с половиной тысячи на уплату налогов и на различные непредвиденные расходы. Оказалось, что из-за особенностей почвы нивелировка обходится дороже, чем было предусмотрено сметой; что деревья не всегда принимаются с первого раза; что для успешного завершения некоторых работ нужно «подмазать» кое-кого в газовом или водопроводном отделе городского хозяйства. Всем этим занимался мистер Росс, но, поскольку это влекло за собой увеличение расходов, он не мог не держать Лестера в курсе дела.
Приблизительно через год после их первой беседы участки были готовы, но чтобы создать им надлежащую рекламу, следовало подождать весны. Для покрытия рекламных расходов Лестеру пришлось сделать третий взнос, и он продал еще на пятнадцать тысяч акций, считая необходимым довести дело до конца, а затем уже ждать обещанных прибылей.
Поначалу Лестер был вполне доволен осуществлением своих планов. Росс, безусловно, показал себя толковым и проницательным дельцом, умеющим охватить множество разнообразных деталей. Участки были разработаны превосходно. Новому району было присвоено заманчивое название Гринвуд — Зеленый лес, хотя, как отметил Лестер, леса там и в помине не было. Но Росс уверил его, что людям, подыскивающим себе пригородный участок, такое название придется по душе; а увидев, как энергично идет посадка молодых деревьев, долженствующих разрастись в тенистые аллеи и сады, они легко примут мечты за действительность. Лестер улыбнулся в ответ на этот довод.
Первой тенью, омрачившей светлое будущее Гринвуда, был слух, будто «Интернациональная Консервная» — одна из крупнейших компаний, объединившихся в мясоконсервный трест, чья контора помещалась на углу Холстед-стрит и Тридцать второй, — решила выделиться из треста и основать самостоятельное предприятие. В газетах писали, что «Интернациональная» намерена обосноваться южнее, по всей вероятности в районе Пятьдесят пятой улицы и Эшленд-авеню. Квартал этот непосредственно примыкал с запада к земле Лестера, а одного подозрения, что по соседству открывается консервный завод, было достаточно, чтобы погубить перспективы зарождающегося дачного пригорода.
Росс был вне себя от ярости. Быстро оценив обстановку, он решил, что единственный выход — это разрекламировать новые участки в газетах и постараться распродать их, пока не возникли еще какие-нибудь помехи. Он изложил свою точку зрения Лестеру, и тот согласился, что так будет лучше всего. Они уже истратили на рекламу шесть тысяч долларов, а теперь за десять дней еще три тысячи, чтобы создать впечатление, будто Гринвуд — идеальный район, оборудованный по последнему слову современной техники, по красоте и тишине не имеет и не будет иметь себе равных в Чикаго. Но это не помогло. На несколько участков нашлись покупатели; однако зловещие слухи о планах «Интернациональной Консервной» упорно держались; теперь Гринвуд годился разве что под поселок для рабочих иностранцев; а затея с дачным пригородом явно потерпела полный провал.
Лестера этот новый удар привел в полное отчаяние. Пятьдесят тысяч долларов — две трети его состояния, если не считать годового дохода, завещанного отцом, — оказались замороженными; нужно было платить налоги, производить ремонт и приготовится к тому, что цены на землю начнут падать. Он высказал предположение, что оставшиеся участки можно бы продать по себестоимости или заложить, отказавшись от дальнейшей эксплуатации; но Росс смотрел на дело куда более мрачно.
Раза два он уже попадал в такие переделки. Он был суеверен и считал, что если дело не пошло гладко с самого начала, значит не судьба и как ни старайся — беде все равно не поможешь. По горькому опыту он знал, что многие его коллеги думают так же.
Они продержались около трех лет, а потом участки пошли с молотка. На долю Лестера, вложившего в них пятьдесят тысяч долларов, пришлось чуть больше восемнадцати тысяч; и кое-кто из умудренных жизнью людей уверял его, что он еще легко отделался.
Глава L
Операции с пригородными участками были в самом разгаре, когда миссис Джералд решила переселиться в Чикаго. Живя в Цинциннати, она многое узнала об обстоятельствах жизни Лестера, вызвавших столько пересудов и нареканий. Вопрос о том, женат ли он на Дженни, так и остался открытым. Но до миссис Джералд дошла — правда, в искаженном виде — вся история Дженни и рассказы о том, как чикагская газета изобразила Лестера в роли миллионера, пожертвовавшего из любви к ней всем своим состоянием, а также совершенно точные сведения, что Роберт отстранил брата от участия в делах «Компании Кейн». Ей было обидно и больно, что Лестер губит себя.
Прошел год, а он ничего не сделал. Пройдет еще два года — и будет слишком поздно. В Лондоне он сказал ей, что у него почти не осталось иллюзий. Может быть, Дженни — одна из них? Что он, действительно любит ее или просто жалеет? Летти было очень интересно выяснить этот вопрос.
В Чикаго она сняла роскошный особняк на бульваре Дрексел. «Эту зиму я проведу в Ваших краях, — писала она Лестеру, — и надеюсь, что мы с Вами будем часто встречаться. В Цинциннати я умираю от скуки. После Европы здесь так… ну, Вы понимаете. В субботу видела миссис Ноулз, она о Вас спрашивала. Имейте в виду, что она прекрасно к Вам относится. Ее дочь весной выходит замуж за Джимми Севренса».
Лестер ждал приезда миссис Джералд со смешанным чувством удовольствия и неловкости. Она, конечно, будет устраивать вечера и приемы. Что, если ей взбредет на ум пригласить его с Дженни? Но нет, едва ли. Надо полагать, что теперь-то она узнала, как обстоит дело. И по письму ее это видно. Она намерена «часто встречаться» с ним — значит именно с ним, а не с Дженни. Он решил рассказать Летти все начистоту и предоставить ей самой определить, какими будут в дальнейшем их отношения.
Он выбрал для откровенного разговора минуту, когда они сидели в уютной гостиной вдвоем с Летти — прелестным видением в бледно-желтых шелках. Как раз в это время он стал сомневаться в успешном исходе своих земельных операций, настроение у него было неважное, и он как никогда нуждался в сочувствии и понимании. Дженни он еще ни слова не сказал о своих заботах.
Когда горничная удалилась, подав хозяйке чай, а Лестеру коньяк с содовой, Летти решила помочь ему и сама нарушила молчание.
— А я много слышала о вас, Лестер, с тех пор как вернулась из Европы. Расскажите мне о себе. Вы знаете, как близко я принимаю к сердцу все, что касается вас.
— Что же вы слышали, Летти? — спросил он спокойно.
— Ну, во-первых, слышала о завещании вашего отца и о том, что вы больше не участвуете в делах компании, а еще — всякие сплетни о миссис Кейн, которые меня не особенно интересуют. Вы меня понимаете. Но неужели вы не хотите упорядочить свою жизнь, чтобы получить то, что принадлежит вам по праву? Мне кажется, это такая огромная жертва, если, конечно, у вас нет настоящего глубокого чувства. Верно, Лестер? — спросила она лукаво.
Он ответил не сразу.
— Не знаю даже, что и сказать вам, Летти. Иногда мне кажется, что я люблю ее, иногда я в этом далеко не уверен. Я буду говорить с вами вполне откровенно. Никогда в жизни я еще не оказывался в таком затруднительном положении. Вы ко мне так хорошо относитесь, а я… не стану говорить, какого я мнения о вас. Но, во всяком случае, я не хочу иметь от вас тайн. Я не женат.
Он умолк.
— Я так и думала, — сказала она.
— И потому не женат, — продолжал он, — что слишком долго колебался. Когда я в первый раз увидел Дженни, я решил, что обольстительнее нет женщины на свете.
— Не много же я для вас значила в то время, — перебила его миссис Джералд.
— Если хотите, чтобы я говорил, не перебивайте меня, — улыбнулся Лестер.
— Скажите мне одно, и больше я ничего не буду спрашивать. Это было в Кливленде?
— Да.
— Мне так и говорили, — подтвердила она.
— В ней было что-то такое…
— Любовь с первого взгляда, — снова не утерпела Летти, у нее стало очень горько на душе. — Это бывает.
— Вы мне дадите говорить?
— Простите меня, Лестер. Что же делать, если мне взгрустнулось о прошлом.
— Ну, в общем, я потерял голову. Я видел в ней идеал, совершенство, хоть и знал, что она мне не пара. Мы живем в демократической стране. Я думал; сойдусь с ней, а потом… ну, вы знаете, как это бывает. Вот тут-то я и допустил ошибку. Я никогда не думал, что это окажется так серьезно. До этого мне не нравилась ни одна женщине кроме вас, да и то — буду откровенным до конца — я вовсе не был уверен, что хотел бы жениться на вас. Мне казалось, что женитьба вообще не для меня. И я сказал себе; лишь бы Дженни стала моей, а потом, когда надоест, можно и расстаться. Я позабочусь о том, чтобы она не нуждалась. Прочее мне будет безразлично. И ей тоже. Понимаете?
— Понимаю, — ответила она.
— Так вот, Летти, из этого ничего не вышло. Она женщина совсем особого склада. Ее душевный мир необычайно богат. Она не образованна в том смысле, как мы понимаем это, но обладает врожденной утонченностью и тактом. Она прекрасная хозяйка, безупречная мать. У нее какой-то неиссякаемый источник любви к людям. Отцу и матери она была предана всей душой. Ее любовь к дочери — это ее дочь, не моя — не знает границ. Светскости в ней нет ни на грош. Она никогда не блеснет метким словечком, неспособна поддержать легкий, остроумный разговор. И думает она, вероятно, медленно. Самые серьезные ее мысли даже не всегда выражаются в словах, но нетрудно понять, что она все время и думает и чувствует.
— Вы чудесно говорите о ней, Лестер, — сказала миссис Джералд.
— А как же иначе, Летти, — отвечал он. — Дженни хорошая женщина. Но что бы я ни говорил, порою мне кажется, что меня привязывает к ней только жалость.
— Сомневаюсь! — И она погрозила ему пальцем.
— Да, да, но мне много пришлось вытерпеть. Теперь-то я вижу, что должен был сразу жениться на ней. Но потом возникли такие осложнения и столько было споров и уговоров, что я как-то запутался. А тут еще отцовское завещание. Я, если женюсь, теряю восемьсот тысяч и даже гораздо больше, поскольку компания теперь реорганизована в трест. Да, пожалуй, два миллиона. Если я не женюсь, я через два года, даже меньше, лишаюсь всего решительно. Конечно, можно бы сделать вид, будто я с ней расстался, но лгать я не хочу, Это было бы слишком мучительно для ее самолюбия, она не заслуживает такой обиды. Положа руку на сердце, я сейчас даже не могу сказать, хочу я расстаться с ней или нет. Честное слово, просто не знаю, что мне делать.
Лестер умолк, закурил сигару и устремил невидящий взор в окно.
— Да, это очень, очень трудная задача, — сказала Летти, опустив глаза.
Потом она встала и, подойдя к Лестеру, положила руку на его крупную, красивую голову. Чуть надушенный желтый шелк ее платья касался его плеча.
— Бедный Лестер, — сказала она. — Ну и узел же вы затянули! Но это гордиев узел, мой милый, и придется его разрубить. Почему бы вам не поговорить с нею начистоту, вот как сейчас со мной, и не выяснить, что она сама думает?
— Это было бы очень жестоко, — сказал он.
— Но что-то нужно сделать, Лестер, уверяю вас, — настаивала Летти. — Нельзя больше плыть по течению. Вы себе страшно этим вредите. Жениться я вам не могу посоветовать — и право же, я забочусь не о себе, а впрочем, я с радостью вышла бы за вас, хотя вы когда-то и пренебрегли моей любовью. Не скрою; все равно, придете вы ко мне или нет, я вас люблю и всегда буду любить.
— Я это знаю, — сказал Лестер.
Он встал, взял ее руки в свои и заглянул ей в глаза. Потом отвернулся, Летти перевела дух, взволнованная его взглядом.
— Нет, Лестер, — продолжала она, — такой большой человек, как вы, не может успокоиться на десяти тысячах годового дохода. И нельзя вам сидеть сложа руки — вас слишком хорошо знают. Вы должны снова занять свое место и в деловом мире и в свете. Никто не станет чинить вам помехи, никто не заикнется о вашем прошлом; только получите свою долю отцовского состояния — и вы сами можете диктовать условия. А она, если узнает правду, наверное, не будет возражать. Если она вас любит, как вы говорите, она охотно пойдет на жертву. В этом я не сомневаюсь. Вы, разумеется, щедро обеспечите ее.
— Дженни не деньги нужны, — мрачно возразил Лестер.
— Ну, все равно, она может прожить и без вас; а если у нее окажется много денег, ей будет и легче жить и интереснее.
— Пока я жив, она ни в чем не будет нуждаться, — торжественно заявил он.
— Вы должны от нее уйти, должны, — твердила Летти все более настойчиво. — Каждый день дорог. Почему не решить и не сделать это теперь же — сегодня же. Почему?
— Не спешите, — возразил он. — Это — дело нелегкое. Сказать по правде, меня страшит объяснение с Дженни. Это так несправедливо по отношению к ней, так жестоко. Я ведь, как правило, не распространяюсь о своих личных делах. И до сих пор я ни с кем не хотел говорить, даже с родителями. Но в вас я почему-то всегда чувствовал близкого человека, а со времени нашей последней встречи мне все думалось, что нужно вам об этом рассказать. И хотелось. Вы мне очень дороги. Не знаю, может быть, это покажется вам странным при нынешних обстоятельствах, но это так. Я даже не подозревал, что вы мне настолько близки и как человек и как женщина. Не хмурьте брови. Вы ведь хотели слышать правду? Вот вам правда. А теперь, если можете, объясните мне, что я такое.
— Я не хочу с вами спорить, Лестер, — сказала она мягко, коснувшись его руки. — Я хочу только любить вас. Я прекрасно понимаю, как это все сложилось. Мне грустно за себя. И грустно за вас. И грустно… — она запнулась, — за миссис Кейн. Она — обаятельная женщина. Она мне нравится, очень нравится. Но не такая женщина вам нужна, Лестер. Поверьте мне, вам нужно другое. Нехорошо, конечно, что мы с вами говорим о ней такие вещи, но ведь это правда. У каждого свои достоинства. И я убеждена, что если высказать ей все так же, как вы сейчас высказали мне, она поймет и согласится. Будь я на ее месте, Лестер, я бы отпустила вас, правда. Я думаю, вы мне поверите. Всякая порядочная женщина поступила бы так же. Мне было бы очень больно, но я отпустила бы вас. И ей будет больно, но она вас отпустит. Уверяю вас. Мне кажется, я понимаю ее не хуже вас, даже лучше, потому что я женщина. Ах, — добавила она, помолчав, — если бы я могла сама поговорить с ней! Я бы ей все объяснила.
Лестер глядел на Летти и дивился ее рвению. Она была хороша, притягательна, она так много обещала…
— Не спешите, — повторил он. — Дайте мне подумать. У меня еще есть время.
Летти приуныла, но не сдалась.
— Действовать нужно сейчас же, — повторила она, подняв на Лестера взгляд, в который вложила всю душу. Она добивалась этого человека и не стыдилась показать ему это.
— Так я подумаю, — сказал он смущенно и, поспешно распростившись с нею, ушел.
Глава LI
Лестер уже достаточно долго и серьезно обдумывал свое положение; он, пожалуй, и предпринял бы что-нибудь, и очень скоро, если бы жизнь в его доме не омрачило одно из тех печальных обстоятельств, которые так часто нарушают наши планы: здоровье Герхардта стало быстро сдавать.
Постепенно ему пришлось отказаться от всех своих обязанностей по дому, а потом он слег. Дженни заботливо ухаживала за ним. Веста навещала его по несколько раз на дню, заходил и Лестер. Кровать Герхардта стояла у окна, и он часами глядел на деревья сада и видневшуюся за ними улицу, думая о том, как-то идет хозяйство без его надзора. Он был уверен, что кучер Вудс небрежно чистит лошадей и сбрую, что почтальон неаккуратно доставляет газеты, а истопник изводит слишком много угля и все-таки в доме недостаточно тепло. Эти мелкие заботы составляли всю его жизнь. Он был прирожденным домоправителем. Сам он неуклонно выполнял добровольно взятые на себя обязанности и теперь серьезно опасался, что без него все пойдет вкривь и вкось. Дженни подарила ему роскошный стеганый халат, крытый синим шелком, и мягкие теплые ночные туфли, но он их почти не носил. Он предпочитал лежать в кровати, читать Библию и лютеранские газеты да выслушивать от Дженни домашние новости.
— Ты бы сходила в подвал, посмотрела, что делает этот молодчик. Вон какой холод в комнатах, — жаловался Герхардт. — Я-то знаю, чем он занимается — сидит и книжку читает, а о топке тогда только вспомнит, когда весь уголь прогорит. И пиво у него там под рукой. Ты бы заперла чулан. Почем ты знаешь, что он за человек. Может быть, негодяй какой-нибудь.
Дженни пробовала убедить отца, что в доме достаточно тепло, что истопник — очень славный и вполне порядочный американец, что, если он и выпьет стаканчик пива, вреда от этого не будет. Герхардт сейчас же начинал сердиться.
— Вот вы всегда так, — твердил он запальчиво. — Ничего не понимаете в экономии. Чуть я недосмотрю — все распускаются. «Славный!» Откуда ты знаешь, что он славный? Топит он как следует? Нет! Дорожки подметает? Нет! Все они хороши, за ними нужен глаз да глаз. Тебе надо самой за хозяйством присматривать.
— Хорошо, папа, я присмотрю, — ласково успокаивала его Дженни. — Ты не тревожься. А пиво я запру. Принести тебе чашечку кофе с сухариками?
— Нет, — вздыхал Герхардт, — у меня что-то желудок не в порядке. Хоть бы поскорей поправиться!
Дженни пригласила к отцу доктора Мэйкина, старого, опытного врача, считавшегося лучшим в этой части города. Он рекомендовал покой, горячее молоко, сердечные капли, но предупредил Дженни, что на полное выздоровление надеяться нельзя.
— Как-никак, годы берут свое. Он очень ослабел. Будь он на двадцать лет моложе, я поставил бы его на ноги, а так… Впрочем, дело его не совсем плохо. Он, возможно, еще поживет; может быть, даже встанет с постели; впрочем, за это не ручаюсь. Никто, знаете ли, не вечен. Я вот совсем не тревожусь, что мне осталось мало жить. Дожил до старости — и хорошо.
Мысль о близкой смерти отца печалила Дженни, но ее утешало, что свои последние дни он проводит в покое и довольстве, окруженный всяческими заботами.
Скоро всем стало ясно, что дни Герхардта сочтены, и Дженни решила известить братьев и сестер. Она написала о болезни отца Бассу, но он в ответном письме сообщил, что очень занят и едва ли приедет, если только нет непосредственной опасности. Еще он писал, что Джордж живет в Рочестере, работает на обойной фабрике — кажется, компании Шефф-Джефферсон, Марта с мужем уехали в Бостон, живут в Белмонте, это пригород, но недалеко от центра. Уильям в Омахе, работает техником в электрической компании. Вероника замужем, ее муж, Альберт Шериден, служит в Кливленде, на складе аптекарских товаров. «Она у меня совсем не бывает, — обиженно добавил Басс, — но я дам ей знать». Дженни написала всем по письму. От сестер пришли коротенькие ответы: им очень жаль, и пусть Дженни известит их, если что-нибудь случится. Джордж написал, что ему нечего и думать выбраться в Чикаго, разве что отцу станет совсем плохо, и просил держать его в курсе дел. Уильям, как Дженни узнала позднее, не получил ее письма.
Дженни тяжело переживала медленное умирание отца; в прошлом они были далеки друг от друга, но последние годы очень сблизили их. Герхардт понял наконец, что отвергнутая им дочь — сама доброта, особенно в своем отношении к нему. Она никогда не ссорилась с ним, ни в чем ему не перечила. Во время его болезни она по многу раз в день заходила к нему, спрашивала, не нужно ли ему чего, понравился ли ему обед или завтрак. Когда он ослабел еще больше, она стала подолгу просиживать у него в комнате с книгой или с шитьем. Однажды, когда она поправляла ему подушку, он взял ее руку и поцеловал. Она удивленно подняла голову, и сердце у нее заныло. Вид у Герхардта был беспомощный и жалкий, в глазах стояли слезы.
— Ты добрая девочка, Дженни, — сказал он прерывающимся голосом. — Ты хорошо со мной обошлась. Я часто сержусь и ворчу, но ведь я старик. Ты уж прости меня.
— Ну что ты, папа! — взмолилась она, чуть не плача. — Что мне прощать? Это мне нужно просить у тебя прощения.
— Нет, нет, — сказал он. Дженни опустилась на колени у его кровати и заплакала. Он погладил ее по голове высохшей желтой рукой. — Не плачь, — сказал он тихо, — я теперь многое понимаю. Век живи — век учись.
Она вышла из комнаты, сказав, что хочет умыться, и, оставшись одна, дала волю слезам. Неужели он наконец простил ее? А она столько ему лгала! Она старалась еще заботливее ухаживать за ним, но это едва ли было возможно. А Герхардт после этого примирения стал как будто и счастливее и спокойнее, и они провели вместе немало хороших часов. Однажды он сказал ей:
— Ты знаешь, я чувствую себя совсем мальчишкой. Если бы не ломило кости, так бы, кажется, и стал резвиться на траве.
Дженни улыбнулась и всхлипнула.
— Скоро тебе станет лучше, папа, — сказала она. — Ты поправишься. Тогда мы с тобой поедем кататься.
Она опять порадовалась, что благодаря ей Герхардт в свои последние годы не знал нужды и забот.
Лестер был внимателен и приветлив к старику. Каждый вечер он первым делом спрашивал: «Ну, как он сегодня?» — и еще до обеда непременно заглядывал на несколько минут в комнату больного.
— Вид у него ничего, — сообщал он Дженни. — Он, по-моему, еще поживет. Ты не тревожься.
Веста тоже проводила много времени с дедом, к которому нежно привязалась. Она вслух учила уроки в его комнате, если это ему не мешало, или, оставив его дверь открытой, играла ему на рояле. Лестер подарил ей красивую музыкальную шкатулку, и Веста иногда заводила ее у Герхардта в комнате. Случалось, что его тяготило все, кроме Дженни, ему хотелось остаться наедине с ней. Тогда она тихонько сидела подле него с рукоделием. Ей было ясно, что скоро наступит конец.
Верный себе, Герхардт обдумывал все, что нужно будет сделать после его смерти. Он пожелал, чтобы его похоронили на маленьком лютеранском кладбище здесь же, на Южной стороне, и чтобы заупокойную службу служил полюбившийся ему пастор из той церкви, в которую он всегда ходил.
— Пусть все будет просто, — сказал он. — Наденьте на меня черный костюм и мои воскресные штиблеты и галстук черный, шнурком. Больше мне ничего не надо. Так будет хорошо.
Дженни просила его не говорить о таких вещах, но ему это доставляло удовольствие. Однажды, часа в четыре дня, им овладела страшная слабость. Дженни держала руки отца, следя за его дыханием; раза два он открыл глаза и улыбнулся ей.
— Я не боюсь смерти, — сказал он. — Я сделал, что мог.
— Не нужно говорить о смерти, папа, — взмолилась Дженни.
— Все равно конец, — сказал он. — Ты была добра ко мне. Ты хорошая женщина.
Это были его последние слова. К пяти часам его не стало.
Спокойный и ясный конец этой тяжелой жизни глубоко потряс Дженни. В ее добром, отзывчивом сердце Герхардт жил не только как отец, но и как друг и советчик. Теперь он предстал перед ней в своем истинном виде — честный, трудолюбивый немец, все силы положивший на то, чтобы поднять семью и прожить безгрешную жизнь. Дженни была самым тяжким его бременем, но он так до конца и не узнал всей правды о ней. Она думала о том, где-то он теперь, знает ли, что она ему солгала. И простит ли он ее? Ведь он сказал, что она — хорошая женщина.
Всем детям послали телеграммы. Басс ответил, а на следующий день приехал и сам. Остальные телеграфировали, что не могут приехать, и просили сообщить все подробности. Дженни написала им письма. Лютеранский священник прочел над покойником молитвы и сговорился о дне похорон. Устройство их было поручено толстому, самодовольному агенту из похоронного бюро. Зашел кое-кто из соседей — как-никак, не все они порвали знакомство с этим домом. Похороны состоялись на третий день. Лестер вместе с Дженни, Вестой и Бассом отправились в краснокирпичную лютеранскую церковку и мужественно высидел до конца скучную, сухую службу. Он покорно прослушал длинную проповедь о блаженстве загробной жизни, досадно поеживаясь при упоминании о преисподней. Басс тоже скучал, но вел себя, как подобало случаю. Герхардт уже давно стал для него чужим человеком. Одна Дженни искренне оплакивала отца. Перед ней проходила вся его жизнь — долгие годы, полные забот и лишений, то время, когда он ходил по дворам пилить дрова и когда жил на чердаке над фабричным складом, убогий домишко на Тринадцатой улице, мучительные дни на Лорри-стрит в Кливленде, все горе, причиненное ему грехами дочери и смертью жены, его нежные заботы о Весте и, наконец, эти последние недели перед смертью.
«Он был очень хороший человек, — думала Дженни. — Он так старался, чтобы все было к лучшему». Когда запели гимн «Господь нам сила и оплот», она разрыдалась.
Лестер потянул ее за рукав. Он был глубоко взволнован ее горем.
— Нельзя же так, — шепнул он. — Подумай о других. Я не могу видеть твоих слез, кажется, сейчас встану и уйду.
Дженни утихла, но она чувствовала, как рвутся последние осязаемые нити, связывавшие ее с отцом и сердце ее обливалось кровью.
На лютеранском кладбище, где Лестер распорядился купить место, простой гроб опустили в могилу и засыпали землей. Лестер задумчиво поглядывал на голые деревья, на сухую, побуревшую траву, на разрытую лопатами бурую землю прерии. Кладбище было убогое, бедное — последний приют рабочего человека, но раз Герхардт хотел, чтобы его похоронили именно здесь, значит так и нужно. Лестер всматривался в худое смышленое лицо Басса и гадал, какие планы тот строит на будущее. Почему-то ему казалось, что у Басса успешно пошла бы табачная торговля. Он видел, как Дженни вытирает покрасневшие глаза, и снова говорил себе; «Да, это поразительно». Чувство ее было так непритворно и сильно. «Хорошая женщина — это необъяснимая загадка», — думал он.
Все вместе они возвращались домой по пыльным, ветреным улицам.
— Дженни слишком близко принимает все к сердцу, — сказал Лестер. — Уж очень она впечатлительна, вот жизнь и представляется ей мрачнее, чем она есть на самом деле. У всех у нас свои горести, у кого больше, у кого меньше, и нужно с ними как-то справляться. Неверно, будто одни люди намного счастливее других. Забот на всех хватает.
— Что же я поделаю, — сказала Дженни, — когда мне так жалко некоторых людей.
— Дженни всегда была чувствительная, — вставил свое слово Басс.
Он все время думал о том, какой Лестер замечательный человек, как богато они живут, какой знатной дамой стала его сестра. Видно, он в свое время не понял, что она собой представляет. Как странно получается в жизни — ведь еще совсем недавно он считал, что Дженни ни на что не годится и жизнь ее безнадежно загублена.
— Ты все же постарайся взять себя в руки, пойми, что нельзя каждое событие в жизни принимать как катастрофу, — сказал Лестер напоследок.
Басс был с ним вполне согласен.
Дженни молча глядела в окно кареты. Вот сейчас они вернутся в огромный тихий дом, а Герхардта там уже нет. Подумать только, что она больше никогда его не увидит. Карета свернула во двор. В гостиной Жаннет, притихшая и заплаканная, уже накрывала стол к чаю. Дженни занялась привычными домашними делами. Ее не оставляла мысль, что-то с ней будет после смерти.
Глава LII
Лестер отнесся к смерти Герхардта довольно равнодушно, он только сочувствовал Дженни. Сам он ценил в старике его бесспорные достоинства, но личной привязанности к нему не питал. Он увез Дженни на десять дней к морю, чтобы дать ей отдохнуть и оправиться, а вскоре после возвращения в Чикаго решил наконец посвятить ее в свои дела и вместе с ней обсудить положение. Задачу эту отчасти облегчало то обстоятельство, что о неудаче его земельных операций Дженни уже знала. Не были для нее тайной и его визиты к миссис Джералд. Лестер сам ей говорил, что поддерживает это знакомство. Один раз миссис Джералд пригласила его в гости вместе с Дженни, но сама к ним не приехала и, как хорошо понимала Дженни, не собиралась приезжать. Похоронив отца, Дженни все больше стала задумываться о своей дальнейшей судьбе; на брак с Лестером она уже не надеялась, и ничто в его поведении не давало ей повода для таких надежд.
Случилось так, что в это время Роберт тоже пришел к выводу о необходимости решительных действий. Он более не считал возможным повлиять на самого Лестера — с него достаточно было прежних попыток, — но почему бы не попробовать договориться с Дженни? По всей вероятности, она может внять голосу разума. Если Лестер до сих пор на ней не женился, она, конечно, понимает, что это не входит в его намерения. Нужно поручить какому-то надежному третьему лицу повидаться с ней, объяснить, как обстоит дело, и, разумеется, предложить ей солидное обеспечение. Может быть, она согласится уйти от Лестера и покончить с этой неприятной историей. Лестер, как-никак, ему брат, обидно будет, если он потеряет свое состояние. Роберт теперь мог позволить себе этот великодушный жест, — он успел основательно прибрать к рукам дела нового треста. В конце концов он решил, что самым подходящим посредником будет мистер О'Брайн из юридической конторы «Найт, Китли и О'Брайн». Он любезен, добродушен, обходителен, даром что юрист. Он сумеет деликатно разъяснить Дженни, как смотрят на нее родные Лестера и чего сам Лестер лишится, если не порвет с ней. Если Лестер женат, О'Брайн сумеет об этом разузнать. Дженни будет обеспечена, она получит пятьдесят, сто, пусть даже полтораста тысяч долларов. Роберт вызвал к себе мистера О'Брайна и дал ему соответствующие инструкции, предварительно разъяснив, что, поскольку он является душеприказчиком Арчибалда Кейна, в его обязанности входит позаботиться о том, чтобы Лестер принял надлежащее решение.
Мистер О'Брайн отбыл в Чикаго. Прямо с вокзала он позвонил Лестеру и к полному своему удовлетворению узнал, что тот на весь день уехал из города. Тогда он отправился в Хайд-Парк и вручил Жаннет свою визитную карточку. Через несколько минут к нему вышла Дженни, не подозревавшая, с каким важным поручением он к ней явился. Мистер О'Брайн поздоровался с ней изысканно любезным тоном.
— Я имею удовольствие говорить с миссис Кейн? — спросил он, склонив голову набок.
— Да, — ответила Дженни.
— Как вы могли убедиться, взглянув на мою визитную карточку, я мистер О'Брайн, фирма «Найт, Китли и О'Брайн». Мы являемся поверенными и душеприказчиками покойного мистера Кейна, отца вашего… мм… мистера Кейна. Мой визит может показаться вам странным, но дело в том, что в завещании отца мистера Кейна имеются некоторые оговорки, близко касающиеся его и вас. Эти пункты столь существенны, что мне представляется необходимым ознакомить вас с ними, если, конечно, мистер Кейн сам этого не сделал. Я… простите меня, но, принимая во внимание характер этих пунктов, я готов допустить, что он, возможно, о них умолчал.
Мистер О'Брайн сделал паузу, всем своим видом, каждой черточкой лица изобразив вопрос.
— Я не совсем поняла, — сказала Дженни. — Про завещание я ничего не знаю. Если там есть что-нибудь, что мне следует знать, мистер Кейн, вероятно, мне скажет. Пока он ничего не говорил.
— Ага, — удовлетворенно вздохнул мистер О'Брайн. — Значит, я не ошибся. Так позвольте, я вкратце изложу вам суть дела, после чего вы решите, желаете ли вы узнать все подробности. Может быть, вы присядете?
До сих пор они разговаривали стоя, Дженни села, и мистер О'Брайн придвинул себе стул и сел рядом.
— Итак, начнем, — сказал он. — Мне, разумеется, незачем распространяться о том, что отец мистера Кейна очень неблагожелательно смотрел на союз между вами и своим сыном.
— Я знаю… — начала было Дженни, но тут же замолчала.
— Незадолго до своей смерти, — продолжал юрист, — мистер Кейн-старший имел на эту тему беседу с вашим… мм… с мистером Лестером Кейном. В своем завещании он поставил некоторые условия относительно раздела своего имущества, несколько затрудняющие его сыну, вашему… мм… супругу, получение причитающейся ему доли. При обычных обстоятельствах он унаследовал бы четвертую часть капитала «Компании Кейн», составляющую в настоящее время около миллиона долларов, возможно, даже больше, а также четвертую часть остального имущества, которая оценивается примерно в пятьсот тысяч. Насколько я могу судить, мистер Кейн-старший очень хотел, чтобы его сын унаследовал это состояние. Но, согласно условию, поставленному его отцом, мистер Лестер Кейн может получить свою долю лишь в том случае, если он исполнит… гм… одно его предсмертное желание.
Мистер О'Брайн умолк, только глаза его тревожно бегали из стороны в сторону. Несмотря на всю свою предубежденность, он успел почувствовать обаяние Дженни. Он уже понимал, почему Лестер наперекор всем советам и уговорам не захотел с ней расстаться. Ожидая ее ответа, он незаметно наблюдал за ней.
— И какое же это было желание? — спросила она наконец, когда напряженное молчание стало ей невмоготу.
— Я вам чрезвычайно признателен за ваш вопрос, — сказал мистер О'Брайн. — Самому мне было бы очень трудно заговорить на эту тему, очень трудно. Я пришел к вам в качестве представителя фирмы, в качестве одного из душеприказчиков по завещанию отца мистера Кейна. Я знаю, как болезненно отнесетесь к этому вы. Но это один из тех весьма тягостных случаев, когда вопроса не обойти, когда его так или иначе нужно разрешить. И сколь мне не трудно, я должен вам сказать, что мистер Кейн-старший оговорил в своем завещании, что если… — глаза его опять забегали по сторонам, — если его сын не сочтет возможным расстаться с вами… — мистер О'Брайн перевел дух, — он не получит в наследство ничего, вернее, только очень незначительный годовой доход в десять тысяч, и то лишь при условии, что он на вас женится. — Снова пауза. — Добавлю еще, что согласно завещанию, ему было дано три года для принятия окончательного решения. Срок этот в ближайшее время истекает.
Он замолчал, готовый выдержать бурную сцену, но Дженни только обратила на него взгляд, затуманенный удивлением, растерянностью, горем. Она поняла: ради нее Лестер пожертвовал своим состоянием. Операция с недвижимостью была попыткой стать на ноги, восстановить свое независимое положение. Теперь ясно, почему он в последнее время часто бывал озабочен, расстроен, недоволен. Отец просто-напросто лишил его наследства. Он глубоко несчастен, он неотступно думает о предстоящей потере, а ей не говорит ни слова.
Мистер О'Брайн тоже был взволнован и смущен. Изменившееся лицо Дженни преисполнило его жалости. Однако он обязан был сказать ей всю правду.
— Я очень сожалею, — заговорил он снова, видя, что она не собирается отвечать, — очень сожалею, что мне выпало на долю сообщить вам эту неприятную новость. Уверяю вас, положение мое не из легких. Сам я не питаю к вам никаких дурных чувств, — это вы, конечно, понимаете. Семейство Кейн в настоящее время тоже не питает к вам дурных чувств, — надеюсь, вы этому поверите. Как я уже говорил мистеру Кейну в тот день, когда читалось завещание, я лично считал решение его отца несправедливым, но, будучи всего лишь исполнителем его воли, не мог, разумеется, ничему помешать. И я считаю, что вам следует знать всю правду, для того чтобы вы, если возможно, помогли вашему… вашему супругу… — он сделал многозначительную паузу, — прийти к тому или иному решению. Я, так же как и члены его семьи, глубоко сожалею о том, что он теряет все свое состояние.
Дженни, которая до сих пор сидела, отвернувшись и опустив голову, обратила на адвоката твердый, спокойный взгляд.
— Он не потеряет своего состояния, — сказала она. — Это было бы несправедливо.
— Мне очень отрадно слышать это от вас, миссис Кейн, — сказал он, впервые, наперекор фактам, смело обращаясь к ней как к жене Лестера. — Скажу вам по совести, я боялся, что вы примете эту новость совсем по-иному. Вам, конечно, известно, что семейство Кейн придает огромное значение браку. Миссис Кейн, мать вашего супруга, была женщина гордая, даже несколько надменная; его сестры и брат предъявляют вполне определенные требования к тем, кого они могут принять в свою семью. Ваши отношения они считают ненормальными и — простите мне невольную жестокость — недопустимыми. За последние годы это столько раз обсуждалось, что мистер Кейн-старший уже не надеялся уладить дело путем семейных переговоров. Он считал, что его сын с самого начала поступил неправильно. И потому он особо обусловил в своем завещании, что ваш супруг… простите, что его сын, если он не пожелает расстаться с вами и, следовательно, получить свою долю капитала, должен, чтобы получить хоть что-нибудь — те самые десять тысяч в год, о которых я уже упоминал… простите меня, если мои слова прозвучат грубо, право же, это не преднамеренно, — должен на вас жениться.
Дженни вся сжалась. Как жестоко было сказать ей это в лицо! Да, попытка прожить вместе, не узаконив брака, не могла кончиться добром. И теперь из этой печальной путаницы есть только один выход — им нужно расстаться. Чтобы Лестер жил на десять тысяч в год — да это просто нелепо!
Мистер О'Брайн с интересом поглядывал на Дженни. По его мнению, Лестер ошибся только в одном: почему он тогда же не женился на ней? Она очаровательная женщина.
— Мне остается сказать вам только одну вещь, миссис Кейн, — проговорил он ласково. — Я теперь понимаю, что для вас это не имеет значения, но я должен выполнить все, что мне поручено. Надеюсь, вы не истолкуете моего предложения превратно. Не знаю, посвящены ли вы в финансовые дела вашего мужа?
— Нет, — просто ответила Дженни.
— Ну, это все равно. Так вот, чтобы облегчить вам задачу в том случае, если вы решите помочь вашему мужу разрешить этот сложнейший вопрос, скажем откровенно; в том случае, если вы сочтете нужным по собственному почину уехать от него и жить отдельно, я счастлив заявить, что любая сумма… скажем… гм…
Дженни встала и, стиснув руки, как слепая, шагнула к окну. Мистер О'Брайн тоже поднялся.
— Это на ваше усмотрение. Но мне поручено вам сказать, что если вы решите расторгнуть ваш союз, вам будет охотно предоставлена любая разумная сумма, какую вы пожелаете назвать, — пятьдесят, семьдесят, семьдесят пять, сто тысяч долларов… — Мистер О'Брайн казался себе необыкновенно благородным и щедрым. — Она будет, так сказать, храниться для вас, чтобы вы в любую минуту могли ее востребовать. Вы не должны ни в чем нуждаться.
— Прошу вас, довольно, — сказала Дженни, чувствуя, что она не в силах больше слушать и что от страшной, почти физической боли вот-вот лишится дара речи. — Прошу вас, не продолжайте. Прошу вас, оставьте меня. Я могу от него уехать. Я это сделаю. Все будет хорошо. Но прошу вас, не говорите мне больше ни слова.
— Я вполне понимаю ваши чувства, миссис Кейн, — произнес О'Брайн, осознав наконец, какие страдания он ей причинил. — Поверьте, я сочувствую вам всей душой. Я сказал все, что имел вам сказать. Это было трудно, очень трудно. Прискорбная необходимость. У вас есть моя карточка. Вы можете вызвать меня в любое время или написать мне. Больше я не буду отнимать у вас время. Прошу прощения. Надеюсь, вы не сочтете нужным рассказывать о моем визите вашему мужу — было бы лучше, если бы вы решили этот вопрос самостоятельно. Я весьма дорожу его расположением. Мне очень жаль, прошу прощения.
Дженни стояла молча, опустив голову.
Мистер О'Брайн направился в переднюю. Дженни нажала кнопку звонка, и Жаннет вышла проводить гостя. Он бодро зашагал прочь по дорожке сада, а Дженни, оставшись одна, вернулась в библиотеку. Она сидела, подперев руками подбородок, и в причудливых узорах шелкового турецкого ковра ей рисовались странные картины. Вот она сама в каком-то маленьком коттедже, одна с Вестой; вот Лестер, далеко, словно в другом мире, и рядом с ним — миссис Джералд. Вот опустел их большой, прекрасный дом, а дальше — потянулись долгие годы, а дальше…
Она тяжело вздохнула, сдерживая рыдания, и жгучие слезы выступили у нее на глазах. Потом она встала.
«Так надо, — подумала она. — Давно надо было с этим покончить. — И тут же вспомнила; — Какое счастье, что папа умер, что он не дожил до этого дня!»
Глава LIII
Объяснение, без которого Лестер не считал больше возможным обойтись, независимо от того, приведет ли оно к разрыву или к узаконению их связи, произошло очень скоро после посещения мистера О'Брайна.
В самый день этого посещения Лестер уезжал в Хегевиш, небольшой промышленный город в Висконсине, куда его пригласили на испытания нового мотора для лифтов, — он подумывал о том, чтобы стать пайщиком компании, производившей такие моторы. Когда он на следующий день вернулся домой, по привычке готовясь, даже сейчас, несмотря на свое намерение расстаться с Дженни, рассказать ей о своей поездке, его поразило царившее в доме уныние: Дженни, хоть и пришла к разумному твердому решению, не в силах была скрывать свои чувства. Она печально обдумывала будущее, все время помня, что уехать необходимо, но опасаясь, что у нее не хватит мужества для разговора с Лестером. А уехать, не поговорив с ним, нельзя — он должен согласиться на разрыв. По глубокому убеждению самой Дженни, это был единственно правильный выход. Мысль, что ради нее Лестер мог пойти на такую огромную жертву, просто не укладывалась у нее в голове. Ее поражало, как он мог молчать до сих пор, когда все его будущее уже так давно висело на волоске.
Услышав, что он вошел в дом, Дженни попыталась встретить его своей обычной улыбкой, но получилось лишь слабое подобие.
— Все в порядке? — спросила она, как спрашивала изо дня в день.
— Разумеется, — ответил он. — А у тебя как дела?
— Да как всегда.
Они вместе прошли в библиотеку, и Лестер, подойдя к камину, помешал кочергой угли. Был холодный январский день, в пять часов уже стемнело. Дженни спустила штору на окне. Когда она вернулась к Лестеру, он вопросительно взглянул на нее.
— Что-то ты сегодня не такая, как всегда, — сказал он, сразу почувствовав в ней перемену.
— Да нет, я ничего — ответила она, но губы ее дрогнули, и это не ускользнуло от его взгляда.
— По-моему, ты что-то скрываешь, — сказал он, не сводя с нее глаз. — Что с тобой? Что-нибудь случилось?
Она отвернулась, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. Потом опять подняла на него глаза.
— Да, случилось, — выговорила она. — Мне нужно с тобой поговорить.
— Я вижу.
Он улыбнулся, хотя чувствовал, что за ее словами кроется что-то очень серьезное.
Она еще немного помолчала, кусая губы, не зная, с чего начать, и наконец заговорила:
— Здесь вчера был один человек — мистер О'Брайн, из Цинциннати. Ты его знаешь?
— Да, знаю. Что ему было нужно?
— Он приезжал поговорить со мною о тебе и о завещании твоего отца.
Она умолкла, заметив, как потемнело его лицо.
— Какого черта ему понадобилось говорить с тобой о завещании моего отца! — воскликнул он. — Что он тебе наболтал?
— Пожалуйста, не сердись, Лестер, — спокойно сказала Дженни, понимая, что ничего не добьется, если не сумеет сохранить полное самообладание. — Мистер О'Брайн рассказал мне, какую жертву ты приносишь, и предупредил, что осталось очень мало времени и ты можешь потерять свою часть наследства. Не думаешь ли ты, что тебе пора действовать? Пора со мной расстаться?
— Проклятие! — злобно выругался Лестер. — Как он смеет соваться в мои дела! Неужели нельзя оставить меня в покое? — Он возмущенно передернул плечами. — Будь они прокляты! — взорвался он снова. — Это все Роберт орудует. К чему бы «Найт, Китли и О'Брайн» стали вмешиваться в мои дела? Ох, и устрою же я им скандал!
Он был в бешенстве, лицо побагровело, глаза метали молнии.
Дженни, напуганная его гневом, не могла выговорить ни слова.
Немного успокоившись, Лестер спросил:
— Ну, так что же он тебе сказал?
— Сказал, что если ты на мне женишься, у тебя будет всего десять тысяч годового дохода. А если не женишься, но будешь по-прежнему со мной, тогда у тебя ничего не будет. Если ты от меня уйдешь или я от тебя, ты получишь полтора миллиона. Не думаешь ли ты, что нам нужно теперь же расстаться?
Она не собиралась задать ему этот — самый главный — вопрос так скоро — слова вырвались у нее против воли. И в то же мгновение она поняла, что, если Лестер ее действительно любит, он ответит ей решительным «нет». Если ему все равно, он будет колебаться, тянуть, он постарается отсрочить развязку.
— Не знаю, почему, — возразил он раздраженно. — Не вижу необходимости ни для вмешательства, ни для поспешных действий. Меня бесит, что они являются сюда и суют нос в чужие дела!
Дженни была глубоко уязвлена его равнодушием, этой вспышкой злобы вместо слов любви. Для нее важно было одно — предстоящая разлука. А он снова и снова возвращался к визиту О'Брайна. Кто-то посмел вмешаться в его дела, когда он еще не принял решения, — вот о чем он не мог забыть. А Дженни, вопреки всему, надеялась, что, прожив с нею столько лет, когда и радость и горе — все было пополам, Лестер любит ее глубоко, и это чувство не позволит ему порвать с ней, даже если видимость разрыва и окажется необходимой. Пусть он не женился на ней — для этого было так много серьезных причин. Но сейчас, когда все кончилось, он мог бы сказать ей о своей любви, хотя бы перед тем, как отпустить ее. Ей показалось, что, прожив с ним столько лет, она совсем не знает его, а вместе с тем она его понимала. По-своему он ее любит. Он не способен на излияния, не умеет говорить о чувствах. Когда-то он сумел покорить ее и сделать своей, но его любви не хватает на то, чтобы удержать ее теперь, когда возникли препятствия. Вот сейчас он решает ее судьбу. Ей мучительно больно, сердце обливается кровью, но на этот раз решение ее твердо. Хочет того Лестер или нет — она не допустит, чтобы он пошел на такую жертву. Она должна от него уйти, если он сам не уйдет от нее. Не для чего ей оставаться. Ответ может быть только один. Но неужели он не найдет для нее ласкового слова?
— Не думаешь ли ты, что пора действовать? — продолжала Дженни, все еще надеясь, что он вспомнит о ней. — Ведь осталось совсем мало времени!
Она машинально передвинула взад-вперед лежавшую на столе книгу, с одной мыслью — лишь бы сохранить внешнее спокойствие. Что ей еще сказать, что сделать? Гневные вспышки Лестера всегда страшили ее. Но ведь сейчас ему не так трудно уйти — у него есть миссис Джералд. Только бы он захотел, а он должен захотеть. Ведь состояние для него куда важнее, чем Дженни.
— Это не твоя забота, — упрямо сказал Лестер, все еще снедаемый злобой на брата, сестер, О'Брайна. — Времени хватит. Я пока ничего не решил. Нет, какая наглость! А впрочем, я не желаю больше говорить об этом. Обед готов?
Помня лишь о своем оскорбленном самолюбии, Лестер даже не давал себе труда говорить вежливо. Он совсем забыл о Дженни, о ее чувствах. Он ненавидел Роберта и с радостью свернул бы шею Найту, Китли и О'Брайну — порознь или всем вместе.
Тема, разумеется, не была исчерпана, она снова возникла уже за обедом. Дженни немного успокоилась и собралась с мыслями. Она не могла говорить свободно в присутствии Весты и Жаннет, но все же сделала новую попытку.
— Я бы могла снять небольшой коттедж, — сказала они тихо, в надежде, что он успел остыть. — Здесь я не хочу оставаться. Что мне делать одной в таком большущем доме…
— Пожалуйста, прекрати этот разговор, — резко перебил ее Лестер. — Я не в настроении его поддерживать. Я вовсе еще не решил, что так будет. Я еще ничего не решил.
Он упорствовал, затаив обиду на О'Брайна, и Дженни наконец отступилась. Веста, привыкшая видеть отчима приветливым и учтивым, с удивлением смотрела на его мрачно сдвинутые брови.
У Дженни уже создалось впечатление, что при желании она могла бы удержать его — очень уж он колебался. Но она этого не желала. Это было бы нехорошо по отношению к Лестеру. Да и по отношению к себе самой это было бы нехорошо, жестоко, непорядочно.
И на следующий день она продолжала его уговаривать.
— Так нужно, Лестер, уверяю тебя. Я не буду больше к тебе приставать, но так нужно. Ничего другого я тебе не позволю сделать.
Этот спор возобновлялся теперь каждый день — то в спальне, то в библиотеке, то за завтраком, хотя не всегда он выражался в словах. Дженни не скрывала своей тревоги, Она была убеждена, что Лестера нужно заставить действовать. Когда он стал к ней внимательней и ласковей, это убеждение укрепилось еще больше. Она не знала, что нужно делать, но тоскливо поглядывала на него, стараясь помочь ему принять решение. Она уверяла себя, что будет счастлива — будет счастлива мыслью о его счастье, когда они наконец расстанутся. Он хороший человек, ему дано все, кроме, может быть, дара любви. Он не любит ее по-настоящему, вероятно, не может после всего, что было, хоть она и любит его глубоко. А на него повлияло ожесточенное сопротивление его семьи. Это она тоже поняла. Теперь ей было ясно, что, несмотря на свой светлый ум, он не может вырваться из заколдованного круга. Он слишком порядочный человек, чтобы грубо разрубить узел и бросить ее, слишком деликатный, чтобы откровенно заботиться о своих интересах да и о ее будущем, но это его долг.
— Решай, Лестер, — твердила она снова и снова. — Отпусти меня. Почему ты сомневаешься? Мне будет хорошо. Может быть, после, когда все устроится, ты захочешь ко мне вернуться. Ну и вернешься, я буду тебя ждать.
— Я еще не пришел ни к какому решению, — был его неизменный ответ. — Я вовсе не уверен, что хочу с тобой расстаться. Мое наследство, конечно, интересует меня, но деньги — это еще не все. Если нужно, я могу прожить на десять тысяч в год. Мне это не впервой.
— Да, но сейчас у тебя такое видное положение в обществе, — возражала она. — Сейчас об этом и думать нечего. Ты вспомни, во сколько тебе обходится один этот дом. А тут полтора миллиона долларов — да я просто не допущу, чтобы ты их лишился. Я лучше сама от тебя уеду.
— А куда бы ты делась, если бы до этого дошло? — спросил он с любопытством.
— О, я нашла бы какое-нибудь местечко. Помнишь Сэндвуд, такой маленький городок, не доезжая Кеноши? Я часто думала, что там было бы очень приятно жить.
— Мне тяжело думать об этом, — не выдержал он наконец. — Это так несправедливо. Все, все было против нас. Наверно, я должен был сразу на тебе жениться. Напрасно я этого не сделал.
Дженни чуть не разрыдалась, но промолчала.
— Все равно, я постараюсь, чтобы это не был конец, — сказал он напоследок.
Он думал, что, может быть, все и обойдется. Нужно получить деньги, а потом… Однако всякие сделки с совестью и уловки были ему глубоко противны.
Они наконец договорились, что в последних числах февраля Дженни съездит в Сэндвуд и попробует что-нибудь там себе присмотреть. Лестер сказал ей, чтобы она не стеснялась расходами, — у нее будет все, что ей нужно. И сам он будет приезжать к ней в гости. Про себя он решил, что кое-кто жестоко поплатится за доставленные ему тяжелые минуты. Он вызовет к себе мистера О'Брайна и крупно поговорит с ним. Нужно же отвести душу — пусть узнает, что о нем думают!
И все это время в глубине его сознания жила миссис Джералд — обольстительная, утонченная, совершенная во всех отношениях. Он старался не думать о ней, но не мог отогнать от себя ее образ. И все чаще у него мелькала мысль: «Почему бы и нет?» К началу февраля решение его было принято.
Глава LIV
Городок Сэндвуд, «не доезжая Кеноши», как выразилась Дженни, был совсем близко от Чикаго, всего час с четвертью езды дачным поездом. Состоял он из каких-нибудь трехсот домиков, разбросанных в живописной местности на берегу озера. Жители его были не богаты. Дома стоили не дороже пяти тысяч долларов, но построены были по большей части со вкусом, а окружающие их вечнозеленые деревья придавали всему городку по-летнему веселый вид. Когда-то Дженни с Лестером проезжали здесь в коляске, запряженной парою быстрых лошадей, и она залюбовалась белой колоколенкой в зелени деревьев и лодками, тихо покачивающимися на спокойной воде озера.
— Хорошо бы пожить в таком месте, — сказала тогда Дженни, а Лестер ответил, что, на его взгляд, место скучное.
— Когда-нибудь меня, может, и потянет сюда, но только не сейчас. Очень уж здесь тихо.
Дженни не раз вспоминала его слова. Они приходили ей на ум, когда жизнь казалась особенно тяжелой и трудной. Если она останется одна и у нее будут средства, как было бы славно оказаться в таком городке! Садик, куры, высокий шест со скворечником, и кругом — цветы, трава, деревья. Жить в маленьком коттедже с видом на озеро, летними вечерами сидеть на веранде с шитьем… Веста будет возвращаться из школы; может быть, появятся новые знакомые. Она полюбила читать, по многу раз перечитывала «Книгу очерков» Вашингтона Ирвинга, «Элию» Лэма, «Дважды рассказанные истории» Хоторна. Дженни уже начинало казаться, что ей будет неплохо одной, хотя будущее Весты не переставало ее беспокоить. Веста радовала ее своими успехами в музыке. Девочка была необычайно музыкальна. У нее было врожденное чувство ритма, она особенно любила песни и пьесы, проникнутые печальным, взволнованным настроением, и сама неплохо играла и пела. Голос ее еще не установился — ей было всего четырнадцать лет, — но слушать ее было приятно. В ней причудливо сочетались черты матери и отца: от Дженни она унаследовала мягкую задумчивость, от Брэндера — энергию и живость ума. Она вполне разумно беседовала с матерью о природе, о книгах, о платьях, о любви, и Дженни, следя за развитием ее интересов, прозревала новые миры, которые открывались перед ее дочкой. У девочки прибавлялись новые предметы, и Дженни вместе с ней постигала жизнь современной школы, ее разнообразную программу, в которой находилось место и для музыки и для естественной истории. Веста обещала стать многосторонней и дельной женщиной, не чересчур бойкой, но вполне самостоятельной. Мать утешалась мыслью, что она сумеет за себя постоять, и возлагала большие надежды на ее будущее.
Коттедж в Сэндвуде, на котором остановила свой выбор Дженни, был одноэтажный, с мезонином и верандой на красных кирпичных столбах, соединенных зеленой деревянной решеткой. Все пять комнат выходили окнами на озеро. В столовой были стеклянные двери, полки большой библиотеки могли вместить множество книг, угловая гостиная с тремя окнами весь день была залита солнцем. На участке возле дома росло несколько красивых деревьев. Прежний арендатор разбил в саду клумбу и приготовил зеленые кадки для кустов и декоративных растений. Домик был белый, с зелеными ставнями и зеленой гонтовой крышей.
Лестер предложил было Дженни оставить за собой дом в Хайд-Парке, но этого она не захотела. Одна мысль о том, чтобы жить здесь без Лестера, была ей невыносима — столько воспоминаний населяло этот дом. Сначала она даже не хотела ничего с собой увозить, но потом все же последовала совету Лестера — отобрать нужную для ее нового жилища мебель, занавески и столовое серебро.
— Мало ли что тебе может понадобиться, — сказал он. — Бери все. Мне ничего не нужно.
Коттедж был снят на два года с правом продления арендного срока или последующей покупки. Решившись, наконец, отпустить Дженни, Лестер проявлял большую щедрость — он не допускал мысли, что ей придется в чем-нибудь нуждаться. Он был озабочен тем, как объяснить перемену в их жизни Весте. Он любил девочку и хотел оградить ее от тяжелых переживаний.
— Может быть, устроим ее до весны в какую-нибудь закрытую школу? — предложил он однажды.
Но учебный год был в разгаре, и от этой мысли пришлось отказаться. Тогда они решили сказать Весте, что Лестеру нужно надолго уехать из Чикаго по делам, а вдвоем с матерью им будет лучше в маленьком городке. Когда-нибудь Дженни объяснит дочери, что ушла от Лестера, и придумает причину. У Дженни было горько на душе. Она понимала, что решение Лестера разумно, но какая за ним крылась бессердечность! Да, если он и любит ее, то очень мало.
В отношениях между мужчиной и женщиной, которые мы наблюдаем с таким горячим интересом, надеясь найти в них какую-то разгадку тайны бытия, самыми трудными и тягостными бывают минуты, когда взаимная привязанность приносится в жертву внешним обстоятельствам, столь далеким от красоты и силы самого чувства. И Лестер и Дженни жестоко страдали в последние дни перед разлукой, когда рушилась их совместная жизнь в этом доме, где все было устроено с такой любовью, где они провели столько счастливых часов. У Дженни сердце разрывалось на части, ведь она была из тех постоянных натур, которые не ищут никаких перемен, лишь бы чувствовать, что тебя любят и что ты нужна. Вся ее жизнь, как из невидимых нитей, состояла из привязанностей и воспоминаний, соединяющих разрозненные впечатления в гармоничное и прочное целое. И одной из таких нитей был этот дом в Хайд-Парке, ее дом, украшенный ее любовью и бережным вниманием ко всем его обитателям, к каждой безделушке. Теперь всему этому настал конец.
Если бы когда-нибудь раньше Дженни владела подобными сокровищами, ей теперь было бы не так тяжело, хотя в своих чувствах она отнюдь не руководствовалась материальными соображениями. В ее любви к жизни и к людям не было и тени корысти. И вот она бродила по комнатам, отбирая здесь ковер, там картину или столик с диваном и креслами и непрерывно мучаясь тем, что ей приходится этим заниматься. Подумать только — пройдет еще немного времени, и Лестер не будет больше возвращаться домой по вечерам! Утром ей не нужно будет вставать первой, чтобы проверить, готов ли кофе для ее повелителя и хорошо ли накрыт стол в столовой. Каждый день она ставила на стол букет из самых пышных цветов, какие только были в зимнем саду, всегда помня, что делает это для него. Теперь и букеты будут не нужны — он их не увидит. Когда привыкнешь ждать по вечерам знакомого шороха колес по гравию, раздающегося все ближе и ближе, когда прислушиваешься и в час и в два часа ночи и легко и радостно просыпаешься от звука шагов на лестнице, — тогда разлука, пресекающая все одним ударом, невыразимо мучительна. И Дженни неотступно думала о том, что каждый день, каждый час приближает ее к этой разлуке.
Лестер тоже страдал, но по-иному. Его терзала не отвергнутая, растоптанная любовь, а тягостное сознание вины, которое испытывает человек, зная, что ради низменного расчета он поступился добротой, преданностью, чувством. Теперь перед ним открывались широчайшие перспективы, Не связанный больше с Дженни, щедро обеспечив ее, он волен пойти своим путем, отдаться многообразным обязанностям, какие налагает большое богатство. Но он все время думал о том, как много сделала для него Дженни, как она всегда старалась, чтобы жизнь его была удобной, приятной, красивой. Он знал наперечет все ее достоинства и отдавал им должное. Теперь он был вынужден признать за ней еще одно неоценимое качество — она умела страдать не жалуясь. Эти последние дни она держалась по отношению к нему как всегда — не лучше, не хуже. Она не закатывала истерик, как поступала бы на ее месте другая женщина; не старалась казаться более стойкой, чем была на самом деле, или делать веселое лицо с одной мыслью — чтобы он все же догадался о ее страданиях. Она оставалась спокойной, мягкой, внимательной, по-прежнему интересовалась его планами и делами, но не раздражала лишними вопросами. Лестер был поражен ее благородством, он восхищался ею. Что бы ни говорили люди, она — замечательная женщина. Жалко и стыдно, что жизнь ее сложилась так несчастливо. И в то же время Лестер слышал зов другого, широкого мира. Этот мир не всегда был гостеприимен, Лестер помнил его звериный оскал. Так смеет ли он ослушаться этого зова?
И вот они уже оповестили кое-кого из соседей, что уезжают за границу, и Лестер уже снял себе номер в отеле «Аудиториум», и сдана на хранение вся лишняя обстановка, и настала пора распрощаться с Хайд-Парком. Дженни в сопровождении Лестера несколько раз побывала в Сэндвуде. Он подробно осмотрел городок и остался при своем первом впечатлении, что там красиво, но скучновато. Однако приближалась весна, а Дженни так любила цветы. Она собиралась нанять садовника.
— Прекрасно, — сказал Лестер. — Все что хочешь, лишь бы тебе здесь было хорошо.
Тем временем он энергично занимался и своими делами. Через своего поверенного мистера Уотсона он дал знать конторе «Найт, Китли и О'Брайн», чтобы к такому-то числу ему была передана его доля отцовских акций. Он решил, что, раз обстоятельства вынудили его пойти на это, он предпримет и ряд других, не менее бессердечных шагов. По всей вероятности, он женится на миссис Джералд. Он войдет в правление «Каретного треста» — теперь, когда у него в руках такой пакет акций, они не смогут этому помешать. Если в его распоряжении будут деньги миссис Джералд, он заберет в свои руки «Тракторную компанию» в Цинциннати, с которой связывает большие надежды его братец, а также «Западную Сталеплавильную», при которой Роберт состоит главным консультантом. Да, это будет не то положение, какое он занимал в последние годы!
Дженни не находила себе места от одиночества и тоски. Этот дом так много для нее значил. Когда они сюда переехали и соседи стали приходить в гости, она вообразила, что для нее начинается новая жизнь, что со временем Лестер на ней женится. А потом посыпались удар за ударом, и нет больше ее мечты, и нет больше дома. Умер отец, отпущена Жаннет и другие слуги, мебель свезена на склад, и Лестер — Лестер ушел из ее жизни.
Дженни ясно понимала, что он не вернется. Раз он мог уйти от нее сейчас — пусть с колебаниями, с болью, — чего же ждать от того времени, когда он будет свободен и вдали от нее? Увлеченный своими важными делами, он просто забудет о ней. И правильно сделает. Она не годится ему в жены. Сколько раз она в этом убеждалась. Любви в этом мире недостаточно. Это всякому ясно. Нужно еще воспитание, богатство, умение добиваться своего и интриговать. А заниматься этим она не хочет. Да и не сумела бы.
Наконец большой дом был заперт, и прежняя жизнь осталась позади. Лестер проводил Дженни в Сэндвуд и немного побыл с ней в коттедже, стараясь внушить ей, что домик отличный и она легко привыкнет к новой обстановке. Он обещал скоро навестить ее, а потом он собрался уезжать, и перед неизбежностью разлуки его слова сразу потеряли всякое значение. Дженни поцеловала его на прощанье, пожелала ему счастья, успехов, душевного покоя — и ушла к себе в спальню. Увидев в окно, как он удаляется от дома по кирпичной дорожке, плотный и элегантный, в новом костюме, с перекинутым через руку пальто, — воплощение самоуверенности и благополучия, — она почувствовала, что сейчас умрет. Однако когда через некоторое время к ней заглянула Веста, глаза ее были сухи. Осталась только тупая, ноющая боль. Так начиналась ее новая жизнь — жизнь без Лестера, без отца, с одной только Вестой.
«Удивительная у меня все-таки судьба!» — думала она, спускаясь в кухню. Она решила, что часть домашней работы будет выполнять сама. Ей нужно отвлечься. Нельзя все время думать. Если бы не Веста, она поступила бы куда-нибудь на работу. Только не уходить в себя, не то можно лишиться рассудка.
Глава LV
В последующие год или два деловые и светские круги Чикаго, Цинциннати, Кливленда и других городов были свидетелями своеобразного возрождения Лестера Кейна. За время связи с Дженни он отдалился от многих людей и начинаний и, казалось, потерял к ним всякий интерес; теперь же, расставшись с нею, он вновь появился на сцене во всеоружии своих огромных средств, стал вникать в любое дело как человек, уверенный в своей силе, и быстро был признан авторитетом в области коммерции и финансов. Правда, он постарел. В некоторых отношениях это был уже не прежний Лестер. До встречи с Дженни его отличала самоуверенность, свойственная всякому, кто не знал поражений. Когда ты воспитан в роскоши, когда ты видишь общество только с его приятной стороны, такой убедительно-обманчивой, когда имеешь дело с крупными предприятиями не потому, что ты их создал, а потому, что ты сам являешься частью их и они при тебе от рождения, как воздух, которым ты дышишь, — тогда, естественно, создается иллюзия нерушимости бытия, способная затуманить самый светлый ум. Трудно иметь представление о том, чего мы не видели, почувствовать то, чего самим не пришлось пережить. Подобно вселенной, которая кажется нам вечной и незыблемой только потому, что мы ничего не знаем о создавших ее силах, мир Лестера казался ему и незыблемым и вечным. Лишь когда сгустились грозовые тучи и налетел ураган, когда на него пошли войной все силы общественных условностей — лишь тогда он понял, что, возможно, переоценил себя, что его личные желания и взгляды — ничто перед мнением общества, что он не прав. Ему представлялось, что дух времени — Zeitgeist, как называют его немцы, — стоит на страже некой системы, что наше общество организовано по какому-то загадочному, недоступному для человеческого понимания образцу. Он не мог вступить в единоборство с этим обществом. Не мог отмахнуться от его велений. Его современники считали такое общественное устройство необходимым, и Лестер убедился, что, нарушив его законы, легко оказаться за бортом. Все отвернулись от него — отец, мать, сестры, знакомые, друзья. Боже милостивый! Какую бурю вызвал его поступок! Сама судьба словно решила его покарать. Его операция с недвижимостью окончилась неслыханным провалом. Почему? Неужели боги стоят на страже законов общества, которыми он хотел пренебречь? Очевидно. Так или иначе его вынудили сдать позиции, и вот он снова в своем прежнем мире, полный энергии и решимости, несколько помятый после всего пережитого, но все же достаточно крупная и влиятельная фигура.
Эта сдача после долгой борьбы не прошла для него безнаказанно — он сильно ожесточился, Он чувствовал, что его толкнули на первый в его жизни некрасивый и жестокий поступок. Дженни заслуживала лучшей доли. Позорно было бросить ее, получив от нее так много. Что и говорить, она превзошла его в благородстве. А главное — нельзя оправдать себя безвыходностью положения. Он мог бы прожить на десять тысяч в год; мог бы обойтись без полутора миллионов, которыми теперь владеет. Мог бы обойтись и без светского общества, которое, оказывается, не потеряло для него своей притягательной силы. Мог бы, но не захотел и еще усугубил свою вину мыслью о другой женщине.
Чем она лучше Дженни? Вот вопрос, постоянно встававший перед Лестером. Добрая ли она? Разве не делала она самых откровенных попыток отнять его у женщины, которую обязана была считать его женой? И разве это похвально? Разве женщина с большим сердцем поступила бы так? В конце концов достаточно ли она хороша для него? Может, ему не следует на ней жениться? Может, ему вообще не следует жениться, поскольку он если не юридически, то морально еще связан с Дженни? Какой из него выйдет муж? Эти мысли не давали ему покоя, и он не мог отделаться от сознания, что идет на бессердечный и неблаговидный поступок.
Он сделал ложный шаг, следуя материальным соображениям, а теперь готов поступиться соображениями нравственными. Второй ошибкой он пытается исправить первую. Но даст ли это ему удовлетворение, окупится ли с материальной и моральной точки зрения, принесет ли ему душевный покой? Он упорно думал об этом, пока перестраивал свою жизнь применительно к прежним, вернее, к новым условиям, но покоя не было. Скорее ему становилось хуже, им овладело мрачное, мстительное чувство. Порою он думал, что если женится на Летти, так только для того, чтобы при помощи ее денег жестоко расправиться со своими врагами, и тут же начинал презирать себя за такие мысли. Он жил в отеле «Аудиториум», ездил в Цинциннати на заседания правления, где держал себя надменно и вызывающе; мучился от внутреннего разлада и собственного равнодушия ко всему на свете. Но с Дженни он по-прежнему не встречался.
Само собой разумеется, миссис Джералд с живым интересом приняла известие о новом повороте в жизни Лестера. Немного выждав для приличия, она написала ему на его адрес в Хайд-Парк, словно не зная, что он переехал. «Где вы скрываетесь?» — спрашивала она. Лестер в это время только-только стал привыкать к происшедшей с ним перемене. Он говорил себе, что нуждается в понимании и сочувствии — разумеется, женском. В гости его стали приглашать, как только выяснилось, что он живет один и его финансовое положение восстановлено. Он уже побывал в нескольких загородных домах в сопровождении одного только слуги-японца — лучший признак того, что он снова стал холостяком. О его прошлом никто не упоминал ни словом.
Получив письмо миссис Джералд, Лестер решил, что нужно навестить ее. Он перед ней виноват — последние месяцы до отъезда Дженни он даже не заглядывал к ней. Но и сейчас он не стал спешить. Через некоторое время она по телефону пригласила его на обед, и тогда он, наконец, поехал.
Миссис Джералд была великолепна в роли гостеприимной хозяйки. Среди ее гостей были пианист Альбони, скульптор Адам Раскевич, английский ученый сэр Нельсон Киз, а также, к удивлению Лестера, мистер и миссис Берри Додж, с которыми он не встречался, кроме как мимоходом, уже несколько лет. Лестер и хозяйка дома весело обменялись приветствиями, как люди прекрасно понимающие друг друга и радующиеся случаю провести время вместе.
— И не совестно вам, сэр? — сказала она, чуть Лестер появился в дверях. — Разве можно забывать старых друзей? Вы будете за это наказаны.
— Я был страшно занят, — ответил он. — А какое меня ждет наказание? Надеюсь, девяносто плетей хватит?
— Девяносто плетей — как бы не так — возразила она. — Вы хотите легко отделаться. Я забыла, как это наказывают преступников в Сиаме?
— Наверное, бросают в кипящее масло.
— Вот это скорей подойдет. Я уж придумаю для вас какую-нибудь страшную казнь.
— Ну, когда придумаете — сообщите мне, — засмеялся он, но тут миссис де Линкум, помогавшая хозяйке принимать гостей, увела его, чтобы представить знатным иностранцам.
Завязался оживленный разговор. Лестер, который всегда чувствовал себя в такой обстановке, как рыба в воде, ощущал необыкновенный прилив бодрости. Обернувшись, он вдруг увидел рядом с собой Берри Доджа.
Додж расплылся в любезнейшей улыбке.
— Где ты обретаешься? — спросил он. — Мы тебя не видели не помню сколько лет. Пойдем к миссис Додж, она хочет с тобой поговорить.
— Да, давненько не видались, — беззаботно подтвердил Лестер, вспомнив их последнюю встречу и тон Доджа, так непохожий на его сегодняшнее обхождение. — Живу я в «Аудиториуме».
— А я только на днях о тебе справлялся. Ты Джексона Дюбуа знаешь? Ну, конечно, знаешь. Так вот, мы с ним собираемся махнуть в Канаду, поохотиться. Ты нам не составишь компанию?
— Сейчас не могу, — ответил Лестер. — Я очень занят. Как-нибудь в другой раз — с удовольствием.
Додж не отходил от него. Совсем недавно он прочел, что Лестер избран в правление еще одной компании, — видимо, человек опять пошел в гору. Но тут доложили, что обед подан, и Лестер оказался по правую руку от миссис Джералд.
— Вы не собираетесь побывать у меня с менее официальным визитом? — спросила она вполголоса, пользуясь минутой, когда беседа за столом стала особенно оживленной.
— Собираюсь, — отвечал он, — и в самом скором времени. Право же, я давно хотел к вам зайти. Но вы знаете, как сейчас обстоят мои дела?
— Знаю. Я многое слышала. Поэтому я и хочу, чтобы вы пришли. Нам нужно поговорить.
Через десять дней он к ней пришел. Ему хотелось повидать ее; он скучал, не находил себе места; после долгих лет, проведенных под одним кровом с Дженни, жизнь в отеле казалась ему невыносимой, нужно было излить кому-то душу, а где же искать сочувствия, как не здесь? Летти только о том и мечтала, чтобы его утешить. Будь ее воля, она обняла бы его и стала гладить по голове, как ребенка.
— Ну-с, — сказал он, после того как они по привычке обменялись шутками, — никаких объяснений вы от меня не ждете?
— Вы сожгли свои корабли? — спросила она.
— Ох, не знаю, — ответил он задумчиво. — И вообще не могу сказать, чтобы все это меня особенно радовало.
— Я так и думала, — вздохнула миссис Джералд. — Я же вас знаю. Могу представить себе все, что вы перечувствовали. Я следила за каждым вашим шагом и хотела только одного — чтобы вы обрели душевный покой. Такие вещи всегда даются трудно, но я сейчас убеждена, что это к лучшему. То было не для вас. И все равно вы бы не выдержали. Нельзя вам жить, как улитке в своей раковине. Вы не созданы для этого, так же как и я. Вы жалеете о том, что сделали, но если бы вы этого не сделали, то жалели бы еще больше. Нет, продолжать такую жизнь вам было невозможно — разве вы не согласны со мной?
— Право, не знаю, Летти. Я ведь давно хотел к вам прийти, но считал, что не имею права. Внешне борьба окончена — вы меня понимаете?
— Понимаю, — сказала она ласково.
— Но внутри она продолжается. Я еще не во всем разобрался. Мне не ясно, насколько меня связывает мое финансовое положение. Скажу вам откровенно, я даже не знаю, люблю ли я ее. Но мне ее жаль, а это уже немало.
— Она, разумеется, хорошо обеспечена. — Это прозвучало не как вопрос, а как мимолетное замечание.
— Конечно. Но Дженни — человек особого склада. Ей много не нужно. Она по натуре домоседка, внешний блеск ее не привлекает. Я снял для нее коттедж в Сэндвуде, это на озере, к северу от Чикаго; но она знает, что может жить где ей угодно; денег в ее распоряжении вполне достаточно.
— Я понимаю, каково ей, Лестер. И понимаю, каково вам. Первое время она будет жестоко страдать — все мы страдаем, когда лишаемся того, что любим. Но все проходит, а жизнь течет своим чередом. И с ней так будет. Сначала будет очень тяжело, а потом она успокоится и не затаит на вас обиды.
— Дженни меня никогда не упрекнет, это я знаю, — возразил он. — Я сам буду упрекать себя, и еще долго. Таков уж я человек. Сейчас я, хоть убей, не могу сказать, вызвана ли моя теперешняя тревога силой привычки или более глубоким чувством. Иногда мне сдается, что я самый тупой человек на свете. Я слишком много думаю.
— Бедный Лестер! — сказала она нежно. — Я-то вас понимаю. Тоскливо вам жить одному в гостинице?
— Очень, — отвечал он.
— Почему бы вам не уехать на несколько дней в Вест-Баден? Я тоже туда еду.
— Когда? — спросил он.
— В будущий вторник.
— Минутку, — сказал он. — Сейчас посмотрим. — Он перелистал записную книжку. — Я мог бы приехать в четверг, на несколько дней.
— Вот и отлично. Вам нужно побыть с людьми. Мы там погуляем, поговорим. Так приедете?
— Приеду.
Она подошла к нему, волоча за собой шлейф бледно-лилового платья.
— Нельзя так много думать, сэр, — сказала она беспечно. — Обязательно вам нужно докопаться до корня. Зачем это? Впрочем, вы всегда были такой.
— Что ж поделаешь, — ответил он. — Я не умею не думать.
— Ну, одно я знаю. — Она легонько ущипнула его за ухо. — Второй раз ваши добрые чувства не заставят вас совершить ошибку. Я этого не допущу, — добавила она смело. — Вы должны быть свободны, пока не обдумаете все как следует и не решите, что вам нужно. Иначе нельзя. А я хочу вас попросить взять на себя управление моими делами. Вы могли бы давать мне куда более ценные советы, чем мой поверенный.
Он встал, отошел к окну и исподлобья посмотрел на нее.
— Знаю я, что вам нужно, — сказал он хмуро.
— А почему бы и нет? — спросила она, снова подходя к нему. В ее взгляде была и мольба и вызов. — Почему бы нет?
— Вы сами не знаете, что делаете, — проворчал он, но не отвел от нее взгляда; она стояла перед ним во всем обаянии зрелой женщины, умная, настороженная, полная участия и любви.
— Летти, — сказал он, — напрасно вы хотите выйти за меня замуж. Я этого не стою, уверяю вас. Я человек холодный, безнадежный скептик. Ничего из этого не выйдет.
— А по-моему, выйдет, — не сдавалась она. — Я знаю, какой вы человек. И мне все равно. Вы мне нужны.
Он взял ее за руки, потом притянул к себе и обнял.
— Бедная Летти! — сказал он. — Я этого не стою. Смотрите, пожалеете.
— Нет, не пожалею, — возразила она. — Я знаю, что делаю. Мне все равно, какого вы мнения о себе. — Она приникла щекой к его плечу. — Вы мне нужны.
— Так вы, чего доброго, меня добьетесь, — сказал он и, наклонившись, поцеловал ее.
— Ах! — воскликнула она и спрятала лицо у него на груди.
«Нехорошо, — думал он, обнимая ее, — не следовало мне этого делать».
Но он все держал ее в объятиях, и когда она, подняв голову, снова потянулась к нему, он целовал ее еще много раз.
Глава LVI
Если бы не влияние некоторых обстоятельств, Лестер, возможно, со временем и вернулся бы к Дженни. Он хорошо понимал, что, крепко взяв в руки управление своим состоянием и выждав, пока улягутся страсти, он мог бы пойти на дипломатическую уловку и в той или иной форме возобновить свои отношения с нею. Но для этого ему пришлось бы поступиться неизменным правилом — выполнять свои обязательства, даже если они нигде прямо не оговорены. К тому же он не мог отделаться от мысли о широчайших возможностях, которые открыла бы перед ним женитьба на миссис Джералд. Искреннее влечение к Дженни не мешало ему сознавать, как много значат личность и богатство ее соперницы — одной из интереснейших представительниц высшего света. В мыслях он постоянно противопоставлял друг другу этих женщин. Одна — изысканная, образованная, привлекательная, искушенная во всех тонкостях светского обращения и достаточно богатая, чтобы удовлетворить любую свою прихоть; другая — непосредственная, любящая, ласковая, не обученная светским манерам, но как никто способная чувствовать красоту жизни и все, что есть прекрасного в человеческих отношениях. Миссис Джералд понимала и признавала это. Осуждая связь Лестера, она критиковала не Дженни, но неразумность этой связи с точки зрения его карьеры. Другое дело брак с нею самой — это было бы идеальным завершением его самых честолюбивых замыслов. Это было бы хорошо во всех отношениях. Он будет с нею так же счастлив, как с Дженни — почти так же, — и вдобавок ему приятно будет сознавать, что он самая значительная фигура в светских и финансовых кругах Среднего Запада. Его материальные проблемы тоже разрешались в этом случае наилучшим образом. Лестер много и серьезно думал и наконец решил, что нет смысла тянуть и откладывать. Расставшись с Дженни, он уже нанес ей непоправимую обиду. Не все ли равно, если теперь к ней прибавится вторая? Дженни обеспечена, у нее есть решительно все, что ей нужно, кроме разве его, Лестера. Она сама признала, что им следует расстаться. Так, устав от своей неустроенной и неуютной жизни, он выдумывал себе оправдания и постепенно привыкал к мысли о новом союзе.
Постоянное общение с миссис Джералд и явилось тем решающим обстоятельством, которое помешало Лестеру вновь соединиться с Дженни. Все как нарочно складывалось так, что именно она должна была спасти его от утомительного внутреннего разлада. Пока он жил один, он мог время от времени бывать в гостях, но это его мало интересовало. Он был слишком тяжел на подъем, чтобы самостоятельно собрать вокруг себя людей, которые были бы ему по душе, тогда как женщине, подобной миссис Джералд, ничего не стоило себя ими окружить. Вдвоем это было бы им особенно легко. Где бы они ни решили жить, их дом всегда был бы полон интересных людей. Лестеру оставалось бы только появляться среди гостей и наслаждаться беседой. Летти прекрасно разбирается в том, какой образ жизни его привлекает. Ей нравятся те же люди, что и ему. У них столько общих интересов, жизнь с нею была бы сплошным удовольствием.
Итак, Лестер провел несколько дней с миссис Джералд в Вест-Бадене, а в Чикаго предоставил себя в ее распоряжение для обедов, прогулок и выездов в свет. В ее доме он чувствовал себя почти хозяином — она сама этого добивалась. Она подробно рассказывала ему о своих делах, объясняя, почему ей нужен его совет по тому или иному вопросу. Она не хотела надолго оставлять его одного с его мыслями и сожалениями. И он шел к ней, когда хотел утешиться, забыться, отдохнуть от забот. Он много с кем встречался у нее в доме, и среди их знакомых уже стали поговаривать о том, что они собираются пожениться. Поскольку прежняя связь Лестера вызвала так много пересудов, Летти решила ни в коем случае не устраивать торжественной свадьбы. Достаточно будет коротенькой заметки в газетах, а через некоторое время, когда все успокоится и сплетни утихнут, она, ради его блага, ослепит весь город своими приемами.
— Может, нам пожениться в апреле и уехать на лето за границу? — предложила она однажды. В том, что брак — их дело решенное, ни он, ни она уже не сомневались. — Поедем в Японию. А осенью вернемся и снимем дом на набережной.
Лестер расстался с Дженни так давно, что совесть уже не мучила его с прежней силой. Внутренний голос еще не совсем умолк, но Лестер старался заглушить его.
— Ну что ж, — ответил он почти шутливым тоном, — только, пожалуйста, без всякого шума.
— Ты правда согласен, милый? — воскликнула она, радостно глядя на него; перед этим они спокойно провели вечер за чтением и разговорами.
— Я достаточно долго думал, — ответил он, — и не вижу причин откладывать.
Она подошла, села к нему на колени и положила руки ему на плечи.
— Мне просто не верится, что ты это сказал, — промолвила она, удивленно глядя на него.
— Что же мне, взять свои слова обратно?
— Нет, нет! Значит, решено, в апреле. И мы поедем в Японию. Теперь ты уже не передумаешь. И шума никакого не будет. Но, бог ты мой, какое я себе закажу приданое!
Она весело взъерошила ему волосы. Он улыбнулся чуть напряженной улыбкой; чего-то недоставало в его безоблачном счастье, может быть, это сказались годы.
Глава LVII
Тем временем Дженни понемногу привыкла к совершенно новой обстановке, в которой ей отныне предстояло проводить свои дни. Сначала это было страшно — жить без Лестера. Дженни и сама была незаурядной личностью, но все ее существование так переплелось с существованием Лестера, что казалось, разорвать и распутать эти нити невозможно. В мыслях она непрестанно была с ним, словно они и не разлучались. Где он сейчас? Что делает? Что говорит? Как выглядит? По утрам она просыпалась с ощущением, что он рядом с ней. По вечерам ей казалось, что нельзя лечь спать, пока его нет. Он должен скоро вернуться… Ах, нет, он не вернется никогда… Боже мой, подумать только! Никогда. А она так о нем тоскует.
Нужно было наладить жизнь до последних мелочей, и это тоже давалось нелегко — уж очень резкой и болезненной оказалась ломка. Самое главное — нужно было как-то объяснить все происшедшее Весте. Девочка уже многое замечала и много думала, и теперь у нее были свои сомнения и догадки. Веста вспоминала разговоры о том, что, когда она родилась, ее мать не была замужем. В свое время она видела воскресную газету с романтической историей про Дженни и Лестера — эту газету ей показали в школе, — но она оказалась достаточно умна, чтобы ничего не сказать об этом дома: она почувствовала, что это не понравилось бы матери. Исчезновение Лестера безмерно удивило ее; однако за последние два-три года она убедилась, как чувствительна ее мать и как легко сделать ей больно, Поэтому она воздержалась от вопросов. Дженни пришлось самой рассказать дочери, что Лестер мог лишиться своего состояния, если бы не оставил их, поскольку Дженни была ниже его по общественному положению. Веста спокойно выслушала ее, но заподозрила правду. Она прониклась огромной жалостью к матери и, видя, как та угнетена, старалась быть особенно бодрой и веселой. Уехать в закрытую школу она наотрез отказалась и как можно больше времени проводила с Дженни. Она выбирала самые интересные книги, чтобы читать их вслух, упрашивала мать пойти с ней в театр, играла ей на рояле, показывала ей свои рисунки и спрашивала ее мнения. Подружившись с несколькими девочками в превосходной Сэндвудской школе, она приводила их по вечерам к себе, и коттедж наполнялся шумным весельем. Дженни все больше ценила чудесный характер девочки и все больше привязывалась к ней. Лестер ушел, но зато у нее есть Веста. Вот кто будет ей опорой на закате ее жизни.
Дженни знала, что ей нужно будет объяснить свое положение соседям и новым знакомым. Бывает, что человеку удается прожить в уединении, не распространяясь о своем прошлом, но обычно что-нибудь да приходится рассказать. Люди любопытны — особенно такие люди, как мясники и булочники, — и уйти от их расспросов трудно. Так было и с Дженни. Она не могла сказать, что ее муж умер, — ведь Лестер мог вернуться. Пришлось говорить будто она сама от него уехала, чтобы создалось впечатление, что она вольна разрешить или не разрешить ему вернуться. Это было хорошо придумано — к ней стали относиться с сочувственным интересом. А она зажила тихой, однообразной жизнью в ожидании неведомой развязки.
Скрашивали ее существование любовь Весты и сказочно красивая природа Сэндвуда. Дженни не уставала любоваться озером, по которому с утра до вечера скользили быстрые лодки, и живописными окрестностями городка. У нее был шарабан и лошадь — одна из той пары, на которой они ездили, когда жили в Хайд-Парке. Со временем появились и другие любимцы, и среди них собака-колли, которую Веста назвала «Мышка». Дженни привезла ее из Чикаго щенком, а теперь это был прекрасный сторожевой пес, умный и ласковый. Была у них и кошка, Джимми Вудс, — Веста окрестила ее так в честь знакомого мальчика, на которого кошка, по ее словам, была очень похожа. Был певчий дрозд, тщательно охраняемый от хищных набегов Джимми Вудса, и аквариум с золотыми рыбками. И жизнь в коттедже текла спокойно и безмятежно, а бурные переживания и чувства были глубоко скрыты от людских глаз.
Первое время после своего отъезда Лестер не писал Дженни; он целиком ушел в дела, связанные с его возвращением в коммерческие сферы, а кроме того, считал, что нехорошо зря волновать Дженни письмами, которые при данных обстоятельствах все равно ничего не значили. Он решил дать ей и себе передышку, с тем чтобы потом трезво и спокойно написать обо всех своих делах. Он молчал месяц, а потом действительно сообщил ей письмом, что был по горло завален делами и несколько раз уезжал из Чикаго (это соответствовало действительности), а в будущем думает бывать там лишь изредка. Он спрашивал о Весте, о том, как идет жизнь в Сэндвуде. «Я, возможно, скоро побываю у вас», — писал он, но на самом деле у него не было такого намерения, и Дженни это сразу поняла.
Прошел еще месяц, и он опять написал, теперь уже совсем коротенькое письмо. Отвечая ему в первый раз, Дженни подробно рассказала о своей жизни. О своих чувствах она не обмолвилась ни словом, но упомянула, что всем довольна и в Сэндвуде ей очень хорошо. Она надеется, что для него все теперь сложится к лучшему, и от души рада, что все трудные вопросы наконец разрешены. «Не думай, что я несчастлива, — писала она, — это неверно. Я убеждена, что мы поступили правильно, и не была бы счастлива, если бы все было иначе. А ты строй свою жизнь так, чтобы тебе было как можно лучше. Ты достоин большого счастья, Лестер. Что бы ты ни сделал, по мне все будет хорошо. Я заранее согласна». Она думала о миссис Джералд, и Лестер это понял, читая ее письмо, как понял и то, сколько самопожертвования и молчаливых мук скрыто за ее великодушием. Только это и заставило его так долго колебаться, прежде чем сделать решительный шаг.
Как бесконечно далеки друг от друга написанное слово и тайная мысль! После шести месяцев Лестер почти перестал писать, после восьми — их переписка окончательно прекратилась.
Однажды утром, просматривая газету, Дженни увидела в отделе светской хроники следующую заметку.
«Во вторник, в своем доме на бульваре Дрексел № 4044, миссис Мальком Джералд объявила собравшимся у нее близким друзьям о своей помолвке с Лестером Кейном, младшим сыном ныне покойного Арчибалда Кейна из Цинциннати. Свадьба состоится в апреле».
Газета выпала у нее из рук. Несколько минут она сидела неподвижно, глядя в одну точку. «Неужели это возможно? — думала она. — Неужели это случилось?» Она знала, что так будет, и все-таки… все-таки надеялась. На что она надеялась, почему? Разве она не сама настояла, чтобы он ушел от нее? Не сама дала ему понять, что так будет лучше? И вот это произошло. Что же ей теперь делать? Остаться здесь, жить на его деньги? Нет, только не это! А между тем Лестер предоставил в ее полное распоряжение большие средства. В банке на Ла-Саль-стрит хранилось на семьдесят пять тысяч долларов железнодорожных акций, ежегодный доход с которых — четыре с половиной тысячи — выплачивался непосредственно ей. Могла ли она отказаться от этих денег? Ведь нужно было думать о Весте.
Дженни чувствовала себя уязвленной до глубины души, но тут же поняла, что сердиться было бы глупо. Жизнь всегда обходилась с ней жестоко. Наверно, так будет до конца. Ну, попробует она жить самостоятельно, сама зарабатывать себе на хлеб, а какое это будет иметь значение для Лестера? И для миссис Джералд? Она, Дженни, заперта в четырех стенах в этом маленьком городке, незаметная, одинокая, а он там, в широком мире, живет полной жизнью, наслаждается свободой. Нехорошо это, несправедливо. Но к чему плакать? К чему?
И глаза ее были сухи, но душа исходила слезами, она медленно встала, спрятала газету на дно чемодана и заперла чемодан на ключ.
Глава LVIII
Теперь, когда его помолвка с миссис Джералд стала свершившимся фактом, Лестеру уже не так трудно было примириться с новым положением вещей. Да, несомненно, все к лучшему. Он глубоко сочувствовал Дженни. Миссис Джералд тоже ей сочувствовала, но утешалась мыслью, что так будет лучше и для Лестера и для этой бедной женщины. Он будет много счастливее, это уже сейчас видно. А Дженни со временем поймет, что поступила умно и самоотверженно, и будет черпать радость в сознании собственного великодушия. Сама же миссис Джералд, никогда не питавшая нежных чувств к своему покойному мужу, была на седьмом небе: наконец-то, хоть и с некоторым запозданием, сбылись ее девичьи мечты! Ничего лучше жизни с Лестером она не могла себе представить. Куда они только не поедут, чего только не увидят! Будущей зимой она, новоиспеченная миссис Лестер Кейн, покажет всему городу, какие бывают балы и приемы! А Япония… Просто дух захватывает, как это будет чудесно.
Лестер написал Дженни о своей предстоящей женитьбе. Он не дает ей никаких объяснений, они были бы излишни. Он считает, что ему следует жениться на миссис Джералд. И что ей, Дженни, следует об этом знать. Он надеется, что она здорова. Она должна всегда помнить, что он принимает ее судьбу близко к сердцу. Он всеми силами постарается сделать ее жизнь возможно приятнее и легче. Пусть не поминает его лихом. И передаст от него привет Весте. Ее нужно отдать в самую лучшую среднюю школу.
Дженни слишком хорошо понимала, как обстоит дело. Она знала, что Лестера тянуло к миссис Джералд с тех самых пор, как они встретились в Лондоне, в отеле «Карлтон». Эта женщина долго ловила его. Теперь она его добилась! Все в порядке. Пусть будет счастлив. Дженни так и написала в ответ, добавив, что объявление о помолвке видела в газете. Получив ее письмо, Лестер задумался; между строк он прочел много больше, чем она написала. Даже сейчас он подивился твердости ее духа. Несмотря на все обиды, которые он ей нанес и еще собирался нанести, он знал, что его чувство к Дженни не совсем угасло. Она благородная, обаятельная женщина. Сложись обстоятельства по-другому, он не готовился бы к женитьбе на миссис Джералд. И все-таки он женился на ней.
Бракосочетание состоялось пятнадцатого апреля в доме у миссис Джералд; венчал их католический священник. Лестер отнюдь не был примерным сыном церкви. Он был неверующий, но решил, что раз уж он воспитан в лоне церкви, нет смысла отказываться от церковного брака. Собралось человек пятьдесят гостей — все близкие друзья. Обряд прошел без малейшей заминки. Новобрачных оглушили поздравлениями, осыпали пригоршнями риса и конфетти. Гости еще пировали, когда Лестер и Летти выскользнули из дома через боковой подъезд, где их ждала карета. Через четверть часа веселая погоня устремилась за ними на вокзал железнодорожной дороги Чикаго — Рок Айленд — Сан-Франциско. Но когда провожающие прибыли, счастливая пара уже сидела в своем купе. Снова смех, оживленные возгласы, шампанское, и вот, наконец, поезд тронулся — молодые отправились в путь.
— Итак, ты меня добилась, — весело сказал Лестер, усаживая Летти рядом с собой. — Ну, и что?
— Вот что! — воскликнула она и, крепко обняв его, горячо расцеловала.
Через четыре дня они были на берегу Тихого океана, еще через два уже неслись на самом быстром пароходе в страну микадо.
А Дженни осталась одна со своим горем. Узнав, что Лестер женился в апреле, она стала внимательно просматривать газеты в поисках подробностей. Наконец она прочла, что свадьба состоится в полдень пятнадцатого апреля, в доме миссис Джералд. Несмотря на все свое смирение и покорность судьбе, Дженни с жадностью тянулась к этому недоступному счастью — так смотрит голодный бродяжка на рождественскую елку в освещенном окне.
Настало пятнадцатое апреля. Дженни едва дождалась, пока пробьет двенадцать. Она так остро переживала все события этого дня, словно сама в них участвовала. В мыслях она видела прекрасный особняк, кареты, гостей, венчальный обряд, веселый свадебный пир. Она чувствовала, как им хорошо в их роскошном купе, какое им предстоит увлекательное путешествие. В газетах упоминалось, что медовый месяц молодые проведут в Японии. Медовый месяц! Ее Лестер! И миссис Джералд так хороша. И ее — новую миссис Кейн, единственную настоящую миссис Кейн — обнимает Лестер! Когда-то он также обнимал ее. Он ее любил! Да, любил! У Дженни сжималось горло. О господи! Она вздохнула, до боли стиснула руки, но облегчения не было — тоска по-прежнему давила ее.
Когда этот день миновал, ей стало легче; дело сделано, и никакими силами нельзя ничего изменить. Веста, которая тоже читала газеты, прекрасно понимала, что произошло, и от всей души жалела мать, но молчала. Через два-три дня Дженни немного успокоилась, примирившись с неизбежным, но прошло еще много времени, прежде чем острая боль утихла, уступив место привычной глухой тоске. Дженни считала дни и недели до их возвращения, хотя знала, что ей больше нечего ждать. Но очень уже далекой казалась Япония, и Дженни почему-то было легче, когда она знала, что Лестер близко от нее, в Чикаго.
Прошла весна, за ней лето, и наступил октябрь. Однажды в холодный, ветреный день Веста, вернувшись из школы, пожаловалась на головную боль. Дженни, помня наставления матери, напоила ее горячим молоком, посоветовала положить на затылок мокрое полотенце, и девочка ушла к себе и легла. На следующее утро у нее немного поднялась температура. Местный врач, доктор Эмри, сразу заподозрил брюшной тиф — в округе уже было отмечено несколько случаев заболевания. Врач сказал Дженни, что организм у девочки крепкий и, по всей вероятности, она справится с болезнью, но, возможно, будет болеть тяжело. Не полагаясь на свое умение, Дженни выписала из Чикаго сестру милосердия, и потянулись дни ожидания, когда мужество сменялось отчаянием, страх — надеждой.
Скоро все сомнения отпали; у Весты действительно был брюшной тиф. Дженни не сразу написала Лестеру, хотя и думала, что он в Нью-Йорке: судя по газетам, он собирался провести там зиму. Но через неделю, когда врач определил форму болезни как тяжелую, она решила все-таки написать — как знать, что может случиться. Лестер так любил девочку. Наверно, ему захотелось бы о ней узнать.
Лестер не получил этого письма: когда оно прибыло в Нью-Йорк, он уже отплыл в Вест-Индию. Дженни пришлось самой дежурить у постели Весты. Добрые соседи, понимая серьезность положения, навещали ее и участливо справлялись о больной, но они не могли оказать Дженни настоящей нравственной поддержки, которую мы чувствуем, лишь когда она исходит от близких нам людей. Одно время казалось, что Весте лучше; и врач и сестра готовы были обнадежить Дженни. Но потом девочка стала заметно терять силы. Доктор Эмри объяснил, что болезнь дала осложнения на сердце и на почки.
И вот уже тень смерти нависла над домом. Лицо врача стало сосредоточенно-серьезным, сестра на все отвечала уклончиво. А Дженни молилась — ибо что же и назвать молитвой, если не страстное желание, на котором сосредоточены все помыслы, — только бы Веста поправилась! В последние годы девочка стала так близка ей; она любила мать, она уже понимала своим детским умом, как много матери пришлось выстрадать. А сама Дженни благодаря ей прониклась более глубоким чувством ответственности. Она теперь знала, что значит быть хорошей матерью. Если бы Лестер захотел, если бы она была законной женой, как она была бы рада иметь от него детей. И притом она всегда чувствовала себя в долгу перед Вестой; долгую, счастливую жизнь — вот что она обязана дать своей девочке, чтобы искупить позор ее рождения и раннего детства. Дженни с такой радостью наблюдала, как ее маленькая дочь превращается в красивую, грациозную, умную девушку. И вот теперь она умирает. Доктор Эмри вызвал на консилиум знакомого врача из Чикаго. Вдумчивый, доброжелательный старик только покачал головой.
— Лечение было правильным, — сказал он. — Видимо, организм недостаточно крепок. Не все одинаково способны бороться с этой болезнью.
Врачи вынесли приговор; если через три дня не будет поворота к лучшему, нужно ждать конца.
От Дженни не сочли возможным скрыть истину; она сидела у постели дочери без кровинки в лице, без мысли, поглощенная одним чувством, натянутая, как струна. Казалось, все ее существо отзывается на каждую перемену в состоянии Весты, она физически ощущала малейший прилив сил у девочки, малейшее ухудшение.
Одна из соседок Дженни, миссис Дэвис, полная, немолодая женщина, относилась к ней с чисто материнской нежностью. Глубоко сочувствуя Дженни, она вместе с доктором и сестрой с самого начала делала все, чтобы не дать ей впасть в отчаяние.
— Вы бы пошли к себе и прилегли, миссис Кейн, — говорила она Дженни, видя, что та не сводит глаз с Весты или бесцельно бродит по комнатам. — Я тут за всем пригляжу. Справлюсь не хуже вас. Вы что же, думаете, я не сумею? Я сама семерых родила, троих схоронила. Разве я не понимаю?
Однажды Дженни расплакалась, припав головой к ее мягкому, теплому плечу. Миссис Дэвис всплакнула с ней вместе.
— Бедная вы моя, разве я не понимаю! Ну, пойдемте со мной.
И она увела ее в спальню. Но Дженни не могла долго оставаться одна. Через несколько минут, совсем не отдохнув, она уже вернулась к дочери.
И наконец, однажды в полночь, после того как сестра с уверенностью сказала, что до утра ничего случиться не может, в комнате больной началась какая-то суета. Дженни, которая только что прилегла в соседней комнате, услышала это и встала. У постели Весты, тихо совещаясь, стояли сестра и миссис Дэвис.
Дженни все поняла. Подойдя к дочери, она впилась долгим взглядом-в ее восковое лицо. Девочка едва дышала, глаза ее были закрыты.
— Она очень слаба, — шепнула сестра.
Миссис Дэвис взяла Дженни за руку.
Проходили минуты, уже часы в передней пробили час. Время от времени сестра подходила к столику с лекарствами и, окунув тряпочку в воду, смачивала губы Весты. В половине второго ослабевшее тело шевельнулось. Послышался глубокий вздох. Дженни жадно наклонилась вперед, но миссис Дэвис потянула ее за руку. Сестра сделала им знак отойти. Дыхание прекратилось.
Миссис Дэвис крепко обхватила Дженни за плечи.
— Бедная моя, хорошая, — зашептала она, видя, что Дженни сотрясается от рыданий. — Ну не надо плакать, слезами горю не поможешь.
Дженни опустилась на колени у кровати и погладила еще теплую руку дочери.
— Веста, — молила она, — не уходи от меня, не уходи.
Словно издалека до нее доносился ласковый голос миссис Дэвис:
— Не надо так убиваться, милая. Все в руке божией. Что он ни делает, все к лучшему.
Дженни чувствовала, что земля разверзлась под ней. Все нити порваны. Ни проблеска света не осталось в обступившем ее необъятном мраке.
Глава LVIX
Сломленная этим новым ударом безжалостной судьбы, Дженни опять впала в то угнетенное состояние, от которого ее излечили спокойные и счастливые годы, прожитые с Лестером в Хайд-Парке, Прошло много времени, прежде чем она осознала, что Веста умерла. Исхудалое тело, на которое она смотрела еще два дня, совсем не было похоже на ее девочку. Где прежняя радость, где ловкость и быстрота движений, живой блеск глаз? Все исчезло. Осталась бледная, восковая оболочка и — тишина. Дженни не плакала, она только ощущала глубокую, неотступную боль. И не было возле нее никого, кто шепнул бы ей слова вечной мудрости — простые и проникновенные слова о том, что смерти нет.
Доктор Эмри, сестра, миссис Дэвис и другие соседи — все были участливы, внимательны к Дженни. Миссис Дэвис телеграфировала Лестеру о смерти Весты, но он был далеко, и ответа не последовало. Кто-то готовил обед и старательно поддерживал порядок в комнатах — сама Дженни ничем не интересовалась. Она только перебирала и разглядывала любимые вещи Весты, вещи, когда-то подаренные Лестером или ею самой, и вздыхала при мысли, что девочке они больше не понадобятся. Дженни распорядилась, чтобы тело Весты перевезли в Чикаго и похоронили на кладбище Спасителя, — когда умер Герхардт, Лестер приобрел там участок земли. По ее просьбе священник лютеранской церкви, в которую всегда ходил Герхардт, должен был сказать несколько слов над могилой. Дома, в Сэндвуде, были соблюдены все обряды. Священник местной методистской церкви прочел начало первого послания апостола Павла к фессалоникийцам, хор одноклассниц Весты пропел «К тебе, господь, к тебе». Были цветы, и белый гроб, и несчетные соболезнования, а потом Весту увезли. Гроб спрятали в ящик, погрузили в поезд и доставили на лютеранское кладбище в Чикаго.
Дженни прожила эти дни как во сне. Оглушенная своим горем, она почти ничего не чувствовала и не воспринимала. Миссис Дэвис и по ее настоянию еще четыре соседки поехали в Чикаго на похороны. Когда гроб опускали в могилу, Дженни стояла, смотрела и казалась безучастной, словно окаменела. После похорон она вернулась в Сэндвуд, но ненадолго. Ей хотелось быть в Чикаго, поближе к Весте и к отцу.
Оставшись одна, Дженни попыталась обдумать свою дальнейшую жизнь. Она чувствовала, что ей необходимо работать, хоть это и не вызывалось материальной нуждой. Можно стать сестрой милосердия, тогда надо сейчас же начать учиться. Вспоминала Дженни и про своего брата Уильяма. Уильям не женат. Может быть, он захочет жить вместе с ней. Вот только адрес его ей неизвестен, и Басс как будто тоже не знает, где его можно найти, Дженни решила поискать работы в каком-нибудь магазине. Надо что-то делать. Не может она жить здесь одна, предоставив соседям заботиться о ее судьбе. Как ей ни тяжело, все же легче будет, если она переедет в Чикаго и, остановившись в гостинице, поищет себе работу или снимет домик неподалеку от кладбища Спасителя. А еще можно взять на воспитание ребенка. В городе сколько угодно сиротских приютов.
Лестер возвратился с женой в Чикаго недели через три после смерти Весты и тут только нашел первое письмо Дженни, телеграмму и еще коротенькое письмо с извещением о смерти девочки. Он искренне печалился, потому что был по-настоящему привязан к ней. Охваченный жалостью к Дженни он тут же сказал жене, что поедет навестить ее. Его тревожило будущее Дженни. Нельзя, чтобы она жила одна. Может быть, он сумеет дать ей какой-нибудь полезный совет. Он поехал в Сэндвуд, но узнал там, что Дженни перебралась в отель «Тремонт» в Чикаго. В отеле он ее тоже не застал — она ушла на могилу дочери. Он заехал еще раз в тот же день, и ему сказали, что она дома. Когда ей подали карточку Лестера, Дженни страшно взволновалась, сильнее, чем волновалась, встречая его в прежние дни, потому что сейчас он был ей нужнее.
Лестер все еще много думал о своем поступке — этому не помешали ни его сверхблагополучный брак, ни вновь обретенное богатство и почет. Его сомнения и недовольство собой не улеглись до сих пор. Мысль, что он обеспечил Дженни, не утешала его — он всегда знал, как мало значат для нее деньги. Любовь — вот смысл ее жизни. Без любви она была как утлая лодка в открытом море, — это он хорошо знал. Ей нужен был только он сам, и Лестер испытывал глубокий стыд при мысли, что сострадание к ней оказалось бессильным перед чувством самосохранения и жаждой богатства. В тот день, когда он поднимался на лифте отеля «Тремонт», совесть жестоко мучила его, хоть он и понимал, что теперь не в его власти что-либо исправить. Он кругом виноват — и в том, что увлек Дженни, и в том, что не остался с нею до конца наперекор всему свету. Но теперь уже ничего не поделаешь. Нужно только обойтись с Дженни как можно мягче, поговорить с нею, по мере сил помочь ей сочувствием и советом.
— Здравствуй, Дженни, — сказал он приветливо, когда она отворила ему дверь.
Как изменили ее перенесенные страдания! Она похудела, бледные щеки ввалились, глаза казались огромными.
— Какое страшное несчастье, — заговорил он смущенно. — Кто бы мог подумать, что это случится.
То были первые слова утешения, которые дошли до сердца Дженни с тех пор, как Веста умерла, с тех пор, как сам Лестер ее покинул. Его приход глубоко тронул ее; от волнения она не могла говорить. Слезы задрожали у нее на ресницах и потекли по щекам.
— Не плачь, Дженни, — сказал он, обняв ее и ласково прижимая к плечу ее голову. — Мне так жаль. Я о многом жалею, да поздно об этом говорить. Мне бесконечно жаль Весту. Где ты ее похоронила?
— Рядом с папой, — ответила Дженни и разрыдалась.
— Бедняжка, — сказал он тихо и замолчал.
Немного успокоившись, она отошла от него и, вытерев глаза, пригласила его сесть.
— Так обидно, что меня не было здесь, когда это случилось, — продолжал Лестер. — А то я все время был бы с тобой. Ты теперь, вероятно, не захочешь больше жить в Сэндвуде?
— Я не могу, Лестер, — сказал она. — Просто сил нет.
— Куда же ты думаешь переехать?
— Еще не знаю. Там мне просто не хотелось обременять соседей. Я думала снять где-нибудь маленький домик и, может быть, взять на воспитание ребенка или поступить на работу… Мне так не хочется жить одной.
— А это неплохая мысль — взять на воспитание ребенка, — сказал он. — Тебе будет не так тоскливо. Ты уже справлялась о том, что для этого нужно?
— Я думаю, нужно просто обратиться в какой-нибудь приют.
— Возможно, что это несколько сложнее, — сказал он в раздумье. — Полагается соблюсти какие-то формальности, я точно не знаю, какие. В приютах требуют, чтобы ребенок оставался в их поле зрения или что-то в этом роде. Ты посоветуйся с Уотсоном, он тебе все разъяснит. Выбери себе младенца, а остальное предоставь ему. Я с ним поговорю, предупрежу его.
Лестер понимал, как страшно для Дженни одиночество.
— Где твой брат Джордж? — спросил он.
— Джордж в Рочестере, но он ко мне не приедет. Басс писал, что он женился.
— А больше никого нет из родных, кто согласился бы жить с тобой?
— Может быть, Уильям; только я не знаю, где он сейчас.
— Если ты думаешь жить в Чикаго, посмотри новый квартал к западу от Джексон-Парка, — посоветовал он. — Там, помнится, есть очень миленькие коттеджи. Не обязательно сразу покупать. Сначала сними на какой-нибудь срок, а там увидишь, подходит это тебе или нет.
Дженни решила, что это прекрасный совет, — ведь она получила его от Лестера! Какой он добрый, он интересуется всеми ее делами, значит, они все-таки не совсем чужие. Она ему не безразлична. Она стала расспрашивать его о здоровье жены, о том, доволен ли он своим путешествием, долго ли пробудет в Чикаго. А он, отвечая ей, все время думал о том, как жестоко поступил с нею. Он подошел к окну и стал смотреть вниз, на людную улицу. Экипажи, фургоны, встречные потоки пешеходов — все сливалось в причудливую головоломку. Так движутся тени в сновидении. Уже темнело, тут и там зажигались огни.
— Я хочу тебе кое-что сказать, Дженни, — проговорил Лестер, стряхнув с себя задумчивость. — После всего, что случилось, это может показаться тебе странным, но ты и сейчас мне дорога. Я не переставал о тебе думать. Мне казалось, что, расставшись с тобой, я поступил благоразумно, — так уж тогда все складывалось. Мне казалось, что, раз Летти мне нравится, я могу жениться на ней. С известной точки зрения я и сейчас готов признать, что так лучше, но большого счастья это мне не дало. Счастливее, чем я был с тобой, я никогда не буду. По-видимому, дело здесь не во мне; отдельный человек вообще мало значит. Не знаю, поймешь ли ты меня, но, по-моему, все мы более или менее пешки. Нами распоряжаются силы, над которыми мы не властны.
— Я понимаю, Лестер, — сказала она. — Я ни на что не жалуюсь. Так лучше.
— В конце концов жизнь очень похожа на фарс, — продолжал он горько. — Глупая комедия, и больше ничего. Единственное, что можно сделать, это сохранить свое «я». А честности, насколько я могу судить, от нас никто не требует.
Дженни не вполне уловила смысл его слов, но она поняла, что он недоволен собой, и ей стало жаль его. Она попыталась его утешить:
— Ты не тревожься за меня, Лестер. Я ничего, я проживу. Сперва, когда я только привыкала жить одна, было очень трудно. А теперь ничего. Как-нибудь проживу.
— Но ты помни, что мое отношение к тебе не изменилось, — горячо сказал он. — Мне важно все, что тебя касается. Когда ты устроишься на новом месте, я приду посмотреть, все ли у тебя есть. Я и сюда еще зайду к тебе через несколько дней. Ты понимаешь, что у меня на душе?
— Да, — сказал она, — понимаю.
Он взял ее руку и погладил.
— Не горюй, — сказал он. — Не надо. Я сделаю все, что могу. Как хочешь, а ты для меня прежняя Дженни. Я скверный человек, но кое-что хорошее во мне все же есть.
— Ничего, ничего, Лестер. Я ведь сама настояла, что бы ты так поступил. Все к лучшему. И ты, наверно, счастлив теперь, когда…
— Не надо, Дженни, — перебил он ее. Потом ласково привлек ее к себе и улыбнулся. — Ты меня не поцелуешь по старой памяти?
Она положила руки ему на плечи, долго смотрела в глаза, потом поцеловала. Когда их губы встретились, она почувствовала, что дрожит. Лестер тоже с трудом овладел собой. Заметив его волнение, Дженни заставила себя заговорить.
— Теперь иди, — сказал она твердо. — На улице уже совсем темно.
Он ушел, сознавая, что ему хочется одного — остаться; Дженни до сих пор была для него единственной женщиной на свете. А Дженни стало легче, хотя им по-прежнему предстояло жить в разлуке. Она не пробовала разобраться в этической или нравственной стороне этой загадки. В отличие от многих Дженни не стремилась охватить необъятное или связать изменчивый мир одной веревочкой, называемой законом. Лестер все еще любит ее немножко. Летти он тоже любит. Ну и хорошо. Когда-то она надеялась, что никто, кроме нее, не будет ему нужен. Это оказалось ошибкой, но разве немножко любви — ничто? Нет, конечно. И сам Лестер был того же мнения.
Глава LX
В последующие пять лет пути Лестера и Дженни разошлись еще дальше. Они прочно обосновались каждый в своем мире, так и не возобновив прежних отношений, к которым, казалось, могли привести их несколько встреч в отеле «Тремонт». Лестер едва поспевал справляться со своими деловыми и светскими обязанностями; он вращался в сферах, о которых скромная Дженни и не помышляла. А сама Дженни вела жизнь тихую и однообразную. В простеньком домике, на прекрасной, но отнюдь не фешенебельной улице, близ Джексон-Парка, на Южной стороне, она жила вдвоем со своей приемной дочкой Розой, темноволосой девочкой, которую она взяла из Западного приюта для подкидышей. Новые соседи знали ее под именем Дж. Г. Стовер — она сочла за благо расстаться с фамилией Кейн. А мистер и миссис Кейн, когда жили в Чикаго, занимали огромный особняк на набережной, где приемы, балы и обеды сменялись с поразительной, прямо-таки каледойскопической быстротой.
Впрочем, сам Лестер в последнее время проявлял склонность к более спокойной, содержательной жизни. Из списка своих знакомых он вычеркнул многих людей, которые в смутные годы, уже отошедшие в область воспоминаний, показали себя не в меру щепетильными или фамильярными, или равнодушными, или болтливыми. Лестер был теперь членом, а в некоторых случаях даже председателем правления девяти крупнейших финансовых и торговых компаний Среднего Запада: «Объединенной Тракторной» с центром в Цинциннати, «Западной Сталеплавильной», «Объединенной Каретной», Второго национального банка в Чикаго, Второго Национального банка в Цинциннати и нескольких других, не менее значительных. В делах «Каретного треста» он не принимал непосредственного участия, предпочитая действовать через своего поверенного мистера Уотсона, однако не переставал интересоваться ими. Роберта он не видел уже семь лет, Имоджин — года три, хотя она жила в Чикаго. Луиза, Эми, их мужья и знакомые стали для него чужими людьми. Юридическую контору «Найт, Китли и О'Брайн» он и близко не подпускал к своим делам.
С годами Лестер немного отяжелел, а его взгляды на жизнь приобрели явно скептическую окраску. Все меньше и меньше смысла находил он в окружающем мире. Когда-то, в отдаленные времена, произошло непонятное явление: стала эволюционировать крошечная органическая клетка, она размножалась делением, научилась соединяться с другими клетками, образуя всевозможные организмы — рыб, зверей, птиц, наконец, человека. И вот человек — скопление клеток — в свою очередь пробивает себе путь к более обеспеченному и разнообразному существованию, объединясь с другими людьми. Почему? Одному богу известно. Взять хотя бы его, Лестера Кейна. Он наделен недюжинным умом и кое-какими талантами, он получил в наследство свою меру богатства, которого он, если вдуматься, ничем не заслужил, — просто ему повезло. Но поскольку он использует это богатство так же разумно, практично и созидательно, как это сделал бы на его месте всякий другой человек, нельзя сказать, что для других оно было бы более заслуженным. Он мог бы родиться в бедности, и тогда был бы доволен жизнью не больше и не меньше, чем любой другой бедняк. К чему жаловаться, тревожиться, строить догадки? Чтобы он ни делал, жизнь будет неуклонно идти вперед, повинуясь своим собственным законам. В этом он убежден. Так к чему волноваться? Решительно не к чему. Порою Лестеру казалось, что с тем же успехом он мог бы и вовсе не появляться на свет. Дети — «нам свыше посланная радость», как сказал поэт, — отнюдь не были в его глазах чем-то обязательным или желанным. И этот его взгляд полностью разделяла миссис Кейн.
У Дженни, которая по-прежнему жила на Южной стороне со своей приемной дочкой, тоже не сложилось никакого четкого представления о смысле жизни. В отличии от Лестера и миссис Кейн она не умела мыслить аналитически. Она всего насмотрелась в жизни, много выстрадала, кое-что прочла, без выбора и без системы. В специальных отраслях знания она не разбиралась вовсе. История, физика, химия, ботаника, биология и социология — все это было для нее темный лес, не то что для Летти и Лестера. Вместо знаний у нее было смутное ощущение, что мир устроен неладно и не прочно. Вероятно, никто ничего не понимает до конца. Люди рождаются и умирают. Одни считают, что мир был сотворен шесть тысяч лет назад; другие — что он существует уже много миллионов лет. И что кроется за всем этим — слепой случай или какой-то направляющий разум, какой-то бог? Что-нибудь, наверно, должно быть, думалось Дженни, какая-то высшая сила создала всю окружающую нас красоту — цветы, траву, деревья, звезды. Природа так прекрасна! Жизнь порою кажется жестокой, но красота природы непреходяща. Эта мысль поддерживала Дженни, которая часто и подолгу утешалась ею в своем одиночестве.
Дженни с детства была трудолюбива. Она никогда не сидела сложа руки, но работа не мешала ей думать. За последние годы она пополнела, хоть и не сверх меры; вид у нее был представительный и благообразный, на лице ни морщинки, несмотря на пережитые заботы и горе. В ее прекрасных каштановых волосах уже появилась седина. Взгляд голубых глаз проникал в самую душу Соседи отзывались о ней как о женщине ласковой, доброй и гостеприимной. О прошлом ее ничего не было известно, кроме того, что она приехала из Сэндвуда, а раньше жила в Кливленде. Она очень скупо говорила о себе.
Дженни умела хорошо и с любовью ухаживать за больными, одно время она думала, что поучившись, будет работать сиделкой или сестрой милосердия. Но от этой мысли ей пришлось отказаться: она узнала, что на такую работу берут только молодых женщин. Подумала она и о том, чтобы вступить в какое-нибудь благотворительное общество. Однако ей была непонятна входившая тогда в моду новая теория, согласно которой следует только учить людей собственными силами выходить из трудного положения. Дженни казалось, что если бедняк просит помощи, ему нужно помочь, не вдаваясь в рассуждения о том, насколько он этого заслуживает; вот почему во всех учреждениях, где она робко наводила справки, Дженни встречала холодное равнодушие, если не прямой отказ. Наконец, она решила усыновить еще одного ребенка, чтобы Роза росла не одна. Ее вторым приемышем был четырехлетний мальчик Генри, получивший фамилию Стовер. Как и прежде, банк регулярно выплачивал Дженни ее доход, так что она была вполне обеспечена. Ни к торговле, ни к спекуляции у нее не было ни малейшей склонности, ей куда больше нравилось растить детей, ухаживать за цветами и вести хозяйство.
Одним из косвенных последствий разрыва между Дженни и Лестером было свидание братьев впервые после чтения отцовского завещания. Роберт часто вспоминал о Лестере и с интересом следил за его успехами. Известие о женитьбе Лестера доставило ему истинное удовольствие; он всегда считал, что миссис Джералд — идеальная жена для его брата. По целому ряду признаков Роберт понял, что посмертное распоряжение отца, а также его собственные попытки захватить в свои руки «Компанию Кейн» отнюдь не способствовали хорошему отношению к нему Лестера. Однако ему казалось, что их взгляды, особенно в деловой области, не так уж сильно расходятся. Сейчас Лестер процветает. Он может позволить себе великодушный жест, может пойти на мировую. Ведь Роберт не жалея сил старался в свое время образумить брата, и руководили им самые благие побуждения. Будь они друзьями, работай заодно — перед ними открылись бы еще более широкие возможности обогащения, Роберт все чаще подумывал о том, не прельстит ли Лестера такая перспектива.
Однажды, когда Роберт гостил в Чикаго, он нарочно попросил знакомых, с которыми ехал в коляске, свернуть на набережную. Ему хотелось своими глазами увидеть роскошный особняк Кейна, о котором он столько слышал.
И вдруг на него пахнуло атмосферой отцовского дома: Лестер, купив этот особняк, пристроил к нему сбоку зимний сад, какой был у них в Цинциннати. В тот вечер Роберт послал Лестеру приглашение пообедать с ним в «Юнион-Клубе». Он писал, что пробудет в городе не больше двух-трех дней и хотел бы повидаться с братом. Он, разумеется, помнит, что между ними когда-то произошла размолвка, но ему хотелось бы вместе обсудить одно дело. Не приедет ли Лестер, хотя бы в четверг?
Получив это письмо, Лестер сдвинул брови и сразу помрачнел. В душе он все еще страдал от удара, который нанес ему отец; его до сих пор передергивало, когда он вспоминал как бесцеремонно отмахнулся от него Роберт. Правда, Роберту было из-за чего хлопотать — сейчас-то это понятно. Но как-никак Лестер ему брат, и будь он сам в то время на месте Роберта, он, надо надеяться, не поступил бы так подло. А теперь Роберту зачем-то понадобилось видеть его.
Сначала Лестер решил совсем не отвечать. Потом решил написать Роберту, что не может с ним встретиться. Но им овладело любопытство, захотелось узнать, изменился ли Роберт, что ему нужно, какую комбинацию он затеял. И Лестер еще раз передумал. Да, они встретятся; вреда от этого не будет. Правда, и хорошего ничего не получится. Они, возможно, пообещают друг другу забыть старое, но слова останутся словами. Прошлого не воротишь. Нельзя разбитую чашку сделать целой. Можно только склеить ее к назвать целой, но целой она от этого не станет. Он написал брату, что приедет.
В четверг утром Роберт позвонил ему из «Аудиториума» и напомнил о предстоящем свидании, Лестер жадно прислушивался к звуку его голоса. «Да, да я помню», — сказал он. В полдень он поехал в деловую часть города, и здесь, в изысканном «Юнион-Клубе», братья встретились и оглядели друг друга. Роберт за это время похудел, волосы у него немного поседели. Взгляд остался твердым и пронзительным, но около глаз появились морщинки. Движения у него были быстрые, энергичные. В Лестере сразу угадывался человек совсем другого склада — плотный, грубоватый, флегматичный. В те дни многие находили его несколько жестким. Голубые глаза Роберта нисколько его не смутили, не оказали на него никакого действия. Он видел брата насквозь, потому что умел и наблюдать и делать выводы. А Роберту было трудно определить, в чем именно Лестер изменился за эти годы. Он пополнел, но почему-то не седеет, у него все такой же здоровый цвет лица и вообще он производил впечатление человека, готового принять жизнь такой, как она есть. Роберт беспокойно поежился от его строгого взгляда — было очевидно, что Лестер полностью сохранил и мужество и ясный ум, которые его всегда отличали.
— Мне очень хотелось с тобой повидаться, Лестер, — начал Роберт, после того как они, по старой привычке, обменялись крепким рукопожатием. — Мы давно не встречались — почти восемь лет.
— Да, около того, — отвечал Лестер. — Ну, как твои дела?
— Все по-старому. А ты прекрасно выглядишь.
— Я никогда не болею, — сказал Лестер, — разве что изредка насморк схвачу. А так, чтобы лежать в постели, — и не припомню. Как жена?
— Спасибо, жива и здорова.
— А дети?
— Ральфа и Беренис мы почти не видим, у каждого из них своя семья, а остальные пока дома. Надеюсь, твоя жена тоже в добром здоровье, — добавил он нерешительно, чувствуя, что ступает на скользкую почву.
Лестер окинул его спокойным взглядом.
— Да, — ответил он. — Здоровье у нее прекрасное. И сейчас она ни на что не жалуется.
Они еще поговорили о том о сем; Лестер справился о делах треста, спросил, как поживают сестры, откровенно признавшись, что совсем потерял их из виду. Роберт рассказал обо всех понемножку и, наконец, приступил к делу.
— А поговорить я хотел с тобой вот о чем, — сказал он. — Меня интересует «Западная Сталеплавильная компания». Я знаю, что ты лично не состоишь в числе ее директоров, тебя представляет твой поверенный Уотсон, — очень, кстати сказать, толковый человек. Так вот, управление компанией поставлено скверно, это нам всем известно. Для того, чтобы получить надлежащие прибыли, нам нужно иметь во главе ее человека практичного и сведущего. До сих пор я неизменно действовал заодно с Уотсоном, потому что находил его предложения вполне разумными. Он, как и я, считает, что многое нужно изменить. Сейчас представилась возможность купить семьдесят акций, которыми владеет вдова Росситера. Вместе с твоей и моей долей это составило бы контрольный пакет. Я бы очень хотел, чтобы именно ты купил эти семьдесят акций, хотя с тем же успехом могу их взять и на свое имя — лишь бы сохранить их за нами. Тогда ты сделаешь президентом кого захочешь, а дальше все пойдет как по маслу.
Лестер улыбнулся. Предложение было заманчивое. Он уже знал от Уотсона, что в делах этой компании Роберт держит его сторону, и давно догадывался о намерении брата пойти на мировую. Так вот она — оливковая ветвь в виде контроля над компанией с полуторамиллионным капиталом!
— Это очень мило с твоей стороны, — сказал он серьезно. — Прямо-таки щедрый подарок. С чего это тебе вздумалось?
— Что ж, Лестер, я скажу тебе правду, — отвечал Роберт. — Мне все эти годы не давала покоя та история с завещанием и то, что ты лишился должности секретаря-казначея, и другие недоразумения. Я не хочу ворошить старое — ты, я вижу, улыбаешься, — но почему не высказать тебе моих мыслей? В прошлом я был порядком честолюбив. И как раз в то время, когда умер отец, я носился с планами создания Каретного треста и боялся, что ты их не одобришь. С тех пор я часто думал, что поступил нехорошо, но дело уже было сделано. Но то, с чего я сегодня начал…
— Могло бы служить некоторой компенсацией, — спокойно закончил Лестер.
— Ну, не совсем так, Лестер… хотя, пожалуй, в этом роде. Я понимаю, что теперь такие вещи не имеют для тебя большого значения. Я понимаю, что важнее было что-то предпринять тогда, а не сейчас. Но все же я искренне думал заинтересовать тебя своим предложением. Я думал, оно послужит началом. Скажу по совести, я хотел, чтобы это был первый шаг к нашему примирению, ведь мы как-никак братья.
— Да, — сказал Лестер, — мы братья.
Он думал о том, сколько иронии в этих словах. Много ли братские чувства Роберта помогли ему в прошлом? По существу никто иной, как Роберт, толкнул его на брак с миссис Джералд; и хотя истинно страдающим лицом оказалась одна Дженни, Лестер до сих пор на него досадовал. Правда, Роберт не лишил его четвертой части отцовского состояния, но зато и не помог получить ее. А теперь воображает, что своим предложением сразу поправит дело. Не хорошо это. И глупо. И вообще странная штука — жизнь!
— Нет, Роберт, — сказал он наконец твердо и решительно. — Я понимаю твои мотивы. Но не вижу, зачем это мне. Случай представился тебе, ты им пользуйся. А я не хочу. Если ты купишь эти акции, я согласен на все мероприятия, какие ты найдешь нужным провести. Я теперь достаточно богат. Что прошло, то прошло. Я не отказываюсь время от времени встречаться и беседовать с тобой. А ведь это все, что тебе нужно. Комбинация, которую ты мне предлагаешь, — попросту штукатурка, чтобы заделать старую трещину. Тебе нужно мое расположение — пожалуйста. Я не питаю к тебе злобы. И не собираюсь тебе вредить.
Роберт посмотрел на брата и усмехнулся. Как бы он ни обидел Лестера в прошлом, как бы ни был обижен им сейчас, все же это замечательный человек.
— Может быть, ты и прав, Лестер, — сказал он. — Но знай, что мною руководили не мелочные соображения. Мне действительно хотелось помириться с тобой. Больше я не буду к этому возвращаться. Ты в ближайшее время в Цинциннати не собираешься?
— Да как будто нет, — отвечал Лестер.
— А я хотел предложить тебе остановиться у нас. Приезжай с женой. Вспомним молодость.
Лестер невесело улыбнулся.
— Что ж, с удовольствием, — сказал он вежливо, а сам подумал, что во времена Дженни не дождался бы такого приглашения. Ничто не заставило бы его родных отнестись к ней по-человечески. «А впрочем, они, может быть, и не виноваты, — подумал он. — Бог с ними».
Братья поговорили еще немного. Потом Лестер вспомнил, что у него назначено деловое свидание, и взглянул на часы.
— Мне скоро придется тебя покинуть, — сказал он.
— Да и мне пора, — сказал Роберт.
Они встали.
— Как бы там ни было, — добавил старший брат, спускаясь по лестнице, — я надеюсь, что впредь мы будем не совсем чужими друг другу.
— Разумеется, — сказал Лестер. — Время от времени будем встречаться.
Они пожали друг другу руки и расстались вполне дружески. Глядя вслед быстро удаляющемуся Лестеру, Роберт испытывал смутное чувство раскаяния и не выполненного долга. Лестер — незаурядный человек. Почему же всегда, даже до появления Дженни, между ними стояла какая-то стена? Потом Роберт вспомнил своя давнишние мысли о «темных сделках». Да, вот чего не хватает Лестеру — в нем нет коварства, он не способен на жестокость. Ах ты, черт возьми!
А Лестер думал о брате с досадой, но без враждебного чувства. Не так уж он плох — не хуже многих и многих других. К чему осуждать его? Еще неизвестно, как он сам поступил бы на месте Роберта. Роберт купается в деньгах. Он тоже. Теперь ему ясно, как все получилось, — почему он оказался жертвой, почему управление огромным отцовским состоянием было доверено Роберту. «Такова жизнь, — думал он. — Не все ли равно? У меня достаточно средств. Так о чем же еще беспокоиться?»
Глава LXI
По каким-то стародавним подсчетам, или, вернее, согласно освященной веками библейской формуле, человеку отпущено для жизни семьдесят лет. Формула эта, бесконечно повторяемая из рода в род, так крепко внедрилась в сознание людей, что принимается как непреложная истина. На самом же деле человек, хотя бы и считающий себя смертным, органически способен прожить в пять раз дольше, и жизнь его в самом деле была бы много продолжительнее, если бы только он знал, что живет не тело, а дух, что возраст — это иллюзия и что смерти нет. Однако веками укореняющуюся мысль — плод неведомо каких материалистических гипотез — чрезвычайно трудно вытравить из сознания, и каждый день люди умирают, словно повинуясь этой, с покорностью и страхом принятой ими математической формуле.
Верил в эту формулу и Лестер. Ему перевалило за пятьдесят. Он считал, что жить ему осталось самое большее двадцать лет, а может, и меньше. Ну что ж, он прожил завидную жизнь. Жаловаться не на что. Если смерть придет, он готов к ней. Он встретит ее без жалоб, без борьбы. Ведь жизнь в большинстве своих проявлений всего только глупая комедия.
Куда ни глянь — одни иллюзии, это нетрудно доказать. А может быть, жизнь вообще только иллюзия? Во всяком случае, она очень похожа на сон, подчас — на скверный сон. Что поддерживает в нем изо дня в день сознание реальности жизни? Видимое общение с людьми: заседания правлений, обсуждение всевозможных планов с отдельными лицами и организациями, светские приемы жены. Летти обожала его и называла своим мудрым старым философом. Так же, как Дженни, она восхищалась его невозмутимой твердостью перед лицом всяческих передряг. Казалось, ни удары, ни улыбки судьбы не способны были взволновать Лестера или вывести его из равновесия. Он не желал пугаться. Не желал отступать от своих убеждений, симпатий и антипатий, и его приходилось отрывать от них силой, что не всегда удавалось. По собственному выражению, он желал одного: «смотреть фактам в глаза» и бороться. Заставить его бороться было не трудно, но эта борьба выражалась в упорном сопротивлении. Он сопротивлялся всем попыткам насильно столкнуть его в воду. Даже если в конце концов его все же сталкивали, взгляд его на необходимость сопротивления оставался неизменным.
Его запросы всегда были преимущественно материального порядка, он хотел только земных благ и соглашался лишь на самое лучшее. Стоило внутренней отделке его дома хоть немного поблекнуть, как он требовал, чтобы гардины были сорваны, мебель продана и весь дом отделан заново. Во время его путешествий деньги должны были прокладывать и расчищать ему дорогу. Он не терпел пререканий, ненужных разговоров, «дурацкой болтовни», как он сам называл это. С ним полагалось либо беседовать на интересующие его темы, либо не разговаривать совсем. Летти прекрасно понимала его. Она шутливо трепала его по щеке или брала обеими руками за голову и уверяла, что он медведь, но очень симпатичный и милый медведь.
— Да, да, знаю, — ворчал он. — Я животное. А ты, надо полагать, бесплотное средоточие ангельской сущности.
— Ну, довольно, замолчи, — говорила она, потому что он, хоть и без злого умысла, делал ей иногда очень больно. Тогда Лестер спешил утешить ее лаской — он хорошо знал, что она, несмотря на всю свою энергию и самостоятельность, зависит от него. А ей всегда было ясно, что он может обойтись и без нее. Жалея ее, он пытался это скрывать, притворялся, что она ему необходима, но ему не удавалось обмануть ни ее, ни себя, Летти же действительно цеплялась за него всеми силами. Так важно, когда в нашем изменчивом непрочном мире рядом с тобой есть столь определенная и постоянная величина, как этот мужественный человек. Чувствуешь себя как у приветливой лампы в темной комнате или у пылающего костра на холодной улице. Лестер ничего не боится. Он уверен, что умеет жить и сумеет умереть.
Такой темперамент, естественно, должен был проявляться на каждом шагу и по всякому поводу. Теперь, когда Лестер привел в порядок свои финансовые дела и крепко держал в руках все нити, когда большая часть его состояния была вложена в акции крупнейших компаний, директорам которых не было другого дела, кроме как санкционировать инициативу своих честолюбивых администраторов, у него оставалось вдоволь свободного времени. Он много разъезжал с Летти по модным курортам Европы и Америки. Он полюбил азартные игры — ему нравилось делать крупные ставки, рискуя все потерять, если не вовремя остановится колесо или не туда покатится шарик; он еще больше пристрастился к спиртному — не как пьяница, но как человек, который любит пожить в свое удовольствие и хорошо провести время с друзьями. Пил он либо неразбавленные виски, либо лучшие сорта вин — шампанское, искристое бургундское, дорогие, веселящие душу белые вина. Он мог пить помногу и ел соответственно. Все, что появлялось у него на столе, — закуски, супы, рыба, жаркое, дичь, — должно было непременно быть первосортное, и он давно уже пришел к выводу, что имеет смысл держать только самого дорогого повара. Они разыскали и наняли старого француза, Луи Бердо, когда-то служившего в поварах у миллионера-мануфактурщика. Лестер платил ему сто долларов в неделю, а на все недоуменные вопросы по этому поводу отвечал, что жизнь дается нам только раз.
Проникнувшись такими взглядами, Лестер был бессилен что-либо изменить, что-либо исправить; помимо его воли все стремилось к неведомой ему цели. Если бы он женился на Дженни и получал сравнительно скромный доход в десять тысяч годовых, он все равно не отказался бы от этих взглядов. Он жил бы так же безвольно, довольствуясь обществом двух-трех приятелей, говорящих на одном с ним языке и видящих в нем то, чем он был, — славного малого, и Дженни, пожалуй, жилось бы с ним немногим лучше, чем без него.
Одним из важных событий в жизни Кейнов был их переезд в Нью-Йорк. Среди близких друзей миссис Кейн имелось несколько умных женщин — представительниц четырехсот лучших семейств Новой Англии; они-то и уговорили ее переселиться в Нью-Йорк. Приняв это решение, она сняла дом на Семьдесят восьмой улице, близ Мэдисон-авеню, обставила каждую комнату в стиле какой-нибудь исторической эпохи и впервые завела целый штат ливрейных лакеев, совсем на английский лад. Лестер посмеивался над ее тщеславием и любовью к пышным декорациям.
— А еще толкуешь о своей демократичности, — проворчал он однажды. — Ты такая же демократка, как я — верующий христианин!
— Вовсе нет! — возразила она. — Я самая настоящая демократка. Но все мы неотделимы от своего класса. И ты тоже. Я просто подчиняюсь логике вещей.
— Какая там к черту логика! Ты еще скажешь, что дворецкий и лакей, наряженные в красный бархат, продиктованы необходимостью?
— Конечно! — отвечала она. — Ну, если не необходимостью, так всем укладом нашей жизни. Что тебя так возмущает? Ты же первый настаиваешь, чтобы все было безупречно, первый возмущаешься, чуть заметишь малейший изъян.
— Когда это я возмущался?
— Ну, может быть, я не так выразилась. Но ты хочешь, чтобы все было идеально, чтобы в каждом случае был выдержан стиль… Да ты сам это прекрасно знаешь.
— Предположим, но при чем тут твоя демократичность?
— Я демократка. Этого ты у меня не отнимешь. В душе я не менее демократична, чем любая другая женщина, Просто я трезво смотрю на вещи и по возможности ни в чем себе не отказываю, точно так же, как и ты. Нечего швырять камешки в мой стеклянный дом, уважаемый Повелитель. Ваш домик тоже прозрачный, я вижу каждое ваше движение.
— И все-таки я демократ, а ты нет, — поддразнил ее Лестер.
Впрочем, он безоговорочно одобрял все, что бы она ни делала. Порою ему казалось, что она распоряжается своим миром куда более толково, чем он — своим.
Бесконечная еда и питье, воды всех по очереди целебных источников, путешествия в покое и роскоши, пренебрежение гимнастикой и спортом — все это в конце концов подорвало здоровье Лестера, — чрезмерное полнокровие тормозило теперь все функции его когда-то сильного, подвижного тела. Уже давно его желудок, печень, почки, селезенка работали с перегрузкой. За последние семь лет он очень располнел. Первыми стали отказывать почки, а также сосуды мозга. При умеренной еде, достаточно подвижном образе жизни и большем душевном равновесии Лестер мог бы прожить и до восьмидесяти и до девяноста лет. Но он позволил себе дойти до такого физического состояния, когда малейшая болезнь грозила серьезными последствиями. Результат всего этого мог быть только один, и он не замедлил сказаться.
Однажды Лестер и Летти с компанией друзей отправились на яхте к северным берегам Норвегии. В конце ноября важные дела потребовали присутствия Лестера в Чикаго; он уговорился с женой, что к Рождеству они съедутся в Нью-Йорке. Известив Уотсона, чтобы тот встретил его, Лестер приехал и остановился в «Аудиториуме» — чикагский особняк уже два года как был продан.
В последних числах ноября, когда Лестер в основном уже закончил свои дела, он внезапно почувствовал себя плохо. Пришел доктор и сказал, что у него кишечное расстройство, которое нередко служит проявлением серьезного общего заболевания крови или какого-нибудь важного органа. Лестер очень страдал. Врач велел тепло закутать ноги, прописал горчичники и лекарства. Боли утихли, но Лестера томило предчувствие близкой беды. Он попросил Уотсона послать телеграмму Летти. Нужно сообщить ей, что ничего серьезного нет, просто ему нездоровится. У постели Лестера дежурила сестра, его лакей стоял как на часах за дверью номера, не пропуская докучливых посетителей. Летти могла добраться до Чикаго не раньше, чем через три недели, Лестер чувствовал, что никогда больше ее не увидит.
Как ни странно, он в эти дни все время думал о Дженни, и не только потому, что был в Чикаго, — просто она, как и раньше, оставалась для него самым близким человеком, Он собирался навестить ее в этот приезд, как только немного освободится. В первый же день он расспросил о ней Уотсона, и тот сказал, что она живет по-прежнему уединенно и выглядит хорошо. Лестеру очень хотелось повидаться с ней.
Дни шли за днями, ему не становилось лучше, и желание это овладевало им все сильнее. Его мучили приступы страшной боли, которая словно скручивала ему все внутренности и сменялась полным упадком сил. Чтобы облегчить его страдания, врач уже несколько раз впрыскивал ему морфий.
Однажды, после особенно жесткого приступа, Лестер подозвал к себе Уотсона, велел ему отослать сестру и сказал:
— Я хочу попросить вас об одном одолжении. Узнайте у миссис Стовер, не может ли она навестить меня. А лучше всего съездите за ней сами. Сиделку и Козо (так звали лакея) можно отослать на полдня или на то время, пока она будет здесь. Когда бы она ни приехала, пустите ее ко мне.
Уотсон понял. Это проявление чувства нашло отклик в его душе. Ему было жаль Дженни. И жаль Лестера. Он подумал о том, как удивился бы свет, узнав о романтической прихоти столь видного человека. Уотсон глубоко уважал Лестера и всегда помнил, что обязан ему собственным благосостоянием. Он готов был оказать Лестеру любую услугу.
Наемный экипаж быстро доставил его на Южную сторону. Дженни оказалась дома. Она поливала цветы и удивленно подняла брови при виде Уотсона.
— Я к вам с нерадостным поручением, миссис Стовер, — начал он. — Ваш… я хочу сказать, мистер Кейн серьезно болен. Он в «Аудиториуме». Жена его еще не вернулась из Европы. Он поручил мне заехать к вам и передать, что он просит вас навестить его. Он просил, если возможно, привезти вас к нему… Вы могли бы поехать со мной сейчас?
— Да, конечно, — ответила Дженни, и на лице ее появилось какое-то отсутствующее выражение.
Дети были в школе. Старуха шведка, единственная ее служанка, сидела в кухне. Ничто не мешало Дженни отлучиться из дому. Но тут ей внезапно вспомнился во всех подробностях сон, который она видела несколько дней назад. Ей снилось, что вокруг нее — таинственное черное озеро, над которым навис туман или облако дыма. Она услышала слабый плеск воды, и из обступившего ее мрака появилась лодка. Лодка была маленькая, без весел, она двигалась сама собой, и в ней сидели мать Дженни, Веста и еще кто-то, кого она не могла разглядеть. Лицо матери было бледно и печально, каким часто бывало при жизни. Она смотрела на Дженни строгими, но полными сочувствия глазами, и внезапно Дженни поняла, что третьим в лодке сидит Лестер. Он мрачно взглянул на нее — Дженни никогда не видела его таким, — и тут ее мать сказала: «А теперь довольно, нам пора». Лодка стала удаляться, острое чувство утраты охватило Дженни, она крикнула: «Мама, не оставляй меня одну!» Но мать только поглядела на нее глубоким, кротким, печальным взором, и лодка исчезла.
Дженни в испуге проснулась, ей почудилось, что Лестер рядом с ней. Она протянула руку, чтобы тронуть его за плечо; потом, сообразив, что она одна, села в постели и протерла глаза. После этого тяжелое, гнетущее чувство два дня не давало ей покоя. И едва оно стало проходить, как явился мистер Уотсон со своей страшной вестью.
Дженни вышла из комнаты и скоро вернулась в пальто и шляпе; походка, лицо — все выдавало ее волнение. Дженни еще и теперь была очень хороша собой — статная, прекрасно одетая, с ясным и добрым взглядом. В душе она не расставалась с Лестером, так же как он никогда не мог до конца оторваться от нее. Все ее мысли были с ним, как в те годы, когда они жили вместе. Самые заветные ее воспоминания были связаны с Кливлендом, где Лестер ухаживал за ней и покорил ее силой, — наверно, так пещерный человек покорял свою подругу. Теперь Дженни страстно желала чем-нибудь помочь ему. Он послал за ней — это не только потрясло ее, но и открыло ей глаза; значит, он все-таки… все-таки любит ее!
Экипаж быстро катился по длинным улицам к окутанной дымом деловой части города. Поверенный деликатно молчал, не мешая Дженни думать. Скоро они подъехали к «Аудиториуму», и Уотсон проводил ее до двери номера, где лежал Лестер. Дженни так давно не бывала на людях, что сильно робела, идя по длинным коридорам отеля. Войдя в номер, она подошла к кровати Лестера и застыла, глядя на него полными жалости, широко раскрытыми голубыми глазами. Он полулежал, откинув массивную голову на подушки, в темных волосах его пробивалась седина. Умные, старые, усталые глаза смотрели на Дженни с ласковым любопытством. Жгучая боль пронзила ее при виде этого бледного, измученного лица. Она тихонько пожала руку Лестера, лежавшую поверх одеяла. Потом наклонилась и поцеловала его в губы.
— Я так огорчена, так огорчена, Лестер, — прошептала она. — Но ведь ты не очень серьезно болен, правда? Тебе нужно поправляться, и как можно скорее. — Она тихонько погладила его руку.
— Да, Дженни, но дела мои плохи, — сказал он. — Скрутило меня не на шутку. Не знаю, удастся ли выкарабкаться. Ты лучше расскажи о себе. Как ты живешь?
— Живу по-прежнему, милый, — ответила она. — У меня все хорошо. А ты напрасно так говоришь. Ты поправишься, и очень скоро.
Он горько улыбнулся.
— Ты думаешь? — И с сомнением покачал головой. — Впрочем, — продолжал он, — это меня мало беспокоит. Садись, родная. Я хочу поговорить с тобой, как бывало. Хочу, чтобы ты была около меня.
Он вздохнул и закрыл глаза.
Дженни придвинула к постели стул, села и взяла руку Лестера в свои. Как хорошо, что он послал за ней! Жалость, любовь, благодарность переполняли ее сердце. И вдруг она похолодела от страха; он болен тяжело, это сразу видно!
— Не знаю, что будет дальше, — говорил Лестер. — Летти в Европе. Мне уже давно хотелось тебя повидать. Решил — в этот приезд непременно наведаюсь, Ты ведь знаешь, мы теперь живем в Нью-Йорке. А ты немножко пополнела, Дженни.
— Старею, Лестер, — улыбнулась она.
— Это неважно, — возразил он, не отводя от нее глаз. — Дело не в возрасте. Все стареют. Дело в том, как кто смотрит на жизнь.
Он замолчал и поднял глаза к потолку. Легкая боль напомнила ему о перенесенных мучениях. Еще несколько таких приступов, как сегодня утром, — и он не выдержит.
— Я не мог умереть, не повидавшись с тобой, — заговорил он опять, когда боль отпустила. — Я давно хотел тебе сказать, Дженни, — напрасно мы расстались. Теперь я вижу, что это было не нужно. Мне это не дало счастья. Ты прости меня. Мне самому было бы легче, если бы я не сделал этого.
— Ну что ты, Лестер, — возразила она, и в этот миг вся их совместная жизнь пронеслась в ее памяти. Вот оно — свидетельство их подлинного союза, их подлинной душевной близости! — Не мучай себя. Все хорошо и так. Ты был очень добр ко мне. Не мог же ты из-за меня потерять все свое состояние. И мне так гораздо спокойнее. Конечно, было тяжело, но мало ли в жизни тяжелого, мой дорогой.
Она умолкла.
— Нет, — сказал Лестер, — это было ошибкой. С самого начала все шло не так; но ты в этом не виновата. Прости меня. Я давно хотел тебе сказать это. Я очень рад, что успел.
— Не говори так, Лестер, прошу тебя, — взмолилась Дженни. — Все хорошо. Тебе не о чем жалеть. Ты столько для меня сделал! Когда я подумаю… — Голос у нее сорвался. Любовь и жалость душили ее. Она молча сжала руку Лестера. Ей вспомнился дом в Кливленде, который он купил для ее родных, и как он приютил ее отца, и вся его забота и ласка.
— Ну вот, теперь я тебе все сказал, и мне легче. Ты хорошая женщина, Дженни. Спасибо, что ты пришла ко мне. Я тебя любил. И сейчас люблю. Это я тоже хотел тебе оказать. Как странно, но, кроме тебя, я ни одной женщины не любил по-настоящему. Не надо нам было расставаться.
У Дженни перехватило дыхание. Этих слов — только этих слов — она ждала долгие годы. Единственное, чего ей недоставало, — вот этого подтверждения их близости, если не физической, то духовной. Теперь жизнь будет для нее счастьем. И смерть тоже. Рыдания подступили к горлу.
— Ах, Лестер! — воскликнула она и сжала его руку.
Он ответил ей слабым пожатием. Некоторое время оба молчали. Потом он снова заговорил.
— Ну, как твои сиротки?
— Дети чудесные, — ответила она и стала подробно рассказывать ему о своих маленьких воспитанниках. Лестер слушал довольный, ее голос успокаивал его. Самое ее присутствие было ему отрадно. Когда она поднялась, чтобы уходить, брови его страдальчески сдвинулись.
— Уходишь, Дженни?
— Я могу остаться здесь, Лестер, — предложила она. — Возьму себе номер. А миссис Свенсон извещу запиской, и все будет хорошо.
— Нет, зачем же, — сказал он, но она поняла, что нужна ему, что он боится остаться один.
И до его последнего часа она уже не уходила из отеля.
Глава LXII
Конец настал через четыре дня, в течение которых Дженни почти не отлучалась от постели больного. Сестра была очень довольна, что у нее появилась смена и она не одна. Врач попробовал протестовать. Но с Лестером было трудно спорить.
— Мне умирать, а не вам, — заявил он с мрачной иронией. — Уж разрешите мне умереть так, как мне нравится.
Уотсон только улыбнулся. Такого несгибаемого мужества он еще не видел.
Лестеру писали, справлялись о его здоровье по телефону, завозили карточки; заметки о его болезни появились в газетах. Роберт прочел одну из них и решил съездить в Чикаго. Пришла Имоджин с мужем. Их на несколько минут впустили к Лестеру, после того как Дженни ушла к себе в номер. Лестер почти все время молчал. Сестра предупредила, что с ним нельзя много разговаривать. Позже он сказал Дженни:
— Имоджин очень изменилась. — И больше ничего не добавил.
В тот вечер, когда Лестер умер, пароход, которым возвращалась на родину миссис Кейн, был в трех днях пути от Нью-Йорка. Последние дни Лестер все думал, что бы еще сделать для Дженни, но так ничего и не решил. Оставить ей еще денег? Смысла нет, они ей не нужны. И как раз когда он задумался о том, где-то сейчас Летти и когда она сможет добраться сюда, у него начались жестокие боли. Еще до того, как ему успели сделать укол, наступила смерть. Позднее выяснилось, что умер он не от кишечного заболевания, а от кровоизлияния в мозг.
Дженни, изнуренная тревогой и бессонными ночами, словно окаменела от горя. Лестер так долго владел ее мыслями и чувствами, что теперь ей казалось, будто кончилась ее собственная жизнь. Она любила его так, как не могла бы, вероятно, любить никого другого, и он всегда умел показать, что она дорога ему. Горе Дженни не находило выхода в слезах, она ощущала только тупую боль, какое-то оцепенение сковало все ее чувства. Лестер — ее Лестер — даже в смерти казался таким сильным. Лицо было спокойное, но решительное, вызывающее, как прежде. Миссис Кейн известила, что приедет в среду. Было решено подождать с похоронами. Дженни узнала от мистера Уотсона, что тело перевезут в Цинциннати и похоронят там в фамильном склепе семьи Пэйс, Когда стали съезжаться родственники, Дженни уехала к себе домой, здесь ей больше нечего было делать.
В погребальных церемониях можно было усмотреть своеобразную иллюстрацию того, сколько противоестественного содержит наша жизнь. Миссис Кейн сообщила по телеграфу, что тело Лестера будет перевезено из гостиницы в дом Имоджин. Нести гроб должны были Роберт, прибывший в Чикаго через несколько часов после смерти брата, Берри Додж, муж Имоджин мистер Миджли и еще три не менее почтенных джентльмена. Из Буффало приехали Луиза и ее муж, из Цинциннати — Эми с мужем. В доме было тесно от людей, приходивших проститься с покойным, — кто по искреннему желанию, а кто для приличия. Поскольку Лестер и его родные считали себя католиками, для совершения похоронного обряда был приглашен католический священник. Лестер лежал в парадной гостиной чужого ему дома, в головах и на ногах у него горели погребальные свечи, восковые пальцы придерживали на груди серебряное распятие. Он улыбнулся бы, если б мог себя увидеть. Но семья Кейн, привыкшая соблюдать условности, свято придерживавшаяся традиционных обычаев, не усматривала в этом ничего несообразного. Духовенство, разумеется, было готово к услугам. Семья богатая, всеми уважаемая, так какие же могут быть разговоры?
В среду прибыла в Чикаго миссис Кейн. Горе ее было безгранично — как и Дженни, она непритворно любила Лестера. Поздно вечером, когда в доме все стихло, она спустилась в гостиную и долго стояла, склонившись над гробом, вглядываясь в любимое лицо, освещенное мигающими свечами. Слезы текли у нее по щекам, — она вспомнила, как счастлива была с Лестером. «Бедный, милый Лестер! — прошептала она. — Бедный мой герой!» — и погладила его холодные щеки и руки. Ей не сказали, что он посылал за Дженни. Никто в семье Кейн не знал об этом.
А тем временем в маленьком доме на Южной стороне другая женщина в полном одиночестве несла боль и муку невозвратимой утраты. Все эти годы в душе ее упрямо теплилась надежда, что, может быть, когда-нибудь они снова соединятся. Правда, он вернулся к ней, вернулся перед самой смертью, но теперь опять ушел. Куда? Куда ушла мать, отец, куда ушла Веста? Дженни не надеялась больше увидеть Лестера; в газетах она прочла, что тело его перевезли в дом мистера Миджли; отпевание должно было происходить в одной из самых богатых католических церквей на Южной стороне — в церкви святого Михаила, прихожанами которой были Имоджин и ее муж. А затем гроб с телом увезут в Цинциннати.
Это было для Дженни новым горем. Ей так хотелось, чтобы Лестера похоронили в Чикаго, — она могла бы хоть изредка ходить на его могилу. Но и этого ее лишили. Никогда она не была хозяйкой своей судьбы. Вечно ею распоряжались другие. Эти похороны в Цинциннати она переживала как последнюю, окончательную разлуку с Лестером, словно расстояние могло что-то изменить. Наконец она решила украдкой пробраться в церковь на заупокойную службу. В газете было сказано, что служба начнется в два часа; в четыре тело перевезут на вокзал; родные будут сопровождать его в Цинциннати. Дженни пришла в голову новая мысль: она может поехать и на вокзал.
Незадолго до того, как похоронный кортеж достиг церкви, в нее вошла через боковую дверь женщина в черном, под густой вуалью, и скромно села в сторонке, в полутемном углу. Церковь стояла пустая, неосвещенная, и Дженни охватила тревога: верно ли она запомнила время и место; но она сомневалась недолго: над головой у нее раздался мерный похоронный звон. Затем появился служка в белом стихаре поверх черного облачения; он прошел к алтарю и стал зажигать свечи. На хорах послышались приглушенные шаги — это певчие занимали свои места. Вошли и расселись на скамьях какие-то люди — может быть, случайные прохожие, привлеченные звоном колоколов.
Дженни с удивлением оглядывалась по сторонам. Она еще никогда не была в католической церкви. Полумрак, стрельчатые окна с цветными стеклами, белый алтарь, золотое пламя свечей — все это произвело на нее глубокое впечатление. Ощущение красоты и тайны, печаль и тоска по утраченному переполняли ее. Казалось, перед ней сама жизнь во всей своей туманной неопределенности.
Колокол все звонил, и вот из ризницы показалась процессия мальчиков. Впереди шел самый маленький — прелестный мальчуган лет одиннадцати; он нес сверкающий серебряный крест. Остальные шли за ним парами, у каждого была в руках большая зажженная свеча. За ними следовал священник в черном облачении, отороченном кружевами, и при нем два служки. Процессия удалилась через главный выход на паперть. Прошло несколько минут, потом два хора, перекликаясь, запели по-латыни скорбное моление о милосердии и мире душевном.
С первыми звуками двери церкви распахнулись. Опять показался серебряный крест, свечи, строгий священник, на ходу произносящий взволнованные слова молитвы, а за ним — тяжелый черный гроб с серебряными ручками на плечах у мерно шагающих мужчин. Дженни замерла, словно невидимая сила сковала все ее движения. Никого из этих мужчин она не знала. Она ни разу не видела ни Роберта, ни мистера Миджли. Среди множества людей, которые попарно следовали за гробом, она узнала только троих — в давно прошедшие дни Лестер ей показывал их в театре или в ресторане. Миссис Кейн шла первая, опираясь на руку какого-то мужчины; за ней Уотсон, печальный, серьезный. Он быстро огляделся по сторонам, видимо, отыскивая глазами Дженни; но, не найдя ее, снова устремил взгляд вперед. Дженни смотрела, смотрела, и сердце у нее сжималось все больнее. Этот торжественный обряд так близко касался ее, а между тем как бесконечно далека она всем этим людям!
Процессия подошла к алтарю, и здесь гроб опустили наземь. На него набросили белый покров с черным крестом — эмблемой страдания, — а вокруг поставили высокие свечи. С хоров неслось стройное пение, гроб окропили святой водой, раскачивалось кадило, и молящиеся вполголоса повторяли вслед за священником «Отче наш», а потом — по католическому канону — молитву пресвятой деве. Дженни была изумлена и подавлена, но ни прекрасная церковь, ни пышный обряд не могли смягчить остроту ее горя, чувство непоправимой утраты. Свечи, запах ладана, песнопения — вся эта красота проникла в самую ее душу, отзывалась в ней глубокой печалью. Словно не осталось ничего, кроме скорбной мелодии и присутствия смерти. Дженни плакала, плакала. И почему-то удивилась, увидев, что миссис Кейн тоже вздрагивает от рыданий.
Служба кончилась, провожающие расселись по каретам, и гроб повезли на вокзал. Когда ушли все, приглашенные и чужие, и церковь опустела, Дженни тоже поднялась. Теперь и она поедет на вокзал — может быть ей удастся увидеть, как гроб будут вносить в вагон. Вероятно, его заранее выставят на платформу — так было, когда увозили Весту. Дженни села в экипаж и скоро уже входила под своды вокзала. Сперва она постояла близ высокой решетки, за которой тянулись железнодорожные пути, потом прошла в зал ожидания и внимательно оглядела сидевших там людей. А вот и они — миссис Кейн, Роберт, мистер Миджли, Луиза, Эми, Имоджин, и с ними еще кто-то. Дженни чувствовала, что могла бы безошибочно назвать почти каждого из них, хоть никто ее с ними не знакомил.
Только сейчас она вспомнила, что завтра — праздник, День Благодарения. Огромный вокзал заполняла шумная, оживленная толпа. Веселый гул стоял кругом — люди, уезжая на праздник за город, громко смеялись и переговаривались в предвкушении отдыха и развлечений. К вокзалу беспрерывно подъезжали экипажи. Зычный голос объявлял о посадке на поезда, по мере того как их подавали к перрону. У Дженни защемило сердце, когда медленно, нараспев объявили маршрут, по которому она не раз ездила с Лестером: «Детройт — Толедо — Кливленд — Буффало — Нью-Йорк». Потом объявили поезд «Форт Уэйн — Колумбус — Питтсбург — Филадельфия — Атлантик-Сити» и, наконец, — «Индианаполис — Колумбус — Цинциннати»… Час настал.
Дженни уже несколько раз переходила из зала ожидания к железной решетке, отделявшей ее от возлюбленного, гадая, удастся ли ей еще раз взглянуть на гроб, заключенный в деревянный ящик, прежде чем его погрузят в поезд. И вдруг она увидела то, чего ждала. К тому месту, где должен был остановиться багажный вагон, подкатили тележку. И на ней лежал Лестер — все, что от него осталось, — надежно защищенный от любопытных взглядов деревом, тканью, серебром. Грузчику, который возился у тележки, и в голову не приходило, сколько здесь сокрыто горя и мук. Откуда ему было знать, что в этот час богатство и общественное положение воплотилось для Дженни в виде решетки — неодолимой преграды, навек отделившей ее от любимого? Так было всегда. Всю жизнь богатство и сила, в нем воплощенная, оттесняли ее, не пускали дальше определенной черты. Видно, ей на роду было написано не требовать, а смиряться. С самого ее детства армия богатых триумфальным маршем шествовала мимо нее. Что же ей осталось теперь, кроме как с тоской глядеть им вслед? Лестер был своим в этом чужом ей мире. Ему уделяли там почетное место, а ее и знать не хотели. Пока она стояла, приникнув лицом к решетке, снова раздалось: «Индианаполис — Колумбус — Цинциннати»… К перрону подкатил длинный красный поезд с ярко освещенными окнами: багажные вагоны, пассажирские, вагон-ресторан, сверкающий серебром и белоснежными скатертями, несколько спальных вагонов-люкс, а впереди огромный черный паровоз, изрыгающий дым и снопы искр.
Один из багажных вагонов поравнялся с тележкой, из него выглянул поездной грузчик в синем и, обернувшись, крикнул кому-то невидимому:
— Эй, Джек, подсоби! Покойника грузить будем.
Дженни ничего не слышала.
Она видела одно — длинный ящик, который вот-вот скроется из глаз. Она чувствовала одно — скоро поезд тронется, и все будет кончено. Открыли ворота в решетке, пассажиры хлынули на перрон. Вот Роберт, Эми, Луиза, все они направляются к спальным вагонам в хвосте поезда. С друзьями они уже простились и теперь идут быстро, не оглядываясь. Трое рабочих «подсобили» поднять тяжелый ящик. У Дженни словно что-то оборвалось в груди, когда он исчез в глубине вагона.
Потом грузили еще много сундуков и чемоданов, потом прозвонил паровозный колокольчик, и дверь багажного вагона наполовину закрылась. Слышатся возгласы «Прошу занимать места!» — и вот уже огромный паровоз медленно сдвинулся с места. Звонит колокол, со свистом вырывается пар; черный дым высоко поднимается из трубы; потом, спадая, застилает вагоны погребальным покровом. Кочегар, словно чувствуя, какой тяжелый состав предстоит вести, отворяет дверцу пылающей топки, чтобы подбросить угля. Отверстие топки светится, как огненный глаз.
Дженни стояла, завороженная этой картиной; бледная, стиснув руки и широко открыв глаза, она помнила об одном — Лестера увозят. Свинцовое ноябрьское небо нависло над путями. Поезд уходил все дальше, дальше, и, наконец, красный фонарь на последнем спальном вагоне скрылся из глаз, утонув в дымном тумане.
— Да, да, — сказал, проходя мимо Дженни, какой-то человек, видимо, собравшийся за город. — Мы там отлично проведем время. Ты Энни помнишь? И дядя Джим едет, и тетя Элла.
Дженни ничего не слышала — ни этих слов, ни шумной суматохи вокзала. Перед глазами ее разматывался длинный свиток тоскливых, одиноких лет. Что же дальше? Она еще не стара. Нужно воспитать своих приемышей. Пройдет немного времени, они оперятся, уйдут от нее, а дальше? Бесконечная вереница дней, один, как другой, а потом?..


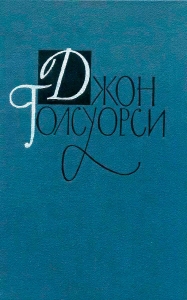
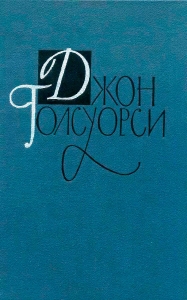
Комментарии к книге «Дженни Герхардт», Теодор Драйзер
Всего 0 комментариев