Жеральд Мессадье Суд волков
Издательство благодарит профессора Немировского Е.Л. и доктора исторических наук Самарина А.Ю. за консультацию по истории книгопечатания.
Часть первая Звезда и кометы
1 Нити в ковре
Чем богаче жизнь, тем больше походит она на незаконченный ковер на станке Мастера: множатся отсеченные нити. Вот нить, наметившая силуэт человека: обрезана. Ее распушенный кончик печально обвис. Другая, рядом, выводит контур рощицы: оборвана. Была ли какая-то связь между рощицей и тем человеком? Поди узнай!
Жанна де Бовуа открыла окно, чтобы изгнать запахи, которые накапливаются в доме по ночам. Осенний день обещал быть светлым. Легкий утренний ветерок носился над парижскими крышами и врывался в жилище на улице Бюшри, чтобы вымести все лишнее.
Он невзначай всколыхнул эти нити, и Жанна, подвесив над очагом чугунок с молоком, села и начала мысленно их перебирать.
Много было оборванных нитей – слишком много для ее неполных двадцати двух лет. Родители: убиты.
Брат Дени, на которого она перенесла свою любовь, стал негодяем, холодным делягой и лжецом. В двадцать лет благодаря расчетливому распутству этот интриган стал сеньором д'Аржанси. Она досадливо поморщилась.
Первый возлюбленный, Матье: повесился, не выдержав мук ревности.
Настоящий отец ее сына Франсуа, Франсуа де Монкорбье, именовавший себя Вийоном:[1] исчез после темного дела об убийстве и оказался причастен, сверх того, к ограблению ризницы. Небольшая потеря для возможной супруги и матери, к тому же любитель юнцов, торгующих своим телом. Жанна, впрочем, еще тогда почуяла эту мерзость. Но все-таки то была яркая нить, толстая и красная, цвета крови, которая струилась в жилах маленького Франсуа.
Жанна вздохнула полной грудью.
Муж ее, прекрасный, добрый, благородный Бартелеми де Бовуа: погиб в расцвете лет при взрыве пушки. Красивая крученая лазурно-золотая нить. Отсечена Курносой.
Ее покровительница, нежная Агнесса Сорель, любовница короля Карла VII: умерла. Отравлена. Рукой ли человека, природой ли был поднесен яд, значения не имеет. Советчицы, которая внушила королю мысль возродить страну, опираясь на торговый и ремесленный люд, не доверяя принцам и вельможам, не стало на свете. Король лишился подруги, великого прибежища в неизбывном своем одиночестве.
Ее возлюбленный Филибер Бонсержан: нить, вырванная его семьей. Семьи отличаются большим умением портить ковры – словно взбесившиеся кошки, которые рвут их когтями.
Молоко быстро поднялось, и несколько капель с шипением упало на поленья. Жанна сняла чугунок. Пенка была густой: она взяла ее ложкой и, уложив на ломоть хлеба, полила медом. Ее обычный завтрак. Она налила молока в серебряный стаканчик и стала пить маленькими глотками.
Яркая голубая нитка бежала по ковру: сын Франсуа. Почти весь ковер был соткан из нее. Крысу, которая попытается ее перекусить, Жанна прикончит без колебаний.
На лицевой стороне ковра блистала еще одна драгоценная нить, и ее Жанна тоже никому не позволит оборвать: смуглый человек с большими бархатными черными глазами и карминным ртом. Похоже, на его создание вдохновил Мастера третий из двадцати иудейских царей, чуть склоняющий голову на фасаде собора Парижской Богоматери, – с той, правда, разницей, что борода у него была не каменной, а мягкой и шелковистой.
Человек с Зеркалом. Тот, кто предложил ей посмотреться в зеркало на ярмарке в Аржантане, когда она только что покинула родную Нормандию. Вещь эта повергла ее в изумление: впервые она увидела свой явленный миру облик. Первый, самый первый возлюбленный в ее жизни – тот, кто помог ей познать и свой незримый облик, занимаясь с ней любовью с нежной деликатностью ловца бабочек.
Исаак. Исаак Штерн.
По-немецки "Штерн" означает "звезда".
Какое имя! О, какое имя! Называться Звездой! Это не имя, а судьба.
Ты моя звезда.
Ей страстно захотелось прижаться к этому телу, словно вырезанному из слоновой кости, запустить пальцы в черные вьющиеся волосы. Но звезды, как известно, можно увидеть только ночью.
Она и в самом деле видела Исаака только в отблеске свечей, в четырех стенах. И, не поддаваясь на приманки поэзии, дала ему прозвище Филин. Еврей, который и не думал отрекаться от своего еврейства, он приходил к ней только по ночам, дабы никто не заметил, что человек с желтой нашивкой зачастил в христианский дом.
Этот восхитительный любовник лишь нежно обнимал ее, но отказывался от обладания. Он желал ее страстно, но в постели они только ласкали друг друга. Каждый из них возносился к экстазу без слияния плоти.
– Зачать ребенка в нашем положении было бы жестоко, – сказал он ей несколько дней, вернее, несколько ночей назад. – Он стал бы сиротой от рождения, ведь я не смог бы растить его вместе с тобой. Мои отвергли бы его как рожденного вне брака, а твои презирали бы как еврея. Жанна, мы не можем думать только о себе.
– У тебя есть другая женщина?
– Она живет лишь в моей памяти, ибо умерла много лет назад, задолго до того, как я встретил тебя в Аржантане.
Жанна испытывала танталовы муки, лишь обострявшиеся по мере того, как бежали дни и недели. Свое первое дитя она родила не по своей воле. Второе было бы желанным. И если существовал в мире мужчина, от которого она хотела ребенка, то это Исаак.
Горечь воздержания смягчала лишь нежность, которую она испытывала к Человеку с Зеркалом. И еще разум. Брак был абсолютно невозможен. Открытая связь вызвала бы скандал. Дела ее пострадали бы, лавки пришлось бы закрыть. Она слишком хорошо знала гнусные выдумки о евреях, будто они пекут мацу на крови христианских младенцев; если возникнет подозрение, что еврей постоянно бывает в "Большом пирожке", любой завистник тут же сочинит историю о том, как еретик на его глазах исполнял свои отвратительные обряды. Даже если королевская милость устоит перед злобной молвой, Жанну это не спасет.
Таковы ближайшие последствия.
А в дальнейшем рухнут все честолюбивые планы Жанны, которая мечтала пустить свой капитал в оборот. Ведь евреев ненавидели во всех христианских странах, и Франция не была исключением.
Исаак обрисовал ей ситуацию вполне ясно:
– Отца моего вместе с другими евреями изгнали из Кельна в 1424 году, а дядю – из Аугсбурга в 1439-м. Отец укрылся тогда в Париже, а я обосновался в Праге. Мы узнали, что наших единоверцев выгнали из Баварии в 1422-м и потом еще раз, в 1450-м. Нас гонят отовсюду по прихоти правителей и других богатых христиан. Мне пришлось покинуть Прагу в 1454-м, я долго странствовал по Италии. Я банкир. Это ремесло, доставшееся нам потому, что христиане считали его нечестивым, стало ныне законным, более того, завидным. Прежде считалось, что давать деньги в рост означает красть время у Бога. Наверное, теперь они пришли к выводу, что если Бог обладает всем временем мира, то его невозможно украсть. Это произошло несколько лет назад. И с каждым годом появляется все больше банкиров-христиан. Как только их гильдии обретают богатство и силу, они стараются нас прогнать.
Картина складывалась более чем мрачная.
– Жанна, – сказал он той ночью, – ты молода и красива, ты не можешь оставаться одна. А я тебе не пара.
Это был один из тех моментов, когда кажется, что злые ветры вот-вот загасят свечу, которая освещает душу. И душа превращается в осажденный замок. Жанна собралась с силами и решилась:
– Исаак, ты думаешь и говоришь как побежденный. Принадлежа к гонимому народу, ты постепенно становишься тенью самого себя. Продолжай в том же духе – и через пару лет превратишься в призрак, источенный лишениями и сожалениями.
– Что же мне делать?
– Исаак, я ведь не отрекаюсь от тебя. Не отрекайся от меня и ты.
Он сел в постели и раздвинул полог. В пламени свечи его тело отливало золотом. Он повернулся к Жанне, обнял ее и разрыдался.
– Я не могу обладать тобой, – проговорил он. – И жить без тебя не могу!
Потом он ушел в темноту в своем поношенном плаще с подлой нашивкой.
За два последующих дня Жанна много раз заново переживала эту сцену.
Исаак должен обратиться в католичество, решила она.
На пороге появилась кормилица, державшая за руку Франсуа. Мальчик бросился к матери. Она посадила его к себе на колени.
– Он хорошо спал, – сказала кормилица, – и я тоже.
Она села за стол.
– Хочешь бутерброд с пенкой и медом? – спросила Жанна у сына.
Не дожидаясь ответа, известного заранее, она приготовила бутерброд, протянула мальчику и наказала держать ровно, чтобы не стекал мед.
С лестницы послышался голос Гийоме:
– Хозяйка!
– Скажи ему, чтобы поднялся! – велела Жанна кормилице.
Кормилица вышла передать распоряжение. Через несколько секунд появился Гийоме, чуть запыхавшийся, возбужденный, разрумянившийся.
Он возмужал. Жанна смотрела на него с удивлением и теплотой. Он обладал всеми нормандскими качествами, какие ей нравились: честный, верный и лукавый.
– Хозяйка, первые яблоки пошли. Просто сахарные! Я подумал. .. Мы их оставим на ночь в тазу с вином и медом…
Жанна кивнула: она поняла. Яблоки пустят сок и получатся как будто в сиропе.
– Добавь щепотку корицы, – сказала она. Лицо Гийоме засияло.
– Здорово! – воскликнул он с ликованием. – Пять денье[2]!
– Пять денье, если сверху покрыть сметаной. Гийоме аж напыжился от гордости.
– Но продать их будет труднее.
– Так это ж для богатых клиентов!
Ей приходилось думать то о любви, то о тесте. То о своих лавках, то о банке. То о сегодняшнем дне, то о завтрашнем. Как убедить Исаака?
Случилось то, что должно было случиться.
Исаак только что ушел. Стоял конец октября, еще не рассвело, и Жанна решила немного понежиться в постели, прежде чем заняться делами.
Вдруг она услышала крики и в тревоге распахнула окно. Она узнала голос Исаака. В десяти шагах от ее двери. В нем звучало отчаяние. Кровь бросилась ей в лицо. Накинув на ночную рубашку плащ, она сунула в карман нож, схватила подсвечник и взяла в лавке толстую палку. Затем бросилась на улицу, в темноту.
В пламени свечи мало что разглядишь, но света хватило, чтобы увидеть дерущихся людей.
– Еврей! Денег у этой гадины полно!
Она поставила подсвечник на землю и ринулась в схватку. Исаака она видела ясно и не опасалась оглушить его. Один из головорезов стоял к ней спиной.
Она нанесла ему страшный удар по позвоночнику и сразу второй – по голове. Двое других обернулись.
– Баба! Подумать только! На нас напала баба!
Один из них бросился на нее с ножом.
Избежал ли Исаак этого ножа?
Она ждала нападавшего, расставив ноги. Тот замахнулся. Концом палки она изо всех сил ткнула его в живот. И увидела в мерцании свечи, как он разинул пасть – от боли или удивления, какая разница!
Он зашатался, качнулся влево. Воспользовавшись секундной паузой, она ударом дубины проломила ему череп.
Исаак, похоже, охромел. Ее охватило бешенство.
Третий и последний негодяй, видимо, тоже разъярился. Издав звериный рык, он устремился к ней. Она выхватила из кармана нож. Нападавший его не увидел. И налетел на него. Из горла вырвался предсмертный хрип. Она быстро вырвала нож из раны и движением снизу вверх вспорола ему брюхо, затем оттолкнула от себя. Он со стоном опрокинулся навзничь, придерживая кишки обеими руками. Она подбежала к Исааку, сидевшему на земле. У него кровоточило бедро. Красная жидкость, пузырясь, била струйкой. Артерия.
Она это знала, ей цирюльник рассказывал. Рана могла оказаться смертельной. Надо наложить жгут, и немедленно. Ножом она отсекла полосу от подола своей рубашки и сделала из нее жгут. Разорвала штанину и наложила ткань узлом на рану, чтобы заткнуть ее, потом затянула. Исаак издал стон, почти хрип. Только бы не потерял сознание.
– Прижми кулаком как можно сильнее. Я сейчас вернусь. В соседних домах начали открываться окна. Она подбежала к одному из них и крикнула:
– Кормилица!
На лестнице послышались шаги.
– Кормилица, беги за цирюльником! Второй дом справа. Скажи: ножевая рана в бедро, задета артерия.
Жанна вернулась к Исааку. Тот был на грани обморока. Но кровь перестала течь. Она взяла его за руку.
Занимающийся рассвет окрасил всю сцену в грязно-синие тона.
– Держись. Ты спасен. Сейчас придет цирюльник. Исаак был бледен как смерть. Жанна поняла, что физическая боль у него перешла в боль душевную.
Он дрожал. Она накинула ему на плечи свой плащ. Его собственный был искромсан ножом. Она заодно сорвала и нашивку.
Наконец появился цирюльник. Он посмотрел на трех негодяев, распростертых на булыжной мостовой, потом на раненого, сидящего на земле. И с особым вниманием изучил жгут.
– Это вы наложили? – с восхищением обратился он к Жанне. – Хорошо! Очень хорошо! Теперь нужно унести беднягу отсюда. Главное, не вытягивать ногу. Деньги у него есть? Лучше всего было бы доставить его на носилках в больницу Отель-Дьё. Или же домой.
– В Отель-Дьё? – вскрикнула она.
Жанна содрогнулась: это был кошмарный вонючий барак, преддверие мертвецкой. Людей там клали вчетвером на одну кровать, обычно на одного живого приходились два покойника и один умирающий.
– Вы знаете этого человека? – спросил он. Она покачала головой.
– Кто мне заплатит?
– Я, – слабым голосом произнес Исаак.
Успокоившись на сей счет, цирюльник посоветовал отнести раненого в ближайший дом, чтобы как следует обработать рану.
– В таком случае несите его ко мне, – сказала Жанна.
– Но его надо сначала уложить и перевязать, – предупредил цирюльник.
Окна распахивались одно за другим. Люди с любопытством смотрели на происходящее.
Жанна на мгновение задумалась. Стол в лавке!
Они с кормилицей сбегали за ним. Потом втроем подняли и уложили на него Исаака. Цирюльник открыл свою сумку и достал специальные широкие повязки для бедра. Он обнажил бедро, пах и осмотрел жгут, второпях наложенный Жанной. Потом кивнул.
– Бедренная артерия, – сказал он. – Не будь жгута, этот человек уже отдал бы богу душу. Вы спасли ему жизнь, мадам.
– Не будете зашивать рану? – спросила Жанна.
Цирюльник поразмыслил.
– Не сейчас. Он может истечь кровью. Он и так много ее потерял. Предоставим природе потрудиться самой дня три или четыре, а когда будем менять повязку, посмотрим. Вы видели рану, она глубокая?
– С мизинец. Они пырнули его ножом.
Цирюльник попросил принести воды, чтобы обмыть ногу, которая была вся в крови, затем нанес целебную мазь на края раны, ставшие пурпурными. Наконец он наложил компресс на жгут, чтобы прижать поплотнее, и перевязал Исаака, закрыв повязкой пах, ягодицу и верхнюю часть бедра.
Люди внимательно наблюдали за его действиями из окон.
– Вот так будет лучше, – сказал цирюльник.
– Я могу вернуться домой? – спросил Исаак.
– Только на носилках, не иначе.
Все поняли, что сразу попасть домой ему не удастся: нужно было по меньшей мере часа два, чтобы раздобыть носилки и найти четырех человек, которые понесут раненого. Поднялся ветер. На окрестных колокольнях пробило семь.
– Нельзя же оставить его на столе посреди улицы, – сказала Жанна.
– Да, лучше ему побыстрее оказаться в тепле. Он потерял много крови и, как я вижу, весь дрожит. Но далеко его нести невозможно. Раз вы так гостеприимны, отправимся к вам.
Тут появился Гийоме с вытаращенными глазами. Он никак не ожидал обнаружить свой стол в таком странном месте.
– Помоги, – сказала Жанна.
Цирюльник, Жанна и Гийоме перенесли в лавку стол с лежащим на нем Исааком. И очень вовремя: раненый уже стучал зубами от холода.
– Напоите его чем-нибудь горячим, – сказал цирюльник. Жанна подогрела молоко. Цирюльник повернулся к Исааку:
– Как вас зовут?
Согласно полицейским установлениям, он и в самом деле обязан был спрашивать имя у каждого из своих пациентов, получивших ранение.
Все еще дрожа, Исаак приподнялся на локте и встретился взглядом с Жанной.
– Жак де л'Эстуаль, – с трудом произнес он.
– Где вы живете?
– На улице Фран-Буржуа.
– Хорошо, – сказал цирюльник. – Это вы так отделали грабителей?
– Нет, не я, а… эта дама.
Цирюльник вновь с восхищением взглянул на Жанну.
– Вы? Вы одна?
Она кивнула.
– Госпожа де Бовуа, – с улыбкой промолвил он, – я очень рад, что вы моя соседка. Вы знакомы с этим человеком?
– Нет, я уже сказала. Я услышала крики на улице под моими окнами. Они меня разбудили. Я сразу поняла, что убивают христианина.
Все цирюльники были осведомителями. Но Жак назвал свое имя, переделав его на французский лад[3]. Чтобы защитить Жанну.
Услышав, что его называют христианином, он устремил взгляд своих черных глаз на Жанну, но та оставалась бесстрастной.
– Я пошлю за стражниками, – заключил цирюльник. – Раненый молод. Он поправится дней за десять. Рана зарубцуется. Разумеется, ему все это время нельзя ходить и тем более садиться на лошадь.
– Это вы ему и скажите, – ответила Жанна.
Исаак кое-как сумел развязать свой кошель и хорошо заплатил цирюльнику, который обещал зайти через день, чтобы осмотреть рану. Потом он ушел.
– За тобой будут куда лучше ухаживать здесь, – тихо сказала Жанна Исааку.
Брошенный им на Жанну взгляд был исполнен тревоги: еврей в христианском доме?
– Ты спасла мне жизнь, – прошептал он.
Она сжала ему руку украдкой, поскольку во всеуслышание заявила, что они незнакомы. Гийоме был в подвале, скоро ему понадобится стол. Кормилица поднялась наверх, к Франсуа.
Стражники появились довольно скоро, их было трое. Все поступили на службу совсем недавно. Они посмотрели на раненого, лежавшего на столе.
– Кто уложил этих висельников? – спросил старший из них.
– Моя хозяйка, баронесса де Бовуа, – ответил вовремя подвернувшийся Гийоме.
На их лицах отразилось недоверчивое изумление, и они уставились на Жанну.
– Госпожа де Бовуа, неужели это вы расправились с разбойниками? С тремя мужчинами? Но каким образом?
– С помощью палки и ножа. Я услышала крики на улице.
– У одного из них вспорот живот. Кишки вываливаются. Ведь для такого удара нужна большая сила?
– Он бросился на меня. Я защищалась.
Они недоверчиво смотрели на светловолосую, молодую и хрупкую женщину. Маленький Франсуа спустился вниз в сопровождении кормилицы. Он с удивлением уставился на незнакомых людей и на раненого, лежавшего на столе.
– Госпожа де Бовуа, – со смехом сказал один из стражников, – мы походатайствуем, чтобы вас взяли на службу к прево!
– Господа, вы не поможете мне отнести раненого наверх? – спросила она.
Гийоме удивился. Он никогда прежде не видел этого человека: как же хозяйка решилась оставить его в доме?
Стол был шире лестничного пролета. Стражники решили, что донесут раненого до четвертого этажа на руках. Со всяческими предосторожностями они уложили Исаака на постель, которой после ухода Франсуа де Монкорбье никто не пользовался.
Жанна проводила их вниз и дала каждому по монетке.
– Вы знаете, как его зовут? – спросил старший из стражников.
– Я знаю имя, которое он назвал цирюльнику: Жак де л'Эстуаль, – осторожно ответила Жанна.
– Повезло же ему! – заметил один из стражников. – Прекрасная благородная дама спасла его, а потом еще и приютила в своем доме.
– Дай стражникам чего-нибудь перекусить, – сказала Жанна Гийоме.
Она поднялась к Исааку: тот лежал с закрытыми глазами. Повязка лишь слегка промокла от крови. Жанна прикрыла голую ногу одеялом. Он открыл глаза.
– Отдыхай.
– Ты спасла мне жизнь, – сказал он снова. – Ты спасла мне жизнь дважды.
Действительно дважды: защитила от грабителей и вовремя наложила жгут.
Он попросил Жанну написать записочку, чтобы известить отца. Затем поставил свою подпись и запечатал письмо. Она сама спустилась вниз, чтобы договориться с одним из стражников: за несколько солей[4] тот согласился доставить послание. Она не хотела, чтобы кто-нибудь в доме знал настоящий адрес Исаака.
За ужином кормилица выразила удивление, что хозяйка так охотно приютила незнакомца. Жанна без колебаний ответила, что имя его ей отчасти знакомо: этот человек, скорее всего, сын известного банкира. Такого довода оказалось достаточно, чтобы объяснить ее предупредительность по отношению к Исааку. Но она прекрасно понимала, что весь квартал знает о необыкновенном происшествии с незнакомцем, который на рассвете проходил мимо дома баронессы де Бовуа. В подобной ситуации тянуть было рискованно.
– У него красивое лицо, – добавила кормилица. – Как у настоящего сеньора.
2 Пустой гроб
Вечером у Исаака подскочила температура. Он дрожал и стонал. У него начался бред. Ему с трудом удалось выпить чашку бульона из белого куриного мяса, поданного Жанной. Потом она вспомнила о снадобье, которое однажды вечером принес в дом Франсуа де Монкорбье, уверявший, что вычитал рецепт в трудах Гиппократа и проверил на себе: ивовая кора. Ее отвар снимает самый сильный жар. Она спустилась вниз, вскипятила воду и приготовила целебный напиток, очень горький. Она добавила сахара и велела Исааку выпить. Тот покорно исполнил ее приказ.
Она шагала взад и вперед по спальне, стараясь сохранить хладнокровие.
Что за злокозненная Парка ополчилась на нее, пытаясь оборвать самые драгоценные нити ее жизни?
"Только не он", – мысленно произнесла она, сжав зубы. Она даст бой этой Парке.
Через час Исаак стал обильно потеть. Она обтирала ему лицо полотенцем. Потом осмотрела края повязки, опасаясь, нет ли воспаления, но обнаружила лишь прежнюю красноту и, поскольку Исаак в конце концов заснул, спустилась вниз, чтобы немного отдохнуть.
На следующий день она не осмелилась заговорить о том, что больше всего ее мучило и что Исаак, впрочем, понимал, ибо сразу назвал вымышленное имя цирюльнику и стражникам. Ей не хотелось, чтобы согласие было вырвано у ослабленного раной человека.
Только сила воли помогла ей выдержать заседание городского совета. Многие, чтобы не сказать все, уже знали о схватке на улице Бюшри. Очевидно, стражники не устояли перед искушением рассказать о подвигах госпожи де Бовуа, которая уложила двух грабителей, а третьего отправила прямиком в ад. Все изумлялись, что она не получила ни единой царапины.
– Надо попросить прево назначить госпожу де Бовуа начальником стражи, – весело сказал эшевен[5], несомненно повторяя чью-то шутку.
– Как бы там ни было, первую дочку, которая у меня родится, я назову Жанной! – воскликнул скорняк.
Через три дня на улице Бюшри опять появился цирюльник. Он снял и повязку и жгут. Жанна с тревогой следила за его действиями, опасаясь, что вновь брызнет пузырящаяся кровь. Ничего подобного не произошло. Но ее испугало, что края раны почернели и вздулись.
– Гематома, – сказал цирюльник. – Ничего страшного. Мы вычистим все, когда рана зарубцуется. Нет, зашивать я не буду. Он молод, и, похоже, у него все само заживет.
Он наложил увлажняющую мазь из календулы и окопника, вновь перевязал рану и, получив плату, удалился.
Жанна осталась с Исааком наедине. Они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова.
– Итак, жизнь моя принадлежит тебе, – сказал он со смиренной улыбкой.
– Жизнь человека не может принадлежать никому, кроме него самого, Исаак, – возразила она. – Я не верю в цену крови. И не приняла бы такую плату, будь она мне предложена. Я смотрю на вещи иначе. Ты отдал мне сердце, но решил избавить меня от себя. Это неразумно. Одна несчастная любовь еще ладно, но две – это слишком.
Сидя на постели, он склонил голову.
– Быть с тобой всегда – это счастье. И я был бы счастлив вдвойне, зная, что сделал счастливой тебя.
Однако сказано это было не тем тоном, на какой она надеялась.
– Но горе моего отца не даст мне покоя, – добавил он.
– Твой отец – умный человек… – начала она.
– Вот именно. Он заставит себя смириться, но горе его будет ничуть не меньше.
Шахматная партия в патовой позиции, подумала она.
Через десять дней, туманной ночью, Исаак закутался в плащ, зашитый Жанной, и, все еще подволакивая ногу, которая ослабела от долгой неподвижности, отправился к отцу. Жанна дрожала от страха, что на него опять нападут грабители. Она убедила его взять кинжал, купленный ею специально для него, и использовать для опоры трость. В случае нужды трость тоже могла стать оружием. Исаак взглянул на нее с улыбкой.
– Я вернусь поздно, – сказал он.
– Я буду ждать тебя.
Вернулся он в полночь. Поскольку ключа у него не было, он позвонил в колокольчик у входной двери. Жанна спустилась вниз, перескакивая через ступеньки, с подсвечником в руке. Под мышкой он держал большую шкатулку и выглядел совершенно измученным. Она взяла у него шкатулку и поразилась ее тяжести. Они поднялись в спальню. Исаак долго молчал. Не сводя с него взора, она налила ему бокал вина. Наконец он поднял на нее глаза, казавшиеся еще чернее, чем всегда.
– Исаак Штерн умер, – сказал он.
Она ничего не поняла. Или Исаак выразил свою мысль символически?
– Исаак Штерн на самом деле умер, – повторил он. – Скончался от ран. Завтра мой отец прочтет над ним заупокойную молитву в синагоге. Над пустым гробом, ибо погибшего по ошибке захоронили в общей могиле.
Жанна была ошеломлена. И молча смотрела на его осунувшееся лицо. В пламени свечи запавшие глаза и щеки выглядели пугающе. Она представила себе муки отца, страшную церемонию погребения живого человека и буквально лишилась дара речи. Неужели все это из-за нее?
Она невольно попятилась. В немом ужасе.
Он шагнул к ней:
– Это ради моей любви к тебе.
Жанна застыла на месте. В горле у нее пересохло. Как если бы Исаак действительно умер.
Она налила себе вина. Жадно его выпила.
– Исаак… – сказала она хрипло.
Слезы брызнули у нее из глаз.
– Теперь, Жанна, ты узнаешь, что кто-то любил тебя по-настоящему. Любит по-настоящему.
Казалось, минуты текут со стальным звоном.
– Нет для нас ничего ужаснее, чем отречься от своей веры, – молвил он.
Она заплакала. Ее мечта сбылась. Жанна оплакивала умершего Исаака. Он протянул к ней руку. Она встала, отошла от него. Отчего любовь подобна кинжалу, вспарывающему душу?
Она выплакалась, стоя у окна.
– Отныне, Жанна, я принадлежу тебе телом и душой.
Она знала доброту Исаака и понимала: он произносит эти страшные слова таким спокойным тоном потому, что страдает не меньше ее.
– Нет, – сказала она, – нет. Это ты полностью владеешь мною. Отныне я твоя раба.
Он встал и подошел к ней. Обнял ее. Они долго стояли так, не говоря ни слова.
Исаак хотел отнести шкатулку к себе в спальню. Но Жанна показала ему тайник, где прятала свою.
Они спали каждый на своем этаже. Этой ночью тела их безмолвствовали.
На следующий день Жанна отправилась к отцу Мартино, в церковь Сен-Северен. Она не встречалась с ним после ссоры из-за посмертного оправдания Жанны д'Арк. Пожертвования передавала через кормилицу.
Она вошла к нему, исполненная холодной решимости. Он не знал, что она в те дни ополчилась на все религии вообще, ибо все они предали Господа и Его сына Иисуса, распятого по злобе человеческой. Она понимала, что отец Мартино – неплохой человек. Он лишь нес свою долю вины за ложь тех, которые провозгласили себя представителями Бога.
– Дочь моя… Рад видеть вас. Каким добрым ветром вас занесло?
Она ответила не сразу. Смерила его взглядом, ледяным, как сосульки, нависающие над водосточными трубами в разгар зимы.
– Я пришла узнать, сколько вы возьмете за то, чтобы втайне окрестить еврея.
Воцарилось безмолвие, стеной вставшее между ними.
– Втайне?
– Без победных криков. Без объявления о крещении.
Он вздохнул.
– Я ничего не возьму, Жанна де Бовуа, – спокойно ответил он. – Мне достаточно того, что Господь мой восторжествовал. Царствие его сильно не криком.
Она кивнула и положила кошель на разделявший их стол. Он взял кошель, развязал его и высыпал содержимое на стол. Сто турских ливров.
Он отложил две монеты в сторону, ссыпал остальные девяносто восемь обратно в кошель, завязал его и протянул Жанне:
– Двух ливров хватит для свершения обряда.
Он задержал на ней мрачный взор. Она не отвела глаз.
– Заберите эти деньги.
– Тогда до завтра, – сказала она, взяв кошель.
– К вашим услугам.
Он поднялся, чтобы проводить ее до двери.
– Гоните прочь дурные мысли, Жанна, – сказал он. – В конце концов они могут загрязнить вашу душу.
Взгляд ее смягчился. Она даже попыталась улыбнуться.
– Этот человек много значит для вас, – произнес он.
– В нем мое спасение, – ответила она.
В этот час, должно быть, уже началась церемония прощания с человеком, которого я люблю, подумала она. Вернее, с тем человеком, каким он был до сих пор.
Затем она направилась во дворец Турнель.
Стражи узнали ее и пропустили. Королевский секретарь вышел из левой двери, которой она никогда не пользовалась; она всегда проходила в правую, прямо в покои Карла VII. Секретарь остановился. Они поздоровались.
– Вы желаете видеть короля?
Она кивнула.
– Он не в лучшем своем виде. В конце недели поедет отдохнуть в Меэн.
– Что с ним?
Взгляд секретаря омрачился.
– Просто переутомился. Я спрошу, сможет ли он принять вас. У него был тяжелый день.
Она стала ждать. Секретарь вернулся с улыбкой на лице.
– Его величество рад вашему визиту.
Первое, что заметила Жанна, был табурет, на который король положил левую ногу. И удрученный вид монарха.
– Жанна! Подойдите же ко мне, дочь моя, госпожа де Бовуа!
Она присела в поклоне и поцеловала королевскую руку.
Он посмотрел ей в лицо. Ясно ли он видел? Взгляд его казался мутным. Он шутливо сказал:
– Вы совсем меня бросили, ведь я больше не вижу вас! Придется мне выдумать какой-нибудь заговор, чтобы вы заходили почаще.
Она засмеялась:
– Сир, в моем нежелании вас тревожить следует видеть лишь мое уважение к вам и любовь.
– Уважение принимаю, – с иронией произнес он. – Так что же, вас привела ко мне любовь?
– Да, сир. Король оживился:
– Наконец-то Купидон растопил лед! Я с ним знаком?
– Нет, сир. Я возвращаю вам заблудшую душу Он вновь откинулся на спинку кресла.
– Завтра его окрестят, – сказала она.
Королевская рука ухватила подлокотник кресла. Карл склонился к Жанне.
– Еврей? – с легким удивлением осведомился он.
– Да, сир. Еврейский банкир. Сегодня его отец совершает в синагоге погребальный обряд в память о своем умершем сыне. Я пришла просить вас воскресить его.
Карл VII присвистнул. Потом рассмеялся.
– Жанна, Жанна! Стало быть, вы просите меня сыграть роль Христа! Что я должен сделать?
– Его звали Исаак Штерн. Штерн по-немецки означает "звезда". Позвольте этому новому христианину называться Жак де л'Эстуаль. Мы уповаем на ваше великодушие, сир.
Сдавленный смешок застрял у короля в горле. Он покачал головой:
– С именем согласен, разумный выбор. Дарую его. Что касается остального, то мне нужно сначала увидеть этого нового Лазаря. Через два дня я еду охотиться в Меэн-сюр-Йевр. Будьте оба в моей свите.
– Это большая честь, сир.
– Вы хоть выйдете за него замуж?
– Да, сир.
– У этого сквалыги, должно быть, недюжинные достоинства! – со смехом сказал король. – Приходите послезавтра в девятом часу вместе с Жаком де л'Эстуалем.
Она встала и, поцеловав ему руку, направилась к выходу. Он бросил ей вслед:
– Жаль, что ваша прекрасная кровь, Жанна, не всегда отличается чистотой.
Застыв на месте, она обернулась. Секретарь ждал у двери.
– Ведь этот малый, который, не имея на то никакого права, именует себя Дени д'Аржанси, действительно ваш брат?
Она испугалась:
– Мы с ним больше не видимся, сир.
– Жаль, ибо вы могли бы сказать ему, что жизнью своей он обязан лишь любви, которую я питаю к вам.
Она вернулась на улицу Бюшри в смятенном состоянии духа. Что опять натворил Дени?
– Король даровал тебе право называться Жак де л'Эстуаль, – сказала она.
Он долго с изумлением смотрел на нее.
– Король? – повторил он. – Ты можешь свободно встречаться с королем?
Она кивнула.
– Ты была…
– Я была протеже Агнессы Сорель, – ответила она, обрывая угаданный вопрос. – После ее смерти стала протеже короля. Я раскрыла заговор против него. Я тебе потом расскажу. Жак… Сегодня нам нужно уладить две проблемы. Мы приглашены сопровождать короля на охоте в Меэн-сюр-Йевр, недалеко от Буржа. Тебе нужна достойная одежда.
– Я приглашен к королю? – недоверчиво спросил он.
Она кивнула. Он встал и обнял ее.
– Неужели это та крестьяночка, которой я некогда подарил зеркало в Аржантане?
Она прижалась к нему. Уткнулась лицом в плечо того, кто отныне носил имя Жак. Ей хотелось поцеловать его. Но в этот момент она любила его не телесной любовью.
– Жак, ты подарил мне гораздо больше. Сейчас не время говорить об этом. Сначала надо позаботиться о твоем наряде.
– У меня больше ничего нет, – сказал он. – Отец предупредил, что раздаст мои вещи бедным.
– Я позову старьевщика. Ты должен быть одет с головы до ног к утру пятницы. Потом…
– Потом?
– Ты будешь окрещен.
Он отстранился от нее, подошел к окну и открыл его. День был серым. Ветерок колебал пламя в очаге. Он обвел взглядом дома напротив.
– Итак, ты собираешься родить меня, – прошептал он.
– Как ты породил меня. Мы происходим друг от друга. Он закрыла окно. В комнату вошел Франсуа и посмотрел на них. Дети лучше взрослых умеют улавливать напряжение. Он безмолвно вопросил их взглядом ярко-зеленых глаз. Жак с улыбкой повернулся к нему.
– Это раненый? – спросил Франсуа.
– Здравствуй, – сказал Жак.
– Ты больше не раненый?
Жак засмеялся и протянул руку. Франсуа серьезно подал ему свою. Жак взял его на руки. Они смотрели друг на друга, и мальчик выглядел задумчивым. Он погладил незнакомца по лицу, словно желая узнать его на ощупь. Жак прижал ребенка к груди и поцеловал.
– Ну, – сказал Франсуа, – теперь ты хочешь уйти? Жак на миг прикрыл глаза.
– А чего хочешь ты? Чтобы я ушел или остался здесь?
– Я думал, ты останешься… Жак поставил Франсуа на пол.
– Мама спасла тебя от грабителей, значит, ты должен остаться.
Жак затрясся от беззвучного смеха. Вошедшая кормилица поклонилась ему.
– Хозяйка, Франсуа хочет кошку.
– Что ж, кошка может пригодиться, пусть охотится на мышей, – сказала Жанна.
Франсуа с торжеством повернулся к кормилице.
Старьевщик пришел во второй половине дня. На спине он нес мешок. Жанна отвела его в свою спальню и позвала Жака.
– Мне сказали, что это знатный человек, – произнес старьевщик. – Я принес лучшее из того, что у меня есть.
Он смерил Жака взглядом:
– Как господин высок! Но, к счастью, худощав. Потому что худощавому всегда можно что-то подобрать, а вот с толстяками…
Две пары чулок. Черные бархатные штаны. Просторные штаны о-де-шос из синего атласа с гульфиком и облегающие ба-де-шос из тонкой черной шерсти, постиранные и выглаженные. Две рубашки тонкого полотна, постиранные и выглаженные. Длинная ночная рубашка тонкого полотна без ворота, постиранная и выглаженная. Куртка синего узорчатого атласа, проглаженная сквозь мокрую тряпку. Жилет из рыжеватого генуэзского бархата в тон штанам бронзового цвета. Черная бархатная шапочка. И широкий плащ, подбитый беличьим мехом, с воротником из летнего горностая. Две пары башмаков "медвежья лапа", ни разу не надеванных.
Пятьдесят семь ливров.
Жак поднялся наверх, чтобы достать из шкатулки деньги.
Куртку нужно было ушить в талии. И подправить отделку гульфика на просторных штанах. Кормилица, которая при случае исполняла обязанности белошвейки, вызвалась все это сделать.
Жак впервые ужинал вместе с Жанной, Франсуа и кормилицей. И Жанна не удержалась: первая совместная трапеза оказалась праздничной. К салату из колбасок был подан лук-резанец. Курица, фаршированная гречкой, приправленная толчеными орехами и салом. На десерт Жанна заказала Гийоме яблочный пирог с корицей и гвоздикой. Прекрасное аквитанское вино источало аромат лесных орехов и трюфелей.
Факты красноречивее слов. Желая избежать недомолвок, Жанна объявила:
– Господин де л'Эстуаль поселится здесь.
– Ура! – вскричал Франсуа, хлопая в ладоши. – Так будет веселее.
Кормилица поняла это гораздо раньше.
Жак показал Франсуа на стене игру теней, которые создавал при помощи рук.
Кролик, поводящий ушами.
Лиса, крадущаяся за курицей.
Петух, заслышавший крик другого петуха.
Франсуа изнемогал от счастья и радостно визжал. Он потребовал, чтобы в постель его отнес Жак.
– Редко увидишь, чтобы отчима так полюбили, – пробормотала кормилица.
Она явно опережала события. Жанна угадала ее мысли и взглянула на нее. Сначала обе сохраняли бесстрастный вид, потом обменялись едва заметной понимающей улыбкой.
Поднявшись вместе с Жаком в спальню, Жанна первым делом швырнула в огонь плащ со следами от нашивки, разорванные штаны – короче, всю одежду, которая была на Жаке в ночь нападения.
Потом настал черед разгореться огню в постели.
Жак быстро и как-то воровато овладел ею и тут же, словно в испуге, отпрянул.
– Что с тобой? – спросила она.
В этот миг ей открылось коварство привычки: ведь до сих пор они занимались любовью, словно брат и сестра, которые ласкают друг друга, чтобы унять томление, но никогда не взламывают печать. Она мечтала о мощи, а обрела лишь доброту. Открытие потрясло Жанну. И еще она поняла: ни один человек не может быть полностью предсказуем, как и не может полностью никому принадлежать. В прошлом она получила множество тому свидетельств, но осознала их смысл только сейчас. И еще: подавляя мужчину, рискуешь превратить его в каплуна.
Она овладела собой, словно акробат, который притворяется, будто потерял равновесие, а затем делает кульбит и вновь твердо встает на проволоку.
– Я буду твоей женой, ты это знаешь? – мягко спросила она.
Он погладил ее по голове, закрыл глаза в знак согласия и нежно поцеловал.
Третье открытие: осуществленная мечта прельщает куда меньше. Запретный плод, перестав быть таковым, уже не так манит, как прежде.
3 Народный король
– Ты сможешь стать настоящим Жаком де л'Эстуалем только после крещения, – сказала она ему на следующий день. Проснулись они за полчаса до этого. Он сел в постели.
– Мне нужно креститься до того, как мы поедем на королевскую охоту, – ответил он ровным тоном.
Она внимательно посмотрела на него. Готовилась она к худшему: мне нет никакого дела до королевской охоты! Я не хочу креститься! Меня уже нет на свете, разве не так? Я свободен и буду делать что хочу!
– Я спущусь вниз, подогрею молоко, – сказала она, стараясь скрыть тревогу.
Она была уже у двери, когда он спросил:
– Когда состоится крещение?
– Как только ты будешь готов.
Следя за закипающим молоком, она осознала все безумие своей затеи: обратить в католичество еврея, чтобы выйти за него замуж, в мире, где евреев считают антиподами, если не исчадиями ада!
Вернувшись наверх с двумя чашками молока на подносе и двумя пирожками, она увидела, что он, голый, стоит на коленях перед очагом и помешивает угли. Пламя лизало новое полено.
Он выпрямился и повернул голову. На губах его играла улыбка.
Она вздохнула с облегчением. Этот мужчина улыбнулся ей – и весь мир окрасился в другие цвета! Она поставила поднос на сундук.
Он шагнул к ней. Задрал на ней рубашку. Руки его были как огонь. Костер разгорелся вновь. Она запылала. С трудом сдержала крик. Он взял ее с силой, которой она прежде не знала. И долго оставался в ней, почти раздавив ее своей тяжестью.
Это я принадлежу ему, подумала она. Именно это он хочет дать мне понять? Пусть будет так.
Отец Мартино пристально вглядывался в Жака де л'Эстуаля. Несомненно, он был поражен красотой новообращенного, но еще больше – пронзительным мрачным взором.
Жанна была лишь безмолвным свидетелем этой встречи – встречи между священником и евреем.
– Сын мой, – сказал отец Мартино, – вы, конечно, понимаете, что познание христианской веры важнее, чем обряд, который мне предстоит совершить. Он лишь первый шаг к этому познанию. Поэтому благоволите принять мое приглашение и посетите меня несколько раз, дабы я вас просветил.
– Да, понимаю.
– Просите ли вы о таинстве крещения безо всякого принуждения?
– Безо всякого принуждения.
– Следуйте за мной.
Монах направился к ризнице и, когда они вошли туда, закрыл за собой дверь. Там никого не было. Отец Мартино взял широкий сосуд и поставил на табурет, затем сходил за медным кувшином.
– Склоните голову, – сказал он Жаку.
Тот подчинился.
– Жак де л'Эстуаль, – произнес священнослужитель, окропляя ему голову святой водой, – окрещаю тебя сегодня во имя Отца, Сына и Святого Духа. Подними голову, сын мой, отныне ты христианин. Приветствую тебя в вере Господа нашего.
Он протянул Жаку полотенце, чтобы вытереть воду, стекавшую по шее, потом сел за стол, встряхнул чернильницу, открыл ее, взял лист пергамента и гусиное перо и начал писать. Покончив с этим, он растопил восковую палочку над пламенем свечи, вылил расплавившийся воск на пергамент и придавил печатью.
– Вот, Жак, – сказал он, протянув лист новообращенному. Взгляды их встретились, и какое-то мгновение они смотрели друг на друга.
Затем Жак вытащил кошель, вынул из него золотую монету и положил на стол.
– Сын мой, таинство не продается…
– Это за чернила, пергамент и воск, отец мой, – с улыбкой сказал Жак.
Наконец и отец Мартино позволил себе улыбнуться.
– Когда вы обвенчаетесь? – спросил он.
Жак повернул голову к Жанне, однако она не захотела брать инициативу на себя.
– Когда вернемся с охоты, – сказал он.
– Вы собираетесь на охоту? – удивился он. – Значит, рана ваша полностью зажила?
Жанна с трудом удержалась от улыбки: в очередной раз отец Мартино проявил осведомленность. Причем подчеркнуто, как всегда. Сплетников хватало: от цирюльника до соседей.
– Рана моя зажила, благодарю за беспокойство обо мне. Но не думаю, что мне придется стрелять из лука, я буду просто наблюдать за подвигами других. Король пригласил нас сопровождать его, – объяснил Жак.
В глазах священнослужителя сверкнула искра интереса.
– Я помолюсь святому Губерту, покровителю охотников, чтобы он хранил нашего государя, и вас, и всех участников охоты. Ступайте с миром, дети мои.
Жак свернул лист пергамента и сунул в карман плаща.
Жанна не захотела уходить из церкви сразу: она желала преклонить колени перед могилой Бартелеми де Бовуа.
Любят всегда только одного мужчину, подумала она. Меняется лишь его облик.
Когда они вернулись на улицу Бюшри, Гийоме обслуживал первых покупателей. Он долго смотрел на Жанну и Жака, и вид у него был задумчивый.
– Ату! Ату!
В зарослях кустарника, за двести или триста метров, послышался громкий лай. Несколько всадников устремились туда, король скакал впереди, в окружении двух лучников. Иоанн Бурбонский, Пьер де Брезе с сыном, Жиро, Жан де Шевийон, главный конюший, отец Эстрад, двое молодых дворян. .. Жак де л'Эстуаль также пустил коня в галоп, хотя оружия у него не было. Некоторые дамы, которым претило кровопролитие, придержали лошадей. Жанна в том числе. Рядом с ней ехала Маргарита Вреден, нынешняя фаворитка короля. Мари де Брезе последовала за охотниками, сохраняя дистанцию. Она явно тревожилась за мужа.
Сразу по приезде в Меэн Жанна ощутила тревогу. Прежде всего, здесь было гораздо больше знатных вельмож, чем в Боте-Сюр-Марн, где она в последний раз оказалась в обществе короля за пределами Парижа. Там была теплая атмосфера деревенского дома, пусть даже и королевского. Здесь – напряженные отношения волчьей стаи: Пьер де Брезе, бывший протеже Агнессы Сорель и нынешний первый советник короля, Этьен Шевалье, казначей королевства, Антуан Буломье, главный казначей и финансовый советник, Антуан де Шабан, еще один советник… Они исподлобья разглядывали Жанну де Бовуа и Жака де л'Эстуаля. Она понимала, что означают их взгляды. Эти люди готовы были смириться с тем, что в их кругу вновь возникла крестьяночка, которую монарх удостоил некоторыми милостями – а она, быть может, одарила его другими. Карл всегда сохранял верность былым привязанностям. Но что за незнакомый молодой человек сопровождает ее? Л'Эстуаль? Никто не знал, кто он такой. Некоторые даже коверкали фамилию, называя его Лэстуа или Лэстуай.
Сверх того, любовная ситуация была неясной. На привале в Орлеане из разговоров можно было заключить, что в Меэне появится прекрасная Антуанетта де Меньеле, которая заняла место Агнессы Сорель в сердце короля. Затем, с ироническими намеками, стали произносить другое имя – госпожи д'Обюссон. Однако в Меэне Жанна обнаружила, что обе фаворитки отсутствуют: неужели они лишились монаршей благосклонности? Близости его, судя по всему, удостоилась лишь одна – эта самая Маргарита Бреден, девушка явно из простой семьи, свежая как персик, но, судя по всему, недавно допущенная ко двору и чувствовавшая себя скованно.
Она заерзала на своем иноходце и бросила на Жанну взгляд, полный отчаяния. Несмотря на длинную заколку, шапочка ее сбилась на сторону во время недавней скачки, крученый шелковый шнурок, удерживавший тяжелый меховой плащ, впился в шею, и она обливалась потом, хотя день стоял холодный и туманный. Главное же, она не умела ездить верхом сидя боком, по-дамски, и в седле ей было крайне неудобно.
– Не знаю, как вы с этим справляетесь, – простонала она, – а я чувствую себя очень неловко!
– Позвольте мне помочь вам, – сказала Жанна, пристроив свою лошадь рядом с ее иноходцем. – Для начала сядьте чуть выше, тогда правой ноге будет удобнее. Расправьте плащ так, чтобы его тяжесть приходилась на седло, и тогда он не будет соскальзывать назад и душить вас. А теперь можно поправить шапочку.
– О, спасибо! – воскликнула Маргарита Вреден. – Я вижу, охота для вас привычное дело.
– Вовсе нет, – ответила Жанна. – Я охочусь впервые в жизни. У меня нет никакого желания смотреть, как убивают животных, кабана или оленя. Даже утку.
Не так давно она выпустила кишки одному негодяю, не считая многих других в прошлом, однако хорошо помнила, как в детстве убегала в лес, чтобы не слышать, как режут свинью.
– Я тоже! Как я вас понимаю! Но мне нужно сопровождать моего господина, иначе он подумает, что я капризничаю…
Крики людей вскоре смешались с лаем собак, и весь этот гвалт стремительно перемещался. Жанна встревожилась: возможно ли, чтобы охота была такой шумной? Вдруг из-за деревьев появился обезумевший олень. Его уже затравили, но он сумел уйти и помчался в противоположном направлении. По пятам неслась разъяренная свора, за которой следовали несколько охотников, и среди них первым, к изумлению Жанны, скакал Жак де л'Эстуаль.
Она с ужасом увидела, что олень летит прямо на нее и Маргариту. Через мгновение он сбросит их на землю и затопчет копытами, быть может, взденет на рога… Лошади заржали и поднялись на дыбы. Маргарита Вреден пронзительно вскрикнула.
– Держитесь крепче! – крикнула Жанна.
Она сильно натянула поводья своей лошади, одновременно увлекая за собой и другую.
Олень пронесся так близко, что она ощутила его запах.
Рядом с Жаком, далеко оторвавшимся от остальных, мчался лучник. Он протянул свой лук, и она услышала крик:
– Монсеньер… стреляйте!
Ошеломленная Жанна увидела, как Жак схватил лук, прицелился и выпустил стрелу.
И как споткнулся олень с пробитым горлом.
Подлетела другая группа всадников, которая тут же разделилась надвое, чтобы пропустить короля и скакавшего рядом с ним Жана де Шевийона.
Интересно, Жак хоть раз в жизни до этого стрелял из лука?
Король подъехал к нему с поздравлениями.
Всадники приблизились к Жанне и Маргарите. Мари де Брезе, задыхаясь от волнения, стала спрашивать, как они себя чувствуют.
– Мы уцелели чудом, – ответила Жанна, тоже сильно взволнованная.
– Она спасла мне жизнь! – крикнула Маргарита Вреден, которая была на грани истерики.
– Едем назад, – сказала Мари де Брезе. – Сейчас будут добивать оленя. Это не слишком приятное зрелище. К дьяволу всю эту охоту!
Перед крыльцом замка конюший снял с седла почти лишившуюся чувств Маргариту Вреден, подставив ей табурет. Мари де Брезе, пятидесятилетняя властная женщина, увела ее в комнату для умывания и распорядилась приготовить настой ромашки.
Через несколько минут обе женщины появились вновь, но Маргарита Вреден по-прежнему была вся красная, тяжело дышала, и глаза у нее чуть ли не вылезали из орбит.
– Давайте сядем поближе к огню, – сказала Мари де Брезе, направляясь в большую залу, где в камине полыхали огромные поленья.
Маргарита Вреден бросилась к Жанне и порывисто обняла ее со слезами на глазах.
– Не будь вас, я бы погибла!
Жанна успокоила ее. Ей подали ромашковый настой, и она села.
– А вы не хотите того же? – спросила Жанну Мари де Брезе. – Сама я предпочитаю горячее вино с корицей.
– И я, – сказала Жанна.
– Каким же образом вы спасли ей жизнь?
– Олень мчался прямо на нас. Лошади встали на дыбы. Я просто увела свою чуть в сторону.
– И мою тоже! – воскликнула Маргарита Вреден.
– Это пустяк, – заметила Жанна.
– Когда быстро соображаешь, да! – сказала Мари де Брезе.
Шум в передней возвестил о возвращении охотников. Все они пошли мыться в сопровождении слуг, которые должны были держать зеркало перед тем, кто причесывался, другому почистить одежду, третьему подать горячее полотенце. Цирюльник тоже стоял наготове – на случай, если кто ранен. А также белошвейка с узлом и набором ниток, чтобы починить порванную одежду.
Прошло довольно много времени, прежде чем в большую залу вошел король, явно пребывавший в отличном расположении духа. Женщины встали. Двое лакеев придвинули его кресло поближе к огню. Тут же появились и другие мужчины, в том числе и Этьен Шевалье, который не смог принять участия в охоте из-за приступа подагры.
– Ну, – со смехом сказал Карл, принимая стакан с вином из рук конюшего, который сначала отпил из него сам, – вот так сюрприз! Именно тот из нас, кто не желал охотиться, застрелил оленя!
– Я смущен, сир, – произнес Жак.
– Смущаться вам не пристало! Это был опасный матерый зверь. Он мог растоптать дам. В начале гона вы были последним, а на месте оказались первым. Я бы поступил так же. За меткий выстрел!
Все повернулись к улыбающемуся Жаку де л'Эстуалю, который внезапно стал пунцовым. Королевский тост за выстрел!
– За здоровье моего короля! – ответил он.
Карл задержал на нем лукавый взор. Врезе, Эстрад, Шабан, Шевийон и прочие пристально смотрели на молодого незнакомца, который по прихоти судьбы и несчастного оленя так отличился в глазах короля. Никто никогда не видел этого юношу и не слышал его имени. Откуда же он взялся и что здесь делает?
– Вы охотник, л'Эстуаль?
– Нет, сир. Я видел охоту на медведя, но участия в ней не принимал.
– На медведя?
– В Богемии, сир.
– Что вы делали в Богемии? – спросил Врезе.
– Улаживал дело о займе.
– Вы занимали деньги в Богемии? – удивился Врезе.
– Нет, монсеньер, я устраивал заем Подебраду, который только что взял Прагу и не мог выплатить жалованье войску.
– И вы раздобыли необходимую сумму?
– Да, монсеньер.
Интерес к человеку, способному уладить денежные затруднения не чьи-нибудь, а короля Богемии, заметно оживился. Но Карл прервал этот разговор, обратившись к Маргарите Вреден:
– А вы, друг мой, получили удовольствие от охоты?
– По правде говоря, сир, она скорее дала мне повод для волнений. И я не знаю, что бы со мною сталось, если бы не госпожа де Бовуа.
– Что же она сделала?
– Когда олень убегал, – объяснила Мари де Брезе, – он помчался прямо на этих двух дам, находившихся в арьергарде. Я видела, как лошади поднялись на дыбы, но госпожа де Бовуа, сохранив присутствие духа, сумела сама подать в сторону и отвести коня госпожи де Вреден. Зверь пронесся на волосок от них.
Никто из охотников, поглощенных преследованием оленя, этого происшествия не заметил. Все бросились превозносить Жанну.
– Она спасла мне жизнь!
– Жанна – наш ангел-хранитель, – промолвил король. – А теперь давайте ужинать.
– Вы должны поставить свечку святому Губерту, – сказал отец Эстрад Маргарите Вреден.
– А вторую – святой Жанне! – воскликнула фаворитка.
Жанне досталось место рядом с отцом Эстрадом. Пользуясь тем, что общество с увлечением внимало скрипке игравшего в глубине залы менестреля, священник тихонько спросил:
– С этим молодым человеком вы положите конец вашему вдовству?
– Хочу надеяться.
– Вы давно с ним знакомы?
– Несколько месяцев, – сказала она, солгав без малейших угрызений совести.
– Я не слыхал этой фамилии и, соответственно, не знаю эту семью. У него есть состояние?
– Мне кажется, да.
– Вам известно, как любит вас король. Я молю Небо, чтобы вас не ввела в соблазн красивая внешность совершенно неизвестного человека. Наш государь будет очень расстроен.
Она вновь осознала, какие опасности сулит близость к солнцу, и вспомнила сказание об Икаре. Сейчас все кинутся разузнавать что возможно о фамилии де л'Эстуаль и, не найдя ничего, насочиняют сотню бредовых басен.
Как только подали десерт – восточные финики, доставленные из Марселя, – король объявил, что охота его утомила, и почти сразу удалился в свои покои. Остальные, пожелав ему доброй ночи, тоже быстро разошлись.
Жаку и Жанне отвели две спальни в одном из крыльев замка, который фактически служил государственной резиденцией с 1422 года, иными словами – с той поры, когда тридцать пять лет назад в Труа был заключен договор, лишивший наследства младшего сына Изабеллы Баварской, с ее согласия объявленного незаконнорожденным. Карл был тогда всего лишь "королем Буржа", так его называли, хотя царствовал он в Турени, Берри, Пуату, Лангедоке и других провинциях юга.
– Мне кажется, что я переодетый агнец, затесавшийся в стаю волков, – шутливо сказал Жак, когда они закрыли за собой дверь. – Они не перестали бы выспрашивать меня, если бы король не положил предел их любопытству. Разумеется, я не хотел бы, чтобы меня считали новым фаворитом Карла.
Жанна сделала вид, будто не понимает опасений Жака.
– Возможно, ты не знаешь, – продолжал Жак, – но подобная привилегия весьма опасна. Мы, банкиры, очень хорошо об этом осведомлены. Около тридцати лет назад два самых влиятельных королевских фаворита, Пьер де Жиак и Ле Камю де Больё, были убиты по наущению Ришмона, брата Иоанна Бретонского, и, возможно, при пособничестве Иоланды Арагонской, тещи короля. Еще один его фаворит, Жорж де Тремуй, также был убит – опять по приказу Ришмона и Иоланды Арагонской. Зачем ты привезла меня сюда?
– Король хотел на тебя посмотреть, – испуганно ответила она.
Он кивнул и начал было раздеваться, как вдруг в дверь постучали. Удивленный Жак открыл: это оказался Жан де Шевийон.
– Его величество призывает вас, а также баронессу де Бовуа к себе в опочивальню. Соблаговолите следовать за мной.
Ошеломленные, они шли за главным конюшим по бесконечным коридорам замка, пока не оказались в крыле, где находились королевские покои, выходившие в сад. Шевийон кивнул двум стражам, охранявшим вход в коридор, постучался в королевскую дверь, дождался ответа и вошел.
– Сир, ваши гости.
– Очень хорошо, оставьте нас, – сказал Карл VII.
В длинном халате из зеленой шерстяной ткани и домашних фетровых туфлях, он сидел перед огнем, а рядом стоял кувшин с вином.
– Садитесь, – пригласил король. – Вы сильно заинтриговали двор, Жак. Манеры у вас куда более утонченные, чем у большинства наших мелких дворянчиков. Это удивляет, поскольку никто не знает вашего имени. Значит, вы банкир?
– Да, сир.
– А ваш отец?
– Тоже банкир.
– Штерн? Именно так? – спросил Карл.
– Да, сир.
Король на секунду задумался, а затем отхлебнул вина из бокала.
– Коннетабль де Ришмон, – сказал он, – Брезе, Этьен Шевалье и Шабан упорядочили наши финансовые дела. Иными словами, доказали нам, что в стране денег нет.
Он беспокойно зашевелился и устремил на Жака взор, в котором внезапно сверкнули искры. Впрочем, это могли быть отблески огня.
– У нас есть банкиры. У нас был Жак Кёр. Сейчас Жан де Бон. – Король сделал пренебрежительный жест рукой. – Они думают только о собственном обогащении! Чем вообще занимаются банкиры? Обогащаются. Возьмем Жака Кёра. Я поручил ему обогатить Францию. Он принял за Францию себя и обогатился сам. На соли, серебряных рудниках, пряностях. Но Франция сделана не из банков. Она заселена людьми, которые очень хорошо знают, что никогда не будут банкирами. Большей частью это крестьяне. Сегодня половина из них лишилась своего хозяйства. Все эти войны опустошили наши деревни. Вы говорили мне об этом, Жанна, когда приезжали в Боте-сюр-Марн. Кёр видел не дальше собственного носа. Следовало обогатить Францию земледелием и торговлей.
Жанна никогда не слышала от короля такого длинного монолога. Он словно изливал душу, делясь своим горьким знанием. Неужели он не обсуждал этого с министрами?
– Простите меня, сир, но мне показалось, что люди, которых вы приблизили к себе, служат вам прекрасно, – сказал Жак.
Карл обратил на него взгляд воспаленных глаз.
– Ну да, – сухо заметил он. – Это выдающиеся люди. Некоторые из них верны, как Шабан и Шевалье. Другие, как мне известно, думают о том дне, когда я умру…
– Сохрани нас от этого Господь! – вскричала Жанна.
– Когда-нибудь я все же умру, Жанна. Так вот, некоторые думают, что в этот день им придется несладко, поскольку они служили мне.
Горькая гримаса еще больше заострила его черты.
– Короче, – сказал он. – Вы богаты, л'Эстуаль?
– У меня совсем небольшое состояние, сир.
– Хорошо. Вам нет смысла обогащаться сверх разумного предела. Вы наживете завистников и, когда мой сын вступит на престол, рискуете потерять свое имущество, которое у вас конфискуют под тем или иным предлогом. У большого богатства почти всегда есть тайный изъян, в конце концов разъедающий его. Вот и Жак Кёр занимался опасными спекуляциями с прибылью от пожалованных ему в управление рудников. Я собираюсь просить вас о двух вещах.
Жанна слушала с тревогой и напряжением.
– Первое: занять под разумные проценты триста тысяч ливров у ваших иностранных коллег. Если вы сумеете это сделать, я дарую вам баронство.
– Какие проценты вы считаете разумными, сир?
– Я знаю, что в Лондоне и Неаполе просят почти сто. Это неразумно. Французское королевство не может пускаться в авантюру. Для подобной суммы я считаю достаточным двадцать процентов. Поскольку вы в Меэне, вам легко будет съездить в Бурж, чтобы повидаться с Жаном де Боном. Это его город. Вы сообщите ему о поручении, которое я вам дал.
Отхлебнув еще глоток, он предложил Жаку налить вина себе и Жанне.
– Каков будет срок? – спросил Жак.
– Два года, пока Шевалье не завершит продажу доменов, которые не приносят мне никакой пользы.
– Простите мне такой вопрос, но какие будут гарантии, сир?
Взгляд Карла потемнел. Сейчас он прикажет стражам, стоявшим за дверью, схватить и немедленно обезглавить дерзкого банкира. Жанна затаила дыхание. Однако ничего подобного не произошло. Карл VII лишь грустно рассмеялся. И все же опасность всегда таится в беседах с королем. С этим королем. И конечно, с другими тоже.
– Доходы от продажи соли за тот же срок, бумага за подписью главного казначея Этьена Шевалье. Достаточно ли таких гарантий?
– Конечно, сир. Будь заимодавцем я, вопрос даже бы не возник. Но иностранные банкиры питают к королям не больше уважения, чем к обычным людям.
– Проценты от займа будут выплачены вместе с основной суммой. Сто двадцать тысяч ливров за триста тысяч, на мой взгляд, лакомый кусок.
Король нагнулся и поворошил угли. Посыпались искры. Они словно добавили таинственности и без того непонятному для Жанны разговору. Дрова, которые еще несколько дней назад были зелеными деревьями, превращались в пылающие точки и поднимались вверх, чтобы опуститься вниз пеплом. Нет, они не о деньгах говорят, – подумала про себя Жанна, – а о какой-то загадочной потусторонней силе.
– Второе, о чем я прошу вас, д'Эстуаль, – это подумать, как вновь заселить наши земли. Нужно вернуть в наши деревни скотоводов. Нам не хватает скота. В Париже и в большинстве других городов цена на мясо достигла заоблачных высот. И на хлеб тоже. Настоящие хозяева земли – те, кто ее обрабатывает. Новые владельцы, которые пытаются занять место сеньоров, воображают, будто имеют право на хозяйскую долю[6]. Это вздор. Горожане ничего не понимают в земле, а плата за труд растет, потому что рабочих рук не хватает. Рабство умерло, и я рад этому. Мир изменился! Но земля без крестьян не стоит и полушки, это всем известно.
Жак и Жанна слушали с изумлением. Король, которого они считали погруженным исключительно в интриги двора, оказывается, знал прекрасно свою страну в ее прозаической повседневной действительности. Он рассуждал как земледелец!
Жак, взяв кувшин, сначала подлил вина королю, затем наполнил бокал и протянул Жанне.
– Надо, чтобы зажиточные горожане поняли, – продолжал Карл, – что в последнее время все обесценилось на треть. А земли, которые они скупили по бросовой цене в надежде извлечь из них баснословный доход, будут обесцениваться и дальше, если им не удастся вернуться к реальности! Спекуляция, д'Эстуаль, – это яд для страны!
Он заметно разгорячился.
– Вы получите в собственность два владения из королевских земель: Эгюранд и Бузон. Они находятся недалеко от Ла-Шатра. Шевалье вручит вам дарственные. Я возведу эти земли в баронство, когда вы обеспечите заем.
– Вы чрезмерно добры ко мне, сир.
– Сначала взгляните на эти земли. Я знаю, о чем говорю. Что до чрезмерной доброты, то я действительно отдаю предпочтение не знати, а людям из народа, д'Эстуаль. Чем богаче наши сеньоры, тем больше они склонны к интригам! Они жаждут власти, все больше и больше власти, тогда как имеют ее все меньше и меньше! И по какому праву? Какие у них заслуги, кроме того, что они дали себе труд родиться и носят прославленные имена? Что хорошего сделали они для страны? А бюргеры, ошалевшие от тщеславия, начинают подражать им. Что до простолюдинов, они счастливы уже тем, что могут не бояться завтрашнего дня. – Он усмехнулся. – Вы не из народа, я это знаю, д'Эстуаль. Евреи далеки от земли, потому что мы запретили им владеть ею. В результате они живут торговлей и банками, оттого руки у них белые. В сущности, они тоже буржуа. Теперь, когда крещение и моя добрая воля сделали из вас француза, постарайтесь понять мои слова. Что ж, вам повезло, что вас любит Жанна. Жак улыбнулся.
– Это мне повезло, что он любит меня, сир, – с улыбкой заметила Жанна.
– Когда вы обвенчаетесь? – спросил Карл. – Мне бы хотелось, д'Эстуаль, чтобы это произошло, когда вы получите баронский титул. Тогда и наша Жанна не будет внакладе. Ведь она уже баронесса, вы это знаете?
Откровенно лукавый взгляд короля изумил Жака. В конце концов он расхохотался. Король тоже. В дверь постучали.
– Откройте, прошу вас, – сказал Карл. Это была Маргарита Вреден.
– Что ж, спокойной ночи, дети мои. Входите, Маргарита.
– Спокойной ночи, сир.
4 Волки лесные и городские
Жанна никогда не путешествовала зимой. И страх мучил ее тем сильнее, что сама она осталась дома, в тепле, на улице Бюшри. Ей рисовались опрокинувшиеся повозки, затаившиеся в лесу разбойники, медведи, голодные волки. Жак виделся ей зарезанным, израненным, растерзанным дикими зверями. Она почти перестала спать.
– Где Жак? – спросил Франсуа в первый же вечер после его отъезда.
– Он уехал.
– Зачем?
– Чтобы найти деньги.
Ответ погрузил мальчика в глубокие раздумья.
– А где можно найти деньги?
– У тех, кто их имеет.
– А у них откуда?
– Они их скопили.
– А ты скопила?
Она начала терять терпение.
– Нет. Вернее, да, но немного. Совсем немного.
Вопросы сына смущали ее: с какой суммы можно говорить, что у тебя "есть деньги"? Ее сорок тысяч ливров – это уже небольшое состояние или обычные накопления зажиточной горожанки? После беседы с королем в Меэне она стала смотреть на деньги по-иному, ей открылось существование целого незримого мира. Как истинная крестьянка, она откладывала монеты на черный день, чтобы выжить в неурожайный год, обеспечить хозяйство и потомство. Но цифра, названная королем, – триста тысяч ливров! – доказывала, что деньги есть нечто большее: орудие власти, огромной, королевской.
Она попыталась представить себе, что сделала бы с суммой в триста тысяч ливров, но так ничего и не придумала. Построить замок? Но зачем? Естественно, все эти размышления заставляли вновь задуматься о том, как пустить в оборот имеющийся капитал. Теперь, когда три ее кондитерские лавки работали словно сами собой, она томилась от безделья.
Ей вспомнились слова суконщика Контривеля: "Никогда вы не сколотите состояние, торгуя пирожками на рынке. Скоропортящийся продукт".
Но хотела ли она сколотить состояние? И для чего?
Короче, она запуталась. Мысли ее метались, словно мухи, накрытые стаканом. Она умела справляться с реальными проблемами, но тут проблема казалась какой-то неосязаемой. Мир словно расширился, стал слишком велик для ее понимания.
Ей захотелось, чтобы Жак был рядом, он ответил бы на все эти вопросы. Но Жак во Флоренции.
Когда он вернется? Через несколько недель, сказал он. После Флоренции поедет в Милан, затем, возможно, в Рим или даже в Неаполь, пока не соберет сумму, которую назвал король.
Через неделю после их возвращения из Меэна на улицу Бюшри пришел посланец с дарственными на пожалованные Жаку владения Эгюранд и Бузон. Адрес был указан следующим образом: "Жаку де л'Эстуалю, проживающему в доме госпожи Жанны, баронессы де Бовуа, на улице Бюшри". Это само по себе уже было документом, закреплявшим его имя и место жительства, ибо других у него не было.
Сорвав печати, она проглядела королевскую дарственную. Поразмыслив, надела подбитый мехом плащ и отправилась к Жаку Сибуле, управляющему ее кондитерской на Главном городском рынке. Сибуле, как ей было известно, имел друзей в городской страже и даже среди тайных осведомителей прево.
– Жак, мне нужны на несколько дней два верных вооруженных человека, которые сопровождали бы меня в путешествии.
Он кивнул:
– Найдем.
– Это должны быть верные люди, – настойчиво повторила она.
– Я вам других и не дам, хозяйка. Это будут стражники, которые сейчас в отпуску.
– Сколько им надо заплатить?
– Жалованье у них – пятнадцать солей в день. Положите двадцать, и они будут драться за право сопровождать вас, поскольку питание и ночлег вы им, понятное дело, обеспечите. Могу ли я спросить, куда вы направляетесь?
– В окрестности Ла-Шатра, в Берри. Он взглянул на нее вопросительно.
– Поеду смотреть земли моего будущего мужа в Эгюранде и Бузоне.
– Там ведется хозяйство?
– Надеюсь. Если земли освоены, прикину, что надо сделать еще, чтобы увеличить доход. Если нет, придется их осваивать заново и найти для них арендаторов. Весной будет слишком поздно.
– Это сеньориальное владение?
– Не знаю, каким оно было раньше. Это не так уж важно. Главное, чтобы земли приносили доход.
Он помолчал, затем пошел к покупателям, ожидавшим у окошка. Положил три пирожка с сыром на деревянную лопатку, протянул их клиентам, потом наполнил два стакана красным вином и один белым. Получив деньги, вернулся к Жанне.
– Посмотрим, может, я смогу найти вам сопровождающих из уроженцев тех мест. Они вам и там пригодятся. Вы правы: если земли заброшены, именно сейчас их и нужно поднимать.
Через два дня Сибуле привел на улицу Бюшри двоих: Итье Боржо и Матьяса Сампера. Оба когда-то были крестьянами, Итье – в окрестностях Ле-Мана, Матьяс – под Буржем. Тощему Итье, смахивавшему на виноградную лозу, было двадцать шесть лет, и на ноге у него отсутствовал большой палец. В юные годы он был пастухом, потом завербовался в королевскую армию, поскольку жалованье там в два, а то и в три раза превышало его прежний заработок. Потом, за неимением лучшего, стал "живодером"[7], но сумел поступить на службу в городскую стражу и мечтал лишь об одном – вернуться в деревню.
– Парижская мостовая пахнет вчерашним навозом, – заявил он. – Я предпочитаю запах навоза свежего.
Матьясу было около сорока. Арендатор, сильно задолжавший сеньору, он бросил хозяйство и подался в Париж, где у его жены были знакомые среди мясников на Главном рынке.
Сибуле не поленился прийти, чтобы представить стражников хозяйке.
– Они обязуются вернуть вас в Париж целой и невредимой, в чем отчитаются передо мной и своим начальником.
Доверив Франсуа заботам кормилицы, которая превратилась теперь в няньку, и повторив привычные наказы – на ночь запирать двери на засов, никого не впускать и закрывать ставни на четвертом этаже, – Жанна надела удобную для верховой езды одежду и ранним утром, захватив небольшой узелок с пожитками, двинулась в путь на наемной лошади в сопровождении Итье и Матьяса.
Как только всадники миновали ворота Сен-Жак, они пустили лошадей рысью, иногда переходя на галоп. Нечистую сырость города сменил ветреный холод деревни, и езда согревала их, не вызывая усталости, которая делает человека уязвимым для простуды. Путешествие предстояло долгое: Жанна и Матьяс сошлись на том, что им надо преодолеть около четырехсот лье. Делая семь лье в час, они не могли проехать более шестидесяти в день, поскольку Жанна твердо решила с наступлением темноты останавливаться на ночлег в надежном месте.
Она вдыхала горьковатый запах земли, оцепеневшей от холода. Если не считать поездки в Боте-сюр-Марн и, позже, в Меэн-сюр-Йевр, Жанна не дышала свежим деревенским воздухом уже много лет. Она вдруг почувствовала себя в своей стихии, хотя погода была не слишком к ним милостива.
За весь день солнце лишь несколько раз пробилось сквозь низкие облака. Около полудня путники остановились в Этампе перекусить. Трапеза была скромной. Они не успевали добраться до Орлеана засветло, как надеялась Жанна, и пришлось ночевать в Артене, в амбаре, предоставленном в их распоряжение хозяином постоялого двора, где они ужинали.
– Вы ведь не из мещанского сословия, – сказал ей Матьяс за вечерней трапезой.
– Почему вы так решили?
– Вижу, как вы держитесь в седле. Жанна улыбнулась.
– Породу не скроешь, – ответила она.
– Что вы собираетесь делать в Эгюранде? Возродить хозяйство, как сказал мне Сибуле? Стало быть, вы понимаете, что такое хозяйство?
Она кивнула. На лице его появилось равнодушное выражение, присущее людям, которые привыкли скрывать свои мысли.
– Значит, вы знаете, что ферма принесет вам немного, да и то не раньше, чем года через два, если она заброшена и нужно все восстанавливать. Разве что займетесь скотоводством. Но только с большим размахом.
– Я получу доход уже с первого урожая, если сама закуплю его для своих кондитерских, – ответила она. – При ценах на суржу[8] в Париже это мне выйдет вдвое дешевле. Да и на продаже излишков тоже заработаю.
Слушая собственные слова, она вновь открывала в себе Жанну Пэрриш. Крестьянская жилка не умерла в ней, оказывается, за восемь лет! В сущности, она решилась на поездку, потому что ее все это время неодолимо тянуло к земле.
Напрасно они понадеялись на свои географические расчеты: вечер второго дня застал их в чистом поле, а они-то думали, что успеют добраться до Шатору. Холод пронизывал до костей. Вокруг ни постоялого двора, ни даже огонька. Сощурив глаза, Итье показал на какие-то строения за лесом. Они поскакали напрямик через поле, тщетно пытаясь углядеть поднимающийся над крышей дымок. Это была ферма, некогда очень большая, теперь заброшенная. Но все же там можно будет укрыться от холода и развести огонь.
Вдали послышался волчий вой. Путники подхлестнули лошадей.
И очень вовремя. Из леса появилась стая волков. Жанна испугалась.
– Слева хлев! – крикнула она.
Они помчались во весь опор и захлопнули ворота буквально перед носом хищников. Потом спешились. Голодные волки злобно рычали. Зубастые морды пытались просунуться в просвет между дверью и землей. Матьяс схватил свалившуюся с крыши жердь и с размаху нанес удар. Раздался жуткий вой.
– Их не меньше пятнадцати, – сказал он. – А ворота не очень-то прочные.
Лошади ржали от страха.
– Сзади есть другой выход, – сказала Жанна.
Но, направившись туда, она услышала яростный скрежет когтей. Волки явно не собирались отказываться от добычи. Они быстро расправятся с тремя путниками и их лошадьми.
Хладнокровие странным образом сохранил один Итье. Жанна увидела, как он вынул из седельной сумки огниво и запасную рубашку, оторвал от нее кусок, обернул им солому, привязал к жерди, которой только что воспользовался Матьяс, и поджег. В руках у него оказался факел в три локтя длиной.
– Что вы делаете? – в ужасе воскликнула Жанна, когда он подошел к большим воротам и распахнул их.
Он не ответил и выскочил наружу с факелом в руках. Волки попятились от огня, злобно ворча. Они образовали полукруг. Один кинулся вперед. Итье ударил его пылающим факелом, и шерсть на спине мгновенно вспыхнула. Волк взвыл от боли, начал кататься по земле, потом стремительно умчался все с тем же страшным воем. Стая выглядела озадаченной. Возможно, она потеряла вожака. Волки не разбежались, но круг расширился. Однако факел не может горечь вечно.
Матьяс, схватив охапку соломы, поспешил на выручку. Он разбросал ее по земле, Итье понял и тут же ее поджег. В темноте заиграло пламя. Волки отступили еще дальше. Матьяс схватил большой камень и швырнул в ближайшего из них. Попал в голову. Хищник взвыл и зашатался. Тем временем Итье ударил факелом еще одного волка, тот отпрыгнул, но шерсть уже загорелась. Зверь стал кататься по земле и потом удрал, а Итье уже надвигался на другого обезумевшего от ужаса хищника с разинутой пастью и свирепым блеском в глазах. Ощерив громадные клыки, волк изогнулся для прыжка, но Итье ткнул факел прямо ему в глотку. Раздался пронзительный вопль, от которого стыла душа. Стая отступила. Жанна металась по хлеву, лихорадочно соображая, что может сделать. Она залезла на кормушку и, обдирая себе руки, вырвала еще одну жердь и тоже выскочила наружу.
Ей показалось, что идет сражение с демонами.
Она напала на первого попавшегося волка и ударом жерди перебила ему хребет. Стая снова попятилась. От нее осталось уже не больше семи или восьми самых матерых зверей. На Жанну прыгнул молодой волк. Она ударила его жердью на лету, словно мяч. Волк перевернулся в воздухе, попытался снова прыгнуть, но Итье его подпалил. Хищник издал предсмертный рев. Трое волков обратились в бегство. Итье двинулся к трем оставшимся. Жанна оглушила одного из них жердью и продолжала наносить удары, внутренне содрогаясь от жалобных стонов зверя, которого убивала. Другой прыгнул на Матьяса и ухватил его за левую руку. Этот хищник не уступал по силе человеку. Но он не знал, что человек вооружен. Зажав кинжал в правой руке, Матьяс вспорол нападавшему брюхо. Зверь разжал зубы и рухнул на землю с вываливающимися кишками. Лапы у него задергались в предсмертной судороге. Итье подпалил последнего из волков.
В ночи послышался удаляющийся вой.
В холодном воздухе остро ощущался тошнотворный запах крови.
– Вы ранены! – вскричала Жанна, обращаясь к Матьясу.
Она знала, что укусы волков часто потом воспаляются. Он показал руку: на куртке были видны следы зубов, но кожа не порвалась.
Мерцающее пламя окрашивало сцену в цвета преисподней.
– Ладно, – сказал Итье, – теперь нужно сжечь трупы, иначе выжившие вернутся, чтобы сожрать падаль.
Он снова пошел в хлев за соломой, выломал все деревянные перегородки и соорудил костер. Потом с помощью Матьяса свалил туда волков – некоторые еще агонизировали.
Лошади рвались с привязи от страха. Жанна с трудом успокоила их. Она задыхалась, ее тошнило от запаха крови, смешавшегося с вонью паленого мяса.
– Ушли, – сказал Матьяс, вернувшись в хлев.
Факел потихоньку угасал. Итье зажег две сухие ветки и направился к главной постройке фермы.
– Возможно, здесь есть более надежное место, где мы могли бы развести огонь и переждать ночь, – сказал Матьяс.
– Неужели мы оставим лошадей одних в хлеву? – спросила Жанна.
– Волки уже не вернутся.
Ей хотелось в это верить. Она дрожала, сама не зная – от холода или от волнения. Зубы у нее стучали. Она вошла в хлев, порылась в своей седельной сумке, достала флягу с вином и сделала большой глоток. Потом закусила ломтем хлеба, который лежал под фляжкой. Стоя в темноте, она прислушивалась к далеким завываниям волков. Да, Матьяс был прав: они, конечно, не вернутся. Во всяком случае, не сразу. Но двери хлева не выглядели особенно прочными. Снаружи послышался зов Матьяса:
– Мадам! Мадам!
– Я здесь, – ответила она срывающимся голосом. Он вошел в хлев – черная тень из кошмарного сна.
– Итье сейчас разводит огонь в очаге на кухне. Вам там будет лучше. Пойдемте.
– Тогда возьмем и лошадей, – сказала она. – Без них погибнем.
Он повел двух лошадей к выходу, пытаясь успокоить их ласковыми словами. Волки поджаривались на костре в клубах вонючего дыма. Жанна отломила большую ветку и запалила ее, потом вернулась за своей лошадью и тоже повела ее к дому. Странная процессия из человеческих теней и животных в пляшущем свете импровизированных факелов удалялась от костра. Ночь обещала быть морозной.
Силы Жанны почти иссякли. Войдя в большую кухню, где Итье развел огонь из всего, что попало под руку, она споткнулась и едва не свалилась в квашню. Матьяс удержал ее. Итье поспешно соорудил возле очага соломенное ложе. Она легла и тут же уснула.
Только и успела услышать, как Итье сказал Матьясу:
– Пойдем проверим дверь.
И провалилась в сон, словно в бездонный колодец.
Жанна приоткрыла глаза. В очаге краснели угли. Она села. Ветер намел сухие листья и пыль под одну из дверей. Полоски грязноватого цвета просачивались сквозь щели в окне. Лошади спали. Матьяс тоже спал как убитый. Открылась дверь, и вошел Итье.
– Доброе утро, – сказал он.
– Доброе утро, – ответила она и встала, чувствуя себя совершенно разбитой.
Потом разбудили Матьяса.
Жанна рассматривала тощую фигуру Итье, пока тот с жадностью жевал хлеб. Итье вполне мог бы выступать на ярмарке с акробатическими трюками.
– Воды совсем нет, – объявил он. – Я все обошел. И еще надо покормить лошадей. Вы правильно сделали, когда велели нам привести их сюда. Сейчас от них мало бы что осталось.
Она не поняла.
– Пойдемте покажу.
Он открыл дверь. Жанна увидела давешний костер и вскрикнула от ужаса. Остывшее пепелище шевелилось. Крысы. Огромные серые крысы. И новая битва. Волки ночью опять вышли из лесу, привлеченные запахом живности. Один уже пожирал серого грызуна, громко щелкая и скрежеща зубами. Второй с яростным рыком сражался с крысой, которая, наоборот, его атаковала. Вороны хлопали крыльями над схваткой, присматриваясь к жареной волчатине.
– Едем отсюда прочь, – сказала Жанна.
Когда они, отдав дань природе, вновь оказались в седле, Матьяс иронически заметил:
– Вот что такое сегодня крестьянское хозяйство, мадам.
К счастью, до Ла-Шатра было всего пять лье. Для лошадей там нашлись вода и фураж, а сами путники разжились молоком, хлебом, горячим вином и сыром.
Жанна спросила у хозяина постоялого двора, где живет городской старшина.
– В замке. Он еще и командир лучников.
Звали его Бертран Гонтар, на вид ему было лет сорок. От трехдневной щетины его морщинистое лицо казалось серым. Он вопросительно взглянул на посетителей. Жанна назвала себя. Он кивнул.
– Вы приехали посмотреть свои земли, – сказал он.
Заметив ее удивление, он добавил:
– Я получил письмо от парижского эшевена.
Шмыгнув носом, он повернулся к этажерке, стоявшей в маленькой комнатке, которая служила ему также и спальней. Порывшись в свитках, вытащил один из них и развернул на столе.
– Вот, – сказал он, ведя пальцем по границам владения. – Эгюранд и Бузон находятся рядом, их разделяет только дорога. Почти полторы тысячи арпанов[9].
– Порядочно, – заметила она.
Ее родители обрабатывали двадцать пять аров.
– Не то чтоб очень, – произнес он, бросив на Жанну насмешливый взгляд. – Семь хозяйств. Мертвых. Заброшенных.
– Все до одного?
– Может, от Гран-Палю кое-что еще и осталось.
Она на минутку задумалась. Эти земли были не подарком – скорее уж вызовом.
– А где крестьяне?
Гонтар пожал плечами:
– Чума. Войны. Нищета. Многие ушли в города. Другие подались кто в "живодеры", кто в стражники.
Итье и Матьяс шумно сглотнули слюну и стали переминаться с ноги на ногу. Гонтар смерил Жанну взглядом.
– Хлеб достается здесь тяжким трудом.
– Я крестьянка, – сказала она.
– Мне так и показалось.
– Что?
– Это комплимент, мадам. Вновь наступила пауза.
– Давно эти хозяйства в запустении?
– Некоторые еще с царствования покойного короля. Значит, лет тридцать.
– И все это время земли стояли под паром? Значит, их можно сразу обрабатывать?
– Конечно, если вырубить кустарник, который разросся почти везде.
– Как их заселить? – спросила она.
– Сейчас? – воскликнул Гонтар, вскинув брови.
– Сами знаете, весной будет поздно. Он задумался.
– Вы богаты? Пауза.
– Чтобы заселить вновь эти фермы, их надо сначала отстроить. Выкопать колодцы. Уничтожить бурьян. Купить плуги. Тягловых быков. Коров. Лошадей. Зерно для посева. И платить арендаторам в течение года, пока не появится первый теленок и первый колосок ржи. В общем тысяч по пять ливров на каждую ферму.
Жанна прекрасно все это знала. Он принимал ее за белоручку из замка. Она произвела быстрый подсчет. Семью пять – тридцать пять. Тридцать пять тысяч ливров, подумала она. Это ей по силам.
– А люди?
– Я могу вывесить объявления об аренде. Но чтобы получить ответ, вам надо пробыть здесь несколько дней.
Она задумалась, а он добавил:
– Не советую вам останавливаться в замке Ла-Дульсад.
– Здесь есть замок?
– Да, но сейчас там живут только совы.
– И конечно, появляются волки.
– Волки тоже…
– Вчера они напали на нас, – сказал Матьяс. – Было настоящее сражение.
– Где вы оказались?
– В пяти лье отсюда. На заброшенной ферме.
– Гран-Бюссар, – сказал Гонтар, кивая. – Напротив леса Шантелуб и Чертова болота.
– Чертова болота?
– Так называется большой пруд, который люди считают проклятым или заколдованным, сам не знаю. А лес кишит волками. В этом краю волков больше, чем людей. Зимой на дорогах страшатся не разбойников, а волков.
– Хорошо, – сказала Жанна, – надо сначала посмотреть эти фермы.
– Если хотите, я поеду с вами, – предложил Гонтар. – И возьму с собой двух человек с пиками. Когда сидишь в седле, пика – единственное оружие, которым можно проткнуть волка. Там их, естественно, тоже хватает.
Видимо, излишней работой он себя не обременял, и ему было куда приятнее сопровождать красивую женщину, желающую посмотреть свои владения, чем скучать у себя дома. Поскольку Итье и Матьяс числились стражниками, на оружейном складе им тоже выдали пики.
Примерно за час они добрались до первой фермы, которая называлась Гран-Палю, по соседству с болотом.
– Люди видели, как волки с голоду пытались тут ловить рыбу, – со смехом сказал Гонтар.
Ферма была пуста. Два новых креста возвышались на маленьком кладбище в нескольких метрах от дороги – рядом с четырьмя более старыми. Груды камней свидетельствовали о том, что живые позаботились, чтобы волки не разрыли могилы с целью поживиться мертвецами.
– Здесь жили двое стариков и трое молодых, – объяснил Гонтар. – Должно быть, молодые ушли после смерти родителей. В Лимож, в Брив или еще дальше на юг. Там не так голодно.
Жанна порадовалась, что приехала без Жака: он покачал бы головой и отказался от королевского подарка.
Сам дом оказался в хорошем состоянии: было видно, что еще несколько недель назад здесь жили люди. Хлев был просторный. Жанну удивил большой винный склад, где стояли полусгнившие бочки.
– Здесь был виноградник? – спросила она.
– О да! – ответил Гонтар. – Когда-то был, задолго до того, как я занял свой пост! Я никогда не пробовал местного вина.
Окрестные поля не так уж сильно заросли кустарником, как они ожидали. Хорошая корчевка покончит с ним навсегда. Она рискнула пройти чуть дальше: на ветру белел бараний скелет. Кругом виднелись и другие кости. Вороны или сойки кричали в рощах. Но лес был далеко: если там затаились волки, их можно будет вовремя увидеть. До сих пор они не показывались. За старым сараем она нашла колодец. Конечно, его придется чистить.
– Посмотрим все остальное! – сказала Жанна.
Волки появились внезапно, на повороте тропинки между двумя участками леса. Они напали сзади. Один из людей Гонтара вздел на пику хищника, который прыгнул на лошадь Матьяса.
– Скачите вперед! – крикнул Гонтар Жанне.
Не имея оружия, чтобы защищаться, она последовала этому совету и издали наблюдала за схваткой. Лошади испуганно ржали. Один из зверей ухватил Гонтара за ногу и стащил с седла. Итье проткнул волка насквозь. Тот медленно выпустил добычу, захлебываясь кровавой пеной. Второй стражник Гонтара нанес хищнику удар в морду. Еще один волк бросился на Гонтара, тот выхватил кинжал и с большим трудом отбивался, стараясь попасть в голову. Наконец окровавленный зверь упал. Люди тоже были все в крови. Гонтар побежал за своей лошадью, ухватил ее за повод и тяжело влез в седло. Штаны у него были разорваны, щиколотка исполосована когтями.
Сражение продолжалось около двадцати минут. Пять волков валялись на дороге. Над ними уже кружили вороны.
Жанна с трудом обрела дар речи:
– Да тут нельзя из дому выйти!
– Я же говорил вам, что здесь волков больше, чем людей, – ответил Гонтар, переводя дух и наклоняясь, чтобы лоскутом штанины стереть кровь с ноги. – Если бы народу было побольше, они бы так не расплодились. Конечно, мы могли бы нанять охотников, но к чему, если им никто не поможет.
Тут показалась группа из шестерых всадников, закутавшихся в широкие плащи. Они были вооружены луками, следовательно, выехали на охоту. Перед ними россыпью бежала стая гончих, принюхиваясь к следам.
– Желаю здравствовать, капитан Гонтар, – сказал ехавший во главе отряда маленький плотный человек с отрывистой речью; рядом с ним держался светловолосый юноша.
Они поравнялись с Жанной и капитаном.
– Я также желаю вам здравствовать, сир д'Окье, – ответил Гонтар. – На кого вы охотитесь?
– Мы с графом д'Аржанси решили разнообразить наше меню дичью.
Жанна окаменела. Д'Аржанси? Она впилась взглядом в лицо молодого человека. Дени. Тот перевел дерзкий взгляд на всадницу, и выражение его лица изменилось.
– Но что делает моя сестричка в этих местах? Да еще верхом, словно мужчина! Паламед, позвольте представить вам мою сестру, баронессу де Бовуа. Жанна, познакомься с моим превосходным другом и хозяином, бароном Паламедом д'Окье.
Всадник поклонился и окинул Жанну долгим взором.
– Мне кажется, вы охотитесь на королевских землях, – заметил Гонтар любезным тоном.
– Возможно, мы и в самом деле слегка уклонились в сторону, – ответил д'Окье. – Но, согласитесь, эти королевские земли превратились в угодья для волков, и не будет большой беды, если кто-то вырвет у них ту дичь, что еще осталась.
– Мы только что убили нескольких, – сказал Гонтар. – Быть может, вскоре их станет меньше, потому что отныне эти земли принадлежат баронессе де Бовуа, которую я имею честь сопровождать.
Паламед д'Окье и Дени одновременно повернулись к Жанне.
– Эгюранд теперь ваш? – спросил д'Окье, вытянув шею.
– И Бузон тоже, – ответила Жанна.
– Значит, мы соседи, – заключил д'Окье. – Простите нас за то, что мы невольно вторглись в ваши владения.
– Ничего страшного, – сказала Жанна, столь же встревоженная этой встречей, как прежде нападением волков. – Желаю здравствовать, господа.
Она пришпорила лошадь и пустила ее рысью под ошеломленным взором так называемого графа д'Аржанси. Гонтар со своими людьми немедленно последовал за ней.
Капитан молча ехал рядом с ней до следующей фермы. Несомненно, он был удивлен ее неприязненным отношением к брату: она не обменялась с ним ни единым словом.
Ферма – если, конечно, она заслуживала такого названия – была брошена несколько лет назад. Она именовалась Ла-Шантре, и Гонтар сказал, что здесь выращивали овец с тонкой и очень дорогой шерстью. Мельница на холме потеряла три из четырех своих лопастей. От этого места веяло запустением. Одно хорошо: здесь брала начало река Эндр – в виде ручейка, вившегося меж камней. Значит, с водой все в порядке.
Жанна осмотрела службы. Крыши обвалились, все вокруг заросло травой, в углах скелетики мышей и крыс. Прямо у Жанны над головой захлопали крылья, и она перепугалась. Это улетел потревоженный ею огромный филин. В овчарне могла поместиться сотня овец, в хлеву – десятка два коров. Везде под ногами хрустела серая гнилая солома. Здесь жило когда-то не меньше пятнадцати человек. Безумие власти, о котором так сокрушался Карл VII, и черная смерть сообща истребили все и рассеяли по стране уцелевших землепашцев, скотников, пастухов. В отдельной постройке большой каменный резервуар был усеян медвежьим пометом и зарос буйной травой.
– Должно быть, это давильня для винограда, – сказал Матьяс, взяв в руки заржавленный железный пест.
Она подумала, что крошечная ферма ее родителей, конечно, находится в таком же состоянии. Как-нибудь она съездит посмотреть. Но прежде, в самое ближайшее время, обещала она себе, привезет сюда сына Франсуа, чтобы тот познакомился с деревней.
– Мы уже два дня толком не ели, – сказала она.
– Постоялых дворов нет до самого Лиможа, – сказал Гонтар. – Я покажу вам третье хозяйство, и мы вернемся в Ла-Шатр, где вы найдете приличное жилье и ужин. Завтра поедем смотреть остальные. А я тем временем прикажу вывесить объявления об аренде.
Она вдруг поняла, что ни разу еще не слышала здесь колокольного звона. И определила по солнцу, что время – около полудня.
– В этом краю нет церквей?
– Нет, – со смехом ответил Гонтар. – Туда ходили бы одни волки!
Третья ферма, Ла-Гландьер, была меньше других и находилась в столь же плачевном состоянии. Но зато там была часовня, хоть и полуразрушенная. В ней могло поместиться около пятидесяти человек. Колоколенка без колокола служила насестом для грачей. Несомненно, именно здесь деревенский кюре служил мессы по случаю больших праздников.
– На сегодня хватит, – сказала Жанна. – Я вот думаю: интересно, остались ли еще во Франции возделанные земли?
– Не печальтесь, я думаю, просто это самый обездоленный край нашего королевства, – сказал Гонтар.
Хорошенький же подарок преподнес им Карл VII!
В Ла-Шатре жена одного из стражников вызвалась починить Гонтару штаны, а сам он промыл царапины уксусом и наложил целебную мазь. Жанна пригласила его и обоих стражников поужинать на единственном постоялом дворе городка. Им подали наваристый суп с салом и морковью и насадили на вертел трех пулярок.
– Кто такой Паламед д'Окье? – в упор спросила Жанна Гонтара.
– Ваш сосед, – с кривой улыбкой ответил капитан, после того как почти опустошил свой стакан. – Богатый человек, полагаю, даже очень богатый. Он торговец зерном, из Буржа, связан с Рауле Тустеном. Но, как и Тустен, он сколотил состояние не на зерне, а на соли. Говоря "сколотил", я имею в виду, что он продолжает этим заниматься и сейчас. Однако ваш брат ошибается: Паламед Докье – его фамилия пишется без апострофа – не барон.
Гонтар сощурился, словно сказал нечто очень забавное.
– Он живет в здешних краях?
– Он купил замок Ла-Гийон, лежавший в руинах. И заново отстроил его. Он также возродил ближайшую ферму, которая поставляет ему кур, молоко и овощи. Охотится он со сворой и держится заносчиво. Только вот баронство его заканчивается за пределами владения.
Иначе говоря, никто его за сеньора не признавал. Суп был съеден в мгновение ока, и Жанна попросила добавки, поскольку пулярки еще не прожарились.
– Он женат? – спросила она.
– Да, в Бурже, – ответил Гонтар все с той же ухмылкой.
– Только в Бурже?
Тут Гонтар расхохотался, стражники, с любопытством следившие за беседой, тоже засмеялись.
– Мой брат давно гостит в замке Ла-Гийон?
– С весны.
Жанна теперь хорошо знала, что такое Дени: разумеется, не ради дружбы поселился он вместе с богатым торговцем солью. Догадаться было нетрудно: он продолжал свою охоту за чужими состояниями. Она-то надеялась, что навсегда прогнала его от себя, а он оказался так близко от ее земель! Это ее пугало.
Тем не менее аппетит она не потеряла, и вскоре от трех пулярок остались одни кости. Ужин завершился сырами и салатом из лука-порея. Жанна с Гонтаром условились, что встретятся завтра на рассвете и отправятся на фермы; к этому времени на дверях церкви уже будет висеть объявление об аренде. Итье и Матьяс разместились в казарме с двумя другими стражниками, лошадей же отвели подлечить в конюшни при резиденции прево.
За шесть солей ей растопили камин. Когда спальня достаточно прогрелась, она умылась из тазика и легла, размышляя о причудах судьбы, которая вела ее одновременно и к крестьянским корням, и к брату. Она снова подумала о волках – тех, что рыскали по полям и лесам, – потом о Дени, который тоже был волком, но цивилизованным, городским. Тот факт, что сестра владеет столь обширными землями, разожжет его аппетит, в этом сомневаться не приходилось. Какую подлость он измыслит?
И что сейчас делает Жак? Где он? Хранит ли ей верность?
Внезапно она осознала, что он обладал ею всего один раз.
5 Пробуждение
Четыре фермы в Бузоне оказались ничем не лучше двух последних в Эгюранде – с той разницей, что три из них располагались на берегу реки Крёз. Это означало, что вода будет в изобилии. Внимание Жанны привлек замок Ла-Дульсад. Он возвышался на холме и с четырех сторон был окружен рвами с единственным подъемным мостом. Рвы пересохли; невзирая на грозный вид, они служили скорее для того, чтобы отпугивать волков, оленей и кабанов. Жанне понравилась простая архитектура: к главному трехэтажному строению примыкали два двухэтажных крыла, и все было покрыто черепицей. Замок выглядел солидно, но не чванливо. Она вообразила сад на площадке перед входом и Франсуа, бегающего среди цветов. Внутри предстояла большая работа: надо было заменить все полы и половину крыши.
– Он уже давно заброшен, – пояснил Гонтар. – Владелец и его единственный сын погибли в битве при Кастийоне.
Вернувшись в Ла-Шатр, она, как и накануне, села ужинать с капитаном и четырьмя стражниками, как вдруг на постоялый двор вошел мужчина лет тридцати и попросил разрешения переговорить с Гонтаром по поводу аренды. Гонтар страшно удивился: он не ожидал столь быстрого отклика.
– Присаживайтесь, – сказала Жанна и велела налить пришедшему вина.
Было видно, что он не привык подчиняться женщинам. Его выпуклый лоб свидетельствовал об упрямстве. Звался он Никола Журде и работал прежде на одной из ферм Бузона. По его словам, сейчас у него было хорошее место у мясника в Ла-Шатре, но он родился в деревне и вернулся бы туда на хороших условиях.
– Вы женаты? – спросила его Жанна.
Он кивнул.
– В вашей семье есть мужчины и женщины, готовые поднять ферму неподалеку отсюда? Потому что туда нужно человек десять.
– Я попрошу пять солей в день. Другие попросят столько же. Мы оставляем себе треть урожая и получаем процент с продажи.
Она быстро прикинула в уме: пятьдесят солей в день составляли девятьсот ливров за год – еще до того, как появится первый урожай. Она взглянула вопросительно на Матьяса, поскольку тот когда-то был арендатором, затем на Гонтара.
– Если вы оставляете себе треть урожая, то засеваете сами, – сказал Матьяс.
– Еще ведь и скот будет, – вмешался Гонтар. – Обычно просят четверть. Вы это знаете.
Никола Журде знал еще и то, что Бертран Гонтар – городской старшина и капитан лучников, так что со словами его следовало считаться.
– Какой скот?
– Коровы, овцы и свиньи, – сказала Жанна.
Он кивнул.
– Но у вас найдется десять человек? – повторила Жанна.
– Найдется. Платите вы?
– Да.
– А хозяйство? В каком оно состоянии? Вы же знаете, здешние фермы…
– Речь идет о Гран-Палю. Где вы раньше работали?
– В Жерфо.
– Это одно из хозяйств в Бузоне, – пояснил Гонтар.
– В Бузоне хозяйств больше нет, – сказал Журде.
– Есть земли, и есть постройки, – твердо возразил Гонтар.
Никола Журде все так же кивал. Жанна ждала.
– Я отвечу вам завтра, – проговорил он. – А если будет одиннадцать человек?
– Согласна и на одиннадцать.
"Такова жизнь, – подумала она. – С одной стороны, божественная любовь Жака, с другой – торговля с крестьянами".
– Вы сможете поселиться уже сейчас, – сказала Жанна.
– Сейчас? – возмутился он. – Да ведь сначала нужно сделать корчевку и прополку!
– Только не в Гран-Палю. И вам не надо оставлять часть земли под паром. Там все пустовало много лет. Весной получите пшеницу. А уж в следующем году оставите под паром треть.
Он взглянул на нее исподлобья:
– Откуда вы все это знаете?
– Я крестьянка, – ответила она, выдержав его взгляд.
– Вы разве не баронесса де Бовуа?
– Можно быть одновременно и крестьянкой и баронессой.
Итье и один из стражников Гонтара дружно прыснули.
– Ладно, – сказал со смехом Журде. – Но такое не часто встретишь.
Он поднял стакан. Тот был пуст. Жанна сама наполнила его.
В ожидании ответа Журде она на следующий день вновь отправилась в Гран-Палю и Ла-Шантре, прихватив с собой плотника из Ла-Шатра. Первая ферма многого не требовала: двери укрепить да крышу подлатать. Зато вторую нужно перестраивать почти целиком. А с мельницей возни не меньше, чем со всей фермой. Поскольку плотник был местный уроженец, она спросила, знает ли он Ла-Дульсад. Он знал, и она стала расспрашивать его, сколько времени и денег уйдет на ремонт.
– Мне нужны пятеро обученных подмастерьев и кровельщик, – ответил он. – Через три месяца в замке можно будет жить.
Она выплатила ему задаток за работу на ферме.
По возвращении их ожидала небольшая группа людей, топтавшихся перед постоялым двором. Журде не стал мешкать и собрал будущих обитателей Гран-Палю: пятеро мужчин, считая самого Журде, и шесть женщин в возрасте от двадцати до пятидесяти лет. Жанна пригласила их войти. Они смотрели на нее во все глаза: вот эта молодая баронесса собирается возродить Гран-Палю? А другие фермы? А плата? А муж ее где?
– Вы уже работали вместе? – спросила она.
Журде ответил, что все они родичи по крови или по свойству. Значит, будут стоять друг за друга, отметила она про себя.
– Кто возглавит ферму? – задала она важный вопрос.
Все повернулись к Журде. Она кивнула и затем объявила, что отдает им Гран-Палю. Через неделю туда уже можно будет вселяться, и она надеется, что они не станут тянуть с переездом. Она купит двух тягловых быков, плуг, топор, тесло и два серпа. И скот: двух коров, четырех овец и барана, трех свиней и хряка. Но первым делом нужно выкорчевать кусты и сразу засеять свободные участки. Она выдаст задаток за месяц и пятьдесят ливров на семена.
– Вы умеете писать? – спросила она Журде. Тот заметно смутился.
– Я умею, – сказал самый молодой в группе.
– Будете вести счета.
Они были изумлены: эта женщина оказалась настоящим командиром!
– Согласны? – спросила она.
Они кивнули. Она велела хозяину постоялого двора поставить им выпивку.
Крестьяне знали и Гран-Палю и плотника, который держался возле Жанны: Журде поговорил с ним. Они решили, что ремонтные работы не помеха и вселяться лучше прямо сейчас, чтобы протопить жилье и привезти мебель. И к корчевке тогда можно приступить быстрее. Жанна сочла, что это вполне разумно.
– Как вас зовут? – спросила она парня, умевшего писать.
– Бенуа.
Она попросила у хозяина перо, чернила и бумагу. Какое-то время пришлось подождать, пока все это принесут. Будущие фермеры неотрывно смотрели на Жанну.
– Пишите, Бенуа, что я даю здесь и сейчас, в лето Господне 1457, восемьдесят два ливра и десять солей Никола Журде, арендатору фермы Гран-Палю, принадлежащей Жанне, вдове де Бовуа, в супружестве де л'Эстуаль, – она продиктовала, как пишется это имя, – в качестве задатка ему и десятерым работникам, которые будут трудиться на ферме.
Паренек писал неплохо. Жанна вытащила кошель. Фермеры смотрели, как она выкладывает монеты на деревянный стол.
– Хорошо, теперь подпишитесь: за Никола Журде – Бенуа…
– Клутье, – сказал он.
Она выждала, чтобы просохли чернила, свернула расписку и сунула ее в карман.
– Никола, не уходите. Сейчас отправимся покупать быков.
Эти люди не были совсем нищими: у них имелись ослик и тележка, вилы, луки, ножи, кухонные принадлежности, квашня и, разумеется, кровати с постельным бельем и сундуки. Они ушли, чтобы заняться переездом. Перед постоялым двором собралась новая небольшая толпа: новость о возрождении Гран-Палю пронеслась по городу. И все уже знали, что отныне управлять фермой будет Никола Журде.
– Никола, – крикнул кто-то, – если тебе нужен еще один мужик, я готов.
Журде кивнул. Жанна окинула толпу взглядом. С восстановлением Ла-Шантре трудностей, похоже, не возникнет. С другими фермами тоже. Да и с усадьбой. Король будет доволен. Но она делала это не для того, чтобы угодить королю. Просто ею руководил инстинкт, которому она противиться не могла.
Мысль, что земля проснется, оживет, приводила ее в восторг. Это будет ее реванш за ужасную судьбу родителей.
Она еще раз взглянула на толпу и объявила:
– Кроме Гран-Палю, есть и другие фермы, которые я намерена восстановить.
На колокольне, словно в подтверждение ее слов, пробил первый час пополудни.
– И мне понадобятся рабочие руки!
Безмолвное согласие установилось между толпой и молодой светловолосой женщиной.
– Будьте наготове, скоро появятся новые объявления.
Засим она удалилась вместе с Журде, Итье и Матьясом.
Прошла неделя, как она уехала из Парижа. Если бы не желание поскорее увидеться с Франсуа и получить весточку от Жака, она осталась бы в Ла-Шатре надолго. Но на один лишний день она все же задержалась – посмотреть на ферму Гран-Палю, заселенную людьми.
Две собаки встретили ее и стражников громким лаем.
Главное же – из труб, а их было три, поднимался дымок.
Она бросила взгляд на поля: двое мужчин и одна женщина занимались расчисткой земли. Помогали им двое ребятишек. Они уже навалили большую груду травы и сучьев.
Журде вышел ей навстречу. После обычного обмена приветствиями он сказал:
– Прекрасная ферма!
– Все фермы прекрасны, Никола, когда они живые.
Он пригласил ее в дом. У дверей лежали дрова. Петли были подтянуты и смазаны. Большой стол свидетельствовал о том, что здесь люди обедают и ужинают. В очаге весело пылал огонь, и на крюке подогревался котел. Журде предложил подать вина. Какая-то женщина отмывала каменные плиты, которыми был выложен пол. Она подняла глаза на Жанну и стала обтирать руки, не зная, как себя вести.
– Моя жена Марьетта.
Плоское улыбающееся лицо, девичий торс и женские бедра. Жанна протянула руку. Марьетта вспыхнула от удовольствия и присела в поклоне.
– Я крестьянка, как вы, Марьетта, а не королева Франции.
– Но если посмотреть на вас… – сказала Марьетта.
– На холме были виноградники, – вмешался Журде. В тоне его звучало легкое удивление. – Даже сохранилось несколько лоз.
– Я в этом мало что понимаю, – сказала Жанна. – Мы обратимся за помощью к виноградарю.
– Здесь их уже не осталось.
– Что ж, поищем в другом месте. Тем более стоит возродить виноградники, раз их тут нет.
Он повел ее в хлев, который совершенно преобразился: полы вымыты, стойла вычищены. Гнилая солома исчезла: ее сменили на свежую. Два быка и коровы были с одной стороны, овцы и баран – с другой. Низкая загородка с дверцей отделяла их от свиней. Тем временем плотник уже навешивал дверь в курятнике.
– Осел не простаивал без дела, – сказал Журде. – Вообще-то с колодцем нам пришлось повозиться. Пришлось чистить его дважды. – Взгляд его омрачился. – Два дня мы ездили за водой в город.
Она поняла.
– Что там было?
– Скелет. Мы его достали и похоронили.
Одному Богу ведомо, какое зловещее сведение счетов привело к тому, что человеческое существо закончило свой земной путь в колодце.
– Мы вычерпывали воду до тех пор, пока она не стала прозрачной. Использовали для поливки капусты, которую мы посеяли.
– А волки? Не нападали они на вас?
– В первую же ночь явились и стали рыскать вокруг. Жозеф с женой вышли и отогнали их вилами. Надо будет построить забор. Собаки годятся, чтобы нагнать страху на лис, но с волками они справиться не могут.
– Я видела двоих ребятишек, – заметила Жанна.
– В поле? Это Бертен и Колина, мои дети. Есть и другие. Всего нас – с детьми – девятнадцать человек.
Жанна покинула Гран-Палю чуть ли не с сожалением, зашла проститься со старшиной Гонтаром и на следующий день в сопровождении Итье и Матьяса направилась в Париж.
Она подвела итог: израсходовано две тысячи сто ливров. Но никогда еще она не была так счастлива, тратя деньги.
6 Морозы и оттепель
С тех пор как уехал Жак, прошло две недели. И от него по-прежнему не было вестей. Жанна рассказала Франсуа о своем путешествии. Он дрожал, слушая о сражении с волками, и временами даже вскрикивал. Описание Ла-Дульсада привело его в восторг.
– Когда мы туда поедем? – с нетерпением воскликнул он.
– Когда замок будет отстроен и когда станет потеплее.
– Деревня пойдет ему на пользу, – одобрила кормилица. – Единственная зелень, которую ребенок видит, это кладбище Сен-Северен! Оттого он такой и бледненький.
Начались снегопады, и мир стал черно-белым. А затем появился Монкорбье.
Она спустилась, чтобы помочь Гийоме, который потерял голос на холоде, и вдруг увидела в окне лавки это веселое и хищное волчье лицо.
Взгляды их скрестились.
Как можно вот так напрочь разлюбить? – спросила она себя. И сама же себе ответила: любишь ведь не только самого мужчину, но и весь его мир. Опьяненная деревней, она еще острее почувствовала отвращение к миру обманчивых наслаждений, добытых мошенничеством, кинжалом, отмычкой или предательством. А Монкорбье вдобавок еще разыскивается за грабеж и убийство.
Все это пронеслось в ее мозгу за одно мгновение.
– Желаете пышку с яблоками или с сыром? – спросила она.
Гийоме, конечно, узнал посетителя, но словно потерял память.
– Любую, какую соблаговолите мне дать, – отозвался Монкорбье, не сводя глаз с Жанны.
Она положила пышку с сыром на поднос и протянула ему. Затем наполнила стакан вином.
– Тебе не следовало возвращаться в Париж, – сказала она. – Прево про тебя не забыл.
– Я был в Бур-ла-Рен и в Анжере. Приехал, чтобы повидаться с тобой.
– Со мной, и не только, – ответила она, раздраженная этими речами, которые считала пустыми. – Приютить тебя не могу. Этот дом будет первым, куда придут тебя искать.
Следующий вопрос она угадала прежде, чем он раскрыл рот, и ответила сразу:
– Экю. Не больше.
Словно озаренная свыше, она увидела, чем были деньги для него и чем для нее. Он свои воровал, а она зарабатывала и обращала в земли, в скот, благодаря им могли жить другие люди. Он стонал от любви – по крайней мере, на бумаге, – но из леса его выгонял голод.
– Ты же богата!
Ответ Жанны прозвучал как пощечина:
– Последний раз, когда я тебя видела, тебе нужны были деньги. Я отдала тебе все, что имела. Твою долю из пятисот экю Наваррского коллежа, Франсуа, я и за месяц не заработаю в моих трех лавках. И не истрачу за шесть.
У Монкорбье вытянулось лицо. Взгляд стал тревожным. Гийоме делал вид, что ничего не замечает. Но явно кое-что слышал.
– Откуда ты знаешь? – пробормотал он.
– Тебе что, назвать имена твоих сообщников? Колен Экайе, Малыш Жан, Ги Табари, дом Никола…
Она обрадовалась, что может осадить его благодаря рассказам Сибуле. Монкорбье побледнел еще больше. Она стояла перед ним, как статуя Правосудия. Он поставил стакан на стойку перед окном, запахнул плащ и ушел не сказав ни слова.
И даже экю не взял.
Что ж, экономия, подумала Жанна.
Но сердцу ее эта короткая встреча стоила дорого. Что такое любовь? – подумала она. И вспомнила первую – Исаака, на постоялом дворе в Аржантане. Матье. Филибера. Бартелеми. Любовь озаряла жизнь. Дарила веру и молодость душе и телу. В ней таились все очарование и вся красота мира.
В стихах Франсуа Монкорбье говорилось о том, чего сам он никогда не знал.
Эти размышления породили в ней жалость. Бедняга, вздохнула она.
В этом году декабрь превратил Париж в ледяной корабль. Сена замерзла. В лавках покупателей стало намного меньше.
– У меня вся душа вымерзла! – вскричал как-то утром Гийоме, который пришел совершенно окоченевший.
Он топал ногами под встревоженным взглядом Жанны, и она сама пошла за дровами, чтобы протопить лавку. Хорошо хоть, что он не простыл: весь Париж сотрясался от приступов жуткого кашля.
Очаги на всех этажах топились непрерывно. Однако на четвертом, под крышей, было невыносимо холодно. Опасаясь за здоровье Франсуа, Жанна отправилась к швее и заказала для него теплую куртку с меховой подкладкой. Спать он ложился в чулках и в рубашке из тонкой шерсти, и три раза в день ел горячий суп.
И вот в этом ледяном аду однажды утром возник посыльный с письмом от Жака де л'Эстуаля.
– Я четвертый в цепочке, мадам, – сказал посыльный, весь синий от холода [10].
Она впустила его в дом, подала ему горячего вина с двумя пирожками и вручила ливр за труды.
Моя нежная Жанна, я в Кобленце, во льдах герцогства Вестфальского. Миссия моя завершилась успешно. С помощью Всевышнего я вернусь в Париж в первых числах декабря. Только твой образ способен разогреть мне кровь.
Жак, 22 ноября 1457 года.
Послание это обласкало Жанну, словно мягкое и теплое ангельское крыло.
Но вскоре рядом с ней раскрылось другое крыло, холодное, жесткое и черное.
В тот же день одетая в черное девушка пришла на улицу Бюшри. Нет, то была не покупательница. Жанна поняла это сразу, едва взглянув ей в глаза. Черные и покрасневшие.
– Вы Жанна де Бовуа? – с трудом выговорила посетительница, стуча зубами.
– Входите быстрее, – сказала Жанна.
Девушка заколебалась. Жанна поняла.
– Входите же, вы простудитесь, – повторила она. – Вы родственница Исаака?
Она назвала его Исааком, уважая чувства гостьи. Девушка кивнула и переступила порог.
– Я его сестра. Абигейл.
– Идите за мной.
Она повела ее наверх, усадила в кресло, погрузила черпак в корытце, где с некоторых пор постоянно разогревалось вино с корицей, наполнила бокал и протянула его Абигейл. Та колебалась, не смея взять.
– Господь наш, единый для всех, повелел хранить свою жизнь, – сказала Жанна.
Девушка зарыдала. И Жанна поняла: Исидор Штерн умер.
– Где Исаак? – пробормотала Абигейл, отхлебнув вина.
– Он в отъезде вот уже несколько недель. Скоро должен вернуться. Когда умер ваш отец?
– Вчера утром.
– Я глубоко скорблю. Что я могу для вас сделать?
– Не знаю… Правда не знаю… Погребальная служба состоится завтра утром. Я хотела только оповестить Исаака.
Жанна положила руку на плечо Абигейл. Та снова зарыдала.
– Исаак… он глава… он был главой семьи после моего отца… Я не знаю, я просто не знаю, что с нами будет! Мой брат Йозеф слишком юн…
– Сколько ему лет?
– Шестнадцать.
– Абигейл, Исаак в любом случае остается вашим братом. Он позаботится о вас обоих. Я тоже рядом. Я с вами незнакома, но вы для меня как младшая сестра.
Абигейл долго смотрела на нее.
– Я понимаю… – сказала она.
– Что вы понимаете?
– Что Исаак…
– … обратился в христианство, – договорила за нее Жанна.
– Вы очень добры.
– Вам надо успокоиться. Как только ваш брат вернется, я скажу ему. Он навестит вас.
Абигейл встала. Жанна обняла ее и погладила по голове. Девушка прижалась к ней. Любовь к Исааку сплотила их.
– Теперь его зовут Жак, да?
– Да. Сколько вам лет? – спросила Жанна.
– Девятнадцать. Она вздохнула.
– Теперь все захотят взять меня в жены.
– А вы не любите никого из тех, кто претендует на вашу руку?
Она покачала головой:
– За меня должен был решить отец. Теперь решать будет Жак… Я не знаю…
– Возвращайтесь и успокойте брата.
Абигейл исчезла в снежном буране. Черная тень, которую хлестали белые демоны.
Это как будто символ, сказала себе Жанна.
– Хозяйка, в погребе замерзло вино!
В голосе Гийоме звучало отчаяние.
В прошлые годы Жанна слышала, будто в некоторых погребах действительно замерзало вино, однако сама этого никогда не видела. Впрочем, нынешняя зима оказалась самой лютой из всех, что ей довелось пережить: за несколько дней все нищие, пренебрегшие осторожностью ради выгоды и продолжавшие просить милостыню на улице, замерзли насмерть. Они продолжали сидеть и на повозках, куда сваливали трупы, потому что, когда их пытались выпрямить и положить, они просто разламывались на куски, как щепки. Благотворительное заведение для обогрева и прокорма бездомных бродяг, созданное Жанной при городском совете и принесшее ей большую славу, простаивало без дела. Морозы покончили и с обездоленными и с лодырями. Несколько сотен выживших спасались в церквах, но участь их тоже была незавидной: на последней воскресной мессе в Сен-Северен прихожане – все до единого тепло одетые – посинели от холода.
– Придется колоть его топором! – воскликнул Гийоме.
– Это означает, что мы расколем и бочки, – заметила Жанна. – А когда наступит оттепель, будем плавать в вине.
Она спустилась в погреб: стоило выдохнуть в этом ледяном воздухе, от которого трескались легкие, и тебя окутывало облаком пара. Она подумала, что вино оттает, если погреб чуть-чуть обогреть. Конечно, вкус будет уже не тот. Но лучше так, чем потерять три бочки.
– Гийоме, – сказала она, поднявшись наверх, – ступай к кузнецу на площадь Мобер. Узнай, есть ли у него жаровни, знаешь, такие железные ведерки с дырочками, в которых жгут уголь. Если их больше не осталось, закажи штуки три-четыре. И сразу заплати. Если хоть одну возьмешь, купи на обратном пути уголь. А лавкой займусь я.
Покупателей было так же мало, как и накануне.
Гийоме вернулся в четвертом часу пополудни. Он был весь красный с белыми пятнами. Одной рукой он держал две связанные вместе жаровни, в другой тащил мешок с углем. Жанна поспешила открыть ему дверь. Он рухнул на табурет.
– Поднимись наверх, отдохни часок-другой, – сказала ему Жанна.
На помощь она позвала кормилицу. Потом набросала щепок в одну из жаровен, запалила, открыла мешок с углем и заполнила им ведерко. Спустившись в погреб, поставила жаровню в самом центре, подальше от всего, что могло бы загореться. С удивлением обнаружила на полу два крохотных трупика: мыши. Тоже замерзли.
Когда она опять поднялась наверх, кормилица заметила:
– У вас руки черные. И нос тоже.
Жанна пошла к колодцу: вода замерзла. Она разбила на куски ту, что оставалась в ведре, и ссыпала в котел, который подвесила на крюк над очагом. Наконец-то ей удалось вымыть руки и сполоснуть лицо.
В сумерках, наступавших очень рано и почти таких же темных, как ночь, приехал мельник с суржей, которую ждали уже десять дней. Гийоме спустился и помог втащить мешки в дом.
– Баржа вмерзла в лед! – вскричал мельник. – Пришлось выгружать товар и везти по берегу. А в довершение всех наших бед у ворот Сен-Жак стражники ведут настоящую войну с волками! Похоже, у других ворот происходит то же самое! Монмартр! Сен-Дени! Сен-Мартен! Тампль! Так они нас всех сожрут, если раньше мы попросту не обратимся в ледышки!
Но и это было еще не все: у Нельской башни, в самом центре Парижа, два волка напали на мужчину. Еще одного серого хищника прикончили на Главном рынке. Действительно, в поисках пищи хищники пробирались в город по берегам Сены, надеясь поживиться если не человечиной или бараниной, то хоть крысами. Грызуны на морозе становились неповоротливы.
Когда суржу сгрузили, Жанна велела Гийоме отнести вторую жаровню Сидони, чтобы и та прогрела свой погреб. Она спросила, заказал ли он жаровню для лавки на Главном рынке.
– Она будет готова через два-три дня, – ответил Гийоме. – Все хотят греться. Все церкви. И все коллежи, потому что чернила замерзают. Школярам нечем писать!
Он расхохотался. Потом при помощи длинного багра с железным крюком расколол верхний слой льда в колодце и натаскал в дом воды.
– А Боженька как греется? – спросил Франсуа.
На следующее утро Жанну разбудили пронзительные вопли. Она выбежала на лестницу и крикнула:
– Гийоме! Что происходит?
– Хозяйка! Вино оттаяло!
Она не смогла удержаться от смеха.
Звон колоколов странным образом отдавался в ледяном воздухе. Бронза позвякивала, как хрусталь.
Когда пробило восемь, на улице поднялась суматоха. Жанна, сидевшая у окна, встревожилась и стала прислушиваться.
В замке повернулся ключ. Сердце ее подпрыгнуло. Она бросилась вниз по лестнице. Из распахнутой двери клубами шел ледяной воздух. Она перепугалась. Медведь! Но медведь был в сапогах. В шубе и шапке, каких она в жизни не видела, перед ней предстал Жак, который с помощью какого-то человека втаскивал в дом сундук.
Он повернулся к Жанне и улыбнулся. Она словно приросла к месту.
Перед входом стояла повозка. Жак расплатился с кучером и закрыл дверь. И тогда Жанна бросилась к нему. Он обхватил ладонями ее лицо и приник к губам долгим поцелуем.
– Сладкая моя, – прошептал он.
Она помогла ему поднять сундук на второй этаж.
– На четвертом жить нельзя, – сказала она. – Там геенна, только не огненная, а ледяная.
Он был усталый, замерзший и голодный. Она разогрела суп, нарезала ветчину и отнесла наверх вместе с куском масла и хлебом.
– Я раздобыл-таки триста тысяч ливров, – сказал он. – Но каких усилий мне это стоило! Все бумаги у меня.
Она уже знала, что существуют такие передаточные письма. Банкиры имели своих агентов во всех больших городах. Деньги окажутся в королевских сундуках, хотя ни одного экю Жак с собой не привез. Сколько же всего денег в сундуках Франции? – спросила она себя.
– Я привез тебе шубу, – сказал он, вытягивая ноги. – Из меха серебристой лисы, который добывают охотники в Польше. Она защищает от самого лютого холода.
Он скрестил руки на животе. Взгляд у него был сонный, вид почти благостный. Ей стало больно от мысли, что сейчас придется причинить боль ему.
– Жак… – сказала она.
Он повернул голову, и напряженное выражение на лице Жанны вывело его из дремоты. Он ждал продолжения; его не последовало. Жанна прикусила нижнюю губу: это его испугало.
– Дурная новость? – вскрикнул он, выпрямившись. Она склонила голову.
– Что-то с моими?
– Исидор.
Он вскочил и встал перед ней.
– Когда?
– Вчера похоронили.
Грудь Жака содрогнулась от рыдания. Он рыдал стоя. Плачущий мужчина всегда приводит в смятение тех, кто рядом, ведь мир отказывает ему в праве на слезы. Она обняла его.
– Я разбил ему сердце, – сказал Жак.
Он прижал Жанну к себе. Она боролась с чувством вины. Из-за нее он ушел из семьи. Но разве семья должна быть темницей? Теперь он тихо плакал. Она гладила его по голове.
– Как ты узнала? – спросил он, обнимая Жанну.
– Пришла Абигейл. Она чувствует себя потерянной без тебя. Я сказала, что извещу тебя, как только ты вернешься.
– Мне нужно пойти туда! – воскликнул он.
– Сейчас десять вечера, Жак. Конечно же, они оба спят, и она и Йозеф…
– Ты знаешь имя моего брата?
– Я сказала Абигейл, что считаю ее своей младшей сестрой. Ты сходишь туда завтра.
Он пошатнулся, словно оглушенный.
– Жанна…
– Иди спать.
Он рухнул на кровать без сил, держа Жанну за руку.
На рассвете он ушел и вернулся только вечером, совершенно измученный. Он повидался с сестрой и братом прежде, чем отнести кредитные документы Шевалье. Когда при виде его Франсуа запрыгал от радости, он залился слезами.
– Почему ты плачешь? – спросил Франсуа.
Вместо ответа он прижал мальчика к себе. Жанна и кормилица смотрели на них. Они думали об одном и том же. Оба – и Жак и Франсуа – были сиротами. А они были их матерями.
Когда кормилица увела Франсуа спать, Жак повернулся к Жанне:
– Ты не рассердишься, если я попрошу тебя…
Он не договорил.
– Ты хорошо знаешь, – сказала она, – что я буду рада им от всего сердца. Мне тоже нужна семья, Жак. У меня никогда не было сестры, и я в некотором смысле потеряла брата. И я люблю тебя.
– Без отца их дом стал каким-то зловещим, – объяснил Жак.
Улицы были почти пустынны, и никто не заметил двух молодых евреев в плащах с нашивкой.
Кроме кормилицы. Жанна отвела ее в сторонку, когда дрожащие молодые люди вошли в дом. Но не только Жанна умела обрывать на полуслове.
– Кормилица…
– Хозяйка, вы добрая христианка, вот и все, что мне нужно знать. Я говорю понятно?
Они обнялись.
Никогда еще на улице Бюшри не было столько народу за столом: шесть человек.
Жанна наблюдала за Йозефом: никогда она не видела такого серьезного юношу. И такого красивого. Он казался ей чуть ли не ангелом. Его тонкое бледное лицо выглядело бесплотным. Он бесконечно долго медлил с первой ложкой супа. Все поняли: пища была некошерной. Напряжение стало невыносимым. В конце концов Абигейл приказала ему есть. Он взглянул на Жанну. И быть может, прочел в ее глазах тревогу и нежную заботу. Жак держался крайне напряженно.
– Значит, я тоже? – спросил Йозеф.
За столом установилась необыкновенная тишина. Жанна, Жак, кормилица и Абигейл замерли, словно завороженные. Йозеф зачерпнул ложкой суп с салом и поднес ко рту. Потом обежал всех взглядом, который никто не смог бы описать: ирония смешивалась в нем со смирением и одновременно веселым вызовом.
Франсуа ничего не понимал.
Перед тем как попрощаться и подняться наверх вместе с сестрой, Йозеф подошел к Жанне и взял ее за руку.
– Отныне это ваш дом, Йозеф.
Вместо ответа он поцеловал ей руку. Потом повернулся к Жаку, обнял его и заплакал. Жанна оставила их одних.
7 Апрель в голубом наряде
«Мы, Карл Седьмой, король Франции…" Королевская печать на веленевой бумаге сверкала в пламени свечей.
Жак положил на стол документ, который делал его бароном де л'Эстуалем, обладателем земель в Эгюранде и Бузоне. Это была награда за деньги, взятые взаймы у иностранных банкиров.
Абигейл и Йозеф склонились над дарственной. Жак взял в ладони лицо Жанны и поцеловал ее в присутствии брата и сестры.
Потом пришлось обсудить ситуацию – она была сложной, это понимали все.
Исидор Штерн завещал своей дочери Абигейл и сыну Йозефу двести сорок пять тысяч ливров, а также все выплаты по долговым обязательствам с соответствующими процентами, что в целом составляло сто шестьдесят семь тысяч ливров, не считая трех принадлежавших ему домов на улице Фран-Буржуа. С учетом недвижимости наследство равнялось сумме в четыреста двенадцать тысяч триста пятьдесят ливров. Исидор Штерн был богатым человеком. Очень богатым.
В завещании не был упомянут старший сын Исаак: пустой гроб, выставленный в синагоге, служил доказательством его смерти. Согласно воле покойного, до вступления наследников в брак распоряжаться капиталом должен был его брат Илия – с целью пустить деньги в оборот.
Между тем Абигейл решительно отвергла обе партии, предложенные ей Илией, который тоже считал, что Исаак, старший сын Исидора, умер. Что до Йозефа, то он не желать жить у Илии: своими родичами он признавал только Жака и Абигейл.
Именно Абигейл первой начала распутывать узлы.
– Если я подчинюсь воле моего возлюбленного отца, мне придется принести себя в жертву. Я должна буду сочетаться браком с человеком, за которого выходить замуж не хочу. Я должна буду расстаться с моим любимым братом Исааком. Я уже вынесла ужасную церемонию погребального обряда над живым. Уже познала горе, оттого что никогда его больше не увижу. Теперь он снова со мной, и я не хочу его терять.
Значит, не я одна люблю его, подумала Жанна. Его сестра тоже не может без него жить. И ее любовь к Жаку вспыхнула с новой силой.
– Чему, кому и зачем должна я приносить себя в жертву? – яростно продолжала Абигейл. – Покойному отцу? Его родичам? Моему народу?
Сидевшие за столом на втором этаже, над лавкой, Жак, Жанна и Йозеф в молчании слушали эти мятежные речи.
– Я знаю, тут деньги, – сказала Абигейл. – Огромная сумма. Но какой бы ни была она огромной, это всего лишь деньги. И если я подчинюсь воле моего отца, это будет означать, что я не только лишусь навсегда возможности жить в любви, но и что я себя продаю.
Жак вскинул голову, удивленный силой и уверенностью, звучавшими в этих словах.
– Я не продаюсь, – сказала Абигейл, окинув слушателей решительным взглядом черных глаз.
Она протянула руку к стакану с вином.
– Я отказываюсь от своей части наследства в пользу Йозефа. Сегодня вечером я скажу об этом дяде. Я остаюсь с Исааком. Прощу прощения, с Жаком. Он достаточно богат, чтобы позаботиться обо мне. Я хочу стать христианкой. Это будет мой выкуп.
Наступившую тишину разорвал, другого слова не подберешь, Йозеф.
– Никто не спрашивал моего мнения, – сказал он. – Итак, я богат. Или, по крайней мере, буду богат через несколько лет. Только я один из троих. Это совершенно бессмысленно! – воскликнул он.
– Что ты хочешь делать? – спросил Жак.
– Я хочу остаться с тобой и Абигейл. И с Жанной. Не понимаю, почему Абигейл отказывается от своей части наследства. В любом случае я нахожу такой дележ несправедливым. Я вынужден был присутствовать на твоем погребении, Жак, хотя знал, что ты жив. Не могу передать тебе, что я чувствовал. Мне хотелось кричать!
И он действительно издал горестный крик.
– Наследство принадлежит нам всем, – произнес он, успокоившись.
– Есть завещание, – тихо и спокойно сказал Жак. – Его нельзя изменить. Нельзя, даже если бы ты тоже обратился в христианство. И вы оба просто все потеряете.
– Ну, – сказала Жанна, – в этом я не так уж уверена. Скажу больше, почти уверена в обратном.
Это были ее первые слова с начала разговора.
– Я член городского совета. Нам пришлось недавно решать сходную проблему. Завещание отца-еврея, который лишил наследства дочь за то, что она вышла замуж за торговца-христианина, было изменено.
Абигейл и Йозеф подняли голову.
– Изменить завещание отца… – прошептал Жак, потрясенный этим последним ударом, нанесенным покойнику.
– Жак, – сказала Абигейл, – мое решение принято.
Она впервые назвала брата этим именем.
– Всего десять лет назад никто бы не посмел… – начал он.
Мир, иными словами Париж, изменился, и Жанна действительно чувствовала это. Похоже, что после дела Пет-о-Диабль[11] люди осмелели.
– Ты не хочешь взять меня к себе? – спросила Абигейл. Он накрыл ладонью ее руку.
– Не говори таких вещей.
– Ты не хочешь взять Йозефа?
– Когда я уходил из дому, мне хотелось похитить вас обоих.
– Что ж, я перейду в христианство… – сказала она.
– И я тоже, – заявил Йозеф. Жак вскрикнул.
– Ты хочешь, чтобы наследство досталось дяде? – спросила Абигейл.
– Нет! Но такой процесс вызовет скандал! – воскликнул Жак. – Все узнают, что…
– Скандала не будет, – вмешалась Жанна. – Я сделаю так, чтобы никто ничего не узнал. И прошение будешь подавать не ты, а Абигейл.
Три головы повернулись к ней. И Жак вспомнил, что у нее имеются особые связи во дворце Турнель.
– Но чтобы процесс мог состояться, вам, Абигейл и Йозеф, необходимо креститься.
Она встала.
– Мертвецы не должны тащить за собой живых, – сказала она, прежде чем спуститься в лавку.
Через день после своего прихода в дом на улице Бюшри Абигейл и Йозеф были окрещены. За это время Жанна успела побывать у короля и добилась, чтобы новообращенные также носили фамилию де л'Эстуаль и чтобы суд рассмотрел их дело при закрытых дверях.
В церкви Сен-Северен отцу Мартино пришлось подогревать лед, чтобы получить воду для обряда.
– Дочь моя, – с улыбкой сказал он, – я вижу в этом символ: вы растапливаете лед сердец.
В тот же вечер, когда Франсуа ушел спать, Жанна подарила Абигейл и Йозефу меховые шубы и попросила принести плащи, в которых они пришли. Те с некоторым удивлением поднялись за ними. Когда брат с сестрой вернулись, Жанна энергично мешала поленья под задумчивым взором Жака. Она взяла у них плащи.
– Я сожгу эту одежду, – сказала она им. – На ней знаки рабства, в которое ввергли вас христиане. Мне оно так же ненавистно, как и вам. Все мы дети Господа. Как мне вы брат и сестра, потому что вы брат и сестра Жака, так и Господу вы дети, а Господь один.
Они выслушали ее в молчании. Она бросила в огонь плащи один за другим. Они смотрели, как горит их одежда, почти безучастно. Когда с этим было покончено, Жак налил всем вина.
– Теперь, – объявила в заключение Жанна, – вы можете везде ходить свободно.
Вскоре они нанесли визит адвокату, которого Жанна знала по своей работе в городском совете.
Судебное решение было вынесено за десять дней до Рождества.
Жанна только что отпраздновала свой двадцать второй день рождения.
Итак, Илию Штерна уведомляли, что по решению суда он должен передать своей племяннице Абигейл и своему племяннику Йозефу наличные, долговые обязательства и проценты, оговоренные в завещании его брата Исидора. Опекуном Йозефа будет барон Жак де л'Эстуаль, проживающий на улице Бюшри. Все трое отправились к дяде, чтобы забрать наследство. Это было мужественным поступком, поскольку Илия не скрывал своего осуждения и горечи, но также и данью уважения дяде, ибо бесчеловечно было бы поручить такое дело судебному исполнителю.
На улицу Бюшри они вернулись с грустными лицами; можно было подумать, что в сундуке, привезенном ими на тележке, были не деньги, а останки Исидора Штерна.
Они пересказали то, что произошло во время этой короткой встречи.
– Стало быть, род моего брата пресекся, – сказал Илия.
Он упрекнул их в слабости натуры, не устоявшей перед деньгами. Жак прервал его:
– Деньги тут ни при чем. Есть человеческие чувства.
– Что ж, печальны времена, когда чувства берут верх над честью и долгом.
– А Жак ответил ему, что честь без счастья не более чем рабство, – подхватил Йозеф.
– Мы подарили ему три дома, – сказал Жак.
Затем они приступили к разделу наследства.
– Я буду действовать по справедливости, а не по праву старшинства, – провозгласил Жак.
Это означало, что он отказывается от значительной части своей доли, ибо как старший сын имел право на половину имущества отца.
– Я не хочу никаких письменных соглашений между нами, Жак, – заявила Абигейл.
Она вопросительно взглянула на Йозефа. Тот склонил голову:
– Я тоже.
– Очень хорошо, – сказал Жак. – Итак, каждому из нас полагается по сто тридцать семь тысяч четыреста пятьдесят ливров. Я включил в свою долю долговые обязательства и проценты, поскольку они всегда ненадежны. По решению суда я являюсь опекуном Йозефа и управляющим его долей, которую пущу в оборот и передам ему, когда он достигнет восемнадцати лет. До тех пор буду обеспечивать его всем необходимым. Если вы не против, мы прямо сейчас разложим деньги на три кучки, чтобы каждая доля хранилась отдельно из соображений безопасности.
Он попросил у Жанны три куска полотна и разделил деньги. Потом, связав концы каждого из них, уложил деньги Абигейл и Йозефа в принесенный ими сундук, а свою долю – в собственный сундук.
После этого Жанна рассказала им о путешествии в Эгюранд и Бузон.
Никогда еще с таким нетерпением не ждали весны.
Прежде всего, именно весной Жак и Жанна собирались обвенчаться. Кроме того, рассказы Жанны о поездке в их владения привели всех в восторг и воспламенили воображение: Жак, Абигейл, Йозеф и, конечно, Франсуа жаждали увидеть свое царство.
По желанию будущих супругов свадьбу отпраздновали в узком кругу: кроме обитателей дома на улице Бюшри, приглашены были только Гийоме с невестой, его сестра Сидони с мужем, их мать-птичница, Жак Сибуле, управляющий лавки да Главном рынке, жена суконщика госпожа Контривель и швея. Единственными почетными гостями, не входившими в круг близких друзей, оказались отец Эстрад и отец Мартино.
Поведение Франсуа изумило всех: можно было подумать, что это он женится. Счастливый уже тем, что в доме теперь жили Абигейл и Йозеф, он сходил с ума от радости при мысли, что у него будет такой отец, как Жак, покоривший его своей добротой. Он и раньше считал Жака не отчимом, а отцом. О Бартелеми де Бовуа он не горевал, поскольку совсем его не помнил.
В день Входа Господня в Иерусалим будущие супруги на лошадях выехали шагом с улицы Бюшри. На свою вторую свадьбу Жанна надела длинное голубое платье с клинчатыми складками на груди и расшитую серебром вуаль того же цвета. Из-за холода она накинула подбитый мехом плащ. Ничто, даже кольцо, не напоминало ее предыдущий свадебный наряд. Жак был одет в короткий камзол, затянутый широким серебряным поясом с бирюзовой пряжкой, и в широкие штаны до колен. Весь его костюм тоже был голубого цвета. Лишь берет был красным, что создавало контраст с черными волосами. За женихом и невестой ехала на лошади Абигейл в своем первом ярком платье – зеленом, с кораллового цвета вышивками и серебряным пояском. За ней следовал на коне Йозеф, державший перед собой Франсуа. Все остальные шли пешком.
Войдя в церковь Сен-Северен баронессой де Бовуа, Жанна вышла оттуда баронессой де л'Эстуаль.
Собралась толпа зевак. Светлые волосы Жанны и смуглая бледность Жака создавали ослепительный контраст. Прошел короткий апрельский ливень со снегом, небо засияло голубизной. Богато одетый вестник ожидал выхода молодой четы. Он вручил Жанне кожаный футляр.
– От нашего государя, – сказал он, поклонившись.
Она развязала тесемки футляра: в него был вложен свернутый рулончик, в котором находилось кольцо с камнем. Камня такого она никогда не видела.
– Тапробанский[12] сапфир, – сказал Жак.
Жанна едва не вскрикнула: в нем сверкала звезда.
Жанна, мои пожелания счастья Вам и Вашему супругу сопровождают звезду, скрытую в голубом оке.
Карл.
– Но это же волшебный камень! – воскликнула Жанна.
– Истинное волшебство в твоих глазах, – сказал Жак, подсаживая ее на лошадь.
Свадебное пиршество устроили на постоялом дворе. Отец Эстрад произнес речь. Слегка захмелевшая Жанна не поняла ни слова. Как, впрочем, и речь отца Мартино. Госпожа Контривель сказала:
– Я счастлива, что дожила до этого дня. Гийоме расхрабрился:
– Хозяйка, мы словно все женимся сегодня!
Она протянула ему руки, он поднялся, и они со смехом расцеловались. На свое место он вернулся красный как рак.
Сидони подарила Жанне шерстяной плащ, расшитый васильками.
Гийоме – фарфоровую пышечку, вызвавшую общее восхищение.
Сибуле – серебряный подсвечник.
Госпожа Контривель, птичница и швея тоже преподнесли подарки. Птичница сказала:
– Жанна – фея, которую послал нам Господь!
Жанна вспомнила о своих родителях. Глаза ее наполнились слезами. Она повернула голову к Жаку:
– Ты помнишь зеркало…
Он поцеловал ей руку.
Йозеф и Франсуа танцевали джигу вокруг стола. Абигейл выглядела задумчивой.
– О чем вы думаете? – спросила Жанна.
– О цене, заплаченной за эти мгновения. Жак мне все рассказал. Он достоин вас.
Они протянули друг другу руки, и пальцы их сплелись.
Колокола отзвонили пять часов, и новобрачные решили вернуться домой. Отец Эстрад и отец Мартино простились с ними. Абигейл, Йозеф и Франсуа поднялись из-за стола.
Гийоме, Сидони, ее муж, птичница, швея и госпожа Контривель встали с песней. Голоса фальшивили, но исполнение было залихватским. Жанна, хохоча, разобрала только первый куплет:
Моя голубка, Пусти под юбку Резвого плутишку, Веселого мальчишку…Апрель наконец-то решил взяться за ум. Коль скоро люди оделись в голубое, он сделал то же самое.
8 Ласточки и вороны
Только на повозке, запряженной парой лошадей, можно было увезти столько народа: в путь отправились Жанна, Жак, Абигейл, Йозеф, Франсуа и кормилица. Много места занимали корзины с провизией: жареные цыплята, сыр, колбаса, хлеб, вино, да еще лоток с пирожками.
Франсуа, впервые покинувший парижский дом, пришел в такое возбуждение, что Жанна в конце концов встревожилась. Он хотел сидеть рядом с возчиком, приподнимал навес, чтобы посмотреть назад, постоянно сновал туда-сюда по тесному пространству повозки. Наконец Йозеф сжалился над ним и усадил мальчика рядом с собой.
Умудренная опытом, Жанна заказала в Париже две пики из кипариса с острыми наконечниками, прокаленными на огне, по длине они были равны копьям. В сущности, она тем самым нарушала закон, ибо подданным короля запрещалось вооружаться: во время дела Пет-о-Диабль стражники арестовали женщину за то, что она шинковала капусту большим ножом. Но лучше совершить беззаконие, чем погибнуть от волчьих клыков.
Дороги оказались ужасными: размытые оттепелью, с глубокими колеями. Повозка много раз грозила перевернуться, и испуганные пассажиры только успевали вскрикивать. Жанна даже не помышляла повторить путь, завершившийся схваткой в Гран-Бюссаре: она решила, что первую ночь они проведут в Орлеане, а вторую – в Шатору; утром следующего дня за час доберутся до Ла-Шатра, где можно будет нанять лошадей, чтобы ехать дальше.
Поскольку дорога пролегала через лес, Жанна не теряла бдительности и все время высматривала волков.
Они появились перед Этампом. Возчик закричал, лошади заржали и встали на дыбы, повозка со скрипом накренилась направо, затем налево. Дорогу преграждали семь или восемь хищников. Жанна схватила одну из пик, другую протянула Жаку. Затем вспрыгнула на место рядом с возчиком и оттуда, с отвагой истинного воина, стала колоть зверей, подбиравшихся к лошадям. Одного она пробила насквозь, второму, которого оглушил Жак, вонзила в горло наконечник пики. Воодушевившись ее примером, Жак проткнул третьего волка. Стая попятилась.
– Вперед! Гони! – крикнула Жанна возчику.
Тот хлестнул лошадей. Она на ходу ударила последнего волка и поволокла его за собой на пике, которую затем не без труда вырвала из тела воющего зверя. Волки вскоре оказались у них за спиной: они быстро отставали, поскольку лошади мчались галопом.
В повозке все сидели смертельно бледные.
– Хозяйка! Какой из вас вышел бы солдат! – хриплым голосом объявила кормилица.
Зато Жак не удивился: он уже видел Жанну в бою.
– Это не баронесса, – возгласил он, – это барон!
Все нервно рассмеялись. Однако, как только они выехали на открытое место, пришлось остановиться: от волнения и страха у всех прослабило кишечник. В Орлеане путники сошли с повозки озябшие, измученные, на подгибающихся ногах. На следующий день по дороге от Орлеана в Шатору они ждали появления волков и были почти разочарованы, что те так и не показались. Быть может, все втайне надеялись увидеть новые подвиги Жанны.
Наемные лошади быстро домчали их до Гран-Палю.
Увидев подъезжающую повозку, жена Журде побежала в поле за мужем.
После обычных приветствий – более церемонных, чем Жак ожидал от крестьян, – Журде сказал Жанне:
– Пойдемте, я хочу вам кое-что показать.
Он повел ее в поле и, склонившись над бороздой, ткнул пальцем в зеленые ростки.
– Наша первая пшеница.
Он выпрямился. Глаза его сверкали гордостью.
– Коровы отелились, свиньи забрюхатели и овцы тоже, – объявил он.
Они медленным шагом вернулись в дом. Журде предложил гостям вина.
Жак, Абигейл, Йозеф и Франсуа внимательно рассматривали большую комнату фермы, развешанные на стенах сковородки, свисавшие с балок связки лука и чеснока. Впервые в жизни они оказались в настоящем крестьянском доме. Франсуа безудержно смеялся: собаки, которых он гладил, на радостях сбили его с ног.
Жанна вытащила кошель, чтобы расплатиться с арендаторами.
– Если вы хотите завести виноградник, я мог бы это сделать, – сказал затем Журде. – Дайте мне только денег на закупку лозы и ремонт винного склада. И еще: участок придется огородить. Волки доставили нам зимой много хлопот.
Они произвели быстрый подсчет, и Жанна выложила требуемую сумму.
– Вы нашли еще людей? – спросила она.
– Значит, вы не виделись с Гонтаром?
– Пока нет.
– Народу набралось достаточно, чтобы восстановить все ваши фермы.
Она задумалась.
– Скоро я снова навещу вас, – сказала она.
Путники отправились перекусить в Ла-Шатр. Жак отвел Жанну в сторону.
– Это единственная ферма, которую ты вернула к жизни? – спросил он.
Она кивнула, и он продолжил:
– А остальные?
– Я начала кое-что делать в Ла-Шантре. Но рабочих рук не хватало…
– Я видел тебя на ферме, Жанна. Это твое царство. Эти земли твои. Если тебе нужны деньги, у нас их теперь предостаточно. У меня был собственный капитал и до того, как умер отец. А сейчас мы имеем больше двухсот пятидесяти тысяч ливров.
– Мы имеем?
Он улыбнулся:
– Жанна, я принадлежу тебе. Все, что у меня есть, принадлежит тебе. Даже мое имя, – иронически добавил он. – Ты приняла моих так, словно они твоя ближайшая родня. Разве ты не заметила, что они тебя любят не меньше, чем меня? Сколько стоит поднять ферму?
– На Гран-Палю я истратила около двух тысяч трехсот ливров.
– Жанна! Продолжай! Ни секунды не сомневайся, если тебе понадобятся еще деньги.
Она сжала его руку.
– Хорошо. Я боялась, что ты почувствуешь себя здесь чужаком… – сказала она.
– Чушь какая! Если ты решишь пустить в оборот и долю Йозефа, я доверю его деньги тебе.
– Посмотрим. Я только начала, Жак, и это я вложила деньги в две фермы, которые король подарил тебе. Ты доверяешь мне. Сердце мое радуется.
Он стиснул ее в объятиях. После смерти Бартелеми она никогда с такой силой не ощущала мужскую поддержку.
– Поедем сначала в Ла-Дульсад, а потом уже в Ла-Шантре, – сказала она. – Боюсь, как бы замок не произвел слишком сильное впечатление на Франсуа…
Но восторг, избытка которого она опасалась, испытали все.
Они ходили вокруг этого строения, довольно скромного и заброшенного, с таким видом, словно перед ними заколдованный замок из сказки. Небо подыгрывало, украсив окрестный пейзаж самыми прекрасными нарядами: верхушки холмов голубели, склоны зеленели, первые листочки сверкали серебром, миндальные деревья в цвету тихонько покачивались. Вдобавок небо выпустило ласточек и повелело дроздам петь.
– Жанна… – сказал Жак.
– Хозяйка… – сказала кормилица.
– Матушка… – сказал Франсуа.
И все хором: чего она ждет, почему не восстанавливает Ла-Дульсад?
– Я боялась, что никто не захочет сюда ехать, – призналась Жанна.
Три дня в Ла-Шатре обратились в целую неделю, полную напряженного труда.
Гонтар собрал тех, кто изъявил желание возрождать ферму Ла-Шантре, наполовину перестроенную нанятым Жанной плотником. Рабочих рук было столько, что хватило бы на два хозяйства. Опасаясь потерять или разочаровать людей, Жанна решила взять всех, хотя еще даже не осмотрела другие фермы. Видя, как занята Жанна, Жак решил сам найти еще одного плотника в Орлеане, поскольку мастер из Ла-Шатра в одиночку справиться со всей намеченной работой не мог. А ведь в Ла-Шантре надо было восстанавливать и мельницу.
Жанна вместе с Гонтаром осмотрела две фермы, которые еще не видела и где намеревалась использовать часть нанятых людей: Ле-Пальстель и Ла-Миранд. Оставалось осмотреть еще три, но и сам Господь сотворил мир не за один день.
Как и в прошлый раз, Гонтар взял для охраны двоих вооруженных пиками стражников. Бурная деятельность супругов де л'Эстуаль приводила его в полный восторг.
– Все только и говорят что о вас и о вашем муже! – воскликнул он на обратном пути. – Значит, вы решили оставить Париж?
– Нет, капитан, мы решили вдохнуть жизнь в эти владения.
– Ваш брат приезжал ко мне с расспросами в ваше отсутствие.
Она помрачнела. Воспоминание о Дени отравило радость от путешествия. Воронье карканье заглушает пение синиц.
– Что он хотел узнать?
– Источник вашего богатства, по его словам появившегося внезапно.
– И что вы ответили?
– Что объясняю его вашим замужеством. Я не сказал, что это подарок короля.
– Вы правильно поступили.
– Большой моей заслуги тут нет, мадам. Простите за откровенность, но в вашем брате я не обнаружил тех достоинств, которые внушили мне уважение к вам.
– Выскажитесь яснее, капитан.
– Я боюсь оскорбить вас.
– Только ложь может меня оскорбить.
– Вы с гордостью говорили Журде о своих крестьянских корнях. Вы стали баронессой благодаря замужеству. Но я не понимаю, каким образом ваш брат стал графом д'Аржанси.
Жанна не ответила. Если Гонтар знал, ответ не имел смысла. Если нет, не стоило затрагивать неприятную тему. Довольно и того, что ей еще придется рассказать об этом Жаку.
– Я считаю его дамским угодником. Не мне судить, но боюсь, он уже использует в своих целях ту любовь, которую вы завоевали в здешних местах.
– Что я могу поделать?
– Очевидно, ничего. Вы меня спросили, я ответил. Однако есть и еще кое-что.
– Я слушаю.
– Он и его гостеприимный хозяин Докье в сентябре с большой пышностью принимали Жоффруа де Лонгейля. Это брат кардинала Ришара Оливье де Лонгейля, который является одним из приспешников дофина. Боюсь, ваш брат в конце концов начнет злоумышлять не только против местных, но и против монарха.
– Вы известили короля?
– Это мой долг, мадам.
– И вновь скажу: вы правильно поступили, капитан.
– Погодите, – продолжал Гонтар, который выказывал явное доверие к ней, поскольку к ней благоволил король, – это еще не все. Жоффруа де Лонгейль приезжал просить денег для дофина Людовика.
Жанна на мгновение удивилась, каким образом Гонтар узнал все это, но потом догадалась, что слуг в замке, где гостил ее брат, наверняка подкупили, чтобы они шпионили в пользу Гонтара и короля.
– Докье, который связывает свое будущее с тем днем, когда дофин наследует отцу, естественно, раскошелился. Не знаю точно, какую сумму он дал, но не меньше двух тысяч экю. Между тем ваш брат, который, судя по всему, сам очень нуждается в деньгах, смог выложить лишь несколько лиардов. Нетрудно себе представить, как он жаждет отличиться в глазах дофина и как бесится из-за нехватки средств.
– Вы хотите сказать, что деньги, которые у него на глазах вкладываются в соседние фермы, могут разжечь его аппетит?
Отныне она чувствовала себя связанной с Гонтаром и радовалась этому: если Дени попытается вызвать ее на ссору, капитан окажет ей вооруженную поддержку.
– Я хочу сказать, мадам, что отделаться от него будет трудно. Этот человек предпринимает отчаянные усилия, чтобы добиться благосклонности дофина.
– Благодарю вас за предостережение, капитан.
Они подъехали к первой ферме, Ла-Миранд. Большая часть ее была в лучшем состоянии, чем предполагала Жанна, однако хлев и соседние постройки, назначение которых она не смогла определить, сгорели от удара молнии. Здесь нужны были не только плотники, но и каменщики, да еще десяток работников.
Ле-Пальстель же, напротив, большой работы не требовал: судя по внешнему виду, здесь можно было селиться чуть ли не сразу. Плотник мог бы укрепить крышу и двери в присутствии жильцов.
Жанна, Гонтар и оба стражника вернулись в Ла-Шатр. Жак уже приехал и познакомился с Гонтаром. Видимо, городской старшина и капитан лучников внушил ему уважение, поскольку он тут же пригласил его вместе поужинать.
– За столом познакомитесь со всей нашей семьей, – сказал ему Жак.
Он сообщил Жанне, что плотник из Орлеана приедет завтра и сразу примется за работу в Ла-Дульсаде. Похоже, Жаку больше всех не терпелось восстановить замок.
Следующий день был просто сумасшедший: нанимали людей, решали, как перестраивать каждую ферму.
Жанна жаждала обрести покой улицы Бюшри. Опьянев от свежего воздуха и новых впечатлений, Франсуа осмелел и громко требовал лошадь и собаку. Абигейл и Йозеф узнавали мир и пытались решить, какое место могут занять в нем, ибо, став христианами, получили право владеть землей. Они с восхищением срывали первые стебельки и блаженствовали в полях, словно в раю. И Жак, главное – Жак, который дышал только спертым воздухом меняльных контор и никогда не пачкал тонких рук землей, сразу же проникся любовью к новому владению. Жанна была поражена всем этим.
Она давно смирилась с презрением горожан к вилланам[13], грязнулям, земляным кротам, об этом вскользь упомянул даже король, рассуждая о необходимости вновь заселить деревню. Внезапно она обнаружила, что теперь, когда прежние сервы[14] исчезли, а сеньоры обеднели за годы войны, жители городов почувствовали свою зависимость от крестьян. Мука стала редкостью, говядина дорожала вдвое каждый год – вот все и изменилось: по сути, горожане стали сервами вилланов.
Жанна решила наконец рассказать Жаку о своем брате. Он выслушал ее с озабоченным видом.
– Этот человек тебе не брат. Во всяком случае, как я это понимаю. Его присутствие в здешних местах создает у меня ощущение, что мы возводим нашу хижину рядом с волчьим логовом, – сказал он.
За ужином Гонтар дал понять супругам де л'Эстуаль, что им будет трудно все время ездить из Парижа в Берри и, даже живи они здесь, регулярно наведываться на все фермы.
– Вам нужен управляющий, – сказал он.
– Вы знаете кого-нибудь? – спросил Жак.
– Ремесло это исчезает. Но среди моих людей немало таких, кто восхищается вашими славными начинаниями. К вашему следующему приезду я подберу для вас подходящего человека.
Под конец он сообщил им, что герцог Иоанн II Алансонский арестован и брошен в тюрьму за злокозненные интриги и сговор с англичанами.
Слава богу, королевские осведомители трудились неустанно. Однако Жак и Жанна все же испытали неприятное чувство. Хвалебные гимны не могли заглушить карканья воронов.
9 Двуликий мир
В повозке, увозившей их в Париж, они вели себя так, словно возвращались из дворца короля Артура в Камелоте. Одного взгляда на Франсуа было достаточно, чтобы увериться в благотворности свежего воздуха. Лицо у него округлилось, щеки покрыл румянец.
– Хозяйка, наш мальчуган преобразился! – восклицала кормилица.
Из этого следовало, что Франсуа должен как можно чаще бывать в Ла-Дульсаде. Однако всем вдруг стало ясно, что даже если замок будет отстроен в ближайшие недели, мальчик не сможет жить там постоянно. Ибо пришло время подумать о его образовании: ему необходимо поступить в коллеж, иными словами, в Ла-Дульсаде он будет проводить только каникулы. Самое разумное решение – записать его в коллеж в Орлеане, на полпути между Ла-Дульсадом и Парижем, главное же – подальше от буйных парижских школяров.
Жанна понимала неизбежность расставания, которое пыталась отсрочить, нанимая для сына домашних учителей. У нее сжималось сердце при мысли о разлуке с ним, но хитрить с собой дальше было нельзя.
Да и Йозефа нужно отдать в один из христианских коллежей: образование, которое он получил в йешиве, выбранной для него отцом, не могло подготовить его к жизни на равных в мире неверных. Жак решил, что его следует записать в один коллеж с Франсуа. Жанна согласилась:
– Тогда Йозеф хоть присмотрит за ним!
Впервые в жизни она так остро осознала, что все имеет свою оборотную сторону: появление в их жизни замка Ла-Дульсад, манившего их, словно земля обетованная, неожиданно обернулось пересмотром всего уклада их жизни и потребовало срочных и весьма нелегких решений. Размышлять обо всем этом они начали уже в повозке.
Что станется с Франсуа, когда он попадет в общество других мальчишек? Не будет ли страдать в коллеже от холода? Голодать? Сохранит ли открытый характер, столь радующий его близких?
И еще одна неприятность – отнюдь не самая маленькая – возникла на горизонте. Ее презренный брат оказался слишком близко от Ла-Дульсада. Она не сомневалась, что рано или поздно Дени явится и начнет терзать ее, пытаясь осуществить свои темные замыслы.
Другое следствие визита в Ла-Дульсад: из случайных разговоров с Жаком Абигейл с изумлением поняла, что, став христианкой, она получила право владеть землей и домами в любой провинции королевства, что евреям было запрещено.
– Нам пора перестать называть тебя Абигейл, – заметил Жак. – Это довольно странное для Франции имя, к тому же тебе уже дали другое.
Отец Мартино действительно окрестил ее Анжелой, но это имя вызывало у нее смех. Она не находила в себе ничего ангельского.
Зато Йозеф легко принял свое новое имя – Жозеф. Тем более что оно не сильно отличалось от прежнего.
Жак тоже задумался о своем будущем. Он не мог устоять перед очарованием замка, но даже если бы и попытался, ему пришлось бы смириться с очевидностью: он знал, что отныне Жанна будет проводить там большую часть года, а расставаться с нею надолго было выше его сил. При этом он не понимал, как можно совместить банковские дела, требующие разъездов, с долгим пребыванием в деревне.
Наконец, Жанна столкнулась с изменениями в глубинах собственного сознания, которые сбивали ее с толку. В течение нескольких месяцев она обдумывала, как пустить в оборот свой небольшой капитал. И вот, с одной стороны, она убедилась, что вкладывать деньги в фермы очень выгодно, хотя о предполагаемых доходах пока можно было только догадываться; с другой – она внезапно открыла, что все прежние ее сомнения и соображения утратили смысл. Жак заверил ее тоном, не допускающим возражений: его деньги принадлежат и ей тоже. Значит, они богаты. Вместе с отцовским наследством состояние Жака достигло суммы в двести пятьдесят тысяч ливров, а если к этому прибавить ее накопления, не считая даже дома на улице Бюшри, то в целом у них есть триста тысяч ливров. Разве ей нужно больше?
Главное же, впервые в жизни, которая казалась ей уже достаточно долгой, она не могла думать о себе в единственном числе. Начиная с первых пышек, проданных перед Корнуэльским коллежем, она всегда действовала на свой страх и риск. Но теперь их двое. Такого она не испытывала никогда, даже с любимым Бартелеми: Жак и она были отныне как бы один человек с двумя головами. Когда они осматривали замок, она сразу поняла, что им здесь жить как супружеской чете. В Париже Жак жил у нее, на улице Бюшри; но тут они поселятся вместе, в общем доме.
Эта мысль наполнила ее восхищением.
– Я хочу собаку! – сказал вдруг скучавший в повозке Франсуа. – Собаку и лошадь!
Это напомнило Жанне о Донки. Верный и ласковый ослик, по-прежнему служивший в Париже и таскавший мешки с суржей с улицы Бюшри в лавки на улице Монтань-Сент-Женевьев и на Главном рынке, был не вечен. В порыве благодарности за прошлое Жанна решила, что последнее свое пристанище он должен обрести в деревне.
Наконец они вернулись в Париж. Это произошло в канун Пасхи.
Гийоме встретил их радостно:
– Я скучал без вас, хозяйка!
Дом он протапливал сверху донизу, но жаровню в подвал больше не приносил, поскольку стало тепло. И он тоже восхитился переменой в облике Франсуа.
За ужином Жанна объявила, что семейству де л'Эстуаль хорошо бы в полном составе отправиться завтра в церковь на пасхальную службу.
Ее предложение встретили озадаченным молчанием. Есть столько христианских праздников, почему именно этот требует их непременного присутствия?
– Потому что, – объяснила она, – это главный праздник христиан: они торжественно отмечают воскресение Господа нашего Иисуса Христа. – На самом деле она повторяла слова отца Мартино.
Жозеф, похоже, хотел было протестовать, но сдержался в присутствии кормилицы и Франсуа. Жак, Анжела и он вслед за ними согласились уважить желание Жанны, ибо того требовали и правила приличия, обязательные для новоиспеченных католиков, вдобавок обласканных королевской милостью. Однако, когда кормилица и Франсуа поднялись в спальню, Жанна спросила у Жозефа, что он хотел сказать.
– Я прочел Евангелие. Если он воскрес из мертвых, почему не предстал перед гонителями своими, чтобы поразить их?
Жанна растерялась. Она никогда не открывала Евангелие, знала только короткие отрывки, которые отец Годфруа читал когда-то в церкви Ла-Кудре. Для нее Иисус был Сыном Божьим, которого Господь послал на землю, чтобы искупить грехи человечества. Его распяли, но он воскрес. Вот, собственно, и все. Кто не верит в это, попадает в ад.
– Что ты говоришь?
– То, что сказал.
Со времени поездки в деревню они перешли на "ты". Жанна по-прежнему не находила ответа, и это все больше нервировало ее. Жак сидел, не раскрывая рта.
– Жозеф, прошу тебя, не надо теологии, – вмешалась Анжела. – В религиозных книгах полно непонятных вещей, например, огненная колесница, которая вознесла пророка Илию на небо. Если бы в присутствии отца я посмела подвергнуть хоть одно слово сомнению, он бы выпорол меня до крови! К чему все это?
– Дети мои, – сказал Жак, – умоляю вас не высказывать вслух подобные мысли! Вы кончите жизнь на костре как еретики, и риск тем более велик, что вы новообращенные. Подумайте, какое зло вы можете причинить этим Жанне, ведь именно она добилась для вас королевской милости. Не говоря уж обо мне.
– Я буду молчать из любви к Жанне, – сказал Жозеф с лукавой улыбкой.
– Спасибо, – отозвалась Жанна. – Но мне все же хотелось бы узнать ответ на вопрос Жозефа.
– Не вздумай спрашивать об этом отца Мартино, – посоветовал муж. – Он заподозрит, что ты отравлена скверным духом иудеев, которых обратила в христианство.
Позднее, когда они с Жаком лежали в постели, она сказала:
– Мы ничего не знаем о религии… лишь то, во что нам приказывают верить. Есть ли в мире что-нибудь кроме любви?
– Конечно ничего, – прошептал он, обнимая ее.
– Есть только наши тела?
Он закрыл ей рот поцелуем.
А что, если Жак прав?
Ей грезилось, что она земля. А он – ангел росы. Вместе они составляли вселенную. Она захмелела от его слюны, его пота, его семени. Они поедали друг друга.
Она так и не поняла, почему наслаждения этой ночи привели ее в такое исступление.
– Ты не знаешь, как я тебя люблю, – сказала она. – Нет, ты не знаешь.
– Знаю, – ответил он. – Ты для меня – весь мир, со звездами и цветами.
Ей никак не удавалось заснуть.
– Откуда в тебе эта доброта? – спросила она.
– Я знаю слабости других.
В середине апреля гонец, посланный Гонтаром в Париж по другим делам, навестил супругов де л'Эстуаль и сообщил, что в замке Ла-Дульсад уже можно жить, хотя мелкие недоделки еще остались. К примеру, нужно вставить в окна настоящее стекло, а не промасленную бумагу.
Если бы обитателей дома на улице Бюшри известили о том, что открылись ворота рая, они не пришли бы в такой восторг.
Для Жанны новость совпала с весьма важным событием: она поняла, что беременна. Жаку она еще об этом не говорила, желая увериться окончательно.
Накануне к Жанне зашел стражник Итье, который сопровождал ее во время первой поездки в Берри. Сибуле сказал ему, что баронесса де л'Эстуаль ищет управляющего, и он пришел предложить на эту должность себя. Она представила его Жаку, которому рассказывала о мужестве и находчивости Итье во время ужасного нападения волков на Гран-Бюссар.
– Вы нам подходите, – просто сказал Жак, едва взглянув на стражника. – Освободитесь от службы. Мы подождем вас, и вы поедете вместе с нами. Надо оценить доход от зимнего сева.
Итье явился на следующий день с отпускным билетом. Жак вновь нанял повозку. Семейство погрузилось в нее с таким воодушевлением, словно собиралось в Святую землю.
– Надо будет вам как-нибудь и меня свозить туда, – воскликнул Гийоме.
– Обещаю! – заверил его Жак.
После остановки в Орлеане они направились прямиком в усадьбу. И выпрыгнули из повозки, словно черти из табакерки. Франсуа помчался впереди всех, первым ворвался на подъемный мост и, выскочив на площадку для будущего сада, в полном восторге раскинул руки.
Крышу починили. Из обеих труб вился дымок.
Полы на трех этажах были уложены заново, главная лестница восстановлена.
Глухой шум заполнял дом: это рабочие стругали полы. Повсюду витал запах древесины, камня и лака. Новая лестница, расширяющаяся книзу, была сделана в итальянском стаде, ибо плотник навидался разных красот и новшеств в Дижоне, столице герцогства Филиппа Доброго.
Столяры вставляли стекла в окна. Кормилица восхищалась тем, что через них все видно.
– Стекла! Во всех окнах!
С нижнего этажа доносились вопли Франсуа.
На заднем дворе уже построили домик для прислуги и конюшни, где можно было разместить шесть лошадей.
Плотник, мэтр Коше, вышел навстречу хозяевам, довольный своей работой и их восхищенным видом.
– Мы будем здесь ночевать? – спросил Франсуа.
– Ну нет, – ответила кормилица. – Вы что, собираетесь спать на досках?
Пришлось смириться с тем, что в Ла-Дульсаде пока еще остановиться нельзя. Нужны были по меньшей мере три кровати и сундуки, стол для большой комнаты, которой предстояло стать столовой, стулья, занавески и все необходимое для мытья.
В Париж не собирался возвращаться только один Итье. Жанна и Жак отвезли его в Ле-Пальстель, уже заселенный, но достаточно большой, чтобы он мог там разместиться. Они представили его фермерам из других владений в качестве управляющего и купили ему лошадь. Затем поручили нанять двух слуг для присмотра за Ла-Дульсадом в их отсутствие, рабочих для очистки рвов и укрепления маленького подъемного моста, который был изрядно расшатан.
Они задержались на два дня в Ла-Шатре, чтобы дождаться сведений об ожидаемом урожае. Итье немедленно приступил к делу.
Он вернулся с точным и детальным отчетом, полностью оправдав надежды своих новых хозяев. Поскольку земля долго стояла под паром, фермеры почти везде засеяли все, что можно, и лишь где-то – по привычке – только две трети. Урожай оказался необыкновенным: от двадцати двух до двадцати пяти буасо с арпана[15]. Итье объяснял это тем, что посев был густым, а земля получила удобрение, оттого что сожгли выкорчеванный кустарник. Но он предостерег Жанну и Жака: не следует ожидать, что следующие урожаи будут столь же обильными, ибо, с одной стороны, уменьшится посевная площадь, поскольку треть земель придется оставить под паром, а с другой – погода в Берри в этом году особо благоприятствовала крестьянам.
Итье показал Жанне листок, где были записаны ожидаемые сборы полбы, ржи, пшеницы и овса. Треть должна была отойти фермерам, и чуть больше трети следовало сохранить на семена. Впрочем, весенний сев решили провести лишь на части земель.
Оказалось, доля Жанны составляет чуть меньше трети урожая. Значит, она не только могла не тратиться на муку для своих лавок, но еще и продать излишек в Орлеане. Жак подсчитал доход от вложенных в землю денег – около тридцати процентов.
– А осенью посмотрим, что принесут виноградники, – с хитрой улыбкой сказал Итье.
Новые хозяева сделали еще одну остановку – в Орлеане, чтобы заказать для Ла-Дульсада мебель, кухонную утварь, ковры и занавеси.
И розовые кусты для сада.
И плодовые деревья.
В Париже Жанна объявила Жаку:
– В январе следующего года ты станешь отцом. А может быть, и раньше.
Спасаясь от июньской жары, они решили уехать в Ла-Дульсад хотя бы на несколько недель.
В услужении у них оказалась, заботами Итье, семейная пара, Батист и Мари. Для первого обеда в усадьбе Мари приготовила пулярок, фаршированных гречкой и сушеным виноградом, и салаты. Жанна испекла вишневый пирог.
– Надо будет заняться погребом, – сказал Жак.
Жанна обнаружила новых жильцов: пару собак и пару кошек. Этих животных завели не просто для развлечения: первые давали отпор лисам, ибо эти разбойники легко преодолевали подъемный мост, а вторые охотились на мышей.
Она обнаружила также рядом с домиком для прислуги клетку, которая привела ее в замешательство. Большую железную клетку, в которой возились на соломенной подстилке двое щенят. Только были это не щенята, а волчата.
Волчата! Она склонилась над клеткой: они затявкали. Ей захотелось взять их на руки. Но ведь они волчата! В ее душе боролись страх и умиление. Мимо проходил Батист, и она расспросила его.
– Мэтр Итье нашел их в лесу. Их мать убили. Он не смог их прикончить. И принес сюда. Сказал, что если давать им вареное мясо, они не будут опасны. Забудут вкус человечины.
Он открыл дверцу клетки и взял одного из волчат на руки. Тот свернулся клубочком, тявкнул от удовольствия. Батист сунул ему в пасть палец. Волчонок в восторге прикусил его. Подошедший к Жанне Жозеф с удивлением воззрился на эту странную сцену.
– А клетка? Где же вы ее раздобыли? – спросила Жанна.
– Она была здесь, в конюшне. Прежние господа тоже держали в замке волков. Пока в клетке сидят волки, сказал Итье, другие не нападают.
– Но ведь нельзя же держать их здесь вечно, – сказала Жанна, с ужасом подумав о том, что случилось бы, если бы они столкнулись в саду с Франсуа.
– Хозяйка, распоряжаетесь здесь вы, но они никогда не нападают на тех, кого обнюхали, когда были малышами. Возьмите-ка его на руки.
Он протянул ей волчонка, которого она опасливо приняла. Волчонок обнюхал ее. Его хищные глазки уставились на нее словно бы со страхом. Она погладила ему лоб. Он лизнул ее, заурчал от удовольствия. Она невольно рассмеялась. Волчонок закрыл глаза. Он явно собрался поспать на руках у Жанны.
– Теперь, хозяйка, он никогда на вас не нападет. Возьмите его и вы, – сказал Батист ошеломленному Жозефу.
Вскоре все семейство присоединилось к Жанне и Жозефу. Самым нетерпеливым оказался Франсуа. Взяв волчонка на руки, он стал гладить его. Волчонок облизал ему руки, потом лицо. Франсуа заливался смехом.
– Они как собаки, только дикие, – сказал Батист.
Он достал из клетки второго волчонка. Это была самка. Все подержали ее на руках. Даже кормилица.
– Теперь мы будем воспитывать волков! – с улыбкой воскликнула она.
Франсуа положил зверька в траву. Тот запрыгал. Жак тоже выпустил своего. Прибежали собаки. Они опрокинули волчат и стали играть с ними. Слышалось только тявканье и урчанье. Волчата бегали за собаками, собаки за волчатами, потом все катались по траве и слегка покусывали друг друга.
– Вот, – сказал Батист, – они никогда не нападут ни на кого из вас, даже когда вырастут. Они вообще нападают только от голода.
Жак задумчиво смотрел на волчат.
– Что ж, сторожевые волки, почему бы и нет?
Батист поймал волчат и водворил их в клетку.
Все отправились мыть руки уксусной водой с мылом. У этих зверят был сильный запах.
Жак вернулся в Париж, где у него были дела.
По просьбе Жанны Гонтар прислал своего конюшего, чтобы тот научил Жозефа и Франсуа ездить верхом. Она также наняла садовника в Ла-Шатре, чтобы тот разбил сад за розовыми кустами, высаженными перед входом.
Анжела помогала Жанне вести хозяйство, стирать белье, штопать одежду, убирать постели.
Однажды, когда они занимались починкой ковра, который хотели повесить на стену в одной из спальных комнат, Жанна спросила:
– Ты замуж не хочешь?
Анжела прервала работу, застыв с иглой в руке:
– Я сама думаю. Я знала только трех мужчин: моего отца, Жака и Жозефа. Отец был спокойным и властным, образцом справедливости. Жак и Жозеф были для меня образцами мужской красоты и достойного поведения. Жак воплощает для меня все добродетели. Он красив, образован, богат и владеет своими чувствами, сохраняя безупречную вежливость. Я никогда не слышала, чтобы он о ком-нибудь плохо отзывался. Если человек ему не нравится, он молчит, но все всё понимают. Жозеф другой: в нем живет бесенок. Он воспринимает все, что видит и слышит, как никому и в голову бы не пришло. Я не могу иметь мужа, который уступал бы им хоть в чем-нибудь.
– Одиночество тебя не тяготит? Быть может, мне стоит пригласить сюда людей, среди которых ты могла бы найти себе жениха?
– И что бы ты сделала? – с улыбкой возразила Анжела. – Стала бы задавать балы, чтобы привлечь молодых ухажеров? Думаешь, никто не догадался бы о твоих намерениях?
Она засмеялась.
Жанна внезапно представила себе, какую жизнь будут они обе вести, когда наступит осень и Франсуа с Жозефом отправятся в Орлеан в коллеж, а Жак в очередное путешествие: долгие вечера двух одиноких женщин, похожих на двух вдов, ибо у одной муж уехал, а вторая никогда такового не имела. Райский Ла-Дульсад внезапно обрел земные тона. Прелестное пустынное поместье. Она подумала о его названии: Doulce Sade – Сладкое Удовольствие. Многообещающее название, но сейчас она спрашивала себя, зачем так страстно желала восстановить этот замок.
Перед ней вновь предстал двуликий образ судьбы.
У них все-таки была необычная семья: пять человек – и всего одна семейная пара, тогда как в семьях, обитающих по соседству, женатых и замужних гораздо больше, она это знала. Возможно, если бы вокруг оказалось много народу, чувство одиночества не подкралось бы к ней столь коварно. И тут Анжела объявила, словно отвечая на вопрос, который Жанна не задала:
– Я не могу заставить себя полюбить.
И вновь взялась за иголку.
Жак вернулся в августе. Он записал Жозефа и Франсуа в коллеж францисканцев в Орлеане. Жанна, кормилица и Анжела поехали туда с обоими мальчиками, словно провожая их на войну. Жанна впервые ощутила, как бежит время. В двадцать два года она начинала третью жизнь. Она ясно увидела тот день, разумеется, еще очень далекий, когда Франсуа станет самостоятельным молодым человеком. Иными словами, чужаком.
Без Франсуа Ла-Дульсад казался по-настоящему пустынным. Темные долгие вечера с лаем собак и уханьем сов навевали тоску. Она решила вернуться в Париж и больше не подвергать себя тяготам путешествия. Ведь у нее начинался пятый месяц беременности, которую она считала самой драгоценной целью своей жизни: подарить ребенка себе и Жаку. Ведь она была уже не фермершей, а хозяйкой замка. Итак, она не увидит Ла-Дульсад, пока не разрешится от бремени.
В сентябре Жак отправился в Берри один, чтобы напомнить о своем существовании управляющему Итье и узнать результаты весеннего сева. Вернулся он через неделю и стал с улыбкой рассказывать.
– Волки чувствуют себя прекрасно, – сообщил он. – Они прибежали, едва увидев меня. Я думал, они хотят напасть, но они стали меня обнюхивать. Самец поднялся на задние лапы и положил передние мне на плечи, словно посвящая в волки! Они невероятно ласковые. У меня было такое чувство, будто я завел себе друзей из преисподней!
Он смеялся и покачивал головой, размышляя об этом.
Во время родовых схваток Жанна находила в себе силы улыбаться, когда боль немного отпускала.
Двадцать четвертое декабря, подумать только! Жак и Анжела были изумлены. Вернувшиеся на каникулы Жозеф и Франсуа прервали партию в шахматы.
– Господи, это невозможно! – вскричала повитуха, которую оторвали от праздничного ужина.
Тем не менее Жанна родила в десятом часу в рождественскую ночь.
– И к тому же мальчик! – объявила повитуха.
Измученная Жанна уснула, невзирая на крики ребенка, как только завершились все необходимые процедуры. Последним, что она увидела, погружаясь в сон, было лицо Жака, стоявшего у изножья кровати. Такого выражения она не видела у него никогда.
То же лицо она вновь увидела на следующий день, когда проснулась. При этом рука Жака лежала на ее щеке. Он ничего не говорил: у него не было слов. По крайней мере, таких, которыми был полон его взгляд. Он вытащил из кармана кольцо с алмазом и протянул ей.
– Какой громадный! – воскликнула она.
– Самый красивый из всех, что мог предложить Бларю.
Бларю, золотых дел мастер с моста Менял. Ювелир королевского двора. Жак надел ей кольцо на безымянный палец правой руки, что создавало симметрию с обручальным. Вошла кормилица, держа на руках младенца, которого вымыли и запеленали. Она протянула сына Жаку, а тот нежно вложил его в руки Жанны.
Она посмотрела на него и улыбнулась. Франсуа в свою очередь неуверенным шагом вошел в комнату.
– Мама…
Она подозвала его, свободной рукой притянула к себе и поцеловала.
– Мама, я так рад…
Он посмотрел на Жака. Они обнялись. Жанна в очередной раз поразилась, насколько они любят друг друга: один видел в другом плоть любимой женщины, второй – отца, которого никогда не имел.
Пришли Жозеф и Анжела, робкие и улыбающиеся. Потом сияющий Гийоме. Сидони, птичница, госпожа Контривель, Сибуле. Все явились с подарками.
– Настоящее Рождество, – сказал Жозеф.
Жанна уловила насмешку, а Сибуле фыркнул.
Пришел и отец Мартино.
– Надо будет окрестить малыша, – сказал он, когда кормилица поднесла ему новорожденного. – Вы уже подумали об имени?
– Деодат, – сказал Жак.
Отец Мартино улыбнулся.
– Дар Божий, – сказал он. – Прекрасное имя для младенца, родившегося в ночь Иисуса.
Он окрестил ребенка неделю спустя. Но, поскольку стоял лютый мороз, Жанна настояла, чтобы обряд совершился дома.
В январе госпожа Контривель потеряла мужа. Жанна, едва оправившись после родов, нашла в себе силы навестить ее.
– Милая моя, – сказала ей госпожа Контривель, – с вами я притворяться не стану. Я рада: смерть принесет ему покой после всего, что он вынес в последние годы. Это покой и для меня. Я превратилась в служанку. В конце концов я пришла к выводу, что умереть молодым – это милость Господня. Ты сорвал все цветы жизни и уходишь, пока они не потускнели, тебе еще некого оплакивать и не приходится ни за кем ухаживать.
Жанна была потрясена откровенностью вдовы. Она никогда не задумывалась о старости. Гнала от себя эти мысли. И все же однажды Жак станет похож на своего отца Исидора. А она превратится в старуху.
– Отец Мартино уверяет, что долгая жизнь – милость Господня. А я думаю, что Господь – старый человек, который ищет себе компанию.
Жанна невольно рассмеялась.
– Смейтесь, смейтесь, – сказала госпожа Контривель. – Смех – единственное настоящее вино.
Тут она вспомнила о правилах гостеприимства и протянула Жанне стакан ипокраса[16].
– Я часто спрашиваю себя, может, мне было бы сейчас не так тоскливо, если бы я в юности не избегала галантных похождений. Я получила бы удовольствие и сохранила бы приятные воспоминания. Я богата, но вспомнить могу только бесконечные обязанности, которые исполняла скрепя сердце. А деньги… Как вы думаете, что мне с ними делать, в моем-то возрасте?
Жанна обуяло веселье. Совсем не так представляла она себе визит с выражениями соболезнования.
– Я отдала сыну его долю наследства, чтобы мне не казалось, будто он с женой и детьми приходит ко мне, только желая посмотреть, когда же я отправлюсь на кладбище.
Жанна слушала с изумлением.
– Когда сажаешь капусту, – продолжала госпожа Контривель, – получаешь кочаны, похожие один на другой и все съедобные. Но когда рожаешь детей, никогда не знаешь, что из них выйдет. Если они выживают после крупа и всех лихорадок, от третичной до не знаю какой, ты спрашиваешь себя, не станет ли девочка блудницей, а мальчик – грабителем. А в один прекрасный день ловишь на себе косой взгляд и понимаешь, что они тебе совершенно чужие люди.
Жанна подумала о Дени. Черт возьми, это действительно так, разве могла она догадаться, что он станет мерзавцем!
– Я наблюдю за вами с тех пор, как вы появились в этом доме, – продолжала госпожа Контривель. – В нашем квартале вашу историю знают. Ну, знают то, что можно знать. Я хотела бы иметь такую дочь, как вы. Любая другая на вашем месте кончила бы в нищете. Или умерла. Но нет, вы упорно трудились, и теперь у вас твердое положение. Вы проявили мужество. Наверняка таким же мужеством обладала другая Жанна, которая встряхнула нашего короля и убедила его, что он не жалкая пища для собак, как пыталась внушить ему блудница мать. В нашем квартале все еще рассказывают, как вы отделали тех троих головорезов год назад.
Ее было не остановить. Похоже, она наливалась вином с самого утра.
– Вы привлекли внимание фаворитки короля, Агнессы Сорель, затем самого короля, потом и других влиятельных людей, потому что в сердце вашем горит огонь, а подобные вещи всегда чувствуются, доченька. Карл совсем не глуп. У него нюх старой крысы. Он подарил вам дом на улице Бюшри. Наверное, он еще кое-что вам дал, но этого я не знаю и не мое это дело. Вы заседаете в городском совете. Это не пустяк, малышка. Я никогда не была советницей, а ведь я женщина не бедная.
Итак, о ней известно все. Это не стало для Жанны открытием, она знала об этом от Сибуле, но все-таки каждый раз удивлялась.
Она уже спрашивала себя, куда клонит госпожа Контривель, если, конечно, та вообще куда бы то ни было клонила.
. – Ладно, – сказала вдова суконщика, – я сделаю вам подарок. Предлагаю купить суконную мануфактуру в Лионе. Это моя часть наследства. Вы хотели вложить капитал в выгодное дело. Вот и вложите в сукно. Мой бедный Эдуар говорил вам: на пирожках вы состояние не сколотите, здесь нужен товар долгосрочный. Вам придется ездить по ярмаркам. Но сукно там будет стоить вдвое дороже, чем на самой мануфактуре, потому что можно отказаться от обеда и обойтись куском черствого хлеба, но голым ходить не будет никто. А уж богачи точно больше тратятся на сукно, чем на хлеб, потому что им нужно хорошо выглядеть.
– Но разве это не должны унаследовать ваши дети?
– У них есть другие мануфактуры, с них хватит. Жанна посмотрела на нее вопросительно. Госпожа Контривель улыбнулась и вновь наполнила стаканы.
– Если бы они не приходили ко мне только с разговорами о деньгах, как бы что выторговать для себя, я бы решила иначе. А вы приглашали меня на ужин, ничего взамен не ожидая, просто так, ради удовольствия. Так вот, я предлагаю вам суконную мануфактуру в Лионе за полцены, за тридцать тысяч ливров. Вы, по крайней мере, будете вспоминать обо мне, когда меня не станет. И придете на мою могилу, я уверена.
Жанну потрясло звучавшее в этих словах одиночество.
– Потому что вы не забываете об умерших, я знаю. Вас часто видят у могилы вашего первого мужа.
– Вы меня опечалили, – сказала Жанна, помолчав. – Я не знала, что вам так тяжело… Я приглашала вас по дружбе, потому что вы были внимательны ко мне… С того дня, как вы дали мне этот отвар, когда у меня были приступы дурноты…
Госпожа Контривель наклонилась и похлопала гостью по коленке:
– Знаете, Жанна, большей частью все важное совершается в молчании. Вот, я все сказала. Посоветуйтесь с мужем и дайте мне знать о вашем решении.
Вот она опять, двойственная природа вещей: женщина, от которой Жанна никогда не ждала ничего, вдруг одарила ее по-царски только за то, что к ней отнеслись по-дружески.
10 Голос крови
Жак поехал в Лион, чтобы оценить суконную мануфактуру. Вернулся ошеломленный. – Эта женщина делает нам поистине королевский подарок. Мануфактура по-настоящему стоит шестьдесят тысяч ливров!
Он поспешил нанести визит госпоже Контривель. Та встретила его прищурившись.
– Вы выглядите прямо как волхв, – сказала она.
– А вы сами разве не царица Савская? – парировал он. После полудня они пошли к нотариусу.
Так госпожа Контривель вошла в их семью.
Почти каждый вечер она ужинала на улице Бюшри, и в доме ей отвели комнату. Она давала Жаку множество советов относительно тонкостей ремесла, включая сведения о рынках, где совершались самые выгодные сделки: ярмарки в Лионе, в Шалон-сюр-Сон и в Дижоне.
Франсуа и Жозеф вернулись из Орлеана.
Жанна вопросительно посмотрела на сына.
Чему он научился? Переводить с греческого и латинского сообщил он. Он учился фехтовать, петь и играть на виоле. Наставники были добры, пища скудна. Завел ли он друзей? Да, во время стрельбы из лука. Он оказался лучшим в классе, хотя был самым младшим.
Она осведомилась об однокашниках: дети аристократов и богатых горожан.
А Жозеф на расспросы Жака и Анжелы отвечал шутливо:
– Чему я научился? По правде говоря, ничему, если не считать греческого и латыни. Христианские школы ничуть не лучше еврейских. Везде толкут воду в ступе. По философии вдалбливают какие-то постулаты, нарочно забывая сказать, что все они созданы человеческим разумом. Уверяют, будто само понятие Бога является доказательством его существования: Si Deus est Deus, Deus est[17]. Но, допустим, я измыслю женское божество – как с этим быть? Si Dea est Dea, Dea est[18]. Ax нет, я кончу на костре!
Анжела корчилась от смеха, а Жанна с тревогой слушала этого юношу, которого находила опасно одаренным.
– Надеюсь, ты держишь язык за зубами, – заметил Жак.
– Ах нет, дорогой брат, держу я разум и приучаю язык точно повторять все глупости, какие слышу. Ты послал меня маскироваться в коллеж францисканцев, чтобы я чувствовал себя уверенно в христианском мире. Как младший брат, признательный и послушный, я подчинился твоему желанию cum propria ratione creata[19]. В доме отца я был лицемером смиренным, здесь я лицемер честолюбивый.
– Куда тебя это заведет? – спросил восхищенный Жак.
– На престол святого Петра или в ад. Ты даешь мне инструменты власти, следовательно, когда-нибудь я должен буду пустить их в ход.
В июле жара стала удушающей.
Зной взывал к грозам, как больной в горячке жаждет пропотеть. Но стоило грозе прогреметь, как парижане вновь начинали хватать ртом воздух. Гийоме придумал охлаждать несколько фляг с вином в колодце – покупатели повалили валом.
Жозеф с Франсуа уходили купаться на озеро недалеко от Парижа.
Окна держали открытыми в ожидании ветерка. Но в комнаты врывались лишь миазмы уличных сточных канав.
– Жара вредна для младенца, – сказала однажды утром кормилица. – Поверьте, в деревне ему будет лучше, да и нам тоже.
Жанна обсудила это с мужем. Решили ехать.
На сей раз понадобилась не одна, а две повозки. В путь с ними отправились и госпожа Контривель, и Гийоме, которому Жанна разрешила на неделю закрыть лавку и взять с собой невесту. В Ла-Дульсаде было десять спален со всей необходимой обстановкой.
Госпожа Контривель едва не умерла от страха при виде волков, которые выбежали встречать их вместе с собаками. Волчата действительно очень выросли. И она с большой неохотой позволила Батисту положить ее руку им на загривок.
– У них такая жесткая шкура! – отбивалась она.
Им дали обнюхать и Деодата. Никто не понял, почему они заскулили и завиляли хвостом.
Донельзя испуганные Гийоме и его нареченная также подверглись протокольной процедуре. Анжела с изумлением смотрела, как хищники с бурной радостью приветствуют Жака и, завывая, прыгают вокруг него.
Жанна попросила Батиста днем все-таки посадить волков на цепь, поскольку они, при всей привязанности к людям, могут своими ласками сбить с ног кормилицу или госпожу Контривель.
На следующий день все нашли себе приятное занятие. Жозеф и Франсуа пошли купаться на реку Крёз. Жак поехал в Ле-Пальстель, чтобы обсудить с Итье обустройство двух оставшихся ферм. Анжела и госпожа Контривель отправились в Ла-Шатр за покупками. Жанна осталась одна с кормилицей и маленьким Деодатом.
Около полудня она смотрела в окно, радуясь, что через него все видно и можно любоваться природой, не открывая его. Тут она заметила всадника, проезжавшего через подъемный мост.
Она узнала его издалека. В сущности, она его ждала.
Подъехав к крыльцу, он спешился и, медленно поднявшись по ступенькам, позвонил у двери в колокольчик.
Через несколько секунд Батист поднялся к Жанне с известием, что ее желает видеть брат. Она велела отвести его в нижнюю залу, служившую местом сбора для всего семейства. Батист предупредил, что уйдет за покупками на ферму Гран-Палю, а Мари будет прибирать подвал. Она кивнула.
– Здравствуй, сестренка, – бросил Дени, слегка покачиваясь на каблуках и помахивая хлыстиком, – я счастлив наконец-то повидаться с тобой в твоем замке. Но ты, кажется, не слишком обрадована моим визитом. Ты меня не обнимешь?
Жанна посмотрела на него угрюмо.
– Я не жду ничего хорошего от твоих визитов, Дени, – спокойно ответила она. – Что тебе нужно?
– Приехал полюбоваться твоим богатством, – сказал он с деланной непринужденностью. – Ты теперь владелица бывших королевских доменов, местные люди рассказывают, что они процветают благодаря твоим вложениям. Тысяча пятьсот арпанов, так мне сказали. Черт возьми, твой король Карл сделал тебе роскошный подарок! Сильно же он тебя любит!
– Земли подарены моему супругу, Жаку де л'Эстуалю, а вовсе не мне, – возразила Жанна. – И все это не объясняет Причины твоего появления.
– Ну, подарок вполне прозрачен. Мужа осыпают дарами, чтобы помалкивал. И земли поднимаешь ты, все здешнее простонародье только о тебе и говорит.
Он сел, не дожидаясь ее приглашения. Она осталась стоять.
– Итак, ты богата, Жанна. Очень богата. Для маленькой крестьяночки ты славно потрудилась. Я оцениваю твое состояние в пятьсот тысяч ливров. По меньшей мере.
– Если ты пришел просить денег, я тебе их не дам. У меня нет таких сумм, о которых ты говоришь. Эти земли едва начали приносить доход, стоят они недорого. И в любом случае я не обязана перед тобой отчитываться.
– Напротив, Жанна, напротив! Я спас тебе жизнь, не забывай.
Он осмотрелся.
– А замок-то! Стеклянные окна, подумать только! Поистине королевское жилище! Карл собирается навестить тебя?
Он мерзко ухмыльнулся.
– Я приехал просить денег не для себя, – продолжал он. – Этой просьбой я даже некоторым образом оказываю тебе услугу, ибо очень скоро у Франции будет новый король, наш возлюбленный дофин. Тебе лучше быть в милости у него, когда он взойдет на трон. Добиться этого нелегко, согласен, ведь он возненавидит тебя как бывшую фаворитку своего отца!
Она сумела сохранить хладнокровие:
– Я не фаворитка короля! Запрещаю тебе так говорить!
– Ты ничего не можешь мне запретить. Я знаю о тебе многое. Меня хорошо принимают при дворе дофина. Кажется, муж твой – банкир. Значит, ты должна тоже стать банкиршей и одолжить дофину сто тысяч ливров. Таким образом ты заранее сотрешь дурное впечатление, которое у него о тебе сложится. В ее душе презрение боролось с гневом.
– Я не вмешиваюсь в дела престолонаследия. И у меня нет ста тысяч ливров, которые я могла бы дать взаймы, – ответила она.
Она пожалела, что король пощадил этого опасного интригана из-за хорошего отношения к ней, как сам сказал ей во время их последней встречи.
– Жанна, сегодня или завтра король может умереть. Мне достаточно будет сказать, что твой сын Франсуа – бастард бастарда, и с тобой будет покончено, как и с ним. Ничего не останется от твоих земель, от этой усадьбы, в которую ты вложила столько денег и трудов. И все из-за твоей скупости, из-за отказа поделиться частью своих богатств с дофином, которого несправедливо преследует отец! Знаешь, Жанна, это очень неразумно!
И тон и содержание этой тирады были невыносимы. Жанна обхватила руками спинку кресла, перед которым стояла. Пальцы ее сжимали дерево.
– Дени, каждый раз, видя тебя, я убеждаюсь, что ты все глубже увязаешь в мерзости. Немедленно оставь этот дом и никогда больше здесь не показывайся!
Он встал.
– Я вернусь, Жанна, я вернусь, но уже как владелец, дорогая сестренка.
Он наклонился к ней.
– Как владелец! – злобно повторил он. – Ибо бывшую хозяйку замка выкинут на улицу, а ее драгоценного сынка швырнут собакам!
Она указала пальцем на дверь:
– Вон!
Дени направился к выходу, небрежно помахивая хлыстиком. Внезапно он повернулся, и Жанна угадала его намерение: он решил отстегать ее. Она выхватила уже занесенный хлыст и ударила его по лицу.
Он поднес руку к щеке, на которой осталась багровая полоса.
– Ты мне заплатишь за это, Жанна, – прорычал он. – Клянусь, ты мне за это заплатишь.
Он вышел.
Жанна бросилась на конюшню, в тот отсек, где были привязаны волки. И отвязала веревки от кольца в стене. Они радостно запрыгали. Жанна вновь вернулась в залу и посмотрела в окно.
Волки учуяли всадника, который стоял возле крыльца, потирая щеку, перед тем как вскочить в седло. Принюхиваясь, они подступали к нему все ближе. Дени испугался и сделал попытку их отогнать. Один укусил его. Он закричал. И тут волки на него набросились. Дени упал. Они стали рвать его зубами. Он отбивался. Один из волков впился ему в горло. Из сонной артерии брызнула кровь.
Жанна молча наблюдала.
Это был ее брат. Брат, которого она любила, о котором бесконечно тревожилась и горевала, когда он исчез после гибели родителей.
И вот она убила его. Если он забыл голос крови и посмел угрожать смертью Франсуа, она тоже забудет.
Ее била дрожь.
Тело Дени Пэрриша, самозваного графа д'Аржанси, содрогнулось в последней конвульсии. Он плавал в собственной крови. Жанна вышла с хлыстом в руке и схватила хищников за веревки. Они упирались.
В этот момент Мари поднялась из погреба и замерла от ужаса, увидев эту сцену. Батист возвращался с покупками. Он взглянул на тело и на Жанну, которая тянула волков за веревки.
– Господи, хозяйка! Что случилось?
– Они сорвались с привязи и убили человека! Я немедля отправляюсь в Ла-Шатр известить капитана Гонтара.
Она оттащила волков назад в конюшню и привязала. Потом вскочила в седло и пустила лошадь галопом.
Гонтар выслушал ее задумчиво. Затем позвал двух стражников и вместе с ними поехал вслед за Жанной в Ла-Дульсад.
Он осмотрел труп.
– Он весь искромсан. Эти волки раньше на кого-нибудь нападали?
– Нет. Ни на кого из тех, кого знали или уже хоть раз обнюхали.
Гонтран пошел взглянуть на волков и покачал головой.
– Теперь, когда они попробовали человечьей крови, их придется убить.
По правде говоря, она никогда не чувствовала себя спокойно с этими хищниками в усадьбе.
Он повернулся к ней и сказал, посверкивая глазами:
– Глубоко вам сочувствую. Ужасное несчастье! Ведь вы потеряли любимого брата! Не сомневаюсь, что для вас это большое горе.
Она смотрела на него с немым вопросом. Не смеется ли он над ней?
– С вашего позволения, я заберу тело, его похоронят на кладбище в Ла-Шатре. Я извещу вас о времени погребальной службы, чтобы вы могли на ней присутствовать. Примите мои соболезнования.
Поскольку было очевидно, что Дени д'Аржанси погиб от волчьих зубов, капитан Гонтар принял решение считать это несчастным случаем. Свидетелей не имелось. Он даже не пытался скрывать свое отвращение к погибшему, который был не только презренным мошенником, но и врагом короля.
Жак появился в тот момент, когда стражники по приказу Гонтара укладывали тело на одну из лошадей. Он тут же спешился и устремился к Жанне. Она была мертвенно бледна.
Мари смывала кровь, выплескивая из ведер воду и вороша землю граблями.
– Что случилось?
Она повлекла его в спальню на втором этаже и бросилась на постель.
– Это был мой брат, – сказала она хриплым голосом. – Он угрожал убить Франсуа, если я не дам ему сто тысяч ливров. Я спустила на него волков, и они загрызли его.
Он ее обнял.
– Почему, почему, Господи, – вскричала она, – я всегда должна проливать кровь, чтобы защитить тех, кого люблю?
Дабы соблюсти приличия, она присутствовала на отпевании в Ла-Шатре.
С соседней скамьи на нее злобно смотрел торговец Докье.
11 Конец эпохи
В Ла-Дульсаде никогда больше не будет ручных волков. Жанна с громадным трудом подавила желание вернуться в Париж. Она знала, что если уедет из усадьбы сейчас, то больше не вернется. Это стало бы посмертной победой Дени. Она не позволит ему торжествовать даже на том свете. Она будет защищать Ла-Дульсад как львица. И все остальное тоже.
За ужином она держалась прямо и твердо, с подобающим случаю выражением лица. Заставила себя есть и пить.
Ее засыпали вопросами, и она представила вполне убедительную картину случившегося. Брат приехал повидаться с ней, в момент его отъезда волки сорвались с привязи и напали на него. Она подоспела слишком поздно.
Лишь один человек сумел разгадать тайну, которую Жанна скрывала с таким искусством: госпожа Контривель.
Жозеф и Франсуа играли в шахматы перед камином в гостиной.
Жак изучал счета, полученные от Итье.
Анжела задумчиво смотрела на огонь.
Гийоме и его нареченная, держась за руки, сидели рядом с ней.
Батист и Мари разбирали закупленное в Гран-Палю и готовили муку для завтрашнего хлеба. Жанна отмывала большой котел в кухне и не сразу заметила, что вдова суконщика стоит рядом.
– Это гораздо лучше чистится песком и уксусной водой, – сказала она. – Дайте-ка мне.
Жанна внимательно посмотрела на нее.
– Я вас считала за дочь, – сказала госпожа Контривель. – И от своего не отступлюсь: я вами восхищаюсь. Вам следовало быть советницей при дворе. Вы лжете бесподобно.
Она повернулась к ошеломленной Жанне.
– Он был мерзавцем, верно?
Впервые после случившейся драмы Жанна едва не рассмеялась.
– Вы спустили с привязи волков. Значит, он гнусно повел себя? Помните, я говорила вам о различии между капустой и детьми? Я вас знаю, вы не убили бы его, если бы он не был подонком. Ничего не отвечайте, мною движет не любопытство.
Тщательно отдраив котел, она протянула его Жанне:
– Вот, поставьте сушиться, я не знаю, где его место.
– Он угрожал убить моего сына.
– Значит, он пытался шантажировать вас.
– Как вы догадались?
– Я знаю таких зубастых юнцов. Племянник моего мужа явился к нему однажды с угрозами разоблачить будто бы совершенное им мошенничество. Муж нанял адвоката и добился, чтобы того осудили за злокозненные махинации. Этот ваш братец… я удивляюсь, каким образом он стал графом д'Аржанси.
Она пришла к тем же выводам, что Гонтар. В сущности, мир был более прозрачен, чем казалось.
– Вы ведь не были графиней д'Аржанси при рождении. Стало быть, его имя и титул фальшивые. Он хотел денег, да? Много денег. Не отвечайте, это очевидно. Жанна…
Жанна ждала вопроса.
– Жанна, вы оставили в усадьбе волков потому, что ожидали его визита?
Она онемела от изумления. Неужели она действительно, не отдавая себе отчета, думала именно об этом? Ведь она панически боялась волков с той ночи в Гран-Бюссаре.
– Вот что, налейте мне винца с пряностями. А потом идите спать. Вы чертовски хорошая женщина, Жанна.
Они прожили в Ла-Дульсаде до сентября.
Единственно по желанию Жанны.
Она была их Полярной звездой. Они ловили ее взгляд утром, встав с постели, и вечером, после ужина. Существовал ли еще мир вокруг них? Они проверяли его наличие по тембру ее голоса, улыбке, цвету глаз.
Все попробовали первое вино с виноградников, которые Журде завел на холмах Гран-Палю.
– Незрелое еще, – сказала Жанна. – Кислятина. Уток в нем будем тушить.
Все засмеялись.
Жозеф и Франсуа вернулись во францисканский коллеж, остальные – в Париж.
Жак приступил к продаже сукна на ярмарках.
– Хотите, я поеду с вами? – предложила госпожа Контривель. – Начнем с Шалон-сюр-Сон.
Жанна обрадовалась, что вдова суконщика решила передать свой опыт Жаку. Анжела тоже выразила желание сопровождать их. Итак, Жанна осталась в Париже одна, с кормилицей и Деодатом, а также с Гийоме – в дневные часы. Большой дом на улице Бюшри казался непривычно пустым. Но госпожа Контривель вскоре вернулась, и пока на четвертом этаже никто не жил, она предпочитала ночевать там, борясь с холодом, лишь бы не возвращаться к себе на улицу Монтань-Сент-Женевьев. Темнело уже в пять часов. Конечно, улицы стали безопаснее вследствие прошлогодних лютых морозов и рвения стражников, почти покончивших с бродягами и ворами. Но вдова суконщика боялась не столько их, сколько одиночества.
– Когда я прихожу к себе, мне кажется, будто я спускаюсь в могилу, маленькая моя Жанна, – объяснила она.
Жанна пылко сжала ей руку.
– Ваше присутствие согревает нас, – ответила она.
Госпожа Контривель и в самом деле заменила ей мать. Она стирала пеленки Деодата и все время пропадала на кухне. Она знала множество кулинарных секретов и превращала обычные блюда в праздничные: скромный пастернак, нарезанный ломтиками и обжаренный в гусином жиру с чесноком, становился изысканным блюдом; безвкусная дичь, часто отдававшая к тому же тиной, могла бы украсить королевский стол – следовало только нафаршировать ее полбой с луком и потушить в вине с перцем и гвоздикой.
Недели бежали, складываясь в месяцы.
Жанну посетил нотариус из Рамбуйе и сладким голосом сообщил, что после смерти брата она унаследовала имение в окрестностях этого города, ферму и двести арпанов земли. И титул графа д'Аржанси, который, впрочем, никому не могла передать.
Она подписала бумаги и заплатила нотариусу положенное по обычаю. И подумала об иронии судьбы. Дени хотел завладеть Ла-Дульсадом, а в результате его наследницей стала она, Жанна!
В промежутке между двумя торговыми путешествиями Жак посетил имение в Рамбуйе.
– Вполне сносное место, но там живут двое молодых людей, которые показались мне странными. Они со мной кокетничали, – сказал он, смеясь. – Потом спросили, можно ли им и дальше там жить. Решать тебе.
Она пожала плечами. Все, что касалось Дени, вызывало у нее глухую тоску. Она тоже съездит посмотреть имение, когда появится время и желание.
Жак торговал сукном в Туре, в Бурже, в Труа и, главным образом, в Лионе. Но из каждой поездки возвращался все более и более задумчивым.
– О чем таком ты думаешь, когда возвращаешься после поездок? – спросила Жанна.
– О нашем будущем, – ответил он.
Ответ был загадочным. Он продолжал:
– Когда ты одновременно и сукнодел и торговец, это дает громадное преимущество. У торговцев головокружительные льготы, а с иностранцев не требуют даже пошлины. Каждый делает то, что считает нужным. В банковском деле куда больше риска. Один крупный должник не заплатит – и банкир может потерять годовую прибыль. А торговец ничем таким не рискует.
– Так что же тебя тревожит?
– Меня пугает иностранная конкуренция. Через несколько лет мне, как и другим французам, будут угрожать генуэзцы, флорентийцы, миланцы и даже голландцы. Я думаю, как это предотвратить. Возможно, мне следует вступить в союз с ними.
– А как Анжела?
Она всегда сопровождала брата в этих непрерывных поездках. Жак слегка улыбнулся.
– Она наблюдает. Ее взгляд становится глубже.
– Значит, никто ее сердце не пленил?
– Самым дерзновенным ее поступком была просьба пригласить на ужин одного флорентийского торговца. – Жак на мгновение сотрясся от беззвучного смеха. – Очень был красивый молодой человек. Глаз не сводил с Анжелы. Потом на его шелковый жилет попала капелька соуса, и он устроил из этого целое представление, требуя на затирку белого вина, потом хлебного мякиша, потом что-то еще. Анжела сочла его пустым существом. Она сказала: "Я не пава, чтобы выходить замуж за павлина".
– Ей уже двадцать лет, – заметила Жанна. – Было бы безумием, если бы она, такая красивая и богатая, кончила свои дни старой девой.
– Иногда деньги становятся панцирем против мира, – сказал Жак тем тихим голосом, который всегда появлялся у него, когда он делился самым сокровенным.
А деньги продолжали прибывать. У Деодата прорезались зубки. Зима была зябкой. Гийоме придумал продавать горячее вино с пряностями. Это приносило больше прибыли, чем пирожки. Сидони, а потом и Сибуле последовали его примеру. Наступил Рождественский пост. Жанне исполнилось двадцать три года.
Перед Рождеством скончался отец Мартино. Внезапно – как все, кого любит Господь. Он унес в могилу много постыдных тайн, ибо в жизни каждого человека есть то, о чем можно рассказать только священнику. Преемником его стал молодой человек, более склонный к битвам, чем к созерцанию и терпимости. С длинным, как шпага, носом, лающим голосом и воинственным духом, отец Карлезак яростно атаковал дьявола, маловерных, равнодушных, скупых, праздных, похотливых, пытливых и унылых. Громил с кафедры восторжествовавшее в Париже безбожие. Скамьи наполовину опустели.
Прихожан становилось все меньше. Доходы церкви Сен-Северен стремительно таяли.
Словно пристав с жезлом, пришедший реквизировать имущество, он нанес визит Жанне, одной из самых богатых женщин среди своей паствы, надеясь склонить ее к дополнительным пожертвованиям.
– Отец мой, я свой взнос сделала, – спокойно ответила Жанна, – и, как мне кажется, сообразно моему состоянию. Кроме того, хочу напомнить вам, что мух уксусом не приманивают.
– Христиане не мухи!
Весной братья нашли ему замену в лице не столь сварливого отца Фабра. Оказалось, что этот славный человек всюду таскает с собой расторопную "прислугу за все", – пошли толки, что она делает для него действительно все. Отца Фабра тихо убрали, и на его месте появился более скромный настоятель, отец Лебретон.
Нужно сказать, что в этом милостью Божией 1460 году Париж был занят пересудами об Иоанне V, графе Арманьяке, которого парламент[20] только что осудил за прегрешения нравственные и политические, причем первые послужили скорее предлогом для осуждения вторых.
Эти Арманьяки были мятежным родом. Кроме того, подобно многим другим феодалам, они редко покидали свои владения, где были королями. А тут они вознамерились взять власть над миром.
Уже отец, Иоанн IV, доставил много хлопот короне, отказавшись признать себя вассалом и вознамерившись захватить Комменж. Карл тогда еще не разорвал отношения с сыром Людовиком и послал его устанавливать порядок. Что и было сделано. Но Иоанн V, не слыша хода великих часов Истории, подхватил знамя своего покойного отца: забыв, что само их графство уцелело только благодаря французскому королю Карлу V, Арманьяки объявили, что не станут подчиняться никому. И не остановятся перед тем, чтобы призвать на помощь англичан, для которых этот мятеж был просто подарком, или же Филиппа Доброго, герцога Бургундского – "Великого герцога Запада", – считавшего Дижон центром Франции.
Вновь возникла угроза бунта, подобного Прагерии[21] 1440 года. Действительно, еще несколько сеньоров бросили вызов гегемонии короны. Но Карл мешкать не стал. Парламент возбудил дело и постановил, что Иоанн V Арманьяк являет собой дурной пример для народа: он сделал троих детей собственной сестре. Добро бы одного, это еще куда ни шло, но троих! Его приговорили к отсечению головы за безнравственность и измену; он бежал, спасаясь от плахи, но имущество его было конфисковано.
Ногаро, главный город графства Арманьяк, был далеко, но восшествие на престол дофина Людовика, союзника Иоанна V, близко. Ибо король, хоть и сохранял твердость руки, здоровьем похвастаться не мог. Он страдал от болей в изъязвленных ногах. На людях его не видели уже давно. Все гадали, будет или не будет сводить счеты Людовик, когда сменит на троне отца, и Сибуле зашел предупредить Жанну, чтобы та держала язык за зубами в нынешние тяжелые времена:
– Париж всегда кишел шпионами, хозяйка, но сейчас они стали двойными агентами.
Она поехала вместе с Жаком и Анжелой на одну из лионских ярмарок, чего прежде сделать не могла из-за материнских забот. Для нее это была первая ярмарка после Аржантана, но теперь взгляд у нее был наметанный.
Повсюду были одни только менялы да банкиры – два ремесла, которые часто соединялись в одно. Жанна была потрясена количеством денег, переходивших из рук в руки на площадке чуть больше двух арпанов. Правда, капиталы эти были представлены не в виде монет, а в виде кредитных бумаг. Улавливая обрывки разговоров, она слышала баснословные цифры: тридцать пять тысяч ливров, десять тысяч, пятьдесят тысяч…
– Великий Боже, Жак! – воскликнула она за ужином. – Здесь больше денег, чем нужно королевству на целый год! Ничего не изменилось со времен Жака Кёра! Но тогда у нас было три банкира, а сейчас я насчитала десятка два!
– Ну да, деньги порождают деньги, – согласился Жак.
– Почему это тебя тревожит? – спросила Анжела.
– Потому что деньги порождают только деньги, а страна нуждается в самом необходимом, наши деревни ужасающе обезлюдели. Прекрасное занятие – торговать сукном, но его покупают только богачи, а что делать с деньгами и сукном, если пропадет хлеб? Раньше или позже все это пробудит алчность короля.
Жак задумчиво кивал головой.
– Понимаешь, – заметил он, – в Лионе невероятные налоговые льготы, чем он и отличается от других ярмарок. Кроме того, именно король Карл освободил от пошлины иностранных банкиров и торговцев. Да и сами деньги – такая крепость, которую короли остерегаются разрушать, если только она им не угрожает, подобно богатству Жака Кёра. Но ты права, эта прорва денег в конечном счете пробудит алчность короля.
Спустя неделю, когда Жак, Жанна и Анжела готовились к трехдневному пути домой в Париж, всю ярмарку облетела печальная весть:
– Король умер!
Это было двадцать пятого июля. На самом деле монарх скончался три дня назад, в Меэн-сюр-Йевр.
– Бедный! – прошептала Жанна.
Пятьдесят восемь лет его жизни были долгой цепью унижений, горестей, измен и запоздалых реваншей, слишком запоздалых, чтобы доставить радость.
Она вспомнила его усталое разочарованное лицо, скупые улыбки, когда он обращался к ней. Вспомнила о его милостях. Подумала о светловолосой Агнессе Сорель, которая определила судьбу маленькой нормандской крестьянки, торговавшей пирожками.
Она вновь увидела словно наяву, как Матье сколачивает их первую кровать в сарае у Корнуэльского коллежа.
Агнесса умерла. Матье тоже. Монкорбье исчез. Умер Дени. Затем отец Мартино. И наконец, король. Эпоха завершилась.
У нее остался только первый возлюбленный, ставший ее мужем.
12 Комета
Они торопились, думая, что успеют на похороны. И на коронацию наследника. Их ожидало разочарование: ни того, ни другого увидеть им было не суждено. Жанна отправилась во дворец Турнель. Он был почти пуст. Несколько гвардейцев у входа, несколько угрюмых приказчиков, выносивших все, что можно. Каждый чувствовал, что колесо фортуны повернулось и вчерашних фаворитов ждет неизбежная опала.
Она вошла без всяких препон. И случайно столкнулась на одном из поворотов коридора с отцом Эстрадом. Они переглянулись, соединенные общей скорбью.
– Вы проявили мужество, придя сюда, – сказал он. – Никто не хочет, чтобы его здесь видели.
Она задала положенный в таких случаях вопрос, сама понимая всю его суетность:
– Отчего он умер?
– Отчего вообще умирают, дочь моя, как не от смерти? Он страдал от ужасной язвы на ноге. Потом у него появилась флегмона в горле. Он решил, что это сын отравил его. Но ногу он подволакивал уже много месяцев. Что до флегмоны, то несколько дней назад его, вспотевшего от жары, продуло на сквозняке. Это часто приводит к флегмонам. Короче, он отказался от пищи. Ему вливали бульон в рот. Он сильно ослаб. Простуда унесла его, как былинку.
– Когда похороны?
– Хм! Вы слишком здравомыслящий человек для этого города, Жанна. Разумеется, будет заупокойная служба, и не одна. Что же до похорон…
Она смотрела на него с изумлением. Неужели короля Франции не собираются хоронить?
– Да нет же, собираются. Через две или три недели. Сегодня утром его отпевали в Сен-Дени. Я как раз оттуда. Жанна, уходите из этого дворца и не возвращайтесь. Говорю ради вашего же блага. Ступайте с миром. Я не сомневаюсь в искренности ваших чувств. Но не стоит подвергать себя опасности.
Ушла она в смятении.
Итак, Париж остался без короля, мертвого или живого.
Но почему дофин не спешит завладеть троном, к которому так страстно стремился?
Людовик пребывал в Женапе, в Эно.
И началась комедия, над которой долго потешались парижане.
Приближенные покойного короля ринулись к наследнику, чтобы доказать ему свою преданность. Много смеху наделало тщеславие, одна из разновидностей глупости. Так, глава Палаты счетов Симон Шарль велел нести себя в Женап на носилках. Военачальники также отправились туда в пышных экипажах. Людовик поставил их на место, даже не соизволив принять. Он не станет ничего решать, пока не будет коронован и не вступит в Париж.
Они вернулись раздосадованные и встревоженные. Это стало известно от слуг, конюших, пажей, конфидентов и бывших двойных агентов, у которых не осталось второго хозяина, так что и бояться надо было вдвое меньше. У них как бы отсекли вторую половину, что не мешало им чесать языком.
Черт возьми, где же тогда тело? И где этот дофин?
Самые дерзкие начали зубоскалить:
Видно, трон дыряв слегка, Он как кресло для горшка: Чтоб не провалиться, Никто и не садится. Трон такого сорта, Сядешь – сам не рад, Все страшатся черта - Вдруг откусит зад.Прорицатели же вели себя более осторожно, толкуя появление кометы, которая озарила небо на следующий день после смерти короля. Комета, как всем было известно, предвещает великие события, и только глупцы могли насмехаться над этим.
Наконец пятого августа погребальный кортеж двинулся через ворота Сен-Жак по улице Анфер. Ошарашенные горожане вглядывались в лица тех, кто нес гроб, надеясь увидеть знатных сеньоров. Но это были слуги королевского дома. Они доставили останки Карла VII в часовню Нотр-Дам-де-Шан. Там гроб поместили в романской крипте. Король скончался две недели назад: в такую жару лучше было держать тело в прохладном месте.
На следующий день останки вынесли и, накрыв гроб великолепным покрывалом из золотистой ткани, положили на него восковое изображение покойного – со скипетром, в белой бархатной мантии, расшитой золотыми лилиями и подбитой горностаем. Именно изготовление этой фигуры и стадо причиной задержки.
Фигуру провезли через весь город до собора Парижской Богоматери. Собравшаяся на пути кортежа толпа восхищалась тем, что покойник выглядит таким свежим. Затем все хлынули в собор. Не каждый год случаются похороны короля. Отпевать его должен был епископ Парижский. Увы, он помчался к дофину, чтобы засвидетельствовать свою преданность. Вместо него заупокойную мессу отслужил срочно призванный в Париж архиепископ Нарбонский Луи д'Аркур. Он носил также титул архиепископа Иерусалимского, хотя христианская империя на востоке перестала существовать восемь лет тому назад, после падения Константинополя.
Жанна тоже была в толпе; по совету Жака, который сопровождал ее, она не стала пробиваться поближе к собору, где толпилось простонародье. Любое резкое движение этой людской массы привело бы к давке. Итак, они встали в отдалении. Жанна держала за руку Франсуа, ошалевшего от изумления. Сибуле замыкал семейное шествие вместе с Анжелой и возбужденным Гийоме. Госпожа Контривель предпочла остаться дома в обществе кормилицы, за крепко-накрепко закрытой дверью. Все эти сборища, мудро заметила она, дают ворам прекрасную возможность грабить опустевшие жилища.
Все искали взглядом дофина. Неужели его нет на похоронах отца? Именно так. И нет никого, кто бы представлял его? Никого. А что же Мария Анжуйская? Ведь она же супруга покойного короля и мать нового? Никакой Марии Анжуйской. Королева Франции отсутствовала на похоронах короля Франции. Это уже смахивало на ярмарочный фарс.
Жанна подумала, что ангелы милосердия на небе наверняка стыдятся такого поношения. Стало быть, люди утратили уважение к смерти? Но, по правде говоря, этот спектакль имел отношение не столько к смерти, сколько к власти.
Похоронный перезвон завершил службу. Гроб и изображение короля были доставлены в Сен-Дени. Во главе кортежа шел поэт, заклятый враг покойного, герцог Карл Орлеанский. Нежный Карл Орлеанский, ныне убеленный сединами, чьи стихи она некогда с умилением читала. За ним следовали брат Карла граф Иоанн Ангулемский, их сводный брат Жан де Дюнуа, хранитель печати Гийом Жювеналь дез Юрсен и великое множество старцев, у которых не осталось ни страхов, ни надежд. Их карьера была завершена. Единственной причиной их появления в кортеже стала верность. В сущности, они провожали в последний путь самих себя: их славные деяния уходили в тень вместе с умирающей лилией, которую затмила новая, рождающаяся.
Измученная Жанна решила вернуться домой.
Если бы она дошла до Сен-Дени, то оказалась бы свидетельницей нешуточной ссоры. Рассказал ей об этом Сибуле, который сопровождал кортеж до базилики: королевские конюшие и священнослужители аббатства не поделили золотистое сукно, которым был накрыт гроб. Они стали тянуть его в разные стороны и едва не разорвали. В конце концов Жювеналь дез Юрсен и Жан де Дюнуа решили, что оно достанется аббатству. Верх бесстыдства: настоятель Сен-Дени Филипп де Гаммаш оставил свой пост, чтобы также засвидетельствовать уважение дофину. На замену вызвали аббата из Сен-Жермен-де-Пре. Сибуле сообщил, что проповедь произнес – о ужас! – Тома де Курсель, один из тех судей, что приняли решение подвергнуть пытке Орлеанскую девственницу во время процесса над нею. Сибуле искренне негодовал.
Жанна добралась до улицы Бюшри на пределе моральных и физических сил.
– Это не похороны, а пир шакалов, – сказала она.
Госпожа Контривель и кормилица никак не могли успокоиться: увидев сверху злоумышленника, который пытался взломать входную дверь, они опрокинули ему на голову лохань с кипящей водой.
– Надо было слышать, как он вопил! – воскликнула госпожа Контривель.
Погребение Карла VII ее совершенно не волновало. Она уже видела похороны Карла VI.
Тело несчастного Карла VII Валуа обрело покой в земле только 7 августа, через семнадцать дней после того, как его покинула душа.
Все ждали Людовика. Новый монарх не торопился.
Восьмого августа, спустя восемнадцать дней после смерти отца, он все еще был в Женапе. Через три дня он все-таки стронулся с места. В Авене, в графстве Артуа, отслужили заупокойную мессу. Он соблаговолил присутствовать на ней – в траурном облачении. Но едва были произнесены слова "Ite, missa est"[22], сменил его на красно-белый наряд и отправился на охоту. Подданным показалось, что это хороший повод отличиться: они нарядились в черное и ринулись к новому королю с соболезнованиями – тот их не принял. Урок был усвоен: Людовик не желал, чтобы его отца оплакивали.
Между тем трон оставался пустым. В течение нескольких дней Париж будоражил слух, что коронован будет не Людовик, а его младший брат Карл, герцог Беррийский, герцог Нормандский, герцог Гиеньский. Так якобы было сказано в завещании Карла. И тут же нашлось множество доводов в пользу этого решения. Говорили, что именно поэтому королева, рассерженная последней выходкой покойного супруга, не пожелала присутствовать на похоронах.
На самом деле юному Карлу было четырнадцать лет, и возвести его на французский престол стремились лишь те, для кого было гибельным коронование Людовика. Однако это было равносильно государственной измене, и вскоре выяснилось, что риск слишком велик. Ибо первого августа наследник приказал Жаку де Вилье де л'Иль-Адану овладеть всеми городами Франции, "Парижем в том числе". Этот Жак был сыном Жана, преданного вассала герцога Бургундского, с чем следовало считаться, ведь Филипп Добрый имел войско в тридцать тысяч человек.
– Людовик въедет в Париж только после коронации в Реймсе, – сказал Жак. – Но когда?
Все предполагали, что раньше конца августа этого не случится, ибо новый монарх, конечно, захочет короноваться двадцать пятого числа этого месяца, в день святого Людовика.
Однако Людовик, судя по всему, решил опровергнуть все домыслы о своих намерениях. Двенадцатого августа он неожиданно прибыл в аббатство Сен-Тьерри дю Мон-д'Ор, рядом с Реймсом, и оттуда послал уведомительное письмо Реймскому архиепископу Жану Жювеналю дез Юрсену, содержание которого сводилось к следующему: приготовьте мне эту коронацию, да поживее! Четырнадцатого Людовик въехал в Реймс, а пятнадцатого был коронован в присутствии одного кардинала, одного папского нунция, четырех архиепископов и тринадцати епископов. Одновременно короновалась его вторая жена Шарлотта Савойская. Первая – Маргарита Шотландская – умерла от чахотки шестнадцать лет назад.
Новость распространилась по Парижу со скоростью крысы, убегающей от кота, и Сибуле поспешил сообщить ее Жанне с Жаком: в первом ряду стоял главный враг покойного КОРОЛЯ Филипп Добрый, герцог Бургундский, рядом с ним – его сын» граф де Шароле. И именно Филипп посвятил Людовика в рыцари!
– Да, все встало с ног на голову! – воскликнул Сибуле.
Это не предвещало ничего хорошего ни для Жака, ни для Жанны: было известно, что он получил от короля свое баронство, а она – несколько подарков, в частности аренду на улице Монтань-Сент-Женевьев и дом на улице Бюшри.
Оставалось вооружиться смелостью и терпением.
Двадцать девятого августа Людовик XI прибыл к воротам Парижа; он остановился во дворце на северо-западе от Монмартрских ворот, который прозвали Петушиным замком, ибо построил его человек по имени Кок[23].
Париж стал готовиться к встрече.
Филипп Добрый впервые за долгое время появился в столице и поселился, естественно, в Бургундском дворце на улице Моконсей, где некогда жил его отец Иоанн Бесстрашный. Значение этого было очевидно: вчерашний враг расположился в Париже как дома. Более того, он устроил блистательный спектакль: в понедельник тридцать первого августа с большой помпой выехал через ворота Сен-Дени и отправился встречать короля в Ла-Шапель.
Процессию открывали сто шестьдесят шесть францисканцев в коричневых рясах, за ними следовали сто шестьдесят восемь доминиканцев в белом и тридцать три священника прихода Сен-Северен в золотистых мантиях. Затем появились пять дам на лошадях, перед которыми шествовал герольд в панцире, окрашенном в цвета Парижа. Каждая из дам держала в руках щит с изображенной на нем буквой – вместе они составляли слово Paris, Париж. Буква Р означала мир, А – любовь, R – разум, J – радость, S – безопасность[24].
На улицах во множестве толпились люди, приехавшие со всех концов Франции. Они восторженно глазели на шествие. Епископ Парижский, прево торговцев, четверо эшевенов, священники двух приходов в вышитых мантиях, семьдесят восемь августинцев в черных рясах, судейские из Шатле в красном и фиолетовом, послы, которых все сочли греческими, чиновники Палаты счетов во главе с первым ее президентом, кардинал де Лонгейль, капитул собора Парижской Богоматери… Фактически весь бургундский двор: Иоанн Калабрийский, сын короля Рене, бастарды Филиппа Доброго Филипп Брабантский и Антуан Бургундский, прозванный Старшим Бастардом. И Жан де л'Иль-Адан, новый прево Парижа. Королевские приближенные. Людовик Люксембургский, сын хранителя печати Филиппа Доброго.
– Наш Париж стал бургундским! – воскликнул кто-то из зевак.
Действительно, ради придания церемонии большей пышности значительная часть войска герцога Бургундского приняла участие в шествии: четыре тысячи человек. Способ показать простолюдинам, кто тут самый сильный. Лучники графа де Шароле шли впереди лучников его отца, Филиппа Доброго.
Наконец, сам герцог Филипп: живые мощи на коне с огромным рубином во лбу, под черной шелковой попоной с золотой вышивкой. Шляпа, куртка, штаны, шпага, седло сверкали золотом и драгоценными камнями. За герцогом ехал паж, державший в руках шлем, тоже с рубином, таким громадным, какого еще никто не видел. Далее гордой поступью шествовали восемь лошадей, усыпанных драгоценностями.
Следом сеньоры: Иоанн Бурбонский, граф Вандомский, Эберхард, граф Вюртембергский, Иоанн, герцог Клевский, Иоанн, граф Неверский, Антуан, Старший Бастард… И за ними за всеми – богато изукрашенные лошади.
Филипп выехал вперед, чтобы приветствовать Людовика.
Именно герцог Бургундский принимал в Париже короля Франции. Какая блистательная победа над умершим королем!
Наконец процессия двинулась обратно в Париж.
У ворот Сен-Дени прево торговцев Анри де Ливр вручил королю ключи.
Затем королевский кортеж вступил в столицу вслед за кортежем Филиппа Доброго, от коего его отделял только шут, стоявший в седле на четвереньках. Сто лучников в шлемах двинулись по главной улице Сен-Дени, за ними следовали армейские герольды, оруженосцы… Потом новый глава казначейства Жан Бюро, Бернар Арманьяк, граф де ла Марш, Иоанн II, герцог Бурбонский, Филипп Савойский, граф де Брес и брат королевы, другие знатные сеньоры.
Восхищенные зеваки любовались лошадьми, более нарядными, чем принцы, и вельможами в шелках, золоте и драгоценных каменьях. Под ярким бархатным августовским солнцем они переливались тысячью оттенков, среди которых попадались и совсем небывалые, например малиново-золотистый. Из каждого уличного окна высовывались десятки любопытных, заплативших за место немалые деньги.
Наконец появился сам король на лошади под лазурным балдахином, который несли представители шести парижских цехов. Он был в костюме из белого дамаста, прошитого золотой нитью, из-под черного капюшона виднелась угрюмая физиономия – длинный нос с горбинкой и маленький капризный рот. Его никак нельзя было назвать весельчаком, и в этом он не отличался от отца. Но ведь все Валуа с детских лет жили в атмосфере страха и ненависти, вдобавок им обычно подбирали скверных жен – что ж удивляться, если они так и не научились радоваться жизни.
Толпа тем не менее приветствовала Людовика:
– Да здравствует король!
Люди подталкивали друг друга при виде такой роскоши. Однако монарх выглядел по-прежнему унылым.
По правде говоря, на трон он взошел довольно поздно, в тридцать восемь лет. Кроме того, Париж не был для него своим городом. За всю жизнь он провел в столице лишь несколько недель. Догадывался ли он, что его воспринимают здесь как чужака? Париж сам по себе отдельная страна, а этот человек не только прибыл издалека, но еще и привез в обозе другого иностранца, Филиппа Доброго, который оставил по себе у парижан дурную память.
Кортеж не слишком спешил к своей цели – собору Парижской Богоматери. Действительно, вступив в город через ворота Сен-Дени в полдень, процессия пересекла Сену только в шесть и, пройдя через мост Менял, подошла к собору спустя еще полчаса. На паперти ожидали два прелата в митрах: епископ Парижский Гийом Шартье, епископ Буржский Жан Кёр, родной брат банкира, которого отправил в изгнание Карл VII. Опять же весьма символично. А также высшие чины университета, регенты и доктора. Ну и ну! Эти важные господа доселе отсутствовали на подобных церемониях – достаточно дерзкий способ продемонстрировать независимость университета от королевской власти.
Кто-то из регентов выступил вперед, чтобы произнести приветственную речь. Но сделал это напрасно: монарх оборвал его в миг наивысшего ораторского вдохновения. Епископ Шартье протянул молитвенник: король должен был покорить клятву, данную в Реймсе, и лишь тогда перед ним откроются двери храма. Людовик пробормотал лишь первую часть, наотрез отказавшись читать вторую, ибо в ней утверждалась "каноническая привилегия" духовенства, иными словами – его независимость. Ни за что! Но он все же облобызал молитвенник. Ему протянули крест. Он облобызал и его. Наконец двери собора открылись. Органы загремели "Те Deum laudamus"[25], толпа снаружи, едва заслышав эти звуки, разразилась восторженными воплями.
Зеваки ожидали даров, иными словами – раздачи денег.
В конце этого изнурительного для него дня Людовик XI поужинал во Дворце правосудия и там же заночевал[26].
На улице Бюшри Жаку пришлось спускаться к дверям не меньше десяти раз и объяснять страждущим, что в доме нет ни единой свободной постели. Они чуть не взломали дверь. Провинциалы толпами хлынули в Париж, и приютить их всех не было никакой возможности. Постоялые дворы брали штурмом, общественные бани оставались открытыми всю ночь, чтобы дать крышу над головой хотя бы части гостей. Сдавались даже конюшни и амбары. К счастью, погода сжалилась над людьми: самые непредусмотрительные и самые неимущие смогли заночевать под открытым небом.
Госпожа Контривель наглухо забаррикадировалась у себя на улице Монтань-Сент-Женевьев.
Разумеется, все эти толпы приезжих нуждались в пропитании. Три Жаннины лавки озолотились, собирая бешеную выручку, пока провинциалы не решили разъехаться по домам. Жанна попросила Итье прислать еще суржи из своих резервов и заново закупила вина, масла и сыра, ибо все ее запасы за эти несколько дней истощились.
В каком-то смысле комета возвестила истину.
Полетели головы.
Каждый день приносил новые известия об опале. Хотя Людовик XI быстро уехал из Парижа в Тур, предварительно дав вежливый совет Филиппу Доброму вернуться в Дижон, с собой он захватил список тех, кто в чем-либо провинился перед ним, и приступил к методичному осуществлению мести.
Этьен Шевалье, главный казначей: лишился места.
Пьер д'Ориоль, распорядитель финансов Лангедока: смещен.
Антуан д'Обюссон, бальи [27]
Тура и, как уверяли, муж одной из фавориток Карла: уволен еще до коронации.
Гийом Кузино, бывший советник дофина, назначенный бальи города Руана покойным королем: в тюрьме.
Гийом Жювеналь дез Юрсен, хранитель печати: отставлен.
Первый председатель парламента Ив де Сепо: снят с должности.
Адам Фюме, врач Карла VII: брошен в тюрьму.
Робер д'Эстутвиль, прево Парижа: также брошен в тюрьму. Его брат, Жан д'Эстутвиль, начальник арбалетчиков: отставлен.
Но чистка затронула не только парижан, она распространилась на все королевство. Так, Жан де Бон, суперинтендант Тура после изгнания Жака Кёра, тоже был отставлен. Как и Луи де Бомон, сенешаль Пуату.
Антуан де Шабан, граф Дамартен, бывший товарищ по оружию Жанны д'Арк, предпочел отправиться в изгнание добровольно.
Жак де л'Эстуаль, хоть и радовался, что долг в триста тысяч ливров заботами Этьена Шевалье был выплачен незадолго до смерти короля, все же не чувствовал себя спокойно. Сведение счетов явно только начиналось.
Он был прав.
Как-то утром, в субботу, Сибуле, принесший счета из своей лавки, тихонько сказал Жанне:
– Вы помните того поэта? Она подняла глаза.
– Что с ним такое?
– Ну, он вернулся в Париж. И снова натворил дел!
– Опять грабеж?
– Нет, он был с компанией школяров, они поссорились с помощниками церковного нотариуса, мэтра Фербука. И кто-то из них пырнул его ножом. Но у этого человека оказались сильные связи в парламенте. Вийона приговорили к смерти.
Она была поражена.
– Мы его больше не увидим. Она содрогнулась.
– Его повесили?
– Нет, изгнали из Парижа на десять лет. Долго он не проживет.
– Почему?
– Выглядит нехорошо. Совсем отощал и облысел.
Она постаралась скрыть свое огорчение.
Ночью ей снились кошмары. Она решила, что причиной тому дурные вести. Она ошибалась.
13 Верхом на волке
Второго сентября Жанна, баронесса де л'Эстуаль, получила уведомление из Дворца правосудия, в котором ей предписывалось явиться в следующий понедельник на судебное разбирательство по иску Паламеда Докье, промышлявшего торговлей зерном в Туре, Орлеане и Париже и обвинявшего ее в убийстве его гостя и друга Дени, графа д'Аржанси, "посредством колдовских ритуалов". В уведомлении специально подчеркивалось, что только ввиду известности и положения обвиняемой председатель суда проявил снисхождение, не арестовав ее сразу и предоставив ей неслыханную привилегию защищаться с помощью адвоката, ибо по правилам королевские лучники должны были немедленно препроводить ее в тюрьму.
Действительно, подозреваемые в колдовстве не имели права на адвокатов: они обязаны были защищаться сами. Но до будущих выборов Жанна сохраняла полномочия городской советницы, и с ней нельзя было поступить как с какой-нибудь уличной гадалкой.
Разверзнись перед Жанной земля, она испугалась бы меньше.
Колдунья!
Ее сожгут! Имущество будет конфисковано, семья рассеяна, имя опозорено!
Смерть! Ужасная смерть в пламени!
Но что за посланец ада измыслил это обвинение? С какой целью Паламед Докье начал против нее этот процесс?
Жак вернулся и тоже испугался, застав Жанну в полном столбняке, она даже говорить не могла. Никогда он не видел ее в таком состоянии.
– Жанна, возьми себя в руки, – сказал он, помолчав. – Твое смятение как раз на руку врагам. Нашим врагам. Тебе нужно защищать семью, не только себя. Франсуа. Деодата. Меня. Анжелу. И немедленно к адвокату. Я знаю одного из лучших адвокатов Парижа.
Его звали Бертран Фавье, и он был родствеником Луи де Крюссоля, фаворита короля. Он принял их сразу. Его двойной подбородок, колыхавшийся поверх ворота, жил своей отдельной жизнью. Рысьи глаза буравили посетителей. Он расспросил Жанну о возможных причинах такого обвинения; она объяснила. Он осведомился, располагает ли она надежными свидетелями. Жанна смогла назвать лишь одного: Гонтара. И может, еще управляющего Итье. Он кивнул, снова просмотрел судебное уведомление и большого волнения не выказал.
– Это обвинение продиктовано не стремлением к правосудию, а алчностью. Докье рассчитывает приобрести ваши земли по бросовой цене. Остается выяснить, каких лжесвидетелей он привлечет и сколь сильно его влияние на королевских чиновников.
В качестве предварительной оплаты адвокат попросил две тысячи ливров. У Жака при себе была лишь тысяча. Он вручил ее Фавье и обещал принести недостающее до вечера. Поскольку речь шла о значительной сумме, мэтр Фавье объяснил, что эти деньги пойдут на оплату необходимых и срочных расходов. Он обратился к своему помощнику, молодому человеку с лисьим выражением лица, который присутствовал при разговоре с Жанной.
– Эмар, – сказал адвокат. – сейчас три часа. Будьте добры, наймите лошадь и скачите во весь опор в Ла-Шатр. Вы повидаетесь с капитаном Гонтаром, расскажете ему об этом деле и постараетесь добиться полной его поддержки. Ясно?
Эмар кивнул с понимающим видом. Фавье отдал ему только что полученную тысячу ливров.
– Не жалейте усилий, – добавил он. И, повернувшись к Жаку с Жанной, добавил: – Эмар Фландрен считается мастером в искусстве разоблачения ложных наветов.
Помощник расплылся в улыбке и вышел из комнаты. Вернувшись на улицу Бюшри, Жанна упала в объятия мужа.
– Небо наказывает меня за преступление! – горько рыдала она.
– Жанна! – запротестовал Жак. – Дени угрожал убить твоего сына, невинное дитя! Неужели ты веришь, что Небо наказывает тебя за то, что ты предотвратила злодеяние, уничтожив злодея?
Ему удалось утешить ее, но она не притронулась к ужину, и кормилица встревожилась. Когда Жак объяснил ей, в чем дело, она испустила такой крик, что маленький Деодат перепугался и едва не упал со стула.
– Кормилица, – сказал Жак, – во имя нашей безопасности каждый должен сохранять хладнокровие. Молите Небо и слушайте голос своего сердца.
утром перед началом суда Жанна была мертвенно-бледна. Она не могла ни спать, ни есть с того момента, как получила уведомление. Из дома она совсем не выходила: весь квартал каким-то образом узнал об обвинении, и зеваки стекались поглазеть на ее лавку, словно ожидая увидеть там дьяволов. Новый настоятель церкви Сен-Северен, естественно, и не подумал заступиться за обвиняемую.
По настоянию мужа и кормилицы Жанна все-таки согласилась выпить чашку горячего молока и съесть пышку.
– Разбирательство будет долгим, – сказал Жак, – тебе нужны силы.
Кормилица решила оставить маленького Деодата на попечении госпожи Контривель и сопровождать в суд хозяйку, чье состояние внушало ей серьезные опасения. Удрученная и негодующая Анжела тоже пошла с ними.
Славу богу, Франсуа и Жозеф были в Орлеане.
Когда в большем зале Дворца правосудия появились одетые в красное судьи, Жанна едва не лишилась чувств. На скамьях теснилось множество народу, как всегда на процессах о колдовстве. Жанне показалось, что она стала мишенью сотен острых как кинжалы взглядов. Десять лучников охраняли выход. Именно они вырвут ее из объятий мужа и отведут в тюрьму, где она будет ждать казни на костре, если проиграет дело. Жак с кормилицей поддержали ее и помогли сесть на скамью подсудимых.
– Где же твое мужество, с которым ты защищала меня? – прошептал Жак.
Мэтр Фавье встретил их по-отечески, шедший следом за ним молодой Фландрен подмигнул Жаку.
Суд вызвал истца, Паламеда Докье. Ему велели присягнуть на Евангелии и назвать свое имя и положение, а затем изложить суть обвинения.
Докье заговорил тоном нарочито сдержанным и одновременно жалостливым. Он рассказал, что его превосходный друг Дени, граф д'Аржанси, поделился с ним подозрениями, которые давно питал в отношении своей сестры, их соседки, с юных лет приверженной дьявольским ритуалам. Утром того дня, когда его настигла смерть, он отправился к ней с визитом, чтобы умолить ее раскаяться и отказаться от колдовства хотя бы теперь, когда она стала матерью двоих детей. Но именно в этот день его загадочным образом загрызли волки, которых преступница держала у себя в усадьбе. Удивленный привязанностью баронессы де л'Эстуаль к этим тварям, известным спутникам колдунов, он расспросил слуг замка Ла-Дульсад, Батиста и Мари, которые поведали ему, что их хозяйка по субботам устраивает шабаш. "После полуночи она садится верхом на волка и устремляется в полет, чтобы творить в здешнем краю убийства и прочие злодеяния". Возмущенный умерщвлением друга, который вдобавок был родным братом колдуньи, он, Паламед Докье, решил подать жалобу с целью положить конец подобным мерзостям.
Жанна едва не задохнулась. Жак сжал ей руку.
– У вас есть свидетели? – спросил один из судей у Докье.
Тот попросил вызвать Батиста и Мари, слуг из усадьбы Ла-Дульсад.
Жанна заерзала на скамье и не сдержала негодующий возглас. Жаку пришлось вновь успокаивать ее.
Оробевшие слуги горбились, не смели поднять глаз ни на судей, ни, естественно, на Жанну. Было заметно, что судебная процедура сама по себе приводит их в ужас.
– Говорите! – приказал прокурор. – И громко, чтобы вас все слышали.
Первым давал показания Батист. По его словам, однажды вечером, в полнолуние, он увидел, как хозяйка верхом на волке пролетает над деревьями. Она завывала, и волки, оставшиеся на земле, отвечали ей воем. Она устремилась в сторону полей, и волки помчались следом. И после каждого такого полета в окрестностях находили христианина, растерзанного волками.
– Но вы все равно оставались в услужении у этой дамы? – спросил судья.
– Нас запугали, – сказала Мари. – Если бы мы ушли, она приказала бы волкам загрызть нас.
Все взгляды обратились на Жанну. Паламед Докье уставился на нее с мстительным видом.
– Пусть обвиняемая ответит! – громко возгласил прокурор.
Жак помог Жанне подняться. Она нетвердым шагом спустилась по ступенькам и приблизилась к судьям. Она дрожала, но держалась прямо. Она назвала свое имя и принесла присягу.
– Никогда я не совершала ничего такого, что называют колдовством, – произнесла она, – потому что не сведуща в этом, а то немногое, о чем слышала, внушает мне отвращение. Брат навестил меня по-соседски, желая поздравить с процветанием моих земель. Два волка, обычно привязанных, каким-то образом сорвались и растерзали его. Я услышала крики, но прибежала слишком поздно.
– Что же делали волки в вашем поместье? – спросил прокурор.
– Управляющий, мэтр Итье Боржо, подобрал двух волчат-сирот и поручил их Батисту, только что обвинявшему меня. Я очень удивилась. Но Батист объяснил мне, что существует обычай держать в усадьбах ручных волков, поскольку они отгоняют диких, и, если дать им обнюхать хозяев, нападения можно не бояться. Поскольку они сдружились с собаками, я к ним привыкла, но всегда держала на привязи из страха, что они собьют с ног кормилицу или моего маленького сына.
– А эти ночные скачки? – суровым тоном осведомился прокурор.
– Их никогда не было. Я всегда спала вместе со своим мужем, а когда он уезжал, ко мне поднималась ночевать кормилица.
– Ложь! – вскричал адвокат Докье. – Муж – ее сообщник. И кормилица тоже. Она запугала их, как и слуг.
Прокурор, казалось, задумался.
– Мэтр Фавье, у обвиняемой есть свидетели?
Докье был заметно раздосадован присутствием адвоката противной стороны. Очевидно, он полагал, что слово предоставят только обвинителю.
Фавье ответил, что есть, хотя муж и кормилица отстранены из-за подозрений в сообщничестве. Он попросил вызвать первого из свидетелей защиты.
Лучники открыли дверь. Капитан Гонтар вошел в зал, четко печатая шаг.
Судьи вытянули шею. Военная выправка и форма этого свидетеля производили куда более выгодное впечатление, чем испуганный вид слуг из замка Ла-Дульсад.
Адвокат Фавье и его клерк Фландрен с толком использовали задаток, выданный Жаком.
Докье нахмурился.
Гонтара попросили назвать свое имя и служебное положение. Затем он принес присягу.
Судьи пришли в волнение. Капитан лучников Ла-Шатра да еще старшина этого города! Черт возьми, это был весомый свидетель.
– Господа судьи, – сказал Фавье, – я хочу сначала определиться с личностью и репутацией истца.
– Мы здесь не обвиняемые! – вознегодовал адвокат противной стороны. – Мы считаем недостойным уже то, что обвиняемая получила право на юридическую помощь, предоставляемую только христианам.
– Я намерен также показать суду мотивы ваших домыслов, – парировал Фавье.
– Господин старшина, капитан, говорите, – приказал прокурор.
– Истец Докье десять дней назад попросил меня свидетельствовать в пользу обвинения, – заявил Гонтар. – Я сказал ему, что отказываюсь, поскольку мне известно, как появились волки в Ла-Дульсаде. Тогда он предложил двести экю в награду за поддержку. От этого я тоже отказался.
– Ложь! – крикнул Докье.
– Сьер Докье, помолчите! – оборвал его председатель суда. – Слово городского старшины и капитана лучников стоит больше вашего. Господин старшина, капитан, прошу вас продолжать. Были ли вы знакомы прежде с истцом Докье?
– В Ла-Шатре он известен всем, особенно с тех пор, как его собственный слуга подал жалобу на него и убитого волками д'Аржанси, обвинив их в содомии.
По залу пробежал ропот.
– Ложь! – вновь выкрикнул Докье.
Фавье попросил вызвать второго свидетеля: это был слуга Докье, миловидный юноша. Прокурор спросил, действительно ли он подавал жалобу и обвинял Докье в содомии. Слуга ответил, что да, но затем жалобу отозвал, поскольку Докье заплатил ему пятьдесят экю.
– Мы здесь для того, чтобы разбирать дело не о содомии, а о колдовстве! – воскликнул адвокат Докье.
– Настоящая содомия, – сказал Фавье, – это лжесвидетельство о колдовстве, дорогой собрат, и я это сейчас докажу. Прошу вас, капитан, говорите.
– Убитый волками д'Аржанси жил у Докье девять месяцев… – начал Гонтар.
– … И у них родился ребенок! – выкрикнул кто-то из зрителей.
По залу прокатился смешок. Прокурор сделал вид, будто сердится, и потребовал тишины.
– Все знали, что они сожительствуют, – продолжал Гонтар.
– Сьер д'Аржанси был бычком, – вставил слуга. Зрители в зале хохотали уже открыто. Один из судей безмолвно трясся от смеха. Жанна содрогнулась от отвращения.
– Цель процесса искажена! – возгласил адвокат Докье. – Перед нами колдунья, совершившая ужасное преступление. Она скормила волкам собственного брата! Эта женщина должна гореть на костре! И нам не следует обсуждать гнусные сплетни. Ее жертвой стал уважаемый человек, сторонник дофина в мрачные годы, предшествовавшие его вступлению на престол!
Несомненно, он надеялся запугать суд, прибегнув к угрозе королевской мести, ибо Дени д'Аржанси входил в число близких к нынешнему королю людей. Однако судьи встретили эту тираду полным молчанием.
Прокурор спросил Гонтара, слышал ли он в Ла-Шатре и окрестностях, что госпожу Жанну д'Эстуаль подозревают в колдовстве.
– Я всегда слышал только похвалы мужеству и здравому смыслу этой дамы, которая вернула к жизни семь заброшенных ферм и восстановила мельницу, дав тем самым работу почти сотне человек.
– Откуда взялись у нее деньги на это? – спросил адвокат Докье. – Конечно же, ей помогал дьявол!
Донельзя раздраженный Жак встал с места.
– Это были мои деньги! Я банкир, и у меня есть состояние! Эти земли принадлежат как мне, так и ей.
Он снова сел.
Жанна была подавлена таким нагромождением низости, лжи и обвинений, одно нелепее другого. Кормилица успокаивала ее как могла. Анжела протянула ей платок, пропитанный настоем можжевеловых ягод.
– Разве не правда, – спросил Фавье, – что истец Докье предполагал купить по бросовой цене земли супругов д'Эстуаль?
– Ложь! Ложь! И еще раз ложь! – завопил Докье вне себя.
Фавье попросил вызвать третьего свидетеля: это был главный секретарь городского совета Ла-Шатра. Тот поклонился Гонтару и предстал перед судьями.
– Что вы можете сказать? – спросил прокурор, после того как он принес присягу.
– Месяц назад Докье пришел ко мне с вопросом, сколько могут стоить земли, если их владельцы будут лишены прав на них. Вопрос этот меня сильно удивил. Тогда он дал мне понять, что им действительно грозит подобная кара, но больше ничего не добавил. Я объяснил, что в любом случае земли эти отойдут короне и цену назначит королевское казначейство, но, разумеется, она будет гораздо ниже реальной. Он был явно доволен моим ответом.
– Господин председатель, – заявил адвокат Докье, – мой талантливый собрат сумел сбить нас с верного пути. Мы собрались здесь, чтобы судить колдунью, и два свидетеля показали под присягой, что своими глазами видели, как она мчалась по воздуху на волке. Этого достаточно!
Некоторые зрители без стеснения фыркнули.
– Зелен виноград! – крикнул один из них.
В зале вновь раздались смешки.
– Ваш клиент спрашивал или не спрашивал, какова будет цена этих земель в том случае, если собственников лишат прав? – спросил прокурор адвоката Докье.
– Я знал, что эту колдунью и ее мужа вскоре настигнет длань правосудия, – заявил Докье, – и потому решил узнать цену их земель. Не вижу тут ничего дурного.
– Ну конечно, – иронически произнес прокурор, – вы соединили личный интерес с интересами правосудия. С какого времени в усадьбе жили волки? – спросил он слуг.
– С того момента, как приехала наша хозяйка, – ответил Батист, явно испуганный тем оборотом, какой принял процесс.
Он, несомненно, полагал, что дело разрешится очень быстро: Жанну поведут со связанными руками на костер, а они получат вознаграждение. Ибо за лжесвидетельство им, конечно, обещали награду.
Фавье попросил тогда вызвать четвертого свидетеля. Это был управляющий Итье. Фландрен положительно совершил чудеса за те пять дней, что провел в Берри.
– Вам известно, с какого времени волки, которые загрызли сьера д'Аржанси, появились в поместье?
– Это я принес их туда три года назад, в мае. И передал Батисту, попросив держать их в клетке, которую использовали в этих целях прежние владельцы замка. Хозяйка же говорила мне, что их нельзя держать там вечно. Она очень боялась за своего маленького сына.
– Этот человек – сообщник колдуньи! – воскликнул Докье.
Итье побагровел и, потеряв терпение, повернулся к Докье.
– Вы, содомит, – крикнул он, – берегите задницу, когда вернетесь на свои земли! – Потом обратился к Батисту и Мари: – Я ведь знаю, что этот развратник обещал вам двести экю за мерзости, которые вы расскажете!
– Нельзя больше терпеть эти оскорбления! – закричал адвокат Докье. – Господин председатель…
– Сядьте, мэтр, – оборвал его председатель. – Свидетель Итье, можете ли вы доказать то, что сказали?
– Отлично могу, господин председатель: они мне сами это выложили и не скрывали радости, что "соседский гаденыш" заплатил им двести экю. Я спросил, за что они получили такие деньги, но в этом они не хотели признаваться. Уже на следующий день Батист здорово надрался.
– Свидетель Итье, – сказал прокурор, – прошу вас еще раз принести присягу в связи с вашим заявлением.
– Клянусь своей головой и Евангелием! – провозгласил Итье.
– Но я же видел, как она летала на волке! – завопил Батист.
На него посыпались насмешки.
– А фляги с вином тоже летали?
– А твоя жена, она на ком скакала?
Лучникам пришлось призвать шутников к порядку. Жанна качала головой.
– Я с ума сойду! – прошептала она.
Фавье и Фландрен с удовлетворенным видом повернулись к судьям.
– Господин председатель, – сказал Фавье, – свидетели показали под присягой, без колебаний и недомолвок, что все обвинения сьера Докье – злонамеренная клевета, продиктованная желанием приобрести по бросовой цене земли моей клиентки. Он заплатил двести экю слугам, чтобы те оболгали свою госпожу, используя предрассудки и суеверия. Эти свидетели прояснили также, что собой представляет сьер Докье…
– Я протестую! – провозгласил адвокат Докье.
– Держитесь, дорогой собрат, – сказал Фавье, взяв свиток из рук Фландрена. – Ибо у меня имеются доказательства, что это не первая низость, совершенная сьером Докье. Вручаю суду заверенную копию приговора, вынесенного два года назад судом города Буржа, за подделку договора о продаже полбы. Сьер Докье должен был заплатить штраф в тысячу экю. Процесс над ним показал, что это сущий грабитель, недостойный выступать в качестве истца перед этим судом.
Он положил документ на стол перед судьями.
Начались прения сторон.
Адвокат Докье в очередной раз выразил сожаление, что суд уклонился от сути дела в силу хитроумных уловок, не имеющих отношения к жалобе его клиента. Факты остаются фактами: брат обвиняемой среди бела дня был разорван волками в ее усадьбе, и никто не пришел к нему на помощь. Слуги же подтвердили, что обвиняемая предавалась дьявольским ритуалам в субботнюю ночь, укрощая и подчиняя своей воле волков.
Суд удалился на совещание. Двери закрылись.
Жанна находилась в пятнадцати шагах от Докье. Она разглядывала человека, который с такой злобой пытался отправить ее на костер. Он же делал вид, будто не замечает ее, и беседовал со своим адвокатом.
Словно век прошел.
Судьи вернулись в зал, и зрители встали. Судьи заняли свои места, и зрители сели.
– Мы, судьи первой инстанции Дворца правосудия, постановляем в пределах данных нам прав…
Сердце Жанны перестало биться.
Докье вскинул голову, уверенный в своем триумфе.
– …Что госпожа Жанна, урожденная Пэрриш, в первом браке де Бовуа, ныне баронесса де л'Эстуаль, советница парижского муниципалитета, проживающая в собственном доме на улице Бюшри, обвиненная сьером Докье…
Жак взял ее за руку.
– …Полностью невиновна, свободна в действиях своих и избавлена от какого бы то ни было наказания…
Она зарыдала.
– …Что, напротив, сьер Паламед Докье признан виновным в тяжкой клевете, каковая могла привести к казни обвиняемой огнем, а также лишению всех прав. Вследствие сего преступления имущество его будет конфисковано, а сам он препровожден в тюрьму Шатле, где проведет в заключении три года без права на помилование…
– Измена! – закричал Докье.
Лучники уже шли вдоль стен по направлению к нему.
– Он приговаривается к выплате ответчице из конфискованного имущества пятнадцати тысяч ливров, а судейскому казначейству – пяти тысяч ливров за оскорбление служителей правосудия, прочее же отойдет королевской казне…
Докье лишился чувств.
Зал гудел от возбуждения. Председатель продолжал бесстрастно читать приговор:
– Будучи повинен в содомии, что доказано свидетелями защиты, он подвергнется наказанию в сорок ударов кнутом…
Адвокат Докье растерянно уставился на председателя.
– Слуги Батист и Мари, виновные в клятвопреступлении и лжесвидетельстве, будут также заключены в тюрьму на два года, а двести экю, полученные ими от сьера Докье, будут конфискованы в пользу городского совета Ла-Шатра… Именем Бога и короля…
Лучники схватили слуг, вопивших:
– Пощадите! Пощадите!
Фавье, Фландрен, Гонтар, Итье и секретарь городского совета Ла-Шатра обступили Жанну. Она сотрясалась от рыданий. Фавье взял ее за руку.
– Спасибо, – пробормотала она.
– Ну, – сказал Фавье, – я времени даром не терял.
– Этот мерзавец не знал, как много добра вы сделали, мадам, – произнес Гонтар. – Именно это вас и спасло.
– Это еще и ошибка моего собрата, – добавил Фавье. – Он думал, что запугает суд, сославшись на принадлежность покойного к партии дофина. Он не учел, что судебное ведомство проникнуто духом независимости.
Жак повел Жанну к выходу. Толпа расступалась перед ними. Какая-то женщина протянула ей розу.
Жанна чувствовала, что ноги у нее подкашиваются.
14 Чертово болото
Это было ужасное испытание. Если она и совершила преступление, отдав брата на растерзание волкам, то полностью его искупила. Теперь она улыбалась редко. Плохо спала, кричала во сне.
– Я уже сталкивалась с человеческой низостью, но так и не смогла закалиться, прости меня, – говорила она Жаку.
Наступила осень.
– Увезите ее куда-нибудь, – посоветовала Жаку госпожа Контривель, когда оказалась с ним наедине.
– Куда?
– Не знаю. В Италию.
– У нас маленький ребенок, и я не знаю, как он вынесет такое долгое путешествие по холоду. К тому же мы не можем бросить мануфактуру и фермы.
Через несколько дней Жанна сказала мужу:
– Я вижу, какой я стала, и мучаюсь оттого, что подвергаю такому испытанию тебя. Уедем вдвоем на несколько дней, только ты и я. Отправимся в Ла-Дульсад. Я должна изгнать демонов из этого места, иначе демоны его у меня отнимут. Мне нужно изгнать демонов и из себя самой, и сделать это я могу только с тобой вместе.
Ему не оставалось ничего другого, как согласиться на ее просьбу, однако он спрашивал себя, каким образом намерена она изгонять демонов.
Осень давно вступила в свои права. Три или четыре недели отделяли их от сильных холодов. Перед отъездом Итье заверил Жака, что они без труда найдут других слуг, которые заменят предателей, ныне прозябающих в тюрьме.
Они выехали верхом, поскольку в сундуках Ла-Дульсада было запасено достаточно одежды.
Добравшись до места, они на мгновение остановились, чтобы окинуть взором усадьбу, которую у них хотели похитить.
– Я тебе уже говорил, – произнес Жак. – Я всегда вынужден завоевывать то, что мне дарят люди или судьба. В борьбе с силами зла.
На следующий день Жанна сказала, что уедет одна на весь день и вернется к вечеру. Он не стал задавать вопросов.
Она пустила лошадь в галоп, направляясь к болоту, которое видела в свой первый приезд недалеко от Гран-Бюссара. Чертово болото, как назвал его Гонтар. На протяжении почти всего пути в лицо ей хлестал дождь.
Но дождь этот, казалось, был не просто прихотью Неба. Жанна ощущала его как жгучие слезы о мире, и конца не было этим слезам. Кто же рыдал так? Когда она подъехала к болоту, точнее, небольшому озеру, небо прояснилось. Листья золотистых буков, словно гербы неведомого королевства, пылали на фоне умирающей осенней лазури. Болото сверкало. Жанна подъехала к самому его краю. Одним прыжком в лесу скрылся олень. Она спешилась и сделала шаг к кромке воды.
Потом села, примяв траву. Взгляд ее блуждал по зеркальной глади – быть может, она искала ребенка, утонувшего здесь, если верить легенде.
Должно быть, он теперь улыбается. Ибо те, кто умер безвинным, в конце концов начинают улыбаться.
Мир медленно освобождался от воющих призраков, которых ветер злобы и беды рвал на части вокруг нее. Она даже не вспоминала их имен – так, какие-то звуки, слоги, затерянные в пучине прожитых лет.
В сердце Жанны наконец воцарилась тишина. Она наслаждалась ею, пока не погрузилась в нее целиком.
Надвинувшийся туман начал медленно сползать к воде и накрыл болото. Потом берега. Жанна словно запахнулась в эту молочную пелену, которую подсвечивали последние лучи солнца, делая ее сходной с какой-то ангельской материей. Жанна уже ничего не видела вокруг. Она подняла глаза и едва различила самые высокие ветви на деревьях. Наконец и эта последняя связь с реальностью исчезла. Лесные шумы стихли в обволакивающем мареве.
Это, наверное, и есть смерть, подумала она. Наверное, я умираю.
Жанна прислушалась, стараясь уловить другие голоса, не те, что несли горе и боль. Она различила какой-то неясный, непонятный, тонкий звук. Это было дыхание бестелесной субстанции, окружавшей ее. Быть может, голоса духов, собравшихся на болоте. Голоса исчезнувших душ. Они сливались с другими, еще не обретшими нового воплощения.
Возможно, они явились, чтобы поглядеться в зеркало болота.
Главное, Жанна ощущала, что она уже не одна. Ее овевало влажное дыхание великого множества душ. Они не произносили ничего внятного – ни утешения, ни упрека, ни сожаления, ни хвалы. Но они были рядом. Она чувствовала их незримое присутствие.
Жанна подумала о своих родителях. Наверное, они тоже были здесь.
В этой белизне, одновременно пустой и наполненной духами, ей стало наконец понятно, что и сама она – всего лишь дух среди прочих. Бессилие органов чувств позволяло видеть яснее. Страхи и унижения, горести и сожаления, истерзавшие ее, были всего лишь пылью. Даже имени у нее больше не было, и, однако, она чувствовала себя более реальной, чем когда-либо. Постепенно она очищалась. Становилась туманом.
На нее снизошло умиротворение. Сначала она ощутила печаль. Потом и печаль исчезла. Жанна погрузилась в облако. Омылась в нем.
Возможно, где-то поблизости бродили волки. Это не имело значения. Смерть не уничтожит ее. Отныне – нет. Она подумала о Жаке и вдруг полюбила его по-новому, не так бурно, как прежде, ибо теперь увидела его яснее. Природа этого человека из слоновой кости была ближе всего к окружавшей ее сейчас насыщенной парами материи.
Туман рассеивался. Перед ней возникло дерево. Жанна восхитилась его силой и изяществом. Она подняла глаза. Скворец проскользнул меж нижних ветвей. Появился другой. В нескольких шагах терпеливо ждала лошадь. Жанна встала и неторопливо подошла к ней. Копоть костра была смыта.
Неверно назвали это болото, подумала она, отправляясь в обратный путь. Это Болото Ангелов.
Жак ждал ее в саду, среди тисов. Услышав стук копыт по дороге, повернул голову.
Он задал вопрос только взглядом. Глаза Жанны ему ответили. Ее движения тоже.
– Возьми в руки мое лицо, – попросила она.
Ладони Жака образовали чашу, в которую погрузился подбородок Жанны.
– Я была на Чертовом болоте, – сказала она. – Видела там одних ангелов.
Он улыбнулся. И поцеловал ее с добротой, дарованной ему от природы. Они направились в ближайшее поле.
– Я видела слишком много демонов в последнее время, – произнесла она. – Мы правильно поступили, что приехали сюда.
– Я понял это, когда ты спешилась, – сказал он. Небо заволокло тучами. Ветер трепал одежду. Первые капли дождя обратились в ливень. Они вернулись домой.
Большой ковер ее жизни едва не был разорван по воле Мастера. Но Жанна не допустила этого и сама встала к ткацкому станку. Когда они с Жаком вернулись в Париж, она сказала:
– Давай уедем на время из этого города. Здесь сейчас опасно. Судьба сблизила нас с югом. Послушаемся ее. Франсуа и Жозеф в Орлеане. Наши земли – в Берри, под Шатору. Мануфактура – в Лионе.
Он напомнил ей, что расстояние между Шатору и Лионом не намного меньше, чем между Парижем и любым из этих двух городов.
– Наши предприятия слишком разбросаны, – сказала она. – Лавки здесь, мануфактура там, земли далеко, твои банковские дела еще дальше.
– Если мы уедем из Парижа, – заметил Жак, – мне придется отказаться от намерения попросить королевскую привилегию на сукно. В таком случае нам действительно лучше уезжать на юг. Но мы можем выбирать только между Лионом и Марселем, потому что Лион – самая большая в Европе ярмарка, а Марсель – порт, где Франция принимает чужое и вывозит свое. Оттуда получаем мы товары из Италии, пряности из Африки и с Востока, оттуда уходят корабли, нагруженные шерстью, сукном и драгоценными тканями. В обоих городах торговля и банковское дело неотделимы друг от друга.
– Давай не будем принимать решение сейчас, – ответила она. – Я верю, что в конце концов мы сумеем все это объединить. Но я чувствую, что в Париже дует недобрый ветер.
Этого нельзя было не заметить. Людовик XI вел свой корабль грубо, рывками. Сегодня он отменял то, что сделал накануне, приводя в замешательство и друзей и врагов.
Так, бросив в тюрьму Фюме, врача своего отца, он затем назначил его своим личным лекарем, а потом докладчиком королевского двора о поступающих прошениях и жалобах. Смещенный накануне коронации Пьер Дориоль, член Палаты счетов, попал в фавор и в королевский совет. Пьер де Врезе, фаворит покойного Карла VII, сначала ударился в бега, и его имущество было конфисковано, но чуть позже он тоже вернул себе королевскую милость и вместе с ней имущество. Более того, его сын женился на одной из дочерей Агнессы Сорель и Карла VII, следовательно, сводной сестре Людовика, и Врезе таким образом оказался дядей короля! Служители государства, чья единственная вина состояла в том, что они служили ему верно, были брошены в тюрьму, а затем полностью оправданы. Так освободили Жана и Робера д'Эстутвилей, которые провели долгие месяцы на зловонной соломе и жидкой тюремной похлебке: никакой вины за ними не нашли. Оба брата тут же вернулись к делам. Но при этом помиловали и заклятых врагов короны вроде Иоанна II Алансонского и пресловутого Иоанна V Арманьяка, уличенного в инцесте: оба были полностью восстановлены в правах и получили назад свои владения. И еще одно, в высшей степени странное решение: король даровал Арманьяку титул герцога Немурского со всеми положенными привилегиями. Однако этих двух сеньоров официально осудил парламент. Что ж, правосудие теперь отменено?
Каждое утро живая газета оповещала всех торговцев, в том числе и Жанну, о том, что произошло накануне и чуть ли не в тот же день. Такой-то, некогда грабивший путников на большой дороге, стал капитаном лучников в том самом городе, где его едва не повесили. Другой, многие годы скрывавшийся за неуплату долгов, получил назначение в Палату счетов.
Даже дипломатические новости не ускользали от внимания простых людей: так, фламандские суконщики сообщили Жаку, что король долго проторчал в Понтье, ожидая Уорвика, эмиссара английского короля Эдуарда IV, и что такой афронт не сулит ничего хорошего.
Всеобщее недовольство делало народ непочтительным к власти. И склонным к мошенничеству: зачем платить налоги этому королю – безумному и вместе с тем унылому?
Парламент оскорбился, народ же никак не мог понять резких поворотов в политике своего короля. Поступал ли он так из милосердия? Или по расчету? Или как бог на душу положит? Все зависело от настроения монарха, и вот к власти стали приходить люди, чьей единственной заслугой было то, что они делили с дофином изгнание.
Эти скандальные странности были объяснимы и отчасти даже оправданны. Людовик долго жил один, ненавидимый своим отцом и королевством, союзников же обретал лишь по мере того, как Карл приближался к своему концу, причем это были люди скромных способностей, оказавшиеся негодными Для службы действующему королю. Его постоянно предавали и заключали с ним союз лишь из соображений выгоды. Он не мог рассчитывать ни на кого и ощущал себя одиноким. А одиночество королей сплошь и рядом порождает в них самодурство. Людовик использовал людей, как ребенок, который то и дело пересаживает своих кукол. Во всяком случае, так это выглядело со стороны.
Ситуацией, разумеется, не могли не воспользоваться сеньоры, чьи владения находились на окраинах королевства. Всего через два года после восшествия Людовика XI на престол, в 1463 году, они подняли мятеж.
Сначала Людовик поссорился с Филиппом Добрым, полагая, что тот в свои шестьдесят восемь лет впал в детство, затем с его сыном, графом де Шароле, который отныне заправлял всеми делами в Бургундии. Потом с племянником Филиппа, Иоанном Бурбонским. Потом с герцогом Бретонским, Франциском II. Потом с папой. Потом с целым выводком провинциальных дворян и сеньоров, которых лишил доходных мест из личной вражды или с целью ублажить своих приближенных и возлюбленных.
Ибо Людовик был галантен и дерзок.
Праздник рождения Божественного Младенца лишь слегка успокоил умы. Париж отметил тот факт, что король ни разу не встречал Рождество в своей столице. По правде говоря, он никогда не любил этот город, который потихоньку начинал отвечать ему взаимностью.
Во время рождественских пантомим, разыгранных перед собором Парижской Богоматери и церковью Сен-Жермен-де-Пре, внимание зрителей привлек необычный персонаж: сопровождавший волхвов карлик, увенчанный огромной короной. Не было нужды уточнять, кого он изображает. Это не мешало публике веселиться.
Собственный брат короля, Карл Французский, герцог Беррийский, счел момент благоприятным, чтобы предъявить свои права на престол. Его слишком долго уверяли, будто он может править страной. Он создал лигу принцев. Иоанн Бурбонскяй обольщал народ старым как мир обещанием: если Людовика низложат, налоги будут отменены.
В конце марта 1464 года в Париже заговорили о близкой войне: неисправимый Арманьяк, свежеиспеченный герцог Немурский, занял со своими войсками город Монморийон, недалеко от Пуатье. Между тем в Пуатье находился король. Короче, Немур вознамерился атаковать монархию.
Цены на зерно взлетели до небес. Каждый запасался провизией – пшеницей, маслом, колбасами, вином. Подвалы были забиты доверху. Крысы и мыши пировали за счет человеческой глупости.
Жанна встревожилась: Монморийон был в двух часах пути от Ла-Шатра и ее земель. Возвращались страшные времена, когда солдатня опустошала деревни, жгла фермы и посевы.
– В этой стране становится невозможно жить! – вскричала Жанна.
Жак попытался успокоить жену: он разместил большую часть своего капитала, а также деньги Жозефа и Анжелы в Женеве и Безансоне. Семейству де л'Эстуаль не грозило разорение. Но Жанну, с ее крестьянскими корнями, бесило, что плоды стольких трудов и усилий будут уничтожены солдафонами и наемниками.
Между тем она получила со своих семи ферм муку весеннего урожая, по правде говоря весьма скудного. Она сохранила ровно столько, сколько требовалось для работы кондитерских, а остаток продала на Главном рынке. Цены увеличились вдвое за три года и вчетверо за шесть! Продовольственное снабжение пока не пострадало, однако многие дороги стали недоступны или опасны.
Людовик принял меры: набрав войско в провинциях Дофине и Лионне, он поручил своим казначеям сделать заем. Жак был известен тем, что одолжил крупную сумму Карлу VII, и уклониться никак не мог: отдал свои десять тысяч экю и обязался изыскать дополнительные средства.
Иоанн Бурбонский занял несколько городов в Оверни и провозгласил программу – по правде говоря, весьма туманную – всеобщего блага. На стене кладбища Сен-Северен вывесили текст его воззвания, и сразу же образовалась толпа желающих его прочесть. Госпожа Контривель в их числе.
– Фу, – сказала она, вернувшись. – Все та же старая история! Принцы хотят занять место короля. Добившись этого, они начнут сражаться между собой! Под всеобщим благом они понимают свое собственное.
Она опережала события: никто открыто не говорил о намерении низложить Людовика XI. Но никто и не понимал, какова цель всех этих происков. Конечно, весь Париж знал имена предводителей лиги: Карл Французский, Иоанн Бурбонский, король Рене, герцог Немурский, герцог Бретонский, граф Карл де Шароле по прозвищу Смелый, Иоанн Калабрийский, сын короля Рене. Но чего они хотят добиться?
Париж и вся Франция превращались в настоящее Чертово болото!
Наступила Пасха. Франсуа и Жозеф вернулись из Орлеана, возбужденные последними событиями, за которыми все школяры следили с большим интересом. Благодаря их приезду исчезли тревога и уныние, воцарившиеся было на улице Бюшри.
Жанна не видела сына с Рождества. Тринадцатая весна внезапно превратила его в юношу. Она была поражена. Сначала его сходством с отцом, которое стало совершенно очевидным. Ибо от Жанны он унаследовал только белую кожу и светлые волосы, тогда как узкое лицо с выступающими скулами и упрямый выпуклый лоб, несомненно, восходили к Монкорбье. Затем страстностью, сквозившей во всех его жестах и одухотворявшей красоту пылкой юности. Мятежные кудри, казалось, трепетали от каждого порыва его души. Подвижные губы вступали в разговор раньше голоса, а всегда смеющиеся глаза придавали особый оттенок его речам: в них звучали сила, ирония, нежность. Возмужание отразилось и на лице его, и на стати.
Она впервые подумала, что Монкорбье сделал ей необыкновенный подарок. Эта мысль на миг возмутила ее. Ведь Монкорбье ее изнасиловал. Пусть она сама спровоцировала его, все равно это был мерзкий поступок, но из мерзости возник живой шедевр – Франсуа де л'Эстуаль.
Правда, Франсуа Монкорбье полюбил ее. Отрицать этого она не могла и сама потом отдалась насильнику. Со страстью. И делала это не один раз.
Он был негодяем. Всегда хотел только денег. Он был не только насильником, но и вором. Она его ненавидела. Но именно он подарил ей такого сына.
Она высокомерно отвергла его. За бесконечные измены. За разбой. И из опасения заключить союз с человеком, которому постоянно угрожала тюрьма или виселица.
Любить и ненавидеть одновременно – возможно ли такое?
Она была не в состоянии больше размышлять об этом. Не в состоянии сейчас. Она увидела, как Франсуа, посадив Деодата к себе на колени, стал показывать ту же игру с тенями, которой некогда развлекал его Жак, когда он сам был ребенком.
Удивление Жанны, несомненно, разделяли все. Особенно Анжела: она едва узнала мальчика, с которым еще несколько месяцев назад носилась по дому. Прежняя непринужденность в отношениях с ним исчезла напрочь, и все ее поведение свидетельствовало о внезапной сдержанности, что не ускользнуло ни от Жака, ни от Жанны: они вполголоса, в осторожных выражениях, обменялись мнением на сей счет – Анжела явно испытывала к юноше нечто вроде влечения.
В первые же часы после приезда мальчиков стало ясно, что Франсуа больше не может спать в одной комнате с кормилицей. Было решено, что он будет ночевать у госпожи Контривель, которая после смерти мужа жила одна и имела три свободные спальни.
Угадал ли Жозеф вопросы, которые никто не смел задать? Он объявил, что также заночует в жилище госпожи Контривель.
Обретя диплом доктора, Жозеф де л'Эстуаль вовсе не утратил своего лукавства. Звание свое он получил summa cum laude[28], и наставники убеждали его занять должность профессора в университете.
– Вот, – сказал он шутливо, разворачивая подтверждающий его звание свиток, чтобы показать всем. – Я могу побеседовать с вами о Гийоме Овернском[29] и первом постулате, о сущности и существовании, о Дунсе Скоте, который утверждает, что существо есть нечто, чему существование соответствует по природе своей и которое включает все, что наличествует в категориях, но вместе с тем не знаю, есмь ли я или же существую, и это в любом случае ничего не меняет в возникшей передо мной дилемме, ибо в настоящий момент я бы охотно выпил стакан ипокраса, а если к нему добавится одна из превосходных пышек с сыром, испеченных женой моего брата, мне станет совсем хорошо!
Жак расхохотался:
– Да ты стал еще более дерзок, чем прежде!
– Возлюбленный брат, прими во внимание мои обстоятельства. Я был евреем, потому что евреем был мой отец. Теперь я христианин, потому что ты стал христианином. Меня звали Штерн, теперь я зовусь де л'Эстуаль. Весил я девяносто восемь ливров, теперь мой вес – сто тридцать. Я ем свинину, хотя прежде не выносил ее. Следовательно, личность моя весьма неустойчива. Какой Жозеф является истинным? Штерн или л'Эстуаль? Вчерашний или сегодняшний? Тот, что не выносил свинину, или тот, который готов ее есть? Поскольку я полностью сознаю свою неуверенность и мне нечего возразить наставникам, которые уверяют меня, будто Солнце вращается вокруг Земли, я честно учу все, что они говорят. Обладая – к счастью или к несчастью – хорошей памятью, я в точности запоминаю их речи и повторяю их, словно ярмарочный попугай, который твердит: "Здравствуйте, мессир, вы меня очень порадуете монеткой".
Жанна была очарована этими хитроумными рассуждениями и сквозившей в них иронией. Тем более что красота Жозефа стала еще более утонченной – настолько же, насколько красота Франсуа стала мужественной. Жозеф был похож на бабочку с жалом осы. Она засмеялась. Подала ему пышку и стакан ипокраса.
– Но ты сам, – спросила она, – во что ты веришь?
– Жена брата моего, меня обучали философии в надежде, что я воспользуюсь ею для восхваления моих превосходных наставников и тех, кто предшествовал им, но главное – для убеждения простых смертных, что все волнующие их вопросы давно разрешены блистательными умами, посланными Божественной силой с целью просветить их. Задаешь вопрос, получаешь ответ, заготовленный для таких, как ты, и радуйся, а недовольство будет признаком глупости, мятежа и, что хуже всего, святотатства. Философия – не что иное, как орудие власти университета, каковой есть орудие тирании церкви. Чтобы полностью удовлетворить желания моих добрых наставников, мне следовало бы прислуживать им и одновременно тиранить людей, которые не получили такого образования, как я.
– Зачем же ты его получил? – спросил Жак.
– Чтобы все вы ощутили гордость за то, что среди вас находится знаменитый философ по имени Жозеф де л'Эстуаль! – ответил юноша с насмешливым видом.
Он весело жевал пышку.
– Значит, так ты влияешь на Франсуа? – с тревогой спросила Жанна.
– Вовсе нет, вовсе нет! – запротестовал Жозеф. – Франсуа сам, задолго до меня, пришел к выводу, что его обучают всякой чепухе. Ведь именно он сказал мне, когда мы ехали в Париж: "Если бы знания служили общему благу и возвышению человеческой природы, всем было бы известно, что ведьм и колдуний не существует, и моей матери не грозила бы опасность сгореть на костре из-за того, что какой-то алчный мерзавец рассказывал о ней всякий вздор".
В комнате воцарилась тишина. Все, кто поддерживал Жанну во время суда, договорились ни слова не говорить об этом школярам. Маловероятно, чтобы до их коллежа в Орлеане дошли слухи о парижском процессе. Не было нужды понапрасну отягощать их душу ужасным переживанием.
И вдруг выясняется, что им все известно.
– Так вы знали? – прошептала Жанна.
– На следующий же день после суда, – сказал Франсуа, – меня вызвал ректор коллежа и сообщил, что тебя обвинили в колдовстве, а затем оправдали. Он сказал: "Мне достаточно знать вас, чтобы не сомневаться: вы не можете быть сыном колдуньи. Помолимся Господу и возблагодарим Его за милость!" Он велел мне и Жозефу молиться в течение часа, и мы молились. И еще отслужили благодарственный молебен. Ты мне ничего не говорила. Я решил, что ты поступила так сознательно.
– Это был позор! – воскликнула Жанна. – Я хотела оградить тебя от него.
– Но мы всё знали в подробностях, – заявил Жозеф. – Это укрепило нас в убеждении, что те люди, которые больше всех толкуют о дьяволе, извлекают из этого выгоду.
– И сегодня я снова повторяю, – решительно продолжил Франсуа, – если бы знание действительно служило общему благу, мы не наблюдали бы сегодня, как все эти знатные сеньоры пытаются отнять власть у короля. У них были лучшие учителя королевства, а они дерутся, как конюхи.
Жанна была поражена: до сих пор она питала высочайшее уважение к знанию. Она так гордилась, что выучилась читать и писать! Ей хотелось бы, подобно им, разговаривать на греческом и на латыни, которую она разбирала с большим трудом – и то благодаря урокам Франсуа Монкорбье. Она преклонялась перед учеными людьми. Но вот ее сын с презрением их осудил, а Жозеф – сам человек ученый и с необыкновенными способностями – объясняет, что все его познания представляют собой ненужный хлам. И доказывает это так, что с ним трудно не согласиться.
Итак, из своей учебы оба мальчика извлекли лишь одно – вывод о бессмысленности знаний. Эта их преждевременная мудрость тоже смущала ее. Возможно, достоинство образования состоит в том, что оно учит мыслить. Возможно, именно этого не хватало Дени.
Жак выглядел задумчивым.
– Жозеф, – сказал он наконец, – пришло время передать тебе твою часть наследства. Она возросла. Раньше у тебя было сто тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят ливров. Теперь ты имеешь двести восемьдесят одну тысячу.
На лице Жозефа отразилось удовлетворение.
– Итак, я передам тебе эти деньги, – продолжал Жак, – но хочу спросить, что ты намерен с ними делать. А также чем ты хочешь заняться в жизни.
– А я прошу тебя, Жак, не передавать мне мою долю, – сказал Жозеф, помолчав. – Во всем, что касается денег, ты одарен гораздо больше меня. Ты умеешь извлекать из них прибыль.
– Могу тебя научить, – предложил Жак.
– Со временем, – ответил Жозеф. – Поскольку ты послал меня изучать мотивы человеческих деяний и цели нашего существования, я успел убедиться, что деньги являются орудием власти. В данный момент у меня нет никакого желания править себе подобными, а на удовлетворение собственных нужд у меня средств более чем достаточно.
Полная противоположность Дени, с изумлением подумала Жанна.
– Единственное, на что я мог бы употребить некоторую сумму, – продолжал Жозеф, – это на покупку дома. Для всех очевидно, что нам стало тесно на улице Бюшри. Но я не сумел бы купить дом для нас всех. Поэтому я был бы счастлив принять участие в приобретении жилища, где все мы будем чувствовать себя привольно. Конечно, у меня есть склонность к одиночеству, но нет желания разлучаться с вами.
Это была здравая и сердечная речь.
– Но где? – спросил Жак.
Он вспомнил разговор с Жанной после их возвращения из Ла-Дульсада.
– Не знаю, – ответил Жозеф.
И он и Франсуа предлагали отправиться в Ла-Дульсад. Жанна и Жак горячо возражали. В Париже еще не забыли о несчастье, приключившемся с Жанной де Леви, женой сенешаля Пуату. В пути она повстречалась с людьми Иоанна Бурбонского, и те ограбили ее, оставив на дороге в одной сорочке!
Дороги опять сделались столь же опасными, как в первые годы царствования Карла VII. Но теперь разбойничали на них знатные сеньоры.
15 Битва за Париж
Как только кончились пасхальные каникулы, Жозеф проводил Франсуа в Орлеан, а сам вернулся домой. Ситуация во Франции становилась день ото дня тревожнее. Все предвещало скорую войну. У короля было около пяти тысяч человек. Он надеялся набрать еще тысячу копейщиков в Дофине, Савойе и Лионне. Перейдя к активным действиям, он направился в Берри. Никто не оказывал ему сопротивления: все предпочитали королевскую власть произволу сеньоров, которые были беднее короля и, следовательно, отличались большей алчностью. Карл Французский, брат Людовика, потерпел поражение.
Жанна опасалась, что не сможет больше получать провизию со своих ферм: каково же было ее удивление, когда Гийоме сообщил, что пришло послание от Итье вместе с двумя бочками вина с ее земель. Оказывается, королевским войскам было приказано охранять дороги, чтобы обеспечить снабжение Парижа.
К войскам этим вскоре присоединились еще пять тысяч человек, набранных в провинции, и сильная артиллерия.
Мятежники громко заявляли об упразднении налогов, но при этом сами нуждались в деньгах и были не в состоянии заплатить жалованье своим людям. Тем не менее они начали войну. Посланец Итье, пробравшийся в Париж с востока, через Мулен, сообщил Жанне, что Ла-Дульсад занят одним из полководцев короля.
Бастард Бурбонский захватил Бурж; вскоре он оказался зажатым в тиски между королевском войском и копейщиками, прибывшими из Дофине. Кроме того, герцог Сфорца обещал помочь своему другу, королю Франции, и прислать из Милана пять тысяч человек во главе со своим сыном Джан Галеаццо.
Десять тысяч человек, готовых к схватке с мятежниками, не испугали сына герцога Бургундского Карла Смелого, графа де Шароле. Это был смуглый молодой человек с дерзким взором, не ведающий сомнений и принадлежащий к породе юнцов, которые полны решимости завоевать себе империю до исхода дня. Подобно королю, он не ставил ни во что своего отца, Филиппа Доброго. Войска его устремились в Пикардию. На сей раз уже король рисковал попасть в тиски. Людовик встревожился и пустил в ход все резервы. Все лучники Иль-де-Франса были направлены в Париж.
Ибо Париж оказался под угрозой.
Если же падет Париж, падут и другие города. А с ними вместе монархия.
Шестого июня войска бургундцев перешли Сомму.
Позднее выяснилось, что три человека, которым Людовик XI доверял больше всего, – архиепископ Иерусалимский Луи д'Аркур, служивший заупокойную мессу по Карлу VII, герцог Немурский и Антуан де Ло – сговорились взорвать артиллерийские пороховые бочки, пленить короля и передать его герцогу Бурбонскому. После чего они во главе с предателем-архиепископом захватили бы власть и поделили доходы от налогов.
Но у короля уже не было времени отступить к Парижу: он начал наступление и подошел к Рьону. Иоанну Бурбонскому пришлось бежать, переодевшись в чужое платье. Тем временем Карл Смелый двигался на Париж с войском в двадцать пять тысяч человек! Деревни опустели перед нашествием проклятых бургундцев. Словно саранча из казней египетских, солдаты сожрали все мясо и весь хлеб, выпили все вино, изнасиловали девушек, сожгли дома.
Ни Жанна, ни Жак, ни Анжела, ни госпожа Контривель почти не спали все это время.
Преданный и оставленный всеми Людовик направился к Парижу, задыхаясь, питаясь порой одними крутыми яйцами. Ему пришлось бросить войско и, главное, артиллерию. Гремел сигнал к травле.
Карл Смелый перешел Уазу в Пон-Сент-Максанс. Казалось, ничто не может его остановить. Крестьяне и горожане бежали от него, надеясь найти убежище в столице.
Третьего июля проклятый Бургундец встал лагерем вместе со своей артиллерией на равнине Ленди, неподалеку от Сен-Дени. Он явно собирался обстреливать из пушек Париж.
Он подъехал к воротам Сен-Дени. Его герольды потребовали, чтобы стражники впустили бургундскую армию в столицу, где она могла бы запастись продовольствием, чтобы преследовать короля, зажатого между вражескими войсками.
Запастись продовольствием! Все понимали, что это значит. Ни за что!
Сын великого герцога Запада Карл Смелый уткнулся в запертые ворота, как обыкновенный проситель.
Только несведущие люди могли бы удивиться этому: Париж ненавидел Бургундию и Бургундца. Четвертого июля в ратуше было получено послание короля, извещавшего парижан, что он прибудет примерно через две недели. Ободрившиеся горожане собрали все пушки – бомбарды, серпантины, кулеврины – и обрушили на осаждающих град из камня и железа, а также целую тучу стрел. Грохот был слышен даже в Шатле.
Накануне Сибуле закрыл лавку. Утром то же самое сделала Сидони. Жанна приказала Гийоме продолжать работу на улице Бюшри и ни в коем случае не поднимать цены, как поступили многие деляги в надежде поживиться на всеобщей панике. Но выпекать она велела не пирожки, а хлеб – до тех пор, пока не кончится мука.
Жак прикидывал, нельзя ли бежать через ворота Сент-Антуан. Оттуда можно было бы пробраться на восток… в Германию, в Женеву… Жанна покачала головой: ни в коем случае, ей плевать на Людовика, но в грозу она свой дом не оставит.
Тревожное ожидание плохо действовало на рассудок. Некий пристав с жезлом из Шатле, Казен Шоле, промчался по улицам, крича, чтобы горожане срочно запирались в домах, ибо "бургундцы вошли в Париж!". Потом выяснилось, что он перебрал спиртного и принял свои страхи за реальность. Его успокоили силой и водворили в тюрьму. Еще кому-то почудилось, будто бургундцы вошли через ворота Сен-Жак; из этого сделали вывод, что Париж окружен.
Наступила ночь, но бургундцы так и не появились. На следующий день тоже. Тем временем парижане по-прежнему поливали огнем и стрелами войска Карла Смелого. Жозеф воодушевился и решил помочь пушкарям. Он вернулся вечером, измученный и ликующий, с ободранными в кровь руками из-за того, что весь день таскал ящики с ядрами.
– Принцы хуже разбойников, я же вам говорил!
Жанна распорядилась перенести на улицу Бюшри часть запасов муки из лавки на Главном рынке. Это была одна из редких парижских лавок, которые продолжали выпекать и продавать хлеб по обычной цене.
Одиннадцатого июля Карл Смелый понял, что парижане не откроют ворота, и направился со своим войском на запад. Выяснилось, что стражники, которые вели переговоры с бургундскими герольдами, согласились продать им бумагу и чернила, но отказали в сахаре и снадобьях для лечения раненых. Несколько торговцев, пробравшихся в город по берегу Сены, сообщили, что Бургундец захватил мост Сен-Клу. Естественно, никто понятия не имел о его намерениях. Но поскольку было известно, что король возвращается в столицу с юга, парижане заключили, что Бургундец ищет военного столкновения. Он хочет помешать королю вернуться в Париж.
Четырнадцатого июля вторым посланием король возвестил, что прибудет в столицу через два дня.
Среди парижан карту Франции имели только нотариусы и капитаны. Они попытались предугадать, как будут развиваться события. С войском в десять тысяч человек или с тем, что от них осталось, – войска Сфорцы еще не прибыли – Людовику предстояло столкновение с гораздо более многочисленной армией: сильным войском Бургундца в Лонжюмо, в восьми лье от Парижа, и войском герцога Бретонского в двенадцать тысяч человек, стоявшим в Шатодене, в тридцати пяти лье. Все опасались худшего. Дороги на Париж были закрыты.
Король тем временем занял Монлери. Ему помогали два полководца с большим опытом: Пьер де Брезе и Жан де Монтобан. По правде говоря, у него была только кавалерия, ибо пехота продвигалась очень медленно, а от всей артиллерии осталось лишь несколько орудий. Поэтому мятежники считали, что у короля хватит ума не атаковать их. Уверенные в своем превосходстве, они потеряли время. Всадники разъезжали по лагерю, лучники расхаживали туда-сюда, командиры вели переговоры. Поскольку стояла страшная жара, всем раздавали вино – в частности, пятистам английским лучникам, которые были одним из главных козырей Лиги всеобщего блага.
Солдаты и с той и с другой стороны были возбуждены. Некоторые перешли к действиям. Бургундцы пробрались в Монлери, подожгли дома и вышли в поля. Хлеба не были сжаты, и высокие колосья мешали быстрому продвижению. Врезе велел своим копейщикам слегка подать назад. Подумав, что он бежит, враг ринулся за добычей. Хитрый маневр Брезе удался: началась битва. Лучники с трудом шли по полю, и всадники опрокидывали их. Бургундец оказался зажат между копейщиками Брезе, разделенными на два отряда. Брезе перешел в наступление и нашел смерть в бою. Но разбитые наголову бургундцы бежали. Людовик XI атаковал в свой черед. Увы! Ему изменили всадники Карла Мэнского, которые, едва завидев врага, подняли копья, развернулись и умчались на юг, как последние трусы. Предательство было подлым: король лишился своего левого фланга.
И королевские и бургундские войска пустили в ход пушки, уничтожая кавалерию. Потом ринулись друг на друга и вступили в рукопашный бой. Людовику пришлось сражаться со Старшим Бастардом. Тот сумел ранить копьем лошадь короля. Людовик упал. Бургундцы подумали, что он убит, и завопили от радости. Но он был жив. Его шотландские стрелки помогли ему подняться и подсадили на другую лошадь. Он помчался воодушевлять солдат.
Битвы с предсказуемым результатом ведутся редко, ибо исход очевиден для обеих сторон. Сражение шестнадцатого июля оказалось исключением. С одной стороны, мятежные сеньоры имели численное преимущество и, следовательно, были сильнее, однако каждый из них хотел сам руководить своей армией, а общая стратегия у них отсутствовала. С другой стороны, союзники короля, проникнутые убеждением, что сеньоры имеют право на независимость, были не вполне уверены в справедливости своего дела и в шансах на победу. Отсюда их вялость и частые измены.
Боевой пыл войск исчерпал себя после полудня, но по-прежнему нельзя было сказать, кто победил и кто проиграл в этой битве. Последовавшее временное перемирие не способствовало подъему воинского духа: число убитых и раненых было ужасающим. Две тысячи мертвецов с каждой стороны, сотни искалеченных и беглецы повсюду.
Однако лигеры сочли, что Людовик XI разбит, и с наступлением вечера Карл Смелый в очередной раз оправдал свое прозвище, вознамерившись взять замок Монлери, который полагал оставленным. В своем высокомерии он отправился с эскортом всего лишь в сорок человек. Его ожидал сюрприз: король по-прежнему находился там, и, более того, не один, а с вполне боеспособным войском. Карлу Смелому едва не перерезали глотку в буквальном смысле слова – он спасся бегством с окровавленной шеей. Свою армию он нашел в подавленном состоянии: всадники затоптали собственных лучников, и у всех живот подводило от голода. Ибо продовольствия катастрофически не хватало.
Наступила ночь. Король воспользовался темнотой, чтобы отойти на восток, поскольку ему не удалось освободить дорогу на Париж. В Корбейле он сделал крюк к северу и восемнадцатого июля, в послеполуденное время, въехал в Париж.
Опоздал он всего на два дня.
Столица устроила своему королю триумфальную встречу, ибо, невзирая ни на что, ее владыкой был Людовик, а не Бургунде, о поражении которого кричали на всех углах.
Он рассказал о схватке при Монлери. Никто не заблуждался: это была битва за Париж. Затем он отправился ночевать во дворец Турнель. Солдаты расположились где смогли включая окрестные деревни: там они устроили себе пир за счет крестьян.
Впервые за много дней на улице Бюшри спали почти спокойно.
Битва, однако, не закончилась, и на то было две причины. Самая важная заключалась в том, что Лига всеобщего блага, хотя часть ее войска рассеялась, прекратить войну с королем не могла: в противном случае ей грозили внутренний раскол и потеря лица.
Вторая причина: у мятежников не осталось ни гроша, и они страдали от нехватки продовольствия. Они приходили в бешенство, видя, как обжирается и упивается Париж. Многие дороги с юга были отрезаны, но дороги из Бос и Валуа оставались открытыми, равно как и дороги из Руана, нормандских рыбных портов и бассейна Марны. Париж был одновременно складом и местом сбыта продовольствия, одежды, лечебных снадобий и других припасов, в которых так жестоко нуждались лигеры. В их лагере не было почти ничего, если не считать дров. Запастись всем необходимым они могли только в столице.
– Они вернутся и будут осаждать нас, – предсказал Жозеф.
У этого юноши действительно была светлая голова, ибо король пришел к такому же выводу: проведя несколько дней в Париже, десятого августа он отбыл созывать сторонников – в Монтобан, Руан, Эврё, Шартр.
В стране зарождалась почтовая служба: Жанна отправила письмо сыну в Орлеан с просьбой отсрочить приезд в Париж, поскольку в коллеже он будет в большей безопасности, чем на дорогах. К посланию она приложила двадцать ливров.
Тем временем начался второй этап битвы за Париж: мятежники заняли позиции вокруг столицы.
Карл Французский обосновался в замке покойной Агнессы Сорель, фаворитки своего отца, в Боте-сюр-Марн.
Франциск II Бретонский находился в поместье аббатов де Сен-Мор.
Иоанн Калабрийский, сын короля Рене, – в Шарантоне.
Карл Смелый – в Конфлане, в замке герцогов Бургундских, где же еще.
Парижан вновь охватила тревога.
Двадцать второго августа принцы отправили шестерых герольдов с предложением о переговорах. Король все еще собирал войско. В его отсутствие городской совет и нотабли согласились послать к принцам делегацию во главе с епископом Шартье – тем самым, что некогда встречал Людовика в соборе Парижской Богоматери. Местом переговоров избрали Боте. К ним приступили после сражений, хотя лигерам с этого следовало бы начать и не разорять страну, которой они намеревались управлять.
Делегаты убедились, что принцы признали своим главой красавчика Карла Французского, которого желали посадить на трон вместо Людовика. Что же они хотели вытребовать? Всего-навсего контроль над финансами страны, все доходные должности и командование войском. Кроме того, они намеревались установить опеку над "личностью и правительством короля". Все это было высказано ультимативным тоном. Словом, они вели себя так, словно одержали победу.
Парижане, вышедшие из города, уверяли, будто им удалось подсчитать численность осаждающих. Тридцать тысяч – говорили одни, сто тысяч – заявляли другие. Это были фантастические цифры; по правде говоря, никто так и не узнал в точности, сколько солдат привели с собой принцы. Ясно было одно: если произойдет новая битва, она будет кровавой.
Делегация вернулась и на следующий день сообщила о требованиях сеньоров. В течение часа о них узнал весь Париж: принцы хотели получить мельницу, мельника и его дочку.
– Нас осаждают воры! – воскликнула госпожа Контривель.
Она и Жозеф, ставший ее квартирантом, во всем были заодно. И с увлечением играли в шахматы. Если бы не почтенный возраст госпожи Контривель, можно было бы предположить, что они предаются и другим играм. На самом деле у вдовы суконщика проснулся материнский инстинкт при виде этого юноши, столь же прекрасного, сколь и обходительного.
Жанна разделяла их точку зрения: она давно считала принцев грабителями, хвастунами и тупоголовыми баранами. Что до Анжелы, которая выросла в годы относительного мира, то ей все происходящее внушало глубокое отвращение, и она фактически не выходила из дома, опасаясь бродивших по улицам солдат.
Она умрет затворницей или монахиней, говорила себе Жанна.
Отношение парижан к осадившим их принцам оставалось все таким же враждебным: мало того что пришлось содержать войско, защищавшее столицу, так эти чванливые сеньоры еще и мешали спокойно работать, разоряли деревни, вытаптывали поля и уничтожали виноградники. Вскоре их стали называть белой чумой.
Однако некоторые нотабли заняли пораженческую позицию, в частности епископ Шартье, который считал партию проигранной: эти люди хотели открыть ворота осаждающим, если те пообещают не грабить. Хорошенькое обещание! Пустите-ка волка в овчарню! Кому жаловаться, если овец сожрут? Прево торговцев Анри де Ливр ловко пресек эти пагубные поползновения: он пустил по городу слух, что делегаты хотят отдать город принцам. Парижане пришли в возбуждение. Делегаты – изменники!
Под давлением улицы те почувствовали, как у них горит задница: они вновь отправились в Боте и заявили, что в отсутствие короля никакого решения принять нельзя. Один из сеньоров, Жан де Дюнуа, настолько обозлился, что стал угрожать им тысячью смертей и разграблением Парижа. Делегаты предпочли гипотетическую и отдаленную гибель той судьбе, которая неминуемо ожидала их по возвращении в столицу, если они согласятся на капитуляцию, – смерти на дыбе. Из-за своей трусости они нажили сразу двух врагов: мятежных принцев и народ Парижа.
И тут появился король с новым войском. Это случилось в воскресенье. Войска содержались в образцовом порядке: для спасения души к ним приставили монахов, для ублажения плоти – блудниц. В город хлынули всадники, лучники, арбалетчики, пушкари. Это воодушевило народ. В конечном счете, короля поддерживали не столько из любви к монархии, сколько потому, что он защищал Париж от высокородных бандитов.
В понедельник осаждающие начали маневрировать перед городскими стенами.
Фарс! – заключили парижане.
Королевский главнокомандующий Шарль де Мелен, бывший фаворит монарха, обнаружил склонность к шуткам: он послал в лагерь принцев всадников. Те захватили нескольких лошадей и вернулись в город. На следующий день они повторили свою вылазку.
Бургундские пушки угрожали городу, однако на улицах уже устраивали процессии. Повсюду возникали импровизированные пантомимы: в них высмеивались мятежные принцы. На Главном рынке Карла Смелого изображал медведь в камзоле, герцога Франциска II – обезьяна в желтых штанах Карла Французского – собака в короне. Это был единственный пес, которого можно было увидеть в городе: специальный ордонанс запретил выпускать на улицы этих животных.
Потом на мусорной тачке вывезли пьяницу – того самого Казена Шоле, который кричал, что бургундцы вошли в Париж. Его осыпали ударами на потеху черни.
– Когда такого больше не будет, – воскликнула Жанна, – не будет и этого города!
Приближалась осень. В обстановке вялотекущей войны невозможно было ни хлеб убрать, ни виноград собрать.
В очередное раз бездействие сыграло дурную шутку с войсками. Бургундские всадники, отправившись на разведку, пришли в ужас, увидев на горизонте, к востоку от ворот Сент-Антуан, целую армию с копьями. Королевские копейщики! Готовятся атаковать! Разведчики вернулись в лагерь и подняли тревогу. Карл Смелый решил, что наконец пришел его час, и стал готовиться к битве. Приблизившись к вражеской армии, он увидел, что та стоит на месте. Это оказалось поле, заросшее высоким чертополохом, который и был принят за копья.
Людовик не мешал осаждающим прохлаждаться. Страдая от скудного питания и пропивая последние деньги, они стали грызться между собой.
Но грызли они и терпение парижан и окрестных жителей. Уже не было сил терпеть, что солдатня топчет поля, грабит деревни и терроризирует женщин. Парижане – особенно те, которые имели землю, – начинали злиться на короля, допустившего такое бесчинство.
В определенном смысле Людовик действовал верно: чем больше проходило времени, тем сильнее падал дух его врагов. Штурмовать Париж было нелегко. Два рва с водой и два сухих рва окружали крепостные стены Филиппа Августа, что исключало возможность применить осадные орудия и артиллерию : каждый ров был шириной в сто футов, поэтому ядра, выпущенные бомбардами и кулевринами, не долетали до стен. Атаковать ворота? Так к ним еще надо подобраться под ураганным огнем арбалетчиков.
Одной из важных причин осторожного поведения лигеров был здравый смысл: если решиться на штурм, Париж, возможно, будет взят, но ценой огромных потерь и последующей резни. Главное же – это вызовет лютую ненависть парижан. Это все равно что поймать живым бешеного волка.
Людовик, понимая это, начал тревожить сеньоров из Лиги всеобщего блага посредством своей артиллерии. Ядра, постоянно залетавшие с тыла, в конечном счете убедили их, что подобная ситуация не может длиться вечно. В Конфлане, где остановился Карл Смелый, одно ядро угодило в комнату во время ужина. Бургундец уцелел, но его трубач был убит.
Третьего сентября осаждающие потребовали переговоров. Королевская тактика вынудила их пойти на уступки. И очень вовремя.
Итак, начались переговоры. Иными словами, говорильня. Эти господа желали получить целые провинции, города и много денег в придачу.
Юный Карл Французский, который пролил столько слез над убитыми и ранеными, захотел Нормандию, Гиень и Гасконь! Треть королевства! Досталась ему только Нормандия, да и того он не заслуживал.
Людовик с приветливым выражением лица и любезной улыбкой торговался терпеливо и хитроумно, как барышник. Например, он обещал Карлу Смелому руку своей дочери: ей было тогда четыре года. Только ясновидец мог бы сказать, состоится или нет эта свадьба. Король старался столкнуть сеньоров лбами и предлагал баснословные суммы, которые явно не собирался платить. Так, он посулил восемьдесят тысяч экю Иоанну Калабрийскому, готовившему экспедицию в Неаполь: до сих пор сын короля Рене не держал в руках больше пятнадцати тысяч. В Лиге всеобщего блага возникли трещины. Принцы оказались торгашами: все они жаждали только денег.
В конце октября 1464 года в Конфлане все-таки было достигнуто соглашение. Принцы разъехались по домам, возненавидев друг друга и вызвав ненависть к себе у большей части собственных войск.
Две падающие звезды ознаменовали начало и конец этих кровавых и пустых комедий. Первая упала внутри крепостных стен, и люди подумали, что это бургундцы выпустили огненное ядро с намерением поджечь город, некоторым почудилось даже, что они достигли цели. Вторая упала в воскресенье, последовавшее за окончанием битвы за Париж.
Жанна была в ярости: некогда солдатня чуть не прервала нить ее жизни. Теперь же она прониклась отвращением к сеньорам, будь то герцоги, графы или бароны. И даже решила отказаться от титула, которым предыдущий монарх наградил ее мужа. Тот с большим трудом разубедил ее и, как всегда, добился своего добротой.
16 Ловушки и козни
Солдатня, как называла армию Жанна, не торопилась покидать город. Лучники и их командиры, никогда не видавшие Парижа, освоились тут и не вспоминали о родных краях. Войско Джан Галеаццо Сфорцы, наконец-то добравшееся до французской столицы, судя по всему, также намеревалось продлить свое пребывание в Париже. Эти люди парижанам не слишком досаждали: они с улыбкой расхаживали по улицам в своих костюмах с широкими рукавами в красно-желтую полоску и больших шляпах с плюмажами, отчего сильно напоминали комедиантов, которым предстояло участвовать в пышном спектакле.
Жанна сгорала от нетерпения: до наступления зимы ей хотелось самой посмотреть, какой ущерб нанесли вояки обоих лагерей ее замку и фермам. Однако дороги были по-прежнему ненадежны, поэтому Жак и Жозеф без труда уговорили ее отложить путешествие.
Кроме того, король остро нуждался в банкирах для новых займов, ведь ему предстояло выплатить баснословные суммы обещанные принцам: тридцать шесть тысяч ливров одному только Иоанну Бурбонскому. К Жаку обратились за помощью – уклониться было никак нельзя. К счастью, почта вновь стала функционировать, особенно на востоке, и, хотя перебои все-таки случались, Жаку не пришлось самому отправляться в Майнц, Милан или Женеву.
Однажды утром Жанна и Анжела сидели в лавке возле Гийоме и пересыпали в банки пряности из мешков, которые только что были доставлены: имбирь, корицу, гвоздику. Гийоме, получив от своей матушки первых фазанов, твердо решил приготовить пироги с фазаньим мясом, приправленным гвоздикой. А корицу он добавлял в пышки с яблоками, чтобы сделать их более ароматными.
Перед окном возник чей-то силуэт. Мужчина говорил с сильным иностранным акцентом, и Гийоме ничего не понимал. Жанна и Анжела повернули голову. Очаровательная физиономия, роскошная одежда.
– Gentile signore, che sono queste confezioni che vecio la?[30] – спросил он, показав пальцем сначала на поднос, где лежали пироги с фазаном, а затем на поднос с яблочными пышками.
Жанна вспомнила то немногое, что знала из латыни. Вопрос она поняла, но не знала, каким словом назвать фазана; тогда она, указав подбородком на пироги, взмахнула руками, подражая взлетающей птице. Посетитель рассмеялся так заразительно, что его примеру последовали Гийоме с Анжелой. С яблочными пышками тоже возникла проблема. И Жанна объяснила на ломаном итальянском:
– Ева… Адамо…
Потом сделала вид, будто надкусывает фрукт.
– Mela! – закричал итальянец.
Он заказал пирог с фазаном. Проглотил кусочек и замычал от удовольствия. Гийоме держался за бока от смеха.
Жанна, повернувшись, застала Анжелу врасплох и успела заметить выражение ее лица.
– Vino? – спросил итальянец.
Жанна кивнула и налила ему стакан. Но итальянец, видимо, хотел чего-то другого. Он показал на стакан, затем ткнул пальцем в сторону Жанны и Анжелы. Взгляд у него стал бархатным, и Жанна поняла, что смотрит он на Анжелу. Она догадалась: он хочет, чтобы они выпили вместе с ним. Улыбнувшись, она наполнила еще два стакана. Он указал на Гийоме, и она налила третий стакан. Он сделал жест, будто чокается. Этот покупатель явно был человеком компанейским. И все чокнулись с ним. Затем итальянец назвал свое имя: Феррандо. И спросил их имена; ему их назвали.
Жанна украдкой посмотрела на Анжелу: взгляд девушки стал пугающе глубоким.
– Angela! – закричал итальянец. – Quel nome piu felice! Sembra in fatto un'angelo ceso dal cielo! II mio cognome ё Sassoferrato, Ferrando Sassoferrato. In fatto, Ferrando Sassoferrato della Rocca. E'vostro?[31]
Жанна поняла, о чем он спрашивает, и ответила:
– Де л'Эстуаль.
Сьер Сассоферрато явно имел какие-то познания во французском, ибо догадался о значении фамилии:
– Stella! Son'due stelle! Non sara possibile! Angela della Stella! Angela della Stella![32]
И он развел руками в восторге.
– Миланец? – спросила Жанна.
– No, non sono milanese. Son'nato a Roma, pero mi son' ritrovato con l'armata del duca. Glielo spieghero se vuole[33].
Он попросил пышку с яблоком и еще один стакан вина. Пышка тоже привела его в восторг. Сьер Сассоферрато обладал пылким темпераментом.
Казалось, он зажег светильник в душе Анжелы.
Жанна поднялась наверх с улыбкой и одновременно с тревогой.
Чуть позже Анжела присоединилась к ней. Они переглянулись и тихонько засмеялись.
– Он красив, – сказала Жанна. – И изящен.
Анжела подняла глаза, но ничего не ответила.
– Откажешься наконец от своего вдовства? – спросила Жанна.
– В самом деле, это было как вдовство, – прошептала Анжела.
Спустившись, чтобы проверить с Гийоме счета, Жанна узнала, что сьер Сассоферрато делла Рокка заплатил золотой монетой и отказался взять сдачу. Гийоме не знал, что это за монета, Жанна тоже. Завтра все станет ясно.
– Он, конечно, вернется, – сказала Жанна.
– Он мне голову заморочил, – со смехом признался Гийоме.
– Не только вам, – пробормотала Жанна.
На ужин пришли Жозеф и госпожа Контривель. После лукового супа Жак налил всем вина. С улицы послышалась музыка.
Какой-то человек играл на лютне. Потом он запел мягким волнующим голосом:
Angela, Stella matutina, Mi s'alz'il cuore Quando dico il tuo поте[34].Жак поднял глаза. Он смотрел на сестру. Певец продолжал:
Angela, Stella del tramonto, Ascolti il mio dolore Quando canto il tuo поте.. .[35]Голос едва не сорвался, но, поднявшись на опасную высоту, опустился с легкостью слетающей вниз ласточки.
– Да ведь это песня для тебя, – сказал изумленный Жак.
Он подошел к окну и открыл его, но увидел лишь тулью высокой шляпы. Жанна смеялась. Жозеф и госпожа Контривель вытаращили глаза от удивления.
– Думаю, что на самом деле для меня, – отозвалась Анжела.
– Это сьер Феррандо Сассоферрато делла Рокка, – добавила Жанна. – Офицер, влюбившийся в Анжелу.
Жозеф вытянул шею.
– Я не понимаю итальянского, – сказала Анжела. – Что он поет?
Жак, который знал итальянский, английский, немецкий и множество других языков, перевел. Певец продолжал выводить свои томные рулады.
– Но кто же этот ухажер? – спросил ошеломленный Жак.
– Я не знала, что он умеет так петь, – сказала Анжела.
– Пойду посмотрю, – произнес Жак, вставая из-за стола.
– И что потом?
– Попрошу его подняться к нам. Жозеф качал головой.
– Анжела… – начал он, но не закончил свою фразу или вопрос.
Беседа между Жаком и итальянцем затянулась. Потом Жак вновь вошел в комнату в сопровождении улыбающегося гостя, который в одной руке держал лютню, а в другой шляпу.
Все взгляды обратились на воздыхателя Анжелы. Он был одет с продуманной элегантностью. Вел себя чрезвычайно почтительно. От волнения его смуглое лицо раскраснелось. Черты очень тонкие и ресницы прямо девичьи. И куртуазное изящество во всем облике.
Он поцеловал руку Жанне, затем повернулся к Анжеле и преклонил колено, прежде чем взять ее руку. Жак пригласил его сесть за стол. Повисло смущенное молчание: никто, кроме Жака, не говорил по-итальянски. Жанна, поставив еще один прибор, принесла салат из тушеной капусты и блюдо с фазаном. Между Жаком и Феррандо завязался разговор, но итальянец почти не отрывал взгляда от Анжелы. Все остальные, не понимая ни слова, делали вид, будто продолжают беседу между собой.
– А потом? – спросил Жозеф.
– Прежде чем настанет потом, – сказала Анжела, – должно быть начало.
– Этот юноша прекрасен телом и душой, – заявила госпожа Контривель. – Он делает комплименты под музыку, и один вид его создает праздник.
– Он влюбился в Анжелу, – сказал Жак. – И просит разрешения ухаживать за ней. Я разрешил. Завтра вечером он придет к нам на ужин. Это один из приближенных Джан Галеаццо Сфорцы. Он надеется когда-нибудь увезти Анжелу в Милан, где у него, как он говорит, большой дом.
Когда сьер Феррандо Сассоферрато ушел, предварительно рассыпавшись в благодарностях хозяевам дома и надолго припав к руке Анжелы, каждый погрузился в раздумья.
Жанна – поскольку вновь вспомнила свои первые любовные увлечения и особенно встречу с Жаком, тогда еще Исааком.
Жак – поскольку измерял бег времени и тревожился, желая знать, какое будущее готовит его любимой сестре этот галантный офицер-иностранец.
Госпожа Контривель – поскольку размышляла о давно прошедшей молодости и своих воздыхателях, среди которых, конечно, не было столь изящного кавалера.
Жозеф – поскольку вдруг осознал, что возлюбленная и загадочная сестра, с которой он составлял целомудренно-мистическую пару, скоро уедет очень далеко.
Анжела же думала об этом смуглом лице, ибо одного взгляда на него хватило, чтобы разорвались покровы, под которыми она, казалось, нашла убежище навсегда. Что за сила была заключена в этих чертах?
И все – о том, что их небольшой замкнутый кружок, образовавшийся после обращения Штернов, грозил рассыпаться.
– Что ж, – сказал Жозеф, – этот дом действительно стал для нас слишком мал.
Затем он проводил госпожу Контривель. Было уже довольно поздно, и задерживаться не следовало, так как по улицам шатались захмелевшие праздные солдаты.
На следующее утро Жак отправился переговорить со старшим офицером, которому подчинялся Феррандо Сассоферрато; найти его оказалось нелегко, и поиски привели Жака во дворец Турнель, где король каждое утро занимался текущими делами. Наконец перед ним оказался загорелый сорокалетний мужчина с пышными усами, отнюдь не склонный петь серенады. Они пошли в ближайшую таверну, и офицер внимательно выслушал вопросы Жака.
– Феррандо Сассоферрато – один из трех командиров копейщиков, посланных графом Джан Галеаццо на помощь французскому королю, – сказал итальянец. – Вы спрашиваете о его родне: он один из четверых детей, и мать и отец из банкирских семей, одна из них римская – Бонвизи, другая миланская – Сассоферрато. Догадываюсь, что вас заботит: хорошая ли партия для вашей сестры сьер Сассоферрато? Один бог знает, насколько сильно влюблен мужчина! Я же могу сказать вам только то, что он офицер, ему двадцать лет, он принадлежит к двум почтенным семействам и, сколько мне известно, не был женат ни в Риме, ни в Милане. Родственники вроде бы нашли ему подходящую невесту, но нареченная умерла от болотной лихорадки. Военная служба – не его призвание. С графом он отправился, чтобы отвлечься от любовной тоски.
Этого было достаточно, чтобы успокоить Жака. И одновременно озадачить. Брак Анжелы с юношей, состоявшим в родстве с двумя банкирскими семействами, подходил ему как нельзя лучше. Но где же в таком случае играть свадьбу и как ее устроить? Что скажут Бонвизи и Сассоферрато, какие условия выдвинут? В конце концов, это были семейства, подобные всем прочим: разумеется, они отнесутся настороженно к внезапной страсти, настигшей сына в чужеземном городе.
Жак изучил золотую монету, которой Феррандо расплатился в лавке и которую Жанна не опознала. Это был флорин: он стоил семь с половиной ливров или сто пятьдесят солей. Юноша, следовательно, был богат.
Проходя мимо книжной лавки, Жак остановился. Зная, что Жанна любит стихи, он купил ей совсем новую книжку, которую хозяин превозносил до небес, уверяя, что живет в основном на доходы от ее продажи.
Это было "Лэ"[36] Франсуа Вийона.
Жак ничего не знал о прошлых отношениях Жанны с поэтом. Некоторые тайны плохо переносят свет: они проявляют себя неожиданным и порой весьма неприятным образом. Посему Жанна умолчала о том, кто настоящий отец ее сына.
Самые большие изменения в жизни часто совершаются безмолвно.
Дом на улице Бюшри утратил облик крепости, в которую он превратился для Жанны с тех пор, как король Карл VII подарил ей его: слишком большой для молодой кондитерши, он стал чересчур мал для семьи де л'Эстуаль. Жозеф окончательно переселился к госпоже Контривель, на улицу Монтань-Сент-Женевьев, и Франсуа, когда приедет на Рождество, должен будет сделать то же самое. Бесконечно так продолжаться не могло. На каждом из трех верхних этажей были две жилые комнаты и несколько вспомогательных помещений, в том числе кухня и уголок для умывания, а также для отправления естественных потребностей. Второй этаж занимали Жанна с Жаком, третий – кормилица с маленьким Деодатом, четвертый – Анжела. На первом была лавка, припасы хранились в подполе.
Правила приличия не позволяли, чтобы Франсуа по-прежнему спал в одной комнате с кормилицей, а Жозеф – со своей сестрой; такая теснота допускалась только в деревнях или в совсем бедных домах, и все знали, какие бывали последствия. Для семейства де л'Эстуаль такое было немыслимо.
Появление юного Феррандо еще больше осложнило ситуацию. С одной стороны, не вполне благопристойно размещать под одной крышей молодых людей, которые еще даже не обручились, но, с другой, будь дом побольше, стоило бы все же поселить жениха в какую-нибудь достаточно удаленную комнату: это позволило бы получше узнать его.
Ибо Феррандо уже объявил, что не вернется в Милан вместе с войсками Джан Галеаццо Сфорцы.
Сверх того, вокруг клана де л'Эстуалей – ибо это был самый настоящий клан – завывали неблагоприятные ветры. После суда по обвинению в колдовстве распря короля и принцев окончательно убедила Жанну, что в Париже стало душно. Как любая крепость, столица легко могла преобразиться в тюрьму. Во время битвы за Париж тревога сочилась из всех щелей, Жанна до сих пор с трепетом вспоминала об этом.
И вновь со всей очевидностью встал вопрос: куда ехать? На юг, конечно, но куда именно? Жак в свое время ответил: в Лион или в Марсель. Появление Феррандо в очередной раз спутало карты.
Вечером следующего дня итальянец пришел без лютни, более серьезный, чем накануне. Он попросил у Жака разрешения вручить Анжеле подарок. Когда Жак согласился, он вынул из кармана шелковый кошель и протянул девушке.
Там лежало кольцо с рубином.
Анжела подняла глаза и улыбнулась.
– Е 'па gocce del mio sangue, – сказал Феррандо.
Капля его крови, перевел Жак.
Отныне они были обручены.
Жак поднялся со своего места и поднял бокал за здоровье будущих супругов. Все последовали его примеру. Никто не мог выговорить ни слова. Жак разрешил обрученным поцеловаться.
Никто и представить себе не мог, что Анжела когда-либо поцелует мужчину. Казалось, ее имя подходит ей больше, чем следовало бы. Но она ответила на поцелуй Феррандо так, что привела в смущение присутствующих. И сжала его в объятиях столь страстно, что все изумились.
Жак и Жанна между собой решили, что надо дать возможность жениху с невестой познакомиться поближе, и Жак предложил Феррандо прогуляться вместе с Анжелой по Парижу.
У семейства Сассоферрато был в Милане дом. "Большой дом", как уточнил Феррандо. Весной именно там состоится свадьба. Семейство де л'Эстуаль получило приглашение в Милан. Феррандо вернется домой на несколько недель раньше, чтобы предупредить родителей и подготовить празднество, а затем вновь приедет за невестой в Париж.
Но прежде нужно было исправить положение с жильем. Инициативу проявил Феррандо: он снял на улице Бьевр старинный особняк, который принадлежал некоему торговцу из Санса. В четырехэтажном особняке Дюмонслен было двенадцать комнат. Жак взял на себя обустройство и меблировку. А в доме Жанны на улице Бюшри разместился Гийоме с молодой супругой.
Как говорили, в этом доме жил поэт Данте Алигьери. Феррандо продекламировал отрывок из "Божественной комедии":
Gia si godea solo del suo verbo Quelle specchio beato, et io gustava Lo mio, temprando col dolce I'acerbo; E quella donna ch'a Dio mi menava Disse: «Muta pensier…» [37]Жак улыбался, остальные просто слушали. Феррандо учил французский язык, Анжела – итальянский, и оба изучали друг друга.
Феррандо нанял одного слугу, Жак – второго. Комната, где все собирались за столом, была украшена таким большим ковром, каких Жанна никогда не видела: его привезли из Константинополя.
Наступил тридцатый в жизни Жанны Рождественский пост. Она посмотрелась в первое зеркало, которое появилось у нее после того, что подарил ей Жак в Аржантане. И увидела в нем совсем другую женщину, не похожую на ту, что пятнадцать лет назад впервые узнала, как она выглядит. Еле заметные гусиные лапки вокруг глаз. Чуть припухлая кожа в углах губ.
Ее весна миновала.
Клан де л'Эстуалей, собравшийся наконец в одних стенах и получивший в дар миланца, отпраздновал Рождество и новый 1465 год с большой помпой.
Впервые в жизни Жанна присутствовала на маленьком домашнем концерте: Феррандо пригласил двух музыкантов; сам он играл на лютне, двое других – на флейте и скрипке. Они пели, иногда поочередно, иногда хором. Жанна открыла, что услаждение глаз и слуха делает существование слаще. И вновь подумала о поэзии – впервые с тех пор, как изгнала из своей жизни поэта.
Сообразно приличиям, Анжеле отвели спальню в одном крыле дома, Феррандо – в другом. Это им ничуть не помешало, и однажды утром Анжела доверительно сказала Жанне:
– Я не знала, что у мужчин может быть такое красивое тело.
Жанна рассмеялась и почувствовала облегчение. Она боялась, что в свои двадцать три года Анжела будет холодна как лед в супружеской постели. Теперь она стала опасаться, что беременность может наступить задолго до свадьбы.
Большой Ковер расцветал золотом, лазурью и пурпуром.
Весной Жанна и Жак съездили посмотреть на свои фермы и суконную мануфактуру в Лионе. Затем все, включая госпожу Контривель, отправились в Милан.
Месяц празднеств, музыки, танцев – о подобном Жанна и мечтать не могла. Она танцевала! Под звуки скрипок!
Феррандо заказал придворному художнику портрет Анжелы.
Жанна заказала портрет Жака. А. Жак – Жанны.
Потом пришлось возвращаться и вновь столкнуться с так и не решенным вопросом: где же будет их дом? В Лионе или в Марселе?
Тем временем коллеги Жака убедили его поехать в Каир, в Египет, и закупить там восточные диковинки, от которых Европа начинала сходить с ума: ковры, перья экзотических птиц и сами эти птицы, обезьяны, ювелирные изделия, статуэтки из слоновой кости, жемчуг, кораллы и бог знает что еще…
Он вернулся на корабле, нагруженном необычным роскошным товаром, который у него готовы были расхватать прямо в марсельском порту. Отбившись с большим трудом, он обменял эти товары на сукно, заработав в восемь раз больше, чем заплатил.
В сентябре он вновь ушел в плавание. И очень долго не возвращался.
Собственно, он так и не вернулся. Через два месяца венецианские торговцы сообщили Феррандо, что его корабль был захвачен алжирскими корсарами.
– Лучшей новостью, на которую вы можете надеяться будет требование о выкупе, – сказали они.
Жанна стала ждать. Требование так и не поступило. Надежда трепетала в ее груди, как орифламма на поле битвы. Дождь, обстрелы и время истрепали ее. Остался лишь лоскут – слишком маленький, чтобы величественно развеваться на ветру.
Прошло несколько месяцев. Потом еще несколько. Весной 1466 года расцвели зеленые изгороди и луга. Никаких вестей.
Итак, все на свете – лишь ловушки и козни.
Жак давно стал неизменной звездой в жизни Жанны. Остальное – не больше, чем кометы. Небо было теперь черным шатром, грозившим рухнуть на опустевшую землю.
Часть вторая Голоса ночи
17 Черная смерть
Известие о захвате корабля застало Жанну в особняке Дюмонслен. В тот день в камине пылал большой огонь, но ее била дрожь. Шли месяцы, ей все тяжелее было оставаться там, где они когда-то жили с Жаком. Все стало невыносимым. Этот особняк. Улица Бюшри. Ла-Дульсад. Вечная зима сковала мир. Она не знала, куда уехать. Если бы не Франсуа и Деодат, она бы все бросила. Но куда же отправиться?
Впрочем, супружеская верность, напротив, требовала свято оберегать те места, где она делила счастье с Жаком. Стало быть, ей оставалось только плакать.
Конечно, Франсуа, Анжела, Жозеф, Феррандо и кормилица старались отвлекать ее от печальных мыслей. Госпожа Контривель тоже. Они сторицей воздали ей за доброту, с которой она относилась к ним в счастливые дни.
– Не знаю, что хуже, – вздыхала госпожа Контривель, – горевать по счастливым дням или вовсе не иметь их никогда.
Успешнее всех действовал Феррандо. Его красота и изящный облик были не только блестящим оперением – за ними скрывалась чуткая душа. Жак оставил незаконченные дела, в которых Жанна ничего не понимала. Сын миланского банкира призвал брата Ильдеберто в мартовские холода, чтобы тот распутал все узлы к выгоде Жанны и семьи. Ильдеберто Сассоферрато, сам банкир, мастерски справился с затруднениями, расплатившись по просроченным обязательствам, погасив займы, взыскав долги. Феррандо, тоже сведущий в этом ремесле, помог брату привести в порядок финансовые дела Жанны, которую пока еще не называли вдовой де л'Эстуаль. А также дела Жозефа, доверившего свою часть наследства брату. Ильдеберто вернулся в Милан, довольный собой.
Жак исчез, но никаких доказательств того, что он погиб, не было. Жанна жила без мужа, но вдовой не считалась. Пока факт смерти не установлен и не подтвержден нотариусом, она не могла унаследовать состояние супруга. Ситуация осложнялась тем, что туда были включены и деньги Жозефа. Финансистом семьи де л'Эстуаль стал теперь Феррандо. Этот внешне легкомысленный певец и музыкант взял в свои руки даже управление суконной мануфактурой в Лионе, которая едва не пришла в упадок.
Жанна радовалась, что сохранила свои лавки и фермы, устояв перед соблазном их продать. Они обеспечивали ей постоянный доход. Нет, она не нуждалась в деньгах, но не хотела, чтобы Франсуа и Деодат оказались обездоленными в будущем.
В будущем! Много раз она грезила о смерти, черной тени, которая заберет ее из этого мира. Но никогда не посмела бы сделать Деодата круглым сиротой, чтобы утолить свое горе. Он часто спрашивал, когда вернется отец; Жанна и кормилица отвечали, что нынешнее путешествие просто оказалось более долгим, чем прежние. Гораздо более долгим. Ни одна из женщин не могла решиться произнести слово "погиб".
Итак, Жанна прозябала в особняке Дюмонслен. Феррандо делил время между Парижем и миланским герцогством. Анжела была беременна. Он хотел, чтобы она рожала в Милане. Когда Деодат и кормилица уходили спать, Жанна часто оставалась в обществе Жозефа, который научил ее играть в шахматы, и госпожи Контривель. Едва умолкал голос Деодата, в доме воцарялась невыносимая пустота.
Госпожа Контривель ухитрилась выбрать именно этот неудачный момент, чтобы умереть. Она прожила семьдесят шесть лет, но радостей имела немного. Исчезновение Жака потрясло ее так, словно она потеряла сына, и муку Жанны она ощущала как свою собственную. Выбираешь не родителей, а друзей – именно они наполняют существование смыслом. Как часто братья или дети значат меньше, чем те люди, с которыми действительно делишь и радости и горе!
Вдову суконщика похоронили рядом с мужем. Ее сын не пришел даже в церковь. Наверное, он был в странствии. Все мужчины всегда пребывали в странствии.
В особняке Дюмонслен Жанна не находила себе места.
И решила ехать в Анжер.
Это была земля короля без королевства, Рене Анжуйского. Никто не мог сравниться с этим человеком по числу поражений. Некогда он был королем Неаполя – и перестал им быть. Королем Иерусалимским – чистая фикция! Неаполя и Сицилии – войска Альфонса V Великодушного отобрали их у него! Имея титул герцога, он попал в плен, когда попытался забрать свое достояние, Лотарингию. Карл VII мог бы освободить его, но ничего не сделал. Всем было известно, что король Рене – так его называли – не слишком доверяется родственным связям. Его брат, граф Мэнский, был честолюбцем и соглашателем – одно явно противоречило другому. Его сын Иоанн Калабрийский, авантюрист в поисках короны, ослеплялся любой, пусть даже неправдоподобной, надеждой. Рене сохранивший куртуазные манеры, всегда отправлял посольство с поздравлениями новоизбранным папам, однако больше не хотел ни воевать, ни тем более интриговать ради золотого венца. Он позволил Альфонсу Великодушному править Неаполем и Сицилией, принадлежавшим ему по праву наследства. Не из-за вялости характера: слишком сильна была в нем философская жилка. Царствовать означало проливать кровь, и одно кровопролитие всегда влекло за собой другое. Любой король – это волк. Рене хотел остаться человеком.
В Анжере было достаточно хорошей пищи, хорошего вина и хорошеньких девушек, чтобы утешить его за все потери. Дородное телосложение свидетельствовало, что этот король без короны весьма ценит первые две радости, а масляный взгляд – что не чужд он и третьей. Он читал Вергилия и Сенеку, слушал музыкантов и привечал поэтов. У него был свой двор, где все интриги имели лишь одну цель – добиться нового приглашения. За приятный стишок или изящный мадригал там можно было получить вознаграждение, но только не доходную должность.
Жанна выслушала множество мнений о Рене и Анжере. И пришла к заключению, что этот город может стать утешением для разбитого сердца. Само имя его ласкало слух, а местонахождение в Анжу сулило надежду на радость и празднества.
Она, обычно столь решительная, тянула с отъездом несколько дней. Покинуть места, где расцвело и потом внезапно пресеклось ее счастье, означало в каком-то смысле проститься с собой.
Непредвиденные события вынудили ее поторопиться с решением.
В первых числах августа 1466 года по улице Бюшри утром промчался человек, охваченный паническим ужасом. Он кричал во все горло:
– Чума! Чума вернулась!
Услышав это, жители не задержались у окон. Они – Гийоме в числе прочих – бросились за ним, чтобы узнать, говорит он правду или повредился рассудком.
– Двое больных в Нельской башне… я только что оттуда! – задыхаясь, лепетал он. – Трое больных и один умерший в Шатле! Надо бежать! Я спешу к жене и детям!
Его отпустили, хотя при других обстоятельствах распространение столь опасных слухов стоило бы ему дорого – взбучки по меньшей мере. Уже через час появились новые известия о больных, подтвержденные городскими стражниками. Гийоме закрыл ставни в лавке и побежал к Жанне, на улицу Бьевр.
– Хозяйка! – крикнул он, едва переводя дух. – Говорят, в городе чума. Я закрыл лавку.
Кормилица вскрикнула, а Жанна смертельно побледнела.
– Ты хорошо сделал, – сказала она. – Пусть и Сидони закрывает свою. Что касается Сибуле…
– Он наверняка знает. На рынке уже есть один умерший.
Тут как раз и появился Сибуле, который хотел предупредить Жанну, что он тоже закрыл лавку. Ибо оба они опасались, что любой клиент может заразить стаканы, полы, воздух и бог весть что еще!
Чума! Черная смерть! Все хорошо знали ее симптомы: сильнейший жар, гнойные бубоны в паху или под мышками, жгучая Жажда, кашель, затрудненное дыхание и затем, после ужасной агонии, смерть. Она вдруг начинала косить людей в том или ином городе, потом через несколько недель исчезала, непонятно по какой причине и каким образом, оставив после себя десятки Или сотни мертвецов. Курносая собирала жатву каждый год.
Конечно, некоторым счастливчикам удавалось выжить Другие золотом убеждали цирюльников вскрыть им бубоны Но таких было один на сто, на тысячу…
– Колодцы, Гийоме! Стереги колодцы! – приказала Жанна. – И воду берите только из них. Из дома не выходите! Ни к кому не прикасайтесь! Я не хочу потерять всех.
Он улыбнулся, чтобы успокоить ее.
– Мы и не такое видывали, – ответил он.
– Нужно просто запереться в доме, – сказал Сибуле. – Провизии у меня достаточно, слава богу. У Сидони и Гийоме, конечно, тоже. А у вас?
– На три-четыре дня, не больше, – ответила Жанна.
– Хотите, я вам принесу?
– Спасибо. Нет. Я постараюсь уехать в Анжер. Лавки откроете лишь после того, как эпидемия кончится.
Жозеф слушал этот разговор с озабоченным видом.
– Как вы рассчитываете уехать? – спросил он.
– На повозке, как обычно.
– Я удивлюсь, если вы найдете хоть одну. Уехать хотят все, кто еще этого не сделал.
За ужином все, естественно, пребывали в мрачном настроении. Слуги принесли новые известия: умерло еще шесть человек.
Ночью Жанна почти не спала. Разбудив утром слуг, она велела им сходить к тем, кто сдавал повозки в наем, и попросить придержать одну для нее. Через три часа они вернулись ни с чем: никого не смогли найти. Возможно, эти люди сами уже уехали.
Мысль о том, что придется остаться пленницей в городе, где свирепствует чума, приводила Жанну в трепет. В полдень с соседних колоколен раздался похоронный звон. Набравшись храбрости, она решила сходить на Главный рынок к мяснику, которого знала с тех времен, когда сама еще занималась покупками. У него была повозка. Следовало спешить, пока улицы не заполнились умирающими. Рынок был почти безлюден. Дом мясника наглухо закрыт. Она начала колотить в дверь и кричать:
– Мэтр Шарле, это Жанна де Бовуа!
Он знал ее прежде под этим именем.
На верхних этажах открылись два или три окна, оттуда высунулись головы любопытных. В исступлении она ударила дверь ладонью. Похоронный звон доносился с колокольни Сент-Эсташ, ему вторила колокольня Сен-Мерри.
В конце концов заскрипели засовы, одна из створок большой двери слегка приоткрылась: сквозь щелку Жанна разглядела нос и поймала взгляд – это был мэтр Шарле. Он узнал ее и, явно удивленный, открыл дверь пошире.
– Какой грохот! – воскликнул он. – Я не мог поверить, что это вы, мадам. Что привело вас ко мне? Я не продаю мясо со вчерашнего дня, вы же понимаете! Впрочем, и покупателей нет.
– Мэтр Шарле, сколько вы возьмете, чтобы вывезти из Парижа на повозке моего сына с кормилицей и меня с братом?
Он был изумлен:
– Куда вы хотите ехать?
– В Анжер.
– В Анжер?
Словно она сказала ему: на Луну.
– Но вас в Анжер просто не впустят. Они не впускают людей из чумных городов.
– Мы скажем, что приехали из Ла-Шатра. У меня там усадьба, меня все знают.
– Я не могу наживаться за ваш счет, – сказал он. – Сговоримся на пяти ливрах.
– Семь, если выедем немедленно, мэтр Шарле.
– Вы хотите обогнать смерть? – лукаво спросил он. – Хорошо, постойте здесь, я запрягу лошадей. Делаю это только ради вас.
У Жанны пересохло в горле и запеклись губы. Она слышала, как позвякивает сбруя, стучит копытами лошадь, скрипят кольца навеса. Потом в доме раздался голос мэтра Шарле, который крикнул, что уезжает в Анжер и вернется в конце недели. Наконец он поднял засов, державший вторую створку, и распахнул двери настежь. В ноздри Жанне ударил запах мяса. Она увидела подвешенные на крюках туши, и это зрелище показалось ей зловещим.
Повозка медленно выехала из сарая. Мэтр Шарле тщательно закрыл двери, изнутри кто-то опустил засов. Она заняла место рядом с возницей.
Улицы были почти пусты, проехали только конные стражники: они направлялись галопом к улице Бьевр и едва не сбили простоволосую женщину, которая с воплем выскочила из дома.
Когда повозка остановилась перед особняком Дюмонслен, Жанна спрыгнула на землю и бросилась в дом.
– Быстрее, вы все, я нашла повозку! Мы уезжаем! Жозеф, кормилица, уезжаем прямо сейчас!
Она побежала, перескакивая через две ступеньки, на второй этаж, поспешно швырнула попавшиеся под руку вещи в дорожный кофр, взяла толстый кошель и кинжал. Слуги снесли кофр вниз и поставили на повозку. Увидев их, мэтр Шарле попросил воды; они побежали в дом и принесли ему полную фляжку. Он отпил большой глоток. Слуги снова бросились в дом за сундуками кормилицы и Деодата, а затем, уже сильно запыхавшись, помогли Жозефу вынести и его сундук.
– Запритесь на засов! Не выходите сами и никого не впускайте! – сказала она слугам, выдав им щедрый задаток в счет жалованья.
Не менее ошеломленные, чем она, они опять побежали в дом и вернулись с корзиной, куда положили жареного цыпленка, большой пирог с ветчиной, хлеб, вино, пирожки, оплетенные бутылки с водой и столовый нож.
– Да благословит вас Господь! Да защитит вас Господь! – закричали они, когда повозка тронулась с места.
По пути они встретили процессию босоногих кающихся со свечами в руках, которая направлялась к церкви Сен-Мерри. Кормилица перекрестилась. Жозеф с любопытством смотрел на этих людей, которые, несомненно, считали чуму Божьей карой за грехи города. Но за какие грехи?
До наступления темноты они уже были в Ножане. У городских ворот сонный стражник спросил, откуда они приехали, поскольку был отдан приказ не пропускать никого из Парижа; они ответили, что едут из Дрё. Он пропустил их. Жанна выбрала лучший постоялый двор, и там они плотно поужинали. Жозеф занял отдельную спальню, Жанна оплатила вторую для мэтра Шарле и разместилась в третьей вместе с кормилицей и Деодатом.
Неужели это и есть жизнь? – спрашивала она себя, раздеваясь. Неужели существуешь для того, чтобы спасаться бегством от озверелой солдатни, чумы, горя, охотников на ведьм? И чтобы затем вновь предстать голышом пред очами разгневанного Бога?
Я становлюсь еретичкой, подумала она, засыпая.
На следующий день, в сумерках, они приехали в Анжер. Они вновь плотно поужинали, словно желая убедиться, что живы. Еще через день, в понедельник, она расплатилась с мэтром Шарле и приступила к поискам дома. Как только она найдет его, тут же напишет Франсуа, чтобы приезжал. Он наверняка получил известие о свирепствующей в Париже чуме и, следовательно, поездку туда отложил.
18 Мистическое наследие
Как только страх перед черной смертью утих, Жанна внезапно осознала присутствие Жозефа. Они вместе осматривали дом, словно семейная пара, которая устраивается на новом месте. И она вдруг заметила рядом с собой – как будто это был незнакомец, явившийся волшебным образом из пустоты, – молодого человека с бесшумной мягкой поступью и отсутствующим взглядом, который, казалось, все время о чем-то размышлял.
Это было все, что осталось у Жанны от Жака. В последовавшие за катастрофой недели он утешал ее, но без всякой назойливости. Просто этот молчаливый юноша всегда был при ней: сидел в соседнем кресле, читал, порой поднимал на нее глаза, предлагал бокал вина или ипокраса, вовлекал ее в разговор, иногда по пустячному поводу, чтобы отвлечь от мрачных, безнадежных мыслей. Часто он развлекал Жанну лаконичными и вызывающими сентенциями:
– Самое тяжкое – это ощущать, что умираешь, хотя знаешь, что живешь.
Или еще:
– Бог, конечно, ростовщик: он заставляет платить за счастье двойную цену.
Жанна даже начала улыбаться.
Когда он решил сопровождать ее в Анжер, она удивилась.
– Разве в вашем обществе я не могу заниматься тем же, что делал бы один в Париже?
Они сняли богатый дом с большим садом. Несколько недель ушло на то, чтобы обставить его и превратить в семейное гнездо. Первым делом Жозеф позаботился о парильне, ибо женатым мужчинам запрещалось ходить в общественные бани из-за царившей там распущенности, а он считался в Анжере женатым. Слугам, жившим в доме, было поручено протапливать парильню с утра, поскольку Жозеф вставал рано и сразу приступал к туалету. Затем он приглашал цирюльника.
Только позднее Жанна оценила значение такого внимания Жозефа к собственной внешности.
Лето распустило свои последние розы, жасмин безумствовал. Деодат избрал сад своим королевством, а кормилица исполняла при нем обязанности регента. Но воцарялся он там лишь во второй половине дня: до обеда Жозеф учил его читать и писать. Жанна подсчитала, что это было ее шестое жилище с того момента, как она покинула Нормандию шестнадцать лет назад. В новом пристанище всегда спрашиваешь себя, не окажется ли оно последним.
Она забыла Париж и не думала больше о судьбе Франции. Людовик XI втихомолку отвоевывал Нормандию, которую недавно уступил брату. Карл Смелый и другие принцы создавали новую лигу. Жанне было все равно, преуспеют они или нет, лишь бы не затевали войн на ее землях.
Жозеф познакомился с седовласым эрудитом, знатоком Аристотеля. Тот был очарован его познаниями и остроумием. Особенно поразил его скептицизм молодого философа по отношению к геоцентризму, иными словами – к представлениям о том, что Солнце обращается вокруг Земли.
– Почему, – с удивлением вопрошал Жозеф, – из всех планет Солнце выбрало именно нашу и решило обращаться вокруг нее?
Эрудит, которого звали Иеромонтаном, но чаще именовали Жеромоном, хрюкнул, кашлянул и выпучил глаза, услышав этот провокационный вопрос.
– Вы кончите жизнь на костре, друг мой! – восхищенно вскричал он.
Имея хорошие связи в окружении короля Рене, он рекомендовал тому своего нового друга, и через три дня явился королевский посланец: молодого Жозефа де л'Эстуаля приглашали ко двору для участия в вечерней философской дискуссии. Жозеф взял с собой Жанну.
– Это ваша супруга? – спросил Рене.
– Нет, сир, это жена моего погибшего брата.
– Значит, ваш брат потерял два самых ценных сокровища: жизнь и красавицу жену.
Дворец короля был окружен садами; ужин проходил под музыку, среди роз, пионов и лилий, почти не различимых в запоздалых сумерках. Король усадил Жанну справа от себя и спросил, что привело ее в Анжер.
– Стремление к покою, сир. В Париже слишком много дерутся, и когда люди знатные устают от сражений, в бой вступают горожане. В жизни нужна какая-то передышка.
– Покой иногда требует больше сражений, чем война, – заметил король.
Ужин был роскошным: пироги с голубями, салаты, анжуйские и аквитанские вина, белые и красные. После еды Иеромонтан и трое или четверо философов-теологов предложили Жозефу обсудить с ними фундаментальный принцип существования. Первый полагал, что это счастье, второй – воля, третий – божественное откровение. Один Жозеф не высказал своего мнения. Король, внимавший спору, спросил о причине его молчания.
– Сир, я не смог бы отличиться в столь ученой дискуссии, потому что я всего лишь я и потому что существует столько же фундаментальных принципов, сколько людских характеров. Для крестьянина это плодородие его земли, а для скупца – алчность. Полководцы жаждут побед и славы, а философы – торжества своих идей. Из этого следует, что я не философ, поскольку не желаю навязывать свои идеи другим.
Остальные участники дискуссии нахмурились:
– Неужели вы не верите, мессир, в универсальность разума?
– Вовсе нет, мэтр, но я тоже задам вам вопрос: почему же мы тогда спорим, хотя должны быть в согласии?
Спорщики пришли в явное замешательство. Иеромонтан расхохотался и воскликнул, обращаясь к королю:
– Разве не говорил я вам, сир, что это оригинальный ум? Он философ, хотя не желает признаваться в этом!
Рене улыбался с задумчивым видом. Жанна внимательно следила за атакующими выпадами и ложными отступлениями Жозефа: ей открывались все новые грани дарований этого юноши.
– Почему вы не желаете, чтобы ваши идеи восторжествовали, Жозеф де л'Эстуаль? – удивленно спросил Рене Анжуйский. – Если они хороши, разве не порадует вас, что разделять их будет как можно большее число людей?
– Нет, сир, ибо они не сумели бы ими воспользоваться и даже могли бы пострадать от них.
– Каким образом?
– Допустим, что я полководец и что меня убеждают, будто главный принцип существования – божественное откровение, как полагают некоторые из почтенных теологов, присутствующих здесь. В этом случае я бы стал ожидать божественного откровения в битве, а если бы оно не снизошло, мне пришлось бы прибегнуть к собственным средствам. Возможно также, что божественное откровение побудило бы меня отказаться от войны, каковая есть преступление, согласно божественной заповеди. И подумайте сами, что могло бы произойти, если бы сие божественное откровение снизошло на меня в самый разгар сражения!
На этот раз Рене Анжуйский тоже расхохотался, и все прочие последовали, пусть даже против воли, королевскому примеру.
– Жозеф де л'Эстуаль, – сказал король, – вы первый из виденных мною мудрецов, который не хвалится тем, что обладает всей полнотой мудрости.
– Сохрани меня от этого Господь, сир.
– Может быть, вы напишете для меня трактат о мудрости воздержания от правоты?
– Сир, подобная мудрость принудила бы меня к молчанию.
Король снова засмеялся.
– Ну нет, л'Эстуаль, теперь я буду ждать этого трактата.
Дом, снятый Жанной и Жозефом, который вскоре стали называть домом де л'Эстуалей, был просторным и имел террасу на итальянский манер. Горшочки с цветами украшали ее яркими красками днем и ароматами ночью.
Вся окружающая природа взывала к отдохновению. Однако печаль отличается от других чувств тем, что не ведает отдохновения. Напротив, в покое она становится еще глубже.
Оттого, что Жанна часто дремала после обеда, она мало спала по ночам. Когда наступило полнолуние, она не смогла заснуть и вышла на террасу. К ее удивлению, там оказался Жозеф.
– Лунный свет не так привычен, как солнечный, и настолько чист, что я не простил бы себе пренебрежения к нему.
Даже в голосе его звучала улыбка.
– Что за желание изгнало вас из постели? – спросил он.
– Скорее желание желания. С тех пор как Жак… уехал, у меня такое чувство, что моя жизнь кончена.
– Но она не кончена, – возразил он.
Это замечание было банальным до абсурда, и тем не менее оно удивило ее.
– Ощущения часто лживы, – продолжал он, – как и идеи. Именно поэтому сердишься на ножку стола, которая не имела намерения тебя ударить.
Она засмеялась.
– У вас такая манера смотреть на вещи…
– Дело именно в том, что это не манера. Я просто пытаюсь видеть вещи такими, как они есть.
– И каковы они?
– Говоря по правде, достойны сожаления.
– Что же вызывает сожаление?
– Уступка горю, чрезмерность его, которая заставляет спросить, не казните ли вы себя за исчезновение моего брата. Я нахожу вашу меланхолию пагубной. В Париже вы дали мне повод опасаться акта отчаяния с вашей стороны. Мне кажется, только мысль о Франсуа с Деодатом удержала вас.
До этого момента она смотрела прямо перед собой. Но тут повернула голову к молодому человеку: в лунном свете его лицо выглядело какой-то чудесной маской. Лоб сверкал, словно купол из слоновой кости, глаза превратились в темные впадины, и только серебристый контур верхней губы, затененной мраморным носом, позволял угадать легкую улыбку. У нее возникло впечатление, будто она говорит с эманацией духа. Впрочем, она уже давно знала Жозефа: дух в нем преобладал настолько, что его изящный облик подчас казался совершенно нематериальным.
– Я читал, что в Индии, – сказал он, – вдовы должны бросаться в костер, на котором сжигают тело мужа.
– Вы осуждаете такой обычай?
– Кажется, я уже говорил вам, что ничего не осуждаю, но думаю, это излишняя крайность. Если бы вы похоронили себя после смерти первого мужа, то лишили бы Жака удовольствия любить вас, отказав в этом и себе. Но ведь вы любили Бартелеми де Бовуа.
Жанна не нашлась, чем ответить на этот довод.
– Значит, вы упрекаете меня в том, что я верна Жаку?
– Жанна, по неизвестной мне причине вы верны не Жаку, а своему горю.
Она внезапно повернулась к нему.
– Что же я должна делать, по-вашему? – тревожно спросила она.
– Я хочу, чтобы вы воспринимали меня как мужчину, а не как чистый дух. Разве я не брат Жака?
Она пробормотала:
– Так вы… вы что-то чувствуете ко мне? Он усмехнулся:
– Разве философия сделала меня бестелесным?
– Но… Жозеф… я не подозревала… Мы уже десять лет живем под одной крышей… И вы, по общему мнению, даже с блудницами дела не имели…
– Господь да сохранит меня от блудниц! Они скорее отвратили бы меня от наслаждения. Что до моей природы, хотите подвергнуть меня испытанию? – спросил он.
Она была ошеломлена.
– Жозеф…
– Позвольте мне только спать вместе с вами. Таким образом вы познакомитесь со мной. По-другому.
Предложение застало Жанну врасплох. Столько времени уже прошло после отъезда Жака! Она перестала ощущать себя женщиной.
Она попыталась обдумать это. И не смогла. Да еще эта таинственная маска с устремленным на нее пристальным взглядом…
– Хорошо, – сказала она наконец.
Ошеломляющие открытия следовали одно за другим, совершенно опустошив Жанну.
Половину обнаженного тела Жозефа освещал голубой свет луны, другую половину – золотистое пламя свечей. Казалось, он принадлежит двум мирам.
Жозеф был копией Жака, каким тот был, когда они встретились.
Он предложил только спать вместе. Но сон, увидев их обоих в постели, сбежал, словно вор.
Жанна едва не вскрикнула, когда рука Жозефа легла ей на грудь. Но губы Жозефа, прильнувшие к ее губам, принудили ее к молчанию. Реальность его тела казалась ей настолько непостижимой, что она спросила себя, не притворялся ли Жозеф все это время и по какой причине. Впрочем, это была ее последняя мысль, ибо разум оставил тело, полностью отдавшееся ощущениям. Волны огненного моря перекатывались в лунном свете. Мир пришел в движение. Она больше не была одна. Ее руки, ноги и губы нашли свое отражение.
У Жозефа были такие же шелковистые волосы, как у Жака.
При первых проблесках зари, а затем в солнечном свете последующих дней ему пришлось давать ей бесконечные объяснения. Неужели все эти годы он не испытывал потребности в любви?
– Разве ты не задавалась подобным вопросом относительно Анжелы? – ответил он.
– Конечно. Я думала, что она закончит жизнь старой девой или монашкой.
– Монашкой! – удивленно повторил он. – Разве ты не знаешь, что Жак после смерти своей первой жены долгие годы оставался один?
– Жак был моим первым возлюбленным, – сказала она, вспомнив внезапно о его необычной манере заниматься с ней любовью.
Новые вопросы смущали ее покой. Она не смела задать их ему и порой даже самой себе. Он так и не объяснил причины своего долгого воздержания. Разговор состоялся в саду, в беседке, увитой виноградными лозами. Жужжали пчелы, собиравшие мед.
– Значит, я первая женщина в твоей жизни?
– Да.
Ему было двадцать девять лет. Возможно ли такое? Она настолько удивилась, что он заметил это и улыбнулся.
– Нас воспитывали необычным для этой страны образом, впрочем, то же самое можно сказать и о других странах. Мы все должны жениться или выходить замуж в силу предписаний нашей религии. Мой отец был чрезвычайно строг в этом вопросе. Но до вступления в брак нам надлежало хранить целомудрие, что мы с Анжелой и делали. Моей сестре предложили на выбор двух женихов, оба были ей противны. Мне предложили три партии, ни одна не вызвала у меня восторга. Нам объяснили, что брак подчиняется разуму, а не безумству страстей. Анжела просила время подумать, я ссылался на занятия. Потом ты вошла в жизнь Жака.
– Не понимаю.
– Ты убедила Жака обратиться в католичество. Он был любимым сыном нашего отца. Горе Исидора оказалось настолько сильным, что он умер. Нас же ты, сама того не зная, избавила от брака по обязанности.
– И что же?
Она пристально всматривалась в это тонкое лицо, белые изящные руки, безупречные жесты.
– Наши первые чувства, у меня и у моей сестры, были двойственными. К глубокому горю, ибо мы любили отца, примешивалось облегчение. Мы освободились! Нам уже не нужно было отдавать свое тело ради обязанности, существующей несколько тысячелетий, – обязанности приумножать наш народ. Мы больше не принадлежали к этому народу. Так что тебе не понять нашей страстной любви к свободе.
– Ты говоришь, как девственница: отдавать свое тело. Такие слова больше подходят женщине.
– Нет. Если я соглашаюсь на брак с женщиной, которую не люблю, я приношу свое тело в жертву. Отдаю его во имя долга. Не распоряжаясь собой, я был подобен рабу. То же самое чувствовала и Анжела.
Она задумалась. Эти представления разительно отличались от ее собственных! И все же она начинала понимать Жозефа.
– Но потом Анжела увидела мужчин, ты увидел женщин… Разве не ощутили вы оба желание?
– Мы сначала ощутили опасение. Та ли это женщина? Тот ли это мужчина? Мы тогда слишком сильно ценили свободу и власть над своим телом, чтобы уступить первому же соблазну. Нет, мы не отдались бы задешево.
Жанна была изумлена. Она недоверчиво рассмеялась.
– Но восемь лет у Анжелы! Десять лет у тебя! Ты отдаешь себе в этом отчет? Даже наши священники не живут так, как вы!
Он пожал плечами.
– Что мне до священников! У нас с Анжелой было чувство, что самым ценным даром нашим избранникам будет девственное тело, и это высшее сокровище достанется лишь тому, кого мы сочтем достойным и кто сумеет его оценить. Мы не желали опускаться до случайного соития.
Этот аристократический язык постоянно приводил Жанну в смущение. У нее защемило сердце при воспоминании о Матье, который повесился, когда узнал, что она не девственница: он думал, что она по доброй воле отдалась другому. На свой манер он тоже был аристократом.
Легкий ветерок встряхнул глицинии и ломоносы, которые боролись за господство в беседке.
– А Феррандо? Каким образом Анжела поняла, что любит его?
– Она и не поняла. Ее взволновал голос и взгляд. Когда в первый же вечер он пришел и запел, она убедилась, что он не забыл ее. Вспомни, он ведь ухаживал за ней месяца три, прежде чем она уступила.
– В особняке Дюмонслен.
– Она тебе рассказала? Вот доказательство ее невинности.
Жанна вспомнила слова Анжелы о теле Феррандо, и мелькнувшее было у нее подозрение тогда растаяло: значит, Анжела не видела тела Жозефа. Изяществом он не уступал Жаку. В этой странной семье необыкновенный ум сочетался с телом, которого не постыдился бы архангел.
– Анжела уступила ему, потому что он красив? – спросила она.
– Я знаю свою сестру. Она уступила ему из-за его изящества.
– Его изящества… – повторила Жанна.
– Изящества, да. Она угадала в нем мужчину, не похожего на тех, кто видит в любви одно лишь спаривание и в постель идет как к столу.
– Что же делает мужчин другими?
Он на мгновение задумался.
– Сознание, что им не угрожают постоянно голод и смерть. Две эти опасности делают мужчину примитивным и грубым. Впрочем, и женщину тоже. У таких мужчин нет времени для тонких чувств. Они бросаются на женщину так, словно составляют завещание перед петлей или плахой.
Она засмеялась. Да, подумала она, это точно относится к Монкорбье, вечно голодному, словно ободранный волк.
– А я? – спросила она.
– Как супруга Жака ты была наполовину моей, – сказал он лукаво.
– Что? – вскричала она почти с негодованием.
– Я знал мнение Жака о тебе: если ради тебя он отрекся от своей веры, значит, считал, что ты обладаешь необыкновенными достоинствами. Мне очень повезло, что и я смог убедиться в этом.
– И ты ждал все это время?
Она вдруг вспомнила, что Жозеф не покидал ее ни на один день с того момента, как уехал Жак, и отправился с ней в Анжер, хотя у него не было таких причин, как у нее, искать убежище.
– Я подумал, что тебе будет легче, если рядом окажется преданный друг, – сказал он.
– И ты не испытывал потребности признаться раньше?
Он помолчал. Затем ответил очень серьезно:
– Жанна, ты принадлежишь миру, где принято навязывать свою волю. Навязывать идеи. И навязывать свое тело. Где начинают войну с целью что-то навязать. Это не мой мир И это не был мир Жака.
Она вспомнила его речи у Рене Анжуйского, которые так удивили и развеселили короля: он не желал навязывать свои идеи. И самого себя. Он был полной противоположностью Франсуа де Монкорбье, который взял ее силой.
Но Монкорбье исчез из ее жизни. А Жозеф был с ней, как и память о Жаке.
– Я не верю, что судьбу можно принудить, – сказал он задумчиво, словно размышляя вслух. – Но, видя, как ты бесконечно терзаешь себя, я подумал, что надо тебя попросить взглянуть на меня.
Нежная доброта, которую она так ценила в Жаке, у него достигла крайних пределов. Его деликатность пронзала душу.
– Штерны и в самом деле необыкновенные люди, – сказала она.
Впервые она произнесла прежнюю фамилию мужа.
– Они стараются быть цивилизованными, – отозвался он. – Один из наших мудрецов, Маймонид, цитируя Аристотеля, написал, что нам следовало бы стыдиться чувства осязания, поскольку им обладают и животные. Я не хотел быть животным с тобой.
– И, однако, ты удивительный любовник! – со смехом воскликнула она.
– Я хотел телом своим сказать тебе нечто иное, – ответил он, склонив голову.
Он ни разу не произнес слово "любовь". Она была поражена. Впервые в жизни мужчина укротил ее своим умом.
Возможно, она ничего не понимала в жизни. Ни в своей, ни в чужой. Даже Жак, тоже, несомненно, верный завету ничего другим не навязывать, столь многому ее не научил.
– Но что сказал бы Жак? – спросила она.
– Он был бы оскорблен, если бы я не сделал того, что сделал.
Она покачала головой, в очередной раз не понимая, что он имеет в виду.
– Это один из еврейских законов, закон левирата. Когда мужчина умирает или пропадает без вести, брат обязан принять в наследие его жену.
Она не стала говорить ему, что он больше не еврей. Это мистическое наследие слишком многое значило для нее. Оно вернуло ее к жизни.
19 Лицо над изгородью
Жозеф оказался не только необычным и деликатным любовником. Он был первым и, наверное, последним представителем совсем иного типа: он воспитывал ее. Не только беседами, которые случались после ужина, если она просила об этом. Но также своим поведением, умом или любовью, ей было трудно отделить одно от другого. Жесты Жозефа настолько соответствовали его речам, что она не переставала изумляться. Он объяснил ей, что любовные органы не более порочны, чем другие части тела, иначе во время близости пришлось бы завязывать глаза и рот. Поэтому прикосновения, которые она сочла бы бесстыдными со стороны любого другого, будь то даже Жак, казались ей совершенно естественными со стороны Жозефа.
– Все тело создано для любви, милая, – сказал он ей однажды.
И привел ее в экстаз с помощью одних лишь рук. Словно играя на лютне.
В былые дни ее иногда раздражали тяжелые шаги мужчин, но Жозеф, подобно своему брату, ступал по земле легко и уверенно. Невозможно было отделить в нем духовное от физического. Когда по вечерам он, облачившись в просторный домашний халат, подолгу занимался своим туалетом, у нее возникало впечатление, что она стала любовницей изысканного монаха, правда непонятно какого ордена. Она была уверена, что покойный отец Мартино, знавший происхождение Жозефа, счел бы его опасным еретиком, и первые столкновения с теологами при дворе Рене Анжуйского только укрепили ее в этом убеждении.
Однако еретиком он был, конечно, в равной мере и для евреев и для христиан. Он не верил ни в Бога, ни в черта и полагал, что дьявол – это упадок духа. Он говорил, что епископы, благословляющие солдат на битву, являются самыми ревностными поборниками Сатаны, о существовании которого они же и возвещали. И еще он утверждал, что Бог есть эманация духа, жаждущего порядка.
– Чрезмерная страсть к порядку тоже порождает фанатизм.
Он все же приступил к созданию трактата, который просил у него король Рене. И назвал его "Максимы для мудрого короля". Франсуа приехал из Орлеана одновременно с письмом, доставленным верховым курьером из Италии, который сделал крюк сначала до улицы Бьевр, а затем до ратуши Анжера. Слуги в особняке Дюмонслен знали только название города, куда их хозяйка отправилась, и бедному вестнику пришлось обратиться к местным властям, чтобы узнать адрес Жозефа де л'Эстуаля. В глазах у него еще стояли тачки с полусгнившими трупами, которые он видел в Париже. "Почти три тысячи покойников! – воскликнул он. – Полностью обезлюдевшие дома!" Жанна, кормилица и слуги содрогались от ужаса, слушая его. Жозеф дал ему три ливра сверх положенной платы чтобы вознаградить за опасности и труды, и велел слугам покормить его.
Потом он распечатал письмо: Анжела произвела на свет дочь и выражала свою любовь Жанне и Жозефу. Феррандо намеревался приехать в Париж до наступления зимы, чтобы обсудить с ними некое важное дело. В Париж? Значит, он не слышал о чуме? Жозеф тут же написал ответ, в котором уведомлял о бедствии и советовал отложить поездку: как только эпидемия закончится, Феррандо известят, дело же может подождать. Затем он спустился на кухню, где курьер заканчивал ужин, и, вручив ответ, посоветовал всё-таки ехать на сей раз через Лион. К посланию он присовокупил пять ливров. Положительно, переписка обходилась недешево!
Франсуа, получив письмо от матери с ее адресом в Анжере, сумел нанять лошадь. Выехав на заре, он скакал почти весь день и, обняв Жанну, объявил, что страшно устал, но счастлив увидеть ее здоровой и невредимой. Пока не пришло письмо, он изнывал в Орлеане от тревоги, не зная, где мать и жива ли она: редкие путешественники, прибывшие из столицы, рассказывали такие ужасы, что волосы вставали дыбом. Затем он подхватил на руки Деодата, чмокнул его и стал подбрасывать вверх, как делал прежде. Наконец он расцеловался с Жозефом.
Франсуа хватило одного взгляда, чтобы угадать связь, соединившую его мать с братом Жака. И они сразу поняли это. С детских лет Франсуа проникся искренней любовью к Жозефу. В коллеже их дружба еще более окрепла. Ситуация явно застала юношу врасплох. На мгновение заколебавшись, он несмело улыбнулся.
Оказавшись наедине с матерью, он тихо сказал ей, не сводя с нее своих зеленых глаз:
– Он так похож на Жака, правда?
Она едва не покраснела. Однако после ужина он уже играл с Жозефом в шахматы.
На следующий день жизнь в доме вошла в обычное русло. Жанна нашла в кофре последний подарок Жака и унесла его в сад: это было "Лэ" Франсуа де Монкорбье, или Вийона.
Франсуа играл в мяч с Деодатом. Она дошла до пятой строфы:
Меня поймал лукавый взгляд Той, кто безжалостно играет. Хоть я ни в чем не виноват, Она мне гибели желает, Не длит мне жизнь, а обрывает - Бежать, бежать – одно спасенье! Живые связи разрушает, Не слушая мои моленья[38].Она с досадой отложила книгу. Неужели это о ней? Разве она разрушила их связь или он сам это сделал, ударившись в бегство из-за соучастия в преступлении? Разве отказывалась она выслушивать его мольбы? Разве не он влюбился в другую женщину? И зачем, спрашивается, он вновь явился к ней? В этом человеке все было ложью. Зачем, черт возьми, написал он эти стихи? Чтобы разжалобить читателей?
Приступ ужасного кашля разорвал утреннюю тишину. Ее сыновья прекратили игру; она взглянула на них – оба смотрели в сторону изгороди, которая была от нее совсем близко. Она подняла глаза и увидела лицо человека, чей взор был устремлен на нее.
Она испустила крик.
Лицо было совершенно истощенным, а голова походила на череп, вознесенный над изгородью, словно зловещий призрак на ярком солнце.
Ей было знакомо это лицо. Эти выступающие скулы. Темные глаза, некогда с поволокой, губы, некогда столь сочные…
Она застыла от ужаса, узнав этого человека. Его взгляд был прикован к книге. Затем он перевел взор на детей. Она снова закричала. Кормилица бросилась к ней.
Призрак издал сдавленный возглас, затем исчез. Сквозь ветви изгороди Жанна увидела, что он упал. И побежала к калитке.
Франсуа де Монкорбье лежал на спине с открытыми остекленевшими глазами. Умер? Она смотрела на него. Что он увидел? Ее или Ад? По его телу пробежала судорога. Тощая рука со скрюченными пальцами скребла землю. Из углов приоткрытого рта потекли струйки крови.
Подавив ужас и отвращение, Жанна склонилась над ним. Он был мертв. Но отчего он умер? От чумы? Здесь? Неужели чума настигла ее в Анжере? К ней подбежали Франсуа, Деодат и кормилица. Она велела им вернуться в дом и сама направилась туда.
– Зовите приставов! – крикнула она. – Возможно, он умер от чумы.
Кормилица испуганно вскрикивала.
Призрак черной смерти, казалось, не испугал Франсуа де Бовуа. Подойдя ближе, он долго смотрел на человека, лежавшего на земле: неужели заметил сходство? Затем вернулся в сад. Жанна стояла на крыльце. Он поднял глаза на мать, удивленный смятением, в которое повергла ее смерть несчастного бродяги. Во взгляде его был вопрос. Но для признаний время еще не наступило. Она должна была защитить своего сына. И потому не произнесла ни слова. Слуга побежал за приставами; его жена приготовила настой из ромашки.
– Почему вы так подавлены, матушка?
– Чума… – нашлась она.
Жозеф спустился со второго этажа. Кормилица и Франсуа рассказали ему о случившемся. Он не задал им ни единого вопроса.
Появились приставы с двухколесной тачкой. Соседи переполошились. Франсуа и Жозеф видели, как они толпятся за изгородью. Приставы спустили с мертвеца штаны в поисках бубонов, которых не оказалось. Они обнажили тощие бедра и член, окруженный завитками волос. Это было ужасное, оскорбительное зрелище. Затем ощупали подмышки и покачали головой.
– Это не чума, – сказали они.
– Это не чума! – крикнул Жозеф Жанне, стоявшей у окна. Приставы уложили труп на тачку и увезли, чтобы похоронить в общей могиле.
Этот нищий, как узнали они вечером из уст чиновника городской управы, который пришел расспросить Жозефа об обстоятельствах случившегося, уже несколько лет бродил по Анжеру. Он называл себя Франсуа Вийон. Много раз стражники отгоняли его от дворца Рене Анжуйского и насмехались над ним, потому что он уверял, будто знаком с королем, был принят при дворе и входил в кружок близких к Карлу Орлеанскому людей. Нет, умер он не от чумы. Бедняга давно находился в жалком состоянии и жил подаянием[39].
Взгляд темных глаз Жозефа устремился на Жанну, которая сидела с полуприкрытыми веками в кресле у камина, невзирая на жару. Он сел рядом с ней и сказал, что Франсуа, Де-одат и кормилица ждут ее к ужину.
Она взяла его за руку, словно пытаясь обрести в нем силы.
– Это отец Франсуа, – прошептала она. – Это действительно Франсуа Вийон.
На следующий день Жозеф посетил городскую управу, а потом церковь, чтобы обеспечить несчастному христианское погребение. Он объяснил, что баронесса де л'Эстуаль знала этого человека в Париже: тот был воспитателем ее сына и звался действительно Франсуа Вийон, хотя настоящее его имя – Франсуа де Монкорбье.
Однажды государь, повстречав мудреца, спросил его:
– Какие советы мог бы дать мудрец государю?
– Если мудрец осмелится на это, он перестанет быть мудрецом и будет безумцем.
– Почему?
– Потому что если государь не последует советам и затем раскается в этом, он рассердится на мудреца. Если же последует и будет доволен, все равно рассердится на того, кто диктовал ему, как себя вести.
Но государь обещал, что не станет сердиться на мудреца ни в том, ни в другом случае, и попросил все же давать ему те советы, которые мудрец сочтет полезными.
Так начиналось сочинение, которое Жозеф де л'Эстуаль решил написать по просьбе короля Рене.
Жозеф дал его почитать Жанне, и та одобрила. Следующие максимы выглядели так:
Мудрость для государя начинается с того, что он принимает один закон: хотя ему нет равных в королевстве, он всего лишь такой же смертный, как другие, в сообществе государей. Итак, вынужден он нести двойной груз и использовать две меры, ибо не может всегда следовать законам, наложенным им же на подданных ради сохранения мира в королевстве. Следовательно, в нем живут постоянно два человека: владыка подданных и равный среди равных.
В мирном королевстве мудрецам следует вступать в спор тайно и в присутствии государя. В самом деле, если начнут они спор публично, их мысли приведут к появлению других мыслей, и так до бесконечности. Но редко случается, чтобы одна мысль не входила в противоречие с другой и не вызывала сомнений. А сомнения иного рода могли бы даже подвергнуть опасности власть государя.
Аристотель замечает, что люди желают не столько знать, сколько верить, ибо потребность в вере сильнее, чем потребность в понимании. Итак, мудрость государя состоит в Г том, чтобы убедить народ: он прав, веруя в то, что угодно государю, и не прав, веруя в неприятное ему.
Мудрый человек не выказывает чрезмерно блестящий ум. Талант свой он должен направить на то, чтобы другие считали, будто они сами открыли то, что ему желательно им внушить. Он же притворится, что поддерживает их суждения. Ибо если случится так, что он ошибется, им придется корить только самих себя.
Жанна с большим удовольствием читала эти максимы. В тот же день, за ужином, Жозеф вручил первые из них Рене Анжуйскому. Попросив у короля разрешения привести сына, Жанна взяла с собой Франсуа. Молодой человек очаровал как монарха, так и придворных дам. Его осыпали комплиментами и, конечно, желали выведать о сердечных склонностях Жанна следила за ним бдительно, но соблюдая дистанцию Ведь сын ее уже вступил в возраст, когда возникает интерес к женщинам, однако он не имел, сколько ей было известно, ни одной любовной связи. Она спросила себя, не сказалось ли в этом влияние Жозефа. Молодые люди долго были вместе в коллеже, и о чем еще могли они разговаривать, как не о галантных приключениях?
Вернувшись домой, она подступила к Жозефу с расспросами. Тот засмеялся:
– В последний мой год в Орлеане он навестил блудницу. Пришел от нее раздосадованный и стал с остервенением мыться. Сомневаюсь, чтобы он сделал повторную попытку. Он мне жаловался: "Прекрасное занятие! Бык спарился с коровой, кстати, она корова и есть! И этим движется мир? Удивляюсь, как он еще не остановился!"
Конечно, сказала себе Жанна, блудница давно не ходила в баню, ведь цены на дрова и королевские налоги сделали мытье недоступной роскошью. Только самые богатые из продажных девок позволяют себе это удовольствие.
– Не ты ли внушил ему такое равнодушие?
– Вовсе нет. Мы очень редко говорили о подобных вещах. Он как-то спросил, влюблен ли я, а я ответил, что полюблю, когда захочу.
– Но ведь сложение у мальчика отменное!
– Вот именно, – с иронией отозвался Жозеф. – Он не носит голову между ног.
В каком-то смысле она радовалась, что Франсуа не бегает по блудницам, – ее тут интересовала не нравственность, а его здоровье. С другой стороны, тревожилась. В конце концов она спросила Жозефа, нет ли здесь пристрастия к мальчикам; тот ответил опять же с иронией:
– Такие вещи в коллежах довольно обычны. Asinus asinum fricat[40]. Но я не думаю, что у Франсуа греческие наклонности. Юноши его не интересуют.
Она подумала, что если бы у Франсуа были "греческие наклонности", взор его, несомненно, обратился бы на столь соблазнительного молодого человека, как Жозеф. И она решилась расспросить самого Франсуа. Тот не стал скрытничать.
– Полученный мною опыт достоин сожаления. Целый день нужно мыться после минутного дела. Только если мозги у меня перегреются, я еще раз соглашусь на что-либо подобное!
Мир сильно изменился со времен моей юности, подумала Жанна.
– Но ведь есть же честные девушки, – осторожно предположила она, – не одни лишь блудницы…
– Так угодно Небу, чтобы девушка, которая легко уступает одному юноше, столь же легко уступила другому. Ты слышала о неаполитанской болезни, матушка? О язве распутников[41]?
О да! И видела их омерзительные последствия, узнавала жертв этих недугов даже по походке! Ее передернуло от отвращения.
– Ты хочешь стать монахом? – все же спросила она.
– Великое Небо! – со смехом ответил он. – Об их присутствии узнаешь за десять шагов по запаху! Францисканцы учили нас, что забота о теле отвращает от Господа и что чистый дух делает чистым тело. Вследствие этого в дортуаре стояла вонь.
Тут она вспомнила, как тщательно следит за собой ее сын подобно Жозефу, он каждый день ходил в парильню, устроенную в доме, хотя раньше богатые горожане полагали, что общественную баню нужно посещать раз в месяц. Оба меняли чулки и белье с частотой, которая привела бы в негодование представителей старшего поколения. Наконец, в страхе перед постоянной угрозой со стороны вшей, блох и прочих паразитов, они немилосердно тратили неаполитанское мыло. Жанна, которая отнюдь не считала себя грязнулей, заразилась их ревностной заботой о чистоте и тоже стала начинать день с визита в парильню, где тщательно намыливала все тело. К этому же она приучила и маленького Деодата. Затем ее примеру последовала и кормилица. Сверх того, все обитатели дома после каждой еды обязательно прополаскивали рот водой, разбавленной вином с корицей, чтобы дыхание было свежим. А постельное белье регулярно ароматизировали с помощью так называемых кипрских птичек, иными словами – полотняных мешочков с душистой пудрой, которой посыпали простыни.
Это поколение научилось изысканности и деликатности, подумала она. Во времена ее молодости нельзя было оставлять парня и девушку наедине, потому что они тут же начинали щупать друг друга, а эти юноши ведут себя как монахи.
Как бы то ни было, тело как таковое не вызывало у Франсуа чрезмерного интереса.
Ладно, посмотрим, философски сказала себе Жанна. В конце концов, Анжела влюбилась, когда ей было сильно за двадцать.
Состоялся еще один философский спор – о максимах, переданных Жозефом Рене Анжуйскому. Теологи с важным видом стали порицать ту, где говорилось о потребности человека в вере и необходимости отвращать народ от верований, неугодных государям.
– Государь, – заявил самый самонадеянный из двух оппонентов Жозефа, – должен склониться перед религиозными верованиями, пусть даже и неугодными ему, если они продиктованы папой!
Они явно намекали на то, что университет подчиняется папе, а не королю Франции – со времен Карла VII и Прагматической санкции[42] это служило яблоком раздора между папским престолом и французским троном.
– Да, конечно, – ответил Жозеф, – но это не проблема веры, а проблема власти.
Придя к согласию в этом пункте, теологи соблаговолили отужинать.
20 Чернила и свинец
Осень рассыпала золотые листья и одарила плодами.
Франсуа вернулся в Орлеан на свой последний год учения. Поскольку в середине октября чума ушла из Парижа, Жозеф отправил новое послание Феррандо, чтобы сообщить ему об этом и уведомить, что они будут ждать его в особняке Дюмонслен в начале ноября.
Потом он и Жанна вновь предались сладостным наслаждениям, сознавая, что в Париже телу их будет недоставать солнца и запаха жасмина. Наконец они приняли решение отправиться в путь. Уехав в панике из-за чумы, они вернулись в город, который показался им совершенно чужим и даже враждебным: они отвыкли от столицы. Никаких садов, неистребимое зловоние, усилившееся в летний зной, озабоченные и мрачные лица людей, всецело поглощенных своими делами.
Едва войдя в особняк, они дали себе обещание уехать отсюда, как только станет возможно. Лишь пылкая радость слуг утешила их в том, что они покинули Анжер.
Жанна отправилась на рынок навестить Сибуле и, побеседовав с ним, решила увеличить ему жалованье, ибо он сумел так наладить доставку суржи, что больше ее не приходилось докупать.
– Ко мне заходил Итье, – сказал Сибуле, – чтобы передать вам деньги за аренду ферм, и доверил их мне. Тогда же он сообщил, что гораздо выгоднее выращивать только одну зерновую культуру на каждой ферме. Поэтому три ваши фермы займутся рожью, три другие – полбой, а седьмая – ячменем. Так что мы будем делать сладкую выпечку из полбяной муки, а подсоленную – из ржаной. Вино с двух ферм вполне пригодно для потребления, что экономит нам двенадцать мюи[43] медонского вина. Наконец, Итье заверил меня, что яиц и птицы более чем достаточно для трех пекарен, и я убедил Гийоме и его сестру основательно заняться пирогами с дичью.
Экономия оказалась значительной: Жанна выигрывала на этом двадцать экю в год. Сибуле превратился в успешного управителя, помогая Итье правильно распоряжаться землями и торговать. Хотя в августе и сентябре лавки не работали, потери выглядели незначительными.
– Вернетесь ли вы в Ла-Дульсад? – спросил он, отдавая ей деньги, полученные от Итье, и выручку лавки.
– Не знаю, – ответила она. – А почему вы спрашиваете?
– Итье сказал мне, что один из нотариусов Буржа хотел бы купить усадьбу в приданое своей дочери. И, между нами говоря, сам Итье был бы не прочь поселиться там с семьей. Нужно ли вам столько домов? Их содержание стоит немало, а дохода они не приносят. Вы уже и в Париж заглядываете только изредка.
При мысли о продаже Ла-Дульсада у нее защемило сердце. Но именно там волки загрызли Дени. И несмотря на другие, более счастливые воспоминания, это место всегда будет отмечено печатью смерти.
– Я отдам предпочтение Итье. Пусть предложит цену.
Затем она отправилась к Гийоме, который встретил ее как сестру. Она впервые поцеловала его.
– Хозяйка, вы хорошо сделали, что уехали. Это было невыносимо. Я трясся за жену, ведь она беременна.
За два месяца эпидемия унесла жизнь трех тысяч восьмисот человек. С точки зрения арифметики это было не слишком много для города с населением в почти сто тысяч душ, однако уцелевшие до сих пор содрогались от ужаса. Все говорили одно и то же: мы вернулись из страны мертвых. Не было перекрестка, где не горела бы свеча святому Рохусу.
Жанна навестила потом и Сидони, и птичницу: обе закричали от радости, обняли ее и угостили.
Есть ли у нее какие-нибудь вести о муже? Она покачала головой. Она старалась не думать об этом. У Жака не было даже могилы, куда можно было бы прийти помолиться. Вот почему, придя на кладбище Сен-Северен к могиле Бартелеми де Бовуа, она прочла не одну, а две молитвы.
Она обнаружила, что кладбище теперь буквально загромождено памятниками: появилось множество новых стел и свежесрубленных крестов.
Феррандо приехал с кучей подарков и вручил их Жанне с Жозефом: сапоги для верховой езды из рыжей кожи, узорчатые бархатные ткани, флаконы с душистой водой и разные ценные безделушки. Анжела отдыхала в родовой усадьбе на одном из Борромейских островов с четырехмесячной дочкой Севериной, которая чувствовала себя превосходно.
Анжела обучила Феррандо французскому, изъяснялся он свободно и даже не без изящества, но произносил слова так, словно пел их: "Парриижские таамооженники – отъяавленные негоодяи".
Он привез идею, что и было целью его путешествия.
– Печатня, – сказал он просто, и глаза у него заблестели.
Уже пятнадцать лет назад один немец или голландец, никто не знал точно, придумал новый способ книгопечатания: не вырезая буквы в зеркальном отображении на деревянной доске, но укладывая заранее отлитые из свинца литеры в специальную форму. Жозеф слышал об этом еще в коллеже, Жанна – никогда. Оба ни разу не видели книг, отпечатанных таким образом. Это было похоже на выдумку. Оба знали лишь маленькие книжки, отпечатанные на старый манер, наподобие "Лэ", подаренного Жанне Жаком. Жозефу рассказывали о Библии на латыни объемом в тысячу двести страниц, отпечатанную будто бы в Страсбурге или в Бамберге, точно никто не знал; она стоила сто экю! Немыслимые деньги, только принц или кардинал мог позволить себе подобную прихоть.
Жозеф разлил по бокалам желтое луарское вино, и они уселись перед огнем.
– Печатня, – вновь заговорил Феррандо, – это будущее. Отныне можно выпускать сотни одинаковых книг, очень дешевых. Надо только иметь оборудование. Но оно очень редкое и работать на нем нелегко. Существует всего два или три комплекта.
Он описал основные принадлежности печатни: ящик с буквами, или наборная касса, раздвижные формы, куда укладывают рядами литеры, прессы, которые прижимают бумагу к буквам, предварительно намазанным чернилами. Все дело в чернилах.
– Они должны быть достаточно жидкими, чтобы покрыть всю поверхность каждой литеры, не должны сохнуть слишком быстро или слишком медленно, не должны выгорать на солнце. Главное – тайна чернил! – воскликнул Феррандо. – Но ее хорошо оберегают.
– Как это затрагивает нас? – спросил Жозеф.
– В октябре я должен был встретиться в Париже с человеком, который напечатал Библию на латыни, Иоганном Фустом, чтобы выкупить у него материалы и секреты ремесла. Он приехал до меня, в августе. Потом его дочь Дина написала мне, что он умер от чумы[44].
– Где же находятся материалы? – спросил Жозеф.
– Именно это я и хотел бы узнать, – сказал Феррандо.
– Ты не заходил туда, где жил Фуст?
– Я не знаю его парижского адреса.
– Судя по твоему описанию, оборудование это довольно тяжелое и громоздкое, – сказала Жанна. – Если Фуст привез его с собой, оно с большой долей вероятности находится там, где он остановился. Сколько это стоит?
– Мы договорились, что я сделаю первый взнос в тысячу ливров, – ответил Феррандо.
– Тысяча ливров! – вскричал Жозеф, подпрыгнув в кресле. – Но это же громадная сумма! Почти семьсот двадцать пять экю!
За такие деньги в Париже можно было снять десять домов на двадцать лет или купить три.
– Это примерно половина суммы, которую Фуст предложил одному ремесленнику по имени Генсфлейш[45], чтобы тот изготовил оборудование: тысяча девятьсот гульденов, то есть тысяча триста восемьдесят два экю.
– Но почему же так дорого? – удивилась Жанна.
– Я уже сказал: это редкость.
– В таком случае почему Фуст решил продать его?
– Потому что ни у него, ни у Генсфлейша нет достаточных средств и связей, чтобы получать заказы. Они не смогли наладить дело.
– А как бы ты распорядился этим оборудованием? – спросил Жозеф.
Очаровательная улыбка, так украшавшая Феррандо, осветила его лицо.
– Для начала я бы привлек моего дядю кардинала Бонвизи. Мы могли бы получить с его помощью привилегию на печатание индульгенций, за счет которых его святейшество папа Павел II наполняет свою казну. При цене в пол-ливра за индульгенцию две тысячи таких листочков позволят нам вернуть большую часть затраченных средств.
– А индульгенции часто продаются? – спросил Жозеф.
– На Пасху и на Рождество, – сказал Феррандо, протягивая ему стакан, чтобы он налил еще вина.
Жанна с трудом сдержала улыбку: это напомнило ей дело с пирожками, но размах был совсем иным.
– Однако, – продолжал Феррандо, – есть много других текстов, и можно печатать не только индульгенции, но, например, Ветхий и Новый Завет, которые с папского благословения почел бы долгом купить любой зажиточный христианин ради спасения своей души. Если издать в достаточном количестве Библию, которая стоит сегодня сто экю или больше, можно будет с выгодой продавать ее за двадцать, ведь затраты на печать составят всего несколько ливров.
Жанна убедилась, что за ангельскими манерами Феррандо Сассоферрато скрывается смелый коммерческий ум.
– Тут есть один плюс, о котором вы, возможно, уже догадались, – сказал Феррандо, – но всегда лучше все проговаривать до конца: печатня, способная выпускать тексты в сотнях экземпляров, дает большую власть, чем деньги. Власть почти королевскую.
Жанна и Жозеф слушали, пораженные.
Да, это и в самом деле власть. Бесконечно более заманчивая, чем деньги.
Перед Жанной вдруг открылось самое обольстительное из искушений. Быть сильнее любых властителей! Благодаря чернилам и свинцу!
– Вы же понимаете, не деньги меня привлекают, – сказал Феррандо, – не одна лишь возможность заработать – будь то тысяча или десять тысяч экю. Мы все равно не сможем есть в два раза больше, и жизнь нашу это не продлит. Нет, главное – власть! Она всему придает особый вкус.
Итальянское красноречие заполняло комнату. Как и умы Жанны и Жозефа. Они целиком одобрили план, о котором почти ничего не знали.
Ужин был накрыт, и кормилица спустилась вниз с Деодатом. Феррандо раскрыл ему объятия и осыпал цветистыми похвалами на итальянском.
За перловым супом последовало жаркое из говядины с чесноком и гвоздикой.
– Одного не понимаю, – заметила Жанна. – Почему Фуст приехал на встречу загодя, раньше тебя?
– Ах! – вскричал Феррандо. – Узнаю женскую мудрость! Ибо в этом вся проблема. Думаю, он хотел выручить побольше, столкнув меня с еще одним покупателем.
– Ты догадываешься, кто это?
– Да. Сорбонна. Жозеф отложил ложку.
– Он был жестоко наказан за свое двуличие, – сказал Феррандо.
– Неужели ты хочешь вступить в соперничество с Сорбонной? Религиозная власть, опирающаяся на королевскую мощь, представляет серьезную опасность, – сказал Жозеф.
– Я, скорее, хотел бы услужить Сорбонне, – возразил Феррандо с улыбкой. – Я не верю, чтобы в Париже нашелся хоть один ремесленник, способный использовать оборудование Фуста. Таких мастеров всего трое или четверо, включая Генсфлейша. Я знаю имена Петера Шёффера, Альбрехта Пфистера, Мартина Брехтера, который работал с Генсфлейшем, и Конрада Хумери.
– Но ведь этому можно научиться, – сказал Жозеф.
– Вполне вероятно. Однако на это уйдет несколько лет. И при условии, что будет раскрыта тайна чернил.
– Из какого города тебе написала дочь Фуста? – спросила Жанна.
– Из Парижа.
– Значит, она была в Париже. Возможно, она все еще здесь?
– Не знаю.
– Когда и где видел ты Фуста в последний раз?
– В Майнце, в июле. Он создавал новую гарнитуру шрифтов и, по его словам, был настолько поглощен этим делом, что освободиться мог только в конце сентября. Именно поэтому мы назначили встречу на октябрь. Тем временем я получил ваше письмо из Анжера с известием, что в Париже свирепствует чума. Я надеялся, что к концу октября эпидемия кончится, и считал, что Фуста, конечно, тоже предупредили. Я уже хотел написать ему и отложить нашу встречу до конца эпидемии, но в начале сентября получил письмо от его дочери, где она сообщала, что он умер.
– Все это очень странно, – заявил Жозеф.
– А почему вы избрали местом встречи Париж? Ты мог бы повидаться с Фустом в Майнце, разве нет? – спросила Жанна.
– Именно он предложил встретиться в Париже. Он говорил, что здесь есть двое или трое граверов, чьим талантом он восторгается.
На какое-то время все трое задумались. Слуга подал засахаренные вишни в сиропе и легкое светлое вино.
– Все это очень хорошо, – сказала Жанна. – Но пока у нас нет ничего. Мы не знаем, где находятся приспособления Фуста, и не умеем ими пользоваться.
– Надо найти их, – сказал Феррандо. – А когда найдем, я берусь отыскать мастера, который сумеет с ними работать.
– Помимо индульгенций и Библии можно напечатать и много другого, – мечтательно сказал Жозеф, перед тем как отправиться спать.
Жанна знала по опыту, что проблема решается лучше не тогда, когда наваливаешься на нее, – напротив, стоит дать ей время отлежаться в одном из уголков разума. Она представила себе оборудование Фуста: один или даже два пресса, рамки для свинцовых букв, несомненно, очень тяжелые, наборная касса, множество инструментов, флаконы с чернилами… Такое не заметить нельзя. Тем более что эти материалы нельзя держать открытыми. Буквы могут рассыпаться при перевозке, флаконы с бесценными чернилами – разбиться. Фуст наверняка поместил свое добро в ящики. Она отправилась к Сибуле.
– Если бы я захотела выяснить, – спросила она, – какого числа повозка, нагруженная тяжелыми ящиками, прибыла из германии и по какому адресу остановилась, что мне следовало бы сделать? Он усмехнулся:
– Вам стоило бы запастись золотыми монетами, хозяйка, и отправиться к стражам ворот Сент-Антуан, Тампль и, возможно, Сен-Мартен. Там вы узнали бы дату прибытия, но не адрес. Хотите, я возьмусь за дело?
– Да. Скажете мне, сколько пришлось заплатить. А как быть с адресом?
– Если это повозка из Германии, она скорее всего принадлежит немцу, однако мы не знаем ни имени возчика, ни его корпорации. Он ехал из какого города в Германии?
– Думаю, из Майнца,
– Это далеко?
– Порядочно. По меньшей мере, дня два пути.
– Тогда она, наверно, задержалась в Париже хотя бы на день, и если повезет, то на постоялом дворе "Золотое колесо", недалеко отсюда. Может, кое-что мы там разузнаем. У возчика был седок?
– Да, немец по имени Иоганн Фуст.
– Иоганн Фуст, – повторил он, чтобы лучше запомнить. – \ он потом уехал обратно?
– Он умер от чумы либо в середине, либо в конце августа.
– А вот это уже интересно! – воскликнул Сибуле. – В таком случае хозяин постоялого двора обязан был сообщить о случившемся приставам. Впрочем, судьбу груза это никак не проясняет.
– Фуст приехал вместе с дочерью Диной, – добавила Жанна.
– Она тоже умерла?
– Понятия не имею. Если и умерла, то после него.
– Что это был за груз?
– Тяжелые, даже очень тяжелые вещи. Могла она увезти их?
– Сомневаюсь, что, когда свирепствовала чума, она сумела найти людей для перевозки груза. Вы же помните, не оставалось ни одной повозки – все, кто мог, покинули Париж. Дайте мне время, и я все выясню, хозяйка.
Она вернулась на улицу Бьевр озадаченная. Чем больше она размышляла, тем запутаннее казалась ей эта история. Она доверяла суждениям Феррандо и не сомневалась, что печатня окажется делом очень прибыльным, но слишком много вопросов оставалось без ответа. С кем хотел Фуст повидаться в Париже? И почему именно в Париже, где он никого не знал?
Через три дня к ней зашел Сибуле. Он раздобыл нужные сведения. Пятого августа две повозки, прибывшие из Германии, проследовали через ворота Сент-Антуан с грузом, оцененным в пятьдесят экю и предназначенным для Сорбонны. Владелец, Иоганн Фуст, которого сопровождала дочь, Тина Шёффер, заплатил таможенную пошлину в два ливра, хотя товары для университета были освобождены от подобного рода сборов.
– А мне это обошлось в один ливр, – сказал Сибуле.
Жанна хотела развязать кошель, но он остановил ее:
– Это еще не все. Ваш Фуст, как я и предполагал, остановился на постоялом дворе "Золотое колесо". Вместе с дочерью. И возчиком. Именно там он и умер. Когда его состояние стало безнадежным, дочь расплатилась и уехала вместе с возчиком с такой поспешностью, словно за ними гнался дьявол. Они пробыли в городе неделю. Уехала она двенадцатого августа.
Феррандо и Жозеф слушали открыв рот и ждали продолжения – если, конечно, таковое существовало.
– Не только вы ищете эти ящики, – сказал Сибуле. – Едва кончилась эпидемия, как на постоялый двор "Золотое колесо" явились двое господ, одетых в черное, несомненно клириков, и потребовали, чтобы хозяин отдал им груз, привезенный Иоганном Фустом. Тот ответил, что груза у него нет. Они угрожали позвать стражников и бросить хозяина в тюрьму по обвинению в воровстве. К счастью для него, трое свидетелей, работавших на постоялом дворе, подтвердили, что дочь Фуста забрала ящики и уехала, когда поняла, что ее отец обречен. Хозяин пригрозил, что сам позовет стражников и предъявит людям в черном обвинение в клевете. Это были клирики из Сорбонны. Они завопили, что прево во всем их поддерживает и что им необходимо осмотреть подвал. Никаких ящиков там не оказалось. Они ушли взбешенные. Хозяин был взбешен не меньше.
Сибуле обвел слушателей лукавым взглядом.
– Это мой знакомый. Он у меня часто заказывает пироги и пышки. Он знает, что я с университетом ничего общего не имею. Где находятся пресловутые ящики, ему неизвестно. Но он дал мне маленький кошель, который нашел в комнате Фуста после того, как могильщики забрали тело. Не знаю, были ли там деньги. Добро покойников быстро пропадает. Однако в нем оказалось несколько каких-то бумаг, и хозяин припрятал его. Господам из университета он ни слова не сказал, потому что разозлился на них. Кошель обошелся мне еще в два ливра.
Он вынул его из кармана и протянул Жанне. Плоский мешочек из старой потертой кожи.
Она развязала тесемки, достала несколько разрозненных листков, испещренных записями на языке, в котором угадала немецкий, и отдала их Феррандо. Тот вручил Сибуле семь ливров, пылко поблагодарив его за труды и за добытые сведения.
Сибуле сполна отработал свой день. Тепло распрощавшись с Жанной и мужчинами, он ушел.
Феррандо стал изучать листочки. Их оказалось семь: с обеих сторон они были исписаны торопливым почерком, фразы часто обрывались, вместо слов появлялись сокращения – понять ничего было невозможно. Когда Жанна и Жозеф ушли спать, Феррандо все еще сидел над этими листками. И похоже, собирался провести так всю ночь.
Когда на следующее утро они спустились к завтраку, Феррандо уже был на ногах и, несомненно, поджидал их. Он заявил, что почти не спал. Ему поверили сразу: глаза у него были красные. Слуга заменил свечи, обгоревшие почти до розетки подсвечника. Они сели за стол вместе с кормилицей и Деодатом. Обменявшись обычными приветствиями, Феррандо для начала выпил свое горячее молоко и, только надкусив яблочную пышку, задал вопрос в лоб:
– В Париже есть меняльная контора?
Как можно было сомневаться? Ему тут же сообщили, что в Париже их несколько.
– А особо большая контора? – спросил он.
– Нет… Ну, разве что мост Менял, – ответила удивленная Жанна.
Он ударил по столу ладонью с такой силой, что кормилица подпрыгнула, а Деодат перепугался.
– Мост Менял! – воскликнул он, наверное, громче, чем Архимед когда-то выкрикнул свое знаменитое "Эврика!".
– Во имя любви к Небу, Феррандо, объясните нам, что привело вас в такое волнение? – спросил Жозеф.
– Мост Менял! – в экстазе повторил Феррандо, возведя глаза к потолку.
Сотрапезники взирали на него в удрученном молчании. Феррандо вытащил из кармана одну из бумаг, найденных в кошельке, который раздобыл Сибуле.
– Смотрите, – сказал он, ткнув пальцем в почти неразличимую запись. – Что вы видите? By Wechsel В. Это означает: By Wechsel Briicke. Около моста Менял.
Жозеф вытаращил глаза.
– И что же?
– Почему Фуст записал это название? Потому что там должны находиться ящики. Название было ему незнакомо. Он записал его, чтобы не забыть.
Это походило на правду. Но где же могли храниться ящики? Неужели на самом мосту Менял?
– Я пойду туда! – объявил Феррандо, вставая.
– Сядьте, Феррандо, – спокойно приказала Жанна. – Вас видно, как муху в молоке. Вы же слышали вчерашний рассказ Сибуле. Не вы один разыскиваете груз Фуста. Вы переполошите весь Париж. Ведь вы не знаете, где именно находится груз, у вас ничего нет, кроме указания на мост Менял, что довольно неопределенно. Я полагаю, что он уложен на одну из барж, стоящих на якоре возле моста. Но если вы в вашем наряде и с вашим акцентом начнете слоняться там, то лучше уж сразу ударить в набат. Предоставьте это мне. Я не так заметна, как вы. И надо твердо знать, имеет ли Сорбонна права на эти ящики. Вы слышали, что говорил Сибуле: Фуст заявил, что груз предназначен для Сорбонны – в этом случае она и должна его получить.
Феррандо покачал головой:
– Нет, если бы Фуст заключил окончательный договор с Сорбонной, он не приглашал бы меня в Париж. По моему мнению, у него был довольно сложный план. Наверное, он хотел, чтобы я оплатил материалы, а затем передал исключительное право на печатание Сорбонне. Я изучая эти бумаги почти всю ночь. Фуст написал: "Schoffer und Kaster als alleinige Werksmeistem", то есть "Шёффер и Кастер как единственные мастера". Он намеревался привлечь этих людей к работе в печатне, которую хотел устроить в Париже.
– Видимо, Шёффер – его зять, – сказала Жанна, – поскольку дочь, Дина или Тина, носит эту фамилию.
Феррандо кивнул.
– Если оборудование не было продано Сорбонне, – заметила Жанна, – а ты не заплатил Фусту, значит, наследниками являются Тина и ее муж Шёффер. Не понимаю, зачем мы так суетимся: самое разумное и честное решение – это съездить в Майнц и спросить супругов Шёффер, как они намерены всем распорядиться.
Феррандо поднялся и стал мерить шагами комнату.
– Это действительно самое разумное решение. И самое невыполнимое.
Он замолчал и посмотрел на своих собеседников.
– Какими бы ни были намерения наследников Фуста, они являются и останутся чисто теоретическими. Нужно быть наивным человеком, чтобы поверить, будто Сорбонна допустит вывоз такого груза из Парижа. Как только они узнают, где он, то тут же конфискуют под любым предлогом и никому не заплатят даже одного су. Вы же слышали рассказ Сибуле. Два клирика из университета, которые пришли с обыском на постоялый двор, захватили бы ящики manu militari[46], даже не заикаясь об оплате. В их решимости нельзя усомниться. Проявив честность, мы просто позволим Сорбонне украсть материалы. И выгоду из этого извлечет только она.
– Если я правильно понял, – сказал Жозеф, – нужно вывезти оборудование из Парижа так, чтобы не узнала Сорбонна. Вообще-то это называется разбоем.
Феррандо пожал плечами:
– Слова и реальность – вещи разные. Любая форма власти есть разбой. И самые видные христиане – первейшие разбойники в этом мире. Мой дядя кардинал открыл мне, что пресловутый дар императора Константина папе Сильвестру – чистейшая выдумка. На самом деле Церковь завладела огромным достоянием Константина путем мошенничества. А мы ничего подобного не делаем – мы всего лишь хотим помешать настоящим разбойникам завладеть сокровищем, за которое они не заплатили и на которое не имеют никаких прав. – Начнем с того, что попытаемся выяснить, куда подевались ящики, – сказала Жанна. – А решать будем потом.
21 Разбойники-комедианты
Берега Сены в ноябре отнюдь не радовали глаз – грязные, местами размытые, везде зловонные, а вокруг промозглая сырость, естественно более пронизывающая у воды, чем наверху, на набережных. Здесь хорошо были видны отбросы, которые течением сносило в море: пустые ящики, дохлые собаки и странствующие экскременты. Все знали, что порой тем же путем следовали трупы, которые – в зависимости от того, насколько они пропитались влагой, – через пару дней всплывали около Сен-Жермен, Пуасси, Боньера или дальше. Но это, казалось, нисколько не смущало рыболовов, большей частью нищих, сидевших с большой корзиной для добычи поодаль друг от друга. Впрочем, у некоторых улов был действительно знатный.
По обоим берегам кое-где горели костры, от них исходил синеватый дымок, вившийся вверх в холодном воздухе. Возле каждого такого костерка грелись двое или трое матросов-речников в широкополых шляпах. Два стражника, завершивших обход и не обнаруживших на берегу ничего предосудительного, медленно поднимались по лестнице, по которой сошли вниз Жанна и Сибуле.
На якоре стояло несколько барж. Одни размером до пяти или даже шести туазов[47], другие не более трех. Такие суда с почти плоским дном, иначе говоря – без киля, не должны быть ни слишком большими, чтобы не застрять под арками моста, особенно во время паводка, ни слишком маленькими, дабы не перевернуться при качке. Большей частью на них доставляли фураж, который везли отовсюду, где река была судоходной, но чаще всего из Мелёна; некоторые служили для перевозки камня, щебня и леса. Баржа – словно вьючная лошадь, которая вместо овса требует, чтобы ее постоянно конопатили. При слабом течении управиться с ней могли два-три человека. Откуда-то раздавались удары молотка: владелец чинил свое судно. Две баржи одна за другой медленно проплыли под мостом Менял; матросы с баграми в руках следили, чтобы судно не задело опоры.
Жанна и Сибуле непринужденно прогуливались, словно влюбленная парочка. Он даже взял ее под руку – чтобы не поскользнулась и для вящей убедительности. Головой они старались особо не вертеть, но взгляды их перебегали с баржи на баржу.
Оказавшись перед одной из них, Жанна слегка тронула Сибуле локтем. На палубе никого не было. Грубое полотнище скрывало какие-то угловатые формы, но из-под приподнятого ветром края выглядывал угол деревянного ящика. Баржа называлась "Прекрасная Катрин", свидетельством чему была красная надпись на борту.
– Пошли отсюда, – сказал Сибуле.
Они вновь оказались перед Дворцом правосудия, напротив Шатле, чей зловещий силуэт возвышался на другом берегу. Отсюда был хорошо виден болтавшийся на виселице повешенный, вокруг которого кружили вороны.
– Вы думаете, это те ящики? – спросил Сибуле.
– Почти уверена.
– Тогда возвращайтесь домой. Предоставьте действовать мне.
– Помните, что надо сказать? Вы предлагаете оплатить хранение.
Он кивнул. Домой она вернулась с бьющимся сердцем. Феррандо играл в шахматы с Жозефом перед очагом. Эта безмятежная картина поразила взволнованную Жанну.
– Я нашла оборудование! – воскликнула она, откинув капюшон.
Они прервали игру и уставились на нее. Она дрожала от холода. Жозеф поспешно подвел ее к огню и налил бокал горячего вина, потом снял с нее широкий, подбитый мехом плащ.
Согревшись и успокоившись, она спросила Феррандо:
– А что дальше? Что ты собираешься делать дальше? Ты думал об этом?
Он выглядел озадаченным.
– Вырвать груз из лап Сорбонны. Если он находится на барже, то проще всего, по-моему, будет спустить его вниз по течению до моря, а в Гавре погрузить на иностранный корабль.
– Какой корабль?
Вопрос, несомненно, пустой, ибо Феррандо вместо ответа лишь пожал плечами. Банкиры в любой момент могли без помех зафрахтовать голландское или немецкое судно.
– А потом?
– Потом высадиться в Голландии. Оттуда, получив согласие супругов Шёффер, мы сможем вступить в переговоры с Сорбонной. Или с любыми другими властями.
Они стали с лихорадочным нетерпением ждать Сибуле. Тот явился незадолго до темноты.
– Все оказалось непросто, – сказал он, усевшись. – Я расспросил речников. Естественно, они хотели знать, почему я интересуюсь этой баржой. По совету хозяйки я ответил, что пришел уладить дело с платой за хранение по поручению немецкого клиента, который не говорит по-французски. Они назвали мне имя владельца: мэтр Антуан Брико, нормандец, живет в квартале Августинцев. Когда я сказал ему, что представляю зятя его клиента, он страшно обрадовался. "Месяц задержки! – воскликнул он. – Он мне за это заплатит! Сколько выгодных дел я упустил!" По его словам, он собирался выгрузить ящики на берег и бросить там. Я предложил ему встретиться завтра на постоялом дворе "Золотое колесо" с мэтром Шёффером, который ни слова по-французски не знает, так что я буду переводить.
Он посмотрел на хозяев дома:
– Итак, кто из вас двоих, мессиры, будет немцем?
– Естественно я, – сказал Феррандо.
– Ты говоришь по-немецки? – спросил Жозеф.
– Довольно бегло. В любом случае этот Брико вряд ли что-нибудь поймет. Сибуле должен только сказать, что помимо пятидесяти ливров я предлагаю еще сто, чтобы перегнать баржу в Гавр.
– А если он откажется?
– Мы уйдем и обсудим, как быть.
– Сто ливров – сумма соблазнительная, – согласился Сибуле. – Теперь вам нужно снять комнату на постоялом дворе "Золотое колесо" под немецкой фамилией… Шёффер, так? Я провожу вас. Поторопитесь, уже темнеет.
– Сибуле, вы просто мэтррр! – вскричал Феррандо.
Он побежал, чтобы собрать дорожный саквояж, и вскоре вернулся. Оба пожелали спокойной ночи Жанне с Жозефом и тут же ушли.
Мэтр Антуан Брико был человеком лет сорока с соломенной шевелюрой. Он смерил Феррандо взглядом; тот выбрал одежду самых тусклых цветов – черную с серым. Кроме того, принял суровый и озабоченный вид. Сибуле едва не расхохотался, когда увидел его в харчевне при постоялом дворе.
Все трое уселись за стол. Сибуле заказал три стакана ипокраса.
– Бедный мэтр Фуст, – начал Брико, – кто бы мог подумать! Поскольку Сибуле уже начал испытывать явные затруднения с переводом, Феррандо перехватил инициативу:
– Ja, ja, niemand kann es glauben! Das war uberhaupt tragisch und schmerzlich![48] – Он покачал головой. – Францюзски шуть-шуть говорить, мэтр Прико. Не злишком карашо, но фее понимать! – добавил он.
Брико с облегчением кивнул. Феррандо вытащил свой кошель и отсчитал пятьдесят ливров. Глаза Брико вспыхнули.
– Да ладно! Не слишком вы и припозднились. Пятьдесят ливров! Вы щедрый человек. Вы мне должны только сорок два.
Феррандо отмахнулся, показывая, что это не имеет значения, затем притронулся к руке Сибуле, приглашая того вступить в беседу.
– Jetzt sprechen sie[49].
– Дело в том, что мэтр Шёффер хочет дать вам заработать побольше денег, – сказал Сибуле.
– Да? – отозвался Брико, которого выгодная сделка привела в превосходное расположение духа. – Надеюсь, вы не заставите меня снова стеречь эти проклятые ящики?
Сибуле покачал головой:
– Нет, он хочет, чтобы вы доставили их в Гавр.
– В Гавр? – вскричал ошарашенный Брико. – Да ведь река скоро встанет!
– Не встанет до пятнадцатого декабря, точно, а может быть, и позже, – возразил Сибуле. – Вы успеете добраться до Гавра и вернуться обратно.
– Мне нужно подумать, – сказал Брико. – Мне нужно по крайней мере два человека и…
– Nein! – отрезал Феррандо. – Heute! Сегодня! Сто лифроф, мэтр Прико! Сто лифроф!
Было видно, что сумма поразила Брико. Он вытаращил глаза и отхлебнул из своего стакана.
– Сто ливров, – подтвердил Сибуле. – Десять получите сразу.
Не всякий речник зарабатывал такие деньги за целый сезон. Брико спросил, что же хранится в ящиках.
– Ткацка машин, – ответил Феррандо, скрещивая пальцы. – Фы понимать? Ткацка!
– Ладно, тогда договоримся на завтра, – сказал Брико. – Дайте мне время найти помощников.
– Ф который час? – спросил Феррандо.
– В восемь утра, у баржи.
Феррандо кивнул и отсчитал десять ливров, затем пододвинул монеты к Брико.
– Слово чести, – сказал Брико.
– Молшание? – осведомился Феррандо.
Брико не понял. Сибуле объяснил, что об этом деле не следует распространяться. Брико кивнул и обменялся рукопожатием с обоими.
Сделка состоялась.
– Я все-таки беспокоюсь, – сказала Жанна. – А если этот человек проболтается?
– Не проболтается, – отозвался Феррандо, – но риск, конечно, есть. Однако избежать его мы не можем. В любом случае я сяду на эту баржу.
– Жозеф, – сказала Жанна, – поедем за баржей по берегу, в повозке.
Жозеф на мгновение задумался.
– Почему бы и нет? – воскликнул он.
И ушел искать повозку.
На следующий день, поцеловав Деодата и предупредив кормилицу, что уезжает на пару недель, Жанна села в повозку, нанятую Жозефом. Феррандо же отправился на мост Менял.
Баржа, особенно такая большая и тяжелая, как "Прекрасная Катрин", не могла двигаться со скоростью повозки, поэтому было решено встретиться для начала в Пуасси, где Жанна с Жозефом подождут Феррандо. Они поехали по дороге вдоль Сены. Несколько раз за день они останавливались и ждали. Жозеф выходил на берег и смотрел, как Феррандо машет им руками в знак того, что все идет хорошо. Ночью баржа пришвартовалась в Верноне. В темноте двигаться по реке было опасно: суда могли столкнуться друг с другом, хотя каждое имело большой фонарь на носу и на корме. В Верноне все и заночевали.
Феррандо продолжал ломать комедию и сохранял свой немыслимый акцент.
Жанна спала плохо. Ей не удавалось прогнать глухую тревогу. Она не верила, что никто не заметил, как увезли эти драгоценные приспособления. От Сибуле она знала, что Париж кишит шпионами.
Встала она рано, задолго до рассвета. Быстро покончив с утренним туалетом и выпив только стакан воды, поскольку харчевня постоялого двора еще не открылась, она направилась к находившемуся в отдалении берегу. День едва занимался, все вокруг выглядело серо-голубым. Было очень холодно. На краю узкого причала, где была пришвартована "Прекрасная Катрин", она заметила две фигуры. Мужчины. В черном. Неподалеку стояли две лошади, привязанные к деревьям.
Сердце ее заколотилось. Чтобы появиться здесь так рано, они должны были скакать во весь опор. Из Парижа. Должно быть, их предупредили через несколько часов после отплытия Феррандо. И они рассчитали, что баржа остановится в Верноне. Спешка была свидетельством их решимости. Судя по всему, они прикажут Брико выгрузить ящики и доставят их в Париж. Они приехали только что: наверное, ждали рассвета, чтобы призвать лучников. Наверняка они арестуют Феррандо. Самозваный немец будет разоблачен. Его сообщники тоже: Жанна де л'Эстуаль, которую уже судили по обвинению в колдовстве, и Жозеф де л'Эстуаль, крещеный еврей. Все это вызовет громадный скандал. Суд проигран, еще не начавшись: никогда судьи не осмелятся пойти против Сорбонны.
Феррандо был отныне управляющим наследством Жака. Она потеряет все: жизнь и имущество. И Жозефа вслед за Жаром.
Все.
В какую же авантюру она ввязалась!
Она не сводила глаз с фигур в черном. Один был коренастым, а второй более хилым.
Жанну охватило отчаяние. Жизнь ее может оборваться здесь и сейчас. На счету каждая минута. Каждая секунда. Но что делать?
На земле валялся багор. Вода была ледяная, это угадывалось по туману, превращавшемуся в изморось.
Подняв багор, Жанна медленно двинулась к причалу. Они ничего не услышали. Туман скрадывал звук шагов. Она стремительно бросилась вперед и столкнула коренастого в реку.
Упавший закричал. Он барахтался в воде, стараясь ухватиться за корму баржи. Второй, ошеломленный, повернулся. Женщина! Жанна столкнула в воду и его. Он тоже закричал. Его уносило течение. Внезапно первый перестал цепляться за жизнь и камнем пошел ко дну. Возможно, из-за судороги. Второй пытался выбраться на берег. Она наклонилась и оглушила его ударом багра. Он захлебнулся.
Жанна кинула багор туда, где нашла его, и стала смотреть, как два тела уплывают вниз по течению. Через час их снесет к Андели. Она вернулась на постоялый двор, в лице у нее не было ни кровинки. Харчевня по-прежнему была закрыта, огонь еще не разжигали. Бесшумно ступая, она поднялась в свою комнату.
Жозеф проснулся. Он с изумлением смотрел на нее, полностью одетую и с искаженным лицом.
– Что случилось?
Она села на кровать, не ответив.
– Жанна?
– Потом скажу.
Час спустя "Прекрасная Катрин" снялась с якоря. Феррандо в прекрасном настроении расхаживал между ящиками. Он весело помахал Жанне и Жозефу.
Жозеф с удивлением посмотрел на двух привязанных лошадей и устремил вопросительный взгляд на Жанну. Как и ранним утром, она не ответила ему. Он задумался.
3 Гавре они остановились на одном из постоялых дворов. )Канна сказала Феррандо только одно:
– Надо действовать быстро, поверь мне.
Он взглянул на нее с любопытством и исчез до вечера. Вернулся очень довольный.
– Жаль поднимать вас с петухами, но если желаете посмотреть, как ящики отправляются в Роттердам, приходите в шесть утра на Церковную набережную и отыщите голландское трехмачтовое судно "Кеес ван Дуйль".
– А ты?
– Естественно, я отправляюсь с грузом. С вами прощаюсь до моего возвращения в Париж, то есть до весны. Но напишу я вам гораздо раньше. Хочу посмотреть, каковы намерения Шёффера. И какого мастера удастся мне найти. В любом случае, где бы ни была устроена печатня, это громадное дело. В поддержке моего дяди я уверен. Мы все трое входим в долю.
Жанна настояла на том, чтобы присутствовать при погрузке. Она хотела убедиться, что ее отчаянный поступок в Верноне был совершен не напрасно. Она и Жозеф ждали до девяти часов, когда "Кеес ван Дуйль" снялся с якоря. Никто из людей в черном так и не появился.
Феррандо, облокотившись на перила, размахивал шляпой. Жанна подняла руку, а Жозеф шляпу. Они не сводили глаз с корабля, пока тот не исчез в море.
Оборудование для печатни находились отныне вне досягаемости Сорбонны.
22 Встреча в Страсбурге
Неужели всегда нужно, защищая благо, творить зло? Жанна говорила так хрипло, что сама не узнавала свой голос. Опечаленный Жозеф сидел на кровати. После возвращения из Гавра Жанна слегла. Она подхватила простуду в ледяном тумане Вернона, и обратный путь оказался для нее тяжким испытанием.
Она все рассказала Жозефу. Про Дени. Про лазутчиков Сорбонны.
– Благорожденный всегда хочет творить добро, – ответил он. – Нет ни одного человека, сколь бы порочным он ни был, который не считал бы деяния свои благими. Ибо он стремится продлить свою жизнь, а всякая жизнь есть безусловное благо. Но чем значительнее цели, тем больше препятствий на пути. И чем выше ставка, тем больше риска.
Сам того не подозревая, он нашел те же слова, что Жак после гибели Дени.
– Твой брат угрожал убить твоего сына, чтобы достичь целей, которые считал законными. Ты убила его, чтобы защитить две жизни, свою и Франсуа, поэтому деяние твое было справедливым. Лазутчики Сорбонны хотели любой ценой заполучить ящики Фуста. Они могли это сделать, только уничтожив наши жизни. Следовательно, деяние твое было справедливым. Я знаю, мои слова звучат не слишком праведно, но я глубоко убежден, что ты поступила верно. Ты спасла четыре жизни – Феррандо, мою, свою и даже Франсуа, который был бы сломлен и разорен, если бы мы все погибли.
Она со вздохом кивнула. Затем попросила сходить на кухню и принести большую чашку с отваром ивовой коры: с помощью этого отвара она когда-то вылечила Жака, сбив поднявшийся после ранения жар. А чашка горячего молока с медом поможет снять хрипоту и очистить голос.
Дальнейшее развитие истории с ящиками не способствовало успокоению Жанны. О последующих событиях ей рассказал Сибуле, который пришел ее навестить.
Примерно неделю назад, то есть дня через три после возвращения Жанны и Жозефа, ректор Сорбонны забил тревогу: люди, отправленные за оборудованием для печатни, так и не вернулись. Они имели право обратиться к стражникам, чтобы завладеть ящиками, которые мэтр Фуст оставил на барже. Ибо шпионы, как и опасалась Жанна, все пронюхали. Отплытие Антуана Брико не прошло незамеченным, тем более что владелец баржи явно получил большие деньги. Об этом известили офицера, осуществлявшего надзор за набережными, а тот вспомнил историю с ящиками и, в свою очередь, уведомил городскую управу. Так взбешенный ректор узнал, что драгоценный груз Иоганна Фуста вывезен из Парижа. Но узнал много часов спустя.
А теперь никто не мог сказать, куда исчезли его посланцы.
Сибуле смеялся.
– Растворились в природе, – сказал он. – Вы их случайно не видели?
Жанна покачала головой. Она могла доверить Сибуле многое, но не все. Значит, ни один человек не сообщил о лошадях привязанных к дереву и потерявших хозяев. Черт побери! Кто-то проявил большое проворство. Еще бы, два прекрасных коня ценой в двадцать экю каждый! Людская алчность сыграла ей на руку.
– В управе полагают, что купил их немец! – продолжал Сибуле. – Разумеется, они допросили Брико.
Жанна вздрогнула.
– И он объяснил, что некий немец, представившись зятем владельца, предложил заплатить за хранение и отвести баржу в Гавр, что и было сделано. Это его ремесло. Никто не посмеет бросить ему упрек. Его попросили описать этого немца: молодой и худощавый, одет в черное, говорил с ужасным немецким акцентом. Сейчас они опрашивают всех немцев в Париже.
Сибуле так хохотал, что и Жанна улыбнулась. Хотя он и работал на прево, ему было приятно натянуть нос этим важным господам из Сорбонны. В сущности, в первую очередь Сибуле работал на себя. Жанна хорошо платила ему, и он был ей благодарен. Состояние его настолько округлилось, что он купил дом, где некогда жил простым съемщиком.
– Брико рассказал о вас? – спросила она.
– Нет, для этого он слишком хитер.
– А о нас?
– Тоже нет. Видите ли, хозяйка, такие люди, как мы, как он и я, всегда отвечают лишь на те вопросы, которые им задают. Сами вперед не лезут.
Она подумала, что ее спасли два обстоятельства: тревожная бессонница, поднявшая ее в Верноне с постели, и тот факт, что Сорбонна не знала, на каком этапе погони исчезли ее посланцы.
Такие люди, как мы, сказал Сибуле. Он считал, что народу глубоко чужды высокомерные вельможи, занятые лишь политическими интригами и помышляющие только о выгоде. Народ был един в своем безмолвном противостоянии этим людям, которые, в конце концов, жили на налоги, собранные с истинных тружеников. Сибуле видел, как работала Жанна. Хоть и баронесса, к миру власти она не принадлежала. Она была крестьянкой, он это знал. Поэтому и защищал ее.
Она провела в постели несколько дней и немного оправилась к Рождеству, словно по заказу. Свой тридцать второй год она встретила очень усталой. Только сила воли помогала ей держаться.
– Я выздоровею, – сказала она Жозефу. – Должна выздороветь ради Деодата и тебя.
Франсуа, который приехал на каникулы, встревожился, увидев, как она похудела. Он ничего не знал о недавних событиях, которые так ее потрясли. Она постаралась его успокоить и устроила веселый праздничный ужин: пригласила даже двух менестрелей – один играл на скрипке, а второй исполнял рождественские песни.
Воспитатель Деодата, молодой францисканец, пришел в полный восторг. Потом Жанна щедро раздала снедь беднякам квартала.
Силы возвращались к ней медленно. Жозеф ни разу не дал ей повода усомниться в своей нежности и любви. Он постоянно был рядом; каждый вечер ложился с ней в постель, согревал ее, когда она дрожала в ознобе, и терпеливо сносил обильное потоотделение, вызванное отваром из ивовой коры.
Мыслимо ли, чтобы два брата так дополняли друг друга? Можно ли любить двоих мужчин в одном? В конечном счете, уступив Жозефу, она отдавалась Жаку и хранила ему верность.
Итак, Франсуа весной предстояло завершить учебу в орлеанском коллеже.
– Какое ремесло привлекает тебя? – спросила Жанна.
– Художника и иллюстратора книг, – ответил он с некоторым вызовом во взгляде.
Ответ этот удивил Жанну. Но еще больше она удивилась, когда он показал ей листок, исписанный каллиграфическим почерком и украшенный рисунками: это была строфа из "Лэ" Франсуа Вийона. От волнения у нее перехватило дух. Взгляд ее задержался на позолоченной заглавной букве, выписанной на лазурном фоне, в центре которой сверкала серебряная звезда.
Владычица небес, властительница ада, Царица светлая земных полей и вод…[50]– Где ты это нашел?
– Списал с твоей книжки.
Жозеф изучил листок и восхищенно поднял брови:
– Как ты научился так хорошо рисовать? Франсуа с улыбкой развел руками:
– Рассматривая. И пробуя.
Каждая буква была выведена с таким изяществом и точностью, что Жозеф задумался. Франсуа ничего не знал о печатне. И, по уверению Жанны, он пребывал в полном неведении относительно того, кто его настоящий отец. Мир и впрямь был полон совпадений: Франсуа невольно соединил две нити судьбы Жанны.
– Твое умение пригодится, ты еще даже не знаешь как, – сказал Жозеф.
И он объяснил, что такое печатня, как мастер гравирует и выплавляет литеры. Глаза Франсуа заблестели.
– Но где же все это можно делать?
– Это мы с твоей матерью и пытаемся выяснить. Юноша пришел в восторг. Но почему надо так долго ждать?
Жозеф и это ему объяснил.
В середине марта пришло письмо от Феррандо из Майнца, где он повидался с Шёффером, которого его рассказ очень удивил. Шёффер знал, что тесть увез в Париж принадлежности для печатни, но полагал, что они были конфискованы Сорбонной: именно по этой причине его жена, дочь Фуста, уехала, не сделав даже попытки забрать их, поскольку предвидела, с какими трудностями столкнется. Она не смогла бы вывезти из Парижа двенадцать тяжелых ящиков – ее сразу бы схватили агенты университета.
В заключение Феррандо предлагал устроить встречу всех заинтересованных сторон на постоялом дворе "Олень святого Губерта" в Страсбурге на Пасху.
Жанна обрадовалась. Значит, ее преступное деяние в Верноне оказалось не напрасным. А Жозеф со своей стороны обрадовался еще и выбору места, ведь Страсбург был не только центром торговли, но и городом с вольным, независимым духом.
Пасхальное воскресенье 1467 года стало одним из самых счастливых дней в жизни Жанны де л'Эстуаль, а постоялый двор "Олень святого Губерта" – одним из самых чарующих мест на большом ковре ее жизни.
Там сошлись Петер Шёффер, его жена Тина, их сын Арминий, Жанна, Жозеф, Франсуа, кормилица и Деодат, Феррандо, Анжела с дочкой и ее кормилицей, наконец, Карл Кокельман, подмастерье Шёффера. Они съели двух жареных гусей, шесть мисок разного салата и множество куличей с миндалем и изюмом, которые воодушевили Жанну новыми кулинарными идеями, а также выпили одиннадцать бутылок рейнского вина и полную фляжку кирша.
Даже деревья вокруг постоялого двора помахивали ветками в знак приветствия.
Петер Шёффер, мужчина лет пятидесяти, худой, с загорелым лицом и седой остроконечной бородкой, делавшей его похожим на священника, отличался пронизывающим взором темных глаз и энергичной жестикуляцией. Его жена напоминала ранетовое яблочко – такая же крепкая и простая.
Тайна раскрылась во время обеда: по словам Шёффера, которому тесть написал из Парижа, Фуст сомневался, сможет ли печатня по-настоящему заинтересовать банкиров: дело слишком новое, рискованное и дорогое. Именно поэтому он вступил в переговоры с Сорбонной, хотя никаких обязательств на себя не брал. Печатник вовсе не хотел вести двойную игру, он просто искал возможность возместить расходы, которые понес в те годы, когда оплачивал работу Генсфлейша. Но предварительные беседы с одним из регентов парижского университета, чье имя Фуст, правда, не назвал, сразу насторожили его, ибо тот заявил, что печатня – опасное изобретение, чреватое подстрекательством к бунту; равным образом он полагал, что оборудование для печатни должно быть помещено под охрану городской стражи, иными словами – конфисковано. Не сомневаясь, что эту точку зрения разделяют и его коллеги, Фуст решил никому из университетских не открывать, где хранятся ящики.
– Отец очень боялся, – сказала Тина Шёффер, – что люди из Сорбонны хитростью завладеют оборудованием. Более того, он не исключал, что его самого силой задержат в Париже и принудят работать на них. Я воспользовалась сумятицей, вызванной чумой, и бежала оттуда, поскольку сама боялась, что меня схватят и под пыткой заставят признаться, где спрятаны ящики.
Все это звучало зловеще и даже устрашающе. Жанна спросила себя, неужели люди из Сорбонны настолько косные, что способны на такие речи. С кем же разговаривал Фуст?
На встрече, однако, не была раскрыта главная тайна – каким образом Феррандо сумел найти ящики и вывезти их из Парижа. Феррандо просто сказал, что ему достались бумаги покойного, в них он и нашел след, ведущий к барже. Но ни слова не проронил ни о фарсе на постоялом дворе "Золотое колесо", ни о трагедии в Верноне.
После десерта Тина и ее супруг тщательно вытерли стол. Шёффер достал из футляра книгу в изумительном переплете и осторожно раскрыл ее.
Сотрапезники сгрудились вокруг и с восторгом рассматривали страницы, которые медленно переворачивал Шёффер. Иначе и быть не могло: это был один из экземпляров знаменитой Псалтыри, так называемой Майнцской псалтыри, шедевр немецкого издателя, выполненный в трехцветной печати – красной, черной и синей.
Затаив дыхание, Франсуа пожирал страницы глазами, а затем поднял на Шёффера восхищенный взгляд.
– Это великолепно! – воскликнул он.
Шёффер улыбнулся.
– Обошлась мне эта книга в изрядную сумму, – сказал он. – Впрочем, это уже вторая моя Псалтырь, ибо первую я напечатал два года назад.
– Это бумага?
– Да, но очень плотная, изготовленная особым способом.
Потом он закрыл книгу и уложил ее в футляр.
На следующей неделе в окрестностях города на улице Труа Кле был снят склад для устройства мастерской и дом с пятью квартирами – для Арминия, молодого Кокельмана, Шёффера на время его приездов в Страсбург, Жанны, которая намеревалась присутствовать при создании печатни, и Франсуа. Последний решил, что останется в Страсбурге, чтобы познать искусство гравирования и отливки букв.
Феррандо уехал в Роттердам, и через одиннадцать дней выгруженные с баржи ящики были отправлены на повозке в мастерскую на улице Труа-Кле.
Шёффер пришел проверить оборудование, извлеченное из ящиков его учеником, которому помогал не только Франсуа, но даже Жозеф с Феррандо.
– Вот это и создал Генсфлейш, – сказал Шёффер по-немецки. – Но он не вернул моему тестю около двух тысяч гульденов из полученного задатка. А тестю они были срочно нужны, ведь он сам взял их взаймы. Но и это еще не все! – раздраженно воскликнул он. – Тут не хватает букв, их должно быть гораздо больше! Девять изношенных форм! А пресс какой! Явно слабенький, – сказал он, показав на пресс с поворотной штангой, который, однако, выглядел весьма внушительно.
Шёффер расхаживал по просторному помещению, не в силах сдержать негодования.
– Конечно, Генсфлейш великий мастер, но в делах человек ненадежный: взял и оставил себе часть приспособлений, созданных на деньги Фуста.
– Где находится Генсфлейш сейчас? – спросил Жозеф.
– В Майнце. Но мы с ним в ссоре. У нас судебная тяжба. Кстати, лет двадцать назад он работал здесь. Странный это человек. Занимался алхимией. Часто оскорблял людей.
Шёффер фыркнул.
– Он был в Страсбурге? – удивился Феррандо.
– Да. Провел здесь не меньше десяти лет. Пытался создать печатню со сменными литерами, – ответил Шёффер. – Иоганн Ментелин – его ученик.
– Это Генсфлейш придумал сменные литеры?
Шёффер покачал головой:
– Нет, был один голландец, Костер, а на самом деле Лоренс Янсон. Он использовал этот способ гораздо раньше, в тысяча четыреста двадцать третьем году. Но я не думаю, что это он его изобрел.
– Кто же тогда?
– Мне говорили, что китайцы. Один путешественник привез газету на их языке, и мне кажется, что она была напечатана с использованием сменных букв. А газете этой сто пятьдесят лет! Я вам покажу, когда приедете в Майнц. Не знаю, с кем из путешественников имели дело Костер и Генсфлейш, но, полагаю, они получили от кого-то соответствующее описание или образец, а затем приспособили его к европейскому алфавиту. Потом сделали оборудование. Усовершенствовали винный пресс – особенно преуспел в этом Генсфлейш. Им удалось создать и чернила – не такие жидкие, как у переписчиков. Главное же – Генсфлейш придумал наборную форму для сменных букв.
– Я не уверен, что все хорошо понял, – сказал Феррандо, чьи познания в немецком подверглись тяжелому испытанию, хотя он очень старался уловить смысл сказанного Шёффером и только потом переводил.
Жанна посмотрела на Франсуа: интересуют ли его ученые рассуждения? Но она увидела, что сын буквально впился глазами в Феррандо и даже в Шёффера, словно пытаясь каким-то сверхъестественным образом преодолеть языковой барьер, ведь по-немецки он не знал ни единого слова.
Шёффер прислонился к стене. Он походил на пророка выступающего с проповедью перед иудеями. В каком-то смысле, сказал себе Жозеф, он и есть пророк.
– Так вот, – сказал Шёффер, – Костер отливал форму целой страницы и печатал с нее. Генсфлейш обратил внимание, что после нескольких оттисков форма портилась. Некоторые литеры откалывались, стирались. И он ввел поразительное новшество: набирать литеры из кассы и составлять их в форму, а потом прямо с этой формы печатать.
– А такая форма не изнашивается? – спросил Франсуа.
Шёффер повернул голову к молодому человеку.
– О, вот хороший вопрос! Нет, потому что литеры легко заменить, к тому же этот чертов Генсфлейш нашел способ сделать свинец более твердым, добавляя к нему другие металлы. В частности, сурьму. Благодаря этому набор используется много раз. Сами же оттиски выходят более четкими и чистыми.
– Это и вправду похоже на алхимию! – воскликнула Жанна.
– Да, я думаю что Генсфлейша вдохновила алхимия! Но в конце концов его секрет был раскрыт. В мире есть мало тайн, которые рано или поздно не стали бы общим достоянием, – заметил Шёффер саркастическим тоном. – Венецианцы первыми догадались, что Генсфлейш придал свинцу твердость с помощью какой-то хитрости. И тогда у них появились свои печатни.
Каждый на мгновение задумался.
Жанна испытала смутное чувство, что рождается некий новый мир, полный чудес. Маленькая крестьянка из Ла-Кудре вряд ли поняла бы и десятую часть того, о чем говорил Шёффер.
Феррандо, как всегда мысливший практически, спросил:
– Чего нам не хватает?
– Прежде всего литер. Их нужно в двадцать, в тридцать раз больше, чем есть. С таким количеством мы даже одного Евангелия не напечатаем. Вдумайтесь, мессир Феррандо, если мы хотим издавать Библию, нам нужно более миллиона литер.
Феррандо перевел, и все были ошеломлены.
– Но… – возразил он, – разве нельзя разобрать набор одной страницы и взять из него литеры для другой?
– Конечно, – с улыбкой ответил Шёффер, – но пока целый лист не наберешь, нельзя рассыпать набор. Когда мы печатаем на больших листах, сложенных вчетверо для переплета, откуда название ин-кварто, нам нужно сохранять набор двенадцати страниц или же тридцати шести, в зависимости от типа тетради. Это уже требует примерно шестидесяти восьми тысяч литер. А нам нужно по меньшей мере столько же, чтобы набрать следующую тетрадь, пока мы печатаем предыдущую…
– Спроси у него, сколько литер в день может отлить хороший подмастерье, – сказал Франсуа.
Феррандо вновь стал переводить.
– Отливка сама по себе относительно проста: достаточно налить ложкой кипящий сплав в соответствующую форму. Главное, чтобы были сами формы. Тогда можно делать от тысячи до двух тысяч литер в день. Разумеется, литеры потом нужно шлифовать и проверять.
– Чего нам не хватает еще?
– Прессов. По крайней мере двух, больших по размеру, чем этот. И форм для них. Нужна плавильная печь. Бруски свинца, меди, олова. Сурьма. Инструменты для гравера и резчика, который готовит формы. Пунсоны. Резцы. Напильники для шлифовки. Валики для чернил… В общем, тут не хватает много чего. Я думаю, тесть мой Иоганн взял с собой материалы только для демонстрации своего искусства. Да, чуть не забыл, еще нам нужна бумага. Мы можем покупать готовую, но если у нас будет одна или даже две мельницы для производства бумаги, мы за короткое время окупим их стоимость.
Жозеф, Жанна, Феррандо, Анжела, Франсуа и Арминий слушали с расстроенным и чуть ли не удрученным видом. За исключением Феррандо и Арминия, никто не понимал, что говорит Шёффер. Он повернулся к ним и произнес по-немецки:
– Мессир Феррандо, я честный человек! Вы сказали, что эти материалы принадлежат мне. Вы понесли значительные расходы, потратили много сил и проявили большой ум, чтобы вернуть мое имущество, хотя ничем мне не обязаны. Я люблю свое ремесло. И помогу вам создать мастерскую. Вы расплатитесь со мной после первых продаж. Сверх того, в течение года я буду оплачивать работу моего сына Арминия и Карла Кокельмана.
Феррандо перевел и кивнул. Шёффер улыбнулся:
– Это мой вам подарок, и он намного ценнее самих принадлежностей, мессир Феррандо. Потому что если не уметь ими пользоваться, они не стоят ничего.
Он медленно прошелся по мастерской и, внезапно остановившись, обвел склад широким жестом:
– Это, – переведите, пожалуйста, мессир Феррандо, – для меня священное место. Из таких вот мастерских польется свет чтения и знания, который рассеет тьму невежества! Все зло в невежестве!
Он выглядел взволнованным.
Жанна подошла к нему и протянула руку.
– Ваши слова прекрасны, как слова Евангелия! – воскликнула она.
Он вновь улыбнулся и положил руку ей на плечо:
– Поверьте мне, то, что мы сейчас делаем, прекрасно, как новорожденное дитя!
Она засмеялась.
– Сколько вам нужно мастеров? – спросил Феррандо.
– Помимо Арминия и Кокельмана, мне нужен гравер и литейщик для производства литер, подмастерье для укладки и выравнивания литер в форме и, само собой, двое famulus[51] для мелкой работы на подхвате… разжигать огонь, подносить инструменты, убирать помещение.
– Гравер у вас уже есть, – сказал Феррандо.
Шёффер поднял брови. Франсуа, вытащив из кармана страничку с буквами и рисунками своей работы, передал ее печатнику. Тот долго рассматривал листок, поднеся к самым глазам, затем перевел взгляд на молодого человека.
– Да ведь этот юноша настоящий художник! – воскликнул печатник. – Он понял дух каждой буквы! Рисунки отчетливые, с очень изящными завитками! Новичок сделал бы букву N похожей на больную V, а буква L превратилась бы у него в отощавшую I. Но Франсуа удалось передать характер каждой буквы! Кто учил тебя, сынок?
– Никто, – ответил Франсуа.
– Изумительно! – сказал Шёффер. – Действительно, гравер у нас есть… Остается только научить его пользоваться резцом.
– Сколько времени понадобится, чтобы печатня была готова к работе? – спросила Жанна.
– С Божьего благословения мы смогли бы начать вскоре после сбора винограда.
В садах налились яблоки.
Плавильная печь была построена и установлена в мастерской. Она еще и обогревала помещение. В ней даже камни могли бы расплавиться!
Франсуа научился вырезать свинцовые литеры. Следуя указаниям Шёффера, он обжигал и закалял их на огне, смазывал жидким воском и вливал кипящий сплав, состоявший из восьмидесяти частей свинца, десяти – олова, четырех – сурьмы и шести – меди.
Он привык также к возгласу ночного стража:
– Sehen Sie zu Feuer und Taglicht![52]
Карл Смелый вновь вступил в борьбу с Людовиком XI.
Жанна и Жозеф уехали в Анжер, взяв с собой Деодата и кормилицу. Они спасались от летней жары, которая в Страсбурге была невыносимой.
Наступило время сбора винограда.
Франсуа учился говорить по-немецки, а Арминий – по-французски. Они получили два больших пресса, заказанных лучшему городскому мастеру. Франсуа выложил за них двенадцать экю из собственных средств: вступив в наследство, доставшееся ему от Бартелеми де Бовуа, он пожелал стать равноправным владельцем печатни.
В Эльзасе, как и в Нормандии, из поспевших яблок и груш сделали первый сидр. Затем наступила очередь первого вина, и виноградари объявили, что год будет хорошим. В тавернах на берегах Рейна девушки и юноши распевали песни.
В конце октября Франсуа вырезал и отлил одиннадцать алфавитов. Руки у него огрубели, лицо задубело от жара печи, но на сердце было так легко, как никогда прежде. Шёффер, проводивший в Страсбурге больше времени, чем в Майнце, очень хвалил юношу за усердие, и тот старался еще больше: проверял каждую буковку, обтачивал их напильником и резцом.
Войска Карла Смелого угрожали Льежу. Город, враждебный Бургундцу, злился на короля, который советовал избегать столкновений с мятежным герцогом.
На рынках Страсбурга появилась дичь, и Франсуа впервые в жизни отведал пирог с мясом косули.
Итье обосновался в замке Ла-Дульсад, уступленном Жанной: он платил ей по частям, и процентов она с него не брала.
Прево торговцев, мэтр Людвиг Хейлштраль, посетил "Мастерскую Труа-Кле" – ибо теперь именно так называли печатню – с целью выяснить, что здесь производят. Он с изумлением осмотрел совершенно незнакомое ему оборудование: плавильную печь, прессы, ящики с литерами, наборные формы, разложенные на столе. Ему дали все необходимые объяснения. Напрасный труд.
Во второй понедельник ноября, в праздник святого Виллиброда, Арминий под руководством Шёффера и внимательным взглядом Франсуа сделал свой первый набор: первую страницу Евангелия от Матфея, где излагается родословная Иисуса. Затем он выровнял набор деревянными рейками, соединив их углы небольшими винтами. Шёффер с помощью линейки проверил горизонтальный и вертикальный уровень литер, потом взял в руки плоскую кисточку и смазал их чернилами из флакона, найденного в ящиках Фуста. Набор на широкой дубовой доске был помещен под пресс, а сверху Шеффер положил большой лист бумаги. Кокельман и Арминий опустили крышку на фетровой прокладке и стали поворачивать штангу, пока Шеффер не крикнул:
– Genug![53]
Когда штангу повернули в другую сторону, крышка поднялась, и Шёффер с осторожностью акушера извлек бумажный лист.
Это было почти священнодействие. Трое юношей и famulus окружили его, чтобы взглянуть на результат.
– Vollendet![54] – воскликнул Шёффер.
Действительно, печать была превосходной: литеры, с такой любовью вырезанные Франсуа, предстали на бумаге во всей своей красоте. Лист повесили на стенку, и Шёффер решил, что такое событие нужно отпраздновать. Они отправились в таверну, выпили много пива, заедая его сосисками, и Франсуа, которого здесь называли Франц, чувствовал себя бесконечно счастливым. Шёффер сказал, что молодой де л'Эстуаль, невзирая на свой семнадцатилетний возраст, завершил обучение в качестве подмастерья и отныне в его отсутствие будет мастером; тем самым он давал ему преимущество перед собственным сыном Арминием, которому предстояло унаследовать мастерскую в Майнце. Гильдии печатников еще, разумеется, не существовало, и возникли некоторые сложности с прево торговцев, который не мог понять, к какому цеху Франсуа приписать. Наконец было решено включить его в корпорацию ювелиров.
На следующий день Франсуа, изучив первый оттиск, обнаружил несколько едва заметных заусениц на контурах отпечатанных букв и обратил на это внимание Шёффера.
– У тебя глаз зорче, чем у меня, мой мальчик. Все так. Как же я не заметил? Слишком жидкие или недостаточно тщательно размешанные чернила.
Флаконы с чернилами стояли на подоконнике, в той части мастерской, куда не доходил жар печи.
– А из чего они сделаны? – спросил Франсуа.
Шёффер бросил на него иронический взгляд.
– Хочешь узнать? Еще бы, это один из величайших секретов нашего искусства!
Все же он доверил Франсуа тайну: чернила представляли собой смесь, включавшую шесть с половиной частей сажи, из которых одна часть была жирной, полторы части танина, полчасти окиси железа, треть части винного спирта, часть и две трети части дистиллированной воды. Одну часть сажи можно было заменить чернилами каракатицы, если таковые имелись в наличии.
– Одно из необходимых условий – это тонкость измельченной крошки, которая должна быть легче самой тонкой пыли и подниматься от дыхания, пока не добавишь винный спирт и воду.
Через десять дней Карл Смелый вступил в Льеж, который в принципе – но только в принципе – находился в его владении. Город дорого заплатил за союз с Людовиком.
На улице Труа-Кле с королевским пренебрежением отнеслись к военным новостям. Шёффер приступил к первому в этой мастерской большому изданию – печатанию Библии на латыни, объемом в тысячу двести восемьдесят страниц инкварто, по 42 строки на каждой, с буквицами работы Франсуа де л'Эстуаля. Жанна с Жозефом примчались из Парижа, а Феррандо явился из Лиона с запасом сукна, которое намеревался продать на ярмарке в Страсбурге.
Именно в этот день асессор князя-архиепископа Александра Люксембургского решил выяснить, чем все-таки занимаются в мастерской на улице Труа-Кле, ибо прево торговцев поделился с ним своими опасениями. Асессора приняли с величайшим почтением и с бутылкой кирша. Шёффер показал ему первые напечатанные страницы из Книги Бытия. Тот едва не задохнулся. Конечно, он слышал о печатне, но… но…
– И все это сделано механически?
– Нет, монсеньер, – ответил Шёффер, – это создано руками и разумом человека по божественному внушению.
Первые отпечатанные листы дрожали в руках асессора: внезапно он опомнился и покачал головой. С трудом сдерживая волнение, он пробормотал, что должен – да, и незамедлительно, сегодня же – известить о великом чуде князя-архиепископа. Жанна, Жозеф, Феррандо, Франсуа и все остальные едва не расхохотались. Асессор отбыл в полном восторге.
Его преосвященство князь-архиепископ не нашел свободного времени, чтобы прийти сразу, как советовал ему асессор: история с князем-епископом Карлом Бурбонским, которого жители Льежа выставили вон, чтобы насолить Карлу Смелому, привела к тому, что папа прислал своего легата, Онофрио ди Санте-Кроче, с поручением восстановить авторитет Святейшего престола при посредничестве Александра Люксембургского. И дело это отнимало у князя-архиепископа много сил.
Сверх того, очевидные притязания Карла Смелого на Верхний Эльзас крайне тревожили как обитателей Страсбурга, так и швейцарцев: ведь если бы Бургундцу и в самом деле удалось завладеть этими землями, он воссоздал бы древнюю Лотарингию, что означало конец свободной торговле, которая обеспечивала благосостояние города и других поселений по обоим берегам Рейна.
До сих пор Страсбург был в своем роде независимой республикой, где светская и духовная власть, то есть бальи с одной стороны и архиепископ с другой, превосходно уживались, радея о процветании населения. Внезапно Бургундец назначил своего бальи, Петера Хагельбаха. Жители Страсбурга сразу возненавидели его за грубость и явные намерения втянуть город в чрезвычайно невыгодный конфликт между французским королем и мятежными принцами.
Александр Люксембургский быстро стал поборником и даже оплотом независимости города. В конечном счете, он представлял папу, а Павел II больше благоволил Людовику, чем Карлу. Таким образом, князь-архиепископ превратился в защитника свободы Страсбурга.
Он появился на улице Труа-Кле лишь за неделю до Рождества 1467 года, естественно, в сопровождении своего асессора и секретаря. Библия была уже отпечатана и даже переплетена в рыжеватую кожу с клеймом Труа-Кле, выдавленным под воздействием высокой температуры на прекрасном золоченом корешке с восемью прожилками.
Александр Люксембургский был мал ростом, он компенсировал это высокомерным тоном и высокими каблуками. Прелат пришел в восторг от книги, положенной на высокую подставку. Франсуа медленно переворачивал перед ним страницы.
– Изумительно! – прошептал он. – Изумительно! Мне не подобает говорить такое, но это красивее, чем Библия нашего дорогого Ментелина, которая, однако же, замечательно издана. Кто рисовал эти миниатюры?
– Я, ваше преосвященство.
– Они показывают, что ручная работа намного лучше. Но боюсь, это будет слабым утешением для монахов-переписчиков, которых вы с Ментелином оставите без работы.
– Ручную работу всегда будут ценить, ваше преосвященство.
– И сколько экземпляров этого шедевра вы напечатаете?
– Сколько пожелает ваше преосвященство.
– И все они будут украшены этими буквицами?
– По желанию покупателя, ваше преосвященство.
– И какую цену назначите вы за украшенный экземпляр?
– Пятьдесят экю, если угодно будет вашему преосвященству.
Прелат кивнул.
– Угодно, – сказал он. – Мне нужно десять таких книг. Я забираю с собой эту, которую подарю его святейшеству папе Павлу Второму. Второй экземпляр пойдет его высочеству императору Максимилиану, третий…
Купленный экземпляр завернули в тонкую ткань, и асессор принял его в руки так, словно нес Младенца Христа.
Пятьсот экю, шестьсот восемьдесят семь с половиной ливров! Франсуа почувствовал, что у него вырастают крылья.
Арминий и Кокельман подмигнули ему.
– Как объяснить, мэтр Франсуа, – спросил князь-архиепископ, – что вы, парижанин, приехали в Страсбург и начали создавать подобные шедевры, тогда как в Париже, сколько мне известно, печатни пока еще нет, хотя талантами этот город не обделен?
Франсуа на мгновение задумался.
– Не знаю, ваше преосвященство. Мне кажется, что искусством, подобным моему, можно заниматься только в спокойствии душевном, а в Париже такого спокойствия редко удается достичь.
Князь-архиепископ усмехнулся:
– Для своего возраста вы проницательны! Борьба за власть смущает душу, как омуты тревожат гладь пруда.
С этим он ушел.
Поскольку бальи Хагельбах был слишком занят политикой, чтобы проявить интерес к новой печатне, "Мастерскую Труа-Кле" посетил бургомистр города. Узнав, что князь-архиепископ приобрел для себя экземпляр, он пожелал купить такой же. Но торговался жестоко, и Франсуа в конце концов уступил: отдал книгу за сорок семь экю вместо пятидесяти, подчеркнув, что делает это в знак уважения к высокому рангу покупателя, и попросив никому об этом не рассказывать.
Франсуа решил печатать свои буквицы в красном цвете, что вынудило его искать устойчивые карминовые чернила. Они же были необходимы и для его миниатюр.
Соборные монахи-переписчики, не слишком обрадованные приобретениями князя-архиепископа, отправили делегацию на улицу Труа-Кле.
– Как будто недостаточно Ментелина! Вы похитили у нас работу двадцати лет! – пожаловался их предводитель, оглядывая все вокруг с таким видом, словно оказался в логове дьявола.
– Нет, отцы мои, – сказал Франсуа, – просто мы делаем за год то, что вы сделали бы за двадцать лет. Но в мире хватит текстов, чтобы обеспечить вас работой на долгие времена.
– Вы уверены, что Враг не приложил к этому свою руку? – спросил монах, подозрительно уставившись на прессы и махнув в их сторону рукой.
– Если бы это было так, – с улыбкой ответил Франсуа, – уже давно печатня наша сгинула бы, ведь мы распространяем слово Божие. Именно поэтому князь-архиепископ удостоил нас своим благословением.
Это служило напоминанием, что в жалобах своих монахи не должны преступать определенных границ. Они удалились, вздыхая.
Наконец новых своих коллег посетил сам Ментелин. Франсуа был польщен, что человек, опередивший их на этом поприще и снискавший заслуженную известность своими изданиями, оказал им такую честь. Однако Арминий Шёффер во время этого недолгого визита не сводил с печатника подозрительного взора: для него это был соперник, явившийся вынюхивать чужие секреты. Франсуа заметил, как он рассердился, когда бывший ученик Генсфлейша словно невзначай вынул литеру из ящика и стал внимательно ее разглядывать. Ведь всем было известно, что литеры "Мастерской Труа-Кле" давали более четкую печать, чем у Ментелина, и меньше изнашивались при многократном использовании набора. Арминия не смягчили даже комплименты, щедро расточаемые Ментелином.
К счастью, тот не задал ни одного вопроса о новой смеси, которую Шёффер-отец рекомендовал применять при отливке литер: было очевидно, что Ментелин не знает, в какой пропорции следует добавлять к свинцу сурьму.
Весной 1468 года Феррандо, гордый как павлин, привез наконец обещанный заказ на тысячу триста папских индульгенций по одному экю за штуку.
Жанна посмотрела, послушала и сказала себе, что счастлива: дело становилось выгодным. Она нашла сыну ремесло. И какое!
Она мечтательно подумала, что для полного счастья ей не хватает внуков.
Сама она была беременна.
23 Розовое снадобье
Давай поженимся, – сказала она. Жак исчез три года назад. Никаких вестей о нем так и не было. Феррандо под присягой засвидетельствовал в городской управе, что барон Жак де л'Эстуаль пропал во время морского путешествия на Восток, когда его корабль захватили алжирские корсары.
Баронесса де л'Эстуаль была объявлена вдовой. Уведомление о ее свадьбе со сьером Жозефом де л'Эстуалем вывесили на дверях церкви Сен-Северен за три недели до церемонии. Венчание произошло в июне 1468 года. Оно стало третьим в жизни Жанны.
Приглашены были только самые близкие ей люди: сын Франсуа, Феррандо, Анжела, Гийоме, Сидони, Сибуле и кормилица. Деодат выделялся своим нарядом из лазурного шелка. Все сошлись во мнении, что он все больше и больше походит на Жака.
– Боже, сделай так, чтобы это была моя последняя свадьба! – взмолилась Жанна.
А в сердце своем сказала: Жак, ты знаешь, что это за тебя я снова выхожу замуж.
Слезы подступили к горлу; она проглотила их вместе с облаткой. Жозеф смотрел на нее; она повернула голову и улыбнулась ему.
Не будь его, мысленно добавила она, я бы превратилась в жалкую развалину.
Во время праздничного застолья в особняке Дюмонслен Анжела обняла Жанну. Неужели она угадала, какие противоречивые чувства испытывает ее невестка?
– Эти мужчины! – сказала Анжела. – Без них свеча тухнет, но все же свеча – это мы!
Вот так и случилось, что именно она рассмешила Жанну, которая впервые за этот день улыбнулась.
Вернувшись в Анжер, Жанна и Жозеф нанесли визит королю и выразили ему свое почтение. Они увидели тех же придворных, что до отъезда, включая Иеромонтана и двух теологов, но к ним присоединился еще один астролог по имени Крестьен Ле Сонье, называемый также Кристиан Базельский, один миниатюрист и один поэт. Жозеф объявил королю, что вскоре закончит посвященный ему сборник максим.
– Я ждал трактат о мудрости, – сказал Рене Анжуйский.
– Сир, вы преувеличиваете мою ученость, – возразил Жозеф. – Вы и так слишком добры, соглашаясь принять максимы безумца! Я распоряжусь напечатать их, чтобы преподнести вашему величеству.
Король улыбнулся.
– Как это – напечатать? – возмутился один из придворных теологов, которого звали Жюст де Бастер. – Неужели вы осмелитесь издать мирские максимы, тогда как печатня предназначена лишь для вещей божественных?
– Откуда вы взяли это предписание, мессир? – спросил Жозеф.
Озадаченный теолог не сумел ответить. В разговор вмешался король:
– В Евангелии нигде не сказано, мессир, что печатня предназначена для вещей божественных. В конце концов, это всего лишь иной способ письма.
– Да, но благодаря ему дурные мысли распространяются гораздо быстрее! – возразил Бастер.
– Я не знаю, какие дурные мысли распространяли печатни, – спокойно произнес Жозеф, – зато мне известно, что добро они распространяют очень быстро. Можно напечатать двадцать Библий за то время, которое необходимо целой армии переписчиков, чтобы справиться лишь с четвертью одной из них.
– В любом случае это вам обойдется в кругленькую сумму! – воскликнул Бастер. – Я уверен, что это ужасно дорого. Следовательно, вы либо очень богаты, либо очень тщеславны.
– Я не богат и не тщеславен, мессир, – ответил Жозеф, не теряя хладнокровия, – но случилось так, что мне принадлежит доля в одной печатне, так что я могу напечатать эти максимы по сходной цене.
Жанна бдительно следила за спором между Жозефом и Бастером: враждебность теолога укрепляла ее в опасениях, что Сорбонна и духовенство в конце концов открыто выступят против печатни.
– У вас есть разрешение университета? – злобно вскричал Бастер.
– Я не знал, что нуждаюсь в разрешении, которого никто не требовал, – сказал Жозеф.
– Где же находится эта печатня?
– В Страсбурге, с согласия и благословения князя-архиепископа города, – терпеливо объяснил Жозеф, не сводя глаз с Бастера.
– Вы считаете справедливым, что у вас есть печатня, тогда как наш прославленный университет ее не имеет? – закричал Бастер.
– Ничто не мешает университету приобрести печатню, если он этого желает, – сказал Жозеф. – У него гораздо больше средств, чем у меня. Ему нужно только найти оборудование и мастеров, которые умеют ими пользоваться.
– Достаточно, мессир Бастер, – заявил король, явно раздраженный нападками теолога. – Ваши страхи представляются мне чрезмерными. Итак, мэтр де л'Эстуаль напечатает свои максимы.
Оба теолога прикусили язык. Тем временем астролог и поэт принялись обхаживать Жозефа: один желал издать свои гороскопы и предсказания, другой – стихи. Кристиан Базельский особенно упирал на то, что владыкам и принцам необходимо познакомиться с расчетами, которые могли бы предупредить их о грозящей им опасности.
Бастер следил за этими переговорами злобным взором. Не было сомнений, что он люто возненавидел Жозефа.
Последствия его вражды не заставили себя ждать. Через два дня двое приставов из городской управы явились в дом де л'Эстуалей, чтобы произвести следствие по жалобе, поданной на сьера Жозефа де л'Эстуаля, путешествующего с сочинениями подстрекательского характера, противными христианской вере и нравственности. Они обыскали весь дом и, обнаружив листочки, на которых Жозеф записывал чернилами свои максимы, конфисковали их с явным удовольствием, как это свойственно служителям неправедной власти.
Жозеф немедленно отправился к Рене Анжуйскому. Рассерженный король вызвал к себе прево с целью урезонить теологов и отобрать бумаги Жозефа. Выяснилось, что конфискованные тексты были переданы доносчику, который, считая себя исполнителем церковной и божественной миссии, отказался возвращать их и заявил, что не зависит от светской власти: действительно, как клирик он подчинялся только университету. В общем, дело грозило затянуться, на что, несомненно, и рассчитывал Бастер.
Жозеф расстроился, но Жанна еще больше – оттого что во время беременности расстраиваться нельзя. Она опасалась, что ребенок родится горбатым: считалось, что дети во чреве страдают от любого недомогания матери. В максимах не было никакого подстрекательства, они свидетельствовали о некотором свободомыслии, не более того. Но Жанна догадывалась, что Бастер намеревается подвергнуть дело о печатне суждению религиозных властей Анжера, а потом Парижа.
Она обдумывала план мести три дня. На третий она и Жозеф должны были ужинать у короля – таким способом Рене Анжуйский хотел продемонстрировать Жозефу свою поддержку. Она была уверена, что будет там и Бастер. Взяв склянку с молоком, пустую склянку и лопату, она пошла в тот уголок сада, где видела раньше змеиное гнездо. Она поставила молоко перед гнездом и, когда гадюка выползла, убила ее ударом лопаты. Ни жаркое с пряностями, ни дорогие вина ничуть не изменили природу нормандской крестьянки. В детстве Жанна часто наблюдала, как добывает яд жена кузнеца Гийометта, слывшая колдуньей: убедившись, что змея мертва, она взяла ее за голову и, нажав на челюсти, выдавила несколько капель в пустую склянку.
Потом она срезала розу, выбрав ту, у которой были самые острые шипы, пропитала стебель ядом и дала ему просохнуть.
Тщательно обернутый в бумагу цветок она принесла на ужин спрятав его под плащом.
Рене Анжуйский встретил их с особой теплотой. Он угостил их недавно доставленным ему аквитанским вином, тогда как Бастеру, который, разумеется, присутствовал, выпить не предложил.
Теолог метал на всех яростные взгляды.
Поэт и астролог, прознав о неприятностях Жозефа, уже не стремились завязать с ним дружеские отношения. Для образованных людей было опасно ссориться с университетом.
Настал час ужина. Жанна знала, где всегда сидит Бастер: вторым справа от короля. Слуги были заняты на кухне. Она незаметно вытряхнула розу из бумаги на сиденье теолога.
Чтобы сильнее уязвить Бастера, король оказал Жанне честь, отведя ей место слева от себя, тогда как справа, то есть между ним и теологом, должна была сидеть более пожилая дама. Рене Анжуйский сел, и все последовали его примеру.
Едва заняв свое место, Бастер слегка вскрикнул. Пожилая дама с удивлением повернулась к нему. Теолог поднес руку к сердцу, открыл рот и взмахнул руками, затем попытался встать, ухватил себя за ягодицы самым неподобающим образом и толкнул локтями соседей. В зале послышался ропот. Бастер пошатнулся и сполз на пол. Слуги оттащили злополучного теолога от стола, положили его на спину и стали ощупывать ему шею. Он был жив, но дышал с трудом. Никто не обратил внимания на розу, которая, уцепившись на мгновение за рясу жертвы, упала и была тут же растоптана сотрапезниками, которые ринулись на помощь умирающему.
Вокруг него образовалась толпа, и Рене Анжуйский приказал позвать цирюльника. Когда тот явился, лицо Бастера уже приобрело пурпурный цвет.
– Сердце не выдержало, – сказал цирюльник.
– А у него было сердце? – пробормотал король.
Не прошло и часа, как Бастер скончался.
Жозеф вопросительно взглянул на Жанну. Она отвела глаза. Это и был ответ.
Защита книгопечатания привела к смерти трех человек. И это еще было немного в сравнении с последующими временами, когда из-за него погибла масса людей, включая несчастного Этьена Доле, сожженного заживо в 1546 году по распоряжению Сорбонны за то, что он был независим в вопросах веры и издал один из диалогов Платона.
Естественно, к ужину приступили очень поздно, лишь после того, как стражники доставили останки Жюста де Бастера к нему домой. Второй теолог тоже сопровождал тело. На сотрапезников короля он смотрел страшным и одновременно испуганным взором.
– Похоже, божественное провидение ревностно оберегает вас, – сказал Рене Анжуйский, пристально глядя на Жанну.
– Слишком много чести, сир, ибо в этом случае мои враги были бы и врагами Господа нашего, – с улыбкой ответила она. – Я же лишь служанка Его.
– О, если бы вы были и моей! – прошептал он с легкой усмешкой. – Я чувствовал бы себя в большей безопасности.
Жанна не испытала никаких угрызений. И сама была этим потрясена.
– Это ты убила его? – спросил Жозеф, когда они вернулись к себе. – Но каким образом?
Когда она объяснила, он сначала застыл в изумлении, а затем расхохотался.
– Я кое-что поняла, – сказала она. – Есть два сорта разбойников, но и те другие и другие – разбойники несомненные. Первые орудуют на улицах и больших дорогах: используя обычное оружие, они вас грабят. Вторые пользуются оружием власти, чтобы разорить или погубить. И в конечном счете первые вызывают у меня больше уважения, поскольку сами рискуют и проявляют смелость. Вторые же – злобные трусы и лицемеры, которые прячутся за щитом власти, чтобы нанести смертельный удар. Это все те, кто ссылается на общественное благо, волю Господа и короля. Как Дени, который замыслил избавиться от Франсуа, ограбить меня и услужить дофину. Как Докье, который потащил меня в суд, обвинив в колдовстве, чтобы завладеть нашими землями. Отныне я знаю: любой человек, прикрывающийся именем Господа и короля, дабы напасть на более слабых, есть существо презренное, и мне не хватит яда всех гадюк Франции, чтобы истребить подобных людей!
Жозеф был ошеломлен такой свирепостью.
– Во имя Неба, Жанна, – пробормотал он, – тебе придется поубивать полстраны…
– Пусть убираются с моей дороги, и с твоей тоже, – сказала она. – Цель Бастера была очевидна: обвинить тебя в чем угодно, лишь бы наложить лапу на печатню и укрепить свое положение.
– Да, сомнений нет, – подтвердил он.
– Это погубило бы Франсуа, Шёффера, тебя, меня… Всех нас! И ради чего? Чтобы отдать развратным кардиналам власть над печатным словом? Но мы знаем, что они не уступают своей пастве в алчности, порочности, продажности, обжорстве и лживости, а о Боге вспоминают в последнюю очередь!
– Жанна, подумать только, ведь именно ты обратила нас в христианство, сначала Жака, потом меня и Анжелу! – сказал он, качая головой.
– Я не обратила вас, а защитила, – возразила она. – Ну, впрочем, и то и другое.
Жозеф без труда добился, чтобы Рене Анжуйский приказал забрать рукопись у Бастера. Он добавил в нее еще одну максиму:
Человек, считающий себя праведным, более склонен творить зло, чем лиходей, ибо тот сознает себя лиходеем и это сдерживает его, тогда как праведный полагает себя вдохновленным добродетелью и с пылом совершает деяния свои.
Книжечка оказалась тонкой: тридцать страниц. Жозеф специально съездил в Страсбург, чтобы Франсуа напечатал ее. Тот настолько воодушевился, что быстро набрал и отпечатал пятьдесят экземпляров, из которых десять отдал Жозефу. Они договорились, что остальной тираж будет распродан в Страсбурге.
Так появилось на свет издательство "Мастерская Труа-Кле".
Жозеф подарил первый экземпляр князю-архиепископу, а второй и третий, по возвращении в Анжер, Жанне и Рене Анжуйскому – с соответствующим посвящением.
– Вы заставили меня сожалеть, что мне не двадцать лет, – сказал ему король на следующий день. – Читая вас, я почувствовал, что рождается некий новый дух, и мне хотелось бы дожить до полного его расцвета. Не могу дать ему определение, но ощущаю некую дистанцию, некое лукавство по отношению ко всем вещам, как если бы вы обладали памятью ваших предков и научились бросать вызов любым авторитетам. Думаю, появление этого нового духа отчасти объясняется тем, что вы всю жизнь провели в городах, тогда как в годы моей юности мы жили от городов в стороне, в замках, где общались только с грубыми военачальниками, льстивыми придворными и забитыми крестьянами. В городах видишь больше народу, понимаешь, сколь разнообразны мысли и чувства людей. Полагаю, города учат и большему смирению.
Придворные слушали речь короля, который сумел извлечь из военных поражений и превратностей судьбы редкое сокровище: досуг для раздумий.
– По моему мнению, все эти сеньоры, которые восстают против Людовика, принадлежат старому миру. Они были королями в своих провинциях, и никто не смел напомнить им, что провинция не равна вселенной и что военное счастье или несчастье могут низвести их до положения вассалов. Также никто никогда не говорил им, что их войны разоряют страну и превращают деревню в пустыню, где царствуют волки и медведи. Вот многие из них и стали нищими, как Иов, потому что крестьяне, которых они набрали в свои войска, оставили поля в запустении. Им пришлось обратиться к иностранным наемникам, и те окончательно их разорили. Полагаю, что время их прошло, но поскольку мужчины вразумляются гораздо медленнее, чем женщины, меня уже не будет на свете, когда они признают очевидное: разделенная на враждующие лагеря страна больна и излечиться может, только объединившись. Я пью за французский престол.
Король поднял свой бокал и отхлебнул глоток. Все присутствующие последовали его примеру.
– Это вам, сир, следовало бы написать трактат о мудрости, – сказала Жанна.
Она не посмела сказать, что ему следовало бы править Францией, ибо повсюду кишели шпионы, но король, конечно, понял ее.
– У каждого свое ремесло, мадам, я был слишком занят, собирая остатки моего королевства, которое, как всем известно, перейдет под власть Валуа. Ваш супруг гораздо лучше меня умеет выпаривать слова из раствора опыта.
Он повернулся к Жозефу:
– Битвы в будущем, когда меня уже не будет на свете, произойдут между державами более мощными, чем наши провинции. Одной из них станет Церковь. Ибо, как вы написали в одной из максим, цитируя Аристотеля, народ жаждет не столько знания, сколько веры, а наша святая Церковь управляет верованиями. Она захочет воспользоваться своей властью. Молю Бога, чтоб это не опьянило ее.
Жозеф улыбнулся.
Дворецкий возгласил, что ужин его величества подан.
Второй теолог, объяснил Жозефу король как бы между прочим, не явился на ужин из опасения встретиться с супругами де л'Эстуаль, которых подозревает в том, что они обладают сверхъестественной и дьявольской властью. Зато поэт и астролог, убедившись, что Жозеф благополучно выпутался из затруднений, стали обхаживать его с удвоенной силой. Жозефу пришлось прочесть их рукописи, которые он без всякого восторга передал затем Жанне, чтобы услышать ее мнение.
Розовое снадобье, как называли они его между собой, оказалось очень действенным средством.
24 Зловещий посетитель
Франция вступила в полосу новых потрясений. Принцы, упорствуя в мятеже, вновь попытались низложить Людовика XI. Как и предвидел король, войска Франциска II Бретонского вошли в Нормандию – провинцию, которая по условиям Конфланского договора досталась Карлу Беррийскому, брату короля. Его именовали также Карлом Французским, и он по-прежнему грезил о короне. Герцог Бретонский соединился с войсками герцога Бургундского – ибо Карл Смелый наконец унаследовал титул – в явной надежде вновь окружить Париж и принудить Людовика отступить на юг, а затем удовлетворить все требования принцев или отречься от престола.
Людовик угадал верно: он послал войска в Бретань.
Бургундец предложил начать переговоры.
Людовик понимал, что находится в критической ситуации:
Бургундец только что женился на англичанке, Маргарите Йоркской, и этот союз мог привести к вмешательству Англии в конфликт. Французским войскам пришлось бы тогда иметь дело не только с бретонцами, нормандцами и бургундцами, но еще и с англичанами. Это была бы самая настоящая резня. Людовик предпочел пойти на переговоры.
На сцене появились посредники, разъезжавшие между враждующими лагерями; наконец король отправился в Перонну и стал гостем своего врага. Западня захлопнулась. Карл Смелый, приказав закрыть ворота замка, а затем и городские ворота, продиктовал королю условия: уступить Шампань своему брату и отказаться от поддержки французской Фландрии, где Льеж так упорно противостоял герцогу. Не имея средств сопротивляться, Людовик под принуждением подписал Пероннский договор, чтобы вновь обрести свободу.
Демонстрируя злобную глупость, несомненно выдававшую предчувствие грядущего поражения, Карл Смелый заставил короля присутствовать при осаде Льежа – ненавистного Карлу города, который посмел кричать: "Да здравствует король Франции!" Тридцатого октября 1468 года Карл Смелый, демонстрируя пример истинно аристократического зверства, устроил там бойню. По Маасу сотнями плыли трупы убитых жителей Льежа.
В Страсбурге, естественно, говорили только об этих событиях – слишком уж близко располагался город, ставший жертвой кровавой мести Бургундца. Франсуа сообщил об этом матери; в ответном письме она в одной фразе высказала все, что думает о принцах: "Коронованная сволочь". Юноша удивился: разве сама она не была баронессой де Бовуа? А теперь де л'Эстуаль? Потом она повторила то, что уже говорила Жозефу: "Есть два сорта разбойников, но и те и другие – разбойники несомненные". И в заключение написала: "Людовик теперь защищает свой народ против разбойников. Он уже не король Франции – он ее вождь. Никогда не вставай на сторону разбойников. Они обречены".
Это пророчество заставило его задуматься.
Мэтр Франсуа, отныне глава "Мастерской Труа-Кле", в один из дней поздней осени 1468 года изучал чернила с намерением обогатить цветовую гамму, предназначенную для буквиц: кисточкой он проводил широкую полосу на бумаге и смотрел, как она высыхает. Взгляд Франсуа с одобрением задержался на образчике синего, созданного на основе азиатской ляпис-лазури, которую размельчали в течение двадцати часов: блеск получался несравненный, особенно на белоснежной бумаге. Эта перламутровая синева переливалась почти небесными оттенками.
Франсуа задумался. С тех пор как "Мастерская Труа-Кле" выпустила свою Библию, заказы хлынули потоком – как и эрудиты со всей Европы. Все просили издавать древних латинских авторов. Таким образом, у него уже было сто семнадцать заказов на поэму Лукреция "О природе вещей", сто тридцать пять – на трактат Сенеки "О спокойствии души", двести десять – на трактат Цицерона "Об обязанностях". Каждую неделю в мастерскую приезжали литераторы, ученые, принцы и университетские библиотекари, особенно с севера и из рейнских областей. В Европе насчитывалось только семь печатен – все на севере. Стремление же к знаниям границ не имело.
Будущее мастерской было обеспечено.
Однако не только материальное благополучие грело душу Франсуа: труд во имя просвещения и утверждения благородного образа мыслей наполнял его такой глубокой радостью, какой он прежде никогда не знал. Он испытывал восторженную признательность к матери, благословившей его на этот путь, и к Феррандо, который был добрым гением всего предприятия.
Он рассеянно взглянул на ящик, стоявший на столе. Там были заготовки греческих литер, ибо он собирался издавать и греческих авторов – по просьбе нескольких великих литераторов. Его умоляли напечатать труды Аристотеля.
В этот момент дверь открылась, и вошел незнакомец в блеклом костюме, но с румяным лицом и властными манерами. Шапочку свою он не снял и начал оглядываться вокруг с видом хозяина: внимательно посмотрел сначала на машины, затем на работающих людей – Арминия, Кокельмана, двух подмастерьев и подручного, который загружал дровами печь. Потом на Франсуа.
– Кто владелец этой мастерской? – спросил он по-французски, с парижским выговором.
– Я, – ответил Франсуа, заинтригованный и одновременно встревоженный.
Незнакомец подошел ближе и смерил его взглядом:
– Вы Франсуа де л'Эстуаль?
– Да. А кто вы?
– Мое имя вам ничего не скажет.
– В таком случае покиньте мастерскую.
Посетитель, казалось, ничуть не был обескуражен подобным приемом. Он тонко улыбнулся.
– Не надо так горячиться, мой юный друг. Если, конечно, вы хотите остаться хозяином этой мастерской. Меня зовут Эмар де Фалуа. Вам от этого легче?
– Я вам не друг. Ваши манеры мне не нравятся. Что вам нужно?
Незнакомец взглянул на него иронически. Потом неторопливо приблизился к ящику, стоящему на наборном столе, зачерпнул пригоршню литер, внимательно изучил их и пренебрежительно швырнул обратно. Франсуа крепко схватил его за запястье:
– Убирайтесь!
Арминий и Кокельман подошли, чтобы помочь хозяину Двое подмастерьев прервали работу, готовые в любую минуту вмешаться. Два или три раза в мастерскую врывались душевнобольные люди, которых выпроваживали силой.
– Князь-архиепископ Александр Люксембургский готов отозвать свое разрешение на печатню, – сказал Фалуа.
Франсуа не ослабил хватку.
– И это зависит от вас, не так ли?
– Конечно, барон, – ответил незнакомец, быстро вырвав руку. – Если я захочу, завтра эта мастерская будет опечатана приставами, оборудование конфисковано, а ваши работники брошены в тюрьму.
– Что вам нужно?
– Мне нужна эта мастерская. И вы. И ваши мастера.
Лицо Франсуа побагровело.
– Что ж, пусть так! – вскричал он, опьянев от гнева. – Мастерскую закроют, но вы ее не получите.
Франсуа сразу инстинктивно угадал в непрошеном госте одного из тех заклятых врагов, с какими не раз имела дело мать. Жанна рассказывала ему о них и добавляла: "Никакой жалости!" Он вновь схватил за руки Фалуа, а двое подбежавших мастеров помогли скрутить незваного гостя.
– Вы неосторожны, Франсуа де л'Эстуаль.
– Не больше, чем вы, мерзавец! – сказал Франсуа, задыхаясь. – Свяжите этого человека!
Фалуа стал отбиваться. Арминий ударил его в челюсть кулаком, задубевшим от работы с поворотной штангой. Кокельман стянул ему веревкой запястья.
– Как только почту доставят в Париж, ваша мать окажется в тюрьме, – сказал Фалуа.
– Вовсе нет, – парировал Франсуа.
Он подошел к столу, схватил листок бумаги, перо с чернилами и начал писать, одновременно читая вслух:
– "Ваше высокопреосвященство, я вполне удовлетворен визитом в "Мастерскую Труа-Кле". Однако дело займет больше времени, чем я рассчитывал. Через неделю я представлю вам полный отчет".
Он поставил подпись и, сорвав с пальца Фалуа кольцо, воспользовался им как печаткой, вдавив его в расплавленный воск.
Глаза пленника сверкнули от ярости.
Франсуа протянул послание своему подручному и приказал доставить в резиденцию архиепископа.
– Подождите! – воскликнул Фалуа.
– Что?
– Вы совершаете серьезную ошибку. Наживете кучу врагов. Погубите себя.
Нетерпеливым жестом Франсуа приказал исполнять распоряжение.
– Вы рассчитываете продержать меня здесь неделю? – недоверчиво спросил Фалуа.
– Или дольше.
– Безумец! Обо мне станут беспокоиться.
– Где?
– В Сорбонне. Франсуа кивнул:
– Значит, вас послал университет?
– Это оборудование было украдено у него в Париже. Вы пользуетесь им незаконно. Вы вор. Как и все ваши сообщники. И ваша колдунья мать.
Франсуа с трудом подавил желание отхлестать наглеца по щекам.
– За эти принадлежности заплачено владельцу, к тому же их оказалось недостаточно. В Париже побывала лишь четверть всего оборудования моей печатни.
– Давайте договоримся.
– Нет.
По милосердию Божьему Феррандо был в Страсбурге.
– Стерегите как следует этого человека, – сказал Франсуа Арминию и Кокельману. – Я вернусь через час. Он предложит вам денег за свое освобождение. Это вас погубит.
– Он будет здесь, когда вы вернетесь, мэтр, – заверил его Арминий.
Франсуа во весь дух помчался по улицам. На рыночном постоялом дворе он обнаружил улыбающегося Феррандо в компании суконщиков. Тот встревожился, увидев его взволнованное лицо. Франсуа обрисовал ситуацию.
– Нужно послать верхового гонца к твоему дяде! Пусть гонец вернется с приказом Александру Люксембургскому не посягать на независимость печатни!
Помрачневший Феррандо попросил у хозяина постоялого двора письменные принадлежности и послал за верховым гонцом. Все было сделано меньше чем за час.
– Гонец приедет в Рим через четыре дня, – сказал Феррандо. – Если будет на то милость Божья, столько же времени займет и обратный путь.
– Я буду ночевать в мастерской, пока он не вернется, – заявил Франсуа.
Когда он пришел назад в печатню, Эмар де Фалуа был привязан к стулу, ибо Арминий и Кокельман хотели продолжать работать.
– Вы будете спать на стуле, – предупредил Франсуа, – а я, ваш страж, заночую здесь. Оставьте надежду на побег. Такое высокомерие заслуживает надлежащей кары. Через неделю вы будете конченым человеком. А ваши хозяева проиграют дело.
Охрана Фалуа осложнялась тем, что пленника нельзя было терять из виду. Двое сопровождали его, когда он ходил справлять нужду, и присматривали за ним, когда развязывали ему руки, чтобы он мог поесть.
На второй день Фалуа добился разрешения спать лежа; на пол кинули одеяло, и он растянулся на нем, насколько позволяли связанные руки.
– Давайте договоримся, – вновь предложил он Франсуа.
– Я не договариваюсь с волками. Вы ведете себя и угрожаете, как разбойник. Ваши обвинения лживы. Вы будете наказаны по заслугам.
Теперь он понял наставления матери. Неужели она прошла через такие же испытания?
На девятый день пленник имел жалкий вид: помятый, с разбойничьей бородой, поскольку Франсуа не разрешил ему пользоваться услугами цирюльника.
– Кого вы ждете? – спросил он Франсуа.
– Ваших судей.
Фалуа скривился:
– Это вас будут судить, и вы заплатите за мое заключение сторицей.
Но когда явился Петер Шёффер, срочно вызванный Феррандо, он заметно струхнул.
– Кто вы такой?
Шёффер не ответил.
Затем пришел Феррандо и окинул пленника презрительным взглядом.
Фалуа догадался, что ожидают еще кого-то. Примерно через час в мастерской началась суматоха: встречали князя-архиепископа, прибывшего в сопровождении своего асессора, секретаря и двух лучников.
– Ваше преосвященство! – закричал Фалуа. – Посмотрите, как эти люди обходятся с посланцем Сорбонны!
Александр Люксембургский приказал развязать пленника. Фалуа торжествовал. Медленно поднявшись на ноги, он злобно уставился на Франсуа.
Александр Люксембургский дал ему пощечину.
– Вы солгали мне! – вскричал он гневно.
– Ваше преосвященство… – пробормотал ошеломленный Фалуа.
– Молчите! Изначальное оборудование этой печатни было куплено у законного владельца, присутствующего здесь Петера Шёффера. Остальное создали нынешние владельцы, в частности мэтр Франсуа де л'Эстуаль, ваш законный тюремщик. Я проверил все это по документам, заверенным нотариусом. Сорбонна, на которую вы ссылаетесь, не заплатила ни одного денье. Вы едва не принудили меня совершить подлость, прибегнув к лжесвидетельству. Тюрьма – слишком мягкое наказание для вас. Я напишу об этом вашим поручителям. Стража, возьмите этого человека и отведите в тюрьму! Позднее я приму решение о его участи.
– Папа, ваше преосвященство… – начал Фалуа, которого уже окружили лучники.
Князь-архиепископ повернулся к нему и вытащил из кармана свиток с печатью:
– Его святейшество Павел Второй вновь подтверждает свое покровительство "Мастерской Труа-Кле".
Стражники увели Фалуа. Какое-то время все участники этой сцены молчали, не в силах справиться с волнением. Александр Люксембургский отвел Франсуа в сторону.
– Прощаю вам то, что вы взяли этого злоумышленника в заложники и подделали его подпись. Об этом не будет упомянуто. Мэтр Франсуа, вы действовали изобретательно и решительно. Это хорошо. Но лучше было бы вам заключить союз с такой семьей, которая сумеет оградить вас от неприятностей. Я подумаю об этом.
Затем он ушел. Франсуа решил повести всех ужинать, чтобы укрепить нервы, подвергшиеся тяжкому испытанию.
Жанна в Анжере ничего не знала обо всех этих перипетиях. Получив письмо сына с рассказом о них, она так разволновалась, что Жозеф за нее испугался. По ее мнению, лазутчики Сорбонны смогли, пусть частично, восстановить обстоятельства вывоза оборудования из Парижа. Это означало, что кто-то развязал язык. Возможно, они знали гораздо больше, чем сказал Фалуа. Возможно, они подвергли пытке Сибуле. Возможно…
Чтобы успокоить ее и не тревожиться самому, Жозеф попросил Рене Анжуйского, чтобы один из офицеров на следующий день сопроводил его до Парижа. Они поедут верхом. До столицы легким галопом один день. Обернуться туда-обратно можно за три дня.
В очередной раз Жанна содрогнулась от ужаса. Не ринулся ли Жозеф в пасть волка? Она горячо молилась. Кормилица поила ее разными отварами: от одного из них, очень горького, она впала в сонливое состояние.
Но Жозеф вернулся в условленный срок. Он повидался с Сибуле. Никто его не пытал.
– Как же тогда?.. – спросила Жанна.
– Логика, – ответил Жозеф. – Люди из Сорбонны владеют ею не хуже нас. Известно, что мы связаны свойством с Феррандо Сассоферрато, которого в Страсбурге знают как одного из владельцев печатни. Равным образом известно, что в деле участвует Петер Шёффер, зять Фуста. Поскольку мастерская в Страсбурге оборудована недавно, а у Шёффера в Майнце имеется своя, они пришли к заключению, что для "Труа-Кле" было использовано оборудование, находившееся в парижских ящиках. Да и сам я сказал Бастеру, что у меня доля в мастерской Страсбурга, а он, я в этом почти уверен, известил своих единомышленников в Париже. Мы действуем открыто, и ни для кого не секрет, что у нас есть печатня, которая приобрела сейчас очень важное значение.
– Но почему посланец Сорбонны пылал такой злобой к Франсуа? Почему назвал меня колдуньей, ведь это дело прошлое и меня полностью оправдали? Почему ректор университета желает мне зла? Все это означает, что преследование может в любой момент возобновиться!
– Здесь и в самом деле не все ясно, – согласился Жозеф. – Но позволь мне сказать тебе вот что: я очень сомневаюсь, что эти недобрые дела творятся по распоряжению Гийома Фише, ректора Сорбонны. Все, что я слышал о нем, доказывает, что это настоящий эрудит, поглощенный наукой, человек умный и снисходительный. Разве что у него было какое-то столкновение с тобой.
– Мне об этом неизвестно.
– Значит, есть кто-то еще, возможно, какой-нибудь регент затаил злобу против тебя. Но я бы не стал тревожиться сверх меры. Этот враг опасен, но не всемогущ, доказательством служит происшествие в Страсбурге.
– Нет ли способа выяснить это? – спросила она.
– Дай подумать. Один факт очевиден: несколько крупных городов Европы имеют свои печатни. А парижский университет, который мнит себя великим культурным центром, таковой не обладает. Понятно, что это раздражает клириков. Они надеялись заполучить бесплатно ящики Фуста, а когда ничего не получилось, пришли в ярость. Теперь они стремятся вернуть то, что считают своей добычей, которую у них отняли.
Через два дня Жозеф объявил Жанне, что уезжает в Страсбург. Она удивилась.
– Я попытаюсь найти ответ на вопрос, который тебя мучит, – сказал он.
Александра Люксембургского явно изумила просьба Жозефа.
– Ваше преосвященство позволит мне высказать предположение, что для борьбы со злом необходимо вскрыть его источник? – осведомился Жозеф. – Фалуа всего лишь выполнял приказ своего доверителя – человека, преисполненного злобы и готового на все. Мы с вами оба знаем, что это не может быть Гийом Фише. Следовательно, кто-то прячется за спиной прославленного ученого и, несомненно, прикрывается его именем. Тем самым он наносит ему ущерб, и интригана необходимо разоблачить.
Прелат улыбнулся.
– Я прочел ваши максимы, мессир де л'Эстуаль, и нахожу, что вы столь же мудры, сколь осторожны. Ваше предположение справедливо. Пусть будет так.
По приказу своего господина асессор написал под его диктовку распоряжение начальнику тюрьмы, позволявшее Жозефу де л'Эстуалю увидеться с узником Эмаром де Фалуа и переговорить с ним с глазу на глаз.
– Пытался ли он отправить кому-нибудь послание? – спросил Жозеф, прежде чем проститься с прелатом.
– Нет. Естественно, мы бы его перехватили, и я бы сказал вам об этом. Он покрывает своего доверителя.
Тюрьма находилась в двух шагах от резиденции архиепископа. Здание выглядело зловеще. Но кто видел веселую тюрьму? Жозеф с трудом подавил дрожь, когда двое стражников привели его в коридор, куда открывались двери казематов. В горле першило от запаха пота, мочи и плесени. Стражникам приказали открыть одну из дверей и не закрывать окошко, чтобы посетитель мог позвать их, когда захочет уйти.
Фалуа лежал на соломе, порыжевшей от сырости. У ног его стоял ночной горшок. На столе кувшин и пустая миска. Слабый свет просачивался сквозь высокое, забранное решеткой окно.
Узник был один. Он взглянул на Жозефа и спросил:
– Кто вы такой?
– Жозеф де л'Эстуаль, один из владельцев "Мастерской Труа-Кле".
– Что вам нужно?
– Поговорить с вами.
– Мне нечего сказать.
Жозеф сел на единственный в камере табурет.
– Вы рискуете остаться здесь надолго, расплачиваясь за того, кто послал вас на подлое дело.
– Что я получу взамен?
– Я попрошу князя-архиепископа о снисхождении к вам.
– Меня освободят. И что я стану делать? Вы полагаете, что я смогу вернуться в Париж, предав своего господина? Моя карьера будет кончена.
Фалуа выпрямился и обхватил колени руками.
– Я мог бы попросить князя-архиепископа найти вам занятие в Страсбурге. Какую должность вы занимали?
– Преподавал греческую философию.
– Почему бы не попробовать получить место в университете Страсбурга?
Фалуа обдумал предложение.
– Руки у Сорбонны длинные. Меня все равно обнаружат. Подвергнут оскорблениям, начнут преследовать. Лучше подожду, пока мой адвокат вытащит меня отсюда.
– Никакой адвокат не сумеет спасти вас от заслуженной кары: вы выдвинули обвинения, основанные на лжесвидетельстве. Вы утверждали, что университет заплатил за материалы "Мастерской Труа-Кле", которые будто бы незаконно были увезены из Парижа. Это ложь.
– Я не знал этого.
– Ваш доверитель не будет защищать вас, ведь это он выдумал ложные обвинения и сфабриковал фальшивые доказательства.
– Мой адвокат скажет, что я действовал по искреннему убеждению и не знал, что документы фальшивые.
– И тогда вы надеетесь свободно вернуться в Париж?
– Да.
– Ошибаетесь: Гийом Фише прикажет вновь арестовать вас. Во взгляде Фалуа отразилось замешательство.
– Откуда вы знаете?
– Потому что князь-архиепископ уже сообщил ему об этом деле. Оно вредит репутации Фише. Он захочет разобраться. Выехав из Страсбурга в Париж – при условии, что вас освободят, – вы попадете из огня да в полымя.
Фалуа задумался. Жозеф встал и начал расхаживать по камере.
– Должно быть, – произнес он, – ваш секрет очень важен, раз вы жертвуете ради него свободой.
– Речь идет также о моей чести и о данной мною клятве, – сказал Фалуа. – Если я нарушу ее, мне грозит смерть.
– Клятва, данная обманщику, теряет силу.
– Возможно, – согласился Фалуа, – но я все равно буду постоянно ждать, что меня убьют, и это не считая бесчестья. Вы не можете понять…
– Вы будете в безопасности, если по выходе отсюда получите другое имя.
– Другое имя? – воскликнул ошеломленный Фалуа.
– Да, другое имя, другое положение.
– Разве это возможно?
– Да.
– Поклянитесь.
– Я не могу клясться. Но могу попросить об этой милости князя-архиепископа. Если ваши резоны окажутся убедительными, он пойдет мне навстречу.
– Попросите!
– В таком случае рассказывайте.
Терпение Жозефа и в самом деле начинало иссякать. Фалуа сделал глубокий вдох.
– Это Бернар де Морвилье, – сказал он, – брат Пьера де Морвилье, который был хранителем королевской печати. Он один из регентов Сорбонны и жаждет обладать печатней. Для него это орудие власти. Печатня позволила бы ему отличиться в глазах брата, которым он безмерно восхищается.
Фалуа поднялся на ноги, взял кувшин с водой и стал жадно пить.
– Не знаю, известны ли вам причудливые изгибы карьеры Пьера де Морвилье, – продолжил он. – Еще четыре года назад он был хранителем печати, а это чрезвычайно высокая должность. Затем его симпатии склонились в пользу Карла Бургундского, Карла Французского, Иоанна Бурбонского и прочих мятежных принцев. Король отправил его в отставку. Впоследствии Пьер де Морвилье вновь перешел на сторону короля и сумел завоевать его доверие. Теперь Людовик не может обходиться без Пьера, чей талант убеждения и хитроумие не знают себе равных. Король назначил его членом своего совета вместе с другим преданным ему человеком, Даммартеном.
– Какое отношение имеет все это к вашей безумной выходке? – оборвал его Жозеф, который в очередной раз с раздражением убедился, насколько жизнь их семьи зависит от перипетий королевской политики.
– Потерпите, я пытаюсь объяснить вам, откуда такая страсть у Бернара де Морвилье к книгопечатанию. Тут ключ ко всему делу. Быстрое изготовление текстов, например памфлетов, сделало бы его, как он считает, более могущественным, чем сам ректор. Листовки, распространяемые на улицах, изменили бы настроения в городах. А Бернар благодаря этому стал бы необходим своему брату. Чуть ли не командовал бы им. Вот его мечта. Он думал, что сумел прибрать материалы Фуста. Ибо Фуст вел переговоры именно с ним. Но материалы от него ускользнули. Он знает или подозревает, каким образом это произошло. Поэтому он послал меня сюда. Он сказал мне, что университет заплатил Фусту задаток в пятьсот экю. Показал мне документ. Тогда я не знал, что это фальшивка.
Жозеф начинал понимать подоплеку дела.
– Университет богат. Почему нельзя просто купить печатню? – спросил он.
– Это редкое оборудование, вы сами знаете. Главное же – Морвилье хотел, чтобы печатня принадлежала только ему. С помощью брата он добился бы покровительства университета. Начать он хотел с издания трудов одного астролога…
– Астролога?
– Кристиана Базельского. Тот предсказывает победу брату короля, Карлу Французскому.
Кристиан Базельский! Да это же тот астролог, который плетет козни при дворе Рене Анжуйского! Чудная компания! Жозеф обдумал услышанное и пришел к выводу, что Бастер, несомненно, был тоже связан с Морвилье.
– А какова роль Гийома Фише в этом деле?
– Он, естественно, ничего не знает. Морвилье внушил ему, что для вящей славы университет должен иметь печатню, и Фише поручил ему выяснить, каким образом таковую можно приобрести. Морвилье воспользовался этим, чтобы осуществить собственные планы.
Жозеф ясно представил себе ситуацию.
– Хорошо, – заключил он. – Морвилье будет обвинен в лжесвидетельстве. Его будут судить, приговорят или оправдают, в зависимости от позиции его брата и настроения судей, но вы-то можете доказать, что были всего лишь исполнителем, которого ввел в заблуждение фальсификатор. Не вижу здесь угрозы для вас и не понимаю, какая тут может быть клятва чести.
Фалуа поднялся.
– Это только одна сторона дела, – произнес он, встав перед Жозефом. – Морвилье связан с еще одним очень могущественным человеком.
– С кем же?
Фалуа на мгновение заколебался, затем сказал:
– С Иоанном Бурбонским.
Жозеф поднял брови:
– Пусть так. Герцог Бурбонский – человек действительно могущественный, и он союзник короля. Но я по-прежнему не понимаю, в чем здесь угроза для вас и почему вы связаны клятвой чести.
Фалуа придвинулся к Жозефу еще ближе.
– Они масоны, – выдохнул он.
Наступила пауза. Жозеф слышал о масонах и всегда спрашивал себя, какую цель преследует эта тайное общество, которое одни обвиняли в немыслимых злодеяниях, а другие считали собранием выдающихся умов. Сам он ни к какому определенному мнению пока не пришел.
– Вы тоже масон?
– Да. Если я заговорю, мне конец. Такова участь предателей в нашем братстве.
Жозеф вздохнул.
– Тем более вам необходимо сменить имя, – сказал он. Измученное лицо Фалуа осветилось, придав ему вид страдальческий и одновременно пугающий.
– Почему вы так мерзко вели себя по отношению к Франсуа де л'Эстуалю? Почему сказали, что его мать колдунья?
– Жанна де л'Эстуаль! – вскричал Фалуа. – Самая отъявленная блудница во всем Париже!
Жозеф метнул на него ледяной взгляд:
– Вы говорите о моей жене.
– Вашей жене? – испуганно воскликнул Фалуа. – Я думал, она жена вашего брата…
Повинуясь редкому для себя неконтролируемому порыву, Жозеф вскочил и схватил Фалуа за ворот.
– Это моя жена, подлый висельник!
Фалуа попытался отступить. Жозеф грубо рванул его к себе. Стражник заглянул в окошечко камеры.
– Эта женщина, мессир, – выкрикнул Фалуа с неожиданной злобой, – эта женщина… Франсуа де л'Эстуаль – сын Франсуа Вийона, вам это известно? Он бастард! И этот бастард владеет печатней!
– Не бросайтесь словами, Фалуа, или вы никогда не выйдете из тюрьмы! Какое отношение имеет мой пасынок Франсуа де л'Эстуаль к вашим масонским делишкам?
Фалуа снизу вверх взглянул в лицо Жозефу.
– Франсуа Вийон был масоном. Ему покровительствовал Иоанн Бурбонский. Оказавшись в нужде, он попросил денег у матери своего сына, а она отказала ему! Он пожаловался Иоанну Бурбонскому…
– Глупец! Жалкий глупец! – воскликнул Жозеф. – Жанна, моя супруга, была изнасилована этим поэтом бродяг и нищих! И вы хотите, чтобы она давала деньги вору и всем известному сутенеру? Который баловался и с мальчиками?
Лицо Фалуа исказилось. Стражник вновь припал к окошечку.
– Вам нужна помощь, мессир? – крикнул он.
– Нет, спасибо, – столь же громко ответил Жозеф.
– Я не знал этого… Я не знал… Простите меня! – сказал Фалуа.
У него был удрученный вид. Он вновь сел на солому и закрыл лицо руками.
– Все лгали мне… Все! – простонал он.
– Жанна, – продолжал Жозеф, – прекрасно воспитала мальчика и дала ему свое имя. Этот одаренный юноша в восемнадцать лет стал во главе печатни. Я не потерплю, чтобы его оскорбляли в камере, где самое место отвратительному глупцу, который повторяет гадкие сплетни блудниц и содомитов!
– Простите меня, – пробормотал Фалуа. – Я и в самом деле глупец.
Голос его стал хриплым.
– И еще мне сказали, – добавил он, – что она убила своего брата и что ее судили за колдовство…
– Чем так заинтересовал этих милых людей ее брат? – спросил Жак.
– Дени д'Аржанси был еще одним протеже Иоанна Бурбонского. И масоном.
Жозеф онемел. Положительно, некая темная сила накрыла единой сетью отца Франсуа и брата Жанны.
– И что же? – спросил он, силясь сохранить хладнокровие.
– Морвилье был очень привязан к Дени д'Аржанси и не мог утешиться после его ужасной смерти. Он был бы счастлив погубить вашу жену и близких ей людей.
– Стало быть, и меня, – заключил Жозеф. – И Франсуа.
– У него было два сильнейших мотива в деле, которое он мне поручил. Он хочет, чтобы Франсуа де л'Эстуаль прислуживал ему…
– Довольно!
Жозеф встал, преисполненный отвращения. Ему захотелось перечитать собственные максимы, чтобы вернуть прежнее спокойствие духа. Он задыхался.
– Мессир! – вскричал Фалуа. – Я рассказал вам все! Вы обещали!
– Вы опрокинули мне под ноги тачку с нечистотами!
Узник поднял на Жозефа умоляющий взгляд. Из глаз его текли слезы.
– Я раскаиваюсь, – сказал он. – Меня обманули. Что вы собираетесь делать? Не оставляйте меня прозябать здесь! Я умру! Меня убьют!
Закрыв лицо руками, он зарыдал.
Несчастная жертва власти! – сказал себе Жозеф. Он подумал о мужестве Жанны. И о мужестве Франсуа, который схватил Фалуа и добился его ареста.
– Мессир! – душераздирающе выкрикнул Фалуа.
– Ваша исповедь омерзительна, – промолвил Жозеф. – Но она спасла вам жизнь. Я прямо сейчас отправлюсь к князю-архиепископу.
Он позвал стражника, который открыл ему дверь, и вышел понурив голову, отягощенную гнусными признаниями Фалуа.
– Надо будет уведомить короля, – сказал Александр Люксембургский, когда Жозеф пересказал ему откровения Фалуа, естественно, опустив те, которые касались Жанны и Франсуа де л'Эстуаля. – Но государю сейчас не до этого. Он занимается отменой Пероннского договора. В любом случае я извещу Фише письмом.
– А Фалуа? – спросил Жозеф.
– Хорошо понимаю, как он вам досадил. Действительно, я могу дать ему другое имя, объявив, что он умер в тюрьме. Или сбежал. – Эта мысль заставила его улыбнуться. – Его побег встревожит Морвилье, – продолжил он. – Да, именно так, мы скажем, что Фалуа сбежал, и дадим ему другое имя. Вы говорите, что он преподавал греческую философию? А почему бы вам не использовать его в "Труа-Кле"? Он будет предан вам душой и телом!
Князь-архиепископ затрясся от смеха, развеселившись от собственной идеи. Жозеф удивился. Однако мысль была недурна.
– Если вы возьмете его, он будет тотчас отпущен на свободу, – сказал прелат.
– Сначала я должен убедить Франсуа де л'Эстуаля, – ответил Жозеф.
Страсбург и в самом деле оказался утомительным городом. Жозеф простился с Александром Люксембургским, но у самой двери обернулся:
– Ваше преосвященство, каким образом разрешим мы проблему с Морвилье?
– Мы подумаем об этом, мессир, мы подумаем. Я не люблю, когда меня выставляют дураком!
25 Горькая победа
Ты с ума сошел? Такой была первая реакция Франсуа на предложение Жозефа. Оно последовало за долгим рассказом.
– Этот человек оказал нам огромную услугу, – сказал Жозеф. – Он открыл нам, кто наши враги. Враги Жанны. И твои. Он раскаялся. Ты будешь владыкой его жизни и смерти. Достаточно раскрыть его подлинное имя, и он покойник. Ты ведь хочешь печатать греческие тексты. А он знаток греческой философии.
Франсуа внезапно расхохотался.
– Жозеф, я тебя обожаю! – вскричал он. – Возможно, ты безумец, но безумец гениальный.
На следующий день Жозеф привел в мастерскую бородатого человека, которого представил как Жереми Ле Гито. Это был Эмар Фалуа: узнав его, несмотря на еще не слишком густую бороду, все ощетинились. Эллинист бросился к ногам Франсуа и стал целовать ему руки.
– Простите меня, мессир! Во имя Иисуса, простите! Меня обманули!
Арминий, Кокельман и подмастерья изумленно взирали на эту сцену. Дерзкий враг превратился в покорного раба. Они не унизили себя злорадством и сохранили бесстрастный вид.
– Встаньте, Ле Гито, – сказал Франсуа. – Мы используем ваши познания в греческом языке.
Жозеф обнял Франсуа, попрощался с Арминием, Кокельманом и подмастерьями и уехал. Он хотел быть с Жанной. На земле существовала только одна гавань, только одно убежище – и это была Жанна.
Вернувшись в Анжер, он не стал пересказывать ей то, что Фалуа говорил о Дени и Франсуа Вийоне. Ему не хотелось, чтобы эти два призрака преследовали ее всю жизнь.
Предвидение Александра Люксембургского сбылось: Людовик XI был настолько поглощен отменой злосчастного Пероннского договора, что не обратил внимания на историю с печатней и на происки регента-масона. Парижане поднимали его на смех. Обучили соек и галок кричать: "Перонна! Перонна!" Какой-то судейский из Шатле приказал отлавливать их, что еще больше развеселило народ. Впрочем, Людовик избегал появляться в столице, опасаясь худшего. Парижане начали задаваться вопросом, уж не каплун ли он и не засадит ли его Бургундец в клетку, как непочтительных галок.
Но то были цветочки в сравнении с тем, что говорили жители Льежа, которые склоняли Людовика на все лады, именуя его трусом и сукиным сыном. Страсбург разделял эти настроения. Но ведь народ любит только победителей: это понимали уже во времена римских Цезарей. Vae victis![55] Тем временем Жозеф наслаждался близостью Жанны. У них наступил второй медовый месяц, на сей раз целомудренный, ибо она была на четвертом месяце и очень опасалась, как бы на ход беременности не повлияли пережитые испытания.
– Каким образом мы разделаемся с Морвилье? – спросила она.
– Александр Люксембургский сказал, что сам подумает об этом, – ответил Жозеф.
– Но сделает ли он что-нибудь?
– Эта история привела его в раздражение. Самолюбие часто сильнее воздействует на людей, чем чувство справедливости.
Рене Анжуйский, которому втайне сообщили, что его астролог связан с Иоанном Бурбонским и его кликой, прищурился и сказал:
– В любом случае он говорил одни лишь глупости. Было бы занятно посмотреть, как под воздействием Сатурна мытари откажутся от сбора налогов!
И расхохотался.
– Этот ребенок сильно брыкается, – сказала Жанна однажды вечером. – Он будет резвым.
В феврале 1470 года выяснилось, что она совершила грамматическую ошибку: это был не он, а она. Девочка! Любое дитя есть дар Неба, именно поэтому она назвала своего сына Деодатом. Но девочка! Девочка! Она приняла ее так, как жаждущий приникает к ручью. Она немного устала от мужчин, вечно озабоченных своими победами и не обладающих подлинным пониманием жизни. Она и Жака полюбила больше всего за некоторую его отстраненность, словно он постоянно прислушивался к музыке неких таинственных сфер, дабы быть с ней в гармонии.
Что бы я делала без этих двух братьев? – повторяла она себе.
Она думала о них на протяжении всей беременности: этот ребенок был в такой же мере даром Жака, как и Жозефа, – словно островок, омываемый двумя реками. Сравнение с реками ей очень нравилось. Все человеческие существа виделись ей вырвавшимися из земных недр потоками, которые оживляют вселенную, устремляясь к той или иной звезде, а затем вновь возвращаются туда, откуда явились. На земле им дают имена, дарят погремушки и считают сыном или дочерью, но на самом деле любое дитя порождено небом и землей.
Они с Жозефом решили назвать девочку Об[56].
– Если бы в мире было больше женщин, было бы меньше войн, – сказала Жанна.
Она жила теперь только ради Об и Жозефа. С девочки она не сводила глаз: смотрела, как та просыпается, как засыпает.
Все же она выкроила время, чтобы прочесть и перечитать письмо, в котором Франсуа сообщал, что Гийом Фише предложил ему создать печатню для Сорбонны.
– Что это может означать? – спросила она Жозефа. – Университет преследовал его, а теперь просит помощи?
– Посмотрим. В любом случае, как я уже говорил тебе, Фише нам не враг.
В другом письме Франсуа рассказал о встрече с Фише, который был очень любезен, и с Морвилье, "походившим на зудящий нарыв". Несомненно, это стало своеобразной местью Фише: он доверил создание печатни – объекта вожделений Морвилье – человеку, которого тот пытался ограбить! Регент тоже хотел было сунуться, однако ректор решил, что печатней будет распоряжаться только Франсуа де л'Эстуаль под его личным контролем.
– Морвилье с ума сойдет! – сказала Жанна.
– Он и так сумасшедший.
Это звучало не слишком успокаивающе.
Итак, Франсуа поселится в особняке Дюмонслен, чтобы по просьбе Фише устроить печатню, которая будет располагаться на факультете церковных установлений, на улице Сен-Жан-де-Бове. Жозеф отправил ему письмецо, чтобы известить о рождении Об и предостеречь от более чем вероятных козней врагов.
Поскольку в особняке Дюмонслен уже много месяцев никто не жил, а Жанна не проявляла никакого желания возвращаться туда в ближайшем будущем, Жозеф с присущей ему рачительностью уволил повара, оставив только двух слуг – семейную чету, которая поддерживала в доме порядок. В первые дни Франсуа кое-как удовлетворялся пищей, которую они готовили. Но очень скоро ему надоели отварные яйца, колбаса и суп; главное же, он хотел принимать у себя – пусть скромно – людей, связанных с ним деловыми отношениями: торговцев металлами, состоявшими в гильдии ювелиров, ученых и литераторов, советовавших напечатать ту или иную книгу. Он занялся поисками повара. На это потребовалось несколько дней: жители квартала были оповещены, и подходящий человек вскоре нашелся – его звали Кантен Лафуа, и он уверял, будто служил у герцога Бурбонского.
Из склонности к провокации или по расчету Франсуа привез с собой Жереми Ле Гито, заросшего бородой до самых глаз. Всегда прежде чисто выбритый и часто пользовавшийся услугами цирюльника, он был неузнаваем. Расчет оказался верным: Жереми помогал Франсуа в беседах с университетскими людьми, указывая на приспешников Морвилье. На самих переговорах бывший узник не раскрывал рта и высказывал свои соображения, только оставшись наедине с Франсуа, которому предался душой и телом. Больше всего он боялся разоблачения и ловушек, которые, по его словам, Морвилье не замедлит расставить на пути Франсуа.
Действительно, их оказалось немало. Так, кузнец, которому Франсуа выдал щедрый задаток для изготовления прессов с поворотными штангами, дал тягу с деньгами, а когда Франсуа отправился по указанному им адресу, выяснилось, что ни один кузнец там никогда не жил. Все это увеличивало расходы и замедляло работу.
Жереми занимал комнату в доме Франсуа. Он с радостью обнаружил устроенную Жозефом парильню и часто ею пользовался. Франсуа высоко оценил то, что преданный слуга никогда не приводил в особняк блудниц. Эти создания не только страдали всевозможными болезнями, но часто вступали в сговор с воровскими шайками, которые грабили дома их клиентов, занятых любовными развлечениями.
Каждый вечер Жереми ужинал вместе со своим хозяином.
Однажды вечером, когда Франсуа и Жереми вдвоем сидели за столом, прислуживавший им повар, как обычно, принес суп и разлил по бокалам вино. Они обсуждали возможность перехода к формату в тридцать шесть строк вместо сорока двух, чтобы выпускать издания не столь громоздкие, как ин-кварто. Для этого нужно было отливать более мелкие литеры, и Франсуа уже нанял гравера, способного вырезать и греческий шрифт.
Жереми взял бокал с вином. Внезапно он вздрогнул и быстро сплюнул на пол то, что успел отхлебнуть. Франсуа, державший бокал в руке, взглянул на него с удивлением. Жереми стремительно вскочил с места и вырвал у него бокал.
– Что с вами? – спросил Франсуа.
– Вино отравлено! – воскликнул Жереми и повернулся к повару.
Тот смертельно побледнел. От потрясения или от сознания вины? Франсуа посмотрел на него очень внимательно.
– Мессир, – пролепетал повар, – вероятно, вкус пряностей, которыми я приправил суп, ввел в заблуждение вашего гостя…
Франсуа пригубил вино и тоже сплюнул.
– Это не пряности! – с силой произнес он. – Я еще не притрагивался к супу.
Он встал с бокалом в руке, протянул его повару и приказал:
– Пейте.
– Мессир, я не пью…
Франсуа повторил свой приказ. Кантен по-прежнему отказывался, озираясь вокруг с явным намерением сбежать. Франсуа бросился на него. Как оказалось, повар умел управляться не только с соусами и силой намного превосходил своего противника. Он ловко отразил нападение, а Жереми, также рванувшегося к нему, повалил на пол и устремился к двери. Франсуа побежал за ним, но получил такой удар в грудь, что у него пресеклось дыхание. Задохнувшись, он сложился вдвое. Тогда Жереми схватил один из подсвечников, стоявших на столе, и запустил им в спину повара. Тот вскрикнул и на мгновение застыл. Шум привлек внимание слуг, которые ушли было к себе. Они побежали по лестнице на второй этаж.
– Задержите этого человека! – крикнул Жереми.
Слуги преградили повару путь. Тот бросился на них с кулаками. Женщина закричала. Но Франсуа, чьи силы от ярости внезапно удесятерились, прыгнул на него, как волк, повалил на землю и нанес ему в лицо удар, способный оглушить быка. На несколько секунд повар лишился чувств, и Франсуа ударил его еще раз.
– Принесите веревку! – крикнул он.
Слуги кинулись исполнять приказ. Повар решил, что это благоприятная возможность для бегства: вскочив на ноги, он стал бороться с Франсуа. Молодчик был очень силен и почти одолел своего противника, но тут Жереми сзади схватил его за горло. Повар отчаянно вырывался. Франсуа двинул его коленом в пах, затем нанес удар в печень, потом в лицо и наконец в грудь. На этот раз повар рухнул как подкошенный. Вернулись слуги с веревкой. Франсуа связал его по рукам и ногам. Пленник глухо вскрикивал, но сопротивляться уже не мог.
– Бегите за стражниками, – сказал Франсуа, затягивая узлы.
Понадобился час, чтобы найти один из ночных патрулей.
Стражники явились с факелами в руках. Франсуа изложил суть дела. Их командир пригубил вино и тут же сплюнул. Затем повел своих людей на кухню, и те произвели обыск. Обнаружив подозрительную склянку, наполненную черной жидкостью, он открыл ее, понюхал и сказал:
– Это никакие не пряности. Вот ваш яд.
Пленника увели прямиком в Шатле. Жереми продолжил обыск, роясь в вещах повара. И нашел листок бумаги.
Получено от мэтра Кантена Лафуа, повара, один ливр и восемь денье за флакон с мышьяком, предназначенный для опрыскивания приманки для крыс.
Рене Валлен, аптекарь, улица Бутбри, напротив церкви Сен-Пьер-о-Бёф.
Он протянул листок Франсуа.
– Этим мы Морвилье не скомпрометируем, – заметил тот.
Продолжив поиски, Жереми нашел еще один листок:
Дано мэтру Кантену Лафуа пять ливров и десять денье за службу в декабре 1469 года.
Монсомер, дворецкий в особняке Трей, на Пре-о-Клерк.
Жереми выглядел очень довольным.
– Пре-о-Клерк принадлежит университету, – сказал он.
Франсуа не скрывал своего скепсиса.
Поскольку они так и не поели, им пришлось поужинать сыром, орехами и свежим инжиром. Они открыли новую бутылку, сохранив отравленное вино как улику. Затем растерлись арникой. У Франсуа был подбит глаз, на руке у Жереми красовался кровоподтек.
На следующий день Жереми чуть свет отправился выяснять, кому принадлежит особняк Трей. Ближе к полудню в особняк Дюмонслен зашел командир стражников. Вид у него был мрачный. На допросе повар заявил, что Бернар де Морвилье, регент университета, поручил ему отравить Франсуа и заплатил за это; сам же он в свое время служил у Морвилье поваром. Офицер кисло взглянул на Франсуа и сказал:
– Вы знаете, кто такой Бернар де Морвилье? Франсуа кивнул.
– Ваше дело трудно будет вести.
– Но вы ведь не откажетесь от своего донесения? – спросил Франсуа.
Тот недовольно хмыкнул.
– Вы же понимаете, в чем тут загвоздка. Как бы там ни было, вам следует подать жалобу в городскую управу. Если вы этого не сделаете, вашего повара вздернут без промедления.
Разумеется, все это не облегчало идущую полным ходом работу над устройством печатни.
В полдень вернулся торжествующий Жереми.
– Как я и подозревал, особняк Трей принадлежит Бернару де Морвилье! – воскликнул он.
Франсуа кивнул: его по-прежнему пугало обвинение, которое он собирался предъявить. В канцелярию городской управы он подал жалобу на попытку отравления неизвестным лицом через посредство повара Кантена Лафуа, не называя пока Бернара де Морвилье, чтобы не вспугнуть его раньше времени. Затем он решил найти адвоката. Не зная никого в Париже и не имея возможности с кем-нибудь посоветоваться, он вспомнил имя, упомянутое Жозефом в рассказе о суде над Жанной: Бертран Фавье.
Адвокат принял его тепло. Но когда Франсуа изложил свое дело, поморщился.
– Мой юный друг, я очень хочу вам помочь, но должен предупредить, что мы вряд ли поднимемся выше вашего повара, который будет повешен и так, если его уже не вздернули. Пьер де Морвилье – советник короля, а прежде был хранителем королевской печати. У него множество высокопоставленных друзей, он обладает огромной властью, и мало кто из судей осмелится вызвать его недовольство. Кроме того, мы столкнемся здесь с главной проблемой нашего правосудия: можно доказать виновность Бернара де Морвилье в королевском суде, можно даже отправить его в тюрьму, как это было в случае с д'Эстутвилем, но, поскольку он клирик, королевский суд его судить не имеет права. Понимаете?
Франсуа кивнул:
– И все потому, что король отменил Прагматическую санкцию.
– Именно так. Только университет может судить своих. Вы не передумали?
– Нет, – сказал Франсуа. – Одно лишь то, что виновник будет назван, сделает его бессильным.
– Хорошо, – сказал Фавье. – Вы подали жалобу?
– Да.
– На кого?
– Я не назвал Морвилье.
– Вы очень догадливы, мой юный друг. Это разумная осторожность. Засим, какие у вас имеются доказательства?
Если не считать признаний Кантена Лафуа, Франсуа располагал немногим: он предъявил первый документ, расписку аптекаря с улицы Бутбри.
– Это хорошо, – сказал Фавье, – но будет еще лучше, если у нас будет протокол допроса в городской управе.
Он повернулся к своему клерку:
– Эмар, дружок, отправляйтесь немедля в управу и возьмите заверенную копию допроса Кантена Лафуа, повара из особняка Дюмонслен, арестованного там вчера вечером и допрошенного сегодня утром.
Это был тот самый клерк, Эмар Фландрен, который помогал Фавье во время суда над Жанной.
– Есть у вас другие доказательства?
Франсуа смотрел на него, не отвечая.
Фавье улыбнулся:
– По выражению вашего лица я понимаю, что есть, и вы не решаетесь вручить их мне, ибо боитесь, что магистратура окажет на меня давление и, если называть вещи своими именами, попытается купить меня. Я прав?
Франсуа по-прежнему молчал.
– Хорошо. Дайте мне только взглянуть на них, и я их верну.
Франсуа вытащил из кармана второй листок. Фавье спросил, кому принадлежит особняк Трей.
– Бернару де Морвилье, – ответил Франсуа.
– Ого! – воскликнул адвокат. – Это становится интересно!
Он улыбнулся и провел пальцем по обрезу бумаги.
– Сей документ может стоить сьеру де Морвилье головы!
Храните его со всем тщанием.
Франсуа старался не терять хладнокровия, но это оказалось трудно. Он не мог никому довериться. В восемнадцать лет он занимался таким сложным делом, как устройство печатни, а за плечами у него был совсем небольшой опыт. Ему так хотелось, чтобы рядом был Шёффер. И особенно мать. Но он не осмеливался тревожить ее мрачными известиями. Кроме того, Бернар де Морвилье наверняка узнал об аресте своего приспешника, отчего ярость его удвоилась. Конечно, он попытается еще раз нанести смертельный удар, ибо теперь не оставалось сомнений, что он жаждет избавиться от своего злейшего врага Франсуа де л'Эстуаля.
К счастью, на улице Бьевр появился Феррандо, у которого случились банковские дела в Париже. Он удивился, застав там Франсуа, который рассказал ему обо всем. Феррандо стал серьезен.
– Ты и твоя мать – люди независимые и, как следствие, одинокие. Вы не связаны родством ни с одной влиятельной семьей и побеждаете только благодаря своему уму, своим заслугам. Поэтому вы кажетесь легкой добычей, над которой можно восторжествовать без особого труда. Меня не удивляет то, что с вами происходит. Вы вмешиваетесь в дела сильных мира сего, а у тебя нет даже королевской благосклонности, которая порой ограждала твою мать. Надо тебя женить, вот и все.
Такой же совет дал Александр Люксембургский, подумал Франсуа.
– Но партия вовсе не кажется мне проигранной, несмотря на могущество и связи твоих врагов, – продолжал Феррандо. – Я бы сказал, скорее наоборот.
Пока же надо было заниматься повседневной работой. В мастерской на улице Сен-Жан-де-Бове уже установили плавильную печь. Франсуа распорядился отлить в Страсбурге больше тысячи литер, их доставили в Париж в двенадцати ящиках. И первые два пресса были наконец изготовлены.
Гордое сознание важности своего дела вдохновляло Франсуа.
Но он чувствовал бы себя лучше, если бы имел право носить кинжал.
Суд состоялся через три недели.
Хотя на допросе Кантена Лафуа всплыло имя Бернара де Морвилье, зрителей было мало. Приставы и секретари не проронили об этом ни слова, да и вообще считалось обычным делом, что маленькие или ничтожные люди, попавшись на чем-нибудь противозаконном, часто поминали высокопоставленных персон в надежде повлиять на судей или публику. Сверх того, дела, связанные с отравлением, привлекали зевак лишь в том случае, если замешаны были интересные персонажи – особенно женщины. Кумушки сбежались бы посмотреть на блудницу, отравившую судейского чиновника, или на невестку, покончившую со свекровью; что же касается Франсуа де л'Эстуаля, то его в Париже почти никто не знал. Если бы он не подал жалобы, дело вообще не стали бы рассматривать в суде: просто вздернули бы Кантена Лафуа, и все. Последний не имел средств на адвоката, и прокурор обрушил на него всю мощь своего красноречия: поскольку из донесения командира стражников явствовало, что при обыске были найдены неопровержимые улики, он завершил речь требованием повесить преступника. И уселся на свое место.
Именно на это и рассчитывал адвокат Фавье: усыпить бдительность прокурора, создав у того иллюзию легко одержанной победы.
Франсуа, рядом с которым сидел Феррандо, то скрещивал, то вытягивал ноги.
Фавье попросил слова, получил его и заявил, что прокурор не назвал имя заказчика преступления – Бернара де Морвилье, регента университета. Исполнитель, разумеется, виновен, но автор умысла – еще больше.
– С другой стороны, – заметил он, устремив свой острый взгляд на заинтригованных судей, – прокурор ничего не сказал о мотиве преступления. А таковой наличествует всегда.
Мэтр Фавье был светилом среди адвокатов. Поэтому все удивлялись, что он взялся за столь пустяковое дело. И его вопросы попали в цель.
Услышав имя Морвилье, судьи внезапно встрепенулись и стали озираться вокруг, словно индюки на птичьем дворе. Один из них повернулся так резко, что едва не потерял судейскую шапочку.
Прокурор поднялся и с негодованием воскликнул, что не следует брать в расчет измышления жалкого преступника, который пытается спасти свою шкуру. Кто-то из судей пожал плечами.
Фавье спокойно возразил, что у него имеется доказательство служения подсудимого Лафуа у Бернара де Морвилье. И предъявил второй документ, найденный Франсуа, положив его на пюпитр прокурора. Тот передал бумагу судьям, которые с явным неудовольствием водрузили на нос очки. Фавье не без труда заставил их вернуть улику.
Дело принимало для судей скверный оборот. Оказавшись в безвыходной ситуации, они отложили вынесение приговора, пока не будет выслушан, horribile dictu[57], свидетель Бернар де Морвилье и свидетель Монсомер, его дворецкий.
Кантен Лафуа выиграл несколько дней жизни. Следующее заседание должно было состояться через три дня. Но его перенесли по причине занятости регента. Потом отложили еще раз.
Однако регенту, пусть даже и носившему имя Морвилье, нельзя было уклоняться от вызова в суд бесконечно – от этого могла пострадать репутация его брата. Не только парижане прохаживались насчет важного клирика, который боится правосудия, – в университете тоже начали косо посматривать на навязанного сверху регента. Чем больше затягивалось дело, тем больше возникало слухов: словно к хвосту собаки привязали кастрюлю, которая громко стучит по булыжной мостовой.
Явно осведомленный о происходящем Гийом Фише явился на улицу Сен-Жан-де-Бове под тем предлогом, будто хочет взглянуть, как продвигается работа.
– Когда вы надеетесь приступить к печатанию? – спросил он Франсуа.
– Монсеньер, я ожидаю поставку чернил на неделе. Но мы уже начали набирать текст, который вы предложили.
Это был трактат Цицерона "Об обязанностях".
– Вы действуете споро, хотя вам приходится нелегко.
– Монсеньер, мне очень хочется угодить вам, поддержать репутацию университета и своего искусства. Поэтому, дабы ускорить работу, я заказал в Страсбурге отливку литер.
Фише кивнул. Это был человек прямой и в то же время тонкий. Он взял Франсуа за руку.
– Я в курсе вашей тяжбы. Князь-архиепископ Александр Люксембургский написал мне обо всем. Университет хотели использовать, и я возмущен этим. Равным образом меня привела в ужас попытка вас отравить. Они хотели помешать нашей совместной работе. Естественно, я не могу появиться в суде, ибо это приведет к расколу в университете. Но все, что знаю я, знает и мой секретарь. Вы с ним знакомы: это мэтр Сильвестр Фромон. Я приказал ему быть в распоряжении мэтра Фавье, и он счастлив помочь вам.
Большего ректор не мог бы сделать.
Мэтр Фромон, которому едва исполнилось двадцать пять лет, приблизился, чтобы пожать руку Франсуа. Это был человек, не склонный к лицемерию. Морвилье он терпеть не мог.
– Его чердак кишит мышами, а погреб – змеями, – съязвил он.
В день второго слушания зал был набит битком; на всех подходах ко Дворцу правосудия толпился народ. Бернар де Морвилье с большим трудом пробился в зал, двое стражников расчищали ему дорогу.
Высокого роста, с ястребиным профилем и огромным кадыком, он был в черном парадном наряде. В сопровождении адвоката и трех секретарей он вошел в зал с таким видом, словно его должны были короновать, и уселся на скамью для свидетелей, недалеко от Франсуа, которого не удостоил даже взглядом. Появились судьи, и публика встала, судьи сели, и публика села, судьи посмотрели на Морвилье, и зал стал смотреть на него. Он поклонился судьям и прокурору, который ответил на его приветствие с подчеркнутым почтением.
Почти никто не взглянул на Кантена Лафуа, сидевшего на скамье подсудимых между стражниками. И мало кто обратил внимание на молодого человека, посмевшего подать иск против брата высшего сановника королевства.
Морвилье предложили принести присягу, и он приблизился к возвышению, где восседали судьи. Его спросили, знает ли он обвиняемого Кантена Лафуа.
– Меня уверяют, будто он служил при кухнях моего особняка. Я на кухню не заглядываю и этого человека не знаю.
Другой судья спросил, есть ли у него причины желать зла мэтру Франсуа де л'Эстуалю.
– Я видел мэтра де л'Эстуаля в кабинете мэтра Гийома Фише в тот день, когда наш ректор поручил ему создать печатню для университета. С тех пор я с ним не встречался. Я не питаю к нему зла и не вижу, к чему мне было пытаться отравить его, ведь это существенно замедлило бы устройство печатни и нанесло ущерб университету. Это измышления больного или преступного ума.
Фавье выслушал все эти заявления с улыбкой кота, изготовившегося прыгнуть на мышь.
Суд поблагодарил свидетеля, и тот вернулся на свое место. Его адвокат и трое секретарей одобрительно кивали.
Фавье попросил слова. Суд снисходительно разрешил ему говорить, всем своим видом показывая: да ведь дело уже решено! Какого дьявола, мэтр, такому человеку, как вы, тратить время на бесплодные усилия?
– Свидетель мэтр Морвилье ответил, что не знает своего повара Кантена Лафуа, поскольку на кухню не заглядывает. Пусть будет так. Прошу вызвать моего первого свидетеля.
Пристав дал знак стражникам, дверь распахнулась, и вошел мэтр Сильвестр Фромон, также в черном одеянии клирика.
Морвилье, до сих пор излучавший довольство, внезапно нахмурился.
Фромон встал перед судейским возвышением. Его попросили назвать имя, звание и принести присягу.
– Сильвестр Фромон, двадцать пять лет, уроженец Парижа, секретарь мэтра Гийома Фише, ректора парижского университета.
– Можете ли вы указать в этом зале человека, которого вы видели возле двери ректора восьмого июня в полдень? – спросил Фавье.
Франсуа вздрогнул: вечером того дня он едва не был отравлен.
Фромон обвел взглядом первые ряды и показал на Кантена Лафуа. По залу прошел ропот.
– Тихо! – крикнул председатель.
– Очень хорошо, – сказал мэтр Фавье. – И кого же он ожидал?
– Мэтра Бернара де Морвилье.
На сей раз в зале поднялся уже не ропот, а гвалт. Потребовалось несколько минут, чтобы публика утихла, повинуясь настоятельным требованиям председателя.
– Вы уверены, что Кантен дожидался именно его?
– Он пришел вместе с мэтром де Морвилье и нес в руках его сумку. Затем ушел вместе с ним, приняв у него сумку обратно.
Мэтр Фавье поблагодарил мэтра Фромона, который вышел из зала, перед этим быстро взглянув на Франсуа. После его ухода разразилась буря.
– Отравитель! – кричали в зале.
– Негодяй!
Фавье выждал, пока шум стихнет, и вновь заговорил:
– Итак, свидетель мэтр де Морвилье солгал. И совершил клятвопреступление, утверждая, будто не знает повара Кантена Лафуа, который находился рядом с ним в тот самый день, когда была совершена попытка отравления. Что связывает его с отравителем, мы не знаем…
Шум в зале. Обвинить в клятвопреступлении одного из регентов университета, брата советника короля!
– Мэтр де Морвилье на второй вопрос ответил, что не питает зла к моему клиенту и был бы огорчен задержкой в устройстве печатни. Позвольте мне пригласить еще одного свидетеля.
Появился Эмар де Фалуа. Выбритый дочиста.
Крика, который испустил Бернар де Морвилье, хватило бы с лихвой, чтобы послать его на эшафот. Он вытянул шею, побагровел и, казалось, готов был броситься на Фалуа. Адвокат и трое секретарей удержали его. В зале послышались крики:
– Мышь укусила кота!
Безумное веселье охватило зал.
Все заметили судорожное движение Морвилье, в любом случае это не ускользнуло от внимания судей: они явно задавались вопросом, почему появление этого свидетеля произвело такой эффект.
Фалуа попросили назвать имя, звание и принести присягу. Сердце Франсуа забилось. Он восхищался Эмаром, который сам вызвался быть свидетелем, вернув себе на время прежнее имя и обличье. После суда он укроется на две недели в доме Сибуле, чтобы вновь отрастить бороду и опять предстать в роли Жереми Ле Гито.
– Эмар де Фалуа, преподаватель греческой философии в Сорбонне.
– Вы знакомы с мэтром Бернаром де Морвилье? – спросил Фавье.
Фалуа выложил все: тут была и миссия, которую Морвилье поручил ему исполнить в Страсбурге, и фальшивый документ о покупке, якобы сделанной университетом, попытка обмануть князя-архиепископа и запугать Франсуа де л'Эстуаля, реакция Франсуа, арест, затем освобождение по приказу Александра Люксембургского. Рассказ был четким и ясным.
– Мэтр Морвилье намеревался силой и хитростью отобрать печатню у Франсуа де л'Эстуаля, – произнес он в заключение. – Я стал жертвой обмана. И дорого заплатил за это. Такова истина.
Фавье поблагодарил его. В зале повисла гнетущая тишина. Даже публика умолкла. Смех прекратился: пришло время испытания для суда. Как он будет реагировать? Рискнет ли бросить вызов королевской власти, ведь брат свидетеля, наряду с Коммином и Даммартеном, был одним из приближенных короля? Или же уклонится от правосудия, прибегнув к каким-нибудь юридическим уловкам?
Видимо, второе решение избрал прокурор, который заявил, что преступное деяние, доказанное свидетелями истца, находится вне его компетенции, поскольку он не может выдвигать обвинение против клирика. Тем самым он как бы перебросил горящую головню судьям.
Суд удалился на совещание.
– Адвокат Морвилье не раскрыл рта, – заметил Франсуа, обращаясь к Фавье.
– В вашей жалобе нет прямого обвинения Морвилье. Он присутствует здесь лишь в качестве свидетеля, адвокат же просто его советчик.
Суд вернулся через час. Устами своего председателя он объявил, что присоединяется к мнению прокурора и не будет рассматривать дело, которое находится вне сферы королевской юрисдикции.
Недовольный ропот прошел по залу.
– Однако, учитывая очевидную злонамеренность свидетеля Бернара де Морвилье, раскрытую свидетелями мэтра Франсуа де л'Эстуаля, суд постановляет взять мэтра Бернара де Морвилье под стражу, дабы тот в тюрьме дожидался рассмотрения своего дела университетом.
Раздались одобрительные крики.
– В клетку ворона!
– Подавись своей желчью, отравитель!
Морвилье поднялся, вне себя от ярости.
– Это оскорбление! – возгласил он. – Я здесь в качестве свидетеля!
– Вы больше не свидетель! – спокойно ответил председатель.
Он встал и вышел из зала. Подошедшие стражники окружили регента.
– Это самое мудрое решение, какое суд мог вынести, – заметил Фавье, как только оказался на улице вместе с Франсуа и Феррандо. – С одной стороны, короля нет в Париже, и популярность его невысока. Если бы суд открыто показал, что королевское правосудие может оставить отравителя на свободе, это могло вызвать недовольство народа. С другой стороны, отмена Прагматической санкции дает суду право взять под стражу подданного короля, но не выносить ему приговор. Именно поэтому кардиналы Балю и Арокур находятся в тюрьме, хотя они не были осуждены[58].
– Как вы думаете, что будет с Морвилье? – спросил Феррандо.
– Он полностью дискредитирован. Его выгонят из университа in absentia[59]. Поскольку брат не может открыто вступиться за него, он проведет в тюрьме несколько месяцев, а потом будет втихомолку освобожден. Не знаю, станут ли его судить. Но могу заверить вас, что этот человек потерял всю свою власть и авторитет.
– Но не жизнь, – заметил Франсуа.
– А что будет с поваром? – спросил Феррандо.
– О, этот! Его попросту вздернут, и довольно быстро.
Морвилье сумеет уцелеть. Зверь останется в живых. Сколько же времени, спросил себя Франсуа, мне и моей матери еще придется иметь дело с этим злобным волком?
– Ты все же победил, – сказал Феррандо, когда они вышли из зала суда.
Горькая победа, подумал Франсуа.
26 Сухое дерево
Я устал, – сказал Франсуа. Подмастерья мели пол в мастерской, поднимая то там, то здесь закатившуюся под стол литеру. Он закупорил флаконы с чернилами и бросил безрадостный взгляд на оттиски, которые сушились на стене. Жереми затворился в доме Сибуле и пока ничем не мог помочь в печатне. Феррандо огорченно вглядывался в молодого человека, который был ему не только племянником по свойству, но и близким другом. Он встряхнул его за плечо.
– Мастерская эта обустроена, – сказал Франсуа. – Миссия моя закончена. Я возвращаюсь в Страсбург. На дорогах одни волки. Я не хочу оказаться в Париже, когда Морвилье выйдет на свободу или будет обезглавлен. Я хочу заниматься печатней, а не политикой. Но в Париже политикой занимаются даже во сне! Все здесь политика, даже правосудие! Пукнуть нельзя, чтобы не прогневать либо короля, либо его врагов. К черту!
Он понимал также, хотя не говорил об этом, что до сих жил заботами и советами Жанны, которая была теперь далеко и занималась только маленькой Об, его сестрой. Он чувствовал себя одиноким.
Феррандо выслушал эти горькие сетования.
– Пойдем-ка поужинаем. Ты переутомился.
Вечером Франсуа написал матери длинное письмо. Рассказал о попытке отравления. О суде. О двух слушаниях. О судейских уловках и их причинах. О безумии страны, у которой два правосудия – возможно, одинаково несправедливых. И в заключение сообщил, что возвращается в Страсбург.
Он посетил Гийома Фише. Ректор встретил его словами:
– Итак, вы победили.
– Еще парочка таких побед, мэтр, и я покойник. Фише расхохотался:
– Вы лишь надкусили наш хлеб и сочли его горьким. А мы вкушаем его вот уже сорок лет, – заметил он.
– Печатня готова, мэтр. Я оставляю ее вам.
Фише явно удивился.
– Я думал, вы привязаны к делу рук своих и останетесь здесь, чтобы руководить им.
– У меня есть печатня в Страсбурге. Я не могу руководить двумя сразу.
Фише задумался.
– Было бы ваше решение иным, если бы Морвилье предали королевскому суду?
– Не могу сказать. Я знаю только одно: он выйдет из тюрьмы и будет столь же опасен.
– Совет университета решил исключить его. Ему предстоит суд. Поскольку убийства не произошло, он будет изгнан. На десять лет. Это вас удовлетворит?
– Это должно удовлетворить вас, мэтр. Но у Морвилье могущественные друзья.
– Будучи дискредитирован, – сказал Фише после некоторого колебания, – он будет им не столь полезен. И нельзя утверждать наверняка, что они преследуют те же цели, что и он.
Было видно, что Франсуа это не убедило. Фише внимательно посмотрел на молодого человека. Пробило девять.
– Хорошо. Вы дадите мне несколько дней, быть может, пару недель? Нужно найти того, кто заменит вас. У меня есть на примете один человек. Это Жан Эйнлен, наш библиотекарь. Он уже посвящен в тайны вашего искусства, но мне кажется, в вашем присутствии передача дел произойдет более успешно. И ваше прекрасное творение недолго останется в бездействии[60].
– Располагайте мной, мэтр.
Письмо Франсуа огорчило и взволновало Жанну. Ее сына пытались отравить! Он одержал верх над отравителем! Ему пришлось вынести ужас судебного разбирательства! Сколько врагов, сколько врагов! И ее не было рядом!
Хорошо, что она всего не знает, радовался про себя Жозеф. Главное, ей неизвестны мотивы ненависти Морвилье, который был другом одновременно и Франсуа Вийона, и Дени д'Аржанси. Взяв письмо, он прочел его и, вновь сложив, сказал:
– Ты не можешь всю жизнь находиться рядом с сыном. Франсуа должен сам справляться с трудностями. Сейчас мы ничем не помогли бы ему ни в Страсбурге, ни в Париже. Он один вел сражение и выиграл его, пусть даже победа показалась ему горькой. Он осознал свою самостоятельность, и это придаст ему уверенности, которая так необходима в жизни. Единственным утешением будет для него наша привязанность, хотя настоящим утешением стала бы супружеская любовь.
– Но ведь ты видел его в Страсбурге, разве встречался он с какой-нибудь девушкой? – спросила она.
– Если и встречался, я этого не заметил и сомневаюсь, что у него кто-то есть. Он встает в шесть, ложится в десять, постоянно работает, а женщин-печатниц не существует в природе, – ответил Жозеф с улыбкой. – Кроме того, красивые девушки на выданье не на каждом шагу попадаются.
Однажды у них уже был подобный разговор, однако отвлеченные рассуждения Жанну не устраивали.
– В чем же проблема? – спросила она.
– Проблема, если таковая имеется, только в тебе, – ответил Жозеф. – Ты была превосходной матерью, и в других женщинах он не нуждался. И если у этой проблемы есть решение, то состоит оно именно в том, чтобы тебя не было рядом.
В сентябре 1470 года Людовик XI созвал Генеральные штаты, чтобы отменить разорительный для страны Пероннский договор, подписанный им по принуждению, когда он оказался пленником Карла Бургундского.
Эмар де Фалуа с бородой, как у лешего, перед отъездом в Страсбург вновь предстал перед Франсуа в своем измененном обличье. Тот встретил его с великой радостью как единственного свидетеля своих злоключений. Он много раз задавался вопросом, до какой степени может измениться человек. Каким образом тот, кого он едва не задушил, превратился в верного пса? Он дал себе зарок поговорить об этом с Жозефом при первой же встрече.
В том же месяце Александр Люксембургский устроил праздничный ужин по случаю выезда на первую в сезоне охоту с гостями из Пфальца. Пригласил он и Франсуа де л'Эстуаля, хотя тот охотником не был.
Для молодого человека это был первый самостоятельный выход в свет. У него не имелось почти никакой одежды, кроме рабочей. Наряды его не интересовали, но, желая оказать честь своему покровителю, он заказал синий шелковый камзол, белые штаны, широкий плащ из синего сукна, скромно расшитого серебром. Цирюльник посоветовал ему обстричь волосы кружком. Франсуа согласился, но когда посмотрелся в зеркало, не узнал себя и сказал, что падающая на лоб челка делает его похожим на лошадь.
– Такова мода, – заверил цирюльник. – Ни одно нежное сердечко перед вами не устоит.
Когда Франсуа явился, в стенах архиепископского дворца, освещенного множеством свечей, гремела музыка скрипок в сопровождении пронзительных звуков клавикордов. Два десятка приглашенных расхаживали в большом зале на втором этаже; через открытую дверь был виден накрытый стол, поставленный подковой. Все взгляды обратились на вновь прибывшего, который был, несомненно, самым видным среди гостей. Он направился к князю-архиепископу, преклонил колени и поцеловал перстень. Александр Люксембургский положил руку ему на плечо в знак дружеского расположения, поднял его и представил собравшимся.
Франсуа сразу понял цель приглашения, когда заметил обращенный на него взор юной девушки, Софи-Маргерит фон унд цу Гольхейм, и взгляды ее отца, графа Адальберта, матери и брата, которого звали Отон.
– Вы говорите по-немецки, барон? – спросил граф Адальберт.
– Да, граф.
– Прекрасно. Охотитесь?
– Нет, граф.
– Почему же?
– Дело, которым я руковожу, требует постоянного внимания.
– Вы ведь печатник, да?
– Да, граф.
– Необыкновенное ремесло! – заметил граф. – В нем сочетаются знание, искусство и коммерческий дух.
Итак, Александр Люксембургский все рассказал немцу о его предполагаемом зяте. Франсуа перевел взгляд на Софи-Маргерит. Лицо в форме сердечка, маленький подвижный рот, светлые, чуть удлиненные глаза, пышные льняные волосы, падающие на плечи и увенчанные маленькой шапочкой – Zuckerhut – с одной лишь жемчужиной в качестве украшения. На вид не больше шестнадцати лет. Софи-Маргерит буквально впилась взглядом в Франсуа, а тот сохранял полную невозмутимость, но при этом улыбался.
– У вас есть земли? – спросил граф.
– Есть у моей матери, монсеньер. Мои земли включены в ее имение.
– Большое имение? С лесами?
– Чуть больше тысячи арпанов, граф. Земли лесистые, но прежде всего служат для сева.
Тысяча арпанов! Франсуа понял, что его считают человеком богатым, и это сразу изменило отношение к нему. Графиня широко раскрыла глаза:
– Но кто же там охотится, барон?
– Никто, сколько я знаю. Кажется, право на охоту было уступлено интенданту.
– Счастливец интендант! – воскликнул граф. – Тысяча арпанов для него одного!
Он засмеялся.
– Позвольте мне пригласить вас, граф.
– Ловлю вас на слове.
Франсуа отвели место рядом с Софи-Маргерит.
Как ни странно это могло бы показаться, но за исключением Анжелы, которая была ему как сестра, он никогда не сидел рядом с девушкой. И уж тем более с предполагаемой невестой. Он находил ее очаровательной, похожей чем-то на абрикос, хотя было в ней и что-то от сливы. О чем разговаривают с девушками?
– Вы не поедете на охоту? – спросила она.
– Нет, мне некогда.
– Вы ездите верхом?
– Конечно.
– Тогда вы могли бы просто покататься.
– А вы?
– Я буду следовать за охотниками вместе с матушкой. Женщинам не положено стрелять из лука, – сказала она так, словно за этим таился еще какой-то скрытый смысл. – Вы будете охранять нас, – добавила она.
– От кого?
– От диких зверей, которые могут внезапно выскочить из чащи.
Он силился понять ее намеки. В любом случае ему было трудно уклониться от предложенной роли защитника.
– Что ж, хорошо, – неохотно согласился он, – я буду с вами. Как могу я оставить вас без защиты?
Она хихикнула. Приключение интриговало ее. Франсуа доверил печатню на три дня Жереми Ле Гито.
Охотники выехали на рассвете, их было около тридцати человек с Александром Люксембургским во главе; справа от него скакал граф Лимбургский, слева граф Гольхейм, за ними следовали местные дворяне, а также дамы и девицы, охранять которых предстояло Франсуа. Сопровождали князя секретарь и четверо слуг, призванных обеспечить угощение и комфортные условия для гостей. Кавалькада направилась к одному из охотничьих павильонов князя-архиепископа, расположенному в шести лье от Страсбурга, в самой чаще леса в Верхнем Эльзасе.
По мере продвижения туман все больше сгущался, и через два часа после выезда уже не было видно ни зги. В павильоне охотников ждали загонщики и свора, которую было слышно издалека. Затем все углубились в лес в поисках обещанных князем-архиепископом крупных красивых секачей, а также молодых кабанчиков и косуль.
Как, черт возьми, охотники сумеют разглядеть дичь в таком густом тумане? – думал Франсуа.
Он опасался, что в любую секунду из-за деревьев может выскочить разъяренный медведь, волк или олень и броситься на них. На время охоты ему, как было заведено, разрешили иметь при себе кинжал, но он плохо понимал, как с помощью этого оружия можно спастись от медвежьих когтей или оленьих рогов.
Софи-Маргерит и ее мать ехали рядом с ним. Это мешало ему вслух проклинать охоту: подобные речи были не для знатных дам. Софи-Маргерит, в меховом головном уборе, казалось, чувствовала себя в своей стихии. Она уверенно держалась в седле и порой даже переходила на рысь.
– Вы жалеете, что поехали, мессир Франсуа? – спросила она.
– Вовсе нет, мадемуазель, ведь иначе я не получил бы удовольствия видеть, как вы галопируете, словно царица амазонок!
Собаки залаяли, и, хотя туман приглушал звук, все поняли, что они учуяли дичь. Охотники ринулись вперед, и вскоре туман поглотил их. Позади остались дамы: графиня Лимбургская, ее сестра, и некая старая графиня, двойной подбородок которой смешно подпрыгивал при езде.
– Взгляну-ка я, кого они подняли! – крикнула старая графиня, подхлестнув свою лошадь.
Остальные дамы последовали за ней. Франсуа пришлось сделать то же самое. Очень скоро у него появилось ощущение, будто ему снится страшный сон: он услышал вопли, дробный стук копыт, истерический лай собак и женский визг. Затем все это вновь отдалилось. Зверь, какой бы он ни был, очевидно, спасался бегством, увлекая за собой преследователей. Франсуа остался совсем один, не зная даже, где находится. Он сказал себе, что на этой охоте выглядит совершенно бестолковым: теперь наверняка придется, за неимением солнца, разбираться в лошадиных следах, чтобы найти дорогу обратно.
Внезапно перед ним возникла Софи-Маргерит, появившись из тумана, словно Ирида из облака.
– Помогите мне спешиться! – воскликнула она, задыхаясь от скачки. – Я совершенно измучена! Этот олень просто безжалостен! Или же это наказание святого Губерта, который недоволен тем, что мы поставили ему мало свечей.
Франсуа спешился и помог девушке сойти с лошади. Она неудачно ступила на стремя и упала в его объятия. Он удержал ее. Они стояли нос к носу, и она взглянула на него насмешливо. Он был поражен.
– Это действительно ваша первая охота, мессир? – бросила она, по-прежнему прижимаясь к нему, хотя уже обрела равновесие.
Он почувствовал себя еще более неловко.
– Так вы совсем не охотитесь? – сказала она, позволив себе жест, с его точки зрения совершенно неподобающий.
Ему показалось, будто она хочет нащупать его кинжал. Но ее рука двинулась ниже, и он лишился дара речи.
– Мадемуазель… – только и сумел вымолвить он.
– Уже лучше, – сказала она, оценивая эффект своей ласки.
Он стал пунцовым. Она не убирала руку. Распустила пояс его штанов и занялась объектом своего интереса.
– Но это же очень хорошо, – сказала она. – Такой красивый юноша… Я спрашивала себя, уж не каплун ли вы.
Он засмеялся.
Она спустила с него штаны, обнажив член. И начала умело его ласкать. Он даже рот приоткрыл от наслаждения, хотя ему было страшно, что их кто-нибудь застанет, тогда скандал неминуем.
– Пойдемте, – сказала она, взяв его за руку и увлекая с тропинки к зарослям, достаточно высоким, чтобы укрыться за ними. – Покажите мне, что вы умеете.
Они опустились на кучу сухих листьев. Меховой плащ девушки послужил им ложем. Франсуа пылко обнял Софи-Маргерит, прижал к себе и начал целовать с такой страстью, что едва не задушил. Ему хотелось вобрать ее в себя всю целиком, и он лишь жалел, что рот у него слишком мал. Они поддерживали друг другу голову, словно жаждущие, которым дали воды. Она ответила на его поцелуй не менее страстно. Он стал расстегивать ей корсаж, что оказалось делом нелегким, потом приник к ее груди. Она по-прежнему ласкала его. Он сунул руку под юбку и, вспомнив давнишнюю блудницу, приготовился сделать то, чего уже нельзя было избежать.
– Нет, – прошептала она.
Он уже ласкал ее, но тут остановился.
– Нет, – сказала она, – вы же понимаете. Не сегодня.
– Софи… – умоляюще произнес он. Она покачала головой.
– Но тогда как же?
– Мы можем продолжить иначе, с помощью рук. Или губ. Грозу остановить нельзя.
Он позволил ей продолжать. Она ему тоже.
– Франсуа! – выкрикнула она.
Она сжала его в объятиях. Он поцеловал ее. Потом оторвался от нее и раскинулся на листьях. Какое-то время они лежали рядом.
– Вы так красивы, – сказала она. – Я боялась…
– Чего?
– Не знаю. Вы ведь меня не хотели?
– Вы не поверите, но я почти ничего не знаю о… об этих вещах.
– Как такое возможно?
– Возможно. Но вы, откуда?..
– Откуда я знаю об этих вещах, будучи девственной? – Она засмеялась. – Этим и полезны кузены. – Она повернулась к нему: – Я шаловлива, но не безумна.
Они вновь услышали лай и стали поспешно одеваться. Лошади, стоявшие в трех шагах, могли их выдать.
– Ну, берете меня, Франсуа? – спросила она, глядя ему в глаза.
– Софи… да.
Он позволил себя изнасиловать, и у него попросили руки! Он чуть не рассмеялся. Она кивнула.
– Я счастлива. Едва увидев вас, я поняла, что хочу быть вашей женой. Князь-архиепископ угадал.
Он поцеловал ее с большой нежностью. Она поправила свой головной убор. Он помог ей сесть на лошадь и сам вскочил в седло. Очень вовремя: старая графиня как раз возвращалась.
– Этот чертов олень удрал! – яростно выкрикнула она, воинственно тряхнув волосами, выбившимися из-под шапки из выдры.
Через несколько секунд дорога заполнилась людьми, запыхавшиеся собаки сновали между ногами лошадей.
– Ах, как строптивы эти эльзасские олени! – воскликнул граф Лимбургский.
– Я видела, как ты внезапно повернула назад, – сказала графиня Гольхейм дочери. – Я подумала…
– Я поняла, что этот олень лучше нас знает здешние места, и вообще устала и решила перевести дух.
Графиня вопросительно взглянула на Франсуа; он ответил улыбкой. Казалось, она вдруг что-то поняла, отвернулась и двинулась неторопливой рысью вслед за другими всадниками.
– Слишком густой был туман, – сказал князь-архиепископ. – После обеда нам повезет больше. Давайте передохнем.
Когда они вернулись в павильон, было уже четыре часа. Поскольку солнце заходило в шесть, стало ясно, что сегодня охоты больше не будет. Всем подали эльзасского вина, а в пять был накрыт легкий ужин. Паштеты, жареные цесарки, зеленый горошек в соусе, луковый салат и на десерт – египетские финики!
Франсуа вновь занял место рядом с Софи-Маргерит. Только слепой мог не заметить, что теперь они не просто соседи, но составляют пару. Графиня Гольхейм смотрела на них одобрительно. Как и граф: он поднял бокал, приветствуя их. Князь-архиепископ улыбался в бороду.
Поскольку в павильоне было только шесть спален, мужчины отправились ночевать на постоялый двор в Мольсхейм. Франсуа пришлось делить комнату с графом Гольхеймом. Его будущий тесть храпел, как звонарь, но Франсуа было безразлично – заснуть он все равно не мог. Он думал о Софи-Маргерит и пытался представить себя в роли мужа.
Он впервые в жизни влюбился.
И неудивительно: сухое дерево загорается внезапно, но полыхает сильно. Этот огонь выжег все тягостные воспоминания о Морвилье, попытке отравления и суде.
В сущности, Франсуа ожил в пламени, словно выдуманная древними птица Феникс, которая возрождается из пепла.
27 Свадьба, кинжал и небесный шелк
Итак, Франсуа де л'Эстуаль попросил руки Софи-Маргерит фон унд цу Гольхейм. Произошло это в присутствии растроганного князя-архиепископа. Графиня выказала притворное удивление, граф выглядел взволнованным. Предложение было принято. Днем Франсуа отправился покупать кольцо и торжественно вручил его невесте за ужином в резиденции архиепископа.
Отступив от правил, дабы не томить будущих супругов мучительной разлукой, решили, что венчание состоится через месяц, в октябре, в кафедральном соборе Страсбурга и обряд совершит Александр Люксембургский собственной персоной.
Франсуа написал об этом матери.
Жанна показала письмо Жозефу и бросилась в его объятия. Он погладил ее по голове.
– Скоро ты станешь бабушкой, – сказал он. Они засмеялись.
По словам Франсуа, граф был бы счастлив поохотиться в землях баронессы де л'Эстуаль. Она отправила послание Итье с просьбой сдать ей на время Ла-Дульсад и приготовить все для приема четверых важных гостей, а также присмотреть угодья для охоты.
Она умирала от желания увидеть свою невестку. Они с Жозефом тут же послали графу приглашение.
Герцог Бургундский и его приспешники по-прежнему кружили вокруг короны Франции, словно крысы вокруг сыра, накрытого колпаком.
Софи-Маргерит лишь еще один раз позволила будущему супругу частично вкусить от сладости своей – ночью, в садах архиепископа. Она обладала железной волей и желала сохранить девственность до брачной ночи.
Жанна с домочадцами поторопились приехать в Ла-Дульсад. Итье, бывший стражник, когда-то защитивший ее от волков с помощью горящего факела, принял ее как королеву. Впрочем, он и сам устроился на дворянский манер, и она с трудом узнала Ла-Дульсад: разбитый на пустыре перед замком сад превратился в бархатный желто-красный рельефный ковер. Итье сказал, что на время визита поселится с семьей в Гран-Палю. Он сообщил Жанне, что купил для себя ту ферму, где они когда-то ночью прятались вместе со стражником Матьясом.
Франсуа приехал из Страсбурга. Вальс тогда еще не придумали, но мать с сыном пренебрегли этим обстоятельством и закружились в объятиях друг друга перед очагом в большой зале под растроганным взором Жозефа, прерываясь только для того, чтобы засмеяться.
Вскоре явились Гольхеймы, измученные и пропылившиеся. Франсуа ринулся к повозке, которая не смогла подняться по крутому мосту, и проводил гостей в замок. При виде Жанны графиня отбросила свою ледяную вежливость: они обнялись, как две сестры. Граф был очарован тем, что Жозеф говорит по-немецки. Когда все разместились, Жанна и Жозеф спустились в большую залу. Она посмотрела в окно и вдруг разрыдалась. Встревоженный Жозеф устремился к ней и спросил, что случилось. Она просто ткнула пальцем в окно. Франсуа и Софи, держась за руки, стояли на том самом месте, где некогда волки разорвали Дени.
– Они изгонят отсюда демонов, – сказал Жозеф.
Жанна впервые воспользовалась правом на охоту, дарованным ей Карлом VII вместе с титулом и уступленным Итье.
Дичи было в изобилии. Граф с торжеством привез косулю.
Свадьба свела вместе всех живых персонажей, фигурирующих на ковре жизни Жанны.
Приехали Гийоме с женой, Сидони с мужем и птичница. Сибуле с женой. Итье, его жена и двое их сыновей. Мэтр Фавье с семьей. Феррандо и Анжела с детьми, а также Танцио, один из братьев Феррандо, которого никто прежде не видел и который не уступал ему красотой. Люди из жизни Франсуа: приехали из Майнца Шёффер с Тиной, Ле Гито и Арминий с женами, Кокельман и остальные подмастерья. Хозяин постоялого двора "Олень святого Губерта" за эти дни нажил целое состояние. Гольхеймы прибыли с целым полком баронов и баронесс, графов и графинь. Деодату и его маленькой кузине Северине, дочери Феррандо и Анжелы, предстояло нести шлейф новобрачной.
Они собрались у дверей собора, обратив взор на улицу, откуда должна была появиться молодая чета.
Жанна осознала, что Франсуа – первый полностью раскрывшийся цветок в ее жизни. Сколько же она трудилась и страдала ради того, чтобы этот день наступил!
И день оказался великолепным. Огромная толпа заполнила собор с папертью и все подходы к нему.
Когда будущие супруги показались в конце улицы, раздались приветственные возгласы и рукоплескания, в воздух полетели букеты цветов, люди обнимались и целовались. В сущности, народ Страсбурга устроил праздник самому себе: он выбрал своими героями молодого прекрасного принца и его невесту, тоже молодую и прекрасную, которые одержали победу благодаря красоте и любви, бросив тем самым вызов знатным вельможам, способным побеждать только кровью.
Восседая на белых лошадях, Франсуа и Софи-Маргерит, в белоснежных одеяниях, двигались медленным шагом. Они походили на видение. Оба улыбались и держались за руки.
Из глаз Жанны брызнули слезы. У Жозефа также увлажнились ресницы.
Это была самая прекрасная свадьба в мире, ибо никто не мог вспомнить что-либо похожее.
Но она едва не сорвалась.
В тот момент, когда молодая чета ступила на паперть, раздался крик ужаса, затем еще и еще. Франсуа повернул голову и позже всех увидел ястребиный профиль человека, ринувшегося на него с кинжалом в руке.
Морвилье! Вышел из тюрьмы! Явился, чтобы отомстить!
Франсуа отпустил ладонь своей нареченной.
Но тут десятки, сотни рук взметнулись из толпы и схватили Морвилье. Его швырнули наземь и стали избивать, сначала кулаками и ногами, потом палками.
Когда подоспели стражники, было уже поздно. Морвилье корчился в агонии.
Жанна пошатнулась, но Жозеф удержал ее в своих объятиях.
Только три человека могли бы опознать нападавшего: Фавье, Фалуа и Франсуа. Но все они промолчали. Морвилье покинул этот мир безымянным, уничтоженный собственной ненавистью и яростью, он, который так мечтал отличиться в глазах принцев!
Он преподнес самый прекрасный свадебный подарок предполагаемой жертве: свою жизнь.
Месса, роскошное убранство церкви, орган, цветы, пение хора, дымок ладана, торжественный обряд – все было настолько ослепительным, что ужасное происшествие оказалось почти забыто.
Жанна спрашивала себя, не померещилось ли ей все это.
На пиру, который происходил в садах архиепископа, предоставленных по этому случаю молодой чете, Жанна сидела словно во сне, и перед глазами ее возникала то сцена нападения, то прекрасные молодожены. Гости поздравляли ее, но краем уха она слышала вопросы тех, кто был в соборе и ничего не видел, а также рассказы свидетелей этой страшной попытки убийства.
Молодая чета удалилась в охотничий павильон Александра Люксембургского, также отданный в распоряжение новобрачных.
Жанна и Жозеф отправились на постоялый двор. Жанна не могла припомнить, когда она столько спала: девять часов подряд!
Двенадцатого июля 1471 года в своем страсбургском особняке Софи-Маргерит де л'Эстуаль произвела на свет мальчика, которого назвали Жак Адальберт в честь обоих дедушек. По счастливому совпадению в тот же день Франсуа получил присланный Гийомом Фише экземпляр первой книги, выпущенной печатней Сорбонны: бессмертное сочинение Гаспарино Бардзиццы "Послания".
Жанна и Жозеф вернулись в Анжу после путешествия в Пфальц – естественно, они посетили замок Гольхейм. Особняк Дюмонслен в Париже окончательно опустел: только Жозеф и Феррандо останавливались там на несколько недель в году, когда приезжали в столицу по делам. А дела эти становились все более сложными.
Анжер потерял свой бриллиант: король Рене перебрался в Экс-ан-Прованс вместе со своей мебелью, фигурками из слоновой кости, коврами и картинами. По правде говоря, ничего удивительного в этом не было: Рене был скорее провансальцем, чем анжуйцем. Его отъезд лишил Жанну и Жозефа ужинов с музыкой и чтением стихов. Что касается турниров, которыми король так увлекался, то для Жанны это была небольшая потеря. Собственно, она и видела лишь один из них, который завершился ужасно: молодому красивому всаднику пробили копьем грудь, и он весь день харкал кровью, прежде чем отдать Богу душу. Она подумала, что не услышит больше, как пронзительно кричат павлины в парке Рене Анжуйского.
Жанна часто оставалась одна. Ибо Жозеф пропадал в Туре, где по настоятельной рекомендации короля налаживал производство шелка. Сукноделие в Турени доходов почти не приносило, и его решили заменить шелководством. До сих пор шелк ткали только в Лионе, да и то с помощью итальянских ремесленников. Но за границей его покупали в больших количествах, как, впрочем, и другие ценные изделия, что приводило в негодование Людовика XI. Король не мог смириться с тем, что славное французское золото уходит во Фландрию, в Женеву, во Флоренцию и еще бог знает куда, поэтому он замыслил создать индустрию роскоши, которая могла бы занять десять тысяч "праздных".
Несколько яиц тутового шелкопряда, тайно вывезенных из Китая – как, впрочем, некогда и основные принадлежности для печатни, – благополучно созрели и подарили жизнь гусеницам, которые принялись прясть шелк столь же послушно, как в Срединной империи. Жозеф с увлечением занялся этим делом и быстро свыкся с влажным зловонием белых ветвей тутового дерева, покрытых личинками и коконами, где гусениц замаривали прежде, чем они успевали сделать дырочку для выхода. Он создал питомник для разведения шелкопряда и нанял шестерых девушек, которые неустанно разматывали коконы, навивая на одно веретено от четырех до пяти сотен туазов нити – такой тонкой, что ее с трудом можно было разглядеть. Генуэзские мастера руководили окраской пряжи в чанах, ибо для шелка было труднее добиться нужной расцветки, чем для сукна, шерсти или полотна.
Таким образом Жозеф осуществил мечту, неотступно преследовавшую его с тех времен, когда он учил древнееврейский язык и читал пророка Иезекииля, который говорит о прозрачных покрывалах из шелка. Жозефу удалось создать изумительно легкий материал, колебавшийся от дыхания. Он заработал на этом много денег. Производство таких газовых тканей обходилось гораздо дешевле, чем изготовление плотного шелка в пять нитей, однако продавались они гораздо дороже, ибо прозрачностью своей пленяли воображение женщин и, вследствие этого, мужчин. Впрочем, любой шелк нравился горожанам, стремившимся к роскоши. Не было зажиточного дома без зеркал и шелка: их блеск свидетельствовал о богатстве.
"Тур! – думала Жанна. – Мы повсюду и нигде. Особняк в Париже, фермы в Берри, дом в Анжере, суконная мануфактура в Лионе, а теперь еще дом в Страсбурге и вскоре, разумеется, в Туре. У нас родня в Милане и в Пфальце. Выпечка, сукно, печатня, шелководство: скоро мы будем торговать селедкой в Кале или изготовлять зеркала в Венеции. Жозеф мирится с этим, потому что у него философский склад ума. Но как быть мне? Мы должны где-нибудь укорениться, я не желаю греметь костями на дорогах, когда стану старухой!"
Она подумала, что странным образом со всеми ее жилищами связано какое-нибудь мрачное, зловещее воспоминание, начиная с сарая при Корнуэльском коллеже, где она узнала, что повесился Матье. А затем смерть Бартелеми на улице МонтаньСент-Женевьев и гибель Дени в Ла-Дульсаде, нападение на Жака на улице Бюшри, попытка отравления Франсуа на улице Бьевр и смерть Франсуа де Монкорбье за изгородью дома в Анжере.
Словно их соединила черная нить, создавая контур рисунка.
Жанна успокоилась, только увидев, как Об исследует сад под присмотром новой кормилицы, Жюстины. Прежняя – Фелисия, вырастившая Франсуа, – заметно одряхлела и проводила дни, греясь на солнышке по утрам и у камина по вечерам, после освежающего душу визита в церковь. Для Жанны она была свидетельницей всех событий ее жизни: Франсуа де Монкорбье, Филибер, Бартелеми, Жак, потом Жозеф – все они чередой прошли перед старой кормилицей, следившей за ними терпеливым взглядом совы на ветке. Она принимала участие теперь лишь в отбеливании белья, тайны которого выдавала постепенно и с большой неохотой: так, загрязненную белую ткань следовало посыпать золой и стирать с мылом, пятна от красного вина вымачивать в желтом вине, последнее же полоскание производить в большой лохани, добавив туда несколько капель уксуса.
Однажды вечером Жюстина позвала ее ужинать. Фелисия, сидевшая под липой с запрокинутой головой и скрестив руки на животе, не ответила.
– Фелисия! – крикнула Жюстина громче.
Жанна повернула голову и поняла. Она вскочила и, подойдя к старой кормилице, склонилась над ней.
– Она ушла, – прошептала Жанна. Деодат понял, Об – нет.
– Куда ушла?
Ее перенесли в спальню, совершили посмертный туалет, позвали священника из церкви Сен-Бернар, и Жанна устроила ей красивую погребальную службу. На могильном камне она велела выгравировать надпись:
ФЕЛИСИЯ ДЕСТАР,
верная служанка
господа и людей,
живет отныне
в вечном воскресном дне.
Смерть кормилицы погрузила Жанну в бесконечные раздумья.
Когда Жозеф вернулся из Тура, она спросила его:
– Куда мы уходим?
Он какое-то время смотрел на нее, и глаза его искрились.
– На кладбище, конечно.
– Жозеф! С самого начала жизни мы встаем по утрам, работаем, ложимся в постель, испытывая порой волнение и соединяясь срединными частями тела, получаем наслаждение, копим богатства, производим на свет детей – и все это предназначено для червей?
Он развернул на солнце штуку тонкого шелка, которая волшебным образом переливалась всеми цветами радуги. Об увидела ее, подбежала и хотела схватить. Отец накрыл ей голову легкой тканью, и она помчалась по аллее, словно бабочка, желая похвастаться кормилице.
– А что делают черви? – спросил он. – Возможно, такой же красивый шелк, как и этот. Возможно, мы служим материалом для шелков Господних.
– Но здесь, на земле? – настаивала она.
– Разве челнок на ткацком станке спрашивает: куда я иду? Бежит направо, потом налево, все это не имеет смысла.
Жанна подумала о ковре, который до сих пор служил ей образом, в котором воплощалось ее существование.
– И все же, – вновь заговорил Жозеф, – завершив свой путь, челнок соткал прекрасную штуку шелка. Или сукна.
– А ты заработал чуть больше денег. Но деньги, они-то зачем?
– Это как климат, – ответил Жозеф с улыбкой.
– Климат?
– Самое прекрасное из времен года. Спасение от холода. И еще спасение потомства. Деньги – это лето. Я ответил на твой вопрос?
Она вздохнула:
– А другого ответа нет?
– Быть может, есть, – сказал он, взяв на руки Об, которая вернулась к нему. – Ведь мы всегда видим только частицу того, что нас окружает. Платон говорит, что мы все живем в пещере, перед которой проходят разные люди, но мы видим лишь тени на стене. Я буду более скромен и сравню нас с мышами, высунувшими нос из норы: они видят только дощатый пол, ноги и кошек.
Она засмеялась.
– У нас всегда лишь один пункт обзора, – добавил Жозеф.
– Напиши для меня книгу. Мы попросим Франсуа ее напечатать.
Двадцать седьмого мая 1472 года небо Людовика XI прояснилось: его младший брат Карл, чье ничтожество можно было сравнить только с его честолюбием, скончался от загадочной болезни. Известно, что принцы, созданные из небесной субстанции, никогда не болеют, и настоятель аббатства Сен-Жан-д'Анжели распространил слух, что Карл был отравлен своим братом, – это стоило ему аббатства. Тем временем Людовик поспешил вновь прибрать к рукам провинцию, которая было ускользнула от него, – Гиень. В том же году Людовик убедился, что имя Жанна приносит счастье династии Валуа: Карл Смелый имел неосторожность осадить Бове, но с позором отступил, поскольку жителей города настроила на воинственный лад некая Жанна Лене, получившая впоследствии прозвище Жанна Кирка. На прощание Бургундец выжег все окрестные деревни.
В мае следующего года по королевству и провинциям прошел тревожный слух: Людовик тоже нездоров. Он страдал невидимостью – страшная болезнь для публичной фигуры. Причиной его добровольного затворничества стало воспаление мозга, иными словами – менингит. Враги короля торжествовали: наследнику престола исполнилось всего три года, а регентскую власть по распоряжению Людовика должна была получить женщина – его дочь Анна.
Они просчитались: король выздоровел и вновь появился на людях. А его враг Жан Арманьяк, один из лигеров, союзников Карла Смелого, неожиданно скончался.
В 1474 году еще один лигер, Иоанн Алансонский, умер в тюрьме. Карл Смелый вынашивал планы захватить Париж. Естественно, он надеялся на помощь англичан. Эдуард IV действительно приехал, но не застал Бургундца: тот был занят подавлением мятежа в Нойсе на Рейне, где его любили ничуть не больше, чем в Париже. Людовик воспользовался этим, чтобы подписать со своим врагом перемирие на семь лет – оно должно было длиться десять, но английский парламент начал торговаться. Для Карла Смелого это было великим несчастьем.
Итак, Людовик XI начинал укреплять свои позиции. Но в том же 1474 году король Рене написал завещание, согласно которому Лотарингия отходила его внуку Рене II де Водмону, а Прованс и Анжу – племяннику Карлу, графу Мэнскому. Ни за что, тут же парировал Людовик: Анжу наследовался только по мужской линии, а графа Мэнского, своего двоюродного брата, король на дух не выносил. Парламент указал на эти обстоятельства Рене Анжуйскому, посчитав его завещание изменническим и направленным против блага королевства. По правде говоря, Людовик с нетерпением ждал, когда его дядя отправится слушать концерты в раю, чтобы прибрать эти провинции. По смерти Рене Анжуйского его владения отойдут к французской короне, и баста.
Все эти интересные события прямо затрагивали Жанну и Жозефа, поскольку могли осложнить или, наоборот, облегчить торговлю сукном и шелком. Действительно, где правил король, можно было спокойно заниматься коммерцией, где заправляли его противники, это было невозможно. Так, когда Людовик вернул себе Нормандию, в Кане возникла ярмарка. Ибо король благоволил торговле: он учредил также ярмарку в Сен-Жермен-де-Пре и возродил ярмарку в Ленди, рядом с Сен-Дени. Заключенное с Англией перемирие позволило возобновить торговлю с этой страной, которая тут же проявила жадный интерес к французским шелкам в целом и газовым тканям Жозефа де л'Эстуаля в частности. Впрочем, опасения оставались: все помнили, как в 1471 году, в ходе войны Алой и Белой розы, еще до перемирия, подписанного королями Франции и Англии, Эдуард IV при поддержке Карла Смелого сокрушил своего врага Генриха VI Ланкастерского, союзника Франции, и выставил за дверь всех французских торговцев.
Итак, за исключением феодалов, всем было выгодно, чтобы король Франции восторжествовал над своими противниками. Королевство страдало от раздоров, и свидетельством тому могло служить короткое стихотворение Жана Мешино, придворного поэта герцога Бретонского:
– Сир!
– Чего тебе?
– Выслушайте!
– Что?
– Мнение мое.
– Ну, говори…
– Ведь я…
– Кто?
– Бедная страна твоя…
– А я король и правлю не шутя.
– О, да!
– Ты мне должна…
– Должна?..
– Повиноваться!
– А вы должны мне?..
– Ничего, дитя!
Жозеф и Жанна постоянно следили за новостями, которые узнавали прежде всего из бюллетеней, выпускаемых время от времени ломбардскими банкирами и негоциантами тевтонской Ганзы; помимо этих итальянских awisi и немецких Zeytungen были еще маленькие генуэзские газеты, доставляемые курьерами через Милан в Женеву, Лион или Роттердам. Благодаря своим связям Жозеф добился предоставления этой услуги, весьма, впрочем, дорогой. Кроме того, дом в Анжере стал в некотором роде постоялым двором для французских и иноземных торговцев, путь которых пролегал через Анжу. Жозеф обменивался с коллегами, банкирами или суконщиками, сведениями о ценах на пряности, ткани и оружие в Лондоне, Мадриде или Женеве, а также известиями о решениях, союзах, займах, кончинах, свадьбах и здоровье правителей, от которых зависела участь простых смертных.
– Вот как судьба управляет нашими чувствами и мыслями, – заметил Жозеф. – Мы стали сторонниками короля, которого никогда не видели.
28 Черный ящик
Она взглянула на Деодата, словно увидев его впервые. Белоснежный нос. Вогнутая арка верхней губы. Атласно-розовая, чуть припухлая нижняя губа. Изящный подбородок Жака. Темные волосы, на солнце сверкавшие золотистыми блестками. Углубленный в себя взгляд Штернов, необыкновенно длинные ресницы. Он держал на коленях Об. Девочка обнимала его за шею. Жанна вдруг вспомнила, что Рене Анжуйский оставил в Анжере художника, Жоффруа Местраля, невысокого светловолосого юношу, которого она часто видела на королевских празднествах. Он отличался молчаливостью и наблюдал за перипетиями придворной жизни отстраненным взором.
Жанна отправилась к нему пешком, поскольку жил он не слишком далеко. Она застала его в саду, меж кустами штокрозы, усыпанными множеством цветов, за весьма странным занятием: он сосредоточенно смотрел в поставленный на треножник черный ящик, у которого сверху имелось, видимо, что-то вроде отверстия.
Он поднял глаза, узнал ее и поспешил отворить калитку. Поздоровавшись, провел ее в мастерскую и предложил присесть. Она осмотрелась: на полках стояли горшочки с цветными порошками, флаконы, ступка и пест, на столе лежали тщательно отполированные деревянные дощечки. В других горшочках целая коллекция кистей словно ожидала своей очереди расцвести.
Он спросил, чему обязан честью этого визита.
– Я хотела бы заказать портрет моих детей, Деодата и Об. Ему двенадцать лет, ей – три.
В ожидании ответа она еще раз осмотрелась, и взгляд ее остановился на портрете подростка, изображенного на зеленом фоне. В этот момент вошел подмастерье, наклонил голову в знак приветствия и, поставив на полку еще какие-то горшочки, взял ступку с пестиком.
– Дети, – заметил Жоффруа Местраль, – это очень непросто. Стоило бы делать не одно, а сразу несколько их изображений на одной картине, чтобы действительно запечатлеть сходство. Выражение лица меняется у них гораздо чаще, чем у нас, взрослых людей с застывшими чертами.
– Разве у нас застывшие черты? – с удивлением спросила Жанна.
– Оттого что мы часто испытываем одни и те же чувства, у нас образуются складки, которые с годами становятся морщинами. После двадцати лет лицо все больше обращается в маску. Но вы являете собой исключение, мадам, – с улыбкой добавил он.
Подмастерье вернулся и вручил ступку хозяину. Тот изучил содержимое, подцепил крошку мизинцем и кивнул:
– Молодец, хорошо измельчил. – Он поднял глаза на Жанну и сказал: – Я зайду взглянуть на ваших детей, когда вам будет удобно.
– Пойдемте прямо сейчас. Я живу недалеко.
Он согласился и встал.
– Я ухожу, Жоашен! – крикнул он помощнику, который незаметно удалился.
– Что это за ящик? – спросила Жанна, когда они направились через сад к калитке.
– Ловушка и метафора, – с улыбкой ответил он. – Посмотрите.
Он вытащил из ящика тонкую дощечку, вставленную в прорезь, изучил ее и передал Жанне. Сначала она увидела только какие-то неясные линии смородинового цвета на фиолетовом, почти черном фоне.
– Вы ничего не различаете?
Она склонилась и вроде бы разглядела какие-то растения.
– Но… я бы сказала, что это штокрозы! – воскликнула она. Он удовлетворенно улыбнулся. Она была ошеломлена.
– Это и в самом деле штокрозы.
– Что же это за хитрость?
– Посмотрите в ящик.
В ящике имелась дырочка, через которую видны были штокрозы. Сквозь боковое отверстие, закрытое стеклянной пластинкой, похожей на стекло от очков, проходил пучок света, направленный на противоположную стенку. На лазурно-синем фоне неба она увидела штокрозы, но в зеркальном отражении.
– Что это за чудо?
– Обычное оптическое явление. Увиденное через линзу изображение оказывается перевернутым.
– А это? – спросила она, указывая на дощечку.
– Я подумал, что пропущенное сквозь отверстие ящика изображение может быть закреплено на свежей краске благодаря неравномерности освещения разных его частей. Для этого нужно иметь субстанцию, которая чернеет тем сильнее, чем больше получает света. Я использовал сок тутовых ягод на серебристо-белом фоне.
– Сок тутовых ягод!
– На свету он чернеет быстрее. Поскольку небо ярче, чем штокрозы, на дощечке оно почти черное. А контуры штокроз светлые, поэтому их можно различить. Увы, через несколько минут этот шедевр прекратит свое существование, ибо все изображение почернеет.
Она посмотрела на дощечку, и действительно, контуры, которые она видела только что, почти исчезли. Однако изумление осталось.
– Нет ли способа закрепить изображение? – спросила она.
– Я ищу алхимическую субстанцию, столь же чувствительную, как сок тутовых ягод, но обладающую более долгим действием. Что ж, пойдемте, взглянем на ваших детей.
По дороге она спросила Жоффруа Местраля:
– Почему вы назвали этот ящик метафорой?
– Потому что он подобен нашей голове: воспоминания у нас мимолетны. О чем свидетельствует желание иметь портреты, на которых были бы запечатлены самые дорогие нам люди. Впрочем, чаще всего мы их видим не такими, как они есть. И это не только по причине несовершенства нашего зрения, пусть даже равного по остроте рысьему, но еще и потому, что черты лица меняются под воздействием чувств, волнующих душу и постоянно сменяющих друг друга. Сверх того, головные уборы искажают мужские черты, а румяна – женские. Никогда не видим мы глубинную сущность человека. Восполняя этот пробел, я и зарабатываю себе на жизнь, – заключил он с улыбкой.
Объяснения художника привели Жанну в замешательство, и она спросила себя, хороший ли сделала выбор, пригласив Жоффруа Местраля. Успокоило ее воспоминание о портрете, увиденном в мастерской: она сразу же узнала изображенного на нем юношу-помощника.
В доме Жанны Жоффруа Местраль стал внимательно присматриваться к Деодату и Об, которые, казалось, робели под пристальным взглядом гостя. Художник удовлетворенно кивнул.
– Большая честь для меня написать портрет этих прекрасных образцов детской красоты, – сказал он.
Они с Жанной договорились, что писать он будет в ее доме. Ибо ему придется сделать два портрета, объяснил он. Не с целью больше заработать – восемь экю за портрет, будь то одна картина или две, – но потому что эти модели, по его словам, излучают разные чувства.
– Боюсь, я не понимаю, – сказала она.
– Деодат выказывает характер предприимчивый, способный как на великие свершения, так и на дерзкие предприятия. Об представляется мне натурой осмотрительной, вдумчивой и способной разрешать конфликты.
Эти наблюдения озадачили Жанну столь же сильно, как и речи Местраля относительно невозможности увидеть подлинную сущность людей. Видит ли ее художник? Он попросил назвать даты рождения детей. Деодат появился на свет двадцать пятого декабря, Об – двадцать второго февраля. Местраль не смог сдержать торжествующей улыбки.
– Это означает, – сказал он, – что Деодат принадлежит к зодиакальному знаку Козерога, тогда как Об – к знаку Рыб.
– И что с того? – не унималась она.
– Завтра я покажу вам учебник астрологии, в котором говорится о влиянии звезд на характер людей.
На следующий день он явился в сопровождении помощника, нагруженного кистями, красками и прочими принадлежностями для работы.
– Судите сами, – сказал он, вручив учебник Жанне, пока famulus раскладывал горшочки с красками и кисти на складном столике.
Жанна полистала трактат и вскоре нашла подтверждение словам художника. Тем временем Местраль разбавил коричневый порошок какой-то жидкой субстанцией и, обмакнув в смесь очень тонкую кисточку, стал рисовать лицо девочки на деревянной дощечке величиной чуть больше ладони, покрытой свинцовыми белилами. Молодая кормилица Жюстина следила за его работой с восхищенным изумлением.
– Господи, хозяйка, да это же почти колдовство! Посмотрите!
Жанна склонилась над столом. Несколькими точными и легкими движениями кисти Местраль передал удивленное и одновременно мечтательное выражение лица девочки. Деодат тоже стал недоверчиво разглядывать портрет, а потом рассмеялся. Жанна заметила, что famulus смотрел на Деодата как-то странно: словно кот, столкнувшийся с незнакомым котом.
Она снова села.
– Вы не ученик того астролога, которого мы встречали при дворе Рене Анжуйского? – спросила она.
– Кристиана Базельского? Нет. Конечно, он сведущ в своем искусстве, но, боюсь, поставил его на службу людям, которым нужно совсем не познание.
Он сделал паузу и посмотрел на Жанну понимающим взглядом.
– Кристиан принадлежал к клике, которая ненавидела вашего супруга не меньше, чем короля. Он составлял предсказания, на мой взгляд, ложные и хотел издать их посредством механического письма, чтобы услужить нескольким честолюбивым принцам.
Она сменила тему, не желая вспоминать о людях столь мерзких, как Бастер, и столь кошмарных, как Морвилье. Местраль заканчивал прорисовывать ушки Об.
– Два розовых лепестка, – пробормотал он.
– Раз вы так хорошо разбираетесь в звездах, мессир Местраль, – сказала она, – что вы думаете об их влиянии на меня?
Он не отрывал глаз от дощечки.
– Увидев вас при дворе, я сразу подумал, что вы обладаете большой энергией, которая побуждает вас все время двигаться вперед. Кроме того, я полагаю, что вы не склонны долго терпеть присутствие людей, препятствующих вашим планам, и способны нанести им смертельный удар. Из этого я заключаю, что вы родились под знаком Стрельца, иными словами – до двадцать первого декабря.
Она была изумлена. Действительно она родилась в последнюю неделю Рождественского поста.
– И вы угадываете такие вещи, только взглянув на людей? Вы можете назвать дату рождения по одному лишь внешнему облику? Но вы же сами говорили, что чувства наши обманчивы и выражение лица без конца меняется?
Местраль бросил долгий взгляд на Об, которая явно томилась от слишком долгого позирования: кормилица обещала девочке египетский финик, если та посидит спокойно до трех часов.
– Часто легче уловить движения души, чем выражение лица, – ответил он.
Famulus издал невнятный звук.
– Как это? – спросила Жанна.
– Очень многое можно определить по голосу. Склонившись над палитрой, он смешал свинцовые белила с порошком из сиенской глины и сделал несколько мазков плоской кисточкой, чтобы выделить розоватым скулы своей модели.
Жанна ожидала, что он опишет ее голос.
Но он заговорил о взгляде:
– И по глазам. Вместе с голосом они образуют нечто вроде концерта для скрипки с клавесином.
Она была очарована такой манерой толкования.
– Или, – добавил он, – концерта жаб и кошек колдуньи.
Ее обуяло безумное веселье.
– Когда Бастер говорил, – продолжал он, – мне казалось, что я слышу шипение змеи.
Змеи? Она с тревогой взглянула на него. Неужели он догадался о причинах смерти Бастера?
– Вы могли бы нажить состояние, занимаясь пророчествами, – сказала она.
– Сомневаюсь. Людям нравится, когда о них говорят, но жаждут они только комплиментов. Хотел бы я посмотреть на того, кому скажут, что его подбородок, торчащий вперед, как башмак, и толстый нос свидетельствуют о низменных страстях и чувственной разнузданности.
Она снова засмеялась.
– И как же вы поступаете?
– Таким я говорю, что у них профиль римского императора. Поскольку они большей частью ничего не знают об этих легендарных людях, сравнение кажется им лестным. Они никогда не читали Светония, иначе бросились бы на меня с кинжалом.
Пробило три, и кормилица встала, чтобы принести обещанный финик. Деодат последовал за ней в надежде тоже получить лакомство. Жанна воспользовалась этим и спросила:
– А я?
– Вы не нуждаетесь в комплиментах, мадам. Ваша осанка говорит сама за себя. Вы держитесь прямо, как скала. Самая большая уступка с вашей стороны – промолчать, когда вы недовольны. Мне страшно за ваших врагов. Вы их истребляете.
Он приподнял подбородок Об, чтобы заглянуть ей в глаза. Девочка повернула голову к кормилице, которая принесла финик. Она схватила его обеими руками, раскусила, как ее научили, на две половинки и, вынув косточку, с наслаждением съела первую половинку, затем вторую, после чего сползла со стула и стала рассматривать работу Местраля.
– Словно зеркало, – сказала она.
Сеанс позирования для нее закончился. Подмастерье напряженно следил за сценой: он походил на воробья, нацелившегося на хлебную крошку. Жанна внезапно осознала, что ни разу не слышала его голоса. Она попросила кормилицу подать гостям напитки. Когда та протянула бокал, подросток с силой кивнул, по-прежнему не говоря ни слова.
– Жоашен немой, – ровным голосом сказал Местраль.
Он поднял свой бокал, приветствуя всех.
– Не знаю, что с ним случилось в детстве, – продолжал он. – Думаю, он испытал такой сильный страх, что потерял дар речи. Я нашел его пятнадцать лет назад на обочине дороги, оборванного и умиравшего с голоду. Чудо, что его самого не съели волки.
Жанна вздрогнула. Она вспомнила о злоключениях Дени, когда того похитили английские дезертиры. Неужели Жоашен окажется вторым Дени? Подросток устремил на нее невыносимо напряженный взгляд. Чтобы обезоружить его, она улыбнулась. Он тут же ответил очень странной, полуангельской-полузвериной улыбкой, обнажившей острые зубы.
Положительно, мир Жоффруа Местраля был удивительным. Знание секретов природы и острая проницательность сочетались у него с состраданием, ибо он подобрал, воспитал и обучил этого мальчика. Что же сделает тот со своим знанием?
– Между тем у Жоашена обнаружился большой талант к рисованию, – продолжал Местраль. – Я как-нибудь покажу вам пляску смерти, которую он изобразил, не получив еще ни одного урока. Я стараюсь совершенствовать его талант. Быть может, он станет моим преемником.
Жанна силилась привести свои мысли в порядок. Местраль все больше и больше приводил ее в смятение.
– Значит, судьбы пишутся при рождении и ничего изменить нельзя? – спросила она. – Знаки зодиака управляют жизнью человека и нужно только исполнять их капризы? Но тогда у всех людей, родившихся под одним знаком, одинаковая судьба?
Местраль изучал свою работу; он поднял глаза на Жанну.
– Нет, ибо звезды меняют свое расположение по ходу зодиакального цикла и даже в течение одного дня. Задача астролога при составлении гороскопа заключается в том, чтобы определить это расположение и истолковать его согласно тем или иным влияниям. Кроме того, природа одарила нас в большей или меньшей степени характером и волей. Два человека, родившиеся в одном и том же месте в один и тот же час по-разному реагируют на одно и то же событие.
– А гороскоп Рене Анжуйского вы составили?
– Да, но ему не отдал. Я не хотел соперничать с Кристианом Базельским. Сверх того, церковнослужители и теологи, подобные тем, кого вы встречали при дворе, всегда склонны видеть в толковании судеб сообщничество инфернальных сил. Послушать их, так Бог злобно радуется, если ему удается застать людей врасплох!
Он саркастически рассмеялся.
– Что же сулили звезды?
Местраль улыбнулся:
– Гороскоп подтверждал то, о чем можно было догадаться по физическому облику короля. Позиция Марса по отношению к созвездию Девы указывала, что Рене Анжуйский, родившийся под этим знаком, будет побежден таким человеком, как Людовик Одиннадцатый, ибо он Телец, и в его гороскопе та же самая планета обладает большей силой.
– Вы когда-нибудь ошибались?
Он положил кисти, и, по знаку своего господина, Жоашен принялся отмывать их, прополаскивая в спирте и просушивая.
– Знаете, мадам, эти изыскания сравнимы с тем, что делаешь, когда смотришь в черный ящик, который вы видели в моем саду. Да, у меня случались ошибки, но виной тому были не звезды, а я сам с моим несовершенным толкованием.
– Вас не смущает, что вы знаете так много человеческих тайн?
– Составляя гороскоп, я делаю это по просьбе людей и в надежде принести им пользу. Почему это должно меня смущать?
Она на мгновение задумалась.
– А вы не составите гороскоп для меня?
– Охотно.
Она назвала ему дату; он записал и кивнул. Потом сказал, что оставит эскиз сушиться и вернется завтра, в тот же час, чтобы продолжить работу. Дощечку с лицом Об он положил на каминную полку. Жоашен тем временем сложил столик и собрал все остальные принадлежности. Местраль попрощался с Жанной, оставив ее в задумчивости.
Он угадал, когда она родилась, это верно, но можно ли доверять прочим его речам? Возможно ли, чтобы все было предопределено? Она пожалела, что Жозефа нет дома: он просветил бы ее на этот счет.
Местраль, как обещал, вернулся на следующий день, и Жоашен, как накануне, приступил к исполнению своих обязанностей. Художник сел, вытащил из кармана лист бумаги и развернул его. Затем устремил долгий взор на Жанну.
– Вы попросили меня составить гороскоп покойника, не так ли?
Она онемела.
– Не знаю, мужчина это или женщина, – сказал Местраль, – но подозреваю, что скорее мужчина. В возрасте тринадцати лет он пережил ужасное несчастье. Ему пришлось покинуть дом. С этого момента судьбой его управляли две планеты, Марс и Сатурн. Меркурий позволил ему добиться некоторых успехов, но, похоже, не вполне честным путем. Шесть лет назад некое столкновение, не знаю точно какое, может быть, поединок на турнире, завершилось его смертью.
Жанна сглотнула слюну.
– Все это было в звездах?
Местраль улыбнулся.
– Не целиком. Я прибегнул к Великому Таро. Карты почти во всем подтвердили сказанное звездами, главное же, многое уточнили. Его доминирующей картой была перевернутая Башня.
– Что такое Башня?
– Карта, воплощающая индивидуальный бунт и созидательное действие, если она находится в правильном положении, но предрекающая бедствия или даже гибель в перевернутом виде. Человек этот родился под знаком Овна. Дурная сторона этого знака состоит в наклонности к поступкам опрометчивым и дерзким, а в критических ситуациях – к забвению всех нравственных принципов. Свернув с верного пути, такие люди становятся вероломными и бесчувственными.
Жанна провела ладонью по лицу.
– Это мужчина, – призналась она. – И он в самом деле умер.
Художник составил гороскоп Дени. Образ, явившийся из черного ящика, оказался верным до жути.
Жоффруа Местраль возобновил работу над портретом Об, и Жанна внезапно ясно увидела будущее, когда она будет смотреть на этот портрет и вспоминать девочку, ставшую девушкой. Она спросила себя, почему ей пришла в голову подобная мысль.
Во время сеанса слышалось только пение птиц в саду.
29 Гадание
Она вытащила Смерть, Умеренность, Силу и Колесницу. Ее напугало, что она вытащила Смерть. Местраль поднял руку, чтобы успокоить ее. Он разложил карты квадратом в том порядке, в каком она их доставала. Затем предложил ей выбрать пятую карту: это оказалась Справедливость, которую он поместил в центре.
– Итак, все для вас меняется, – сказал он, окинув взором все карты. – Смерть, ваша первая карта, обозначает обновление жизни и всякого рода изменения. Справедливость, последняя карта, указывает на ваше знание законов мира и постоянное созидание. Умеренность выражает универсальную жизнь, которая из вашей души переходит к другим. Сила же свидетельствует о вашем влиянии, а Колесница представляет собой образ вечного движения. Все ваши карты находятся в правильном положении и дополняют друг друга.
Сноп света косо падал в мастерскую Местраля, оживляя кружение пылинок, мух и мельчайших букашек. Жоашен прошел сквозь него, и лицо его внезапно озарилось, словно у ангела, затем вновь оказалось в тени.
Большой серый кот прыгнул на стол, поглядел на Жанну, выгнул спину и ткнулся мордой в лицо гостьи; она погладила его; он зажмурил глаза и почти улыбнулся.
– Как я должна это понять? – спросила она.
– Вы переживаете глубокую трансформацию, – ответил Местраль, вновь откинувшись на спинку кресла, – это и есть Смерть, исчезновение вашей прежней сущности. Вы также учитесь познавать законы мира, об этом говорит ваша последняя карта, Справедливость. Первая половина вашей жизни была полна битв. Вы достигли более высокой стадии познания, даже если сами к ней не стремились. Ваш опыт начинает бродить, словно виноградный сок, и будет отныне давать вино.
Несколько дней назад, завершив работу над портретом Об, он составил гороскоп Жанны. Казалось, теперь он знает ее так, словно наблюдал за ней с детства. С помощью своих расчетов он определил четверых мужчин ее жизни, особо выделив Франсуа де Монкорбье. Этого человека он не знал, но описал его так, словно был одарен ясновидением. "Аморальная и вместе с тем трогательная личность".
Кто сказал бы лучше?
– Я не удивлюсь, если вы убили нескольких своих врагов, я даже в этом почти уверен, – произнес он, протянув ей листок со сложным геометрическим рисунком.
Она слушала его настороженно, силясь постичь натуру этого человека и сознавая, сколь трудно это сделать. Он жил один с немым подростком, рисовавшим пляску смерти, после отъезда Рене Анжуйского виделся лишь с теми, кто заказывал ему портреты, и питался овощами со своего огорода. Она принесла ему пулярку.
– О! – вскричал он. – Этого нам, Жоашену, Роберу и мне, хватит на пять дней.
Робером звали кота.
Художник явно обладал большими познаниями, однако не выказывал ни свирепости отшельников, ни высокомерия философов. Он не был слишком приветлив, но и суровости не проявлял. Она присмотрелась к его рукам: тонкие, худые, костистые – словно созданные для того, чтобы ухватить сущность в неосязаемом.
Робер устроился на коленях у Жанны.
– Вы говорите, что я достигла более высокой ступени познания, но это звучит насмешкой в сравнении с тем, сколько знаете вы.
– Знания можно приобрести, – сказал он, – главное – это отказаться от использования их в эгоистических целях. Знания не принадлежат никому, они предназначены для общего блага. Об этом напоминает вам Справедливость: это ваш путь.
Но не путь моих врагов, подумала она. И тут же ей пришла в голову другая мысль: если бы они владели знанием, возможно, не были бы моими врагами.
– Скажите мне, что означают другие карты.
Он объяснил ей. Карты Таро соединялись в пары, начиная с Духа Духа и кончая Телом Тела. Промежуточные пары составляли Душа Духа, Тело Духа, Дух Души, Душа Души, Тело Души, Дух Тела и Душа Тела. Ибо следовало различать девять последовательных стадий Существа, начиная от Духа и кончая Телом.
Первой из восемнадцати карт Великого Таро был Шут, воплощение сознания, не выраженного словами, а последней – Луна, символ материи, ощущений и иллюзорности чувств.
– Написанный мною портрет вашей дочери Об являет собой парадокс, ибо в нем соединяются глубина ее натуры и физический облик.
Даже просто находясь здесь, сказала она себе, я действительно перехожу в другую стадию. В этот момент Жоашен совершил непонятный поступок. Он подошел к столу, взял колоду Таро и без колебаний вытащил карту: это был Отшельник.
Ошеломленная Жанна подняла глаза. Что это означало? Она вопросительно посмотрела на Местраля; тот задумчиво улыбался.
– У Жоашена порой бывают прозрения, – сказал он.
Это ничего не объясняло. Жоашен смотрел на Жанну пронизывающим, почти невыносимым взглядом, который привел ее в смятение.
– Что он хочет сказать мне? – спросила она.
– Не знаю, – ответил Местраль. – Отшельник указывает на астральное тело.
Астральное тело. Она с трудом угадывала значение этих слов. Жоашен воздел обе руки к небу, указывая на что-то непонятное над головой Жанны. Вытащил ли он эту карту случайно или же знал, какое место занимает Отшельник в игре?
– Что это? – воскликнула она.
Руки Жоашена вылепили в воздухе фигуру.
– Какой-то человек, – объяснил Местраль. – Возможно, тот, кто пропал.
Жоашен вышел из комнаты.
– Он меня пугает, – сказала она.
– Жоашен лишен дара речи, и у него развилось сверхъестественное знание мира, – сказал Местраль.
Он явно не был расположен к дальнейшим объяснениям. Жанна встала. По пути домой она сделала небольшой крюк и, зайдя в книжную лавку, купила колоду Таро – такую же, как у Местраля. Задержавшись у прилавка, она осмотрела выставленные образцы и обрадовалась, найдя четыре книги, изданные "Мастерской Труа-Кле". Два года назад появилась печатня в Лионе, а Франсуа написал ей, что продал три тысячи литер еще одной печатне, которая создавалась в Тулузе.
Она обнаружила новый сборник Франсуа Вийона, стала листать его и наткнулась на "Эпитафию". Прочла первые строки:
О люди-братья, мы взываем к вам: Простите нас и дайте нам покой! За доброту, за жалость к мертвецам Господь воздаст вам щедрою рукой…[61]Она вспомнила дистих, выгравированный над левыми воротами башни Сен-Северен, через которую проходили на кладбище:
Добрые люди, проходящие здесь, Помолитесь за усопших.Видел ли этот дистих Вийон? Проходил ли он через те ворота на кладбище? Ей показалось, что "Эпитафия" перекликается с этими строками.
Внезапно она вздрогнула от раздавшихся совсем близко звуков и обернулась: трое менестрелей в черных одеяниях с нарисованными белой краской костями отплясывали фарандолу и потрясали трещотками. Один из них наигрывал на скрипке заунывную ритурнель.
Все верно, год достиг ноября и праздника Всех Святых. Однако эти постоянные напоминания о смерти действовали угнетающе.
Вернувшись домой, она стала разглядывать портрет Об – в итальянской раме, украшенной резными цветами. Положительно, такое поразительное сходство походило на волшебство.
Но что же все-таки хотел сказать Жоашен?
Жозеф приехал из Тура вечером; он продал половину своей лавки английскому торговцу и был очень доволен сделкой.
Проведя целый час в парильне, он вышел из нее только к ужину. В большую залу он пришел, держа на руках Об, и сразу заметил карты Таро на маленьком столике перед камином. Лицо его осветилось загадочной улыбкой, а взгляд перебегал с карт на Жанну.
– Штерны все же победили, – вполголоса сказал он с едва уловимой иронией.
Она не поняла. Он поставил девочку на пол и налил вина жене, потом себе.
– Жак был большим знатоком Таро.
Видя изумление Жанны, он продолжил:
– Таро служат иллюстрацией числовых Арканов, или тайн. Еврейская Каббала стоит на том, что сефирот, то есть числа, объясняют тайны творения и способ, коим единство порождает множество.
Он всмотрелся в карты, разложенные семью параллельными рядами по три, и продолжил:
– Каждая из этих карт имеет еврейское имя.
– Даже римский папа? – удивилась она.
– Да, папа тоже, пятая сефира. Она носит имя Geburah, то есть "строгость", или Pech'ad, то есть "кара" или "страх".
– Жак никогда об этом не говорил…
– Он знал карты Таро наизусть. Ему не нужны были картинки, чтобы использовать это знание. Я помню, как он прислал мне загадочное письмо, когда встретил тебя в Аржантане в пять тысяч двести одиннадцатом году нашего календаря. Сумма четырех чисел – пять, два, один, один – равна девяти, объяснял он мне, что означает одновременно стадию Тела Тела и Силу женщины. Я понял тогда, что он познакомился с необычной женщиной. Впоследствии он сказал мне, что свято верит в сефирот, ведь именно ты спасла его от смерти… Но каким образом ты научилась читать карты Таро?
Она пересказала ему свои разговоры с Жоффруа Местралем и показала портрет Об. Он нашел его превосходным и точным.
– Местраль напишет еще портрет Деодата, и мне хотелось бы, чтобы он сделал и твой.
Она подумала также, что днем у Местраля вытащила Силу. Мир полон совпадений.
Но совпадение ли это?
В марте 1476 года Франсуа прислал письмо с известием, что Софи-Маргерит произвела на свет еще одного ребенка, на сей раз мертворожденного. Сам он был очень этим расстроен и спрашивал, можно ли ему с женой приехать на несколько недель в Анжер. Он надеялся, что любовь родных и прекрасный анжуйский климат помогут им воспрять духом. Жанна с Жозефом без промедления ответили согласием.
Франсуа и Софи приехали через десять дней, без маленького Жака Адальберта, который остался в Страсбурге на попечении кормилицы. Жанну это огорчило, но у нее были другие заботы: Софи-Маргерит походила на розу, увядшую без воды, а Франсуа почернел от усталости. Словно желая извиниться за свой скверный вид, Софи сослалась на страсбургскую зиму, особенно тяжкую в этом году, Франсуа же упирал на дополнительную работу по отливу трех тысяч литер для печатни в Тулузе. Оба напоминали расстроенную мандолину.
Жанна встревожилась. Жозеф объяснил ей, что каждый из них возлагал на себя ответственность за несчастье, случившееся с Софи-Маргерит.
Жанна старалась как могла их развлечь: из любви к сыну она стала брать у Жозефа уроки немецкого. Оказалось, что Софи-Маргерит изъясняется на вполне приличном французском, хотя и с сильным акцентом. Таким образом, женщины были в состоянии понять друг друга.
На следующий день после их приезда Местраль пришел, как и накануне, писать портрет Деодата. Похоже, судьбе было угодно, чтобы он запечатлел всех членов семьи. Жанна обнаружила, что больше не похожа на свое изображение, сделанное в Милане: это подтверждало речи Местраля об изменчивости лиц – если доводить эти рассуждения до крайности, следовало бы каждый день писать по портрету.
Ни Франсуа, ни Софи-Маргерит никогда не видели художника за работой. Преисполненные любопытства, они заняли места в зале, где мастер пытался справиться как с изменчивостью, присущей всем людям вообще, так и с общеизвестной изменчивостью подростков. В данном случае задача выглядела особо сложной, ибо Деодат в одно мгновение казался мальчиком с невинным лицом, а в другое представал дерзким юношей с вызывающим взором.
Время от времени Жанна проходила через зал, занимаясь делами по хозяйству и отдавая распоряжения слугам: вымести золу из очага, заменить обгоревшие свечи и очистить розетки подсвечников, смахнуть паутину, которую пауки неустанно плели в углах высоких лепных потолков.
На второй день она обнаружила, что взгляд Софи-Маргерит устремлен в одну точку – на складной столик, возле которого крутился Жоашен.
На третий день – то же самое.
На четвертый день Жанна, заглянув в зал, чтобы пригласить Местраля на ужин, перехватила понимающий взгляд, которым обменялись Софи-Маргерит и Жоашен.
Она никому не сказала ни слова. Ее саму чрезвычайно интересовал Жоашен; возможно, Софи-Маргерит испытывала те же чувства. И она упрекнула себя в недостатке благожелательности.
На восьмой день Местраль объявил, что оставит сохнуть два первых слоя краски и на следующий день не придет.
Однако он пришел – один – около шести часов вечера и попросил разрешения переговорить с Жанной наедине.
– Простите меня за неприятный вопрос, – пробормотал он, – но вы не видели Жоашена?
Она покачала головой и нахмурилась.
– Он ушел из дома около полудня и не вернулся. Это совершенно на него не похоже.
Он выглядел встревоженным и пытливо всматривался в Жанну. Было очевидно, что губы ему жжет другой вопрос: где Софи-Маргерит? Между тем Жанна не видела свою невестку в послеполуденное время. А Местраль, вероятно, тоже обратил внимание на обмен взглядами между своим помощником и молодой немкой.
Повисла тягостная, напряженная пауза. Она спросила себя, нет ли у художника особых отношений с Жоашеном. Или же Местраль обеспокоен исчезновением подростка просто потому, что это нарушает нормальный ритм его домашней жизни?
– Видите ли, – осторожно заговорил Местраль, – Жоашен необычный юноша… Он очень добр, но порой совершает непредсказуемые поступки… и я боюсь, что человек, который с ним не знаком, может неловким жестом возбудить его… Он тогда становится страшен…
Жанна на мгновение задумалась. Из сада до нее доносился смех Франсуа, который беседовал с Жозефом, – стало быть, он ничего не заметил. Конечно, если что-то вообще произошло.
– Пойдемте! – сказала она Местралю.
Они вышли из дома через кухню, прошли по саду и пересекли пустырь, заросший кое-где кустарником. Небо еще светилось, розовое слева, цвета индиго справа.
– Куда мы идем? – спросил Местраль.
Она направлялась к большому лесу к северу от дома. Едва они приблизились к нему, как из-за деревьев кто-то выскочил и, раскинув руки, устремился к ним.
– Софи-Маргерит!
Ошеломленные Жанна и Местраль сделали несколько шагов навстречу. Молодая женщина бежала, спотыкаясь, на лице у нее застыло выражение ужаса. Узнав Жанну, она бросилась к ней на грудь, что-то лепеча и задыхаясь. Лицо и горло у нее были расцарапаны, одежда в беспорядке, волосы растрепаны. Она сотрясалась от рыданий.
– Sophie! Was hingeht?[62]
Но Софи, вне себя от отчаяния, не могла вымолвить ни слова. Местраль смотрел на нее с каким-то странно отрешенным видом.
Ответ на свой вопрос Жанна получила сразу: из-за деревьев возник Жоашен. Голый. В наступающих сумерках белизна тела делала его похожим на призрак. На дух леса.
Местраль ринулся к нему и обнял за плечи, чтобы успокоить. Жоашен смотрел на Софи. Из горла его вырывались животные звуки, почти рычание. Местраль сходил за одеждой Жоашена и помог тому натянуть штаны, затем рубашку.
Жанна повела Софи-Маргерит к дому, когда Местраль полностью одел юношу. Они разошлись без единого слова.
– Софи, – властно сказала Жанна, – необходимо, чтобы Франсуа ничего об этом не знал. Вы меня понимаете?
Молодая женщина кивнула.
– Возьмите себя в руки. Мы скажем, что вы пошли прогуляться в лес. Вас напугал олень, и вы кинулись бежать. Расцарапали себе лицо о колючки. Вы меня понимаете? Verstehen Sie mich, Sophie?
Молодая женщина кивала, продолжая всхлипывать.
Они прошли через кухню, к удивлению кормилицы и слуг, и поднялись в спальню Жанны. Та помогла невестке привести себя в порядок, смазала царапины целительным бальзамом и велела пойти переодеться. Потом спустилась в большую залу, где Жозеф, Франсуа и Деодат ждали, когда накроют ужин.
– Где Софи? – спросил Франсуа.
– Бедняжка, – сказала Жанна. – Она пошла прогуляться в лес. Ее напугал олень, и она кинулась бежать. Споткнулась и оцарапала лицо о колючки.
– О, я побегу…
– Не стоит, – сказала Жанна, – она сейчас сойдет вниз. Перепугалась, вот и все. Жозеф, ты не нальешь мне вина?
Появилась Софи. Она явно усвоила наставления Жанны. И вновь обрела шаловливый вид. Ей даже удалось улыбнуться.
– Ох, ну и история! – почти весело воскликнула она.
И кинулась в объятия Франсуа.
Ее заставили рассказать о своем злоключении.
На следующем сеансе позирования Деодата она отсутствовала. А Жанна пришла. Она украдкой поглядывала на Жоашена. В конце сеанса он с несчастным видом уставился на нее.
– Жоашен, – сказала она, – хотите вина?
Он кивнул. Она наполнила бокал, протянула ему и увидела, как у него увлажнились глаза. Он поблагодарил ее трогательным и незаметным образом: погладил ей руку. Она улыбнулась так, словно требовала ответной улыбки. И он заставил себя улыбнуться.
Жанна и Местрль восстановили последовательность событий, как только улучили момент поговорить наедине.
Софи воспламенила Жоашена. Они пошли погулять в лес. Она стала с ним кокетничать. Вполне определенным образом, с улыбкой уточнил Местраль. Она не знала, что Жоашен – не просто немой девственник.
– Я не говорил вам об этом, – тихо сказал Местрль, – но он обладает какой-то странной властью.
Жанна ждала продолжения.
– Он привлекает духов потустороннего мира. Я был свидетелем необъяснимых явлений, когда он пребывал в состоянии некой медитации… Это были удивительные существа.
– Дьявольские?
– Нет, не думаю, что дьявольские. Я не теолог. Однажды я увидел, как в углу мастерской возник какой-то старик. Он не выглядел злобным, но держался настороже и смотрел только на Жоашена. Словно хотел защитить его.
Жанна была изумлена.
– Я расскажу вам о нем больше в другой раз. Ваша невестка пробудила в нем звериный инстинкт. Не знаю точно, что произошло. Жоашен попытался рассказать мне об этом с помощью рисунка.
Он показал ей листок. Женщина с поднятой рукой лежит на земле в лесу. Перед ней стоит обнаженный юноша. Вокруг кружатся какие-то неясные тени, напоминающие людей и животных.
Несомненно, это были видения, вызванные Жоашеном. Софи-Маргерит смотрела на них с ужасом.
– Соитие произошло? – спросила Жанна.
Местраль кивнул.
– Первая близость Жоашена с женщиной. Надо полагать, это оказалось сильнейшей встряской для него. Отсюда и видения на рисунке. Для вашей невестки это должно стать решающим уроком, – весело заключил Местраль. – Она ведь из семьи охотников?
– Да, – сказала удивленная Жанна.
– Она приняла Жоашена за сексуальную дичь. Но он похож скорее на оленя святого Губерта[63].
Она рассмеялась.
– Это он ваш проводник в Арканах? Пришла очередь Местраля изумиться.
– Откуда вы знаете? – спросил он.
– Поняла сейчас, в свете рассказанного вами. Мне хочется задать вам один вопрос: каким образом вы узнали, что его зовут Жоашен, ведь он сам назвать себя не мог?
– Когда я научил его читать и писать, он однажды написал это имя и ткнул себя пальцем в грудь.
Жанна в задумчивости пошла к дому.
Войдя в сад, она увидела Франсуа и Софи-Маргерит. Они обнимались. Впервые после приезда. Измена принесла свои плоды. Поэтому Жанна сделала все, чтобы восстановить гармонию в семействе. Ради этого стоило пойти на ложь, не зря она строго-настрого запретила Софи даже упоминать о своей охотничьей вылазке с Жоашеном. Она знала Франсуа: тот был бы ранен в самое сердце. Пусть он рогоносец – лишь бы ничего не знал, черт возьми! Главное, чтобы у него не осталось горечи и ревнивой обиды.
Жанна завоевала заодно и преданность невестки. Впрочем, молодой графине не составило труда вернуть любовь Франсуа: она явно поняла, что гораздо лучше получать плотские наслаждения с красивым и нежным мужем, чем ужасаться видениям в момент оргазма.
Жанна посмеивалась. Но все же задавалась вопросом, не принесет ли авантюра Софи, помимо семейного мира, и другие плоды.
30 Встреча в Венеции
Карл Смелый, судя по всему, не имел астролога. Или не слушал его. Или советчик был бездарным. Как бы там ни было, от него отвернулись ангелы-хранители, утомленные постоянными попытками проглотить слишком большую добычу, ту самую Францию, которая никак не желала признавать его притязаний на нее. Завоевав Лотарингию, он осадил Нанси. Ибо этот город, как и все другие на востоке, был враждебен ему. Эльзасу, Швейцарии и Австрии надоел этот смутьян. Вдобавок Людовик XI разорил его, устроив торговую блокаду Бургундии.
Во время осады Нанси шел снег. Пятого января 1477 года Карл Смелый был убит стрелой. Его обмороженное тело нашли только два дня спустя. Людовик не стал терять времени и тут же ввел войска в Бургундию. В марте он захватил Пикардию и Артуа – на какое-то время с лигой принцев все было кончено. Что касается "всеобщего блага", о нем уже давно никто не говорил.
Итак, в королевство вернулся мир. Почти вернулся.
Через несколько дней после гибели Бургундца Жанна и Жозеф получили письмо от Франсуа, гораздо более веселое, чем предыдущее. Софи-Маргерит родила еще одного мальчика, крепкого и здорового, вынашивать которого ей было довольно тяжело. Назван он будет Франц Эккарт – второе имя в честь прадеда. Новость привела в восторг Жанну и Жозефа.
В марте мир позволил Феррандо приехать в Анжер. Он вел себя еще более экспансивно, чем обычно: в самом деле, Людовик XI подписал договор с Венецией, которую прежде подозревал – вполне справедливо – в тайном сговоре с Карлом Смелым. Отныне со Светлейшей[64] можно будет торговать свободно!
Жозеф обрадовался этому известию: для суконных и шелковых мануфактур открывался новый рынок.
– И это еще не все, – продолжал Феррандо. – Венеция стала столицей печатного дела! Пятьдесят мастерских! Пятьдесят! А в Париже только одна! Посмотрите, какие иллюстрированные книги они выпускают!
Он положил на стол действительно роскошное издание, украшенное многочисленными гравюрами необыкновенно тонкой работы – это был трактат о зодчестве Леона Батисты Альберти. Все преисполнились восхищения.
– Я уверена, что Франсуа был бы счастлив это увидеть, – сказала Жанна.
– Едем в Венецию! – воскликнул Феррандо.
Соблазн был велик: Жанна столько слышала об этом бесподобном городе, где улицами служат каналы и по воде люди передвигаются так, словно по земле. Однако следовало известить Франсуа.
Переписка продолжалась две недели. Действительно, казалось немыслимым, чтобы повозка, нанятая в Анжере или в Страсбурге, добралась до границ Венецианской республики. Феррандо организовал сменные этапы: добравшись до Милана, путешественники прямиком отправятся в Венецию. Жанна решила, что возьмет с собой Деодата и оставит Об дома. Франсуа написал, что его сын Жак Адальберт, которому вскоре исполнится семь лет, тоже примет участие в поездке – мальчикам будет веселее друг с другом. Феррандо же собирался взять свою дочь Северину. Для девяти человек понадобятся две повозки. Все тот же Феррандо отправил послание жене, чтобы сообщить об их плане, и знакомому венецианскому банкиру, чтобы тот снял палаццо. В розовый город они должны были приехать в последних числах мая.
Начались приготовления к отъезду. Деодат пришел в возбуждение: его первое большое путешествие! Глядя на него, Жанна вспоминала, как некогда буйствовал Франсуа.
Остановка в Милане была праздничной. Столько лет прошло с последней встречи, что радость узнавания быстро сменилась изумлением от перемен.
Жанна обнаружила, что Анжела стала самой прекрасной женщиной, какую она только видела. Еврейская затворница прежних лет преобразилась в христианскую принцессу, блистающую зрелой красотой и великолепными украшениями.
Она влюбилась в Жака Адальберта, своего внука. Он был похож одновременно и на Жака, и на Франсуа, что тут можно добавить! И в это сочетание влилась немецкая кровь, придавшая ему важности, чуть приправленной шаловливостью матери.
Деодат был очарован кузиной Севериной и огорчен тем, что не говорит по-итальянски. Он, Жак Адальберт и Северина заполнили своими криками стены дворца Сассоферрато.
Что за семья! Французы, итальянцы, немцы – и при этом одна семья! А дети какие! – подумала Жанна с горделивой радостью, которая переполняла ее сердце.
– Как поживает мой новый внук Франц Эккарт? – спросила Жанна сына.
– Матушка, у него просто устрашающее здоровье! – ответил Франсуа. – У нас в роду есть предки-животные?
Она встревожилась.
– Мне кажется, я породил волка, – задумчиво продолжал Франсуа.
– Ну, хотя бы не обезьяну! – весело отозвалась Жанна.
Однако сама много размышляла об этом.
Путешественники с трудом вырвались из объятий любвеобильных родителей Феррандо и, включив в свой состав Анжелу и Северину, направились в Венецию.
Вся Ломбардия зеленела. Феррандо и Жозеф дружно решили сделать двухдневную остановку в Мантуе. Они воспользовались случаем, чтобы встретиться с двумя знакомыми банкирами. Жанна пошла прогуляться по пьяцца делле 'Эрбе и пьяцца Сорделло, купила сыновьям и внукам тонкие шелковые рубашки с вышивкой, а себе украшенный бисером шелковый чепец.
Венеция встретила их опаловым небом с рыжеватым отливом. Лагуна переливалась всеми цветами радуги. Колокольня на площади Сан-Марко отбрасывала суровые бронзовые блики на море. Мир сверкал в слиянии звуков и красок.
Жанна онемела от восхищения. Ее переполнял этот город, где небо было цвета воды, а вода – цвета неба.
Жозеф на радостях обнял ее. Софи-Маргерит прижалась к Франсуа.
Понадобилась целая флотилия гондол, чтобы отвезти путешественников и их сундуки во дворец Эрриго на Большом канале.
Первый этаж состоял из больших залов. Второй и третий были жилыми, последний предназначен для слуг. Три супружеские пары разместились на втором этаже, детям отвели третий.
Жанна открыла окна. По каналу скользили бесчисленные гондолы.
Слуги разогрели воду в чанах, все стали смывать дорожную грязь, а затем отправились ужинать в таверну. Появившиеся певцы очаровали путешественников переходами от самых высоких нот к самым низким в одной музыкальной фразе. Было подано превосходное рыбное филе, обжаренное под загадочным соусом и уложенное на лепешки. Запивали его винами Эмилии-Романьи.
Феррандо тоже запел.
Какая чудесная поездка! К черту Людовика и его покойного врага Бургундца! Да здравствует Венеция, город нежности и мира!
Феррандо, не желая портить им удовольствие, поостерегся напоминать, что тринадцать лет назад кондотьер Паоло Эрриго, владелец дворца, где они поселились, был распилен заживо по приказу султана Мехмеда II Завоевателя, который взял его в плен на острове Хиос.
Усталость после долгого пути исчезла сама собой. Ночью Жанна услышала знакомые крики Софи-Маргерит. Сама она научилась сдерживать себя, и они с Жозефом любили друг друга безмолвно, хотя Венеция была острой приправой для чувств. Как обстояли дела у Феррандо с Анжелой, им узнать не довелось.
Венеция радостно встречала французов, как, впрочем, любых других иностранцев. Она задыхалась. Феррандо объяснил это море после падения Константинополя, Светлейшая воевала с турками. Она потеряла не только Хиос, но все Спорадские острова, Скутари, остров Лемнос, Арголиду, значительную часть Албании. Ее торговым судам в Черном море и восточной части Средиземного постоянно угрожали не только турецкие военные корабли, но и пираты. Она лишилась рабов и мехов из России, которая поставляла также пеньку и коноплю, необходимые для судовых снастей. Чтобы сохранить плацдарм на Востоке, она прибегла к хитрости и сделала королем Кипра Якова II Лузиньяна, который взял в жены богатую венецианку, дочь банкира Корнаро. Дело, впрочем, приняло дурной оборот, и восстанавливать венецианские права на остров пришлось адмиралу Пьетро Мочениго, устроившему очередную кровавую баню.
Венеция жила торговым посредничеством, переправляя сукно и шелк из Фландрии в Африку, африканские же и восточные товары – за исключением пряностей, которые входили в сферу интересов Милана и особенно Генуи, – в северную Европу. Она торговала даже с турками, и один из самых известных ее художников, Джентиле Беллини, был приглашен – неслыханное дело! – ужасным Мехмедом II, который пожелал иметь… свой портрет! Ибо Венеция торговала отныне и искусством: она продавала муранское стекло, зеркала, золотую и серебряную парчу, ювелирные изделия и картины. И наживалась на банковском деле: ее банкиры соперничали с флорентийскими Медичи, ссужая деньги принцам и купцам для оплаты наемников, вооружения кораблей и снаряжения караванов.
В 1469 году городской Сенат даровал немецкому типографу Иоганну Шпиру, который стал называться Джованни да Спира, привилегию печатания посредством сменных литер. С тех пор появилось пятьдесят мастерских, которые издавали Один из друзей Феррандо показал венецианские печатни Франсуа. Феррандо и Жозеф проводили целые дни у банкиров. Предоставленные самим себе до ужина, Жанна, Анжела и Софи-Маргерит гуляли с детьми пешком или катались на одной из гондол дворца Эрриго. Они вновь и вновь любовались византийским великолепием базилики святого Марка, небольшими площадями с бесчислеными лавками, живописной толпой на мосту Риальто, безмятежной церковью Фрари и монументальным собором Петра и Павла. В Мурано они купили бокалы и вазы, которые им тщательно упаковали ввиду долгого путешествия, а на морской таможне пришлось удовлетворить шумную прихоть Жака Адальберта, углядевшего у одного из торговцев зеленого попугая. Птица так звонко пела и так забавно бранилась, что мальчик потребовал купить ее.
В Дзаттере их ожидало еще одно происшествие.
На набережной, перед караккой[65], вернувшейся из Морей, собралась толпа. Принесли носилки для больного пассажира. Несколько человек спросили, что за недуг у него, явно не желая, чтобы в город проникла чума или холера, и спустившийся с трапа капитан заверил таможенников, что пассажир этот не заразный и страдает от малярии. Все члены экипажа общались с несчастным, и никто из них не заболел.
Жанна, Анжела и Софи уже собирались сесть в гондолу, чтобы вернуться в палаццо, когда услышали произнесенное имя. Не сон ли это? С характерным венецианским сюсюканьем было сказано:
– Меззер де л'Эзтуаль.
Они оцепенели. Жанна схватила Анжелу за руку. Софи-Маргерит поняла, и даже дети, обычно шумливые, лишились дара речи.
Жанна бросилась выяснять: верно ли расслышала она имя? Да, именно так звали больного. Четверо матросов начали спускаться по трапу, держа носилки. Жанна устремилась вперед, и, когда больной оказался рядом, склонилась, чтобы рассмотреть лицо. Глаза у него были закрыты, он ужасно исхудал. Но это был Жак. Его била дрожь.
Жак!
Анжела, подошедшая к нему, тоже задрожала.
– Куда вы его несете? – спросила Жанна.
– В госпиталь на острове Сан-Джорджо, мадам.
– Нет, я забираю его. Они изумились.
– Куда?
– У нас есть гондола. Поезжайте с нами, – сказала она морякам. – Я вам заплачу.
Один из них спросил разрешения у капитана. Тот удивленно оглядел трех хорошо одетых дам и согласился.
– Куда вы его увозите? – спросил капитан. – Теперь вы отвечаете за этого человека.
– Мы едем в палаццо Эрриго, – ответила Анжела, – и я отвечаю за него. Этот человек – мой брат.
Зеваки начали проявлять интерес к происходящему. Матросы с великими предосторожностями спустили носилки в гондолу. Капитан спешно отдал приказание другим матросам: сундук! Сундук этого пассажира! Багаж тоже погрузили в гондолу. Прочие пассажиры, онемевшие от удивления, столпились на корме.
Носилки поставили в одном из залов первого этажа – в том, который можно было протопить. Несмотря на теплый день, Жака колотил озноб. Жанна велела разжечь огонь в камине и покрыла носилки меховым чехлом, снятым с дивана. Анжела послала за доктором.
Мессер Оттоне Дзорци явился довольно быстро.
Жак открыл глаза. Слабая, потусторонняя улыбка осветила его заострившиеся черты, когда он увидел лица Жанны и Анжелы.
– Рай… – прошептал он.
Жанна взяла его руку. Мессер Дзорци взял другую и помрачнел. Бросив красноречивый взгляд на Жанну, он покачал головой.
– Где ты был? – мягко спросила Жанна, поглаживая лоб Жака, на котором проступили крупные капли пота.
– У султана… Я был его советником… он не хотел меня отпускать… только когда я сильно захворал… тогда разрешил уехать … Значит, ты ждала меня…
Жанна подозвала Деодата и положила руку Жака на его голову.
– Жак, это Деодат.
Рука шевельнулась для ласки. Жак снова закрыл глаза. Анжела увела рыдающего мальчика.
Вошел Жозеф, изумленный похоронной атмосферой палаццо. С одного взгляда он все понял. Ринулся к носилкам и встал на колени. Назвал брата по имени. Жак вновь открыл глаза и бросил на Жозефа уже стекленеющий взгляд.
– Позаботься… о… Жанне.
Он содрогнулся в последний раз, тихонько вскрикнул и замер.
Мессер Дзорци вновь взял его за запястье, выслушал сердце и сказал:
– Лучше бы вы позвали священника.
Последними пришли Франсуа и Феррандо. Милостью неба трое самых близких Жаку людей приняли его последний вздох.
Жанна подумала о Жоашене и его непонятной жестикуляции.
Никто не плакал. Ни вечером того дня, ни на следующее утро, в церкви Сан-Джулиано. Ни на кладбище, на острове Сан-Микеле, куда похоронная гондола доставила гроб. Только когда тело опустили в могилу, горько заплакал Деодат.
За слезами Деодата последовали рыдания всех остальных.
Жозеф открыл сундук брата.
Он нашел в нем дневник и письмо Жанне.
Жак описывал свое пленение при дворе Мехмеда II и постоянную слежку за собой. Написать, однако, он мог бы. Но счел это слишком жестоким, ибо ей лучше было считать его умершим и продолжать жить.
"Мертвецы не должны тащить за собой живых", – писал он.
"Я хочу надеяться, что Жозеф последовал нашему древнему обычаю и принял кольцо. Ты была для меня прообразом небесного блаженства. Ты Сила, Жанна, и ты поддержала меня. Обнимаю тебя из другого мира, где уже пребываю".
Даже в смерти он излучал безмятежность духа.
Жозеф нашел также жемчужину неправильной формы, величиной с голубиный глаз, подвешенную на цепочку, и многие другие украшения, которые вручил Жанне. Она всмотрелась в жемчужину: Жак выгравировал на ней звезду.
Биографические заметки об исторических персонажах этого романа
Людовик XI (1423 – 1483)
Унаследовав в 1461 году престол, который ему так не терпелось занять, он столкнулся с той же внутренней и внешней ситуацией, которую тщетно пытался улучшить его отец: внутри страны – принцы-лигеры, жаждущие избавиться от королевской опеки и захватить львиную долю земель; за пределами страны – короли, заключившие союз с этими принцами в надежде овладеть Францией. Самыми грозными внутренними врагами были его родной брат Карл, герцог Беррийский, Карл Смелый, герцог Бургундский, Иоанн Алансонский, Жан Арманьяк и Франциск II, герцог Бретонский; внешними – Максимилиан Австрийский и Эдуард IV Английский. Два обстоятельства сильно повредили Людовику XI: стремление свести счеты с бывшими противниками, служившими его отцу, и зверства французских войск во Фландрии, Пикардии и Артуа. Первое восстановило против него духовенство, знать и даже народ, второе побудило население северных провинций искать защиты у Марии Бургундской, которая вышла замуж за Максимилиана Австрийского; тем самым Габсбурги утвердились во Франции. Хотя в царствование Людовика XI завершилась Столетняя война (перемирие в Пикиньи), он не сумел разрешить ни одну из хронических проблем королевства: после его смерти в 1483 году Франции по-прежнему угрожали мятежные принцы и иностранные государи.
Иоганн Фуст (1400 – 1466) и Петер Шёффер (ок.1425 – ок. 1500)
Эти люди, сыгравшие ключевую роль в становлении печатного дела в Европе, реально существовали. Их заслуги по меньшей мере равны заслугам Иоганна Генсфлейша, более известного под именем Гутенберг. В период между 1450 и 1452 годами Фуст одолжил Генсфлейшу крупную сумму денег (1600 гульденов) для применения нового способа печати; однако он не только финансировал этот проект, но и сам изобретал технологии, позволявшие печатать десятки, затем сотни экземпляров: занимался созданием литер и форм, усовершенствованием прессов, улучшением чернил и т. д. По мнению многих, Библия в 42 строки на странице, называемая Майнцской (один из экземпляров которой хранится в парижской Библиотеке Мазарини), была напечатана в 1456 году Фустом и его зятем Шёффером без помощи Гутенберга[66]. Тогда же Фуст начал судебный процесс против Гутенберга, не вернувшего ему долг. Гутенберг был одним из тех, кто развивал печатное дело в Европе, созданное на основе корейского или китайского изобретения; таким образом, нельзя приписывать ему «изобретение» печати: он был продолжателем в числе других, среди которых выделяются голландец Лоренс Янсон Костер, пражанин Прокоп Вальдфогель и особенно Фуст с Шёффером.
Фуст действительно умер в Париже во время эпидемии чумы в 1466 году; неизвестно, зачем он приехал в столицу Франции. Вполне допустимо предположение, что он хотел создать печатню для университета в городе, где его зять Шёффер работал переписчиком в 1449 году. Очевидно, что многочисленные лакуны в истории печатного дела, вызвавшего на начальном этапе идеологические столкновения, и удивительное отставание (четверть века) Франции в этой сфере дают богатый материал для романиста.
Волки
Вследствие изобилия лесов и запустения деревень во многих регионах Франции эти звери, сыгравшие значительную роль на страницах романа, сильно расплодились начиная с XV века и свирепствовали вплоть до XVIII века. Известно, что волчьи стаи регулярно появлялись у парижских ворот. Они представляли такую опасность не только для скота, но и для людей, что уже в 800 году была создана служба по их истреблению.
Примечания
1
Монкорбье – настоящая фамилия Франсуа Вийона. См. роман "Роза и лилия". (Прим. автора.)
(обратно)2
Денье – старинная французская медная монета (1/12 су). (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, – прим. перев.)
(обратно)3
От старофранц. estoille – звезда.
(обратно)4
Соль – старинная французская монета, с XVIII в. – су.
(обратно)5
Эшевен – городской советник.
(обратно)6
Хозяйская доля – земли, доход с которых принадлежал сеньору. (Прим. автора.)
(обратно)7
"Живодеры" – так называли вооруженных бандитов, грабивших крестьян во время и сразу после Столетней войны. (Прим.а втора.)
(обратно)8
Суржа – смесь пшеницы и ржи.
(обратно)9
Один арпан был равен примерно пятидесяти арам. (Прим. автора.)
(обратно)10
Почтовая служба была основана преемником Карла VII, Людовиком XI. Тем не менее существовала система доставки писем по всей территории Европы с помощью сменных курьеров. (Прим. автора.)
(обратно)11
См. роман "Роза и лилия".
(обратно)12
Тапробана – так античные географы называли остров к юго-востоку от Индии, скорее всего, остров Шри-Ланка.
(обратно)13
Вилланы – в средневековой Западной Европе крестьяне, лично свободные, но зависевшие от феодала как держателя земли.
(обратно)14
Сервы – категория феодальнозависимых крестьян, наиболее ограниченных в правах.
(обратно)15
Буасо равнялось одному декалитру, арпан насчитывал около пятидесяти аров, что составляет примерно полтонны с гектара – смехотворная цифра для современного сельского хозяйства, однако для того времени это был замечательный урожай. (Прим. автора)
(обратно)16
Ипокрас – распространенный в XV веке напиток из белого вина, воды, муки и меда с кардамоном и другими пряностями.
(обратно)17
Если Бог есть Бог, Бог существует (лат.).
(обратно)18
Если Богиня есть Богиня, Богиня существует (лат.).
(обратно)19
Созданному собственным разумом (лат.).
(обратно)20
Парламент (ист.) – верховный суд в королевской Франции.
(обратно)21
Прагерия – бунт феодалов, названный так по аналогии с восстанием гуситов в Праге. В лигу, созданную по предложению Александра, бастарда Бурбонского, вошли Иоанн II, герцог Алансонский, Карл I Орлеанский и Людовик Бурбонский. Их целью было захватить Карла VII и возвести на трон дофина Людовика. Пострадал в результате только один из заговорщиков: бастарда Бурбонского судили, приговорили к смерти, зашили в мешок и бросили живым в Сену. (Прим. автора.)
(обратно)22
"Изыщите, распущены" (лат.) – слова, которыми заканчивается первая часть католической литургии.
(обратно)23
От франц. coq – петух.
(обратно)24
Paix, Amour, Raison, Joie, Surete – мир, любовь, разум, радость, безопасность (франц.).
(обратно)25
"Тебя, Бога, славим" (лат.).
(обратно)26
Это описание частично заимствовано из книги Жана Фавье "Людовик XI" (Париж, 2001). (Прим. автора.)
(обратно)27
Бальи – королевский чиновник в северной части средневековой Франции, глава судебно-административного округа, бальяжа. На юге ему соответствовал сенешаль.
(обратно)28
С отличием (лат.).
(обратно)29
Гийом Овернский (1180-1249) – епископ Парижский; известен публичным осуждением Талмуда в 1244 г.
(обратно)30
Любезные синьоры, что за пирожки я вижу? (итал.)
(обратно)31
Анжела! Какое счастливое имя! Она и есть ангел, посланный небесами! Меня зовут Сассоферрато, Феррандо Сассоферрато. На самом деле даже Феррандо Сассоферрато делла Рокка. А вас? (итал.)
(обратно)32
Звезда! Целых две звезды! Это невозможно! Анжела делла Стелла! Анжела делла Стелла! (итал.)
(обратно)33
Нет, я не из Милана. Я родился в Риме, а потом поступил в армию герцога. Хотел стать офицером (итал.).
(обратно)34
Анжела./Утренняя звезда./Болит мое сердце,/Когда произношу твое имя (итал.).
(обратно)35
Анжела, / Звезда небосвода, / Услышь муку мою, / Когда произношу твое имя (итал.).
(обратно)36
Это произведение часто именуют "Малым завещанием" по аналогии с написанным позже "Большим завещанием".
(обратно)37
Замкнулось вновь блаженное зерцало / В безмолвной думе, а моя жила / Во мне и горечь сладостью смягчала; / И женщина, что ввысь меня вела, / Сказала: "Думай о другом…" ("Рай", XVIII, перевод М. Лозинского).
(обратно)38
Перевод Ю. Кожевникова.
(обратно)39
Последние годы жизни Франсуа Вийона неизвестны. После того как в 1463 году он был приговорен парламентом к смертной казни, замененной затем десятилетним изгнанием, его следы теряются. Согласно некоторым свидетельствам, он был болен – скорее всего, туберкулезом. Возможно, он решил искать убежища в местах с благоприятным климатом, таких как Анжер. (Прим. автора.)
(обратно)40
Зад трется о зад (лат.).
(обратно)41
Неаполитанской болезнью называли тогда сифилис, язвой распутников – гонорею. Выделенный из ряда других болезней в 1493 году, сифилис, как полагали, был привезен из Америки, хотя он существовал в Европе уже столетие, если не больше. (Прим. автора.)
(обратно)42
Прагматическая санкция, принятая в Бурже Карлом VII в 1438 году, ограничивала власть папы над французскими епископами и допускала вмешательство короля в их назначение на должность. (Прим. автора.)
(обратно)43
Мюи – старинная мера емкости для вина, 268 литров.
(обратно)44
Иоганн Фуст, напечатавший одно из знаменитых изданий Библии, действительно умер от чумы в Париже в 1466 году. Причины его пребывания в Париже неизвестны. (Прим. автора.)
(обратно)45
Иоганн Генсфлейш – настоящее имя Гутенберга, который, вопреки легенде, не был единственным изобретателем печатного станка с наборной формой. (Прим. автора.)
(обратно)46
С помощью оружия (лат.).
(обратно)47
Туаз равнялся шести футам, т. е. примерно двум метрам. (Прим. автора.)
(обратно)48
Да, да, невозможно поверить! Это такая трагедия, такое горе! (нем.)
(обратно)49
Теперь вы говорите (нем.).
(обратно)50
Перевод Вс. Рождественского.
(обратно)51
Здесь: подручный (лат.).
(обратно)52
Присматривайте за очагом и свечами! (нем.)
(обратно)53
Хватит! (нем.)
(обратно)54
Прекрасно! (нем.)
(обратно)55
Горе побежденным! (лат.)
(обратно)56
От франц. Aube – Заря.
(обратно)57
Страшно сказать (лат.).
(обратно)58
Заподозренный – вполне справедливо – в двойной игре, кардинал Балю провел в тюрьме десять лет. Держали его в знаменитой "Лошской клетке". После освобождения он покинул Францию. (Прим. автора.)
(обратно)59
Заочно (лат.).
(обратно)60
В 1470 году Жан Эйнлен создал первую парижскую печатню при Сорбонне с помощью трех немецких мастеров – Ульриха Геринга, Мартина Кранца и Михаэля Фрайбургера. В 1473 году она перебралась на улицу Сен-Жак и обрела вывеску "Золотое солнце". Мастерская на улице Сен-Жан-де-Бове перешла к Анри Эстьену, основателю знаменитой династии французских печатников. (Прим. автора.)
(обратно)61
Перевод Ф. Мендельсона.
(обратно)62
Софи! Что происходит? (нем.)
(обратно)63
По преданию, святому Губерту было видение распятия между рогами оленя, на которого он охотился.
(обратно)64
Светлейшая республика – название Венеции в XV-XVI вв.
(обратно)65
Каракка – большое парусное судно в XIII-XVI вв.
(обратно)66
Согласно принятой в науке точке зрения, создателем 42-строчной Библии является Гутенберг. (Прим.ред.)
(обратно)
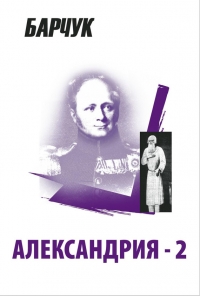

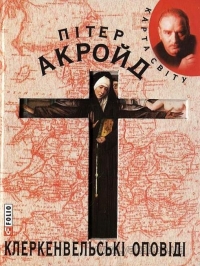



Комментарии к книге «Суд волков», Жеральд Мессадье
Всего 0 комментариев