Валентин Саввич Пикуль Площадь павших борцов
Светлой памяти отца, Саввы Михайловича Пикуля, который в рядах морской пехоты погиб в руинах Сталинграда — с сыновней любовью посвящаю.
Начинать лучше с конца
Последний самолет из Сталинграда… самый последний!
6-я армия Паулюса давно потеряла аэродромы в Питомнике и Гумраке; трехмоторный Ю-52 с трудом оторвался от земли — среди гиблых воронок, обгорелых грузовиков и штабных автобусов, забитых окоченевшими трупами. Чтобы скорее уйти от огня зениток, пилот слишком резко набрал высоту, при этом мешки с полевой почтой сами по себе откатились в хвост фюзеляжа… Перегруженную машину трясло от близких разрывов, осколки часто барабанили в корпус.
Штурман прогорланил:
— Это развлекаются русские девки, которых Сталин соблазнил зенитками, вот они и лупят. Поверьте: лучше было десять раз пролететь над Тобруком или Мальтой, нежели один раз над русскою Волгою…
Ю-52 еще недавно снабжал армию Роммеля в Африке и потому летел над заснеженной степью — желтый, как заморский попугай, замаскированный под цвет пустынь Киренаики. Штурман велел радисту передать в Полтаву, что «воздушный мост» 6-й армии Паулюса разрушен, пусть никто не вздумает повторить их опыт: они последние! Радист сообщил:
— Сальск уже не принимает, садимся в Новочеркасске. Не знаю почему, но это — личное распоряжение Геббельса.
— Геббельс? — удивился пилот. — Но с каких это пор министр пропаганды стал вмешиваться в дела военных?
— Сам дьявол в делах Берлина не разберется…
На аэродроме в Новочеркасске самолет ожидала команда полевой жандармерии и служба войсковой почты. Семь мешков с последними письмами последних солдат «крепости Сталинграда» шмякнулись на снег, словно лягушки. Теперь предстояла проверка пассажиров, улизнувших из Сталинграда. Раненых из «котла» давно не вывозили. Покидающие «котел» должны были иметь разрешение на вылет, заверенное лично Паулюсом или начальником его штаба Артуром Шмидтом. Но была еще спасительной для счастливцев справка о тяжкой болезни за подписью генерала-профессора Отто Ренольди — главного врача окруженной армии. Среди пассажиров Ю-52 только один капитан улыбался, почти блаженно. Остальные — как выходцы с того света. Впрочем, хлопот жандармерии они не доставили: кинооператор из ведомства Геббельса с отснятой пленкой, немощный генерал с камнями в печени, инженер по наладке станков, звания которого в «котле» казались лишними, зубной техник, инспектор метеослужбы, два священника и прочие. Дошла очередь и до капитана, о принадлежности которого к войскам связи можно было судить по желтым петлицам…
Блаженная улыбка еще не покинула его лица.
— Сейчас, сейчас, — пугливо говорил он, ковыряясь в обширном бумажнике. — Генерал Шмидт даже настаивал на моем вылете. Не могу найти! Куда я засунул эту справку?
— Причина вылета? — спросили жандармы.
— Специалист по штабным телетайпам.
— Это профессия, но это не причина.
— Мне обещано место в гарнизоне Кракова.
— Тоже не причина. Может, вы ранены?
— Нет… Впрочем, нуждаюсь в операции.
— Тогда где же справка генерала Ренольди?
— Ренольди меня осматривал, но я…
— Ясно, — сказал офицер полевой жандармерии, и на его груди качнулась большая бляха с № 3307. — Отойдите.
— В сторону… быстро! — заорали жандармы.
Только теперь капитан все понял, и улыбку блаженства сменила серая, как гипс, маска ужаса.
— Не надо… прошу вас, — бормотал он, становясь жалким. — Клянусь… у меня жена… трое детей! Вот они…
Он загораживался фотографией трех кудрявых детишек.
Eго расстреляли под брюхом самолета, который медленно докручивал в морозном воздухе последние обороты пропеллеров. Большие жирные вши ползали на застывающем трупе…
Жандарм под № 3307 еще продернул затвор «шмайсера».
— Когда же это кончится? — сказал он…
Через пять дней все кончилось: Паулюс капитулировал.
* * *
Был объявлен трехдневный траур. Театры, рестораны и даже пивные закрыли. Берлинское радиовещание транслировало траурные марши Бетховена; жутко было от мощного вздрагивания оркестров — от «Гибели богов» Вагнера. Политический радиокомментатор Ганс Фриче прослушивал последнюю сводку советского командования, которую Москва передавала на немецком языке. За этим занятием его и застал Геббельс.
— Ну, что они там? — спросил министр пропаганды.
— Торжествуют… Конечно, такого еще не бывало: один фельдмаршал и сразу двадцать четыре генерала, куда же больше? Сейчас их там загонят в подвалы огэпэу, где они и подпишут все, как миленькие… А потом — пиф-паф в затылок!
Беседа проходила в Радиодоме на Мазурен-аллее.
— Надо бы вытащить к микрофону сына Паулюса, — сказал Геббельс. — Он в чине майора, тоже был в шестой армии, хотя котел его миновал. Я уже слышу скорбный, но мужественный голос сына, вещающего Германии о героической гибели отца на приволжской площади Павших Борцов…
Геббельс шлепнул на стол папку, перечеркнутую по диагонали красной полосой, означавшей: совершенно секретно. Неожиданно завел речь о жене Магде и о своем пасынке.
— Ночью она, бедняжка, опять жаловалась на, перебои в сердце. Я понимаю ее страдания: Гервальд повидал только Крит, и теперь она боится, как бы его не загнали на Восточный фронт. Материнское сердце! Тут ничего не поделаешь… Ну, — спросил он, — а как дела с почтой из Сталинграда?
Над Германией погребально звонили церковные колокола. Фриче был весь в черном — как церемониймейстер на похоронах.
— Семь мешков писем с последним самолетом, — отвечал он. — Вот не ожидал… Когда я летом из Харькова вел трансляцию об успехах шестой армии по окружению Тимошенко, разве я мог подумать, что вещаю в эфир о покойниках?
— Не раскисать, Фриче! Мы же работаем столько лет… Сейчас самое главное поставить фильм о короле Фридрихе Великом. Это будет здорово! Пусть мундир короля обветшал и весь в заплатках, пусть режиссер крупным планом выделит его дырявые ботфорты. Но лица королевских гренадеров должны излучать железную веру в победу… Я опять вижу крупный план! Это будет потрясающий фильм, Фриче…
Паулюс и его генералы этого фильма уже не увидят. Застуженные русские поезда развозили 6-ю армию по лагерям для военнопленных. Их везли так, чтобы они не могли прочесть названия станций. Им оставили все ордена и отличия, но отобрали географические карты и наручные компасы, дабы не возникло соблазнов к побегам. Гитлер в эти дни много рассуждал о том, что напрасно поспешил, присвоив Паулюсу чин генерал-фельдмаршала: он вспомнил красивую благородную даму — секретаршу Геринга:
— Порядочная женщина! Рейхсмаршал распустил свои руки, обращаясь с ней, а она прошла в свой кабинет и застрелилась… Как все просто! Пистолет — это же легкая смерть. Какое малодушие испугаться выстрела… В эту войну больше никто не получит звания фельдмаршала!
Паулюса отвезли в Суздаль, а в Германии о нем сообщили, что он погиб, отстреливаясь до последнего патрона, — на той же площади Павших Борцов.
3 февраля Геббельс дал установку для прессы:
«Газеты должны выйти без траурных рамок. На первой странице можно поместить несколько иллюстраций героического содержания. Надлежит писать эту битву в сдержанном, мужественном, национал-социалистическом духе. Настал момент, когда немецкие журналисты писатели должны создать миф, который даст силы грядущим поколениям германской нации Полученные раны заживут, а героизм переживет века. Разъяснение: самостоятельные комментарии запрещаются…»
— Допустимы ли сейчас, — спросил Фриче, — аналогии между нынешним положением рейха и положением старой Пруссии после поражения от русских при Кунерсдорфе?
— Пожалуй… да! — согласился Геббельс. — При этом у микрофона следует напомнить слушателям (но с умом!), что героизм сталинского солдата мало чем отличается от храбрости русского солдата времен царицы Елизаветы. Это, скорее, упрямство скотов на великой мясной бойне, а совсем не продуманное явление патриотизма, как твердит нам по радио московская пропаганда…
Мешки с письмами вскрыли в канцелярии Геббельса.
— Начнем творить миф! — сказал он. — Создадим особую комиссию из проверенных членов партии. Срежем адреса на конвертах. Все письма из Сталинграда классифицируем по их настроению. Последние слова гренадеров Паулюса станут основой для создания бессмертной биографии… Я уже вижу, как потомки с трепетом приникнут к этим скрижалям!
Все сделали, как он велел: письма пустили в набор; и тут наступило отрезвление… Геббельсу было доложено:
— Такого мифа создать нельзя! Лишь два процента солдат армии Паулюса еще продолжали верить в дело фюрера, остальные слали проклятия. Вот послушайте: «Сталинград — хороший урок для немецкого народа. Жаль только, что тем, кто получит этот урок, трудно будет использовать его в будущие времена. Но всем нам, немцам, следует помнить о нем…»
Геббельс вчитался в корректуру. Некоторые фразы были уже подчеркнуты цензорами из бюро военно-статистической информации: «Ты — жена немецкого офицера и ты должна понять все, что я тебе скажу… Я не трус! Но мне обидно, что самую большую храбрость я мог проявить в деле, которое абсолютно бессмысленно и преступно… Итак, ты знаешь, что я к тебе не вернусь, по меня никто не убедит умереть со словами: «Хайль Гитлер!»
— Да, это для печати не годится, — огорчился Геббельс…
18 февраля он выступил в берлинском Спортпаласте:
— Нам осталось две крайности: капитулировать или открыть тотальную войну… Вы разве хотите поражения?
— Нет, нет, никогда, — хором отвечали из зала.
— Значит, вы хотите тотальной войны?
— Да, да… хотим! — и зал вздрогнул в овациях.
…Геббельс не дожил до Нюрнбергского процесса. Зато на скамье подсудимых в Нюрнберге оказались два представителя германского генштаба — Йодль с Кейтелем. А фельдмаршал Паулюс занял место на трибуне свидетеля, и, кажется, был момент, когда из свидетеля он мог стать подсудимым.
* * *
Нюрнберг! Как он был страшен в те годы… Американский солдат, удовлетворяя половой инстинкт прямо в подворотне, грубо сказал раскрашенной немке:
— Не все в Германии так уж и погано, как об этом писали в наших газетах. Благодарю вас, фрау!
Немка заплакала от женского стыда:
— Я ведь не проститутка… вдова капитана! У меня трое голодных детей, а что получишь от вас по карточкам?
«Джи-ай», ухмыльнувшись, протянул ей чулок:
— Можешь обменять на кофе… идет?
— А где второй?
— Если хочешь иметь пару, то второй получишь завтра на этом же месте. Сам я не приду, но пришлю вместо себя своего хорошего друга — со вторым чулком!..
Да, страшен был Нюрнберг в 1946 году — поверженный, голодный, опозоренный. Над дверями приличных баров висели объявления: «Немцам вход воспрещен». На смену победным радиофанфарам Геббельса пришли ветхие шарманки, напевавшие старое, памятное еще со времен кайзера Вильгельма:
Мое дитя, ты не свихнись,
где больше спятивших — туда стремись…
Бравые сержанты армии США торговали на рынках пенициллином, безногие калеки в мундирах вермахта предлагали авторучки «Паркер». Чашка кофе стала праздником, а жевательная резинка — развлечением. По указанию Эйзенхауэра немцы получали продуктовые карточки в том случае, если могли предъявить использованный билет на просмотр документального фильма о зверствах нацистов в концлагерях. Американцы гоняли немцев смотреть раскопанные рвы, в которых догнивали трупы замученных, а немцы говорили, что они «ничего не знали».
Это бесило американцев:
— Хватит трепаться, будто вы не знали того, что у вас под носом творилось! Почему же мы, жившие за тысячи миль от Германии, были извещены обо всех ужасах в вашей стране…
В Нюрнбергском Дворце Юстиции заседал Международный трибунал, и там, в качестве обвинительных документов, тоже показывали фильмы о зверствах гитлеровского режима. Здесь тоже отворачивались от экрана, надевали непроницаемые очки, а некоторые военные преступники даже… плакали. Судьям и прокурорам невольно вспомнилась старинная сентенция: «Бойтесь побежденных немцев! Если им не удалось затопить мир в крови, они затопят его своими слезами…» Нюрнберг, бывшая «партийная столица» Гитлера, оказался столицей международного правосудия. Конечно, наехало множество журналистов и хроникёров, жаждавших неповторимых кадров, уникальных сенсаций. Но скоро первичная острота впечатлений притупилась. Корреспонденты проводили время в барах пресс-кемпа, маклачили барахлом, флиртовали. Впрочем, администрация Дворца Юстиции предусмотрела и это. В залы были выведены репродукторы, доносившие каждое слово прокурора и подсудимых, о важных событиях процессов оповещали гудками сирены, чтобы все поспешили к телетайпам, занимали телефонные будки…
Американцы жаловались русским коллегам:
— Все надоело! О чем писать? Вот если бы московский обвинитель Руденко выхватил из карманов галифе пистолет и шлепнул за барьером самого Геринга… ого!
Морозный день 11 февраля не сулил никаких сенсации. Никаких, пока речь не зашла о плане «Барбаросса» — плане нападения Германии на Советский Союз, Руденко представил Трибуналу письменное показание по этому вопросу Паулюса:
— Его аффидевит прошу приобщить к делу…
Адвокаты, защищавшие на процессе военных преступников, даже в самом имени фельдмаршала ощутили добротный «материал» для защиты Йодля и Кейтеля, благо никто иной, а сам Паулюс был главным создателем плана «Барбаросса».
Пошептавшись с Герингом и Риббентропом, они заявили:
— Суд, нам кажется, не может довольствоваться лишь письменным аффидевитом, для полного установления истины требуется личное присутствие Паулюса.
Все заметили удовольствие на лице Геринга. Конечно, большевики способны подсунуть Трибуналу липовую бумажку, будто писанную Паулюсом, но… где они возьмут самого Паулюса? А если фельдмаршал еще не околел после зверских пыток на Лубянке, то что хорошего он может сказать?
Лорд Лоренс почтительно спросил Руденко:
— Сколько надобно времени советской стороне обвинения для доставки сюда свидетеля Паулюса?
— Пять минут, — ответил Руденко.
Это и был тот момент, когда сирена возвестила в пресс-кемпе небывалую для процесса сенсацию. Адвокаты в лиловых мантиях уже ринулись на трибуну:
— Нет, нет! Мы не настаиваем на вызове фельдмаршала Паулюса в качестве свидетеля советской стороны обвинения! Защита ознакомилась с его аффидевитом, и она полагает, что этого вполне достаточно для судебного процесса…
Поздно! Уже прозвенел звонок в руке Лоренса:
— Прошу ввести свидетеля Фридриха Паулюса…
Настала мертвая тишина, и в этой зловещей тишине зал услышал четкие шаги человека — это шагала сами история. Появилась подтянутая, юношески стройная фигура генерал-фельдмаршала, одетого в синий ладный костюм. Выражение его лица оставалось непроницаемо даже тогда, когда вокруг него вспыхивали репортерские «блицы», его нисколько не смутило резкое жужжание киносъемочных камер…
Нет, это не призрак. Нет, это не загробная тень.
— Вас зовут Фридрих-Вильгельм Паулюс?
— Да.
— Вы какого года рождения?
— Тысяча восемьсот девяностого.
— Вы родились в деревне Брейтенау?
— Да. Гессен-Кассельские земли Германии.
Рука фельдмаршала бестрепетно покоится на Библии.
— Клянусь говорить правду, только правду…
Геринг надевает черные очки. Кейтель передает записку Риббентропу, Йодль делает вид, что сейчас нет ничего интереснее на свете, чем играть с карандашом. Паулюс ровным тоном рассказывает, как зарождалась преступная агрессия против Европы, прямо в лицо разоблачает тех. от кого отделен сейчас барьером неприкасаемости. Адвокатам военных преступников такая правда не нужна! Но есть выход: запугать фельдмаршала, вызвать к нему антипатию, здесь же следует превратить его в мерзавца и продажную тварь.
— Знает ли господин Паулюс, что если высокий Трибунал, осуждая фельдмаршалов германского генштаба, сочтет этот генштаб организацией преступной, то и господин Паулюс автоматически переводится в разряд преступников?
Но Паулюс не такой человек, которого можно упрятать за барьер. Ясно, что сидеть между Йодлем и Кейтелем он не намерен… Вот его протокольный ответ:
— Я здесь выступаю в качестве свидетеля в отношении тех обвинений, которые предъявлены подсудимым. Поэтому я прошу суд позволить мне не отвечать на вопросы, которые направлены на то, чтобы обвинить лично меня.
Перекрестный допрос адвокатов напоминает ему перекрестный обстрел из пулеметов… еще там, в Сталинграде!
— Правда ли, что вы читаете лекции в московской академии Генерального штаба, обучая советских генералов?
Что-то вроде улыбки исказило лицо Паулюса.
— Постарайтесь вспомнить, кто кого победил в этой войне. Есть ли резон в том, если русские генералы будут выслушивать мои лекции, основанные на горьком опыте?
— А какая у вас должность сейчас?
— Самая отвратительная — военнопленный
— Вас привезли сюда из концлагеря?
— Нет. Я живу под Москвою… на даче.
— И чем же вы заняты на этой даче?
— Вспоминаю. Рисую. Кормлю белок. Развожу цветы.
Чешский журналист из «Руде Право» Зденек Кропач записал:
«Когда фельдмаршал уходил, не чувствовалось, что он устал. Все такой же уверенный в себе, он шел длинными коридорами в сопровождении советско-американского конвоя».
Здесь его перехватил корреспондент Хейдеккер:
— Один вопрос: как живется пленным в России?
— Хорошо, — ответил Паулюс кратко.
«Джи-ай» уже отталкивал Хейдеккера, приказывая ему удалиться, но тот успел еще крикнуть:
— Хорошо? И даже вашим? Сталинградским?
— Успокойте немецких матерей, — холодно произнес Паулюс. — Напишите в своей газете, что германские военнопленные в России обеспечены гораздо лучше, нежели русские дети… Они были бы счастливы иметь сахарный песок, какой имеют мои солдаты…
* * *
Повидать отца приехал из-под Кельна сын, Эрнст-Александр Паулюс, бывший майор вермахта. На постоялом дворе в деревне под Нюрнбергом майор не отказался от беседы с московским журналистом Михаилом Гусом, который всю войну вел в эфире борьбу с радиопропагандой Геббельса.
Здесь, в немецкой деревне, Гус узнал, что осенью 1944 года семья фельдмаршала была репрессирована.
— Арестовали не только меня, но и мать, жену, всех детей. Я сидел в гестапо на Принц-Альбертштрассе, восемь. Потом перевели в военную тюрьму Кюстрина. Сейчас с женою проживаю во Фризене, где и служу на печной фабрике тестя…
— Наверное, репрессии обрушились на вашу семью, когда фельдмаршал выступил по московскому радио против нацистского режима и лично против Гитлера?
— Пожалуй, раньше… Сразу, как только отец вступился за генерала Курта Зейдлица, и я до сих пор не пойму, зачем он это сделал? Отец знал обстановку в рейхе, мог бы и пощадить нас. Я знаю, что Зейдлиц в плену стал вашим агентом. Но он предал моего отца еще в котле. Роль этого генерала в судьбе отца оказалась столь роковой, как и влияние Артура Шмидта… Вы его знаете?
— Да, майор. Они и в Сталинграде не ладили. Генерал Шмидт как нацистский преступник осужден на двадцать пять лет и освободится не скоро.
В беседе было никак не миновать Сталинграда.
— Вы, — сказал майор Паулюс, — не должны думать об этой трагедии упрощенно. Это не только наше поражение и не только ваша победа. В котле Сталинграда возникали проблемы не обязательно военные. Были и политические. Были и чисто моральные. Надеюсь, с вашей стороны тоже возникали подобные вопросы. А теперь немецкий фельдмаршал, мой отец, вынужден перед лицом Международного трибунала осуждать своих же коллег.
— Все, что делает ваш отец, — отвечал Гус, — он делает добровольно, и не ошибаетесь ли вы, думая, что он вынужден давать показания? Вам, вышедшему из тюрьмы гестапо, не следовало бы рассуждать так наивно. Простите меня.
— Ах, при чем здесь тюрьма! Франц Гальдер, начальник нашего генштаба, тоже сидел в концлагере. Ялмара Шахта американцы вытащили чуть ли не из печей крематория в Дахау. А теперь вы же объявили их военными преступниками… Да, — заключил майор, — Германия сейчас в слезах, но придет время, и мы, побежденные, еще станем потешаться над вами, победителями. Помните, что завещал великий Шиллер: «Даже на могилах пробиваются яркие ростки надежды…»
И даже здесь, в пригородах Нюрнберга, скрипела старинная шарманка, возвещая былое, из которого все и возникло:
Мое дитя, ты не свихнись, Где больше спятивших, Туда стремись…Часть первая. «Барбаросса»
Фридрих Паулюс — одна из наиболее выразительных фигур германского фашистского генерального штаба. Судьба этого человека, если рассматривать ее через призму исторических судеб германского милитаризма, характерна.
Проэктор Д.М. «Агрессия и катастрофа».1. Руки по швам
Красная вертикаль лампаса подчеркивала его стройность.
Внешне и внутренне Фридрих Паулюс как бы выражал некий эталон образцового генштабиста. Неразлучное присутствие красивой жены с ее очень выразительной внешностью яркой бухарестской красавицы дополняло его лаконичный облик.
В светском обществе он любил вспоминать былое:
— Дамы и господа, я вышел из школы Ганса Секта, стесненного условиями Версальского мира. Сект не имел права усиливать нашу армию. Но старик извернулся, найдя выход. В его рейхсвере любой фельдфебель готовился в лейтенанты, а лейтенанты умели командовать батальонами. Версаль воспретил нам, немцам, иметь танки. Но в автомобильной роте Цоссена мы обучались на тракторах, ибо трактор сродни танку. А наши замечательные конструкторы втайне уже работали над проектами совершенных форм и прекрасных моторов. Наконец, пришел Гитлер, он денонсировал позорные статьи Версаля, и мы сразу оказались закованы в крупповскую броню…
Типичный офицер старой школы, Фридрих Паулюс, отдадим ему должное, был далек от пруссачества, — с его моноклем в глазу и выспренным фанфаронством. Ему, рожденному при жизни Бисмарка и Мольтке, было суждено отмаршировать в рядах армии кайзера, рейхсвера генерала Секта и гитлеровского вермахта. Перешагнув за сорок лет, Паулюс с нежной грустью вспоминал минувшую эпоху, «Вильгельм-цайт» с отзвучавшими вдали призывными звуками вальса:
— Германия жила иначе. По вечерам на улицах слышалась музыка, немцы были добрее и много танцевали. А какие вкусные ликеры привозили из Данцига! Тогда от самой Оперы до Бранденбургских ворот можно было гулять под липами…
Теперь — увы! — Унтер-ден-Линден казалась голой: Гитлер вырубил древние липы, посаженные еще при Гогенцоллернах, чтобы деревья не мешали его факельным манифестациям.
Паулюс всегда грустил, вспоминая эти берлинские липы, а площадь Павших Борцов в Сталинграде еще не тревожила его стратегического воображения, да и сам Сталинград на картах именовался по-старому — Царицын. Но как генштабист, Паулюс хорошо знал самое для него существенное:
— Там у большевиков тракторный завод, а где тракторы — там и танки. Только этим интересен для меня этот город…
А все-таки, читатель, как же эта жизнь начиналась?
* * *
Фридрих Паулюс был сыном счетовода, служившего в тюрьме Касселя; мать его, тихая и болезненная женщина, была дочерью дирижера, управлявшего хором арестантов в той же тюрьме, и пока тесть разучивал с арестантами божественные хоралы с призывами ко Всевышнему о милости, его отец отщелкивал на счетах количество съеденного арестантами гороха с салом.
Семья Паулюсов, очень старинная в Гессен-Кассельских землях, родословием не могла похвастать, ибо Их предки извечно крестьянствовали, лишь одиночки выбились в священники, сельские учителя или оставались мелкими чиновниками.
Отец внушал быстро подрастающему сыну:
— Всегда помни, Фриц, что все гессенцы, потомки древнегерманского племени Каттов, были людьми честными, верными и добропорядочными. Знай, что лучше совсем не иметь друзей, но только бы никогда не иметь и врагов.
— Да, папа, — соглашался мальчик…
Паулюсу запомнилась вечно заботящаяся обо всех мать, старательный труженик отец, который вечерами иногда приносил домой кастрюлю с гороховой похлебкой, что оставалась от ужина арестантов. Семья Паулюсов насыщалась, старательно вспоминая Бога, который о них не забывает.
Шел 1909 год, когда Фридрих Паулюс окончил гимназию и вышел в большой мир, который для него был заранее ограничен кастовыми перегородками. Он вырос грамотным, послушным, со всеми одинаково ровным, ни с кем не сближаясь и ни с кем не враждуя. Его аттестат зрелости лишь подтверждал достоинства юноши, но дорог в будущее не указывал. Германия времен кайзера была строгой империей, где все люди были заранее расположены по сословиям, как товары в магазине по полкам, и рожденный в подвале не смел претендовать на место в высших этажах имперского здания. Свою ущербность выходца из мелкобуржуазной семьи Паулюс испытал сразу же, когда его не приняли в военно-морскую школу:
— Советуем быть скромнее в своих желаниях, — заявили в школе Паулюсу. — Разве у вас в роду имелись офицеры?
— Нет, — стыдливо покраснел Паулюс.
— Может, были коммерц-советники?
— Тоже нет.
— В таком случае ищите в жизни другие пути… Иные пути привели его в Марбург, где Паулюс стал изучать право в университете. Юридическая казуистика не заманивала его в свои головоломные дебри, где привольно паслись будущие зубры-прокуроры и адвокаты с повадками хитрых лис — Паулюса волновало иное: как ему, сыну счетовода, сбросить ярмо своего презренного сословия, чтобы вступить в новый сверкающий мир?.. Факультет права в Марбурге примыкал к клинике для умалишенных, и вечерами, покинув аудиторию, Паулюс гулял в скверике, раскланиваясь с психопатами, среди которых встречались умнейшие люди. Как-то один из них, узнав о сетованиях юноши, сказал, что история Германии во все времена была, есть и будет только историей офицерского корпуса.
— Рано или поздно Германии предстоит вести большую войну, и армия готовится к ней, допуская в офицерское казино даже отпрысков из семей чиновничества. Попытайте счастья в Баденском полку имени принца Евгения Савойского… Служить не трудно, если держать руки по швам!
Паулюс начал службу в звании «юнкер-ассистента при знамени» — в феврале 1910 года, а осенью уже выбился в фендрики — кандидат в офицеры. Он получил допуск в офицерское казино, под сень которого и ступил с молитвенным настроением пилигрима, отряхнувшего прах с ног своих, чтобы вступить в заколдованный храм, где ему откроются непреложные истины. Тогда же Паулюс окончил военную школу в Энгерсе, и, наконец, пробил волшебный час: в августе 1911 года он стал лейтенантом. Первой узнала об этом его любимая сестра Корнелия, которую в семье называли «Нелли». При встрече в Ранштадте она пылко ласкала эполеты на плечах брата, целовала эфес его сабли.
— Кто бы мог подумать, — шептала она в небывалом экстазе. — Неужели и мы, Паулюсы, стали иметь офицера? Фриц, только б не было войны… Ах, ты бы знал, что стало с отцом и матерью, когда они известились о том, что их сын — лейтенант!
— Нелли, — отвечал Паулюс, обнимая ее узкие плечи. — Знала бы ты, что со мною происходит. Да, я ступил одной ногою на ту лестницу, по которой легко взбегали другие. Но теперь, теперь… я очень влюблен.
— Так это же хорошо, — порадовалась сестра.
— Это очень сложно. Ибо добиться руки и сердца моей избранницы для меня сейчас труднее, нежели стать фельдмаршалом. Не пугай маму и папу тем, что у их сына кружится голова.
* * *
Было от чего закружиться голове лейтенанта.
Внешне это ни в чем не проявлялось: Паулюс оставался по-прежнему пунктуальным в службе, ровным в обращении с высшими и низшими, его голос — в радости или гневе — оставался спокойным. Казалось, возмутить его невозможно! Высокий и очень стройный, Паулюс был излишне щеголеват, бдительно следил за чистотой манжет, за блеском своих сапог, за строго уставным размером мундирного воротничка.
«Милорд» — говорили о нем в Баденском полку, и он даже гордился этим прозвищем, которое заслужил корректной холодностью, одинаково пленявшей его врагов и друзей.
Товарищами в полку были два брата-румына — Ефрем и Константин Розетти-Солеску, сыновья бухарестского консула в Берлине, и Паулюса влекло к братьям, ибо они для него были выходцами как раз из того загадочного и волшебного мира, который для Паулюса всегда оставался недоступным.
— Знай, — говорили братья, — что по линии матери мы происходим от племянника римского императора Юстиниана, наши предки из Генуи выехали в Валахию, где и стали боярами. Прабабушка была из рода князей Стурдза, что были господарями Молдавии, а наша бабка из сербской династии Обреновичей, что были королями в Белграде. Наконец, наш родной дядя, Георг Розетти-Солеску, был румынским послом в Петербурге, где и женился на Ольге фон Гире, племяннице русского министра иностранных дел в царствование Александра Третьего…
Да, действительно было от чего закружиться голове Паулюса!
Розетти-Солеску считались в Баденском полку крезами, ибо их мать, разведенная с мужем и оставшаяся жить в Германии, имела немалые доходы с колоссальных имений в Валахии, — к маркам они относились небрежно, а Паулюс подсчитывал даже пфенниги. Как бы ни был он респектабелен внешне, как бы ни стремился оставаться в душе порядочным человеком, все равно Паулюс в глубине сердца мучительно завидовал аристократам, родня которых образовала космополитическую диаспору — от Петербурга до Берлина, от Белграда до Бухареста.
— Где ты проводишь отпуск? — спросили братья.
— Да так… где придется. А что?
Но при этом подумал, что дома, в родимом Касселе, опять ему доедать вчерашний суп, слушать вздохи и стоны матери, вечно больной, слушать, как после ужина отец будет вслух читать газету «Тетка Фосс» — о берлинских сплетнях, а сестра позовет в гости свою любимую подругу Лину Кнауфф, давно влюбленную в Паулюса, чтобы потом исподтишка и даже завистливо наблюдать за развитием романа… Тошно!
— Вот что, — сказали ему братья Розетти-Солеску, — мы отдыхаем летом в горном Шварцвальде, составь нам компанию для отдыха. Кстати, у тебя такие длинные руки и ноги, что как раз пригодишься сестре для игры в теннис.
Спасибо, что пригласили! Уже не денщик в казино ставил перед Паулюсом тарелку, вышколенный лакей расставлял перед ним целый куверт из серебра с бокалами. Аристократическим холодом веяло от матери его однополчан. Катаржина Розетти-Солеску была дружна с румынской королевой Елизаветой, рекомендованная которой она и была принята в Карлсруэ при дворе баденской герцогини Луизы, что доводилась дочерью германского императора Вильгельма I. Придворная дама, внешне очень приятная, она смотрела на лейтенанта Паулюса свысока, словно на мелочь, недостойную ее внимания.
Усаживаясь во главе стола, как хозяйка дома, Катаржина Розетти-Солеску даже и не посмотрела на Паулюса и, заметив пустой стул возле него, недовольным тоном сказала:
— Моя дочь имеет дурную привычку опаздывать…
Елена-Констанция, ее дочь, села рядом с Паулюсом, и он невольно сжался, очарованный ее красотой и напряженный оттого, что боялся ее вопросов, неожиданных для него, на которые не всегда мог ответить.
После обеда Елена предложила ему прогулку до водопада в Раумюнцбахе.
— Извините, что по-немецки я говорю с акцентом француженки, — сказала девушка, — виною тому мое воспитание. Наверное, не самое лучшее для моего круга…
Паулюс осторожными намеками выведал, что она старше его на один год, что воспитание она получила сначала в Париже, училась в пансионе Константинополя, а потом…
— Потом окончила девичий лицей королевы Виктории в Карлсруэ, почему и принята при дворе герцогини Луизы…
И вдруг случилось чудо! На горной тропе Паулюс испытал головокружение, и Елена-Констанция бережно указала ему место, где можно присесть, чтобы избавиться от дурноты при виде пропасти.
— Вы очень милы, лейтенант, — сказала она, откровенно любуясь им. — Мне братья рассказывали о вас. Кстати, я забыла, как зовут вас в полку?
— Милорд, — смущенно отозвался Паулюс.
— А еще как?
— Кунктатор. Потому что я слишком щепетилен в вопросах службы, стараюсь быть пунктуальным во всем, что я делаю.
Стройная и красивая, она долго смотрела вдаль, а внизу где-то глубоко струились к вершинам тонкие дымки деревень шварцвальдских крестьян. Кажется, девушка о чем-то думала. Неожиданным был для Паулюса ее вопрос:
— А что же теперь вы собираетесь делать?
— Я хотел бы…
«Поцеловать вас», — ожидала она, но ответ был иным;
— Я хотел бы получить адъютантскую должность, ибо склонен к усидчивой кабинетной работе при штабах.
— Это… все? — смущенно спросила она.
— На первые годы — да, я был бы счастлив.
— Вы ошибаетесь. Аксельбант адъютанта от вас не уйдет, а вот я могу уйти и оставить вас на этой горной тропе, где вы изнемогаете от робости и головокружения…
Все стало ясно! Брак предстоял морганатический, неравный для нее, зато очень выгодный для Паулюса, сразу выводящий его из общей шеренги лейтенантов.
Паулюсу было не совсем-то удобно представлять в родительском доме жену-аристократку, которую он ласково называл Коко, но она восприняла все как надо — и бедный суп с картофелем, и чтение по вечерам газеты, и даже сестру мужа Каролину, которая смотрела на свою золовку во все глаза, как на заморское чудо…
Вот и 1914 год! В этом году началась мировая война, а жена Паулюса одарила его дочерью, которую нарекли славянским именем — Ольга; в конце той же войны Елена-Констанция разрешилась близнецами-сыновьями, Фридрих в чине капитана будет убит итальянскими партизанами после свержения Муссолини, а второй сын Эрнст-Александр — это тот самый майор вермахта, который в Нюрнберге 1946 года почти озлобленно заявил нашему корреспонденту:
— Вы слишком гордитесь своей победой. Но скоро все вы — и русские, и ваши союзники, разинете рты от изумления, когда избитая Германия поднимется с корточек, на которые вы ее поставили… Так уже было! Было после Версальского мира, так будет и после Потсдамского… А имя моего отца уже принадлежит истории!
2. Внимание — танки!
Паулюс закончил войну капитаном, имея Железный крест от кайзера. Подвигов за ним, правда, не числилось, да он и сам не стремился совершать их. Известно: Паулюс использовал годы войны для того, чтобы заявить о себе штабным работником. Он держался подалее от окопов и поближе к начальству; он не сидел в блиндажах, давя на себе вшей, а в тиши кабинетов, благоухая одеколоном, составлял отчеты по расходу вооружения и графики движения войск. «Офицер для поручений», Паулюс становился необходимым для начальства, как хороший справочник для повседневного употребления. К тому же он обладал природным тактом, был сдержан в выражении эмоций, умел совмещать несовместимое, очень любил писать, никогда не уставая, неизменно помня о том, о чем начальники часто забывали, — все эти качества делали Паулюса нужным всем командирам.
Один из его полковников, принц Эрнст Саксен-Мейнингенский, в душе артист и художник, предупреждал Паулюса, чтобы тот никогда не совался в политику, и в этом случае предрекал ему скорую карьеру генеральштеблера (офицера генерального штаба):
— Только не лезьте в это вонючее дерьмо, что называется политикой, — говорил принц. — Если бы не политики рейхстага, мы бы сидели сейчас дома возле камина, а кошка катала бы клубок ниток возле ног любимой жены… Разве же это плохо, Паулюс?
Война закончилась Версальским миром, который офицеры называли «позорным», готовые хоть сейчас «переиграть» войну заново. Германия была в разброде чувств и мнений, все чего-то хотели, все кого-то ненавидели, а больше всего немцы хотели… есть ! Однажды в отеле «Бристоль», где вместо масла подавали маргарин, а вместо свежего мяса консервы, Паулюс заказал натуральный бифштекс, который стоил четыреста марок, и одноглазый официант, распознавший в нем фронтовика, дружески предупредил:
— Ешьте скорее, ибо цены растут, и пока вы ковыряетесь с ножом и вилкой, бифштекс будет стоить уже семьсот марок…
Ряды рейхсвера редели, множество офицеров слонялось без дела, вспоминая блиндажи и окопы как уютные квартиры. Отставные генералы хвастались победами, каждый из них выиграл грандиозную битву, и было лишь непонятно, почему все вместе они проиграли войну, ввергнув Германию в хаос нищеты, в разброд инфляции и политической бестолочи. Паулюсу повезло: он остался в рядах рейхсвера, продолжая делать карьеру, столь удачно начатую…
Как искусствовед по фрагменту картины безошибочно угадывает автора полотна, так и Паулюс — по рельефу местности и отметинам построения войск — точно определял время и название битвы. В эти трудные годы ни он, ни его семья нужды не испытывали, ибо доходы с валашского имения Капацени поступали регулярно. Паулюс имел хорошую квартиру на Альтенштайн-штрассе, но служба постоянно отрывала его от любимой жены и детей, которых он очень любил.
Военная судьба однажды забросила его в Штутгарт, где стоял 13-й полк (пехотный), и здесь, далекий оттого, чтобы заводить друзей, он, кажется, нашел друга, с которым позже, много лет спустя, будет связывать что-то роковое, делая неудачи одного зависимыми от побед другого.
Этого офицера звали Эрвин Роммель, он был тогда командиром пулеметной роты, а в офицерском казино Роммеля иначе как «швабским задирой» и не называли. Казалось, что общего может быть между ними? Роммель — обвешанный орденами фронтовик, всегда готовый выпить и поскандалить, а Паулюс — джентльмен, с утра застегнутый на все пуговицы, легко ранимый грубостью, тихий, иногда даже мечтательный. Однако крайности сходятся, и Паулюс, обычно замкнутый, был с Роммелем доверителен.
— Эрвин, — как-то сказал он ему, — ты со своим буйным характером когда-нибудь оставишь голову в канаве.
— Завидуешь? — хохотал Роммель.
— Нет. Я не люблю строчить из пулеметов, предпочитая любой стрельбе музыку Баха… Моя мечта — планировать и руководить; чтобы слева от меня лежали карты, а справа названивал телефон. Наконец, я хочу читать лекции по оперативному искусству, чтобы видеть раскрытые рты слушателей.
— Валяй, Фриц! Может, заодно и выпьем?
— Ты пей, а я должен быть со свежей головой, чтобы вечером, как актер, отрепетировать свои планы на завтра.
— Черт с тобой, репетируй! А я напьюсь…
Паулюс уже прошел курсы, специальные для офицеров генерального штаба, сдал экзамены в Высшей Технической Школе в Шарлоттенберге, изучил военную топографию. Брак с румынской аристократкой во многом дописал облик Паулюса; умная и образованная женщина, она привила мужу интерес к широким познаниям, от Коко он приобрел лоск культурного светского человека. (Будучи в нашем плену, он поразил академика А. М. Кирхенштейна: «Фельдмаршал со знанием дела говорил мне о новейших способах лечения туберкулеза, о целебных свойствах швейцарского курорта Давоса, о последних трудах немецких физиологов…»)
Осенью 1931 года Паулюса отозвали в Берлин, где его поздравили с чином майора генерального штаба и поручили ему чтение лекций по вопросам тактики:
— Вы же знаете, Паулюс, как унижена наша армия всякими запретами «Версаля», и потому курс ваших лекций не будем афишировать для публики. Часть офицеров, ваших слушателей, нужна для окружения этого… Ну, вы догадываетесь, этого ефрейтора Адольфа Гитлера, чтобы мы, военная элита, водили его потом на коротком поводке. Но у нас имеется запрос из Москвы, чтобы курс лекций по тактике прослушали и советские командиры.
Удивляться не стоит: Гудериан учился водить танки в Казани, говорили, что Геринг учил наших ребят водить самолеты в Липецке, ибо отношения между немцами и русскими были приличными.
Имя Гитлера было известно, но Паулюс не придавал фюреру нацистов достаточного внимания и значения.
— Я привык держать руки по швам! — не раз повторял Паулюс. — Мои погоны майора определяют мое положение в рейхсвере, но никак не могут определять мои политические взгляды…
Кажется, его недаром прозвали «кунктатором» (замедлителем). Паулюс любил все обдумать и взвесить, за раскаленное железо он голыми руками не хватался. В служебной характеристике его было начертано: «Прекрасно воспитанный, иногда излишне скромен… почтителен, очень методичен. Отличается выдающимися способностями как тактик, хотя склонен тратить чрезвычайно много времени на обдумывание обстановки… детально исследует каждую ситуацию».
— Пожалуй, — сказал Гудериан, — этот человек мне подойдет.
Гудериана называли в рейхсвере, а потом и в гитлеровском вермахте «быстроходным Гейнцом».
* * *
Танки… Когда лорд Китченер, отъявленный консерватор, увидел первый танк, ползущий по земле, он сказал:
— Этой дурацкой тарахтелкой хорошо бы пугать беременных кошек, но разве ею можно выиграть войну?
Время опровергло скептицизм. Когда Паулюс начал в Цоссене «пахать» землю на тракторах, далеко за океаном молодой, еще никому не известный майор Дуайт Эйзенхауэр уже призывал в американских газетах: «Нужно забыть о неуклюжих неповоротливых машинах. Их место должны занять скоростные, надежные танки, обладающие колоссальной разрушительной силой».
Гитлеру недолго оставалось до прихода к власти, немецкий генштаб, работавший еще скрытно, почти подпольно, однажды встревожился, а все думающие военные, в том числе и Паулюс, были крайне озабочены сообщением из Москвы.
— Неужели русские нас перегнали? — говорил Гудериан. — У них в армии появились механизированные корпуса. Правда, — успокоил он себя, — я не вижу у них хороших машин, их конструкторы еще не нашли верных решений для своих «роликов», чтобы маршевая скорость отвечала силе оружия…
В рейхсвере и вермахте танки было принято именовать «роликами». Гудериан в чине полковника был тогда начальником главного штаба всех мотомеханизированных частей.
— Вы уже покатались на тракторах, — сказал он Паулюсу, — а сейчас приходит время готовить боевые машины. Чтобы французы или англичане не слишком нервничали, будем считать, что в Вюнсдорфе существует только автотранспортная часть…
Паулюс тогда же получил чин подполковника.
Гитлер явно спешил к власти, а престарелый маршал Гинденбург не торопился умирать, чтобы освободить ему вершину политического Парнаса. Как и большинство военных, Паулюс не испытывал никакой гармонии с идеями национал-социализма, и он даже не удивился, когда генерал Герд фон Рунштедт высмеял бредовые мысли Гитлера о расовом превосходстве немцев:
— Боже мой, какая бессмыслица! И разве можно говорить о «чистоте расы», если население Германии — сброд ? В наших дедушках и прабабушках мы отыщем слияние славянской, романской и динарской кровей. Стоит ли говорить о чистоте крови, если в древности даже Берлин был славянской деревушкой на берегах Шпрее, в которой славяне ловили раков и осетров.
Фельдмаршал Теодор-Федор фон Бок, поздравляя Паулюса с назначением на танкодромы в Вюнсдорфе-Бергене, о политической «возне» там, наверху, высказался более откровенно:
— От размягчения костей немецкий народ переключился на размягчение мозгов… В любом случае, — договорил фон Бок, — от этого парня с челкой на лбу всегда надо прятать спички подальше, чтобы он не устроил хорошего пожара…
Гитлер победил, и в окна домов ворвалась новая песня:
Нет цели светлей и желаннее. Мы вдребезги мир разобьем! Сегодня мы взяли Германию, А завтра всю землю возьмем…Из источников достоверно известно: Паулюс воспринял появление Гитлера с брезгливостью чистоплотного человека; ему, как и многим немцам, претили нравы нацистской верхушки, возмущали их крикливые выходки. Но мундир требовал повиновения:
— Я только солдат. Мои руки — по швам! Мы во времена Секта даже не задумывались над политикой. Во что превратится армия, если в казармах устроят публичные митинги?..
Его отчасти обескуражило, что многие офицеры, которых он знал и достаточно уважал, вдруг оказались в окружении Гитлера. Паулюс всегда сторонился любой «партийности».
— Вокруг любой идеи, — говорил он, — будь она плохой или хорошей, всегда крутится толпа бездельников, словно вокруг бочки свежего пива. Потом к идее примазываются всякие жулики и политические аферисты, заинтересованные уже не в идеалах партии, а лишь в том, чтобы нажраться как можно больше при жизни и оставить детям кое-что в банках Швейцарии. И пусть наши социологи не завираются: еще никому не удалось создать рай на земле, зато в аду каждый человек побывал…
В офицерском казино Вюнсдорфа, конечно, были одни разговоры, а в семье Паулюса совсем иные. Катаржина Розетти-Солеску, его теща, была переполнена гневом аристократки.
— Это грязный плебей с замашками балаганного зазывалы, — говорила она о фюрере, а жена Паулюса не возражала матери, она еще более едко судила о Гитлере и его компании.
Паулюс, оставаясь почти равнодушным, отвечал теще, что Гитлер не с потолка свалился, а пришел к власти демократическим путем — через всенародное избрание.
— Ах, эта демократия! — восклицала теща. — Все преступления прикрывает она заботою о народе. Вы только посмотрите, что сталось с Россией, когда убили царя… Нет, я была и остаюсь убежденной монархисткой.
— Я… тоже, — добавила Елена-Констанция. — Впрочем, история любой страны знала диктаторов: во Франции — кровавый Робеспьер, в Италии — дуче Муссолини, в России — азиат Сталин, а у нас, а у нас… Гитлер!
Но вскоре Паулюсу стало импонировать внимание фюрера к созданию мощного вермахта, к развитию боевой техники. Гитлер не поленился лично посетить Вюнсдорф, и во время обкатки новых танков системы Т-1 Паулюс убедился, что фюрер ценит силу моторов, они очень мило и даже душевно побеседовали о фильтрах, всасывающих воздух в утробу раскаленного чудовища. Паулюс остался доволен визитом Гитлера и потом, встретившись с генералом Вальтером Рейхенау, сказал ему:
— Наш ефрейтор разбирается даже в танковых фильтрах. Вот чего я никак от него не ожидал… Рейхенау, грубый весельчак, долго смеялся?
— Нам следует держаться этого удачливого парня! Если бы Гитлер играл в картишки, он бы каждый вечер таскал домой по чемодану денег. На чьей стороне воевать, за чертей или за ангелов, этот вопрос оставим для умозаключений папы римского.
Под окнами рейхсканцелярии не расходились берлинские обыватели, ждавшие явления фюрера на балконе как чуда, и кричали ему «Хайль Гитлер!». Правда, в толпе находились и отчаянные смельчаки, под шумок возвещавшие «Хальб-литер!» (что означало хвалу пол-литру шнапса). Но это были герои-одиночки. Берлинскую толпу уже пронизывали агенты гестапо, как жирную землю пронизывают алчные черви…
Скоро жене Паулюса надоели его постоянные поездки по танкодромам и мотошколам в Вюнсдорф-Бергене и Дебериц-Эльсгрундез
— Не пора ли, Фриди, осесть где-нибудь при штабе?
Паулюс понимал ее сетования, он и сам хотел бы уйти в кабинетную жизнь, в приятный шорох разворачиваемых по ночам карт и графиков, за которыми стояло призывное выражение Гудериана: «Танки — вперед!» На Гудериана же он и сослался:
— Коко, все зависит от быстроходного Гейнца…
Судьба Паулюса разрешилась 1 июня 1935 года, когда, срочно вызванный в Берлин, он предстал перед Гудерианом. Тот был обложен стопками книг, и среди них Паулюс успел заметить только военные труды Фуллера и Лиделл-Гарта.
— Кажется, — сказал Гудериан, — Тухачевский в Москве начал понимать то, о чем я твержу много лет нашим болванам. В будущей войне главным фактором станет движение, помноженное на мощь огня… Поздравляю! — вдруг сказал Гудериан.
— С чем? — удивился Паулюс.
— Отныне вы — полковник генерального штаба и… Я отъезжаю в Вюрцбург, чтобы принимать новую панцер-дивизию, а вы остаетесь на моем месте.
— Кем?
— Начальником главного штаба всех мотомеханизированных войск, которые и станут для вермахта главной бронетанковой силой… Надеюсь, вас устроит мой кабинет?
— Благодарю.
— Благодарите фюрера, который очень хорошо отзывается о вас, Паулюс, ему сейчас нужны именно такие люди, как вы, чтобы не болтать, а — делать…
На прощание Гудериан преподал Паулюсу добрый совет: так как у Гитлера есть техническое чутье ко всему, что касается развития техники, то Паулюс в любом случае может добиться успеха в борьбе за все новое в танкопроизводстве, если он обратится непосредственно к фюреру;
— Фюрер поймет и поможет. Всего доброго, Паулюс…
В новом звании и с новым назначением Паулюс вернулся домой, на Альтенштайнштрассе, с букетом цветов.
— Теперь мы, Коко, не расстанемся. Все получилось так, как ты и хотела. Конечно, мое призвание — теория. Я ведь не Гудериан, который согласен дрыхнуть внутри танка; ты, Коко, сама знаешь, что я более склонен к мозговым решениям!
Однако этот интеллектуал, склонный (не спорю) лишь к умственному труду, въехал в историю Европы на грохочущем танке, заляпанном грязью, кровью и мозгами раздавленных людей. Бронетанковая сила вермахта была основой всех будущих агрессий, и Паулюс оказался в числе первых — после Гейнца Гудериана! — толкователей глубоких прорывов, бронированных таранов на поле боя. В силу своей порядочности, очень далекий от примитивной зависти, Паулюс иногда все-таки испытывал к «быстроходному Гейнцу» некое ревнивое чувство, которое от Коко и не думал скрывать:
— Верно ли считать Гейнца автором танкового блицкрига? За время учебы в Казани он наверняка перенял для себя новое из тактики русских. Наконец, немало позаимствовал из рассуждений австрийца фон Эймансбергера, который раньше всех нас преподнес миру идею глубокого танкового прорыва. Русские перевели фон Эймансбергера, и, надо полагать, в будущем они учтут наступательный дух своих танковых двигателей.
* * *
Еще в двадцатые годы Берлин был переполнен русскими эмигрантами, русская речь звучала на улицах, всюду русские издательства, русские журналы в киосках, на киноэкранах — русские актеры, вечерами шумели русские рестораны, из которых на улицы немецкой столицы выплескивалось столь знакомое:
Марфуша все хохочет, Марфуша замуж хочет, И будет она верная же-е-н-а-а…В ту пору даже существовал анекдот. На улице встретились двое русских, поздоровались, вспомнили, как водится, феерический блеск Петербурга или дремотную тишину Тамбова.
— Ну, а как тебе Берлин? — спросил один другого.
— Да ничего городишко. Одно в нем плохо.
— Плохо? А что же?
— Да то, что немцев в нем еще много и — вот беда! — все немцы говорят по-немецки-
Понятно, что русские эмигранты не миновали и дома Паулюса, где их любезно привечали Розетти-Солеску, мать с дочерью. Теще Паулюса, конечно, эти эмигранты казались намного интереснее и дороже тех выскочек «нового времени», что появились при Гитлере на высотах власти, и которые — это было ей даже неприятно! — появлялись иногда за столом в доме ее зятя.
Паулюс никогда не питал особого любопытства к России (по родству жены он более интересовался Румынией), но, как хозяин дома, полковник был радушен к русским. В его обширной квартире на Альтенштайн-штрассе перебывало немало знатных эмигрантов: Бискупский — муж певицы Вяльцевой, а теперь приятель Гиммлера, графы Шуваловы, князья Васильчиковы и граф Валентин Зубов. Специально для русских ставился самовар и, попивая чай, неумело заваренный горничной, Паулюс вежливо вникал в разговоры гостей, не всегда ему понятные; о той России, что была раньше и какой не стало. Иногда он даже вмешивался в беседу, но информация Паулюса о новой русской жизни была скорее забавной:
— Мне рассказывали люди, недавно побывавшие в России, что русские после революции приобрели очень странные, даже дикие привычки. Так, они теперь не любят иметь отдельные квартиры, а стараются занимать в них лишь отдельные комнаты. Мало того, страсть к коллективизации так велика, что русские почему-то любят спать по пять — десять человек в одной комнате. Мужчины, женщины, дети, — все вповалку…
Странно, что Паулюс, человек эрудированный и начитанный, был очень далек от понимания русской культуры; он знал лишь музыку Чайковского, что-то слышал о Пушкине, но сама русская история и русское искусство оставались для него книгою за семью печатями. Перед женою он оправдывался:
— Коко, ты напрасно надо мною подшучиваешь. Я все-таки генеральштеблер, и по этой причине знание рельефа Русской равнины для меня более важно, нежели русская поэзия…
Елена-Констанция, как румынка, наоборот, высоко ценила русскую культуру, и однажды, выбрав вечер, увлекла мужа в театр, где ставили «Три сестры» Чехова:
— Посмотришь, как жили русские раньше — еще до того, как их обуяла бешеная страсть к коллективизации…
Из театра Паулюс возвращался какой-то сумрачный, о чем-то думал, потом вдруг сделал неожиданный вывод:
— Жизнь в Германии все-таки была лучше, нежели в этой России. Я, милая Коко, так и не понял, почему три сестры все время завывали со сцены: «в Москву, в Москву, в Москву…» Очень им хотелось в Москву, но так и не уехали. Наверное, и при царе это был закрытый город. А жизнь в Германии намного проще: захотел немец в Берлин — купил билет и поехал.
3. И даже зубные щетки
Вскоре Паулюс развеселил жену информацией, исходившей из близкого окружения фюрера. Почти сразу, как только Гитлер засел в рейхсканцелярии, на стол ему стали регулярно подкладывать вырезки из советских газет о производстве зубных щеток в СССР. Год за годом русские писали, что зубных щеток опять нет в продаже, а если они и появятся, то их щетина остается во рту советского гражданина, решившего раз в неделю почистить зубы. Когда же, спрашивалось в газете, наша передовая советская индустрия наладит производство и массовый выпуск зубных щеток, столь необходимых для культурного развития народа, закладывающего прочный фундамент социализма?..
Гитлер каждый раз оставался доволен:
— Вот еще убедительный пример слабости большевистской системы! Если эти кремлевские дикари несколько лет возятся с зубными щетками, никак не наладив их массовое производство, то я полностью уверен в том, что они никогда не смогут наладить конвейерный выпуск танков…
Паулюс, отдыхая дома после служебного дня, редко включал радиоприемник, но однажды, случайно поймав московскую волну, он попросил графа Валентина Зубова переводить.
— Очередное хвастовство «железного» наркома Клима Ворошилова. Он опять заверяет мир, что Красная Армия никогда не отступала.
— Тем хуже для маршала, если его армия не умеет отступать, — изрек Паулюс. — Мастерство отхода перед противником — это альфа и омега тактики, и оно гораздо сложнее тактики наступления…
Ворошилов речь закончил, эфир заполнило бодрое:
Ведь с нами Ворошилов —
Первый красный офицер,
Готовы умереть мы
За СССР!..
Зубов перевел текст песни, а Паулюс засмеялся;
— Странно, что они готовы умереть! За что? И за кого?
Валентин Платонович Зубов был создателем Музея истории искусства в Петрограде, который он оставил Зиновьеву и мадам Троцкой на разграбление, а сам бежал, ибо аристократов ожидала страшная участь в застенках ЧК. Сейчас он воспринял слова Паулюса на свой лад, заговорив о том, что не понимает, почему Сталин отказался подписать Женевскую конвенцию от 1929 года о военнопленных и обращении с ними. Ему было непонятно, почему Гитлер конвенцию подписал, а Сталин от нее отмахнулся:
— Сталин мотивировал свой отказ тем, что конвенция о пленных не отвечает духу социалистического государства.
Паулюс ответил, что пока в мире существуют войны, до тех пор в мире будут и военнопленные, а Сталин не подписался под конвенцией совсем по иным причинам:
— Ворошилов уже не раз заявлял, что в случае войны Красная Армия будет только наступать и обязательно на чужой территории, а красноармейцы в плен не сдаются…
Известно, что стратегия, как и тактика, никак не зависит от идеологических рецептов, а в СССР армию воспитывали на мысли, будто любое наступление — это «помощь страдающим братьям по классу», и стоит Красной Армии пересечь границу, как сразу во всем мире перед ней распахнут объятия «представители угнетенного пролетариата»… Может, и прав был Черчилль, который говорил о Советской России, что это даже не страна, а некий секрет, завернутый в загадку и укрытый непроницаемой тайной…
* * *
Паулюс в разговоре с Зубовым мог бы добавить, что в берлинском здании гестапо уже имеются советские военнопленные, доставленные прямо из… Испании!
Война там была гражданская, но в нее вмешались Гитлер и Сталин, используя Испанию вроде полигона: под Мадридом и Гвадалахарой впервые скрестилось оружие — советское и немецкое. Нашим летчикам пришлось горько разочароваться в своих истребителях, а немцы выкатили на прямую наводку новейшее оружие XX века — противотанковую артиллерию, и Сталин в Кремле с большим недоверием разглядывал фотоснимки своих развороченных танков.
— Неужели мы начали отставать? — обеспокоился он, подозревая, что и тут не обошлось без «врагов народа»…
Настал 1937 год, и в Берлине нервно и чутко реагировали на все репрессии, которые Сталин — раз за разом! — обрушивал на свою же армию. Среди немецких генералов иные недоумевали, даже не смея верить, другие откровенно радовались тому, что Сталин истребляет лучших полковников и офицеров. Генеральный штаб возглавлял Людвиг фон Бек, генерал старой выучки, нелицеприятный и резкий; Бек почти откровенно презирал Гитлера, не допуская его вмешательства в дела вермахта. При встрече же с Паулюсом он начал разговор о Сталине:
— Неужели сами большевики не понимают, что к власти над страной пришел сумасшедший? Его хваленая армия никак не является шедевральной, офицерский корпус задавлен страхом… Я всегда привык отыскивать в истории аналогии, и знаете, с кем я могу сравнить этого усатого грузина?
— С кем?
— С персидским шахом Надиром, который даже своим сыновьям выколол глаза, подозревая в них изменников Сталин был бы на своем месте, если бы лет триста назад управлял каким-либо маленьким ханством на Востоке, но… в московском Кремле? Но во главе такой великой страны, как Россия? Не верится!
Наконец, как удар грома, отозвалось в Берлине известие о расстреле маршала Тухачевского, и Паулюс, узнав об этом, даже подумал, что Людвиг фон Бек в своих предположениях прав.
— Если Тухачевский и его коллеги, — рассуждал Паулюс, — осуждены Сталиным справедливо, то… Простите, что же это за армия, если вся ее верхушка состоит из предателей? А если Тухачевский и его коллеги осуждены Сталиным несправедливо, то… Простите, что же это за государство, в котором один человек обладает властью рубить головы генералам?
Его сомнения разрешила жена, подчеркнув в немецкой газете от 24 июня 1937 года статью под игривым названием: «Счастье и гибель Тухачевского». Паулюс был согласен с тем, что было там сказано:
«Расстреляв известнейших военачальников Советского Союза… сознательно пожертвовали в интересах политики боеспособностью и руководством Красной Армии. Тухачевский, бесспорно, был самым выдающимся из всех красных командиров, и его нельзя заменить… Мнимый шпионаж, конечно, был просто выдуман. Если большевики утверждают, что „обвиняемые признались во всем“, то это, конечно, ложь !»
— Все кончится плохо для России, — сказала Коко.
Вывод был справедливый, ибо вскоре авторитет СССР вдруг резко упал во всем мире. Политики Европы, и правые, и левые, открыто говорили, что эту страну нельзя иметь в числе союзников, а мощь Красной Армии, не в меру расхваленной, попросту эфемерна. Никто в Европе уже не верил Сталину и его приспешникам, которые, засев за стенами Кремля, словно в крепости, творили неслыханные зверства, а население страны превратили в своих рабов, понукаемых страхом и лозунгами, зовущими их в «светлое будущее».
Паулюс в эти дни как раз инспектировал панцер-дивизию Вальтера Рейхенау, и, конечно же, в офицерском казино было немало разговоров о репрессиях в России.
— У меня такое впечатление, — рассуждал Рейхенау, — что этот грузин решил помочь нам , немцам, в решении танковой проблемы. Ведь именно Тухачевский ратовал за развитие бронетанковых корпусов, а теперь в Кремле восторжествует угодное Сталину мнение его кавалеристов. Не знаю, как вы, Паулюс, а я и мои офицеры готовы Сталину аплодировать.
Молодой майор Виттерсгейм толковал о том, что пишут сейчас газеты Франции и Чехословакии:
— По их данным, вопросы стратегии и тактики в Красной Армии исходят из понятий времен гражданской войны и боев под Царицыном. Оснащение армии отвратительное. Нигде нет такой отсталой техники и вооружения, как у русских…
Этот разговор неожиданно завершился беседою с Францем Гальдером, ведавшим оперативными вопросами в генштабе (и, по слухам, он был не прочь занять место фон Бека).
— Сейчас, — сказал Гальдер, — из числа военных мыслителей в Москве осталось лишь два толковых генеральштеблера — это еще царские теоретики Шапошников и Свечин.
Б. М. Шапошников был хорошо известен, его труды о развитии штабного мышления не раз переводились в Германии. Свечина знали хуже. А вот в Москве его таскали по тюрьмам, ибо мысли Свечина никак не совпадали с военной доктриной Ворошилова, благоухающей ароматом конюшен. Профессор Академии Генштаба Александр Свечин утверждал нечто крамольное: мол, боеспособность армии никак не зависит от идеологии правительства. Мало того, Свечин призывал укреплять дружбу с Финляндией, чтобы иметь в ней доброго союзника, и тогда сам по себе прикроется один из главных рубежей страны. Случись же война, предрекал Свечин, и Ленинграду суждено испытать примерно такие же муки, какие испытал Севастополь в Крымской кампании… Этого хватит! А. А. Свечина расстреляли как «врага народа»!
Был репрессирован даже легендарный маршал В. К. Блюхер, славе которого Сталин явно завидовал. Над народным героем палачи так издевались на допросах, что выбили ему глаз. Блюхер держал свой глаз на ладони, которую протягивал к следователю, спрашивая:
— Что же вы делаете? Люди вы или нелюди?
4. Генералы
— Все, что делает Сталин, — утверждал Гитлер, — все это принесет пользу нам. Красная Армия, благодаря отеческим заботам о ней, уже осталась без головы. У нее теперь целы только ноги, чтобы драпать до самого Урала.
Кейтель кивал одобрительно, но Йодль выражал сомнения:
— Война с Россией — это такая война, когда всегда знаешь, как начать ее, но никогда не будешь знать, чем она закончится. Любую войну с любой страной можно довести до победного конца. И только в войне с Россией нам не дано заранее увидеть ее финала…
Гитлер тоже не сидел без дела, устраняя тех генералов, которые мешали ему взять власть над вермахтом в свои руки. Только в отличие от Сталина — он поступал гораздо изощреннее.
Рокировка генералов на шахматной доске вермахта была достаточно сложной, и Паулюс говорил Коко:
— Я вынужден следить за расстановкой главных фигур, чтобы самому не остаться пешкой, задвинутой в угол…
Гитлер уже начал сближаться с генералом Вильгельмом Кейтелем, которого в вермахте отчасти презирали, считая его выскочкой, называли «диспетчером дежурной бензоколонки», ибо Кейтель отличался любезностью, более схожей с лакейской угодливостью. Не так давно его сын женился на дочери фельдмаршала Вернера фон Бломберга от первого брака. Но в январе 1938 года и сам Бломберг женился на молоденькой секретарше Эрике Грюн, причем шаферами на его свадьбе были сам фюрер и Герман Геринг… Казалось бы, что тут такого?
Но Бломберг мешал Гитлеру, ибо он не выносил Гиммлера, который свои войска СС возвышал над вермахтом. Не прошло и нескольких дней после свадьбы маршала с секретаршей, как однажды Паулюсу показали фотографию голой девицы в соблазнительной позе.
— Порнографией не увлекаюсь, — отвернулся Паулюс.
— Но это не просто ветреная девушка, решившая обнаженной позировать, а Эрика Грюн, ставшая женой Бломберга. Как выяснилось, она провела юность в «массажном салоне» своей матушки, которая тоже состояла на учете полиции…
Вот за эту «ветреность» жены Бломберг и расплатился скорой отставкой. Вслед за тем фюрер взялся за генерала Фрича, помощника Бломберга, и Фрич был обвинен в педерастии, которая считалась «изменой государственным интересам», ибо люди этой породы лезут не туда, куда надо.
Фрич доказал, что любая задница мужчины вызывает в нем только отвращение, но клеймо позора уже было наложено, почти несмываемое, и Фрич, злобно шипя, ушел в тень отставки, а его пост освободился для генералов, казавшихся Гитлеру более восприимчивыми к усвоению его национал-социалистических идей…
Паулюс не догадывался, что в это время возникло нечто вроде «заговора генералов», никак не согласных с агрессивной политикой фюрера. Людвиг фон Бек призывал удалиться в отставку генерала Вальтера фон Браухича:
— Разве не видите, что фюрер разевает рот шире своего желудка? Рано или поздно, но он втянет Германию в войну, выдержать которую немецкий народ не в состоянии.
Вальтер фон Браухич обещал подать в отставку. В это время он как раз разводился со старой женой, чтобы жениться на молоденькой Шарлотте, и Гитлер одобрил его брак с этой Шарлоттой.
— Но моя старая жена, фюрер, желает иметь «отступное».
— Понимаю. Я дам вам денег, — согласился Гитлер.
— А моя молодая Шарлотта желает иметь виллу.
— В чем дело? Будет, Браухич, и вилла…
После этого Браухич согласился занять пост командующего сухопутными силами, а фон Беку он заявил, что с фюрером порывать не собирается, ибо все страхи Бека излишни:
— Наш фюрер не такой профан, чтобы допустить войну на два фронта, а Сталину не до Германии, ибо он сам не знает, как разобраться со своими маршалами…
Паулюс, пронаблюдав за расправой над Бломбергом и Фричем, за тем, как одни падают, другие возвышаются, сказал жене:
— Сейчас следует ожидать и взлета Гальдера… Думаю что Бека фюрер все же не тронет, ибо репутация этого человека безупречна, и к нему Гитлер не подыщет отмычек.
Коко волновало другое: верно ли говорят, будто вскоре начнется война более страшная, нежели при кайзере?
— Вряд ли, — отвечал Паулюс. — Германия к войне не готова. Как можно воевать, если даже в бензобаки такси заливают лишь половину бензина, разбавляя его спиртом или бензолом. Нет, на войну без горючего фюрер никогда не решится.
Он знал и другое: нехватку стали Германия покрывала за счет импорта из Швеции, а в холодильниках рейха заморожены лишь 750 000 свиных туш, — раздели их на всех, и один из дней немцы поедят суп с мясом, а что потом?
— Наконец, — добавил Паулюс, — ты, милая Коко, живешь в достатке, не зная, что такое нормированные продукты или товары… — Успокойся, в ближайшее время войны не будет.
Сталин в это время сокращал военные поставки в Испанию, а Гитлер, напротив, их увеличивал, укрепляя режим Франсиско Франко, в котором видел на будущее приятного союзника. Адмирал Канарис подозрительно зачастил в Эстонию, завел в Ревеле дружбу с военными, и эстонцы теперь поставляли в абвер секретную информацию об СССР. В марте 1938 года состоялся аншлюс Австрии, отчего Германия сразу усилилась, уже начиналась подготовка к аннексии Чехословакии…
Было ясно, куда идет Гитлер и куда он тащит за собой вермахт, потому среди генералов и возник «заговор», о котором сохранилась легенда, будто сам Франц Гальдер брался застрелить фюрера в его кабинете рейхсканцелярии. Генералы, пережившие поражение в прошлой войне, не хотели второго «Версаля», они предвидели, что рано или поздно неизбежен конфликт с Востоком, а какова бы ни была Россия сейчас — верхом на лошади или верхом на танке — в любом случае эта гигантская держава всегда останется опаснейшим противником в войне с Германией. Конечно, при этом вспоминался не только завет Бисмарка, но и поучения Клаузевица, считавшего, что Россия всегда останется непобедима, а любая армия, даже самая совершенная, растворится, как пыль, в ее роковых и необозримых просторах… Узнав о недовольстве среди генералов, Гитлер пребывал в ярости. Но из многих генералов-заговорщиков только один фон Бек открыто выразил Гитлеру свое несогласие с его политикой, которая очень дорого обойдется всем немцам. Предупреждая Гитлера, чтобы не лез в Чехословакию, фон Бек подал в отставку.
«Солдатское повиновение кончается там, — писал он, — где существует сознание и где есть совесть честного человека и моральная ответственность…»
С такими словами фон Бек и удалился.
На его месте — место начальника генерального штаба сразу же был назначен фон Гальдер, желавший стрелять в Гитлера, а Паулюс в одну из ночей — по секрету — нашептал любимой жене:
— Ты догадываешься, как мне трудно сохранить свою честь на этой псарне, где все грызутся… Видишь, как все просто! Несчастный фон Бломберг, когда вел под венец свою секретаршу, разве мог подумать, что порнографические открытки с ее изображением уже давно лежат в кармане фюрера, который сам и благословил свадьбу! Но теперь, после всех манипуляций с генералами, Гитлер обрел власть над вермахтом, а его верный Кейтель толчется подле него, превратившись в Лакейтеля…
Кейтель стал начальником штаба верховного главнокомандования, а подле него выдвигался и генерал Йодль, который с Гитлером мирился. Схожие между собой, как близнецы-снаряды единого калибра, порожденные из одной матери-пушки, Кейтель с Йодлем были столь неразлучны, что даже на эшафоте в Нюрнберге их объединяла одна веревка… Гитлер спрашивал их: каков ожидается результат, если за Польшу вступятся Англия с Францией? Генералы угодливо отвечали, что возня с поляками не займет много времени:
— После чего наш вермахт развалит и всю Европу…
Гитлеру снова подсунули информацию о производстве зубных щеток в стране победившего социализма.
— Вот! — воскликнул он радостно. — Это ли не доказывает крах сталинских пятилеток? Бедные русские, даже нечем зубы почистить…
Тогда же японцы решили «прощупать» прочность дальневосточных рубежей СССР, возле озера Хасан завязались бои. Наши войска изгнали самураев, и 11 августа 1938 года японский посол Сигэмицу предложил в Москве мирные переговоры.
Но ситуация казалась странной. Ведь до сих пор все было тихо, мирно. И вдруг — ни с того ни с сего — японцы напали!
Можно догадываться, что в случае первого успеха японцы, наверное, развернули бы мощное наступление в глубину Сибири и началась бы самая настоящая война — до Байкала! Советская сторона официально признала 236 человек погибшими, а 26 бойцов получили высокое звание Героя Советского Союза.
Что-то плохо мне верится в первую цифру, ибо в этом случае на каждых девять убитых приходилось по одному герою…
Но дело не в этом, а в другом. Время, словно рентгеном, безжалостно просветило забытые страницы битвы у озера Хасан — и наружу вдруг выступили те самые язвы, о которых при Сталине предпочитали умалчивать…
Тридцать седьмой год, будь он проклят, уже сказывался на состоянии наших войск. Вот что писал С. Шаронов, участник тех событий:
«Дивизию обезглавили полностью. Арестовали комдива Васенцова, комиссара Руденко, начштаба Шталя, начальника артиллерии, начмеда и его жену… Мы, рядовые бойцы, даже не знали — кому верить?»
В штабах царила неразбериха, люди не доверяли один другому, в каждом приказе слышали голос «врагов народа». Связь работала безобразно, иногда открывали огонь по своим же людям и танкам. Бинокли офицеров были на сорок процентов негодны, при любой панике бойцы бросали противогазы, винтовки и пулеметы…
Так было, читатель, и не стоит стыдливо зажмуриваться!
Это еще не все. Дополню. На передовую слали новые полки. Но они прибывали на позицию, имея холостые патроны и деревянные макеты гранат (калабашки), с боевыми же гранатами умели обращаться даже не все офицеры, и часто после боя поле было усеяно невзорвавшимися гранатами. Оказывается, бойцов не всегда учили, как вырвать чеку перед броском. Виноваты ли в этом люди? Нет. В свое оправдание они говорили, что ради экономии (?) их учили бросать что придется, а боевых гранат многие и не видели.
— Чем же вы занимались в своей части? — спрашивали их.
— Мы-то? А мы сено в колхозах на зиму заготавливали, овощи собирали на полях. Иной час дровишки на зиму кололи. А бывало и так, что нас всех строем сгоняли лекции слушать! Иногда нам кино показывали.
Такова была подготовка бойцов в те времена огульного хвастовства, когда «железный нарком» Ворошилов бахвалился перед всем миром о непобедимости Красной Армии…
Думаете, в Берлине не знали о том, что было на берегах озера Хасан? Все знали, и любая мелочь учитывалась на будущее, а подробности боев немцы тщательно анализировали. Гальдер в беседе с офицерами генерального штаба говорил:
— Россия при сталинском режиме — это даже не страна, а большущий мыльный пузырь, слегка бронированный снаружи. Ткни его пальцем — и он сразу лопнет, обнажив свою пустоту. Недаром же, чтобы прикрыть свое убожество, Москва так любит щеголять всяческими рекордами. Выше всех, дальше всех и… часто, пожалуй, глупее всех. Не хотел бы я быть русским в эту эпоху, столь гибельную для России. Наверное, наш фюрер прав, что следит за производством зубных щеток…
«В Москву, в Москву, в Москву…», тосковали сестры в пьесе Чехова. А Паулюса тогда больше всего привлекало кафе «Комик», где в роли конферансье подвизался отважный Вернер Финк; он выходил к рампе, вскидывая руку в нацистском приветствии.
— Хайль!
Но руки не опускал, объясняя:
— Вот на какую высоту умела прыгать моя любимая собака… Кстати, сегодня я что-то не вижу средь публики этого парня с челкой, который не признает мясной пищи. Ах, опять я забыл, как его зовут… Может, кто из вас и подскажет его имя?
Паулюс навещал кафе «Комик» совсем не потому, что состоял в оппозиции к Гитлеру, нет, ему просто иногда хотелось от души посмеяться и послушать от Финка свежие анекдоты, о видных членах нацистской партии, и, как беспартийный, он мог себе это позволить — без ущерба для своей карьеры.
Карьера же складывалась удачно! Паулюсу хорошо жилось и при нацистском режиме. Победные почести, денежные дотации, поклонение толпы, обезумевшей от восторга, грохот танковых гусениц и солдатских сапог на маршах, — все это невольно взбадривало, все это увлекало его вперед. (Много позже, оправдывая себя, Паулюс говорил Вальтеру Ульбрихту: «Прошу понять, что Гитлер дал нам, генералам, все, в чем мы нуждались. Он поставил политическую цель — „завоевание жизненного пространства, он дал нам отличное оружие и он сумел привлечь к себе весь народ ради осуществления этих целей…“)
Может быть, именно поэтому Паулюс никогда не вызывал у Гитлера никаких подозрений в смысле его лояльности.
Сколько было фрондирующих против нацизма, сколько офицеров замышляло заговоры против фюрера, и никто из диссидентов — вплоть до 1942 года — даже не подумал привлечь Фридриха Паулюса в ряды оппозиции. Очевидно, сам Всевышний велел ему пройти через горнило Сталинградской битвы, чтобы он осознал: Германия — это не Гитлер, а Гитлер — это еще не Германия, и эти два понятия не следует совмещать.
Но сейчас для Паулюса осталось самое главное — «Танки — вперед!..»
Начинался 1939 год — поворотный, решающий… 1 января Фридрих-Вильгельм Паулюс, сын тюремного счетовода, получил чин генерал-майора генерального штаба.
По этому случаю он выпил… с Кейтелем!
Отцовский завет остался памятен: лучше пусть не будет друзей, только бы не было и врагов… Хайль!
5. Напряжение
Сыновья уже вышли в офицеры, изредка появлялись Дома в форме танкистов (короткие черные кителя, на головах черные пилотки). Но любимицей Паулюса всегда оставалась дочь Ольга, ставшая женой барона Альфреда Кутченбаха, note 1 который носил мундир эсэсовца (тоже черный).
В звании зондерфюрера СС барон появился в доме Паулюсов, привлеченный не только матримониальными планами, но и русскими эмигрантами, с которыми был давно связан. Один из его предков еще при Николае I торговал сыром в Тифлисе, а сам барон делал карьеру военного переводчика с русского языка. Череп и кости в эмблеме его фуражки никого в семье Паулюсов не пугали, ибо звание зондерфюрера СС присваивалось тогда в Германии многим профессорам, врачам, кинорежиссерам (от этой чести не смел отказаться далее знаменитый писатель Ганс Фаллада).
На правах зятя Кутченбах был откровенен с Паулюсом, однажды признавшись, что боится, как бы его не послали в Россию:
— Легко догадаться, с какими целями! Вы, наверное, слышали, что русские недавно провели аресты наших агентов в Кузбассе, Баку и Челябинске, а сейчас, по слухам, фюрер сильно заинтригован танковым производством в Сталинграде. Меня тоже готовили не для того, чтобы я читал Достоевского в подлиннике…
Очевидно, Альфред Кутченбах обладал какой-то информацией по ведомству Риббентропа, и весною он намекнул, что сейчас возникает дипломатическое напряжение между Москвою и Хельсинки. Сталин как будто решил покорить Финляндию, а Шапошников, будучи начальником Генштаба, возражает Сталину.
— Смелый человек! — заметил Паулюс.
— Да. Сталин к нему прислушивается, единственного Шапошникова называя по имени-отчеству, а не «товарищем». Мало того, он простер свое внимание к Шапошникову вплоть до того, что позволяет ему курить в своем кабинете, когда вздумается…
Сталин давно подумывал приобщить финнов к миру социализма, а Гитлер решил покорить Литву: вермахт получил приказ о захвате Мемеля (Клайпеды), чтобы затем присоединить к Германии всю Прибалтику. Литве был предъявлен ультиматум, чтобы отвела свои войска и полицию от побережья, а Гитлер, страдая морской болезнью и вволю наблевавшись, прибыл в Мемель на крейсере «Дойчланд» уже как хозяин, и Литва с этого времени вошла в сферу германских интересов.
Альфред Кутченбах известил Паулюса:
— Сейчас следует ожидать известий с Дальнего Востока…
Верно! Отброшенные от озера Хасан японцы вдруг открыли фронт в Монголии — на реке Халхин-Гол. И здесь получили столь мощный удар, что их 6-я армия была окружена и разгромлена полностью. Действия на Халхин-Голе никак не были схожими с топтанием на месте у озера Хасан, а советскими войсками командовал неизвестный еще тогда Жуков… Это имя ничего не говорило обитателям германского генштаба:
— На всякий случай, кажется, пора заводить на него особое досье, как на командира способного…
Между тем Франц Гальдер пребывал в миноре, чем-то озабоченный, и — человек резкий — однажды при встрече с Паулюсом как бы вскользь обмолвился:
— Кажется, наш фюрер начинает зарываться…
Паулюс, верный своим принципам не вмешиваться в политику, только пожал плечами. В дневнике Франца Гальдера появилась красноречивая запись, свидетельствующая о том, что он умел многое предвидеть:
«Трудно поверить в пакт между англичанами и русскими, но это сейчас — единственное, что может остановить Гитлера…»
Гальдер не пророк, но он удачно напророчил.
* * *
Между тем Гитлер от начала 1939 года повел себя несколько странно. 12 января во время приема в рейхсканцелярии дипломатического корпуса, аккредитованного в Берлине, он, обходя шеренгу послов, посланников и доверенных, вдруг задержался подле московского полпреда и начал с ним беседовать, чего ранее никогда не делал. Это была сенсация, газеты всего мира задавались вопросом: что бы это могло значить? Наконец, 30 января, выступая по радио, Гитлер в своей речи ни разу не лягнул Сталина, ни разу не облаял Москву, он уже не метал в сторону России привычные громы и молнии… Политики были встревожены!
Остановить Гитлера взялись англичане с французами — миссия союзников по волнам Балтики тихо подплывала к бывшему «парадизу Российской империи». Английскую делегацию возглавлял адмирал Драке, Французскую — генерал Думенк, их окружала свита офицеров и чиновников от дипломатии, чтобы вовремя подсказать Драксу и Думенку, что говорить в Москве, чем большевиков спрашивать, что отвечать, споря…
И если бы, как предрекал Гальдер, возникла новая ось Лондон — Париж — Москва, в этом случае Гитлер не рискнул бы развязать войну. Но Сталину агрессивное поведение Гитлера импонировало больше, нежели неуверенная политика этих английских и французских гуманистов и демократов…
Переговоры с англо-французами Сталин поручил Ворошилову; к тому времени бывший наркоминдел Литвинов уже проживал под домашним арестом, а вот почему переговоры не вел новый нарком Молотов — этого я не знаю. Но странно, что Сталин сделал «дипломата» из своего друга Клима, человека полуграмотного, заносчивого, прифранченного с тем шиком, который был свойствен полковым писарям времен еще царской армии… Правда, Драке и Думенк тоже не были дипломатами, и, может быть, именно по этой причине Сталин и приказал разговаривать с ними именно своему приятелю.
Англичане и французы хотели бы видеть СССР на своей стороне, чтобы воспетая в песнях «страна героев» не пожалела для них крови (как не пожалела ее Россия в 1914 году). На Западе уже знали, что следующей жертвой Гитлера, обреченной на заклание, станет Польша, но говорить о ней англичане и французы остерегались, зная, что в Варшаве не слишком-то хорошо отзываются о Советской России. Но вот вопрос: если Гитлер пожелает напасть на Россию, то прежде всего он должен прокатиться на своих «роликах» через Польшу — это ясно; а если Сталину пожелается участвовать во всеобщей войне против Германии, то ему тоже никак не миновать Польши, чтобы выйти к рубежам Германии. Наконец, если оставить Польшу в покое, а следовать прямиком на Восточную Пруссию, то Красной Армии придется пахать гусеницами танков поля прибалтийских республик… Вот так и судачили за круглым столом, не желая касаться Польши, но все же касаясь, не желая тревожить Прибалтику, но все же тревожа ее, и тут Ворошилову подсунули записку — столь выразительную, что она достойна сохранения в анналах истории! «Клим! Коба сказал, чтобы ты сворачивал свою шарманку и — поскорее…»
Ворошилов понял, что Коба — Coco Джугашвили знает что-то такое, что ему, Ворошилову, еще неизвестно, и потому он сразу же прервал переговоры. Сталину же просто мешало присутствие в Москве англо-французской делегации, ибо он получил телеграмму от Гитлера, который предупреждал: кризис в отношениях между Германией и Польшей назрел, есть угроза, что в войну с поляками будет вовлечена и Россия, а потому он призывал Сталина к переговорам на самом высшем уровне, обещая прислать Иоахима Риббентропа, министра иностранных дел.
…В глубине души Сталин всегда восхищался Гитлером — и даже об этом умалчивать нельзя! — он явно завидовал фюреру, в очень короткий срок достигшему такой небывалой власти.
— Вот молодец! — говорил о нем Сталин. — Всех скрутил в бараний рог, а немцы молиться на него готовы. Только почему у него в концлагерях так мало народу? Всего каких-то полмиллиона… для удержания власти этого мало!
Еще в 1933 году он пытался установить с Гитлером тайные контакты, но союз между ними не состоялся по той причине, что контакта не желал сам Гитлер, называвший Сталина… «Чингисханом»! Но Сталин по-прежнему считал, что с Гитлером надо не бороться, а находить с ним точки соприкосновения, так что задачи немецкой дипломатии были облегчены. Может быть, зная о симпатиях к нему Сталина, фюрер спокойно взирал на то, как немецкие коммунисты бегут в СССР, где их сразу же ставили к стенке, как «троцкистов», «фашистов» или «шпионов».
А вот слова Гитлера, сказанные им однажды:
— Сталин, безусловно, заслуживает нашего уважения, так как в своем роде он попросту гениальный парень…
Итак, все было готово, и московский аэродром украсился флагами со свастикой. 23 августа грузно приземлились два мощных «Фокке-Вульф-200»; Риббентропа встречали согласно общепринятому протоколу, а он, выходя на трап самолета, сказал по-русски:
— Господи, даже не верится… опять я в России!
Проезжая по улицам Москвы вместе с Молотовым (они учились когда-то в одной петербургской гимназии), Риббентроп спросил, как поживает предмет их общего юношеского увлечения. Молотов понял, что Риббентроп спрашивает об Анне Ахматовой, и ответил, что она… жива. Живет и работает!
— Ты уж, Вячеслав, — дружески просил Риббентроп, — сделай так, чтобы ее ваши держиморды не обижали…
Может, не случись такой беседы, и гибель талантливой поэтессы была бы приближена, а Риббентроп невольно «спас» ее от неизбежной расправы. Сталин принимал Риббентропа очень радушно, о чем впоследствии Риббентроп рассказывал:
«Я чувствовал себя в Кремле словно в кругу своих старых партийных товарищей…»
Между гитлеровской Германией и сталинской Россией был заключен договор о ненападении сроком на 10 лет, скрепленный подписями Риббентропа и Молотова, повторяю, еще когда-то в юности вместе влюбленных в талант Анны Ахматовой… Вот после этого, читатель, и говори, что история — наука скучная!
Финал этой встречи в Кремле известен.
Сталин поднял бокал с вином — за здоровье Гитлера.
— Я знаю, — сказал он, — как немецкий народ обожает своего вождя! Так выпьем за здоровье Гитлера…
Теперь, после подписания договора, Гитлер мог не бояться, что СССР откроет второй фронт, вступаясь за поляков вместе с Англией и Францией; теперь Гитлер мог не пересчитывать свиные туши в государственных холодильниках, немецким шоферам отныне не надо разбавлять бензин чистым спиртом, — Сталин, согласно договоренности, сразу начал снабжать Германию сырьем, горючим, ценными металлами, мясом и хлебом. Любая антифашистская пропаганда в СССР была запрещена…
Конечно, такой «успех» следовало отметить хорошей выпивкой! У себя на даче, в Кунцево, Сталин устроил вечеринку. Подвыпив, «вождь народов» выразительно глянул на Калинина, и «всенародный староста», тряся козлиной бородкой, прошел перед ним вприсядку; Сталин мигнул потом Микояну — и тот, воспрянув от стола с закусками, охотно сплясал для него лезгинку.
Ах, если б я это выдумал! Увы… сохранились очевидцы, засвидетельствовавшие эту отвратительную картину, при изображении которой вспоминается Иван Грозный с его опричниками…
* * *
По улицам Берлина, в сиянии ламп и витрин, бесконечным потоком, постанывая сиренами и квакая клаксонами, катили «бенцы», «хорьки», «оппели», «испано-суизы», «лимузины», «фиаты» и «форды». Среди прохожих было немало военных, державшихся свысока, и немецкая публика, приученная обожать свой вермахт, легко определяла войсковую принадлежность: белый кант — пехота, красный — артиллерия, голубой — авиация, желтый — связисты. Возле газетных киосков выстраивались длинные очереди. Немцы торопливо разворачивали громадные (метр на метр) листы «Фелькишер беобахтер», официоза нацистской партии.
— А все-таки фюрер гениальный ловкач! — восклицали читатели. — Мигом договорился с Москвой…
В германской политике началась полоса фальшивого «ухаживания» за СССР, как за очень богатой невестой с отличным приданым, но зато с очень скверным характером. Немцы веселее стали взирать на жизнь, рестораны и пивные-бирштубе заполняла оживленная публика, рассуждая:
— Гениально… даже не верится! Украина давно лопается от избытка сала, теперь-то подкормимся. Спрашивается, зачем воевать с русскими, если они согласны торговать с нами?
Немцы читали в газетах о великих преимуществах колхозной системы, о «солнце сталинской конституции», о передовом стахановском движении на производстве. Желая окончательно задурманить мозги, Геббельс указывал, чтобы нацистские газеты выходили под девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Выезжая по воскресеньям за город, немцы дружно распевали советские песни: «Все выше, и выше, и выше стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит…»
Генерал-майор Эрнст Кёстринг, военный атташе при германском посольстве в Москве, навестив Берлин, привез патефонные пластинки с новыми советскими маршами. Отыскивая нужную, он между прочим делился впечатлениями о первомайской демонстрации на Красной площади, явившей сказочное изобилие народов СССР:
— Мимо трибуны мавзолея проволокли громадный бюст Ленина, слепленный из шоколада. Дюжина спортсменов-тяжеловесов вызвала смех Сталина, когда они показали ему колбасу, длиною в трамвай. Комсомолки в трусиках несли на себе гигантский флакон одеколона «Красная Москва»… Нашел, вот послушайте:
Гремя огнем, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход, Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин И первый маршал в бой нас поведет…У Кёстринга собрались как раз танковые генералы. Гудериан, Гот и Гепнер,
— У них разве есть первый маршал? — усмехнулся Гот.
— Ворошилов, уповающий на лошадей и тачанки.
Было смешно, а Генрих Гот не удержался от вопроса:
— Кёстринг, какова скорость их танка БТ-7?
— Шестьдесят два километра в час. Это на гусеницах, — пояснил атташе. — И восемьдесят с чем-то на катках.
— Надеюсь, по гладкому шоссе? — спросили его. — Нет, даже на грунтовых дорогах. Вы же знаете, господа, что большевики не слишком-то озабочены созданием дорог.
— Какова же броня?
— Только противопульная.
— Быстроходные самовары, — злобно фыркнул Гудериан…
Паулюса на этом вечере не было, с ним давно хотел повидаться фельдмаршал Эрвин Вицлебен, которого генерал-майор застал в состоянии нервной депрессии, почти озлобленным.
— Я всегда очень низко котировал политический курс нашего фюрера. Но теперь я никогда не прощу ему, что он заключил этот дурацкий пакт с большевиками.
Ненавидя Гитлера, фельдмаршал одинаково презирал и сталинское государство. В их беседе участвовал молодой полковник Мартин Латтман, очень близкий семье Вицлебена, и он, человек опытный, поспешно накрыл телефон подушкой.
— Так будет спокойнее… Гестапо все прослушивает. А я крайне удивлен, что попал в такую реакционную компанию.
Фельдмаршала эти слова Латтмана попросту взбесили.
— Молодой человек, — крикнул он, — попасть в компанию реакционеров « это еще не самый худший вариант в жизни!
— Стоит ли об этом? — примирительно сказал Паулюс.
Но Вицлебена было уже не остановить.
— Да, стоит! — закричал он на генерала. — Стоит, тем более что наш телефон накрыт подушкой… Разве вы Паулюс, не допускаете мысли, что этот олух, — было понятно, о ком идет речь, — способен даже вовлечь нас в войну с Россией. Я не против, но кто спасет нас от поражения?
— Между нами договор о ненападении…
— Не смешите меня! — отвечал фельдмаршал. — Скоро фюрер снесет громадное яйцо, а мы должны будем кудахтать…
6.«Зиг хайль!»
Франц Гальдер, прощаясь с Паулюсом перед его отбытием в Лейпциг, сказал как нечто уже определенное:
— Фюрер все-таки решил сохранить в СССР колхозную систему, а не раздавать землю крестьянам, так как у частника труднее выбрать продукты, а колхозы при Сталине уже давно приучены к тому, чтобы их грабили подчистую… Так что ни вермахт, ни весь народ впредь нуждаться не будут!
«Но сначала, — домыслил Паулюс, — Польша …» Перед отъездом в Лейпциг он был исполнен чувства воинского долга, но дома ему пришлось пережить неприятный момент. Конечно, жена догадывалась, ради чего он едет и что втайне готовится, а потому Елена-Констанция, аристократка до мозга костей, чересчур резко осудила и Гитлера, и весь вермахт. Не пожалела она слов и для осуждения мужа:
— Война с Польшей, которую вы начнете, «это чудовищная несправедливость. Поляки и так бедные люди, им всегда не везло, а вы собираетесь усугублять их страдания.
— Опомнись, Коко, о чем ты?
— Это вам надо опомниться. Если в семье муж и сыновья посходили с ума, то мне, матери и женщине, сам Великий Господь указал хранить свой разум в истинной святости…
С этим Паулюс и отъезжал. Ему предстояло быть начальником штаба 16-й танковой дивизии, которой командовал Вальтер фон Рейхенау и которая в Лейпциге заканчивала свое формирование. И именно эта дивизия — вот она, судьба! — стала ядром для образования 6-й армии, которой суждено сложить свои кости в Сталинграде. Впрочем, тогда никакой астролог не мог бы предугадать ее будущего, и Паулюс, прибыв в Лейпциг, сначала установил деловой контакт с Рейхенау, служить при котором не мог ни один «генеральштеблер» — все давно разбежались, как мыши при виде кота.
— Что вы хотите? — миролюбиво сказал Рейхенау. — В моих служебных формулярах четко записано, что я, спортсмен и пьяница, обладаю «нетрадиционным» характером. Я только не кусаюсь, но способен дать коленом под зад даже фюреру…
Рейхенау, кастовый офицер прусского происхождения, был, бесспорно, чертовски талантлив как водитель танковых колонн, но карьеру он сделал еще в 1933 году, сразу и бесповоротно примкнув к Гитлеру, и — так рассказывали! — его дерзости побаивался сам фюрер. Но Паулюс, будучи покладист, ладил и с этим легкоатлетическим чудовищем: Рейхенау с утра делал пробежку, бросал ядро или копье, забивал мячи в футбольные ворота, а Паулюс, как проклятый, сидел в штабе, взбадривал себя кофе и сигаретами, писал, переписывал, дописывал, вычеркивал, сокращал, уточнял, а вечером, пока Рейхенау еще не напился, он приносил ему на подпись бумаги, и Рейхенау, сверкая моноклем, говорил ему:
— Дай-ка гляну, что я там намудрил…
Где бы ни служил Паулюс, он нигде не заводил себе любимцев, никого из коллег не отличая, но в 6-й армии он явно симпатизировал адъютант-капитану танковых войск Альфреду фон Виттерсгейму, и тот, ощутив приязнь начальника штаба, иногда откровенно подтрунивал над Паулюсом:
— Вы в роли Гнейзенау при маршале Блюхере.
— А вот это не ваше дело, фон Виттерсгейм… Лучше быть Гнейзенау, чем таскать на веревке маршала Блюхера!
— Яволь! Мне все понятно, господин генерал…
1 сентября ударом небывалой силы Гитлер обрушился на несчастную Польшу. Никто в мире не мог предвидеть, какой силой обладает германский вермахт, который буквально размял под гусеницами польские гарнизоны
Европейцы по сводкам газет знакомились с неизвестными ранее именами: Клюге, Гот, Рундштедт, Клейст, Хубе, Гепнер, Рейхенау и, наконец, Роммель. Паулюс занял место в штабном танке с рацией, невольно щелкая зубами, как волк, когда машину бросало на ухабах и тут же свергало вниз. Через полоску триплекса он разглядывал, как фланирует вдали польская кавалерия, как ползут допотопные танки поляков. Паулюс приник к микрофону:
— Рейхенау, я — штаб. Цель. Справа. Видите?
И в ответ дребезжали мембраны шлемофона:
— Я команда — Рейхенау. Цель вижу. Старье! «Виккерс» и «Карден-Ллойд». Мне смешно. Из какого сарая варшавские зазнайки вытащили эти старые консервные банки?
Рейхенау, даже не стреляя, просто раскатал в блин, как на блюминге, весь этот железный и ржавый хлам времен «санации» пана Пилсудского и велел увеличить скорость. По крупповский броне звонко стучали клинки отважных варшавских жолнеров, об эту же броню ломались пики польской кавалерии. Под гусеницами танков погибло все живое…
Под Варшавой объявился Гитлер, очень довольный успехами танкистов, а Паулюс не стал выделять себя, докладывая фюреру:
— В этот момент Рейхенау подал прекрасную мысль… Рейхенау счел возможным… Рейхенау исправил положение тем, что… Рейхенау совершил невозможное…
Говоря так, Паулюс невольно вспомнил своего бедного отца с его афоризмом: «Лучше пусть не будет друзей, но только бы не было врагов…» Гитлер ласково оттягал Рейхенау за ухо, что заменяло жест сердечного поцелуя:
— Молодец, Рейхенау! Я чувствую, что вашу бесподобную шестую армию впереди ожидают великие дела…
В офицерском казино Рейхенау предложил выпить.
— Господа, — сказал он офицерам. — Напомню старую историю. После битвы при Ватерлоо великий Блюхер был однажды в обществе, где устроили игру в шарады. Был задан вопрос: кто из присутствующих способен поцеловать себя в голову? Дамы пытались целовать свое отражение в зеркалах, но это был не ответ на опрос. Вдруг поднялся Блюхер и сказал, что способен расцеловать голову. С этими словами он поцеловал голову Гнейзенау, своего начальника штаба: «Вот моя голова!» — сказал Блюхер. — И при этом Рейхенау поцеловал Паулюса…
Все было понятно, а объяснять не следует.
Рейхенау — да! — повезло, зато не повезло Гудериану.
Мощным рывком от Кенигсберга его танковый корпус возник на подступах к Бресту; город немцы взяли с налету, а крепость не сдавалась. Ее гарнизоном командовал генерал Константин Плисовский — бывший офицер царской армии. Наши историки, воспевая героическую оборону Брестской крепости в 1941 году, старательно умалчивали, что такой же героизм был присущ и полякам в 1939 году. Гудериан, образно говоря, разбил себе лоб о нерасторжимые ворота крепости, но поляки сдаваться не собирались. Три дня вокруг фортов громыхало сражение, да такое, что все горожане попрятались в подвалах, а над Брестом ветер раскручивал языки пламени. Штурм за штурмом — нет, не сдаются, а горы трупов немцев растут. Гудериан откатился назад и вызвал авиацию. Бомбы рвались, танки — вперед, из пушек — прямой наводкой. Сбили ворота, ворвались в крепость, а в ней — ни души: Плисовский ночью обманул Гудериана и тишком вывел гарнизон так, что немцы даже не заметили его отхода…
Это случилось в ночь на 16 сентября, а через день к микрофону московского радиовещания подошел Молотов…
* * *
Молотов! Так уж случилось, читатель, что пятый класс школы — последний в моей жизни — я заканчивал в городе Молотовске (ныне Северодвинск) и хорошо помню школьные учебники того времени по географии. На картах серым пятном были залиты многие страны Европы, а поверх краски было оттиснуто: «Область государственных интересов Германии». Помню, что вместе с папой я был на какой-то лекции, и лектор политпросвещения почти упоенно восхвалял гитлеровскую машину Германии, но при этом не забывал издеваться над англичанами и французами…
Итак, 17 сентября 1939 года Молотов по радио заявил о полной «несостоятельности» Польского государства, возвещая ему конец. Ни Англия, ни Франция не шли на выручку полякам, а с востока в Польшу были приведены советские войска, и бывшая великая Речь Посполитая оказалась в тисках; с запада — немцы, с востока — русские…
Одна старая женщина из Белоруссии недавно рассказывала:
— Помню, как входили красные. Сначала летели самолеты с красными звездами, и мы даже радовались, то помогут. Потом ехали конники — много-много. А когда показалась армия, мы смеялись… что такое? Шинели длиннющие, некрасивые, такому чучелу даже в плен стыдно сдаваться. Ведь наши польские жолнеры были одеты с иголочки, любо-дорого посмотреть!
Московские газеты возвещали о «братской миссии» Красной Армии, освобождающей украинцев и белорусов для их окончательного воссоединения, но в сводках командования уже появилось слово «пленные». Если мы несли на знаменах освобождение от «панского ига», то, простите, откуда могли взяться пленные? Впрочем, польские офицеры, когда им предлагали сложить оружие, зачастую тут же стрелялись. Они кончали с собой перед немцами, они убивали себя и перед советскими командирами. «Рука дружбы», протянутая Сталиным в Польшу, оказалась с острыми когтями хищника, сразу же покатились в Сибирь из Польши эшелоны арестованных, тысячи и тысячи семей были разлучены навсегда. Зачем это делалось? Или опять «враги народа»? Друзей мы не приобрели. А если врагов и не было, так они сразу появились…
22 сентября в поверженном Бресте состоялся парад.
Объединенный парад победителей — войск немецких и советских, дружно маршировавших перед трибуной, с которой их приветствовали генерал Гейнц Гудериан и комбриг С. М. Кривошеий. Оркестры гремели, над крышами домов с воем проносились немецкие «мессершмитты», а советские войска склоняли знамена, чествуя колонну гитлеровских танков…
Этот совместный парад был вычеркнут из нашей истории! Но помнить о нем надо. Будем же знать, что после парада Гудериан дружески потчевал Кривошеина, сказав ему за выпивкой:
— Поляки — храбрецы, каких мало на белом свете. Второй раз штурмовать крепость Бреста я бы не мог… сколько тут поляки положили моих парней! Теперь из Берлина приехала целая миссия, каждый день вывозят трупы солдат в Германию…
Брест вошел в состав СССР, но в праздничные дни, 1 мая или 7 ноября, в Бресте созидалась трибуна — для почетных гостей, и немецкие генералы принимали парады нашего гарнизона. Советские войска уже вступили в Прибалтику, часть польских земель Сталин передал литовцам — вместе с древним городом Вильно, в котором тогда жили одни поляки, а литовцев было меньше одного процента, но литовцы сразу превратили его в свою столицу и назвали — Вильнюс. Вступив на территорию Прибалтики, войска вели себя тактично, ни во что не вмешивались: по приказу наркома Ворошилова от 25 октября им было запрещено общаться с жителями, они не имели права отвечать на вопросы о том, какова жизнь в Советском Союзе. Если красноармейцев и выводили в город, то обязательно в сопровождении политруков, которые следили за ними, а рядовые с удивлением озирали витрины магазинов, переполненные товарами. Их шокировало, что на улицах все хорошо одеты, никто не падает с голоду, никто не молит о милостыне, нигде не видно трущоб, о которых им всегда говорили.
— Гляди-ка, — перешептывались. — Эвон, сколько колбас на витрине сразу и никаких хвостов с улицы не тянется. Это как же понимать? Ведь они же капиталисты прогнившие… Да у нас в Сызрани покажи такое — враз бы набежали с кошелками!
Страшный сентябрь, определивший трагедию миллионов людей, этот сентябрь заканчивался, и московский аэропорт снова украсился знаменами со свастикой — столицу вновь посетил Риббентроп; Гитлер уже объявил о ликвидации Польского государства, теперь СССР и Германия становились соседями, имея общую границу, и требовалось определить демаркационную линию. На карте раздела польских земель расписались Сталин и Риббентроп, при этом Сталин подмигивал своим соратникам:
— Обдурил я Гитлера… провел его…
28 сентября между Германией и СССР был заключен пакт о дружбе, и Лаврентий Берия сразу же распорядился, чтобы в концлагерях охранники не вздумалось оскорблять «врагов народа» кличками «фашист», ибо отныне все изменилось:
— Теперь слово «фашист» уже не может быть ругательным.
31 октября на сессии Верховного Совета Молотов указал советским людям, как правильно все понимать:
— Оказалось достаточно короткого удара по Польше со стороны сперва германской армии, а затем Красной армии, чтобы ничего не осталось от Польши, этого уродливого детища Версальского договора… Идеологию гитлеризма, — я цитирую Молотова, — можно признать или отрицать. Но любой человек поймет, что идеологию нельзя уничтожить силой. Поэтому не только бессмысленно, но и преступно вести такую войну, как война за уничтожение гитлеризма, прикрываемая фальшивым флагом борьбы за демократию… Теперь Германия находится в положении государства, стремящегося к миру, тогда как Англия и Франция стоят против заключения мира…
С ног все было переставлено на голову. Отныне — в глазах советских людей — Гитлер должен выглядеть миротворцем, а демократы Англии и Франции переходили в разряд «поджигателей войны». Сталину теперь казалось, что перед ним открыта дорога на Запад, а в Берлине исподтишка уже готовился поход на Восток.
…Я заканчиваю. 1 сентября 1939 года стало первым днем второй мировой войны, и в этот же день в СССР был принят «Закон о всеобщей воинской обязанности». Сопоставьте эти события, и вы сразу почуете приторный запах пороха. Затем была ликвидирована трудовая пятидневка с семичасовым рабочим днем, рабочие и служащие потеряли право переходить с одной работы на другую. Шумели? Да еще как шумели.
— За что кровь проливали? За что боролись? За что боролись, как говорится, на то и напоролись. Теперь стоило опоздать на работу хотя бы на пять — десять минут, и можно было закончить жизнь за колючей проволокой. Но Сталин, кажется, уже начал понимать, что мы опаздывали. Нас уже обгоняли. Советский Союз отставал, и никакие рекорды, никакие стахановцы не могли скрыть это всеобщее отставание…
* * *
Ничего для себя поучительного, кроме ужасов, Паулюс из польской кампании не вынес. Но из опыта боев были выделены два главных требования к насыщению вермахта — это полная моторизация, это устойчивая радиосвязь.
Паулюс вернулся в Берлин, устало сказав жене:
— Наши «ролики» крутились исправно. Правда, случались неувязки организационного порядка, но они легко устранимы в следующих кампаниях… скорее всего, во Франции.
— О Боже! — разрыдалась Коко.
В эти же дни Гитлер, будучи в хорошем настроении, решил поговорить с начальником генштаба Францем Гальдером;
— Вам надо знать, что все захваченные польские земли отныне следует считать только удобным плацдармом для стратегического развертывания войск ради полного уничтожения большевистской заразы. Но выступать против России мы сможем лишь тогда, когда у нас будут развязаны руки на Западе…
«Зиг Хайль!» — ревели на улицах, и этот возглас означал: «Да здравствует победа!»
7.«Ролики» и колеса
Немецкая разведка работала хорошо, и на основании ее докладов Гитлер убежденно говорил, что Россия сейчас ослаблена, как никогда, изнутри политическими процессами, а ее армия имеет очень низкую боеспособность. Отчасти он был прав. Постоянные репрессии выбили почти все командные кадры, дивизиями теперь командовали капитаны, иногда и ротные командиры. Известно по этому поводу мнение Семена Буденного:
— Не беда! За годик любого подучить можно.
— Верно, — поддерживал его нарком Ворошилов. — Кто командовал хоть взводом, тот может командовать и армией…
Стыдно сказать, что в нашей академии Генштаба перед войной еще читались лекции об устройстве зимних саней, слушателей знакомили с конной упряжкой, им следовало знать назубок убогий инвентарь обозного имущества. Генерал И. М. Голушко вспоминал, что слушатели академии, заполняя аудитории перед начался лекций, с некоторой ехидцей спрашивали один другого:
— Какая у нас тема сегодня? Теория хомута и оглобли? Или станем подводить марксистскую базу под колесо телеги?
Все это было, к великому сожалению. «Моторизация» — на словах, а на деле — кобыла в упряже. Между тем адептов верховой езды было немало, и Буденный открыто возвещал:
— А что? Лошадь да тачанка еще себя покажут…
Другой апостол лошадиной тактики, Ефим Щаденко, будучи замнаркома, подпевал кремлевской кавалерии в газете «Правда»:
«Сталин, как великий стратег и организатор классовых битв, правильно оценил в свое время конницу, он коллективизировал ее, сделал массовой, и вместе с К. Е. Ворошиловым он вырастил лошадь на горе врагам пролетарской революции…»
Обо всем этом знали в Берлине, где «Правду» тоже почитывали, и в один из осенних слякотных дней Паулюс встретил Гудериана, который, будучи в праздничном настроении, завлек его в ближайшее кафе. С нажимом на слове «нас» он сказал:
— Нас, танкистов вермахта, можно поздравить.
— С чем? — не понял его Паулюс.
Они заказали по чашке кофе с птифурами. Гудериан дымил очень дорогой сигаретой «Равенклу», Паулюс закурил сигарету «Аттика». Гудериан со смехом сказал, что слона можно учить бесконечно, но ловить зайцев он все равно не научится:
— Это относится к русскому генералу Кулику, любимцу Сталина, который служит чуть ли не главным специалистом по вооружению. Не так давно Кулик собрал всех кавалеристов, и они совместно постановили расформировать танковые корпуса.
Было время нарастания танковой мощи, когда в мире уже вызревал вопрос не только о корпусах, но даже танковых армиях, а потому Паулюс даже не хотел верить в услышанное.
— У меня, — сказал он, — ваша информация с трудом укладывается в голове… абсурд! Или русские спятили?
Гудериан объяснил, в чем дело. После репрессий некий лейтенант Яркин, командир батальона, мигом обрел чин генерала и стал командовать танковым корпусом. Когда начался поход на Польшу, этот «герой» по глупости потерял управление корпусом, наделал массу глупостей, и Кулик принял решение.
— Если, мол, Яркин не мог справиться с корпусом, так и другие не могут. Потому, — заключил Гудериан, — танковые корпуса в Красной Армии уничтожили. По сему поводу закажем коньяку, чтобы отпраздновать нашу бескровную победу… Тем более, на улице такая дрянь, такая слякоть.
Они выпили и, собираясь уходить, Гудериан медленно натягивал перчатки. Заранее поднял воротник шинели и склонился над Паулюсом, прошептав ему на ухо:
— Последняя информация. Только что получил оттуда. Уровень боевой и особенно тактической подготовки советских генералов не превышает уровня знаний германского лейтенанта. Хайль Гитлер! — выкинул Гудериан руку, прощаясь.
— Хайль, — отозвался Паулюс, допивая кофе…
Гудериан уже не раз выезжал в Финляндию, чтобы инспектировать оборонные сооружения знаменитой «линии Маннергейма».
* * *
Интуиция, на которую столь часто уповал Гитлер, не подвела его и на этот раз: Англия и Франция лишь 3 сентября очень неохотно, даже с какой-то ленцой объявили ему войну, но в Лондоне и Париже палец о палец не ударили, чтобы спасти от разгрома несчастную польскую армию. Началась война, которую называли «странной», и она, эта война без выстрела, затянулась до самой весны следующего года. Возле Саарбрюккена французы вывесили над своими траншеями плакаты: «Мы в этой войне не выстрелим первыми!» Правда, над Лондоном по вечерам повисали воздушные аэростаты, небо над Парижем иногда пронзали лучи прожекторов, но все было спокойно, и немецкие солдаты — прямо с фронта — целыми эшелонами ездили по своим домам, чтобы целовать невест и жен, и при этом весело распевали:
Меня и все желанья, войдя в земную глубь, пробудит заклинанье твоих влюбленных губ.
Труба играла нам отбой, а я опять, опять с тобой, Лили Марлен, Лили Марлен…
Паулюс тоже не раз наведывался в Берлин, оставив Рейхенау лакать шампанское, играть в теннис и я в карты.
— Так воевать можно без конца, — говорил он жене. — Иногда я сравниваю бойню времен кайзера с этой войной и начинаю верить в гениальность нашего фюрера, который говорил, что если противники блефуют, то почему бы и ему не блефовать?
— Но все-таки война, Фриди, а я — жена. Жена и мать!
— Ах! — морщился в ответ Паулюс. — Ты бы хоть раз видела эту войну… На линии Мажино французы зазывают наших солдат «на чашечку кофе», а наши солдаты любезно приглашают французов «на кружку мюншенера». Кое-где даже играют в футбол — между собой. Так что ты, Коко, не волнуйся…
Между тем после польской кампании гитлеровцам опять повезло: Сталин объявил Финляндии войну, которую у нас много лет стыдливо именовали «зимней кампанией 1939 — 1940 годов» или скромнейше называли эту войну «зимним вооруженным конфликтом». Немцам же повезло по той причине, что, пристально наблюдая за боями на Карельском перешейке, они по сути дела ставили точный диагноз всем потаенным болезням, которые уже достаточно ослабили Красную Армию за годы глупого шапкозакидательства. Во-первых, немцы убедились, что русские тоже из костей и из мяса, а потому страдают от жестоких морозов, как и все люди на свете. Моторы танков не заводились, танкисты всю ночь подогревали их кострами, разведенными под днищами машин. Немецкие офицеры издавна служили в финской армии инструкторами, и потому их не удивляла маневренная подвижность лыжных батальонов, тогда как советские войска, увязая в сугробах, маневрировать не умели. Сталин надеялся расправиться с финнами за две недели, но с первого же дня боев его дивизии попали в окружение и были разбиты, а жестокие приказы не помогали — армия топталась на месте. Весь финский народ сплотился в эти дни воедино, чтобы дать отпор сталинским претензиям. Немецкие наблюдатели докладывали Францу Гальдеру:
— Русский солдат остается хорошим в любых условиях. Удивительно стойким и выносливым, но советское командование ни к черту не годится. Москва обвиняет своих офицеров в измене и в трусости, но они просто не научены воевать…
Лишь в конце года советские войска с трудом подошли к линии Маннергейма, но прорвать ее не могли, Сталин материл Ворошилова, а тот предлагал усилить репрессии: «Провести радикальную чистку корпусов, дивизий и полков. Вместо трусов и бездельников (сволочей тоже немало) выдвинуть…» Кулик или Щаденко с их тачанками до Хельсинки никогда не доскачут, и послал Льва Захаровича Мехлиса, чтобы перестрелял негодных.
— Расстреливать, — велел он Мехлису, — приказываю перед строем личного состава, чтобы напугать всех…
Мехлис перестрелял так много невинных, что вызвал даже протест военной прокуратуры. Но армия с места не сдвинулась, замерзая по-прежнему. И тогда Сталин назначил командующим С. К. Тимошенко. Подтянули свежие войска, бросили в прорыв танки, авиацию — и лишь в конце февраля Тимошенко, после длительной паузы, повел армию на штурм линии Маннергейма.
Англия и Франция очень хотели бы помочь Финляндии своими войсками, но 5 марта 1940 года Швеция заявила, что войска союзников через свои порты не пропустит. Стокгольм советовал финнам начать переговоры с Москвой. Война закончилась штурмом Выборга; за 105 военных дней наша армия потеряла около 300 000 человек, но… Что выиграл Сталин?
Ничего. Напротив, он проиграл: весь мир убедился в слабости его армии, коммунисты других стран не понимали, почему СССР оказался в роли агрессора, и, наконец, итог всей войны подвела Лига Наций — Советский Союз был исключен из числа ее членов как агрессивная держава. СССР оказался в политической изоляции. Но самое страшное, что война с Финляндией приблизила сроки нападения Германии.
— Русские совсем разучились воевать, — говорил Гитлер. — Наверное, они только и ждут, чтобы с ними разделались. Но сначала мы поучим зарвавшихся англичан и французов.
Сталин после войны пребывал в удрученном состоянии.
— Дурак ! — честно и справедливо сказал он Ворошилову.
Климент Ефремович возражать не осмелился и вместе с Буденным парился в бане на своей даче, а пока они парились, генерал Ока Городовиков (тоже кавалерист) играл им на баяне самые популярные мелодии, наркомам не было скучно:
Ах, тачанка-ростовчанка, Наша гордость и краса, Пулеметная тачанка — Все четыре колеса…Закончив играть, Ока Городовиков спросил Буденного:
— Семен, всех берут. Неужто и нас посадят?
Буденный утешил друга:
— Нас не коснется. Берут-то ведь только умных…
* * *
А здесь играли на губных гармошках:
По соседству от казармы у больших ворот столб стоит фонарный уже не первый год. Так приходи побыть вдвоем со мной под этим фонарем, Лили Марлен, Лили Марлен…Ранней весной все песни кончились заодно с этой очень «странной» войной: вермахт вдруг перешел в активное наступление, какого союзники не ожидали. Кажется, в Лондоне и Париже все еще надеялись, что Гитлер, блефуя перед ними, блефующими, развернет свои силы против России, но…
Кто бы мог тогда ожидать удар такой силы?
Паулюс с удовольствием выслушал признание Виттерсгейма:
— Если вы, генерал, по-прежнему останетесь начальником штаба в нашей шестой армии, то Рейхенау, я думаю, снова предстоит целовать вашу голову вместо своей…
Шестая армия Рейхенау уже считалась «элитарной» в вермахте; и Паулюс сам понимал, что авторитет этой армии был следует поддерживать. Под траками гусениц раздроблена свобода нейтральных Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии и Люксембурга. В канун удара по Франции немецкие самолеты забросали Мажино открытками с надписями «Приятель, поверни ее против света, и ты сразу поумнеешь!» Глядя на открытку против солнца, французский солдат видел парижанку, спавшую с англичанином из британского корпуса, который Черчилль благоразумно расположил в тылу — позади фортов линии Мажино. Такова была пропаганда Геббельса.
— Умейте плевать в открытую рану, — поучал он
Генералам Франции казалось, что достаточно отсидеться под землей на линии Мажино — и победа придет сама по себе. Немцы так и оставили их сидеть в фортах, а германские танки обошли их стороною, нанося удар во фланг, и через пять дней в Лондоне на квартире Черчилля раздался истерический звонок от Рейно, премьер-министра Франции.
Диалог между ними строился таким образом:
Рейно: Мы разбиты вдребезги, война проиграна,
Черчилль: Но это невозможно… так быстро?
Рейно: Немцы прорвали фронт, их танки идут лавиною, за ними движется с автоматами колоссальное количество пехоты… она у Гитлера вся мотомеханизирована!
Черчилль: Послушайте, Рейно, надо как-то держаться.
Рейно: Как держаться? Как, если их пехота слишком подвижна, ее силы не убывают. У пикирующих бомбардировщиков действие сокрушающее. Франция проиграла войну.
Английская экспедиционная армия спасалась в сторону моря. Рейхенау в горнолыжном костюме, как бравый чемпион, сидел поверх брони танка и солдатским тесаком резал на восемь кусков громадный торт-безе с цукатами. Хохотал:
— Сколько мы потешались над «ефрейтором», Паулюс, а ведь он всегда прав. Надо держаться этого чудака, который воротит морду от жирного шницеля с пивом. В конце концов, он недорого и обходится нации. Пожует травки, как зайчик, и — сыт! Зато мы уже отхватили пол-Европы и попрем дальше…
Гальдер вызвал к себе молодого цветущего полковника Адольфа Хойзингера, служившего по оперативным делам. Между прочим, не акцентируя его внимания, он спросил его:
— А что там с генералом Пуркаевым?
— Уже сидит на нашем крючке. Вряд ли сорвется. Страх перед Сталиным заставит его служить нам…
Генерал Пуркаев занимал в Берлине пост военного атташе — такой же пост, какой со стороны немецкого командования занимал в Москве генерал Эрнст Кестринг.
8. Карьеры
Максим Алексеевич Пуркаев был еще сравнительно молод, революция застала его в чине прапорщика. Крестьянский сын, он теперь выглядел природным интеллигентом, а пенсне как бы подчеркивало строгость его внешнего облика…
Немцы встретили военного атташе очень приветливо. Они приготовили для него в Берлине богато обставленную квартиру, в которой его уже поджидала прислуга — немка по имени Марта, женщина почти вызывающей красоты. Пуркаев просыпался, а Марта уже была на пороге спальни — с подносом, поверх которого дымилась чашка крепкого кофе, благоухали ароматные булочки.
Гитлер в аудиенции с атташе был крайне любезен.
Пуркаев не раз выезжал на маневры вермахта. От него, казалось, ничего не скрывают, и — верно! — он побывал даже в Цоссене, где секретно размещался «мозг» всей армии Гитлера. Гальдер тоже принимал Пуркаева у себя, держался очень просто, почти дружелюбно. Но далекий от дипломатии Максим Алексеевич не распознал один тонкий намек Гальдера.
— Почему вы, — сказал Гальдер, — и при вашем уме, потенциальный начальник штаба фронта, занимаете всего лишь скромный пост военного атташе? Может, у вас недоброжелатели в Москве? Такое бывает с людьми талантливыми…
Чтобы не быть глухим и немым в общении с генеральштеблерами, Пуркаев обзавелся учительницей немецкого языка, старательно, как школяр, зубрил всякие там «плюсквамперфекты».
В один из дней на его квартире зазвонил телефон:
— Вас, господин Пуркаев, беспокоят из Цоссена, не могли бы вы уделить время для визита нашего офицера?
Явился некто и с первых же слов предложил Пуркаеву работать на разведку абвера, причем немцы не крохоборствовали, обещая создать для атташе сладкую жизнь:
— Включая в меню и… Марту! Вы же не станете отрицать, что такие женщины на панелях не валяются. В случае же отказа мы всегда сумеем подобрать досье, порочащее вас, и тогда расправа Сталина будет короткой.
Пуркаев встал, чтобы вышвырнуть гостя из квартиры, но тот веером раскрыл на столе серию фотографий:
— Это вы, а это… Марта! Станете рыпаться, и через два дня эти фотографии окажутся у вашего генерала Филиппа Голикова, что возглавляет всю разведку вашего Генштаба.
Пуркаев этих фотографий не отдал:
— Пошел вон! Мое дело. Сам влип. Сам выпутаюсь… Максим Алексеевич сознавал, что его ожидает, и все-таки, пересилив себя, продуманно вышел на связь с Генштабом,
— Срочно отзывайте меня, — сказал он Голикову.
Вечерний самолет «люфтганзы» подхватил атташе и понес в Москву — на расправу. В Генштабе он сказал:
— Вы знаете, как я отбрыкивался от назначения в Берлин, а теперь смотрите, что получилось… Да, виноват. Черт с вами, бес со мной, но я не буду скрывать даже фотографии. Судите. Виноват. Сами видите, какая красивая попалась мне стерва. Но генерал Пуркаев не был предателем и никогда не будет!
— А в этом мы еще разберемся, — помрачнел Голиков…
В машине окна были задернуты непроницаемыми шторами. По шуму Пуркаев определил, что открываются железные ворота. Повели в камеру, оставили одного. Прошел день, миновал второй. Ни еды, ни воды не дали. Он утолял жажду быстро протекающей водой из унитаза. Ночью явились:
— Выходи. Руки назад. Без разговоров.
Снова посадили в ту же машину. Куда везут — неизвестно. Скрипнули тормоза. Куда попал, не понять. Его привели в кабинет, а там… «отец родной»! — Руки держать свободно. Следовать за нами. Ни здравствуйте, ни до свидания — полное молчание.
— Товарищ Пуркаев, — вдруг сказал Сталин, медленно прохаживаясь вдоль обширного стола, — вы можете не сомневаться в моем доверии и сразу же возвращайтесь в Берлин…
Что ответил Пуркаев? Ничего. Повернулся и вышел.
Немцы были изумлены, когда он снова появился в Берлине, зато из его квартиры мигом исчезла прекрасная Марта. Гестапо решило выжить из Германии неподкупного атташе. Стоило ему выехать на маневры, отказывал в машине мотор. В кармане обнаружился шпионский мини-фотоаппарат. Пуркаев вернул его Хойзингеру со словами: «Простите, это уже работа карманников, а не порядочных генштабистов». Учительница немецкого языка пропала. Пуркаева вызвали в полицай-президиум Берлина, где криминаль-генерал Артур Нёбе сказал, что против него заведено уголовное дело:
— Вы посягнули на честь немецкой женщины, обучавшей вас нашему языку, о чем и поступила жалоба из ведомства Риббентропа. На допросах она все подтвердила, а мы подтверждаем ее показания фотоснимками синяков и ссадин, оставленных вами на теле женщины при попытке ее изнасилования.
Странно! Почему-то обвинения исходили из канцелярии Иоахима Риббентропа, и Пуркаев отвечал Нёбе:
— Министерство иностранных дел — лишь для отвода глаз, а синяки и ссадины — следы избиений в гестапо. Догадываюсь, какова цена признаний этой несчастной женщины. Или вы освободите ее, или я устрою всем вам хороший скандал в печати.
— «Правда» не станет печатать, как вы спали с Мартой и насиловали учительницу, — смеялся Нёбе.
— Помимо «Правды», — отвечал Пуркаев, — есть немало других газет, которые охотно опубликуют мои слова о том, какими провокациями вы занимаетесь.
Через год, уже на фронте, Максим Алексеевич рассказывал: «Абсурдность обвинений ни у кого не вызывала сомнений, ко решено было не обострять из-за этого отношений (между Москвой и Берлином, добавлю я от себя). Вот так и кончилась моя военно-политическая карьера, о чем я, впрочем, нисколько не жалею…»
Пуркаев прошел через многие битвы Великой Отечественной войны и скончался в 1953 году депутатом Верховного Совета СССР. Но до конца своих дней Пуркаев не понимал, почему так легко отделался и почему Сталин при свидании с ним казался каким-то отвлеченным. Даже растерянным… Почему он сразу не сделал из него «врага народа»?
* * *
Сталин уже понял, что финская кампания не принесла ему благоухающих лавров, напротив, она обнажила перед всем миром многие язвы его диктатуры. Он указал Берии пересмотреть списки репрессированных командиров (а это, читатель, почти пятьдесят тысяч имен), и не все они, но кое-кто были выпущены из концлагерей и отправлены за счет казны в санатории, чтобы очухались, а заодно и вставили выбитые на допросах зубы.
Теперь требовался тот самый легендарный «стрелочник», который всегда виноват, и Сталин нашел его моментально в своем легендарном и «железном» наркоме, от которого ничего путного ожидать не приходилось.
— Это ты, Клим, виноват во всем, — говорил он Ворошилову, — кто, как не ты, погубил лучшие кадры армии и флота?
— Конечно, — огрызался Ворошилов, — теперь на меня всех собак можно вешать. Не я же сажал и не я выносил приговоры, я ведь только подписывал уже готовые…
Сталин стал понимать и другое: время лихих тачанок давно отшумело, а Тухачевский и прочие, последовавшие за ним в небытие, были правы, настаивая на моторизации армии, чтобы она не таскалась на телегах, а следовала за танками. Теперь Ворошилов попросту мешал Сталину, и 7 мая он спровадил его с поста наркома обороны. Дабы поднять сильно пошатнувшийся престиж Красной Армии, тогда же были введены звания маршалов и адмиралов. Георгий Константинович Жуков стал генералом армии, а в маршалы Сталин произвел Кулика, Шапошникова и, конечно же, Семена Константиновича Тимошенко, которого и назначил на пост наркома обороны. Для придания значимости этой новизне в центральных газетах публиковались поименные списки военачальников с приложением их фотографий (чему страшно обрадовались в Цоссене немецкие вояки, связанные с вопросами разведки, и адмирал Канарис в абвере).
Сталин считал себя большим знатоком авиации, именуясь в стране «лучшим другом советских летчиков». Но дела в авиации были плохи. Она побивала мировые рекорды, но к войне не была готова. Самолеты страдали многими изъянами. Плохо было и с начальниками Военно-Воздушных Сил, ибо в своих кабинетах они долго не задерживались, сразу оказываясь «врагами народа». Сталин решил «омолодить» авиацию, сделав ее начальником генерала Павла Рычагова, симпатичного веселого парня, который сражался в небе Испании под именем Пабло Паланкаре. Он сбил над Мадридом шесть немецких самолетов, а потом и сам был подбит, опустился с парашютом в самом центре столицы — на бульваре Кастельяно, а свидетели его боя, испанцы, тут же подарили ему целый пароход апельсинов. Парню было всего тридцать лет, когда Сталин призвал его к себе и был так чуток, так внимателен, что казалось, он вот-вот прижмет Рычагова к сердцу и расцелует в уста.
— Работайте спокойно, — заверил его Сталин. — Это Ежов с Ворошиловым много навредили, погубив хороших летчиков, но теперь этому не бывать… Я вам верю!
Маршал Тимошенко (отдадим ему должное) иногда резал правду-матку в глаза, и по этой причине Сталин предпочитал беседовать с ним наедине, чтобы не было лишних свидетелей.
— Товарищ Тимошенко, как работается? Я убежден, что Гитлер, пока не разделается с англичанами, воевать на два фронта не осмелится. Англию он, безусловно, захватит, по моему мнению, не ранее конца сорок второго года, а к тому времени мы будем готовы отбить любое нападение… Вы, товарищ Тимошенко, следите за событиями на Западе?
— Конечно, товарищ Сталин.
— Вот и отлично. Работайте. Я вам верю…
Московские поэты сразу учуяли, куда подул ветер, они перестали восхвалять славную конницу, герои гражданской войны с шашками наголо перестали вызывать у них судороги вдохновения, и однажды Сталин, принимая парад с трибуны Мавзолея, услышал новые слова всюду поспевающего Лебедева-Кумача:
По-над Збручем, по-над Збручем Войско красное идет. Мы врагов своих проучим — Тимошенко нас ведет…В цокоте копыт кавалерии, распевавшей эту песню, Сталин не расслышал всех слов и спросил Ворошилова;
— Кто? Кто их ведет?
По щеке бывшего «железного» наркома капнула слеза:
— Не я… Тимоха …
Иосиф Виссарионович пожалел своего друга, сказав:
— Что за глупости? Запретить эту песню…
Между СССР и Германией существовали договорные отношения о торговле, не всегда выгодные для нас, зато очень выгодные для немцев. Экономическое положение внутри СССР было тогда мало кому известно, но правительство оно не могло радовать. Темпы развития не только замедлялись, но даже снижались. Урожаи резко уменьшились, выпуск автомобилей сократился на четверть. Сталин в это время щедро насыщал Германию хлебом и нефтью, лесом и золотом. Недаром же Лев Троцкий, живший тогда в Мексике, свою злую статью об услугах вождю Германии так и назвал: «Сталин — интендант Гитлера »; в этой статье Троцкий писал, что Сталин «больше всего боится войны. Об этом слишком ярко свидетельствует его капитулянтская политика… Сталин не может воевать при всеобщем недовольстве рабочих и крестьян и при обезглавленной им армии… Германо-советский пакт есть капитуляция Сталина перед фашизмом в целях самосохранения советской олигархии» (иначе говоря, Сталин дрожал за свое кресло в Кремле!).
Я, автор, не принадлежу к числу поклонников Троцкого, но здесь я вынужден с ним согласиться. Да, политика Сталина была капитулянтской. Иначе чем объяснить, что он позволил гитлеровцам очень многое? Так, например, из Берлина вдруг от него потребовали допустить на территорию СССР тех немцев, что желали бы разыскать могилы родственников, погибших в войне 1914 — 1918 годов! Какие, спрашивается, там «родственники», о каких «могилах» шла речь? Сталин — вот где измена народу! — допустил в свою страну матерых шпионов, которые вполне свободно, уже не боясь ничего, рыскали по СССР — от Балтики до Черного моря, всевидящие, всеслышащие, всепонимающие..,
В мае Сталин велел расстрелять в Катынском лесу польских военнопленных. Многие из них, уже стоя над рвом, наверное, горько жалели, что не пустили себе пулю в лоб, когда начинался «освободительный» поход Красной Армии. Тогда же, в мае, Сталин, сильно озабоченный, вызвал Тимошенко:
— Мы, кажется, допустили большую ошибку, уничтожив корпусную организацию танков. Вы только посмотрите, товарищ Тимошенко, что происходит сейчас на Западе… А почему? Потому что у немцев массы танков открывают дорогу пехоте.
Срочно воссоздавали крупные мотомеханизированные соединения, номера которых зачастую лишь значились на бумаге, ибо для полного формирования корпусов не хватало даже грузовиков, не хватало для механизации даже… лошадей!
— А лошадь себя еще покажет, — твердил Буденный.
* * *
Мир застыл в откровенном ужасе. Много позже генерал Шарль де Голль пришел к выводу: «Наша пехота ничего не решила, а немецкая — ничего не сделала!» Это правда. Ибо все решила авиация Гитлера, все сделали танки, явно третировавшие роль инфантерии. На полях Франции, где догнивали мертвые французские батальоны, родилось новое военное откровение.
— Танкам совсем не обязательно, — объявил Гот, — чтобы их поддерживала пехота. Танки сами по себе способны смело погружаться в глубину обороны противника, при этом даже не озираясь по флангам… Гудериан был прав, танки — вперед!
Так самые ранние теории Эймансбергера становились достоянием насущной практики… Вон он — блицкриг!
24 мая, когда англичане, прижатые к Дюнкерку, уже готовы были бросаться в волны Ла-Манша, последовал «стоп-приказ» фюрера: панцер-дивизиям Гота и Рейхенау — ни с места.
Медленно остывали перетруженные танковые моторы.
Дюнкерк пылал, и от самых окраин города до черты прилива бушевало море огня, из разбитых нефтехранилищ вытекала вязкая нефть, охваченное пламенем, горело даже море. Видеть, как англичане спешат на посадку по своим кораблям и баржам, было для Рейхенау невыносимо.
— Черт его побери! — бушевал он. — Фюрер и в самом деле тупой ефрейтор. Что нам стоит спихнуть Черчилля в море?
Никто (и даже Паулюс) не понимал тогда странного распоряжения Гитлера, позволившего англичанам грузиться на корабли и уплывать в объятия своих нежных мисс и миссис. На самом же деле все было просто: Гитлер, задержав свои «панцеры» на полном форсаже моторов, как бы великодушно приглашал британский кабинет к мирному танцу, чтобы потом… о, потом!
Гитлер сам прибыл на побережье, чтобы насладиться редкостным зрелищем удирающего врага. Он с удовольствием обозревал груды брошенной на берегу техники, завалы оружия, массу офицерских чемоданов, уже раскрытых, из которых высыпались чьи-то женские и детские фотографии, носки, бритвы, туалетное мыло, колоды карт, бутылки…
— Прекрасно! — сказал Гитлер, насладившись лицезрением этого позора англичан. — Разбитая армия иногда нуждается в том, чтобы противник устраивал ей «золотой мост», как во времена Валленштейна или Евгения Савойского… Пусть они вернутся в Англию, чтобы все англичане видели, как они разгромлены.
Англия спасалась. Франция капитулировала. Германия торжествовала, колокола звонили, а сто фанфаристов, собранных Геббельсом в единую команду, возвещали победу по радио…
28 июня 1940 года Гитлер заявил Кейтелю:
— Война против России — после победы над Францией — будет для нашего вермахта вроде детской игры в куличики…
Победители, войдя в Париж, спешили в Дом Инвалидов, чтобы запечатлеть себя на фоне гробницы Наполеона, а сам Гитлер позировал перед Эйфелевой башней, сказав фотографу:
— Валяйте, Гофман! Вот в такой позе… Скоро вам придется снимать меня на фоне Букингемского дворца, затем в московском Кремле и, наконец, на зеленой лужайке возле Белого дома… На всякий случай приготовьте светофильтры для съемок на скале Гибралтара и возле пирамид египетских фараонов.
В эти дни он получил сердечное поздравление от бывшего германского императора Вильгельма II, поджигателя первой мировой войны. Проживая в Голландии, уже оккупированной войсками вермахта, экс-кайзер сразу в Гитлере продолжателя своего дела, он снова о разгроме России, заранее благословив своих внуков на служение в войсках СС… Паулюс привез из Парижа дорогие духи от фирмы Коти.
— Очень тонкий аромат, — одобрила Коко его выбор. — У тебя, милый Фриди, всегда был хороший вкус.
Паулюс склонил голову, целуя руку жены с тонкими изящными пальцами природной аристократки.
— Боже! — воскликнула она. — Фриди, у тебя… лысина?
— Война, — вздохнул он. — Что делать, Коко? Война… Зато отныне ты стала женой генерал-лейтенанта, разве плохо?
— Хорошо, Паулюс, хорошо… опять возвышение!
9. Возвышение
Англия готовилась отражать нашествие вермахта на свои острова. То, что не удалось Наполеону, вполне доступно для Гитлера, которому чертовски везет… Вот и командный пункт истребительной авиации. Уинстон Черчилль с сигарой во рту, сердито сопя, концом трости постучал в железную дверь.
— Можно войти? — и показалась сначала его сигара.
— Можно, — отвечал вице-маршал Паркер. — Но сначала выплюньте эту головешку изо рта, сэр. Здесь не курят.
Черчилль, не споря, расстался с сигарой.
— Где тут радары, чтобы видеть этих разбойников?..
По серебристым экранам локаторов скользили, словно рыбки в аквариуме, короткие тире отражений бомбардировщиков, пролетающих для бомбежки. Лондон жил в тревоге: придет Гитлер или не придет? Чтобы поиграть на нервах англичан, самолеты люфтваффе, вперемежку с бомбами, сыпали листовки: «Не волнуйтесь! Он все равно придет». Отряды юнцов из организации Гитлерюгенд браво распевали на улицах городов Германии. Немецкие интенданты всюду скупали пробку для выделки спасательных поясов, дабы Уайтхолл наглядно убедился, что Германия готовится к прыжку через Канал… Паулюс писал:
«У меня сложилось впечатление, то как командующий сухопутными силами (Браухич), так и начальник генерального штаба (Гальдер), верили в серьезность намерения Гитлера осуществить высадку десанта».
Операция по высадке вермахта на берегах Англии называлась «Морской Лев», и эта операция была спланирована Адольфом Хойзингером, ведавшим оперативными делами в генштабе…
Берлин еще не ведал бомбежек. По радио часто звучали торжествующие мелодии, призывая к вниманию, после чего Ганс Фриче с восторгом зачитывал военные сводки; победа, опять победа… С красочных афиш смеялась белозубая Марика Рокк, приглашавшая любоваться ею в кинобоевике «Девушка моей мечты»; другая «нимфа фюрера», еще более знаменитая и даже наглая, Лени Рифеншталь позировала на экранах, пропагандируя святость идей нацизма. Гитлеру она однажды сказала: «Можете выбирать — я или Геббельс? Но я лучше…» Однако за всей этой берлинской суетой ощущалось и нечто другое. В немцах, как бы они не бодрились, чувствовалась какая-то подавленность, смех казался наигранным, подразумевалось, что они даже едят, не чувствуя вкуса еды. «В чем дело?» Один турецкий дипломат, будучи проездом в Берлине, сказал своему приятелю-берлинцу:
— Я не понимаю, кто проиграл войну — неужели… Германия? Вы все немцы напоминаете мне детей, которые не в меру нашалили, а теперь боятся быть наказанными строгой бонной.
— Ваша правда, герр Караосман-оглы, — отвечал приятель. — Кому-то из нас придется потом отвечать за разбитые горшки на чужой кухне. Как бы всем нам не пришлось расплачиваться…
На оживленном Курфюрстендаме Паулюс случайно встретил Гейнца Гудериана, чем-то явно озабоченного.
— Мне сейчас здорово влетело, — сообщил он. — В рейхсканцелярии подсчитали, что мои танки сосут горючее в четыре раза быстрее, нежели в других армиях мира. Чем же мы виноваты, если так воспитаны: мотор, форсаж, атака! Везет же этим русским, — вдруг позавидовал Гудериан. — У них в Москве стакан газированной воды с сиропом продается во много раз дороже целого литра бензина. Нам бы такие цены!
Паулюс был рад видеть сыновей-близнецов живыми и невредимыми, и как-то Эрнст завел с отцом разговор:
— Папа, ты разве ничего не слышал?
— А что слышал ты?
— Я в Вюнсдорфе оказался случайным свидетелем беседы двух генералов, они говорили, что сейчас в вермахте есть два человека, которых ожидает возвышение! Это Манштейн и… Паулюс!
— Очевидно, преувеличение?
— Нет, папа, Фридрих, мой брат, тоже слышал, что кадровом отделе вермахта вам обоим, тебе и Манштейну, уже предсказывают большую карьеру… там, на самом верху!
Паулюс, пожав плечами, оставался скромен:
— На меня падает отблеск успехов шестой армии, хотя мне с этим забулдыгой Рейхенау уживаться не всегда-то легко. Никогда не знаешь, какой он завтра выкинет фортель.
Берлин после победы вермахта богател. Витрины магазинов украшали грандиозные айсберги сливочного масла из Дании, горькими слезами «плакал» голландский сыр, женщины ломились в универмаги, расхватывая по дешевке платья парижского покроя. Голландия, эта извечная ювелирная лавка Европы, одаривала немок кулонами, браслетами и ожерельями. Паулюс, отвоевав, теперь отдыхал за семейным столом, с мужним удовольствием наблюдая, как жена капризно перебирает в вазе ягоды клубники, выбирая себе покрупнее. Внимательный в штабе, генерал-лейтенант оставался внимательным и к женской болтовне:
— Вчера прихожу к портному. Его нет. Жена в слезах. Призвали в пехоту. Подкатываю к парикмахерской. Нет Вернера, который всегда меня причесывал. Вместо Вернера какая-то стерва. А где Вернер? Призвали в зенитную артиллерию. Теперь смотри, Фриди, как мне испортили прическу.
— Начинаем брать людей из резерва, — рассудил Паулюс.
Собираясь к подруге, Коко вызывала такси.
— Отказали, — изумилась она. — Вышло распоряжение — отныне никаких частных поездок. Нужно иметь служебное дело. Я ничего не смыслю в экономике. Но почему так надо, чтобы в театр или к знакомым я шлялась пешком?
— Начинаем накопление горючего, — объяснил Паулюс.
С улиц городов потихоньку исчезли лотки с горячими сосисками, пропало бутылочное пиво — осталось в продаже бочковое. Дурной признак для страны, где не мыслят и дня без пива!
Паулюс велел жене больше не покупать тортов:
— Они очень привлекательны, но все кремы — химия. Отравиться не отравимся, но и здоровья себе не прибавим. Наши химики достигли уже такого совершенства, что скоро из солдатской мочи станут выделывать дамские ликеры… Я все-таки устал. Прилягу. Кстати, а где Ольга?
— Она со своим бароном навещает графа Зубова, знаешь, сейчас из Прибалтики Сталин выгоняет всех немцев, у Зубова собирается интересное общество депортированных.
* * *
Тут как-то все разом перемешалось. Москва вдруг ополчилась на худосочную Румынию, где одной мамалыгой сыты, и к Советскому Союзу — без крови и на этот раз! — отошли области Буковина и Бессарабия. Елена-Констанция Паулюс, как румынка, до слез жалела румынского короля Михая, говоря мужу:
— Что Гитлер, что Сталин — одинаковые разбойники, оба так и глядят, что бы еще стащить у соседа, ничем не брезгуют… Ах, бедный Михай! Надо мне написать кузену в Бухарест, чтобы он выразил королю мое сердечное сочувствие.
Тем временем московская власть утверждалась в республиках Прибалтики: по договоренности с фюрером Сталин начал депортацию всех немцев, которых там было немало. Впрочем, в число «немцев», среди потомков крестоносцев и меченосцев, затесались и многие русские, жены мужей-немцев, то ли просто самозванные немцы, желавшие удрать от НКВД куда-нибудь подальше. Эта депортация немцев из Прибалтики проводилась нацистами под многообещающим девизом: «Вас фюрер зовет »…
Среди депортированных была и баронесса Эльза Гойнинген фон Гюне, совсем не желавшая покидать Курляндию, но ее просто выставили в «фатерланд», не спрашивая, где ей лучше живется. Баронесса тоже оказалась в числе гостей Паулюсов, интересная для самого генерала — как осколок древнейшей германской диаспоры на Востоке. Судя по всему, фрау Эльзе не очень-то нравилась Германия, где она теперь сама жарила картошку на маргарине, произведенном в мощных автоклавах химического концерна «Фарбениндустри». Паулюсу она говорила — с немалым значением:
— Я здесь у вас задерживаться не собираюсь, рассчитываю вернуться обратно. Вы бы знали, какие у меля под Митавой были коровники, какое жирное молоко давали мои коровы.
— Простите, но… кто вас отпустит в Митаву?
Без всякого смущения Гойнинген фон Гюне сказала:
— Но ведь очень скоро будет война с Россией! Уж вы-то, Паулюс, человек военный, знаете об этом лучше меня.
Поддерживая разговор гостей, граф Валентин Зубов сказал:
— Если слухи о близкой войне с Россией верны, то у вас, герр генерал, партия с нею не состоится. Россия такая здоровенная баба, которая способна выдержать немало оплеух, но в поклоне никогда не согнется.
Паулюс согласился, что Россия — страна могучая.
— Но сталинский режим непрочен, — сказал он. — У них сейчас немало внутренних проблем. Оружие устарело. По ресурсам выплавки чугуна и стали русские сильно отстали.
Он и не хотел того, но так уж получилось, что вроде бы подтвердил версию о близкой войне. Именно так его понял Валентин Платонович Зубов, живо обратись к барону Кутченбаху:
— Зондерфюрер войск СС! Ну-ка, поживее запишите себе для памяти русскую поговорку: это еще бабушка надвое сказала. Если занесет вас в Россию, вам поговорка пригодится.
— Как, как? Повторите, — засуетился зять Паулюса, роняя авторучку и шелестя страницами блокнота; записал поговорку, потом спросил. — А что это значит? Понять трудно.
— А вы доберитесь до Москвы — там вам все объяснят…
В конце лета Геринг уже подготовил свою авиацию для массированных налетов на Англию, а Гитлер на своей вилле «Бергоф» собрал высших офицеров вермахта; был приглашен и Паулюс. Конечно, он уже догадывался о том, что втайне замышлялось против России, при этом, не раз беседуя с Гальдером, он придерживался мысли о трех ударах по трем главным направлениям — Москва, Ленинград, Киев…
Гитлер начал говорить, что вторжение на Британские острова откладывает до лучших времен, а сейчас важно разделаться с большевистской системой на Востоке:-
— Англичане могут уповать только на поддержку со стороны России и Америки. Но когда Россия развалится, в Лондоне исчезнут надежды на Рузвельта, ибо, не забывайте! — на Тихом океане очень быстро возрастает роль Японии, американцам будет просто не до того, чтобы жалеть англичан… Чем скорее мы разобьем Россию, тем лучше для самой России. Но, — подчеркнул голосом фюрер, — операция может иметь смысл только в том случае, если мы одним молниеносным ударом уничтожим все это государство. Для этого понадобится не более пяти месяцев. Думаю, что война начнется в мае следующего года… Русские, — упоенно продолжал Гитлер, — не окажут нам такой любезности — совершить нападение первыми. Мы будем исходить из того, что их армии останутся в оборонительном положении. Меня спросят о пакте. Отвечаю. Договоры могут заключаться лишь между равными партнерами, занимающими одну и ту же политическую платформу. Советы находятся на другом конце платформы, и тут никакая международно-правовая мораль неуместна.
Близилась осень. В преддверии зимы супружеская чета Паулюса навестила Фридрихштрассе, где размещались самые фешенебельные меховые магазины. Жена оставила генерала поскучать в вестибюле, и тут его кто-то окликнул:
— Хайль! Кого вы здесь ожидаете, Паулюс?
Это был Франц Гальдер, начальник генштаба.
— Жду, когда моя жена выберет себе шубу по вкусу.
Гальдер устало опустился в соседнее кресло. На его серых штанинах броско пламенели лампасы из малинового шелка — признак принадлежности к высшей элите вермахта.
— Выбрать шубу, — рассудил Гальдер, — для женщины столь же важно, как для генерала получить дивизию или корпус. Говорят, у вас спокойный характер и вы ладите даже с Рейхенау?
— Не грызлись, — отвечал Паулюс. — Хотя с этим эксцентричным человеком ладить было трудно.
Во Франции он мог явиться на банкет в костюме жокея. Наконец, он намеренно приглашал к танцу самых толстых женщин, что во времена Секта строго запрещалось, чтобы не вызвать насмешек со стороны.
Гальдера волновало совсем другое.
— Между прочим, — сказал он, — в генеральном штабе вас знают, высоко оценивая ваши способности. Не хватит ли, Паулюс, измерять длинной палкой, сколько в танковых баках осталось горючего? Я давно хочу переманить вас в оранжерейную обстановку Цоссена. фюрер возражать не станет…
Гальдер ушел. Вскоре из-за портьер ателье появилась жена, уже в новой шубе из канадских скунсов, и, распахнув полы ее, она трижды кокетливо повернулась перед мужем:
— Это как раз то, о чем я мечтала… ты рад?
— Конечно. Ты выглядишь просто великолепно.
— Я так и знала, что тебе понравится…
Лакированный «мерседес» увозил их по улицам, уже погруженным во мрак военного затемнения (англичане иногда пытались бомбить столицу рейха). Коко оказалась проницательна.
— Что-то у тебя произошло… без меня.
— Да. Случайно я встретил Гальдера, и он наговорил мне массу лестных комплиментов. Кажется, в мои брюки скоро предстоит вшивать широкий красный лампас.
— Разве это плохо? — обрадовалась жена. — Во всяком случае, я буду спокойнее, зная, что ты не носишься на своем танке по всяким оврагам… Красные отвороты на шинели, красные лампасы на брюках. Ах, милый Франц! Я еще тогда, на горной тропе в Шварцвальде, почему-то решила, что тебя ожидает самая блистательная карьера…
Паулюсу исполнилось 50 лет. Внешне он казался моложе, юношески стройный, держался молодцевато, и дамы, любящие танцевать, видели в нем отличного партнера. Впрочем, танцы в Германии были запрещены велением Геббельса — «до полной победы».
* * *
На страшной высоте, почти невидимые и недосягаемые для истребителей, над советской территорией уже пролетали самолеты-разведчики из знаменитой эскадрильи фон Ровеля; их оснащали самой высокочувствительной аппаратурой, чтобы они вели аэрофотосъемку военных объектов и городов. Пассажирские самолеты авиакомпании «Люфтганза» намеренно сбивались с курса, дабы выискивать скопление военной техники и воинских эшелонов. Наконец, товарные вагоны, следующие из Германии с поставками закупленного оборудования, имели хитрое «двойное дно», в котором скрывались головорезы и диверсанты из полка «Бранденбург-300», знающие русский или украинский языки; миновав границу, они моментально растворялись в нашей жизни, а их фальшивые документы были безукоризненны. Их подготовка была идеальной. Случалось, этих агентов через военкоматы даже призывали в ряды Красной Армии, некоторые устроились при штабах наших западных округов. Они были хорошо подкованы «идейно», и на собраниях бурно аплодировали при имени товарища Сталина, мудрейшего и гениального друга и учителя, отца всех народов. Это было очень трудное и сложнейшее время аплодисментов, «переходящих в бурные овации»…
…Паулюсу предстояло перебираться в Цоссен — в тот самый Цоссен, откуда весною 1945 года наша дальнобойная артиллерия впервые открыла огонь по рейхсканцелярии Гитлера.
10.«Барбаросса»
Где есть Большая Политика, там и Большая Стратегия.
Глумления над военным ремеслом Паулюс не терпел.
— Стратегия тоже наука, — утверждал он. — Это военная алгебра, позволяющая нам дифференцировать конечный результат войны еще задолго до ее возникновения…
Паулюс, тщательно выбритый, собирался отъехать в Цоссен, где ему предназначалась должность обер-квартирмейстера, чтобы стать третьим по значимости лицом в сложной иерархии вермахта — после Вальтера фон Браухича, военного министра, и Франца Гальдера, начальника генерального штаба. Кажется, это место долго держали свободным, его приберегали для человека, который мог бы составить оппозицию Гитлеру, не боясь давать фюреру щелчки по носу, чтобы не лез в оперативные дела. Но такого смельчака не нашли, и потому Гальдер выдвинул «аполитичного» Паулюса, ибо в Цоссене желали иметь человека, хорошо изучившего тактику глубоких танковых прорывов…
Странные чувства одолевали Паулюса: его ожидал Цоссен, где он когда-то служил в рейхсвере времен Секта командуя всего-навсего автомобильной ротой, где он столь усердно «пахал» землю на тракторах, чтобы из кабины трактора вдруг оказаться заключенным внутри гулкого танка…
— Коко, я готов ехать, — сказал Паулюс жене. — Пожелай мне удачи на том посту, который когда-то занимал сам великий Людендорф, пока не сломал себе шею в политике.
— Остерегайся политики, — заклинала его жена.
Шофер подавал сигнал с улицы, торопя с отъездом, но тут раздался телефонный звонок от Эльзы Гойнинген фон Гюне:
— Ваш фюрер распорядился компенсировать мне потерю имений под Митавой и Виндавой дворянским замком в Польше, а моего сына Освальда назначил послом в Лиссабон. Дайте мне, пожалуйста, номер телефона рейхсканцелярии фюрера.
— Вы хотите благодарить его? — спросил Паулюс.
— Нет, я обязана информировать его о том, чего он, наверное, не знает. Во время поездки в Польшу я наглоталась такого смрада от ужасов, чинимых над поляками, что у меня поседели волосы… Паулюс, я не хочу больше жить! Даже кинокрасавица Лени Рифеншталь оказалась сущею ведьмой: в костюме эсэсовки она сама расстреливала поляков.
Паулюс отказал женщине в ее просьбе:
— Если вы все это станете излагать фюреру, вы наживете себе крупные неприятности.
— Я заболела, Паулюс, от чужих страданий, — сказала женщина, заплакав. — Меня выгнали из Курляндии, но я не стану выгонять на улицу прежних хозяев замка, культурных и самостоятельных людей. Это претит моему благородному воспитанию, которое началось в классической гимназии Санкт-Петербурга… Прощайте!
Несколько удрученный этим разговором, Паулюс быстро катил в Цоссен, маленький городок к востоку от Берлина, где Гитлер укрывал от шпионов и бомбежек «мозг» своего вермахта — генштаб! Пересекая кольцевую автостраду, шофер притормозил, увидев фигуру генерала. На обочине автобана стояла малолитражка «оппель-олимпия», солдат накачивал лопнувший баллон а генерал поднял руку:
— Паулюс? Как хорошо, что мы встретились. Поздравляю с прямым попаданием в бункеры Цоссена, где Гальдер устроил себе хорошую лавочку. Надеюсь, вы меня подвезете?
Это был граф Курт Гаммерштейн-Экворд, бывший командующий рейхсвера, который много лет занимался шпионажем в СССР, зная о Красной Армии больше других. Но разговор в машине получился странный.
— Вот стратегия фюрера: чтобы покончить со старой войной, он начинает войну новую. Теперь, желая унизить Англию, он решил, кажется, покарать большевизм. Я понимаю причины отставки Людвига фон Бека, который уже заглянул в пропасть будущего… Германия, задев однажды Россию, опрокинется кверху колесами, как сумасшедший паровоз. Бек заранее выбрался из будки машиниста, уступив свои рычаги Гальдеру… Не советую вам, Паулюс, слушать любителей русского сала. Я лучше вас извещен, что такое Советы и какова их бронебойная сила.
Что тут ответить? Но ответить необходимо.
— Я все-таки… солдат , — сказал Паулюс, — и обязан исполнять долг. Простите, граф, за выспренность выражений, но я еще смолоду приучил себя держать руки по швам…
Гаммерштейн-Экворд поразил Паулюса словами:
— Я тоже солдат, и вы не кичитесь своим долгом. Помимо этой штуки, существует еще и разум. Германия стала очень сильна. И сейчас только ее поражение способно развалить этот отвратительный режим, схожий со сталинским… Спасибо, Паулюс!
Они уже въехали в улицы чистенького Цоссена.
Паулюс испытывал такое ощущение, будто с утра пораньше получил сразу две оплеухи: сначала от этой курляндской баронессы, а потом и от своего же коллеги… Позже он жене говорил, что этот Гаммерштейн дал ему выпить касторки!
* * *
Организация высшего военного руководства Германии не была простой, на первый взгляд, даже запутанной. Читатель должен помнить двух главных хищников — ОКБ и ОКХ. Они близко соприкасались в поисках добычи, сообща разделяя всегда приятный для них апломб победителей, но при этом жестоко соперничали. ОКВ — верховное главнокомандование вооруженных сил (сам Гитлер, Кейтель, Йодль). ОКХ — командование сухопутных сил (опять же Гитлер, Браухич, Гальдер а теперь и Паулюс).
В садах Цоссена, среди оранжерейных розариев, укрывались секретные помещения генштаба и абвера (военной разведки), здесь же, среди цветочных клумб, разместился почти дачный домик, в котором располагался Гальдер. Дежурный офицер провел Паулюса в кабинет, сообщив, что под землею расположены еще четыре этажа, точно копирующие обстановку служебных кабинетов, которые находятся над землею.
— Если последует воздушная тревога, вам следует взять портфель с бумагами и выдернуть из штепселя вилку телефона. С портфелем и аппаратом вы спускаетесь на лифте ниже, где вас ожидает кабинет с теми же картами, с тем же освещением и с той же расстановкой мебели. Вам остается лишь воткнуть вилку и снова разложить бумаги. Желаю успеха.
— Русские знают о нашем размещении в Цоссене?
— Да! Здесь бывал их военный атташе Пуркаев, и мы сознательно показали ему почти все, чтобы он мог сравнивать: как у нас и как у них. Но абвер все испортил, подсунув ему свою шлюху…
Гальдер навестил Паулюса в его кабинете; поговорили о пустяках, потом Гальдер сказал:
— Я не думаю, чтобы нам пришлось много возиться с Россией. Манштейн недавно бывал на маневрах Красной Армии, а Гудериан вел наблюдение за нею у Бреста в польскую кампанию. Вооружение устарело. Танки слабые. Боеспособность низкая, что маршал Тимошенко и доказал на линии Маннергейма. Автоматическое оружие Русским неизвестно. Правда, по настоянию маршала Кулика в войска стали поступать винтовки СВТ, но отзывы об этом оружии самые отрицательные…
3 сентября 1940 года в Цоссене появился размашистый генерал Эрнст Кёстринг, приехавший из Москвы, где он состоял военным атташе при германском после графе фон дер Шулленбурге. Гальдер с Паулюсом приняли его в «форверке» (гостинице ОКХ), и Гальдер по, чему-то сразу обрел резкий вызывающий тон:
— Ну, если и Кёстринг с нами, значит, Россия не останется загадочным сфинксом. Рассказывайте московские анекдоты. Как вы там уживаетесь с агентами огэпэу?
— Работать трудно, — признал Кёстринг. — Русские очень осторожны. От иностранцев шарахаются, как от чумы. Но Сталин приветлив, на банкетах в Кремле я с ним охотно беседую об авиации. Он очень горд рекордами своих летчиков.
— Бесподобная информация! — съязвил Гальдер. — Конечно, много ли узнаешь, стоя у кремлевской стены с дамами и наблюдая за первомайским парадом. Вы, надеюсь, уже измерили толщину картона, из которого русские намастерили броневиков, — специально для показа их иностранцам на Красной площади.
— Почему такой тон? — вдруг возмутился Кёстринг.
Из сада пахло левкоями. Гальдер показал на окно, в котором виднелись помещения «Майбах-2», похожие на дачи.
— Вот вам абвер, и там адмирал Канарис из Цоссена видит обстановку в России лучше вас, пьющих московскую водку и заедающих ее астраханскими балыками.
Кёстринг демонстративно повернулся к Паулюсу:
— Ганс Кребс, мой помощник, уже докладывал в Цоссен, что у русских появился новый истребитель, способный соперничать с нашими «мессершмиттами-109», Красная Армия стала обновлять артиллерийские и танковые парки. Новое оружие по отношению к старому составляет пока процентов пять — десять, не больше, и виною тому влияние консерваторов, вроде маршала Кулика или Щаденко. Но я склонен думать, еще года четыре, и нашей Германии будет не догнать Россию… не забывайте об Урале!
— Конкретнее. Кто отстал? Мы или русские?
Вопрос Паулюса был слишком требователен, Кёстринг даже поежился в кресле, отвечая не сразу:
— Так категорично ставить вопрос нельзя. Наконец, мы просто еще не знаем, что имеется в советских арсеналах. Известно лишь, что их конструкторские бюро завалены работой. Мало того, Сталин в местах заключения образовал научные конторы, которые за колючей проволокой способны изобретать даже перпетуум-мобиле — лишь бы избавиться от наваждения пятьдесят восьмой статьи…
Гальдер загадочно улыбался, а Паулюс, не совсем доверяя информации Кёстринга, имел неосторожность сказать:
— Ну да! Вы же бывший русский помещик из Тулы, вам хотелось бы видеть свою праматерь красивой и сильной.
И вот тут Кестринг взорвался, отвечая с раздражением:
— Да, по-русски я зовусь Эрнстом Густавичем и учился я еще по русским букварям в классической московской гимназии. Но мое детское русофильство уже не способно что-либо исправить в моих зрелых национал-социалистических убеждениях. А личные встречи со Сталиным, когда он принимал меня вместе с графом Шуленбургом и Хильгермом (кстати, тоже русским), убедили меня в том, что в лице Сталина мы имеем опасного политика и очень хитрого человека… Я, — почти озлобленно закончил Кестринг, — еще раз предупреждаю ОКХ и ОКБ, чтобы эти конторы по скупке старой мебели у населения не заблуждались относительно военного потенциала России…
Умышленно оскорбив начальника, Кестринг все-таки расплатился с Гальдером за его язвительность. Гальдер спросил:
— Что танки? Что Челябинск? Что Сталинград?
Кестринг, помедлив, все-таки открыл свой портфель, стал выгружать на стол «московские подарки»: бутылки с водкой и банки с икрой; паюсную икру он сначала вынул, а потом как-то воровски запихнул обратно в портфель. Ответ был обстоятельным:
— Челябинск закрыт. Туда не добраться. Но у меня завелся резидент в Сталинграде, где выпускают какие-то новые танки. А русская разведка блокирует все мои выезды из Москвы…
После этого разговора Гальдер, распивая с Паулюсом водку и намазывая икру на хлеб, энергично жующий, говорил:
— Сейчас наш фюрер солидарен с мнением Йодля и Кейтеля, что России блицкрига не выдержать. Задержка на линии Маннергейма окончательно убедила его в слабости большевистской системы.
В своем кабинете Гальдер неторопливо растворил железный сейф, извлек из него папку и бросил на стол.
— Вот этим вы и займетесь, — сказал он Паулюсу,
— Что это?
— План «Барбаросса» — план нападения на Россию…
Это был секретный документ рейха № 33408/40.
* * *
Чудовищно! Даже те немецкие генералы, что находились в оппозиции Гитлеру и пытались предостеречь руководство против войны с Россией, даже они — совсем неглупые люди! — понимавшие, что война обернется для Германии катастрофой, все-таки продолжали работать на войну, вольно или невольно усиливая позиции самого Гитлера в ОКБ и ОКХ.
Паулюс тоже считал, что его служба — чисто академическая, и не иначе! Конечно, в деловой тишине бункеров Цоссена не слыхать стонов поверженных, а стены рабочего кабинета не были окрашены человеческой кровью. Вручая Паулюсу папку с планом «Барбаросса», Гальдер сказал, что это лишь жалкий эмбрион будущей войны, зачатый в одну из лучших ночей генералом Эрихом Марксом на основе опыта польской кампании:
— И младенцу из Кепенека ясно, что равнять Польшу с Россией нельзя. Всю эту марксовскую галиматью мы уже показывали Кёстрингу, который считал, что занятие Москвы будет иметь решающее значение для полной победы…
— Знаком ли с планом фюрер? — спросил Паулюс. — План Маркса, носивший тогда название «План Фриц», Гитлер сразу отверг как нерешительный. Нужна война быстрая, в считанные недели. Иначе наша экономика не выдержит и треснет. Вам, Паулюс, предстоит развить этот эмбрион до рождения колоссального чудовища, чтобы весь мир вздрогнул при его появлении. «Барбароссу» следует привязать к условиям русской местности. Учесть все исходящие точки главных ударов. Наши ресурсы и ресурсы противника. Форсирование рек и болот. Резервы горючего и технических масел, с учетом того, что мы заберем в Венгрии и Румынии. Высчитайте, на сколько нам хватит каучука и на каком этапе войны мы будем вынуждены заменять каучук синтетической «буной»… Как видите, работа большая. Большая даже окаянная! Я вам даже сочувствую, — засмеялся Гальдер.
Паулюс перелистал первые страницы плана «Барбароссы».
— Какова же конечная диспозиция этого плана?
— По меридиану: Архангельск — Астрахань.
— И не дальше? — спросил Паулюс.
— Нет смысла гнать «ролики» дальше, ибо к тому времени Сталин убежит, а все его Советы развалятся.
— Дата открытия кампании?
— К маю следующего года все должно быть готово.
— А почему не март? Почему не апрель?
— Надо, Паулюс, чтобы подсохла грязь на ужасных русских дорогах… Планируйте смелее. Советы — как оконное стекло. Тресни кулаком — и все со звоном разлетится в куски!
Кёстринг тоже был ознакомлен с работою Паулюса.
— Странная у вас концепция в стратегии! — сказал он ему. — Вы опять повторяете главную ошибку генерала Маркса. Вам кажется, что падение Москвы способно решить судьбу блицкрига… Но Москва не Париж! Русские отодвинут свои армии вплоть до Урала, где у них большой промышленный комплекс, и война будет продолжена с прежней яростью. Если вам взбредет в голову перевалить танки через Урал, русские могут от» ступать хоть до Байкала.
— Но должны же иссякнуть силы этого колосса!
— Прежде иссякнут силы вермахта.
— Кёстринг! Где вы мыслите наш конечный рубеж?
— Ленинград, Харьков, Смоленск… не дальше. На этой линии погибнет русская мощь, а в Германии выстроятся длинные очереди инвалидов — за протезами. Зиг хайль!
(Через шесть лет в заявлении Советскому правительству генерал Паулюс сам же и признал коварство плана «Барбаросса», им же составленного: «Поставленная цель уже сама по себе характеризует этот план как подготовку чистейшей агрессии; это явствует даже из того, что оборонительные мероприятия моим планом не предусматривались вовсе…»)
Гитлер торопил Гальдера, а тот подгонял Паулюса, которому вскоре уже не стало хватать дня; Гальдер — без ведома Кейтеля — позволял Паулюсу брать секретные документы из Цоссена домой, чтобы работа продолжалась и по ночам в спокойной обстановке берлинской квартиры на Альтенштайнштрассе.
Тут и произошла «утечка информации»! Нет, читатель, в квартиру Паулюса не проник сверхнаходчивый советский майор Ковалев, чтобы вскрыть план «Барбаросса», — нет, в кабинет Паулюса заходили сыновья, бывшие в отпуске, заходила и жена. Ворохи карт европейской части России, жирные отметки дорог и четкие стрелы танковых ударов стали понятны сыновьям, а Коко тоже догадывалась, чем занимается ее любимый муж.
Между супругами вдруг неожиданно возник скандал!
— То, что ты делаешь, это… преступно, — заявила Елена-Констанция. — Я всегда считала тебя порядочным человеком, но теперь… Что ты делаешь, Фриди? Опомнись. Этот ваш фюрер давно спятил, а ты его бредовые галлюцинации пытаешься претворить в стратегию. Если тебе не жаль бедный русский народ, и без того измученный поборами и нуждою, так пожалей хотя бы меня… Откажись от этих планов, которые, чует мое сердце, ничего, кроме несчастий и горя, не принесут ни тебе, ни мне, ни твоим детям, ни твоим внукам!
Немецкий историк Вальтер Герлитц привел документальный ответ Паулюса жене:
«Все эти вопросы требуют политического решения, мнение же отдельных людей не учитывается, ибо подобные действия будут продиктованы лишь военной ситуацией».
Не думаю, чтобы после такого ответа Коко успокоилась. В редкие минуты отдыха Паулюс с подрамником, как художник, выезжал в Тиргартен, где недурно рисовал акварелью лирические пейзажи. Говорили, что он в душе был лирик. Даже сентиментальный…
Может быть. Но его план «Барбаросса», нанизанный на пику войны, нес всем нам кровь, голод, бедствия, страдания…
Знал ли об этом Паулюс? Да, он знал.
— Но я солдат и я обязан держать руки по швам… Ему — руки по швам, а нам — руки вверх!
* * *
Читатель не поверит, но я привожу действительный факт.
В самый канун войны, чтобы избежать конфликтов с немцами, в пограничных частях у бойцов отобрали патроны. Винтовки им оставили, вот патроны отняли.
Пушки тоже оставили на границе, но прислугу лишили снарядов — вот и защищай, боец, дорогую родину: стреляй по врагу из пустой винтовки, бей врагов из незаряженной пушки… А почему такая осторожность? Да потому что наш дорогой товарищ Сталин очень страшился пограничных инцидентов, которые могли бы вызвать недовольство Гитлера.
11.«Дрожат одряхлевшие кости»
Линии, линии, линии… С ума можно сойти от этих линий!
Линия Мажино, линия Зигфрида, линия Маннергейма, линия Сталина, линия Метаксаса, линия Антонеску. Когда в Европе стало уже не продохнуть от этих линий, дуче Бенито Муссолини набил в Ливийской пустыне деревянных кольев, протянул меж ними колючую проволоку и объявил всему миру «о неприступности линии Муссолини». Своему маршалу Бальбо он повелел:
— Отсюда ты переломаешь все ребра британскому генералу Уэйвеллу и не отставай от него, пока он не выпьет целый бидон лучшей в мире касторки — итальянского производства…
День в Цоссене еще только начинался, когда из абвера появился Адольф Хойзингер, со смехом сообщивший Паулюсу:
— Везет же макаронникам! За все время войны в Африке они не сбили ни одного самолета. Наконец добились успеха: точно врезали из зениток! Но опять им не повезло: в самолете как раз и летел их главнокомандующий маршал Бальбо.
— Вечная память, — серьезно отвечал Паулюс. — В таких случаях итальянцы говорят? «Ну и что ж? Одним меньше…»
На место Бальбо командовать африканским корпусом Муссолини назначил генерала Итало Гарибольди, франтоватого старика с накладными усами римского щеголя. Узнав об этом, в Цоссене говорили, что война с англичанами в Ливии требует жестокой руководящей руки немцев, а совсем не итальянцев?
— Солдаты в Ливии хлещут воду из бидонов для Лизина. Но офицеры Муссолини лакают лучшую минеральную воду марки «Рекоаро». Эти мерзавцы иногда выбрасывают с грузовиков даже снаряды, зато таскают через пустыню тысячи бутылок…
Повышенный интерес в Цоссене к африканским делам был обоснован: Паулюс, завершая обработку плана «Барбаросса», имел аудиенцию у Гитлера, перед которым изложил свою теорию дальнейшей борьбы с Англией.
— Если сейчас, — сказал он, захват Англии с моря откладывается, то центр борьбы с нею следует перенести в Средиземноморье, в страны Ближнего Востока мы должны активнее помогать итальянцам в их африканских делах. Особенно сейчас, когда они терпят поражение в Киренаике…
Паулюс не прерывал добрых отношений с Эрвином Роммелем, товарищем по старой службе в Штутгарте. Последний раз они встречались во Франции, где Роммель командовал танковой панцер-дивизией. Теперь Эрвин стал комендантом личного поезда Гитлера, своей головой отвечая за головы пассажиров. Эрвин навестил Паулюса на Альтенштайнштрассе, жаловался:
«Фюрер сделал из меня вроде проводника своего вагона. Сегодня он в Мюнхене, завтра ему надо любоваться горными вершинами в Берхстенгадене… Ты сейчас в Цоссене, — намекнул Роммель, так будь другом, гавкни при случае, чтобы меня из поезда фюрера куда-нибудь переместили…
Паулюс обещал «гавкнуть». Под конец 1940 года план «Барбаросса» в общих чертах был оформлен, требовалось лишь «обкатать» его, словно новый танк, на полигоне критического разбора. Будущий блицкриг был планирован по трем главнейшим направлениям — Север, Центр, Юг, и, наверное, Паулюс был бы ошеломлен, если бы знал, что как раз в это время молодой русский генерал Жуков планировал в Москве контрудары по тем же самым направлениям, которые наметил и Паулюс для вермахта…
Совпадение? Нет, это работа точного штабного рассудка, обладавшего стратегическим предвидением.
* * *
Паулюс. Его натренированный мозг работал превосходно:
— Внимание! Мы проникаем в Россию через ее европейскую часть, имея вначале явную выгоду — бить кулаком. К востоку от границы территория подобно гигантской воронке, начинает резко расширяться. Наступая, мы невольно растягиваем свой фронт как пружины эспандера. Наш кулак начинает сжиматься, мы вынуждены бить растопыренными пальцами… Эта географическая «воронка», — завершал довод Паулюс, — потребует от нас введения дополнительных резервов.
— Которых у нас не будет, — сообразил Гальдер. — Именно поэтому всю эту возню с Россией необходимо кончить до осеннего листопада. Если дождемся морозов, Германия провалится в люк затяжной войны, из которого ей не выбраться…
Уже в этом признании Гальдера ощущался миндальный привкус авантюризма, схожий с ароматом цианистого калия. Но сценарий «Барбаросса», ранее неживой и сомнительный, все же обретал стратегическую четкость, после чего в Цоссене его отрепетировали в военных «играх» (так режиссер еще в пустом зале прокручивает свои фильмы, еще не озвученные для широкого экрана). При разборе плана присутствовали самые компетентные стратеги вермахта; фельдмаршалу Браухичу план «Барбаросса» доставил, кажется, приятное волнение:
— Вы у нас молодцом, Паулюс! Да, на границах русские встретят нас с бешенством кабана, обложенного собаками. Но затем их сопротивление ослабеет. Уверен, через две недели вся эта большая куча гнилой картошки сама развалится.
Не избежать было и каверзных вопросов оппонентов:
— Известно ли автору что-либо о степени готовности Красной Армии к превентивному нападению на Германию?
— Абвер не считает Россию готовой к войне.
— Это — Россия, а не желает ли войны сам Сталин?
— Сталин, — парировал Паулюс, — очевидно, исходит из того конкретного положения, что война чревата для его режима многими опасностями. Старые кадры Красной Армии ослаблены, молодые лейтенанты из училищ быстро делаются комбригами. Причины этого явления вам известны. Подбор офицеров совершается не по деловым качествам, а лишь по анкетным данным, чтобы в армию не проникали дети кулаков, дворян и священников…
Не обошлось без вопросов: какой головы в советском Генштабе следует бояться? На это ответил сам Гальдер: его работе в Цоссене противостоит в Москве мозговое напряжение маршала Шапошникова, офицера старой академической школы, эрудита и подлинного мастера большой стратегии:
— С его мнением считается даже Сталин. В случае конфликта Шапошникова можно заранее дезавуировать, подбросив в Москву дезинформацию о его политической неблагонадежности…
Генералы расхаживали среди разложенных на паркете карт Советского Союза. Длинные указки в их руках требовательно постукивали по железнодорожным узлам, тыкались в шахты Донбасса и плавни Астрахани: «А! Вот, Хойзингер, откуда русские черпают икру ковшами экскаваторов…» Мнение же гросс-адмирала Редера было несколько одиозно:
— Паулюс! Вы желаете забраться в Россию непременно с парадного подъезда. Но, по слухам, линия Сталина сильна, как были сильны линии Мажино и Маннергейма. Вы, автор «Барбароссы», не боитесь получить кружкой по черепу?
— На мой взгляд, линия Сталина апокрифична в той же степени, что и наша линия Зигфрида. Парадный подъезд открыт, и, простите, я вас не совсем понял.
— Я бы, — пояснил гросс-адмирал, — забирался в Россию с черного хода, где запоры всегда слабее: через Афганистан, через Турцию и Персию. Но для этой комбинации, согласен, прежде надобно усилить армию Муссолини в Африке, чтобы «макаронники» быстрее выползали к Суэцкому каналу.
— Для этого, — отвечал Паулюс, — пришлось бы резко усилить наши позиции на Средиземном море и обладать Мальтой, а флоты Италии и Германии еще не в силах противостоять флоту великобританскому. Вы знаете, гросс-адмирал, какое сейчас положение в Киренаике — без нашего вмешательства итальянцы не справятся с Уэйвеллом…
Паулюс считал, что для разгрома всех армий СССР вермахту потребуется лишь от четырех до шести недель:
— Господа, это примерно тот срок, который определил для себя и Наполеон в тысяча восемьсот двенадцатом году…
Вечером у него состоялась беседа с Гердом Рундштедтом.
— Наш фюрер, — говорил фельдмаршал, — придерживается континентальной стратегии и, подобно Наполеону, он боится воды. Ему приятнее думать, что Англия падет сама по себе, если с Россией будет покончено. Он сидел в окопах еще при кайзере и по себе знаю, каково мужество русского солдата. Но тогда иваны дрались с нами на польской земле, на земле австрийской Галиции, а… сейчас? Должен огорчить вас, Паулюс, план «Барбаросса» хорош сам по себе, но война с Россией вряд ли может иметь счастливый конец…
Впрочем, Паулюсу подобные сомнения казались напрасными. 18 декабря 1940 года Браухич сделал доклад о завершении плана «Барбаросса», и тогда же фюрер — в присутствии Йодля и Кейтеля — одобрил его особой директивой. (Гитлера хватил бы инсульт и разбил паралич, узнай он только, что ровно через одиннадцать дней эта директива будет лежать на столе в кабинете Сталина — советская разведка сработала, но Сталин счел директиву «фальшивкой», подброшенной ему англичанами…)
— Что слышно из России? — спросил Гитлер. — У меня такое ощущение, будто Сталин боится дышать в мою сторону.
— К сожалению, — ответил Йодль, — информация абвера скудная. Иногда мы довольствуемся наблюдениями из окна уборной в экспрессе Владивосток — Москва, когда этим маршрутом пользуются наши дипломатические курьеры из Токио.
— И много они увидели, сидя на унитазе?
Кейтель выложил перед фюрером фотоснимки:
— Вот! Даже сидя на унитазе, можно иметь некоторое представление о русских делах… В Сибири замечено скопление воинских эшелонов, вроде бы они передвигаются в западном направлении. Но при этом абвер не подтверждает уплотнения русских войск близ западных границ России.
Гитлер еще раз глянул в свою директиву.
— Ладно, — сказал он. — Впрочем, это лишь план. Начинать же войну с Россией — все равно что отворять двери в темную, никому не известную комнату. А кто там торчит за дверью, и что он держит в руках, этого мы пока не знаем. Но мы обязаны начать войну весной сорок первого, ибо вермахту уже более никогда не достигнуть той мощи, какой он обладает сегодня.
Перед рейхсканцелярией заиграл оркестр. Свежий ветер трепал над фасадом зданий выцветший лозунг: «Один народ, одна партия, один фюрер ». По улицам маршировали юнцы из организации Гитлерюгенд (от 14 лет и старше), за ними шагали «пимфы» (в возрасте от 6 до 10 лет) — все они были с кинжалами и под рокот множества барабанов распевали!
Дрожат одряхлевшие кости
Земли перед боем святым,
Сомненья и робость отбросьте,
И завтра уже победим…
Совещание закончилось. Генеральштеблеры расходились.
— Постойте, — вдруг задержал их Гитлер. — Римский дуче обратился ко мне с просьбою помочь ему в африканских делах. Кто у нас более всех пригоден для выживания в пустыне?
Опережая других, Паулюс уверенно шагнул вперед!
— Нет, не я! — «гавкнул» он. — Но мне известно, что генерал Эрвин Роммель не откажется от любого приказа.
Гитлер понятливо кивнул, одобряя кандидатуру. Но генерал Гальдер потом с неудовольствием выговорил Паулюсу:
— Что вы подсунули нам «швабского задиру»? Роммель — это человек, которого в мирные дни лучше всего держать на железной цепи, а во время войны его лучше всего повесить…
* * *
— Земной шар, — утверждал Гитлер, — это всего лишь переходящий кубок, который достается чемпиону-победителю…
Перед нападением на СССР фюрер поспешно сколачивал громоздкий блок сателлитов. Он обретал союзников из принципа странной немецкой поговорки: «Прошу, будь мне хорошим другом, иначе я шарахну тебя дубиною по башке». Его представители разъехались по столицам Румынии, Финляндии, Венгрии и Болгарии, навестили и Франко в Мадриде. Гальдер нанес визит (и первый) маршалу Маннергейму в Хельсинки. Паулюсу пришлось срочно вылететь в Бухарест, чтобы обговорить некоторые детали на будущее с диктатором Антонеску, тем более, что Гитлера приманивали румынские нефтепромыслы (своего горючего не хватало). Задача Паулюса осложнялась тем, что король Михай шел на поводу Антонеску, а вот его жена, королева Елена, была настроена против Гитлера. Паулюс в переговорах преуспел, ибо ему помогли родственные связи — шурин Паулюса, кузен его очаровательной Коко, был придворным при дворе королевской четы…
Из Будапешта Паулюс вернулся в Берлин, окрыленный успехом в переговорах. Берлин встретил его оттепелью, а жена — первыми фиалками. Из-под колес генеральского «мерседеса» выплескивало струи талой воды. Паулюс тронул руку жены.
— Моя любимая женщина, «тихо скрипка играет, а я молча танцую с тобой». Видишь, Коко, как все удачно складывается?
— Ах, Фриди, я очень боюсь, что будет война с Россией… Но я, как жена твоя, конечно, радуюсь твоим успехам. Прости, — сказала Коко, — у меня даже появилась одна сокровенная мечта: я давно вижу тебя фельдмаршалом. Не смейся! И пусть твой маршальский жезл сверкает алмазами и рубинами…
…Сталинград? Пожалуй, Коко и не знала такого города, в подвалах которого ее муж станет фельдмаршалом.
12. След львиной лапы
— Италия, — сказал дуче, — ах, как любит меня Италия!
Лязгнуло железо затворов громадного вольера, за прутьями решетки нервно похаживала разъяренная львица, стегая хвостом по воздуху. Бенито Муссолини бесстрашно шагнул в клетку.
— Италия, — нежно позвал он хищника. — Неужели ты не узнала меня… своего любимого дуче?
Иностранные корреспонденты раскрыли блокноты, а кинооператоры разом вскинули свои камеры, дабы запечатлеть исторический момент. Италия (такова была кличка львицы) ткнулась в колени Муссолини, потом, поднявшись на задние лапы, облизала лицо диктатора горячим языком, шершавым, как наждачная бумага.
— Снимайте! — крикнул дуче корреспондентам. — Пусть эти кадры сохранятся для потомства, и пусть все в мире знают, как горячо любит Италия своего великого дуче… Недаром же я поклялся оставить в истории след львиной лапы!
Африка — вот куда влекло вождя партии фашистов и он, дуче, с гордостью носил на черной рубахе значок этой партии, который в итальянском народе называли «клопом».
* * *
Фридрих Паулюс и Эрвин Роммель встретились под сводами богатого отеля «Адлон» ради ужина, чтобы поговорить.
«Адлон» являлся прибежищем высокопоставленных нацистов и богатой публики. Здесь никто не думал о повышении квартирной платы или о том, как растянуть на всю неделю 500 граммов мяса по карточкам. Звучала тихая музыка, не мешавшая беседовать. Струились фонтаны, подсвеченные прожекторами.
Между столиками в узких трико телесного цвета дефилировали с корзинами цветов кокетливые девицы, главная из них била в барабан.
Роммеля всегда отличала приятная белозубая улыбка, в его глазах светилась сила ума и сдержанной злости. Сейчас, как и в молодости, друзей сближали крайности характеров: Роммель горяч, а Паулюс холоден. Роммель уже был извещен о том, что его ждет Африка, и он почти невозмутимо выслушал от Паулюса, что Муссолини постоянно колотят:
— Бьют в Ливии, бьют в Греции и даже (стыдно сказать) в ничтожной Албании. Фюрер потому и счел нужным поддержать дуче ради политического престижа фашизма, столь родственного идеям национал-социализма. Мало того, — сказал Паулюс, — фюреру совсем не хотелось бы залезать в пекло Африки.
— Тогда на кой черт сдались Киренаика и Мармарика?
— Личная услуга фюрера, оказанная Муссолини. Роммель что-то прикинул в уме:
— Как далеко бежали итальянцы от англичан?
— Образовался разрыв миль около трехсот.
— А сколько танков у британского Уэйвелла?
— Двести. В основном — «Валентайны» и «Матильды» В этих танках мало брони, зато много пластмассы, потому они горят, как пасхальные свечи. Уэйвеллу не хватает утяжеленных «Черчиллей», у которых защита приличнее. Я не думаю, — сказал Паулюс, поднимая бокал с кианти, — что тебе будет там трудно. Английские позиции удерживают колониальные новозеландцы, австралийцы, индусы. Наконец, там собрались и поляки, которых мы не добили. В пустынях у англичан появился даже еврейский батальон.
— Ого! — развеселился Роммель.
— Но помни, Эрвин, что мой шеф относится к тебе паршиво, даже не скрывая, что тебя надобно бы повесить.
— Обоюдная антипатия. Гальдер считает меня авантюристом, и теперь он станет всюду хватать меня за хлястик.
— Не зарывайся, — посоветовал Паулюс. — Нам в Ливии требуется устойчивое состояние обороны, не больше! Из тебя хотят сделать броневую заслонку. Твои действия в Африке — лишь отвлекающий маневр. Пусть в мире думают, что Гитлер завяз под Тобруком, а тогда в Москве даже кошка не шевельнется… Это как раз то, что нам сейчас и требуется. Ты понял?
Девицы в трико отработали «шаг на месте», барабан отчеканил солдатский мотив: «Был у меня товарищ, был у меня товарищ…» В облике Роммеля что-то изменилось.
— Нет, я возьму Тобрук, — вдруг жестко произнес он. — Я превращу этого Уэйвелла в жалкое дерьмо — назло Гальдеру, и не меня, а именно его, твоего шефа и мерзавца, надо повесить.
Паулюс отрезал крылышко от фазана. Подумал и аккуратно переложил на свою тарелку жареные каштаны. Сказал:
— Гальдер не даст подкрепления. А фюрер никогда не станет снимать с Востока силы ради твоих амбиций.
Роммель равнодушно обозревал девиц, думая о
— А если фюрер все-таки поддержит меня в пустынях Ливии ради собственного престижа и престижа германского оружия?
— Вряд ли, — отозвался Паулюс. В африканских делах он всегда согласится с мнением ОКХ и… того Гальдера. Не забывай, приятель, что мы имеем дело большой стратегией, а эта штука всегда связана с большой политикой.
— А меня разве посылают творить маленькую?
— Не сердись, Эрвин, у тебя же светлая голова: сам должен понимать, что одна Москва стоит Тобрука, Мальты, Каира и… Лучше выпьем за старую дружбу Прозит…
Эти два человека, столь разные и почти несовместимые, еще не думали, что их армиям суждено иметь единую и общую цель: Роммель с берегов Нила, а Паулюс с берегов Волги должны были, по замыслу Гитлера, образовать гигантский охват, чтобы в конце концов пожать друг другу руки где-либо на Ближнем Востоке., скажем, в Бейруте или в Дамаске.
— Грузиться с войсками станешь в Сицилии, — сказал Паулюс.
— Надеюсь, дуче примет нас с уважением… Бенито Муссолини?
Да, он тоже оставит свое имя в истории Сталинградской битвы, чтобы, как говорят русские, «хлебнуть шилом патоки». Золотой «клоп» ползал по его черной рубахе — ближе к шее, за которую он будет повешен.
* * *
Скромный чистильщик обуви на римских улицах Бруно Каверно наярил ботинки прохожему пижону и соизволил сказать:
— А наш дуче скоро подохнет от рака.
Его тут же взяли и потащили. В полиции спрашивали:
— Откуда знаешь, что наш великий дуче болен раком?
— Так об этом в Италии все говорят.
— И ты в том числе? Так собирай свои щетки с гуталином. Мы сошлем тебя на остров Пиццу, где до конца жизни будешь наяривать до нестерпимого блеска босые ноги у тамошних ссыльных… Следующий! Кого там еще взяли?
Бенито Муссолини… Об этом человеке можно сказать кратко: соревнуясь с фюрером, он всегда хотел догнать его и перегнать, но каждый раз срывался со старта, когда Гитлер уже рвал грудью финишную ленточку.
Эти соревнования итальянского фашизма и германского национал-социализма очень дорого обходились тем чистильщикам обуви. Не так уж прост был дуче, как иногда о нем думают. «Он не был банальным реакционером, — писал наш историк. — Муссолини был человеком толпы, который обладал чутьем масс, политической интуицией, организационной сноровкой, беззастенчивым практицизмом. Это был артист действия, подстрекаемый личным честолюбием, неутомимой волей и необычайной умственной возбудимостью». Сам он говорил себе в духе Маринетти: «Я слушаю голос своей крови».
— Что там Маринетти?
Муссолини и сам был мастак на афоризмы:
— Не для того я создавал мощное движение фашизма, чтобы теперь торчать возле окошка, наблюдая за тем, как резвятся эти берлинские щенята. Пусть Гитлер знает, что я, дуче, рожден оставить после себя на скрижалях истории глубокий след от когтей львиной лапы…
Вот с этими скрижалями ему, прямо скажем, не везло!
Гитлер, как мировой рекордсмен, до того обнаглел, что даже не считал нужным оповещать своего партнера о предстоящих чемпионатах, ставя рекорды самостоятельно. Он высадился в литовском Мемеле, он вкатил свои танки в Прагу, а потом уж слал в Рим своих курьеров, извещая партнера о своих рекордах, и Муссолини просто сатанел от ярости:
— Каждый раз, утолив потребности своего пищеварения, фюрер извещает меня, что временно сыт, после чего и отрыгивает в сторону великого Рима…
Желая опередить фюрера на Балканах (куда тот, конечно, полезет), Муссолини, не предупредив Гитлера, захватил Албанию, из которой король Загу бежал, теряя на бегу свои чемоданы и оставляя на станциях женщин из своего гарема. Завидуя успехам Гитлера в войне с Польшей, дуче — назло Гитлеру! — высадился в Греции, но там потомки античных героев так поддали ему, что итальянцы бежали. Как это ни печально, пришлось просить помощи в Берлине — у того же фюрера.
Потом — Франция! Муссолини долго крепился, сохраняя нейтралитет, втайне надеясь, что Гитлер в беге с барьерами сломает себе шею. Но когда вермахт готов был вот-вот войти в Париж, дуче объявил войну французам, а заодно велел устроить затемнение в Риме. Но Гитлер словно не заметил его усердия.
От победы над Францией дуче получил только крошки с чужого стола и огорченно сказал:
— Ладно! Включайте все фонари на улицах Рима а то мои итальянцы, пользуясь мраком, слишком уж расшалились…
Зависть к ошеломляющим успехам Гитлера и даже некоторый страх перед Берлином глодали дуче давно. Гитлер, не желая портить отношения с Римом, пригласил дуче в Германию, чтобы обсудить вопросы на ближайшее будущее. Накануне их встречи итальянская разведка «вышла» в Неаполе на красивую даму и немецкого полковника, в нее влюбленного. Но эта дама, будучи замужней, оказалась неподатлива, а портфель полковника сулил интересные открытия в области итало-германских отношений.
— Пусть эта дама устроит немцу пылкую ночь любви — такую, чтобы штукатурка с потолка сыпалась! — повелел дуче. — Скажите ей, что с нею я расплачусь сам… из партийной кассы!
Сверхуникальная пылкость дамы стоила полковнику пропажи секретной директивы Гитлера от 18 декабря 1940 года, которая одобряла план «Барбаросса». Дуче покоробило, что в директиве о нем и его армии даже не упоминалось. Выходит, будущие услуги этих мадьяр, валахов и чухонцев Гитлер оценивает дороже боевого пыла прегордых римских берсальеров.
— Фюрер, — заметил дуче, — наверное, решил, что я опять буду смотреть в окошко, как он вывозит из России эшелоны всякого добра… У меня в Сицилии даже мафиози честнее!
19 января 1941 года состоялось свидание диктаторов в Зальцбурге. Дуче был мрачно подавлен, он посматривал на Гитлера, как обреченный бык на искусного тореадора. Эта встреча по времени совпадала с оживлением англичан в Северной Африке; генерал Уэйвелл не только потрепал итальянцев, но англичане даже разрезали колючую проволоку вдоль неприступной «линии Муссолини».
В беседе с дуче фюрер сознательно помалкивал о предстоящем нападении на Россию, хотя мнимая «Угроза с Востока» отчасти и присутствовала в их разговорах, как необходимая приправа к мясному блюду.
Наконец, дуче не выдержал игры в кошки-мышки, ибо рез пылкую даму в Неаполе он замыслы Германии же знал.
— Фюрер! — браво заявил Муссолини. — Если вы шили поднять над миром знамя борьбы с большевизмом на Востоке, то моя фашистская Италия никак не остаться на обочине шоссе…
Ему уже виделись грохочущие с Донбасса эшелоны, заваленные антрацитом, дуче уже засыпал украинским зерном римские закрома, он уже добавлял в свое железо порции русского молибдена и вольфрама.
— Дуче, — отвечал Гитлер, загоняя его мысли обратно под жгучее солнце Африки, — если в Ливии вам понадобится моя помощь, я согласен выделить хорошую панцер-дивизию.
— Не возражаю. Пусть ею командует Гудериан!
«Много захотел этот макаронник…»
— Нет, дуче. Гудериан нужен мне для других дел, а я пошлю в Ливию коменданта своего поезда Роммеля, и этот генерал для Африки как раз подойдет. Но я оставляю за собой право забрать свои танки из Ливии не позднее весны этого года.
Муссолини сообразил: «Вот дата нападения на Россию…»
— Благодарю, фюрер! Но в оперативном отношении Роммель обязан подчиниться моему генералу Итало Гарибольди, это образцовый фашист, мастер дерзновенных атак, и пусть ваш Роммель поучится петь у моих кадровых запевал.
— Согласен. Но вы, дуче, пришлите мне побольше своих итальянцев — мои заводы нуждаются в рабочих. Если Италия не даст Руру шахтеров, она не получит и куска угля…
Вернувшись из Зальцбурга, дуче показался врачам:
— Мои паршивые итальянцы болтают на улицах, будто у меня метастазы, и я, как последний идиот, сдохну от рака. Ну-ка, проверьте, как обстоят со мною дела». Ваш точный диагноз я опубликую в партийных газетах, чтобы все итальянцы заткнулись и помалкивали.
Потом он устроил генеральную «чистку» в армии и рядах своей закаленной партии. Для этого он никого не сажал за решетку, как это делал Гитлер, никого не тащил в подвал, чтобы прикончить, как это делал Сталин, — нет, Муссолини был умнее всех! Он устроил для своих генералов и партийных функционеров спортивные состязания.
— Зажрались! — сказал он своему зятю графу Чиано, который ведал иностранными делами. — Вот сейчас мы и проверим, кого оставить, а кого гнать в отставку на пенсию…
Началось! Бег на короткую и длинную дистанции. Прыжки — с шестом, в длину и в высоту. А те, кому было уже за шестьдесят, катались на велосипедах или скакали на лошадях. Всех, кто не одолел нормы, положенной в массовом спорте, сразу удаляли из кадровых офицеров армии. Дуче сам ругался со своими ветерана, ми, соратниками по всяким прежним делам:
— Что ты мне тут воркуешь о своих заслугах перед фашизмом? Ты лучше посмотри на свое брюхо. А… ноги? Разве такие ноги должны быть у ветерана великой партии, созданной в борьбе за светлые идеалы фашизма? Не спорь. Великие идеи нуждаются в сильных исполнителях, способных не только разевать рты на митингах, но и прыгать с шестом, не касаясь планки… Проваливай!
Сам же дуче в соревнованиях не участвовал. Спортивные состязания он заменял любовными похождениями. Ему нравилось по ночам шляться без всякой охраны по улицам Рима, выискивая «рагацуоне» (доступных бабенок) помоложе. Потом он возвращался домой к своей жене донне Раккеле и всегда радовался, когда его узнавали в потемках прохожие, а в столице шли разговоры:
— Дуче-то наш… каков молодец! Уж столько лет во главе партии, а все еще по «рагацуоне» стреляет. Воротник подымет, шляпу на глаза нахлобучит и думает, что его не узнают… мы все знаем! Знаем, что скоро загнется от рака…
Однажды, когда Муссолини проезжал по Риму, приветствуемый прохожими, из толпы раздался дикий женский вопль…
— Хочу ребенка от дуче! Только от дуче…
В таких делах отказывать женщине нельзя, и Муссолини велел найти кричавшую женщину, которая оперативно быстро забеременела. Это была рыжекудрая Клара Петаччи, которую итальянцы и повесили потом вместе с отцом ее ребенка, но повесили не за шею, а вниз головами — за ноги. Впрочем, до этого было еще далеко, и улицы гордого Рима украшали броские плакаты:
Наш дуче всегда прав!..
22 января английская армия Уэйвелла взяла Тобрук.
Итало Гарибольди (самый главный «запевала», по словам Муссолини) первым стал паковать чемоданы, его офицеры мигом опорожнили бутылки с минеральной водой «Рекоаро».
Солдаты армии Гарибольди дружно собирали манатки.
Предстоял массовый забег на длинную дистанцию.
Кому драпать до Мессины, кому и дальше — аж до Турина…
Но в эту панику вдруг врезались танки Эрвина Роммеля!
* * *
В то, что Советский Союз рано или поздно собирается нападать на Германию, в это Фридрих Паулюс никогда не верил (ни в кабинетах Цоссена, ни в домашнем кругу он таких подозрений никогда не высказывал — факт известный). Сейчас его, завершившего план «Барбаросса», угнетали совсем иные сомнения, и он решил повидаться с генерал-полковником Людвигом Беком…
Бек, предшественник Гальдера, смирился с аншлюсом Австрии, но после захвата Чехословакии пришел к выводу о неизбежности краха Германии в ближайшем будущем. «Чтобы разъяснить будущим историкам нашу позицию, я, как начальник генерального штаба, официально заявляю, что отказываюсь одобрять национал-социалистические авантюры (фюрера). Окончательная победа Германии невозможна», — с такими-то вот словами Людвиг фон Бек — фигура в общем-то трагическая! — и уступил свое кресло Францу Гальдеру.
Паулюс хотел повидаться именно с Беком, а тот, хорошо информированный, встретил его неприязненно:
— Мне, честно говоря, не по душе ваша игра с Востоком. Не стану приводить хрестоматийный пример Наполеона, лучше напомню слова Фридриха Великого: «Всякая вражеская армия, осмелившаяся проникнуть до Смоленска и далее, безусловно, найдет себе могилу в русских степях…»
Паулюс наивно аргументировал свою защиту:
— А что имел тогда король? Кавалерию двух алкоголиков Циттена и Зейдлица? Теперь же, в век моторов, гладкие степи как раз и являются лучшим рельефом для развертывания танков в самую глубину стратегических направлений.
Казалось, Бек был знаком с планом «Барбаросса»:
— Я не знал, Паулюс, что вы готовитесь в новые Шлиффены! — с ядом на устах произнес он. — Но и Шлиффен оказался в дураках, ибо не учел наличия второго фронта. — Бек вдруг заговорил об узости доктринерского мышления профессионалов-генеральштеблеров, считающих войну наивысшей формой человеческого самоутверждения. — Односторонность такого мышления, Паулюс, может завести вас в степях очень далеко… и даже не в ту сторону! Я всегда ратовал за усиление вермахта, но пора бы немцам подумать, что армия не обязательно должна служить только войне. Не забывайте и о личной ответственности каждого полководца.
Паулюс не ожидал такого «благословения», ради которого, кажется, и явился к отставному стратегу.
— Простите. Если приказ дан, я его выполню.
— Даже если он преступен? — усмехнулся Бек.
— Однако — преступен и тот, кто не исполнит приказ высшего командования, — возразил Паулюс. — Из этой альтернативы образуется колдовской круг, из которого нам, военным специалистам, уже никогда не выбраться.
— Но я-то, — воскликнул Бек, — я выбрался!..
Паулюс молча откланялся, и они расстались. Дома Паулюс застал барона Кутченбаха.
— Вы чем-то встревожены? — заботливо спросил зять.
— Может быть. После разговора с Людвигом Беком остался на душе скверный осадок, как в кружке с дурным пивом. Стоит ли так жестоко морализировать, если развитие боевой техники уже давно перечеркнуло все христианские добродетели Гаагской и Женевской конвенций? Я совсем не думаю, что мы придем в Россию как спасители, а русские не встретят нас как великие гуманисты… Наши древние боги всегда алчут крови!
Беседа же с Беком долго не забывалась и будет мучить Паулюса даже в России — за колючей проволокой лагеря № 27. Не это ли порицание фон Беком его, автора плана «Барбаросса», через три года и заставит Паулюса шагнуть к микрофону московского радиовещания, чтобы сказать всем немцам:
— Внимание! Это говорю я, фельдмаршал Фридрих Паулюс, которого в Германии объявили мертвым…
13. А теперь можно танцевать
Коричневая чума расползалась по миру — как злокачественный лишай. В марте немецкие войска уже хозяйничали в Болгарии, Антонеску расквартировал в Румынии 20 германских дивизий, в Финляндии немцы вели себя как дома; маршал Маннергейм даже отменил в стране «сухой закон» — ради приятных союзников, желающих выпить и закусить копченой салакой. Гитлер направил армию в Грецию, дабы выручить разбитого там эллинами Бенито Муссолини. Паулюс в это время горячо одобрял нападение на Югославию, связывая его (хотя бы теоретически) с предстоящим вторжением в пределы России. «Нашими целями в данном случае, — писал он, — было прежде всего иметь свободным свое правое плечо, когда мы нападем на Россию…»
Гитлер распорядился выделить дивизии для дуче в Албании:
— Без нас ему даже с янычарами не справиться…
Наверное, в Москве уже обратили внимание, что штабы армий Теодора фон Бока и Ганса Гюнтера фон Клюге разместились в Познани и Варшаве; пока эти фельдмаршалы держали войска подальше от рубежей СССР, чтобы Москва не слишком-то волновалась. В это же время, громыхая газами мощных выхлопов, включив боевые прожекторы, танки Роммеля, высадившиеся с кораблей в Триполитании, уже рвали железными траками полосы верблюжьих колючек, танки величаво удалялись в пустыни Киренаики. Немецкая агентура подняла восстание в Сирии, возникли волнения в сопредельном Ираке, — и это понятно, ибо Гитлер, как и Наполеон, объявил себя большим другом и защитником мусульманского мира…
Немецкие агенты уже давно проникли в Крым, где вели среди татар умелую пропаганду, взвинчивая мусульманский фанатизм. «Германский эффенди Адольф, — говорили они татарам, — родился с зеленой каймой вокруг живота», что является несомненным признаком мусульманской святости…
Был февраль 1941 года, когда Паулюс застал Гальдера в гордом одиночестве. На столе начальника генштаба валялся «Милитервиссеншафтлихе рундшау» — главный печатный орган ОКХ.
— Читали? — спросил Гальдер, с линзой в руках чуть ли не животом ползая по огромной карте. — Информация Кёстринга о переменах в Москве подтвердилась. Сталин сделал умного Шапошникова заместителем Тимошенко, а начальником в генштабе выдвинул какого-то вундеркинда по фамилии Жуков… Случайно, не того, что был при Халхин-Голе?
Пришлось потревожить полковника Адольфа Хойзингера, большого знатока Красной Армии, который и доложил:
— Жуков. Георгий. Отца звали Константином. Пошел наверх. Он резок. Порою нетерпим. Имеет дочь. Пожалуй, первым он применил массированный танковый удар на рубежах Монголии, с чего и началось его выдвижение. В отличие от Шапошникова, который вел себя со Сталиным независимо, Жуков, только что появясь в Генштабе, вряд ли проявит себя в полной мере.
— Все? — спросил Гальдер, отбросив линзу.
— Пока все. Будущее покажет, кто такой этот Жуков…
Отпустив Хойзингера, Гальдер жаловался Паулюсу;
— Уже не хватает пробок, чтобы заткнуть все дырки в нашей разбухающей бочке. Видите, сколько фронтов сразу… тут сам дьявол ногу сломает! Кому что дать, у кого что отнять. Отныне нам, Паулюс, ничего не остается, как перенести сроки нападения на Россию… Может, оно и лучше? Дороги подсохнут…
27 марта 1941 года Паулюс был приглашен на «большой ковер» в рейхсканцелярию. В центре огромного зала состоялась нервная беседа Гитлера с Йодлем и Кейтелем. ОКВ было взволновано. Гитлер с пафосом рассуждал, что от перенесения сроков на июнь планы войны с Россией не пострадают.
— Да, Югославия нас задержит, — признал он, — сербы очень воинственны. Надо сразу же натравливать на них усташей-хорватов Анте Павелича. Труднее всего справиться с авторитетом России на Балканах, который она приобрела в борьбе за свободу славян… Успокойте Браухича: двух летних месяцев вполне достаточно для полного сокрушения России… Паулюс, где вы? Подойдите ближе. Вам предстоит слетать в Будапешт и нажать на мадьяр, чтобы их гонведы помогли нашей пехоте в Югославии… Йодль, не хватит ли шептаться с Кейтелем? Я все слышу. Заверяю вас, что никакой зимней кампании в России не будет. Все решится в летний период, и только мухи с комарами станут помехой нашим гренадерам…
— Как бы мы ни секретничали, — напомнил Йодль, — но апрель станет конечным месяцем, когда произойдет неизбежная утечка информации… Русские наверняка все уже знают!
Паулюс, глянув на фюрера, скупо улыбнулся:
— Если они знают, то почему же держат свои главные силы стоящими от рубежей на триста и даже четыреста километров? Красная Армия эшелонирована в глубину вплоть до Днепра, их боевой максимум отодвинут к востоку, а мы против слабого минимума выставляем свой мощный максимум. Склады снабжений и аэродромы русских сосредоточены возле самых границ, что позволит нам сразу же их уничтожить.
— Паулюс более объективен, — поддержал его Гитлер.
— Благодарю, но это не моя заслуга — абвера…
На всякий случай, чтобы заглушить подозрения, Москве было предложено участие в Лейпцигской ярмарке и международной выставке в Вене. Геббельс охотно подключился в работу по дезинформации. Германия наполнилась слухами, будто следует ожидать визита Сталина в Берлин, уже скуплена вся красная материя, чтобы ко дню его приезда украсить столицу рейха красными флагами. И Сталин — таковы были слухи — уже согласен отдать фюреру Украину «во временное пользование».
Но тут начались осложнения, которых никто не предвидел. Роммель уже дал понять генералу Итало Гарибольди, кто тут господин, а кто лишь слуга, и взял командование в свои руки. На вопрос Гарибольди, что ему делать, Роммель ответил:
— Будете меня догонять. У вас спорт в почете… Никого не оповестив (ни Рим, ни даже Берлин), он с ходу ворвался на танках в Бенгази. По дороге ему повались два английских генерала — Ним и О'Коннор, которые никак не ожидали оказаться в плену!
— Ваши действия превосходят все наши ожидания.
На это Роммель отвечал им:
— Возможно! А что толку с ваших трех танков против одного моего, если вы не умеете определить их цели?
Уверенность Роммеля в превосходстве своего ума и немецкой техники была столь велика, что он не боялся вровень с танками загонять в гущу боя даже бронетранспортеры с пехотой. Кажется, будь у него телеги или стадо баранов, он бы и их загнал в центр сражения.
Почему-то все испугались его усердия. Не только в Каире и Лондоне, не только в Риме, но даже… даже в Берлине! Роммель за две недели захватил у англичан всю область Киренаику (кроме Тобрука, который в кольце осады оказался далеко в тылу его танкового корпуса)…
Гальдер самоуправства не терпел.
— И это ваш приятель? — выговорил он Паулюсу. — Сразу видно, что он пересел в танк из-за столика вагона-ресторана фюрера, сильно покачиваясь. Германия в канун войны с Россией не может позволить себе такую роскошь — иметь активный фронт в Африке. Роммелю указывалось оборонять Триполи, а он выкатывает свои «ролики» уже на границы с Египтом…
Германия отмечала 52-летие Гитлера; бывший командир Паулюса, генерал Рейхенау, выступил по радио, сравнивая Гитлера с Фридрихом Великим, Клаузевицем и Мольтке. Немцы в Берлине бестолково судачили: почему не приезжает Сталин?
— Украина сейчас нам бы не помешала! И нам было бы приятнее видеть Сталина с фюрером на балконе рейхсканцелярии. Вот тогда бы Черчилль обклался!
Роммелю из ОКХ переслали приказ: перейти к жесткой обороне. Но корпус Роммеля катил на «роликах» дальше.
— Он теперь требует, — возмущался Гальдер, — чтобы в его танки вмонтировали кондиционеры воздуха. Что он? Совсем спятил? Скоро танкисты в России попросят, чтобы в танках поставили печки и заготовили дровишки. А дым будет выходить через пушку?
— Поймите, — доказывал Паулюс, защищая приятеля, — танк сам по себе, словно консервная банка, мы во Франции воевали в одних трусах, а здесь… Африка! Песчаное пекло.
(Как пишет наш военный историк В. Секистов, «боевые действия в Северной Африке были тесно связаны со многими важнейшими вопросами политики и стратегии… Гитлер серьезно помочь Муссолини не мог и не хотел, так как в это же время фашистская Германия интенсивно готовилась к нападению на СССР».)
Муссолини послал Гитлеру протест, требуя, чтобы Берлин образумил этого «безумца», который рискует только своей головой, но терять-то колонии в Африке придется не Роммелю, а Италии! В ответ на протест дуче Роммель вышел на египетскую границу, и тогда король Фарук устроил в Каире антибританскую демонстрацию под лозунгом: «Вперед, Роммель!» — английская марионетка, король Фарук прислужничал Лондону, заодно уж и заигрывая перед всемогущим Гитлером и Муссолини…
Кейтель с Йодлем в ОКВ устроили срочное совещание:
— Роммель своими претензиями на звание нового Александра Македонского губит осуществление всего плана «Барбаросса». Африканский театр всегда останется для нас только вспомогательным, пока мы не разделались с Россией…
Гальдер очень сурово смотрел на Паулюса.
— Итак, — решил он. — Фюрер требует связать этого сумасшедшего. Кейтель хотел бы отправить в Ливию меня. Но мое личное вмешательство, боюсь, позволит Роммелю возомнить о себе черт знает что. Вы же с ним давние приятели, вот вы и напяливайте на Роммеля смирительную рубашку…
Поздно вечером 24 апреля самолет с Паулюсом приземлился на аэродроме в Бенгази, где его поджидал Роммель:
— Сознавайся, тебя прислал Гальдер… из ОКХ?
— Кейтель… из ОКВ, — сфальшивил Паулюс. — Эрвин, что ты натворил тут? Ведь Германии и фюреру пока безразлично, чей Тобрук — твой или Уэйвелла… Пусть об этом болит голова у Муссолини.
Роммель пригласил его в свой бронетранспортер:
— Поехали! Какие последние анекдоты в Берлине?
Усаживаясь удобнее, Паулюс рассказал анекдот:
— Приехал дуче к нашему фюреру. Сидят, разговаривают, Гитлера позвали к телефону, а Муссолини 6ез него стал открывать бутылку с шампанским. Тут шампанское выстрелило пробкой — прямо в глаз. Вернулся фюрер в кабинет и развел руками: «Ах, дуче, дуче! Стоит мне хоть на одну минуту оставить тебя одного — и ты уже в синяках…»
Они мчались через пустыню, исполосованную гусеницами танков. Где-то на горизонте факелом догорал сбитый британский «харрикейн». Быстро темнело. Роммель достал из мешка алжирское вино и крупные апельсины из Марокко. Бронетранспортер взрывал грудью песчаные эскадры, словно хороший бульдозер. Генералов мотало, как катер в море.
— Откуда у тебя все с марокканскими этикетками?
Они хлебали вино прямо из горлышка бутылки. Роммель старался перекричать грохот дизеля, рассказывая:
— Вино и фрукты поставляют французы — те, что верны Петэну и его шайке, а не этому… как его? Де Голлю…
Сначала разговор шел чисто профессиональный!
— Мои «ролики» отработали на повышенных режимах, моторы уже исчерпали свои ресурсы, пора их заменять новыми… Знаю, что ты скажешь. Но здесь особые условия — Африка!
Грохот. Пылища. Визг металла, скорость.
— Пойми, — кричал ему в ухо Паулюс, — в России тоже особые условия, и каждый резервный мотор в Германии на счету…
Они приехали на КП. Роммель показал вдаль:
— Вот и Египет… Есть способ образумить Гальдера и завистников: для этого я возьму Каир, чтобы танками контролировать Суэцкий канал. Что мне Фарук? Я сделаю из него домашнюю обезьяну, чтобы она подавала мне кофе в постель.
Роммель сбросил с головы пробковый шлем. В командном шатре его ожидал араб, с которым он быстро переговорил через переводчика-итальянца. Паулюс спросил: кто это?
— Анвар ас-Садат, офицер короля Фарука. Меня ждут в Каире. Я знаю все. Вплоть до цен на коньяк в отеле «Семирамида». Берберы на верблюдах таскают для меня бидоны с водой. Я расплачиваюсь с ними бусами и свертками синего маркизета.
Паулюс предъявил ему суровые обвинения ОКХ.
— А выйти к Суэцу тебе сейчас никто не позволит. Своим прорывом к Египту ты невольно подрываешь все наши планы восточной кампании. Фельдмаршал фон Клюге давно торчит в Варшаве, обложившись литературой о Наполеоне, чтобы не повторить его гениальных ошибок с Россией…
— Нашли учителя! — долго и взахлеб хохотал Роммель.
В его окружении Паулюс встретил сослуживца своих молодых еще лет — генерала Генриха Кирхгейма, с которым когда-то служил в Альпийском корпусе, и они оба одинаково страдали общим недугом — дизентерией.
— Генрих, ты неважно выглядишь, — сказал Паулюс.
— Что? Ах! — отмахнулся Кирхгейм. — Здесь могут выжить только берберы да скорпионы. Говорят, в Берлине уже спланировали поход на Россию… я бы хотел лучше топать по грязи русских, только бы вырваться из этого пекла!
Зенитным огнем был подбит британский самолет, летчик выбросился с парашютом и сдался в плен с таким надменным равнодушием, будто оказывал немцам величайшую услугу.
— До вашего прибытия в Ливию у нас каждый день войны был днем кайфа. В полдень мы бросали позицию и разъезжались по барам Каира, до пяти у нас была «сиеста» в шезлонгах, потом снова выезжали на фронт, который и закрывали в семь тридцать до следующего утра… Вы нам все испортили! — сказал летчик.
Роммель ответил пленному, что прежняя договоренность между Гарибольди и Уэйвеллом — не беспокоить противника, когда он освежается в море или загорает на пляжах, эта джентльменская договоренность пусть остается в силе.
— Но будь я на месте Рузвельта, — сказал Роммель, — я бы вам, англичанам, не послал по ленд-лизу даже коробки спичек. Зачем вам танки и самолеты, если вы все равно не воюете? Для вас партия в бридж или в теннис важнее проигрыша в бою… Уведите его к чертовой матери!
— Англия, — крикнул на прощание пленный, — способна проиграть все битвы, чтобы обязательно выиграть самую последнюю. В финале у нас тоже будет очень громкое Ватерлоо…
Паулюс проворчал, что не видит в Англии герцога Веллингтона. А беседы друзей проходили трудно.
Лишь 3 мая Паулюс от увещеваний перешел к повелительному тону ОКХ:
— Эрвин, оставь в покое Тобрук, этот африканский Верден! Ты имеешь право продвинуть свои танки в Киренаике только в том случае, если Уэйвелл отведет свои танки назад.
— Слышу голос Гальдера, — догадался Роммель.
Паулюс ответил, что в Берлине его стали считать «несоответствующим должности», и если Роммель не станет вести войну только оборонительную, с ним быстро расправятся. Паулюс по радио передал жене известие о себе, что жив-здоров, но согласен взять на себя командование Ливийским фронтом (Коко отвечала ему; «Не берись за это! Что будет с тобою, если тебя сцапают в Африке?»). Наконец, вынужденный подчиниться, Роммель велел радировать в Бенгази, чтобы самолет Паулюса ставили на заправку.
— Русские еще не воюют, но уже начали побеждать… пока что здесь, в африканских пустынях! Не будь вашего плана «Барбаросса», и фюрер задарил бы меня орденами и новенькими «роликами», уверен, он пролил бы над Ливией бензиновые дожди, чтобы я со своими солдатами завтракал у каирской «Семирамиды»…
— Ты не в обиде на меня, Эрвин?
— В стратегии я разбираюсь не хуже Гальдера. Вы остановили меня у ворот Египта, ибо русский фактор уже начинает диктовать мне свою волю.
Друзья вернулись в Бенгази, стали прощаться.
— Догадываюсь, — с понурым видом сказал Роммель, — что отныне я зависим от Восточного фронта. Будет Клюге нажимать в России, я буду нажимать в Африке, побежит Манштейн из России, тогда я буду драпать из Ливии…
Этим выводом Роммель доказал, что он человек умный, далеко видящий, и слова его — сущая правда.
«Советский фактор сковал средиземноморскую стратегию еще задолго до нападения на СССР», — так пишет наш великолепный историк В. И. Дашичев, трудами которого я пользовался.
* * *
Хищные орлы гитлеровской империи еще цепко держали в раскинутых когтях серп и молот. 1 мая 1941 года газета «Дер ангриф» вышла под прежним девизом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Но первомайской демонстрации в Берлине уже не было. Гитлер в тот день потребовал от рабочих занять места у станков. Геббельс не вылезал из радиостудии, часами прослушивая мажорное звучание воинственных фанфар, раньше сводки вермахта «выпускались» в эфир под музыку «Прелюдов» Листа, а будущие победы над русской армией Геббельс хотел бы оформить более торжественно. Вероломно усыпляя бдительность обывателей, министр пропаганды 10 июня вдруг снял запрет… на танцы. В это же время, пока немцы отплясывали, радуясь движению своих еще целых конечностей, войска вермахта скрыто уже сосредоточивались на исходных рубежах, готовые обрушить пограничные столбы нашей великой державы…
— Еще один вопрос, — сказал Паулюс, застав Франца Гальдера за поливкой цветов. — Нам уже не сдержать любопытство солдат, эшелонированных под самым носом России. Начинаются сплетни, вредные домыслы. Все труднее убеждать войска, что они собраны возле Бреста и Львова для нападения на… Англию.
Гальдер опустошил лейку над цветущей резедой.
— Можно вести «пропаганду шепотом», будто Сталин согласился на пропуск вермахта через всю свою страну для нападения на… Индию. Якобы вермахт совместно с Красной Армией! Этим эффектным слухом мы испортим и настроение Черчиллю.
Паулюс повернулся, но Гальдер удержал его.
— Послушайте, — сказал он, — а вдруг окажется, что линия Сталина не блеф? Сталин слишком дорожит престижем своего имени и не отдаст его в пустоту… Вспомним хотя бы о Сталинграде: ведь он сделал из этого хлама новый Чикаго.
…Уже был отработан сигнал к нападению: «Дортмунд»!
14. Визит в Сталинград
Сталинград той поры (при всем моем глубочайшем уважении к этому легендарному городу) я никогда не причислил бы к плеяде городов-жемчужин, украшающих нашу родину.
Город на Волге издревле созрел для чисто практических соображений, сделавшись промышленно-купеческим, а такие города никогда не блистали изяществом планировки. К тому же и пожары! До революции Царицын славился именно своими пожарами. Весь деревянно-лабазный, почти деревенский, он горел с бесподобной лихостью, а в домах висели даже наказы от градоначальства: куда кому бежать, кому хватать ведра, а кому браться за багры и топоры, чтобы растаскивать головешки. Пожарные в старом Царицыне по вечерам зажигали уличные фонари, они же ведали заготовкой дров для школ и гимназий. Многие сообщали тогда о знаменитых пожарах в Царицыне, даже Куприн писал о них…
Сам же город длиннейшей «килой», вытянулся вдоль правого (крутого) берега Волги, прямо вдоль улиц денно и нощно шпарили тяжелогруженые составы, жители привыкли к неумолчному грохоту нефтецистерн, бегущих по мостам над обрывами захламленных оврагов. Царицын, когда-то уездный городишко Саратовской губернии, получил название от речки Царицы, рассекавшей его надвое, хотя Царица была далеко не царственной: летом она замыкалась в пересохший ручей, зато в весеннее половодье река металась внизу оврага, словно зверь, которого рискнули заключить в клетку. (Впоследствии Царицу назвали Пионеркой.)
Строили в Сталинграде много, и он обещал со временем стать вполне современным городом. Оперы еще не завели, зато был театр оперетты. 5 вузов, 11 техникумов и 70 библиотек делали Сталинград культурным центром. Но подле новостроек еще притихли старые купеческие лабазы, хранившие в своих потемках стойкие запахи былой России — балыков и дегтя, керосина и мочала, воблы и сарептской горчицы. Окраины Сталинграда напоминали деревни. На севере он был ограничен мазанками рынка и домишками поселка Спартановка, на юге несколько обособленно от города затаилась тихая жизнь Бекетовки — с желтоглазыми кисками на крылечках, с розовыми геранями на окнах, а еще дальше к югу уже ощущалось дыхание жаркого марева калмыцких раздолий, где гуляли надменные гордецы-верблюды. Сталинград имел собственные нефтяные резервуары, оставшиеся еще со времен Нобеля, нефть (как и до революции) доставлялась наливными баржами от Астрахани.
Главное в Сталинграде — тяжелая индустрия! Комплекс заводов был как раз тем насущным, чем гордилась наша страна, о чем говорили по радио и писали в газетах. Именно здесь, на берегах Волги, и созрели подлинные молохи — Сталинградский тракторный завод (СТЗ), «Красный Октябрь», «Метиз», «Баррикады», Лазурь» и силикатный завод; денно и нощно дымила на юге города мощная СталГРЭС, гигантский элеватор из железобетона перемалывал за день курганы зерна, рабочие СТЗ, главного поставщика тракторов для наших полей, выкатывали с конвейеров и танки, но при этом в любой момент они сами могли сесть за рычаги боевого управления (вот этого обстоятельства не учитывал Паулюс, когда в штабах Цоссена он разрабатывал план «Барбаросса»).
Сказать, что Сталинград перед войной утопал в изобилии, было бы грешно, да и читатель не поверил бы мне, распиши я тут райскую благодать. Жили как все, не хуже и не лучше других. Если чего не хватало в магазинах, бегали на базары. Окрестные колхозы оживленной торговлей поддерживали в Сталинграде общий достаток. Рынки ломились от даров природы: мясо из станиц, волжская белорыбица, за гроши уступали ведра красной смородины, мешками сыпали яблоки, меж торговых рядов высились терриконы камышинских арбузов и превосходных дынь, взращенных на частных бахчах. Наконец, был и собственный виноград, а за помидорами очередей никогда не знали… Так что в любом случае рядовой труженик Сталинграда худо-бедно, а сводил концы с концами.
Летом Сталинград удушал людей нестерпимым зноем, часто шел «царицынский дождь» — ветер с пылью. Против суховеев горожане выставили заслон, посадив за городом миллионы кленов, тополей и берез. Детишек вывозили в пионерские лагеря, поближе к колхозам, утопавшим во множестве фруктовых садов, многие горожане отдыхали в донских станицах. По воскресеньям речные трамваи не успевали переправлять сталинградцев на левый (уже не крутой, а пологий) берег Заволжья, где у красивых островов люди купались, ловили рыбу, отдыхали. На островах уже были леса, прекрасные поляны. Оставшиеся в городе на каждом перекрестке занимали очереди за газированной водой, людей мучила жажда. Дети просили родителей отвезти их в зоопарк, где проживала тогда общая любимица сталинградцев — индийская слониха Нелли. В парке культуры и отдыха с парашютной вышки прыгали отважные девушки, придерживая раздутые колоколом ситцевые сарафанчики. У пивных киосков, как всегда, дрались пьяные, свистели дворничихи, сбегалась милиция в белых гимнастерках и шлемах витязей. Облезлые старенькие трамваи ерзали на поворотах улиц, выскребая из рельсов искры с пронзительным визгом.
Многие семьи предпочитали воскресничать на Мамаевом кургане, с которого виделась широкая панорама города и просторы Волги — с караванами барж, парусными шверботами, белыми пароходами. В скудной, выжженной солнцем траве Мамаева кургана фыркали паром дедовские самовары, тут же ворковали патефоны, раскручивая пластинки с романсами Ирмы Яунзем, Вадима Козина, Сергея Лемешева, шло пиво под воблу, работяги, таясь своих жен, торопливо вышибали пробки из мерзавчиков, говоря при этом: «Ну, давай… со свиданьицем! Тока скорее, а то моя уже сюды зырит». Сталинградские инженеры грешили ликером «доппель-кюммель», очень модным тогда среди интеллигенции (помню, мой папа-инженер тоже отдавал ему немалую дань своего восхищения). А невдалеке от Мамаева кургана уже рычали моторы на танкодроме, неподалеку располагалось небольшое взлетное поле местного значения, с которого, кажется, в январе 1943 года и сумел подняться последний самолет из котла Паулюса с мешками писем…
Таким (или примерно таким) был тогда Сталинград — гордость советской индустрии, с населением около полумиллиона жителей, которые еще не ведали, что скоро их город будет полностью уничтожен и войдет в историю Человечества как незабываемый символ народного героизма.
Город-герой еще не был «героем»! Он работал…
* * *
В доме № 4 по Краснопитерской улице проживал Алексей Семенович Чуянов — с женою, детьми, дедом и бабушкой. Возле подъезда по утрам его ожидала легковая машина «бьюик», возвращая хозяина к семье только к ночи, изможденного от разных передряг и волнений, обыватели в городе о нем судачили:
— Большой человек! На своем автомобиле катается , денечек со Сталиным по телефонам о тракторах рассуждает…
Чуянов был первым секретарем Сталинградского обкома и горкома партии. Жизнь этого человека не была легкой. Он застал город, где «царила удушливая атмосфера, при которой клевета, опорочивание, нашептывание, подслушивание и доносы стали средством устранения с работы честных людей, которых объявляли врагами народа. В этот период многие партийные работники и представители творческой интеллигенции Сталинградской области были подвергнуты необоснованным репрессиям», — так вспоминалось Чуянову позже. Он начал партийную работу в Сталинграде с того, что разогнал алчную свору следователей, сыщиков и прокуроров, освободил из тюрем незаконно осужденных.
— Опомнись! — заклинала его жена. — Ты ведь не один на белом свете, хоть о детях-то наших подумал ли?
— Помню. О тебе, о себе, о детях, — отвечал Чуянов. — Но грех великий не подумать о людях…
Он попер на рожон! Один против многих.
Г. М. Маленков звонил из Москвы, задыхаясь, материл Чуянова:
— Что ты там балдеешь? Разве за тем тебе партия доверила город, носящий имя нашего мудрого вождя? Мы тебя в порошок сотрем, сволочь паршивая… Завтра от тебя даже тени на стене не останется!
Местное НКВД тоже хотело бы сделать из Чуянова «врага народа», но он — устоял. Как устоял? — чудом, наверное. Устоял и добился, чтобы весь аппарат слишком ретивых надсмотрщиков к Сталинграду близко не подпускали. Чуянов играл своей головой, а ведь ему было тогда всего лишь 33 годочка. В сложных обстоятельствах он действовал по правилу «не играть в таинственного носителя забот и тревог партии, не скрывать от народа своих сомнений», — это слова самого Чуянова.
— Хуже нет, — говорил он друзьям, поигрывая на пальце ключами от секретного сейфа, — когда партийный «кадр» становится на пьедестал недоступного божества с многозначительным выражением на лице заботливого и внимательного человека, и в таком случае именно по морде его и хочется треснуть вот этими ключами, чтобы не задавался.
«Большой» человек был и хорошим человеком (в этом я нисколько не сомневаюсь), а жене своей он признавался:
— Когда полмиллиона знает меня в лицо и по имени-отчеству, тогда от народа секретаршей не загородишься. Если у бабки крыша протекает, так она уже не ползет к домоуправу, она со своей слезницей ко мне тащится. Закройся я на замок, на улице меня дождется и все равно доконает…
Конечно, страх в душе был, и много позже Чуянов признавался, что рано или поздно его бы все равно посадили:
— Меня, по сути дела, спасла война. Если б не война, от меня бы и костей не осталось…
В большой стратегии он ни бельмеса не смыслил. Кадровый партийный работник, облеченный большим доверием народа (добавим — и лично товарища Сталина), он видел смысл жизни только в людях — со всеми их радостями и капризами, с активностью и недовольством, с подлинным героизмом и безобразным головотяпством. Приятно думать, что люди ангелы. Но тюрьма в Сталинграде — не декорация и не «пережиток проклятого прошлого». Приходилось считаться, что еще не перевелись жулики, предатели, доносчики, спекулянты, ворюги, хапуги и просто обалдуи, каких божий свет еще не видывал…
В один из летних дней 1941 года Алексей Семенович завтракал с семьей, сердито поучая своих мальчишек:
— Вовка, не болтай ногами. Валера, лопай, что дают и не капризничай. Заодно глянь — не подошла ли машина?
Дедушка Ефим Иванович сказал ему:
— Дал бы ты мальцам своим по лбу! Рази же они человеческий язык понимают? Вот раньше — драли, с утра до ночи, как Сидорову козу, и все было в ажуре. Не кочевряжились!
— У нас свой ажур, — ответил Чуянов.
— Иди-ка ты… никогда вам порядков не навести! Расселись там по кабинетам, одно знаете — в телефоны мурлыкать…
Чуянов уже привык к брюзжанию деда и никак не реагировал. Допивая чай, он выглянул в окно, окликнул жену:
— Подъехал! Может, и вернусь сегодня пораньше. — Да кто тебе поверит? — отвечала жена. Сбежав по лестнице, Чуянов от самого крыльца погнул жаркий воздух. Внутри его машины сидело… НКВД!
— Чего испугался? Садись, вместе поедем.
Это был Воронин, начальник НКВД Сталинградской области. Он шлепнул ладонью по коже сиденья, уже пропеченной безжалостным солнцем. Вместе поехали в обком. По дороге, как это принято, болтали о пустяках. Когда же приехали и прошли в кабинет, Воронин плотно затворил двери.
— Что еще стряслось? — насторожился Чуянов. Он подумал о какой-нибудь аварии на заводах.
— Выручай, — ответил Воронин. — Во всей области у тебя одного «бьюик» повышенной скорости. Дай нам, а?
— Кого догонять? Или побег из тюрьмы?
— Хуже, — сказал Воронин и, рывком придвинув к себе стул, плотно уселся. — Из наркомата звонили. Кто-то из военных атташе Германии, фамилию не разобрал, вдруг рванул из Москвы на быстроходной машине…
— Куда рванул?
— К нам! Прется на Сталинград, словно танк.
— А что ему нужно здесь?
Воронин подивился наивности Чуянова:
— Как же не понять? Очевидно, мы тут профасонили, а немцы успели завести в Сталинграде своих резидентов. Значит, какой-то гад на заводах в Берлин уже капает. А у нас на конвейере СТЗ — танки самой новейшей модификации. Вот главное…
— Отсечь его по дороге пробовали?
— Попробуй, отсеки, — ответил Воронин. — У него машина — как тигр, вездеход какой-то. Наши товарищи в Урюпинске пробовали догнать. Но у них же «эмка», барахло поганое. За немецкой техникой не угнаться! Вот и катит.
— Ладно, — сказал Чуянов, — хватай мой «бьюик», только верни его хотя бы не искалеченным на родимых ухабах.
— Вот спасибо. Ну, я побежал…
Чуянов стал вникать в дела области, но в середине дня его потревожил звонок из Питомника, большого сельского хозяйства к западу от города. Звонил секретарь тамошней парторганизации, просил объяснить, как понимать заявление ТАСС от 14 июня сего года, в котором черным по белому написано: «По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы…»
Там в Питомнике не понимали:
— Пишут, вроде плутократы войну провоцируют, а немцы тут ни при чем. Как народу я растолкую? У меня вот деверь приезжал в отпуск. Он в ленинградском порту губжаном вкалывает. Так он сказал, что мы в Германию все шлем, шлем, шлем… а от Гитлера хрен в тряпке получишь!
Уверенным голосом Чуянов ответил Питомнику: — Перестаньте фантазировать. Кто лучше знает обстановку в мире? Твой деверь-губжан или товарищ Сталин? Надо иметь полное доверие к советской печати, а не слушать пьяные байки. Никто не помешает нам достраивать социализм. Ты мне лучше скажи, как у вас подготовка к сбору урожая?..
Только отговорили, тут же позвонили из НКВД:
— Это я, Воронин… Атташе германского посольства загримирован под иностранного туриста. Значит, его надо еще и «раскулачить». Но случилось все плохо, Семеныч.
— А что такое?
— Видать, у него карты лучше наших: он непроезжими проселками мимо Деминской МТС как рванул на грейдерную, мы, конечно, его прижали, но он все-таки проскочил…
— Куда проскочил? — обомлел Чуянов.
— Извини. Этот хлюст уже в Сталинграде.
— Какого черта он тут делает, в городе-то?
— Ищет свободный номер в гостинице.
Чуянов не выдержал, покрыл НКВД матом:
— Работать надо лучше! Навешали себе шпалы с ромбами, с женами без нагана спать не ляжете, а сами…
— А мы что тут тебе? Или мух ноздрями ловим?
— Верни машину, мать твою за ногу.
— Вернем. Не шуми… мы шуметь тоже умеем!
Далее события развивались, как в паршивом детективе.
Военный атташе Германии (скорее, один из сподручных) подрулил к центральной гостинице города. Его инкогнито оставалось в силе, он изображал редкого по тем временам дикобраза — иностранного туриста. По-русски же говорил чисто, без акцента, но это, замечу попутно, не был ни генерал Кёстринг, ни полковник Кребс, его помощник. НКВД области было обязано учитывать, что агент в любой момент мог уйти в «глухую защиту» дипломатического иммунитета, и тогда с него взятки гладки.
В регистратуре гостиницы сидела солидная дама в модном берете. При виде иностранца она малость обалдела:
— Ой! А у нас все забито. Ни одного номерочка. Видели, что при входе на ступенях лестницы спят.
— Не ночевать же мне на улице, — возмутился приезжий.
— Может, в «Интуристе» освободились комнаты…
В этом «Интуристе» повторилась та же история:
— У нас в городе проходит конференция читателей с работниками библиотек, и все номера переполнены читателями. Знаете что, — посоветовала деловая барышня, — попробуйте сунуться в Дом колхозника. Там всегда легче устроиться. Хоть в коридоре на скамейке. Так многие приезжие у нас отдыхают.
— Благодарю! А где же этот ваш Дом колхозника?
— Боюсь, сами не найдете… Верка! — закричала она в соседнюю комнату. — Верка, проводи товарища иностранца до колхозников. Заодно на заграничной машине прокатишься.
В Доме колхозника все было забито постояльцами, и в этом убедился сам «турист», увидев, как несчастные приезжие ютились с мешками на лавках в коридорах, раскладные кровати стояли даже на лестничных площадках.
— А вы не огорчайтесь, — было сказано здесь «туристу». — Уж в студенческом-то общежитии мы вам койку устроим…
Пришлось согласиться на общежитие. «Турист» оставил свою машину, где пешком, где трамваем он направился в северную часть города, где дымили трубы СТЗ. Наконец жарища Сталинграда и его доконала. Он занял место в очереди у пивной бочки. Тут к нему пристали хулиганы местного областного значения. Так, мелочь. Шпана в клешах. «Турист» врезал им всем японским приемом «свист дрозда в полночь», — так ловко, что шпана мигом растеряла копейки по булыжникам мостовой.
Милиция не замедлила явиться, как штык?
— Граждане, до ближайшего отделения… пройдемте! Без паники!
Взяли за цугундер шпану и «туриста». В милиции пришлось выложить подлинные документы. «Раскулаченный», он понял, что его песня спета, и, погрузив автомобиль на пассажирский теплоход, отплыл из Сталинграда вниз по Волге. Через несколько дней Чуянову позвонили из Астрахани.
— Алексей Семеныч, у нас тут чэпэ. Помогите!
— Своим-то соседям как не помочь? Что стряслось?
— Сняли мы тут с парохода одного типа. В дымину косой. Ну, хуже сапожника! При нем ничего нету, не помнит, куда делся багаж или вообще багажа не было… Помогите! Он же в одних трусах, в майке и в тапочках… лыка не вяжет!
— Кто он, этот ваш, лыка не вяжущий?
— Господи, да военный атташе Германии… Проспался и требует, чтобы его отправили в Москву самолетом. Срочно!
Пришлось Чуянову списать в расход деньги на экипировку атташе. За счет Сталинградского обкома его приодели, и он отбыл восвояси… До начала войны оставалась неделя.
Вермахт ожидал только сигнала — «Дортмунд »!
А в секретном сейфе Чуянова лежал страшный пакет с пятью печатями, и на пакете было написано:
«Вскрыть при объявлении войны».
* * *
Признаться, я не все понимаю в этой истории. Глава была уже написана, когда я узнал, что визитером был майор Нагель, посланный на разведку Гальдером; этот майор был причислен к штатам германского посольства в Москве. Ясно, что в канун войны ОКХ желало иметь информацию о том, какие танки и сколько их выходит с конвейера СТЗ на испытательный полигон Сталинграда; кажется, что Гальдер и его генштаб не слишком-то верили в достоверность информации из Москвы, поступавшей от Кёстринга… Местному НКВД удалось лишь «дезавуировать» гитлеровского шпиона. Но, думается, было бы правильнее позволить ему выйти на связь с резидентом, чтобы потом, пронаблюдав за ним, вовремя обезвредить. И уж совсем я, автор, не могу догадаться, каким образом опытный военный разведчик остался на пристани Астрахани в одних трусах, в майке и в тапочках.
Сам он разделся? Или ему «помогли» раздеться?..
В это время германское посольство в Москве уже опустело, детей немцы вывезли, полковник Ганс Кребс — сразу после первомайского парада — тоже удалился в Германию. Жены посольских чиновников носились, как угорелые, по комиссионкам, алчно скупая все подряд — иконы, фарфор, меха, антикварные ценности, обвешивались кольцами, браслетами, ожерельями. Нахапавшись выше меры, немки поспешно покидали Москву, вывозя массу чемоданов, не подвергаясь осмотру на таможнях, ибо их багаж был обклеен этикетками «дипломатической почты». Генерал Эрнст Кёстринг с раздражением писал: «Приезжают сюда, лопают до отвала масло и черную икру, обвешиваются с ног до головы шубами и побрякушками за дешевые рубли, а затем смываются… Грешен, но мне так и хочется пожелать успеха англичанам: пусть их бомбы угодят в те дома, где находится в Германии это недостойным образом „спасенное добро“. Думается, возмущение Кёстринга легко объяснимо: в глубине души он все-таки оставался русским немцем и к России не мог относиться наплевательски…
А с улиц Москвы доносились торжественные марши:
Могучих партия ведет, Шагает трудовой народ, И ты их знамя, Сталин…Германский посол граф Шуленбург еще не подозревал о близости катастрофы, но генерал-лейтенант Кёстринг, кажется, уже был оповещен о страшном сигнале — «Дортмунд»!
15. Кадры решают все
К весне 1941 года железные дороги Германии пропускали на Восток до ста воинских эшелонов. Близ западных границ СССР фюрер держал около четырех миллионов солдат вермахта. Когда Сталину докладывали об этом, он обзывал докладчиков паникерами, трусами и провокаторами.
— У меня имеется личное письмо Гитлера ко мне, в котором он объясняет, что задумал большую операцию против Англии и, чтобы запутать британскую разведку, он вынужден группировать силы вторжения возле наших границ…
После этого остается лишь развести руками. Надо быть совсем олухом в военных делах, чтобы поверить: мол, для нападения на Англию надо собирать армию не где-нибудь, а на Висле и на Буге. Мало того, предупреждения о близком вторжении поступали из самой Германии — даже от офицеров вермахта, даже от старых членов нацистской партии, не согласных с Гитлером.
— Кому-то, — говорил Сталин, — очень хочется втянуть нашу страну в войну с Германией… Я знаю только одного немца — это Вильгельм Пик, он единственный коммунист, которому можно верить, но он не предупреждал меня, что будет война…
Пожалуй, помимо Пика, он еще верил только Гитлеру!
За время с осени 1939 года (сразу после пакта Риббентропа — Молотова о дружбе) и до самого начала войны немецкие самолеты более пятисот раз нарушали советскую границу — и хоть бы что!
Сталин приказал огня не открывать.
— Не поддаваться на провокацию! — говорил он, покуривая свою трубку. — Империалисты, завидуя небывалому росту нашего могущества, желают развязать мировую войну, чтобы и нас втянуть в эту бойню. Но мы, верные своей миролюбивой политике, не поддадимся ни на какие провокации…
Не разрешая давать отпор агрессору, не он ли сам и провоцировал Гитлера наглеть все более, ибо любая наглость со стороны вермахта оставалась безнаказанной? Почему так могло случиться? Я, автор, вижу ответ в одном: Сталин дрожал за свою шкуру и попросту боялся войны, ибо любое поражение могло выбросить его из кремлевского кабинета вместе с его легендарной трубкой. Ведь он был труслив , и вся жестокость его — это результат уникальной трусости.
Была еще середина апреля 1941 года, когда немецкие войска вступили в Белград, и как раз в день падения сербской столицы из Москвы отъезжал Иосуке Мацуока, японский министр иностранных дел. В Москве он был проездом из Берлина, где вел переговоры с Гитлером о единстве действий Японии и Германии, а в Москве убеждал Сталина в том, что Япония в делах Дальнего Востока будет придерживаться строгого нейтралитета. Провожать Мацуока на вокзале собрались немало дипломатов, аккредитованных в Москве, и вдруг — к удивлению всех! — на перроне появились Сталин с Молотовым, очень спешившие, чтобы не опоздать к отходу дальневосточного экспресса.
Сталин сразу кинулся обнимать Мацуока, высказьвая ему очередную политическую ахинею, которая не делает ему чести:
— Я сам азиат, а мы, азиаты, должны держаться вместе…
«Здесь ли Шуленбург?» — спросил он потом. Германский посол предстал перед ним, а потом докладывал в Берлине сенсационное извещение: «Сталин обнял меня за плечи и сказал: „Мы должны остаться друзьями, и вы должны теперь сделать для этого все!“ Затем Сталин увидел Кёстринга с Кребсом, стал обнимать немцев, повторяя слова о нерушимой дружбе между ним и Германией…
Гитлер терпеливо выслушал доклад Риббентропа о том, как «вождь народов всего мира» кидался на шею японцам и немцам, словно провожал ближайших родственников, и долго молчал, пытаясь вникнуть в психологию Сталина. Затем сделал вывод:
— Сталин, кажется, начинает волноваться …
Через несколько дней вермахт вступил в Афины.
* * *
Германский посол в Москве, граф Фридрих-Вернер фон дер Шуленбург, был типичным аристократом германской породы, а человек — умнейший и проницательный. Советником при нем состоял некто Хильгер, сын русского фабриканта, он, как и Кёстринг, родился и учился в России. Хильгер служил при Шуленбурге вроде ценного переводчика, между ними возникла доверительная дружба. После того как посольство опустело и многие отъехали в «фатерланд», Хильгер сказал послу, что обстановка среди оставшихся в Москве немцев явно ненормальная, даже нервозная — в предчувствии близкой катастрофы:
— Никто ничего не делает, чего-то ждут, ощущая близость чего-то страшного. Из Кремля уже не раз запрашивали о срыве поставок нашего оборудования, но Берлин указал нам отмалчиваться от подобных запросов. Я думаю, что вам, граф, надо бы побывать в Берлине, чтобы в аудиенции с фюрером прояснить, наконец, эту гнетущую всех обстановку…
Шуленбург вылетел в Берлин, и в разговоре с послом Гитлер сразу дал ему понять, что вопрос о войне с Россией давно назрел, на что дипломат отвечал фюреру;
— Как можно поверить, что Россия, и без того убогая, способна совершить нападение на вооруженную Германию?
Гитлер быстро спохватился, осознав, что в откровенности переусердствовал, и поспешно стал заверять Шуленбурга в обратном, и на прощание проводил графа словами:
— Возвращайтесь в Москву и будьте совершенно спокойны: я совсем не намерен воевать с русскими…
Но Шуленбург был умнее Гитлера, и он разгадал многое из того, что фюрер не договаривал. На аэродроме в Москве его встречал Хильгер, и посол — под шум еще не включенных моторов — шепнул Хильгеру, чтобы другие не слышали:
— Жребий брошен . Война решена. Что нам делать?..
Шуленбург не желал войны, понимая, что она приведет Германию к гибели. Хильгер мыслил одинаково с послом. Как раз в это же время Москву навестил Деканозов, советский посол в Берлине, сподвижник Л. П. Берии (позже расстрелянный при Хрущеве, как кровавый и отвратительный палач, немало поработавший в сталинских застенках).
— Надо пригласить его к нам… скажем, ради ужина.
Деканозов поужинать в германском посольстве не отказался, притащив с собой «хвост» в лице переводчика Павлова, тогдашнего сталинского любимца, сподручного Молотова. Нет сомнения, что Шуленбург меньше всего думал о насыщении Деканозова и речь завел совсем о другом.
— Очевидно, — сказал он в конце ужина, — то, что сейчас произойдет между нами, будет являться феноменальным случаем в истории всей мировой дипломатии, поскольку я собираюсь сообщить вам самую важную из тайн своего же государства.
Павлов сиял очками, улыбаясь. Деканозов насторожился.
Шуленбург постучал концом вилки о край тарелки.
— Передайте господину Молотову, чтобы он срочно известил господина Сталина: наш фюрер принял решение начать войну с вами, и, судя по той информации, какой я обладаю в данный момент, нападение произойдет ДВАДЦАТЬ ВТОРОГО ИЮНЯ.
Оставались считанные дни мира, а Деканозов спрашивал:
— От имени кого вы предупреждаете нас об этом? Есть ли у вас разрешение от… Гитлера? Или от… Риббентропа?
Дурак, он не понимал главного — эти немцы, Шуленбург с Хильгером, шли на верную смерть, дабы избавить СССР от внезапного нападения, а для Деканозова было важно другое — есть ли у них разрешение от Гитлера?
«Очевидно, — писал впоследствии Хильгер, — он (Деканозов) не мог себе представить, что мы сознательно подвергаем свои жизни величайшей опасности ради последней надежды сохранить мир».
— Нет, — настаивал Деканозов, — вы сначала скажите, кто вас послал, чтобы предупредить о нападении Германии, иначе я не в состоянии тревожить свое правительство… Почему вы, посол Германии, сами же и предупреждаете меня о нападении Германии?
Этой стоеросовой дубине, закаленной в застенках Берии, было не понять, что, помимо служебного долга, существует еще и такое понятие, как обычная человеческая совесть.
— Вас, — холодно отвечал Шуленбург, — очевидно, смущает, что я, посол Гитлера в вашей столице, предупреждаю Россию о планах Гитлера, тем самым предавая его. Вот именно этого вы понять и не можете, подозревая меня в чем-то. Но, учтите, я ведь дипломат еще старой школы, воспитанной на заветах Бисмарка, предупреждавшего немцев на будущее, что Германия может воевать с кем угодно, только не с Россией, где она и оставит свои кости непогребенными…
Деканозов и Павлов известили Молотова о предупреждении Шуленбурга, которого Деканозов так и не понял, зато Молотов все сразу понял как надо и поспешил известить самого Сталина, который, как и Деканозов, тоже ничего не понял, подозревая какие-то хитрые козни «коварных империалистов».
— Будем считать, — сказал он, — что дезинформация пошла уже на уровне послов… Нас провоцируют! Кому, то, надо полагать, очень хочется поссорить меня с Гитлером.
Гитлер давно сократил поставки в СССР и, наконец, свел их до ничтожного минимума, а товарищ Сталин, поддерживая «дружбу» с Гитлером, все усиливал поставки сырья в Германию, словно желая задобрить своего берлинского приятеля, и тут я полностью согласен с Львом Троцким, который называл Сталина главным интендантом фашистской Германии. А наши корабли с поставками для Германии все плыли и плыли; в польском порту Гдыня (Данциге) портовые грузчики из поляков говорили нашим морякам:
— Или у вас совсем головы не стало? Немцы гонят эшелон за эшелоном к вашим границам, вы у них уже давно на прицеле пушек, а сами спешите накормить их… Не стыдно ли?
В июне, когда до войны оставались считанные дни, Тимошенко с Жуковым снова — в который уж раз! — говорили Сталину, что войска близ границы следует усилить и привести их в боевое положение. Ответ Сталина известен;
— Поднять в стране войска, чтобы выдвинуть их к западным границам? Но это же… война ! Неужели сами не понимаете? Никаких поводов для войны не давать немцам.
* * *
Партийные ораторы придумали «текучесть», вот и замелькали в их речах текущие моменты, текущие задачи, вытекающие из них вопросы, и за месяц до начала войны сталинский деятель А. С. Щербаков сделал доклад «О текущих задачах пропаганды». И вот что «вытекало» из его речи (цитирую):
— …на почве легких побед армии в политических кругах Германии распространились хвастовство и самодовольство, которые ведут к отставанию. Все новое, что внесено в оперативное искусство и тактику германской армии, не так уж сложно… не является новостью и вооружение германской армии. На почве самодовольства военная мысль Германии уже не идет, как прежде, вперед. Германская армия потеряла вкус к дальнейшему улучшению военной техники… а наша Красная Армия, используя достижения отечественной и мировой военно-технической мысли, перестроилась и серьезно перевооружилась на основе опыта современной войны. Готовая к любым неожиданностям, она всегда готова на чужой территории защищать свою землю…
Любимый город может спать спокойно
И видеть сны и зеленеть среди весны.
Так ли это? Уничтожив в 1937 году полсотни тысяч командиров, Сталин в 1940 году произвел в лейтенанты 13 000 человек вчерашних солдат. Военных училищ у нас было очень много, но к началу войны преподавателей набрали только 44,2 процента; в авиационных школах не хватало учебных самолетов, горючего давали ничтожно мало, а за два предвоенных года число тренировочных полетов сокращали семь раз подряд.
В речи о «текущих задачах» об этом — ни слова!
Танковые «боги» вермахта, начиная с Гудериана, побеждали потому, что творчески освоили прежний опыт наших танкистов. Немцы свели танки в крупные колонны для массированных ударов, у нас же из танка сделали лишь подспорье для обслуживания пехоты. Танк становился зависим не от мощи своего двигателя, а лишь от скорости, какую могли развить ноги солдат. Главный маршал бронетанковых войск П. А. Ротмистров писал, что это бестолковое решение разрушило всю нашу танковую тактику, которая сложилась ранее. Теперь нам предстояло учиться заново — у тех же «гудерианов», бывших когда-то нашими учениками. Наркомат обороны начал формировать танковые корпуса, но… танки были устарелых систем, запчастей, как всегда, не хватало, а в танкисты набирали людей из пехоты и кавалерии, срочно переучивая их в танкистов.
С. К. Тимошенко приказом от 29 января 1941 года призывал: «Учить войска тому, что нужно на войне, и только так, как делается на войне». Очень хорошие слова! Почти суворовские. А на деле отменили ночное вождение танков («потому что ничего не видно»), запретили ночные атаки пехоты («всех людей в темноте растеряем»), подводным лодкам запретили погружаться в глубину («могут погрузиться и не всплыть»). Да, черт побери, ночью ничего не видно, да, можно людей растерять, да, подлодки иногда тонут, но… Как же «учить войска тому, что нужно на войне»? Вот на это Тимошенко не мог ответить.
Генерал армии Д. Д. Лелюшенко писал, что стараниями горе-теоретиков полевая тактика была доведена до абсурда! «Из уставов был исключен боевой порядок цепью… Цепь заменили „стайкой“, „змейкой“ и „клином“. Группировать бойцов в траншеях впредь запрещали, делая упор на одиночного бойца». Генерал Ефим Щаденко с пеной у рта отстаивал «индивидуальные ячейки».
— Долой все окопы! — призывал он. — Почему империалисты сажают всех вместе в одну траншею? Потому, что они боятся, как бы их солдаты не разбежались, а в окопе за ними наблюдать легче. Советский же боец сознательный, идейно подкованный, он никуда не убежит, а потому пускай сидит в индивидуальной ячейке… Побольше доверия к бойцам, товарищи!
А как готовили командиров? В военных училищах признавалось, что оборона — лишь «возможный, но временный вид действий», приемам же оборонительной войны не обучали, ибо считалось за аксиому то, что, случись война, и Красная Армия будет воевать «малой кровью и только на чужой территории». Военачальники решительно отвергли колоссальный опыт позиционной войны 1914 — 1918 годов, и это была одна из трагических ошибок! Между тем классические формы обороны и порядки отступления иногда гораздо сложнее форм наступательных…
Вооружением у нас ведали тогда три авторитета; Г. И. Кулик, Л. З. Мехлис и Е. А. Щаденко, которые боялись новых образцов оружия, как черт ладана. Они уже запретили выпуск запасных частей к танкам старых модификаций, но при этом активно тормозили серийное производство новейших машин — танка Т-34! Маршал Кулик с пеной у рта доказывал, что автоматы — это «оружие полиции» для расправы с боевым пролетариатом, а наш советский боец поразит любого врага из мосинской винтовки образца 1891 года. Известны и покаянные слова Г. И. Кулика; «Отсутствие автоматов в армии — результат моей ошибки, я в этом повинен… обязуюсь коренным образом поправить положение». Эти свои обещания Г. И. Кулик НЕ выполнил. Но преступная косность и дешевая демагогия «куликов» все-таки, признаем, преодолевалась умом и энергией талантливых патриотов, видевших войну будущего в двух решающих факторах — в мощи огня и в динамизме движения иначе и не было бы у нас танка Т-34! В ту пору говорили тишком: «Кулик не велик, а тоже птица». Маршал артиллерии Н. Д. Яковлев писал о нем: «Это был типичный случай не власти авторитета, а авторитет власти».
Это еще мягко сказано. Перед самой войной Кулик «заморозил» выпуск противотанковых ружей, зато снабжал армию паршивыми винтовками СВТ, от которых потом не знали как избавиться. Немецкие генералы из Цоссена знали, что Кулик ума не имеет, соответственно и действовали. В самый канун нападения они подбросили ему лживую информацию, якобы Германия переводит свою артиллерию на повышенные калибры. Кулик ударился в панику и побежал докладывать Сталину, а Сталин сказал:
— Разумно! Я ведь помню, как при обороне Царицына прекрасно показали себя именно крупнокалиберные пушки…
Этого было достаточно, чтобы Кулик снял с производства малокалиберные пушки — главную полевую силу армии. Нарком вооружения Б. Л. Ванников вспоминал: «Сталин санкционировал это решение, имевшее для нашей армии самые тяжкие последствия. С первых же дней войны мы убедились, какая непоправимая ошибка была допущена!» Подбивать немецкие танки стало нечем, а тяжелые громоздилы-орудия — не сдвинуть с места, ибо в армии не было тягачей. Много ли тонн железа вытянут из грязи на боевую позицию упряжи лошаденок?
Ах, сколько было врагов народа! Но я вижу их не за колючей проволокой Колымы или Воркуты, а в тишайших и теплых кабинетах Кремля, в ближайшем окружении Сталина. Вот один из них — Лев Захарович Мехлис, славный тем, что очень любил убивать людей выстрелом в упор. За год до войны он был наркомом госконтроля. Военное имущество Красной Армии тогда хранилось близ границы. Правительство образовало комиссию — оставить ли имущество там, где сейчас, или отодвинуть склады от границы? Люди военные, люди дальновидные, стали говорить, что склады боеприпасов нельзя держать возле рубежей… мало ли что! Кто-то из военных, самый ушлый, даже сказал, что арсеналы надо убрать как можно дальше от границ — хотя бы за Волгу…
— Паникер! — заорал Мехлис. — Как вам пришло в голову, что Волга может стать военным рубежом? Сначала думайте, что говорите! Наша победоносная Красная Армия, вооруженная могучим учением марксизма, ленинизма и руководимая гениальным и мудрым вождем, будет воевать только малой кровью и только на чужой территории. Поэтому все базы снабжения необходимо оставить близ самой границы государства…
Нашлись смельчаки, Мехлиса даже умоляли:
— Лев Захарович, ну хотя бы полушубки да валенки можно нам, военным, оставить за Волгой?
— А вы разве знаете, когда начнется война? — с ядом спрашивал Мехлис. — Может, она возникнет как раз зимой…
Сталин поддержал Мехлиса. Все склады оружия и продовольствия, базы горючего и арсеналы боеприпасов все-таки оставили на границе, и в первый же день войны они достались противнику в целости и сохранности. Но Лев Захарович доверия Сталина не потерял: очень уж он любил расстреливать, а Сталин недаром сказал: «Кадры решают все…»
* * *
Еще 5 мая 1941 года выступил «всенародный староста» нашей любимой колхозной деревни М. И. Калинин, который, как водится, ничего дельного не сказал, зато он высочайше соизволил сильно гневаться на агрессоров — на Францию, уже разбитую, и на Англию, еще недобитую, которые де и развязали войну в Европе, но тут, по словам старосты, пришло спасение, и — «…занесенная над нами рука агрессора была отведена рукою товарища Сталина. — Конечно, грянули аплодисменты, переходящие в бурные овации. — Договор, заключенный между Советским Союзом и Германией, выбил оружие из их рук…»
Из зала слышались крики:
— Да здравствует наш великий вождь и учитель, любимый товарищ Сталин… Уррра-а!
В таких случаях принято говорить: хоть стой — хоть падай!
14 июня появилось знаменитое «сообщение ТАСС», в котором Сталин и Молотов авторитетно опровергали сплетни и происки империалистов, распускавших злостные слухи о том, что Германия готовит нападение на страну. Тут стоит задуматься: трезвые или пьяные они были, когда запускали камень в свой же собственный огород? Им казалось, что «сообщение ТАСС» вызовет тревогу в Берлине, фюрер в страхе забьется под стол и станет мелко вибрировать, войска вермахта потоком отхлынут от границ, после чего снова прилетит Риббентроп, публично заверяя всех, что Германия — лучший друг Советского Союза.
Но реакции со стороны Берлина не последовало. Радиостанция Коминтерна трижды в день проталдычила текст «сообщения ТАСС» специально для немцев, но в Берлине… ни гу-гу. Немецкие газеты даже не мяукнули в ответ на призыв Кремля, а Геббельс со злорадным садизмом записал в своем дневнике, что напрасно Москва ожидает отклика на свое «сообщение».
— Русские, — сказал он Гансу Фриче, — получат ответ в ближайшие дни. Но только не словами…
«Сообщение ТАСС» от 14 июня было нелепостью, непоправимой ошибкой. Почему? Да по той простой причине, что, заверяя читателя в добрых отношениях с Германией, «сообщение» успокаивало народ, оно порождало уверенность в невозможности войны с Германией, страна обязывалась быть уверенной в нерушимости западных границ, в армии возникла расслабленность, бдительности не стало, командиры ночевали уже не в казармах, а с женами, красноармейцам позволено было раздеваться на ночь…
Помните, что в Сталинграде ответил Чуянов на вопрос об этом «сообщении», заданный из Питомника? Примерно так, наверное, думали многие, и политруки пылко убеждали красноармейцев:
— Там (было понятно где) лучше нас все знают… А потому никаких дискуссий по этому вопросу не будет, лучше мы послушаем лекцию о том, как наша партия заботится о культурном отдыхе трудящихся в дни воскресные и дни прочие.
Между тем разведка усиленно работала. Люди разных национальностей слали и слали в Москву донесения о близкой войне. Трудилась и военная разведка, а маршал Тимошенко не раз выкладывал перед Сталиным пачки подобных донесений.
— У меня есть другие сведения, — отвечал Сталин, — полюбуйтесь, в них говорится совсем другое…
Он предъявил маршалу не меньшую стопку донесений агентуры, но все они были испещрены издевательскими пометками и бранью генерала Ф. И. Голикова, призывающего к недоверию.
— Кому верить? — спрашивал Сталин маршала…
Голиков был начальником Главного разведуправления Генерального штаба. До него этот пост занимали пять генералов, оказавшихся «врагами народа», и потому Филипп Иванович здорово боялся — как бы ему не оказаться шестым! Теперь он сидел в том же кресле, в каком сидели и они, уже покойнички. А сидел — потому, что поддакивал Сталину, вполне согласный с мнением вождя, что все люди сволочи, верить им никогда нельзя. По этой благородной причине, желая уцелеть, Голиков фальсифицировал донесения агентов, только бы угодить Сталину. Рихарда Зорге, назвавшего точное время нападения вермахта, товарищ Сталин мудрейше обозвал теми словами, кои пишутся на заборах, а Голиков не возражал. Наконец, дело дошло до того, что сам Уинстон Черчилль предупредил Сталина, чтобы 22 июня он был готов отбить нападение вермахта.
— Вот! — сказал Сталин. — Эти империалисты никак не могут успокоиться, пока не поссорят меня с Гитлером…
«Вождя всех народов» уже не было на свете, когда Филипп Иванович Голиков все-таки нашел в себе мужество честно сознаться:
— Да я просто боялся! Потому и угождал Хозяину, докладывая ему только то, что совпадало с его же мнением, и, наоборот, отвергал то, что было не согласовано с его прогнозами. Хотя я, честно говоря, и сам не очень-то верил в нападение Германии…
Зато вот маршал Кулик, к разведке никакого отношения не имевший, твердо знал, когда начнется война с Германией:
— А чего там долго думать? — говорил он. — Пусть разведка не сводит глаз с поголовья овец в Германии, если поголовье начнет сокращаться, значит, немцам понадобились шкуры для выделки полушубков. А без полушубков — как же воевать с нами? Вот и получается: станут в Германии резать овец, значит, все ясно, следует крепить оборону для ответа тройным ударом…
Вы, читатель, все поняли? Мудрость-то какова! Именно в эти дни Черчилль, ложась спать, наказывал:
— Будить меня, безмерно усталого, я разрешаю только в двух случаях — или Гитлер высадит десанты на Британские острова, или же Гитлер нападет на Россию.
Дайте выспаться пожилому человеку!
* * *
Если Голиков имел пять уничтоженных предшественников, то Д. В. Рычагов, славный начальник ВВС, имел их семь или восемь: на этом посту люди держались от силы год-полтора, после чего поступали в разряд «врагов народа». Сталин именовал себя «лучшим другом советских летчиков», и Павел Рычагов, молодой и наивный парень, в эту дружбу со Сталиным верил…
На совещании в Кремле шла речь об аварийности. Пилоты ВВС гробились один за другим, вместе с ними гробились и машины. Рычагов знал, что новых самолетов давно не поступало, а старые — это сброд всяких устаревших систем, что мешало их ремонту, мешало и подбору пилотов к самолетам разного типа. Рычагов нервно воспринимал критику в свой адрес… но пока еще сдерживался. Когда же пришло время отвечать на критику, чтобы оправдаться перед партией и правительством, Рычагов оправдываться не стал, а повернулся лицом к «лучшему другу советских летчиков»:
— Аварийность была, есть и скоро будет еще больше, потому что вы (!) заставляете летать нас на летающих гробах…
Сказал в лицо, только перстом не указывал.
Стало тихо-тихо. Пошевелиться боялись. Сталин мягкими сапожками ступал по коврам своего кабинета, и в этот момент он напомнил дикую кошку, которую — нашелся смельчак! — выдрал, и при всех, за уши. Вот он ходил, ходил… сосал и сосал свою трубку… думал он, думал… потом сказал:
— А вот вам, товарищ Рычагов, не надо было говорить таких слов… не надо было! — повторил он с грузинским акцентом.
На выходе из сталинского кабинета Рычагова арестовали.
Мария Нестеренко, его любимая жена, чемпионка парашютного спорта, в это время была на аэродроме, где готовилась к испытательному прыжку. Ее взяли прямо с крыла самолета.
— За что? За что? — спрашивала она, ничего не понимая.
На Лубянке уже был готов для нее ответ; «Будучи любимой женой Рычагова, она не могла не знать о вредительской деятельности своего мужа». Сталин «летающих гробов» не простил, а Мария Нестеренко горько рыдала, по-прежнему ничего не понимая:
— О чем вы? Какая измена? Откуда вредительство?
Пытки? Да, и пытки. Но пытки оказались чепухой по сравнению с тем, что ждало женщину впереди
Она уже не слышала, как рвались немецкие бомбы…
— Вот, — скажут читатели, — написал тут автор, что все было плохо, а что же было у нас хорошего?
— Народ был хороший, — отвечу я, — лучше нас с вами. И любовь к великой Отчизне даже в те злодейские времена народ испытывал гораздо большую, нежели сейчас принято.
Впрочем, о любви к России ныне говорить опасно, ибо уже не враги, а друзья народа сразу обклеят тебя ярлыками: «шовинист», «фашист» или даже «сталинист»…
Но, пожалуй, в одном Сталин прав: «Кадры решают все!»
16. По сигналу «Дортмунд»
Еще в начале 1939 года, в канун появления в Москве Риббентропа, всем нашим военным вменялось в обязанность читать роман Николая Шпанова «Первый удар»; товарищ Сталин, бдительно следивший за идейным развитием советской литературы, горячо рекомендовал эту книгу своим полководцам; интересно, что же именно нравилось ему в этой книге? Придется мне процитировать:
«Германия нападение на СССР начнет после обеда, а точнее, в 17 часов. Через одну минуту после пересечения фашистскими самолетами советской границы их встретят наши истребители. В 17.30 фашистские самолеты уже с позором будут изгнаны из воздушного пространства СССР. В 19 часов советские ВВС, выполняя сталинский приказ „бить врага малой кровью и на его территории“, нанесут воздушный удар по фашистской Германии. Немецкие рабочие под советскими бомбами будут петь „Интернационал“ и будут бастовать».
Вот оно как! Даже погибая под нашими бомбами, немцы все-таки не забудут хором исполнить «Интернационал».
Всего 18 дней не дотянул до войны с Россией император Вильгельм II: он скончался 4 июня 1941 года, уверенный, что в походе на Восток его преемнику повезет больше, нежели повезло ему, кайзеру. После того как появилось это глупейшее «сообщение ТАСС», генерал Кейтель срочно оповестил вермахт приказом: «Намерение к войне с Россией можно уже не маскировать …» Все генералы Гитлера восприняли это спокойно, один только Гейнц Гудериан что-то еще долго ворчал относительно того, что, мол, мы еще не знаем о количестве русских танков. Но «быстроходный Гейнц» был сразу высмеян его коллегами и даже… даже был назван «паникером»!
20 июня гестапо провело аресты немцев, которые, симпатизируя России, бывали гостями в советском посольстве.
— Когда начнутся операции на Востоке, — предсказывал Гитлер, — мир затаит дыхание и никаких комментариев не последует. Рузвельт не расстается с насосом, даже во сне подкачивая воздух в Англию, чтобы этот островок не затонул от моих бомбежек. Но моя решительная победа над Россией заставит Черчилля смириться перед моими требованиями. А в сорок втором году мы принудим Вашингтон к нейтралитету или же спустим Рузвельта с лестницы Белого дома заодно с его инвалидной коляской…
В западных районах СССР было замечено оживление спекуляции среди жителей, лишь недавно получивших советские паспорта; уже не таясь, люди говорили о близости войны. Они спешили истратить советские деньги; магазины разом опустели — ни продуктов, ни тканей, ни обуви, ни спичек… 18 июня нашу границу перешел гитлеровский солдат, молодой парень, и добровольно сдался пограничникам.
— Почему вы это сделали? — спросили его в штабе.
— Недавно я здорово выпил и дал офицеру в морду. Мне грозил трибунал, вот и решил спасаться у вас, могу повторить уже сказанное пограничникам: ждите нападения. Разве вы сами не слышите по ночам шум танковых моторов?
— Чем вы можете доказать свои слова?
— Ничем! — ответил перебежчик. — Договоримся так: если я обманул вас, 22 июня можете меня расстрелять.
Об этом было доложено наверх. А сверху обозвали всех чуть ли не трусами и всем дали хорошую вздрючку!
— Не поддавайтесь на провокацию! И так ясно, что ваш фриц налакался шнапсу, дал кому-то в рожу, теперь у него огузник трясется, вот и намолол со страху… Откуда мы что знаем? Может, и этот солдат подослан нарочно, чтобы проверить нашу реакцию на бдительность? Пакт о ненападении заключен, и нет поводов для тревоги.
Паулюс спланировал нападение в трех генеральных направлениях: «Север» (ленинградское), «Центр» (московское) и «Юг» (киевское). Три мощные группировки, подобно глубоким клиньям, должны сразу же расчленить Красную Армию на части, которые потом удобнее громить по флангам. 21 июня в 13.00 по берлинскому времени армии вторжения получили долгожданный сигнал «Дортмунд», означавший, что уже ничто не в силах отменить вероломное нападение. Часы в кабинетах генштаба отщелкивали последние роковые минуты…
— Что за таблетку ты проглотил, Фриди? — обеспокоилась жена Паулюса. — Разве у тебя болит голова?
— Я принял лишь первитин, дорогая Коко.
— Это вредно для нервной системы, Фриди.
— Знаю. Но первитин позволит не спать несколько суток. Ближайшие дни вряд ли я буду ночевать дома…
«Мерседес» Паулюса ловко вписался в общий поток машин, выруливающих на Унтер-ден-Линден. Когда миновали советское посольство, шофер спросил генерала:
— Правда ли, что у них сервиз из серебра сразу на пятьсот персон? В казармах болтали, что Геринг ходит туда пить русскую водку и заедать ее крабами.
— Правда. Но теперь я не завидую московским дипломатам. Им предстоит пережить весьма грустные минуты…
Машина вырвалась на прямую — в Цоссен! Конечно, кому же еще, как не ему, Паулюсу, теперь проследить за осуществлением своих грандиозных планов? Так архитектор, создавший проект ансамбля, потом ревностно наблюдает за каменщиками и малярами. День 21 июня (день «х — 1», по терминологии генштаба) начался для Паулюса звонком из канцелярии Риббентропа, звонил статс-секретарь Вейцзеккер.
— Информация, — оповестил он. — Русский посол настаивает на личной встрече с Риббентропом, у него на руках вербальная нота. Там, в Москве, подсчитали, что за два последних месяца наши самолеты 180 раз нарушили их границу.
— Что вы отвечаете? — спросил Паулюс.
— Русские зенитного огня не открывали, а потому не могут предъявить нам обломки наших самолетов. Это первое. Второе. Сегодня невыносимо жаркий день, я говорю, что Риббентроп уехал в Ванзее купаться. Кажется, Молотов в Москве тоже начинает теребить за галстук нашего посла, графа Шуленбурга… Кремль уже начал терять спокойствие!
Паулюс тут же переключился на Хойзингера;
— Когда проходит на Берлин московский экспресс?
— За два часа до отметки «икс — ноль»… через Брест.
— Выпустит ли свой поезд Москва, как всегда?
— Не знаю. Но мы его пропустим. Как всегда…
Весь день 21 июня прошел в хлопотах, уточнениях, нервотрепке. Первитин уже сделал из Паулюса железного робота, способного не ведать усталости, сохраняя небывалую бодрость.
Ближе к ночи опять стал названивать Вейцзеккер:
— Русские просто ломятся в министерство. Я был вынужден принять их посла, но прервал чтение им протеста, сказав, что великая Германия сама может предъявить СССР подобные обвинения… Сообщите об этом Гальдеру.
— Конечно. Утром русские все узнают.
— Да. Посольство уже блокировано агентами гестапо. Ему оставлена лишь односторонняя связь: мы еще можем звонить русским по телефонам, они же — никуда… Если у них и есть резидент в Берлине, то связь с ними прервана!
Паулюс вышел на провод с войсками на Буге:
— Уточните обстановку на исходных рубежах.
Последовал обстоятельный доклад:
— В Бресте закончились последние киносеансы, с вокзала слышится, как Москва транслирует вечерний концерт. Кажется, Верди или Пуччини. Вся полоса границы очень ярко освещена. За рекою Мухавец, что южнее Бреста, горит дом — сигнал нашей агентуры о готовности сразу же начать истребление советских офицеров, когда они станут выбегать из домов по тревоге. Отсюда мы хорошо видим этот пожар. В «икс — ноль» наши люди отключат электроэнергию от Брестской крепости, перережут все телефонные провода.
Паулюс выслушал и велел сообщить о проходе московского поезда. Вскоре же в Цоссен поступило извещение:
— Только что в Германию проследовал через Брест московский пассажирский состав. Через оконные занавески видно, как женщины укладывают детей, вагон-ресторан еще работает. Вывод определенный: русские ни о чем не догадываются.
В эту ночь, ночь нападения Германии на нашу страну, из СССР в Германию проследовали 22 громадных эшелона с хлебом и металлом…
В это время Буг переплыл ефрейтор Альфред Лискофф, и, сдавшись нашим пограничникам, он сказал:
— Нет, я не коммунист. Я простой честный немец и уважаю вашу страну. Передайте своему командованию, что в три часа войска вермахта перейдут границу. Запишите мою фамилию правильно и не забудьте поставить цифру «1». Я буду первый военнопленный в этой войне, которая еще не началась…
Возле Одессы сдался пограничникам румынский офицер по фамилии Бадая, который деловито сообщил на допросе:
— Я своим солдатам всегда говорил, что с Гитлером нам лучше не связываться и чтобы все расходились по домам…
22 июня. День «X — 1». Ночное время: 03.15. Мирная тишина вдрогнула от нестерпимой боли. Начиналась война. Великая Отечественная!
Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет…
* * *
В ночь перед нападением во дворе германского посольства пылал костер — немцы сжигали секретные документы. За 15 минут до нападения Берлин указал Шуленбургу известить Молотова о начале военных действий, что посол и сделал в шестом часу утра. Начинался воскресный день, москвичи мирно досматривали утренние сны…
— Спят, — сказал Хильгер, — и ничего не изменилось, только у ворот посольства стали шляться милиционеры.
— Включите радио, — указал Шуленбург…
Война уже громыхала по русской земле, уже выли от боли раненые, уже горели дома и деревни, а дикторша московского радиовещания вела урок утренней гимнастики:
— Вдохните глубже… та-а-ак. Теперь поднимем левую ногу. Пятка правой остается на упоре. Опускаем правую руку. Прыжок! Еще прыжок… выше, выше, выше! Дышите глубже.
Рушились бомбы на города, дома, погребая в своих руинах тысячи тысяч, уже раздавался первый бабий вой над «невинно убиенными», а Москва как ни в чем не бывало до полудня транслировала музыку.
Шуленбург пребывал в полном отчаянии:
— В чем дело? Неужели скрывают войну от Сталина…
Сталин узнал о начале войны — от Молотова.
— Пограничный инцидент? — не поверил Сталин.
— Нет, война …
Все видели, как от лица отхлынула краска. Сталин кулем опустился на стул. Все молчали, и он молчал. («Гитлер обманул Сталина, а Сталин обманул самого… Сталина!» — именно так было заявлено потом на Нюрнбергском процессе.)
— Надо задержать немца, — произнес он.
— Маршал Тимошенко уже отдал приказ по западным округам, чтобы противника не только задержали — уничтожить его!
— И… уничтожить, — как попугай повторил Сталин.
Из Генштаба прибыл генерал Ватутин с докладом:
— Германская армия наступает по всему фронту — от моря и до моря, рано утром немцы уже отбомбились по городам, список которых слишком велик, бон идут на советской земле. Сталин сразу сделался меньше ростом, словно пришибленный сверху чем-то тяжелым, а слова его были самые похабные:
— Великий Ленин завещал нам великое пролетарское государство, а вы (он не сказал «я»!), « все вы просрали его!
Всего несколько часов назад Лаврентий Берия отдал приказ «растереть в лагерную пыль» арестованных им разведчиков, которые докладывали, что нападение свершится сегодня, а теперь что он мог сказать в утешение своему грузинскому другу? Что мог сказать трусливый Калинин? Подлейший Каганович? Палач и карьерист Маленков? Ничем не могли они утешить своего сюзерена и потому молчали.
Сказал сам Сталин:
— Я ухожу… отказываюсь. Мне больше ничего не нужно. Вы тут сами нагадили, сами и разбирайтесь.
Берия гортанно выкрикнул что-то по-грузински.
Сталин махнул рукой и уехал, чтобы скрыться на загородной даче. Тут все члены Политбюро разом заговорили, что вот, мол, хорошо ему, взял да уехал, а мы тут теперь, давай, разбирайся, где лево, где право, кто виноват, кто прав. Сообща решили тоже ехать на дачу, вернуть машиниста к рычагам правления, чтобы тянул воз дальше. Увидев своих приспешников, гуртом входящих к нему, Сталин аж затрясся от страха — вот сейчас всей кучей навалятся, свяжут, как цуцика, и потащат в Бутырки, а сами начнут делить — кому стул, кому кресло, кому престол. Но члены Политбюро чуть не падали ниц перед ним, взывая вернуться на государственный Парнас, и тут Сталин ожил, обрел прежний вид, стал возвещать:
— Нельзя, — сказал он, — чтобы народ узнал то, о чем докладывал Ватутин… паника начнется! Лучше скрыть…
Какой уже час шла война, а народ так и не был о ней оповещен. Обращаться к народу по радио Сталин не желал, потому что теперь ему пришлось бы говорить совсем не то, что говорил он еще вчера, и все внимали ему — стрепетом.
— Вон Вячеслав, — показал Сталин на Молотова, — это он лизался тут с Риббентропом… пусть и оправдывается!
Во все времена русские цари, если начиналась война, сами обращались с монаршими манифестами, объясняя народу, кто войну начал и ради чего эта война ведется.
Но это — цари, а вот генеральный секретарь партии решил пересидеть эти дни в кустах, не высовываться в полдень (только в полдень!) Молотов обратился к народу по радио, называя слушателей «граждане и гражданки», будто он прокурор, а перед ним сидят подсудимые, ожидающие удара мечом Фемиды. Молотов скачал, что Гитлер обрушил бомбы на наши спящие города, «причем убито и ранено более двухсот человек…». Нагло врал! Откуда эти двести человек, если весь запад страны полыхал в огне и замертво полегли в первых боях уже сотни тысяч… В этот же день по радио прозвучали слова, ставшие почти государственным гимном:
Пусть ярость благородная Вскипает, как волна, Идет война народная — Священная война…Но многое в этом дне осталось и неизвестным для нас!
Немало и сомнительного. Вслед за Сталиным наши историки хором твердили, что договор с Германией был очень выгоден для СССР, ибо за эти два года (1939 — 1941) наша страна как следует подготовилась к отражению нападения. Верить этому наглейшему вранью нельзя! За эти два года ничего не было сделано для того, чтобы подготовить мощный контрудар по агрессору.
Сталин успехи вермахта объяснял внезапностью и вероломностью нападения. Это для народа начало войны казалось внезапным. Но Сталина-то ведь каждый день извещали о замыслах Гитлера, значит, для него война и не могла быть внезапной. Не было и «вероломства», ибо глупо было бы требовать от Гитлера, чтобы он заранее предупредил Сталина о своем нескромном желании немножечко потревожить его величие своими панцер-дивизиями… Наконец, скажу последнее и самое постыдное: наша великая держава, вступая в эту войну, совсем НЕ ИМЕЛА СОЮЗНИКОВ , — результат «гениальной» дальновидности самого Сталина и его прихлебателя Молотова.
Правда, был у нас один союзник — очень надежный.
Это монгольский деятель Хорлогийн Чойбалсан.
Замечательный союзник!
В первый день войны до Мехлиса прорвался с фронта звонок телефона — кто-то из генералов кричал, что его атакуют.
— Словам не верю, — отвечал Мехлис. — Составьте подробное донесение по форме, и тогда все будет ясно…
Дожили! Там его, бедного, немцы уже лупят во всю ивановскую, он уже не знает, куда деваться, а товарищ Мехлис советует разложить лист бумаги, обмакнуть перышко в чернила и, проставив дату, подробно описать, как его здесь убивают…
17. Блицкриг
Спору нет, вермахт был подготовлен отлично. Границу взломали отборной техникой отборные же войска под руководством отборных полководцев — Вильгельма фон Лееба, Теодора фон Бока и Герда фон Рундштедта, которые сами и возглавили три удара по трем главным направлениям…
Броня танков, еще в ночной росе, была гулкой.
— Все люки и щели — на герметизацию! — Исполнено, комарад. Форсаж?
— Да. Полный… полный газ, Франц!
Танки-амфибии (которыми Гитлер так долго пугал Англию) с полного разбега погружались в вязкую тину реки и, перевертывая на дне коряги, выкатывались на советский берег, сразу громя все живое. Брест, подобный огнедышащему вулкану, остался далеко позади. В мембраны — голос генерала Гота:
— Теперь забудьте о флангах, которыми займется пехота. Захват пространства — главное! Не бойтесь отрываться от полевых частей, берите переправы… марш, панцер, марш!
— Мост, — доложил водитель танка.
— Берем, — отвечал фельдфебель.
— Коровы… полно коров с телятами.
— Прямо, — указал фельдфебель, — на мост.
Солнце еще всходило, из деревень гнали первое стадо. Меланхоличные буренки, позванивая бубенцами, мелко рысили за пегими важными быками. Впереди шел босой старик-пастух, его внучек играл на дудочке. Их глаза, застывшие в ужасе, только на краткое мгновение мелькнули в узком триплексе танка, людской вопль не проник через броню.
— Давлю! — ликующе сообщил водитель…
Танк системы T-IV (образцовый танк вермахта) покатил через мост, прыгая по раздавленным тушам, которые расползались под ним в мычании коров, буксовал в мешанине сала и крови. Весь красный и жирный, с ошметками мяса на броне, танк переползал на другой берег. Доложили Готу:
— Мост взят. Переправа обеспечена.
— Удерживайте до подхода мотопехоты.
Откинули люк, вылезли. Переговаривались:
— Не думал я побывать в России.
— Кому курить? У меня пачка белградских.
— Дерьмо! У меня лучше.
— Кницлер, чего ты там возишься?
— Тут между траками застряли бычьи рога.
— Так выдерни их. Вместе с черепом.
— Этим и занимаюсь, комарад,
— Русские! — закричал водитель. — Вон они, вон…
Вдоль лесной опушки перебегали красноармейцы с винтовками, сумки противогазов прыгали за их спинами.
— Всем вниз. Люк! Пулемет. Быстро…
Пулемет, проглатывая обойму, отбрасывал в парусиновый мешок опустошенные гильзы. Русские скрылись в лесу, и лес принял их в себя и растворил их в себе. Стало тихо.
— А где же их танки? — вдруг спросил фельдфебель.
Танков, увы, не было. Народ был потрясен, и, чтобы успокоить людей, Москва намекала в печати, что передовой рабочий класс Германии возмущен нашествием на первое в мире социалистическое государство и скоро, мол, пролетариат ответит Гитлеру революцией. Политруки перед боем по-прежнему твердили о классовой солидарности трудящихся всего мира, и на фронте не однажды бывали случаи, когда боец вставал из окопа, крича дружески:
— Эй, геноссе… я — арбайтер… не стреляй! Ответом была длинная очередь из черного шмайссера.
Такова сила и мощь великой «пролетарской солидарности», о которой так много у нас болтали… Вот и доболтались!
Ровно в 11 часов дня 22 июня Гальдер записал в Дневнике:
«Паулюс сообщил мне о заявлении статс-секретаря Вейцзеккера. Англия, узнав о нашем нападении на Россию, сначала почувствует облегчение и будет радоваться распылению наших сил. Однако при быстром продвижении германской армии ее настроение быстро омрачится, так как в случае разгрома России наши позиции в Европе крайне усилятся».
Он отложил перо:
— Итак, кости брошены на стол, начинаем игру.
— Большую игру, — подчеркнул Паулюс.
— Да, какой еще никогда не вела Германия, но еще никогда Германия и не была сильна так, как сейчас…
Упругие танковые колонны (Манштейна, Гудериана, Клейста, Гота и Шернера) железными «метелками» гусениц расчищали дорогу армиям Лееба, Бока и Рундштедта. Против этой быстро несущейся лавины Москва определила три главных направления обороны, которые доверила прославленным маршалам — Ворошилову (против Лееба), Тимошенко (против Бока) и Буденному (против Рундштедта). В ставке Гитлера понимали, что Сталин желает использовать высокий авторитет героев гражданской войны…
В состоянии эйфории Гитлер объявил, что теперь Красная Армия — это чья-то нелепая шутка!
— Сталин, очевидно, решил, что ему предстоит новая «оборона Царицына», как в девятнадцатом году, поэтому он и пугает меня своими кавалеристами… Но где же их танки?
Кейтель с Йодлем — неразлучны. Но Кейтель побаивался авторитета Йодля, уже готовя ему всякие пакости, хотя внешне они казались большими друзьями, и оба с одинаковым неудовольствием видели, что их иногда опережает Хойзингер.
Вот и сейчас он торопливо выступил с готовым ответом:
— Мой фюрер, наши T-IV протыкают русские танки снарядами насквозь, словно это коробки для обуви. Их броня всего пятнадцать миллиметров; они ходят на легковом бензине, и потому от первого попадания вспыхивают — как шведские спички.
(Хойзингер имел в виду наши старые БТ-7, Т-26 и Т-28, известные по парадам на Красной площади.) Гитлер спросил:
— А где же их новейшие на тяжелом топливе? Не меня ли вы пугали танками заводов Сталинграда и Челябинска?
— Кёстринг, сидя в Москве, что-то напутал.
— Гальдер, дайте ему как следует по мозгам.
— С удовольствием это сделаю, — обещал Гальдер, не простивший Кёстрингу «контору по скупке мебели»…
Прощай, милый Цоссен, где по вечерам так сладко пахло резедой и левкоями! В канун войны ОКБ отыскало глухое урочище в дремучем прусском лесу. Сюда согнали пленных офицеров-поляков, началось строительство ставки Гитлера, которую он пожелал назвать «Вольфшанце» (что значит «Убежище волка»). Бетон и колючая проволока, минные заграждения и сигнализация обеспечили Гитлеру непроницаемость тайны, в которой он собирался выиграть войну. Поляки закончили работу, их отвели в лес и уничтожили, чтобы сохранить тайну. Над личным бункером Гитлера была уложена такая броневая плита, которую не расколет никакая сатанинская сила. На поверхности земли в «Вольфшанце» остались блоки штабов и казино, казармы охраны и служебные постройки, крыши которых маскировали кусты и даже деревья. Все остальное упряталось в глубину. Подземные помещения напоминали железнодорожные вагоны класса «люкс», с коридорами и дверями, ведущими в отдельные кабинеты-купе. Всюду сверкали кафель и никель, каждому генеральштеблеру — ванна с душем и собственным унитазом. Паулюс теперь общался с Берлином по телефону, жена порадовала его благополучной беременностью дочери.
— Поцелуй за меня нашу баронессу Кутченбах! — отвечал Паулюс; перед Гальдером он уже не скрывал своей тоски и тревоги. — Когда же выберемся из этого бурелома?
— После седьмого ноября, когда доставим удовольствие Сталину, устроив парад вермахта на его Красной площади…
Успех вермахта обозначился сразу и очень решительно. На шестой день войны немцы уже вошли в Минск, одиннадцать советских дивизий оказались в тылу противника, сражаясь с «перевернутым» фронтом. В наружном блоке № 18, где царствовали Кейтель с Йодлем (и где фюрер с Геббельсом спасались от духоты подземного бункера), Паулюс обратил внимание Гитлера на все возрастающее сопротивление Красной Армии, а широкоротый Геббельс откровенно смеялся:
— Что вы, Паулюс? Они же бегут…
— Да. Но, отступая, они дерутся не за свои жизни, а лишь за выигрыш времени. Наконец, есть такие участки фронта, где наши войска топчутся на месте, их продвижение начинается лишь тогда, когда русские сами оставляют позиции…
Гитлер выслушал молча. Подумал и ответил:
— Ах, Паулюс! Что в этом удивительного? Бродячий и ободранный кот, который питается на помойках, всегда более стоек в жизни, нежели благовоспитанная овчарка. Но разве же кот может быть ценнее породистой собаки?
Свои требования к генералам вермахта Гитлер уже оформил тезисом: «Для нас более важно уничтожить живую силу противника, нежели продвинуться на восток». Исходя из этого, он и рассуждал, как всегда, напористо:
— Я все время пытаюсь поставить себя на место этих русских дикарей, попавших под жидовское ярмо марксизма. О чем они там думают? Практически они войну проиграли, а я выиграл ее — за четырнадцать дней. Вот Прибалтика — острый шип, который Сталин вогнал в мое сердце. Она уже почти вся моя, и острие шипа направлено против Сталина. Но одно лишь фронтальное отталкивание русских к востоку ничего нам не даст, кроме неприятностей в будущем. Внезапность нападения обеспечила нам оперативный результат, и сейчас русские готовы бежать хоть до Урала, а потом, оправясь от шока, они снова полезут в Европу, как тараканы на радиатор парового отопления… Таким образом, только полное уничтожение примитивных масс противника может принести нам окончательный и решительный успех. Не отталкивайте русских — уничтожайте!
4 июля Гальдер начал проявлять беспокойство:
— Не слишком ли увлеклись Гудериан с Готом? Их «ролики» взяли такой разбег, что мотопехота отстала. Это грозит и Манштейну, который вляпался у Пскова в кровавую лужу. Котлы же с попавшими в них русскими начинают опасное блуждание по нашим тылам. Выбивают гарнизоны. Жгут базы снабжения. Кстати, Гудериан уже просит подкреплений. Кажется, в биографии «быстроходного Гейнца» наступил самый комический момент, как в забавной оперетте Легара. Гудериан оборону советских войск принял за их наступление…
Такой факт был! Под Слонимом русские, рванувшись из окружения, перебили офицеров его штаба. Гудериана спасло мужество шофера, давшего полный газ. Красноармейцы захватили автобус картографического отдела с грудой карт и планов, разрисованных стрелами прорывов и охватов, столь любезных сердцам обитателей Цоссена и «Вольфшанце». Известие об этом приключении вызвало бурные дебаты в кабинетах и бункерах ОКХ. Гальдер сказал:
— Если бы русские решили распять Гудериана, они бы избрали для эшафота кафедру своей Военной Академии. Но перед казнью заставили бы его прочесть лекцию о блицкригах!
Стратегическая «воронка», о которой Паулюс предупреждал еще раньше, расширялась: вторгшись в СССР по фронту в 1500 километров , вермахт по мере его продвижения получил фронт в 2500 километров . Между прорывами танковых клиньев образовались глубокие разрывы от 130 до 500 километров (и если не практически, то в теории русские уже могли начинать избиение вермахта по обнаженным флангам).
То, что еще не понимали другие, все это отлично понимал Паулюс.
— Выигрывая лишь в оперативном отношении, — говорил он, — мы уже начинаем что-то проигрывать в планах большой стратегии. Мы, кажется, теряем реальное представление обстановки.
— И все-таки, — отвечал ему Гальдер, — я согласен с нашим фюрером: война выиграна нами за четырнадцать дней…
Бывали случаи, когда на один наш батальон выпадал рубеж обороны в десять и более километров — врастяжку. Много ли тут навоюешь? Потому иногда гитлеровцы шли походной колонной, пустив впереди себя группы мотоциклистов, сами шагали налегке, засучив рукава мундиров и сунув пилотки за пояс, а впереди были развернуты знамена полков и дивизий, как на параде, и даже играли оркестры, — вот она, наглядная картина блицкрига! Окружая наши войска, немцы кольцом лесных пожаров и деревень обозначали своей авиации главные контуры котлов окружения, чтобы окруженных бомбили наверняка.
Вскоре пунктуальный Паулюс обратил внимание на то, что котлы с окруженными в них русскими не имеют округлой формы — они напоминают узкие параболы, вытянутые с запада на восток: в этой геометрии фигур сказывалось стремление советских войск прорвать кольца окружений.
— Симптом очень выразительный, — заключил Паулюс.
Гальдер долго возился с пенсне, протирая его.
— Вы стали настоящим генеральштеблером. Наша случайная встреча в меховом магазине на Фридрих-штрассе оказалась исторической. Если фюрер попрет меня на улицу из этого отхожего места, мой стульчак останется за вами, Паулюс…
Гальдер был баварцем, а потому его юмор всегда покоился на прочных основах грубого раблезианства. Вечером, гуляя по асфальтированной тропинке возле блока № 18, Паулюс встретил графа Шуленбурга. Недавно состоялся обмен посольствами враждующих государств, теперь, естественно, Гитлер пожелал видеть своего московского посла. Но, судя по настроению Шуленбурга, эта встреча имела драматический характер.
— У меня судьба маркиза Коленкура, который, будучи послом в Петербурге, не раз предупреждал Наполеона не забираться в Россию, однако цезарь имел на этот счет иное мнение. Я боюсь, — признался Шуленбург, — как бы и наш «цезарь» не стал выглядеть дворняжкой, получившей хорошего пинка, когда она вздумала заглянуть в мясной магазин.
Паулюс думал о своем — о потерях вермахта:
— Как вы думаете, граф, не рискнет ли Сталин на новый Брест-Литовский мир с нами, немцами, именно сейчас, когда его фронт окончательно взломали и русские отступают?
— Никогда! — убежденно ответил Шуленбург. — Вы плохо, Паулюс, понимаете советскую систему. Там, помимо Сталина, существует еще обширный партийный аппарат, с контролем которого Сталин не может не считаться. Этот чудовищный человек пережил в своей жизни немало острейших кризисов, и потому настоящий кризис для него — не самый опасный. Но даже не будь такого Сталина, русские все равно продолжали бы беспощадную борьбу с нами! Нет, нет, нет, — торопливо сказал граф Шуленбург, — сейчас не восемнадцатый год…
10 июля Паулюс вынужден сделать признание?
— Сорок три процента наших танков на Востоке уже подбиты. Нас выручает лишь то обстоятельство, что, подбитые, они остаются в наших руках, и мы еще можем их ремонтировать. Танковые же потери русских я отношу к числу безвозвратных.
Наконец, с фронта стали поступать панические известия о появлении русского танка Т-34, от которого снаряды отскакивают, как бобы от стенки. Гудериан предупредил ОКХ, что превосходство Т-34 над немецкими танками «проявляется в резкой форме», а генерал Гот, дабы избежать потерь, приказал своим танкистам избегать боевого соприкосновения с русскими Т-34… фронтовики рассказывали Паулюсу:
— К нему никак не подобраться, и, чтобы он притих, нужно дать ему под хвост из приличного калибра. Только с кормовых «жалюзи» он еще уязвим! Лобовые же попадания Т-34 воспринимает так, будто в него залепили хлебным мякишем…
«Вольфшанце» напоминал нечто среднее между концлагерем и мужским монастырем со строгим уставом. При неприятных известиях с Востока фюрер наказывал обитателей ставки обедом из «общего котла», откуда черпали жратву эсэсовцы охраны, а остатки скармливали сторожевым собакам. Конечно, Кейтелю с Йодлем не совсем-то нравилось хлебать «фолькс-суп» со свиным смальцем, но чего не сделаешь ради капризного сюзерена. Сам же фюрер поедал пшенную кашу без масла.
Из древних прусских чащоб под Растенбургом по ночам зловеще перекликались филины. Узнав о русских танках Т-34, фюрер тяжело и надолго задумался. Наверное, в этот исторический момент он вспомнил о зубных щетках…
Надо же было так случиться, что Паулюс опять повстречал генерала и графа Курта фон Гаммерштейна-Экворда, с которым однажды беседовал по дороге в Цоссен. Теперь граф сказал:
— У меня нет никаких иллюзий! Из числа тех войск, что двинуты вами на Россию, пожалуй, никто живым не вернется…
Судьба, кажется, наказала Сталина за то, что он отказался подписать Женевскую конвенцию о пленных, — не прошло и месяца после начала войны, как в плену оказался его сын лейтенант Яков Джугашвили… Как же так, дорогой товарищ Сталин? Не вы ли утверждали, что большевики в плен не сдаются? Между тем партийная характеристика на вашего сына была ведь отменная. Могу напомнить: «Делу партии Ленина — Сталина предан. Работает над повышением своего идейно-теоретического уровня. Особенно интересуется марксистско-ленинской философией…»
Не знал бедный Яша, сдавшийся в плен под Витебском, что его попытаются обменять на фельдмаршала Паулюса, как не знал и Паулюс, что его захотят обменять на сына Сталина!
18. Первые кризисы
Паулюс давно стремился в Берлин, желая повидать семью, но в Цоссене его удерживал Франц Гальдер:
— Прежде мы разделаем шарлатана Кёстринга…
С удовольствием (даже садистически) Гальдер учинил расправу над атташе, когда тот появился в отеле «Форверке».
— Итак, наша контора по скупке старой мебели у бедного населения желает выдать вам первый аванс… Вы, бывший военный агент в России, должны объяснить нам, почему вместо ста пятидесяти дивизий, как вы показывали, у русских вдруг обнаружилось триста с чем-то дивизий.
От Кёстринга еще пахло духами «Красная Москва».
— Я докладывал в ОКХ о том, что русские способны выставить двести дивизий… двести ! Но вы с Кейтелем не поверили мне и самовольно исправили цифру двести на сто пятьдесят.
— Второе, — увильнул Гальдер. — Почему русские дивизии, показанные вами кавалерийскими, вдруг обращаются для нас в танковые? Не могу поверить в проворство казаков, для которых перепрыгнуть из седла в танк — раз плюнуть!
— А я предупреждал вас, что Россия — «неизвестная большая величина». (Паулюс при этом машинально кивнул, ибо это выражение Кёстринга он часто употреблял сам). Следовало внимательнее прочитывать мои доклады. Я ведь никогда не писал, что СССР — колосс без головы и на глиняных ногах. А в ОКБ и ОКХ иначе Россию и не называли, повторяя явную глупость Дени Дидро, отчего ему и попало от Екатерины Великой. Теперь, когда ваш автобус начал опаздывать, выбившись из расписания, вы хотите, чтобы я оплатил вам стоимость прогоревших билетов.
— Почему, — отозвался Паулюс, — вы не предупредили нас о ширине гусениц танка Т-34 и какова его боевая масса?
Кёстринг загасил в пепельнице окурок «Казбека».
— Боевая масса танка тридцать, средняя. А насчет гусениц, так вы не думайте, что я шлялся с линейкой по цехам русских заводов. Спросите моего помощника Кребса, и он подтвердит, что мы там в Москве босиком бегали по лезвию бритвы…
Немецкие T-III и Т-IV назывались «магистральными» (ширина их гусениц была проверена на отличных дорогах Европы).
— А теперь, — сказал Паулюс, — зауженные гусеницы наших танков застревают даже на обочинах русских шоссе.
Кёстрингу подобный упрек показался смешным.
— Но я же не виноват, Паулюс, что русские колхозники еще не обзавелись автобанами с гудроновым покрытием. Вы сами знали, что в России придется съехать с асфальта и посидеть в болоте. С грязью вермахту предстоит считаться в равной степени, как и с морозами.
Гальдер шлепнул ладонью по столу:
— Не будьте сплетником, Кёстринг! Какие морозы? Неужели вы думаете, что мы оставим Россию живой до зимы?
— Пардон, — ответил Кёстринг. — Но вы и сами, сидящие здесь, уже наверняка поняли, что зимней кампании не избежать. Ваш прекрасный летний загар будет потерян под Москвою…
Перебранка становилась опасной, и Гальдер сказал!
— Хватит! Все-таки, Кёстринг, вы умудрились всучить нам старую мебель, а новой не показали. Какой Ценой будем расплачиваться за это, я не знаю. Идите… Не надо отчаиваться, — продолжил Гальдер, когда Кёстринг удалился. — В конце концов, русские еще не освоили серийное производство новых машин. Т-34 встречаются в пропорции один к пятнадцати по отношению к танкам устаревших модификаций. Не будем забывать о советских рекордах по выделке зубных щеток…
Словно подтверждая первые, еще робкие опасения Паулюса, официозная «Фелькишер беобахтер» уже пробила по Германии первую тревогу:
«Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляют его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падет мертвым в рукопашной схватке».
Даже странно, как это признание проскочило через фильтры цензуры!
В эти дни Кейтель сделал доклад Гитлеру:
— Рядовой состав Красной Армии может считаться превосходным. Пополнение же из запаса очень отстало и не расстается с сумкой противогаза, боясь химической войны. Командиры до батальонных — очень хороши. Выше их — хуже. Только семь процентов офицерского состава имеет высшее офицерское образование. Генералитет отличает оперативный схематизм, боязнь ответственности. Любой фельдфебель вермахта более свободен в принятии решений, нежели маршалы Сталина, ничего не делающие без его разрешения…
Гитлер с пафосом заговорил, что война на Востоке подходит к финалу, пора уже думать о сокращении сухопутных сил. Но, демобилизуя часть персонала армий, он надеется постоянно увеличивать танковые войска и авиацию;
— Сейчас для Германии имеет значение позиция Японии, чтобы самураи потеряли остатки девичьего стыда, поскорее десантируя во Владивостоке и в Петропавловске-на-Камчатке. Впрочем, я сам буду говорить с токийским послом Осима…
Рейхсмаршал Геринг призывал к открытому грабежу.
— Вы там в России не миндальничайте, — наставлял он фронтовиков. — Если увидели овцу, стригите ее сразу. Не вам же плакать, а русским! Попалась на дверях медная ручка — отворачивайте ее безо всяких разговоров. Вырубайте леса. Реквизируйте лошадей. Германия должна видеть в вас ландскнехтов-обирал времен Валленштейна, живущих на подножном корму и пожирающих все подряд, что попалось на глаза… Генерал Вагнер, что ты хохочешь? Я давно тебе говорил; всю русскую икру честно поделим пополам. Из Азовского моря пусть лопает вермахт, из моря Каспийского — вся икра достанется летчикам моего люфтваффе…
Гальдер уже приступил к планированию далеких цепей вермахта. Его рука бестрепетно выводила пронзительные стрелы ударов между Нилом и Евфратом, через Турцию и Персию — на Афганистан, на Индию. При этом он рассуждал:
— Жестокость необходима в России, как и в Польше, и потому нам следует высчитать, сколько понадобится оставить гарнизонов в России, чтобы они выжали из нее остатки колхозного жира… В этом вопросе я, как и Геринг, далек от слюнтяйства! Эрзацы пусть едят русские, а мы украсим магазины натуральными продуктами Востока…
Паулюс навестил в «Форверке» генерала Генриха Кирхгейма, прилетевшего из армии Роммеля. Кирхгейм сказал, что Черчилль сменил Уэйвелла, поставив на его место генерала Окинлека.
— Роммель еще не рвет с головы волос, но часто хандрит. Восточный фронт забирает все резервы, Муссолини много обещает, но ничего не делает. Еще недавно мы делили горючее бочками, а скоро станем отмерять стаканами.
— Передайте Эрвину мой бодрый солдатский привет, — ответил Паулюс, — и пусть Роммель не завидует нашему мнимому изобилию. При отсутствии железнодорожной тяги мы гоняем к фронту автомобили, расходующие бензин, которого скоро не станет хватать ни нашим танкам, ни нашей авиации. Румынские нефтепромыслы мы откачаем досуха, но… Фюрер, кажется, прав: без кавказской нефти вермахт протянет ноги!
Кирхгейм громко защелкнул замки на портфеле:
— Я вижу, у вас тоже не все в порядке. Если это так, Паулюс, то искать ошибки надо в раннем планировании. Это наверху. Или в исполнении планов позже. Это уже внизу.
Такой вывод задел самолюбие Паулюса:
— Перестаньте, Кирхгейм! Сам Шлиффен позавидовал бы нашему планированию. Мольтке не мог и мечтать о лучшем распределении сил. Смотрите сами: с юга Греция и Румыния, с севера Норвегия и Финляндия обеспечивают надежность флангов. Второго фронта нет и не предвидится. Если кто и виноват, так это — русские, срывающие нам графики продвижения. Я, как и фюрер, тоже хотел бы постучать в двери московского Генштаба и спросить: «Эй, ребята, о чем вы тут загрустили? Не пора ли укладывать игрушки, чтобы идти бай-бай?»…
…Георгий Константинович Жуков, заместитель наркома обороны, был тогда и начальником Генерального штаба. Много позже, уже во времена хрущевской «оттепели», он признавался:
— Как я уцелел — сам не знаю. Все уже было готово для моего ареста, и, если бы не Халхин-Гол, меня бы давно на свете не было. Меня буквально спас конфликт на реке Халхин-Гол…
Сейчас Жуков многое еще не понимал в том, что происходит, да и понять было невозможно. В эти дни его навестил генерал артиллерии Н. Д. Яковлев, заставший Жукова в кабинете, где он сидел в позе смертельно разбитого человека, глаза его были воспалены от хронической бессонницы. Яковлев стал говорить о подвозе боеприпасов, задавал вопросы о передислокации артиллерии, но Жуков безнадежно махнул рукой:
— Что с меня сейчас спрашивать? Я ничего не могу сказать. Видите, какой бардак? И во многом я просто не могу разобраться… Не верится, что такое могло с нами случиться!
Но уже начиналась грандиозная Смоленская битва.
* * *
В этой битве — впервые за всю войну — вермахт был прочно остановлен: отныне не наступал, только оборонялся. «Потери превосходят успех», — констатировал Герман Гот. В сражении под Ельней вновь просверкало имя генерала Г. К. Жукова, памятное по Халхин-Голу, и отныне немцы не ослабляли внимания, следя за Жуковым, который становился особенно опасен для их вермахта. Обстановка в Цоссене была нервозной. Хойзингер доложил, что на днях Манштейн слышал в эфире переговоры Ворошилова, а 15 июля Гудериан на фронте стал перехватывать по радио грозные приказы маршала Тимошенко. Это даже удивило Паулюса, и он повидался с генералом Эрихом Фельгиббелем, который в Цоссене ведал радиоразведкой вермахта.
— Нет ли в перехвате «дезы»? — встревожился он.
— Никакой, — отвечал Фельгиббель. — У меня в отделе тоже не понимают, почему русские игнорируют секретность. Впрочем, это маршалы! А на более низких станциях русские пытаются меня обманывать: штаб называют «сельсоветом», при нужде в снарядах они просят «огурцов», а если нет танков, то оповещают свои штабы, чтобы прислали побольше «сундуков»… Их наивность меня обескураживает — не меньше тебя, Паулюс.
Эрих Фельгиббель был закадычный приятель, и потому Паулюс не скрывал перед ним все растущей опасности:
— Германию сейчас страхует то, что Черчилль увлекся периферийной стратегией, возня с арабами в Дамаске для него важнее нашего наступления на Шмоленгс. Иначе бы…
«Шмоленгс» — так все немцы произносили «Смоленск». Вскоре состоялась встреча фюрера с японским послом Хироси Осима, которому Гитлер сделал нескромное заявление:
. — На этот раз судьба Наполеона ждет не меня, а — Сталина! Я уже вижу его тень, удаляющуюся в морозные дали Сибири, и он очень удивится, увидев японские штыки на Байкале.
На все приманки Гитлера — следовать от Владивостока до Байкала — посол Осима отвечал сладчайшей улыбкой, вежливым шипением и поклонами. Гитлер признался своим генералам:
— Когда имеешь дело с самураями, прежде надо как следует подлечиться у хорошего психиатра. Японцы кланяются в мою сторону, а смотрят они в другую. Я не буду удивлен, если завтра же Би-Би-Си оповестит мир, что армия микадо успешно высадилась в Буэнос-Айресе…
Но японские заправилы не были деревенскими простаками. Они выжидали решительного (!) успеха Германии, чтобы вонзить зубы в наши Дальневосточные края. Частичные победы Гитлера в начале блицкрига японцев не одурманили. Пока Сталин еще сидит в Москве, а вермахт топчется под «Шмоленгсом», самураи сознательно выжидали: что будет дальше?
25 июля Паулюс позвонил в Берлин и сказал зятю, чтобы собирался в Россию — его знания русского языка могут пригодиться. Трубку переняла Ольга дочь Паулюса:
— Папа, я не хочу иметь детей сиротами. Занимая такой пост, ты можешь сделать, чтобы Альфреда оставили в покое.
— Успокойся, дитя мое. Предстоит маленькое инспекционное турне в танковый корпус Манштейна. Уверяю, твоему барону Кутченбаху не придется ходить в яростные штыковые атаки. Кстати, Ольга, поищи дома красивую банку с ароматной косметикой, что отпугивает всю мошкару.
Но еще до отъезда на русский фронт Паулюсу пришлось задержаться. Гальдер предупредил его:
— Вас включили в особую комиссию. Дело в том, что удалось захватить в исправном состоянии русский Т-34, при нем обнаружили даже технический формуляр. Вам с конструкторами предстоит разобрать Т-34 по винтику, и пусть металлурги заодно выяснят, какой навоз загружают русские в свои домны? Чтобы не испачкаться, захватите и свой танковый комбинезон…
* * *
Появление среднего танка Т-34 было для немцев шоковым ударом, сенсацией № 1, откровением и загадкой. «Это дьявольское наваждение! — говорили они. — Нет, это даже не машина, а какой-то сказочный принц среди наших танков-плебеев…»
На танкодроме, где стоял трофейный Т-34, Паулюс доказывал, что не стоит раньше времени отчаиваться:
— Русские еще не освоили массовое производство, и потому все Т-34 мы выбьем по одиночке хотя бы из калибра «восемь-восемь». Спасибо нейтральной Швейцарии, поставляющей для вермахта такие замечательные зенитные пушки…
Вызванный из лабораторий Нибелунгверке, приехал и знаменитый немецкий танкостроитель — Фердинанд Порше.
— Это правда, — сказал он, — что Т-34 у противника еще недостаточно. Но вы, Паулюс, не забывайте предупреждений Бисмарка: русские долго запрягают, зато они быстро ездят. Из истории нам известно, что Россия всегда к войне не готова, но каким-то странным образом она оказывается победительницей…
Немецких специалистов больше всего поразил двигатель — дизель в 500 лошадиных сил, целиком сделанный из алюминия: «Русские плачутся, что у них не хватает материалов для самолетов, а на моторы для танков алюминий нашли…» Паулюс (на основании данных абвера) сказал, что Т-34 подвергался в Москве очень суровой критике, его даже не хотели запускать в серийное производство. Если это так, комиссии предстоит вывить слабые места в конструкции танка.
— Увы… их не существует! — отвечал Порше.
— Но русские-то раскритиковали свою машину.
Это вызвало смех главного конструктора:
— Милый Паулюс, вы что, первый день на свете живете? Должны бы знать, что у подлинных талантов всегда немало завистников, желающих опорочить его постижения. Только этим, и ничем другим, я объясняю критику этой машины.
Паулюс спрыгнул с брони танка на землю: немецкую противотанковую пушку калибром в 76 мм уже выкатывали на прямую наводку. Все попрятались в укрытие, издали наблюдая. Первый снаряд, рекошетируя, вырвал из брони советской ярчайший сноп искр, второй… Второй, ударившись в башню, сделал «свечку», и высветленная траектория полета составила точную геометрическую вертикаль — в небо!
— Я не думал, — сказал Порше, выбираясь из блиндажа, — что русская металлургия способна повершить нашу. Как представитель фирмы Крупна, я свидетельствую ее поражение.
Т-34 достался немцам неповрежденным, внутри его оставили все, как было при русских. Водитель имел перед собой портрет Сталина, а башнер, посылая снаряды в пушку, мог глянуть на фотографию своей курносой с надписью: «Помни о Люське!» Паулюса поразила убогая простота внутри машины: не было кресел, обитых красной кожей, нигде не сверкал никель, но в глубоком лаконизме машины чуялось нечто сосредоточенное ради единой цели — боевого удара. Немецкие T-III и T-IV создавались из расчета, что их качества будут выше устаревших советских танков. Но перед Т-34 машины вермахта предстали жалкими таксами перед породистым бульдогом. Комиссия обнаружила: Т-34 имел удельное давление на один квадратный сантиметр в 650 граммов , что и объясняло его высокую подвижность немецкий же T-IV давил на почву усиленной массой сразу в один килограмм, что в непролазной слякоти русских дорог обещало большие неприятности).
— В мире много прекрасных женщин, — сказал Порше. — Однако на конкурсах красоты выигрывает единственная и неповторимая. Так же с танком! Т-34 пока не имеет аналогов в мире: он — уникален, и скопировать его невозможно. Если же мы попробуем это сделать, мы сразу упремся в непрошибаемую стенку технических проблем, которые для Германии останутся неразрешимыми… А ваше мнение, Паулюс?
— Я нашел единственный недостаток, — сказал Паулюс. — Экипажу слишком тесно внутри танка, но русские очень любят обитать в тесноте коммунальных квартир, умудряясь всей семьей ночевать в одной комнатке…
Немецких конструкторов откровенно страшил дизель из алюминия, цельнолитые башни из стали особой закалки (они были не знакомы со сваркой под флюсом по методу нашего академика Е. О. Патона). Но строптивый Гудериан настаивал именно на получении точной копии советского танка. Однако и Фердинанд Порше, и инженеры берлинской фирмы «Даймлер — Бенц», возражали ему:
— Точным копированием русского танка мы распишемся в собственном бессилии. К сожалению, T-IV уже доведен нами до предельных параметров, а новейшие его модификации невозможны. Остался единственный путь — создать танки T-V и T-VI, которые повершат броню и силу Т-34…
Так зародилась идея будущих «тигров» и «пантер».
Но чудовищный призрак «тридцатьчетверки» уже не покидал воображения немцев, и в создании новых танков Германия отныне лишь подражала идеальным формам русского танка. Сейчас, когда я пишу эти строки, даже страшно при мысли, что лучший танк мира Т-34 у нас хотели отвергнуть: сомнения вызывали дизель, сварной корпус, литая башня и чисто гусеничный ход, иными словами, все самое достойное в конструкции, что и принесло танку международную славу. А в 1965 году военная общественность ФРГ отметила 25-летний юбилей со дня рождения первой «тридцатьчетверки», и на эту памятную дату немцы наложили мрачную паутину роковых воспоминаний. Журнал «Зольдат унд техник» признал, что своим появлением Т-34 дал совершенную конструкцию танка, и потому все мировое танкостроение (вплоть до конца XX века) будет исходить лишь из тех технических результатов, что были достигнуты советской наукой. Мы, отступающие в сорок первом, могли быть уверены, что оружие будет и это оружие будет лучше вражеского.
19. Люди, где ваши могилы?
Паулюс с зятем вылетели как раз в те места, где осталась моя прародина (по линии бабушки Василисы Минаевны Карениной) и где моему сердцу очень много значат старинные имена — Псков, Дно, Порхов, Замостье и тишайшая речка Шелонь, в которой я, помнится, ловил в детстве раков…
56-й танковый корпус Манштейна прославился тем, что за 4 дня и 5 часов проскочил от границ Пруссии до города Двинска (ныне Даугавпилс) и занял мосты через Западную Двину (Даугаву). Но, выбравшись на Псковщину, он попал в окружение, его котел снабжался по воздуху.
Это никак не украсило биографии Манштейна:
— Ну, Паулюс, не желаю вам попадать в котлы. Ощущение такое, будто заперли в сейф, протянув мне соломинку, через которую я мало пил, худо дышал и плохо мочился.
Московское радио сообщало, что в боях захвачены секретные документы Манштейна об огнеметах (речь шла о самовозгорающемся фосфоре, предтече американского напалма ). Паулюс «поздравил» Манштейна с выговором от имени ОКХ за потерю бдительности, хотя это никак не испортило их отношений. Манштейн доложил, что потери чудовищны, сейчас одну его панцер-дивизию послали к Ильменю на борьбу с партизанами.
— Откуда здесь франтиреры? — удивился Паулюс.
— Наверное, наш визит в СССР был настолько внезапен для русских, что местные власти не успели с мобилизацией. Теперь мужчины призывного возраста ушли в леса, к их кострам подсаживаются выходящие из окружения и просто недовольные нами, не вам объяснять, как зверствуют люди из компании Гиммлера. Так что, Паулюс, мы, кажется, обретаем в России второй фронт , и с этим фронтом предстоит считаться.
На траках танков Манштейна еще хранилась пыль дорог всей Европы, а он вдруг заговорил, что они… застряли.
— Чем объясните свою оперативную паузу?
— Даже размерами наших гусениц, — объяснил Манштейн. — Если вы из Цоссена завтра дадите сигнал двинуть мои «ролики» на Ленинград, мы выйдем к курортам Луги и Вырицы уже с забитыми пылью фильтрами и лопнувшими траками… Не только у нас, но даже у техники сдают нервы и лопаются перепонки!
Беседуя, они шли от полевого аэродрома по заливным лугам, незаметно для себя собрали громадный букет ромашек. В безвестной деревеньке на берегу тихой речки Манштейн занимал избу — с печкой и полатями; барон Альфред Кутченбах, с интересом оглядываясь, уселся на лавке под киотом, и строгие русские боги сурово взирали на загадочных пришельцев. В углу же горницы стоял ящик, из которого торчали горлышки водочных «четвертинок».
Манштейн хвалил русских за их сообразительность:
— Чертовски удобную придумали они расфасовку! Этот ящик достался нам в качестве трофея из одной сельской лавки. Больше там ничего не было. Только учебники, какие-то книжки, паршивые «фотокоры» на треногах и пачки соли, пропахшие керосином.
Манштейн сообщил: тяжелые русские танки KB, истратив боезапас, идут прямо на таран, и тогда (если не взрываются при ударе) оставляют от немецких «роликов» груды искореженного металла. Паулюс в ответ рассказал Манштейну, что с Т-34 не справляется даже противотанковая артиллерия — лучшая в мире:
— Шкуру этих зверей пробивает только швейцарская зенитка (калибром «восемь-восемь»). Это даже немыслимо, — говорил Паулюс, — если небесная артиллерия станет опускать стволы к самой земле, выступая в несвойственном ей амплуа.
Манштейн занимался устройством букета:
— На этих «восемь-восемь» пока и держимся…
Появились хлеб с зельцем, копченая колбаса. Манштейн сказал, что в недавнем бою пленен русский подполковник; он решил не передавать его в СД или СС:
— Потому что это старый, еще царский офицер. Я держу его при себе — под охраной в бане на огороде. Он предельно откровенен, и мы иногда с ним дискутируем.
— Любопытно. Пригласите его, — сказал Паулюс… Появился пленный (заспанный).
Седоватый ежик волос. Широкое лицо. Грубые руки. В петлицах гимнастерки — три шпалы. Пожалуй, никто, кроме Кутченбаха, не заметил, что он припадает на одну ногу. Увидев зондерфюрера войск СС, сидящего под иконой «Утоли мои печали», русский сказал:
— Ага! Вот этот тип и станет мордовать меня?
Кутченбах засмеялся, отвечая ему по-русски:
— Не бойтесь. Я не по этой части. Переводчик.
— Значит, в эмиграции нашего языка не забыли?
— Я не русский, а немец. Садитесь, пожалуйста.
Манштейн привычно запустил руку в магазинную тару и вытянул на стол четыре бутылочки — каждому по штуке.
— Никак не научусь открывать без штопора.
— Не велика мудрость, — сказал пленный, ударом ладони вышибая пробки, так что водка плеснулась за печку.
На его груди одиноко светилась медаль «XX лет в РККА», и Паулюс с некоторым удивлением заметил;
— Не слишком-то щедро вас награждает Сталин.
Подполковник оглядел Паулюса с ног до головы:
— Да, Гитлер щедрее… Но вы и воюете больше нашего. А у нас — что? Конфликт на КВЖД, конфликт на озере Хасан, конфликт на Халхин-Голе, конфликт на Карельском перешейке… Войн нет — одни конфликты: а с них, сами понимаете, воевать не научишься и орденов не нахватаешься.
Кутченбах долго изучал водочную этикетку.
— Цена три марки и пятнадцать пфеннигов… Дорого!
— А вам-то, — ответил пленный, — не все ли равно, что дешево, что дорого? Вы же за нашу водку не платили.
— Думаю, — ответил зондерфюрер, — приди вы в Берлин, вы бы тоже не стали выбивать в кассе чеки за хальб-литтер.
На это подполковник сказал ему:
— До Берлина-то нам еще топать и топать…
Кутченбах перевел, и все дружно захохотали.
— Ваш чин в царской армии? — спросил Паулюс.
— Штабс-капитан. Честь имею.
— Образование?
— Начал солдатом. В четырнадцатом. Три «георгия». Школа подпрапорщиков. Снова фронт. И стал штабс-капитаном. А военную академию имени Фрунзе закончил лишь в тридцать четвертом году… уже при Сталине.
— Я понимаю, — кивнул Кутченбах, — большевики после революции принудили вас к служению в своей армии.
— Я вступил добровольно. Потому что вы наседали на нас. А мне обидно. Как же? С четырнадцатого в окопах мурыжился, и вдруг… вы в Крыму! Вы в Пскове!
— Кстати, как и сейчас, — заметил Манштейн, протягивая пленному кусок колбасы, наколотый на вилку.
— Скажите, пожалуйста, — допытывался Паулюс, — почему вы при царе хорошо воевали, а сейчас отступаете? Наверное, вы, русские, не любите этого азиата Сталина?
— На это я могу вам ответить, что немцы при кайзере воевали тоже намного лучше, нежели сейчас при Гитлере. Дело не в Сталине! У меня нет никаких симпатий к этому человеку, но в свою последнюю атаку я поднимал людей с его грозным именем… Будь там Сталин или не Сталин, наши цели в этой войне четко определились: выгнать всех вас… обратно! И чтоб вы, немцы, даже забыли, по какой дороге ехали сюда ваши танки.
Ни Манштейн, ни Паулюс не обиделись, спрашивая:
— А вы разве сами не видите, что уже разгромлены?
— Не вижу! У нас Мамай был… триста лет на шее сидел, и то — спихнули. А с Гитлером мы скорее разберемся. Еще год, от силы два, и ваши «ролики» повернут обратно.
Пленный поднялся, и тут Кутченбах крикнул ему;
— Стоп, моторы! Ну-ка, снимайте правый сапог…
Подполковник прятал в сапоге ордена Ленина и Боевого Красного Знамени. Паулюс, шутя, приложил их к своей груди:
— А это у вас за что? Тоже за… конфликты? Русский офицер разом опустошил всю четвертинку?
— А ну вас всех… Чем с вами водку тут пить, так лучше отправьте меня за колючую проволоку, как всех. Там мне, знаю, будет хуже, чем в баньке. Но зато…
— Барон, — обратился Манштейн к Кутченбаху, — поставьте офицера в СД, и пусть ему устроят шарффер-немунг…
В тайной полиции так назывался «энергичный допрос».
Вскоре Манштейн покатил свои «ролики» к Ленинграду. Сталин отстранил Ворошилова от командования, ибо «железный нарком» вносил в дела только путаницу, а оборону Ленинграда доверил Георгию Константиновичу Жукову. Мы отступали…
* * *
Страшно! Страшно, если в первый же день войны немцы уничтожили 1200 наших самолетов, так и не успевших взлететь в небо, их разбили в куски на аэродромах — бомбами, их перекорежили гусеницами танков. Не хватало даже винтовок! Ополченцы шли на фронт без оружия, подбирая винтовки убитых. На фронт слали пополнения с учебными винтовками, из которых можно стрелять сколько угодно — все равно никого не убьешь, только глаза себе выжжешь.
Генерал-лейтенант Н. К. Поппель вспоминал:
«Сейчас даже странно объяснить этот винтовочный голод. А все объяснялось просто: огромные ружейные склады находились близ самой границы (там они и остались), — за это можно благодарить Мехлиса: удружил нам Лев Захарович!»
Только углубившись в Россию, немцы своими глазами убедились, что никакой «линии Сталина» у Сталина не было и в помине — очередная басня! Правда, кое-где попадались остатки заброшенных сооружений, уже поросших травой и земляникой. Еще накануне войны оборудование «укрепрайонов», начатых при Тухачевском, было безжалостно демонтировано, по распоряжению Л. З. Мехлиса вооружение куда-то вывезли. Генерал-полковник
Л. М. Сандалов писал по этому поводу:
«Многое из того, что казалось нам тогда непреложной истиной, кануло в Лету потому только, что прямо или косвенно связывалось с именами лиц, отстраненных от командования по вражеским наветам».
Отступали… Новые танки Т-34 еще только входили в серийное производство, а Кулик со Щаденками еще до войны запретили выпускать запасные части к танкам устаревшей системы (об этом я говорил ранее), и танкисты, чтобы спасти технику, бывало, «раскулачивали» цельный танк, лишь бы раздобыть запасные детали для других машин. Изношенные БТ-7 и Т-26 бросали на маршах с пустыми баками без горючего — как рухлядь.
Мы отступали… Еще гремели бои под Смоленском, когда под угрозой падения оказался Киев — матерь городов русских. Сталин выходил из себя, не позволяя отступать из Киева:
— Нельзя брать пример с Буденного, который, вместо того, чтобы остановить Клейста, отважно руководит нашим драпом. Потеряй мы Киев, и немцу откроется путь на Харьков и Донбасс, там наш уголь, наши заводы — за них держаться…
Недоволен был Сталин и действиями Еременко, который сам же и напросился командовать Брянским фронтом.
— Я же его за язык не тянул, — рассуждал Сталин. — Еременко вот здесь, за моим столом, при всех клялся, что оставит от Гудериана рожки да ножки. А теперь сам прыгает по кустам от танков Гудериана, словно заяц…
Но при этом Еременко не потерял его доверия:
— Он, конечно, не генерал-от-наступления. Чувствую, в этой войне нам пригодятся и генералы-от-обороны. А в обороне Еременко на своем месте, наказывать его не надо.
…Война явилась строгим проверщиком всех людей, калибров, брони и составов горючего. Прежние тормоза на пути к победе убирались. Л. З. Мехлис еще вийствовал, стреляя в людей, виноватых и неповинных, но Щаденко уже скатился по служебной лестнице — за свое авторство «индивидуальных ячеек»; немцы скученно сидели в траншеях, а наш боец, не видя других из своей «ячейки», считал себя покинутым, ему казалось, что все ушли, бросив его одного; от этого, уже психологически надломленный, боец оставлял «ячейку» и уходил… догонять своих! А эти «свои» оставались в «индивидуальных ячейках», напоминавших им об уюте могилы.
Кулик был тоже разжалован из маршалов, но оставался верен себе — даже в условиях фронта. С утра раннего он, напомаженный, словно уличная девка, выстраивал на позициях духовые оркестры, как это делалось еще в гражданскую войну, и под музыку трескучих маршей гнал свои войска под немецкие пулеметы. Выкосят немцы одних — шлет вторично. Под музыку! Как под Царицыном… Но тут вмешался сам Жуков, уже входивший в силу, и сказал, что ему плевать на прежние заслуги Кулика!
— Долой с фронта! Чтоб я его больше не видел…
Наверное, Сталин испытал горькое разочарование, когда его старые полководцы, о которых поэты слагали хвалебные песенки, на деле оказались болтунами — и не больше того! Суровое время требовало новых людей, прошедших высшую академическую школу. Знающих не только свою армию с ее портянками и лозунгами, но и тактику противника, наконец, нужны люди убежденные, которых не устрашит никакая ответственность. Где взять таких людей?.. Если, читатель, спокойными глазами оглядеть когорту тех, что начинали постепенно образовывать Ставку, то мы увидим, что победа выковывалась людьми тридцати — сорока лет, не старше. А иначе нельзя: люди другого поколения просто не выдержали бы адского напряжения и такого частотного ритма событий, в каких жила потрясенная страна. Понятно, почему Сталин ухаживал и за Шапошниковым.
— А вы уже не молоды, — говорил он. — Поставьте у себя в кабинете диван. Часа три-четыре позанимайтесь, потом ложитесь и размышляйте… это ведь тоже дело! Вам снова быть начальником Генштаба, — а это не та фигура, чтобы по окопам мотаться. Для этого я найду людей помоложе вас…
Признаем за истину, что Сталина никогда не покидала вера в ум и благородство Шапошникова, хотя Борис Михайлович иной раз сильно его озадачивал. Так, например, когда одному генералу угрожал трибунал с необратимым расстрелом, Шапошников заявил, что он уже наказал виновного.
— Наказали? Вы? А как наказали?
— Я объявил ему выговор.
Трубка чуть было не выпала изо рта Сталина.
— Выговор? И это… все? — оторопел он.
— Да. Выговор — очень тяжкая расплата, — пояснил Шапошников. — При царе-батюшке генералы, получившие выговор от Генштаба, или сразу подавали в отставку, или стрелялись.
Мы отступали. Но в Кремле случались и веселые минуты. Сталин редко смеялся, но однажды его застали очень веселым.
— Подумайте! — рассказывал он. — Сейчас мне звонил один перестраховщик. Кавалерийской дивизии выдали еще старые шашки, на клинках которых начертано: «За веру, царя и отечество». Я спрашиваю — так в чем дело, разве плохие шашки? А он отвечает: «Очень хорошие, но идейно не выдержанные…»
* * *
1941 год — это год героический, год незабываемый. Честь и слава всем тем, кто тогда, изнывая от жажды, отступал с последним патроном в магазине старой винтовки.
Смоленские леса смыкались за ушедшими батальонами.
«Мы вас подождем!» — говорили нам пажити. »Мы вас подождем!» — говорили леса. Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется, Что следом за мной их идут голоса.. Люди, где вы? Тихо. Мне ли забывать вас?20. А наш дуче всегда прав
Последний анекдот был таков. Немецкий офицер, будучи в Италии, зашел в римскую кантину выпить вина. Все вокруг было заплевано, и он сказал хозяину; «Синьор, дуче у вас провел немало кампаний — и за высокие урожаи, и за истребление мух. Не мешало бы ему провести последнюю кампанию — чтобы вы, итальянцы, перестали плеваться куда попало». На это хозяин кантины отвечал с глубоким вздохом: «Была у нас и такая кампания. Но мы ее, как и все другие , тоже проиграли…»
Итальянцы народ хороший, но экспансивный, и когда им не хватало слов, они начинали плеваться. Вот яркий пример тому: рабочие фирмы «Фиат», выпускавшей моторы для танков, начинали трудовой день с того, что в проходной завода весьма энергично оплевывали плакат с портретом Муссолини, лишь потом занимая места у станков. Цехи, как и улицы, были украшены девизами: «Дуче всегда прав!», а рабочие по ночам писали на заборах: «Пусть дуче сдохнет от рака».
«Врачи нашли у меня только гастрит, — бесновался Муссолини — Никакие анализы не дают признаков метастаза…»
21 июня он получил письмо от Гитлера: «О наступлении на Египет до осени вообще не может быть речи». А среди ночи дуче был разбужен своим зятем, графом Галеаццо Чиано, ведавшим внешней политикой Италии, который сказал, что у него есть очень важное сообщение — опять-таки от Гитлера.
Муссолини растолкал свою солидную жену:
— О, Рахель! Я по ночам не беспокою даже лакеев, а этот пижон с челкой срывает меня с постели… Так в чем дело?
Чиано зачитал обращение фюрера, который в эту ночь принял «самое важное решение в своей жизни» — напал на СССР.
— Рахель, ты слышала? Наша ярмарка прогорела… Это настоящий идиотизм, — продолжал он в сторону зятя. — Что он там импровизирует, не согласовав прежде со мной? Ведь при свидании в Зальцбурге фюрер обещал всю свою авиацию для Африки, а оставил меня с пройдохой Роммелем…
Галеаццо Чиано задумчиво сказал:
— Военные расчеты Берлина всегда оказывались более реальны, нежели прогнозы политического порядка.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Только то, что при гибели корабля матросов часто засасывает гибельная воронка, и опытные моряки, зная об этом, заранее отплывают как можно дальше… Даже если немецкие генералы спланировали войну идеально, Гитлер допустил роковую ошибку в политических расчетах. Италия не нуждается в преодолении снежных сугробов России, наше будущее простерто от Гибралтара до Аддис-Абебы…
Кажется, сказано достаточно ясно: зять предупреждал дуче быть скромнее и с Россией лучше не связываться.
Муссолини между тем развивал свои вожделения:
— Если мы сегодня же не вступим в войну с Россией и не станем главным партнером Гитлера, то он, Разбив Сталина, сделает из Италии германский протекторат, в лучшем случае оставив меня на посту римского гаулейтера. А ты, Галеаццо, будешь торговать апельсинами в казино для немецких офицеров.
(Чиано доверил свои опасения дневнику: «А если Красная Армия окажет сопротивление более стойкое, чем армии буржуазных государств? Какова будет тогда реакция в широких пролетарских массах всего мира?»)
Чиано сказал:
— Сегодня воскресенье. Все русское посольство с вечера выбралось из Рима, чтобы загорать на пляжах. А на каком пляже купается их посол Горелкин?
— Ищи его в Риччони! Найди и сразу дай ему по лбу, чтобы он содрогнулся от ужаса перед моими берсальерами…
Он еще раз поглядел на письмо Гитлера: «Решающую роль вы, дуче, сможете оказать (в войне с Россией), увеличивая ваши силы в Северной Африке». Это возмутило дуче:
— Меня он загоняет в пустыню ковыряться в песочке, а сам будет таскать из России эшелоны всякого добра. Нет уж, — решил Муссолини, — мои ребята не поплетутся в обозах за вермахтом. С тех пор как англичане выперли нас из Аддис-Абебы, путь к восстановлению великой итальянской империи станет пролегать через степи России! Доверимся звериному инстинкту — он меня еще никогда не подводил, и я уже начинаю чувствовать, что в России мне суждено оставить след своей львиной лапы…
Бенито Муссолини тут же позвонил на квартиру маршала Уго Кавальеро, который был начальником генерального штаба и который еще почивал сном невинного младенца:
— Проснись, Уго! Какие дивизии годны для России? Если ты еще дремлешь, так запиши их названия; «Пассубио», «Торино» и «Принц Амадео герцог д'Аоста». Их могучее объединение составит «Итальянский экспедиционный корпус в России».
— Понял. — зевнул Кавальеро. — Сокращенно — КСИР.
— КСИР, — согласился дуче и стал натягивать брюки….
До этого все монологи были произнесены в трусах.
— Рахель, — сказал дуче, застегивая ширинку. — Придется нам с тобой ввести карточки на продукты. Ты представляешь, какой дикий вой устроят мои бумажные итальянцы.
Почему-то он любил итальянцев называть «бумажными».
— Ах, Бенито! Ты погубишь себя и всех нас…
В ответ Муссолини бодро пощелкал подтяжками:
— Ничего! У меня на всех хватит касторки. — Дуче велел срочно разбудить и доставить генерала Мессе.
— Джованни! — сказал он ему. — Кажется, тебе предстоит веселая прогулка в Россию. Но сразу предупреждаю, как друга, можешь просить у меня сколько угодно орденов и медалей, но ты не получишь от меня ни пушек, ни танков… они все нужны в Ливии!
Муссолини пожелал видеть атташе Германии, и он принял Риктелена в своем гигантском кабинете «Палаццо Венеция», где был только один стул — для дуче, а остальные пусть постоят.
— «Стальной пакт» между мной и фюрером, который я желал бы назвать «Пактом крови», — объявил дуче, — призывает меня пролить кровь своих берсальеров на полях России, ибо уголь Донбасса своим горением превышает качество угля вашего Рура…
— Не спорю, — согласился генерал Риктелен, — имея в виду сравнение угля разных сортов.
Сразу началась грубая и бестолковая агитация по заманиванию в КСИР добровольцев. Нищих и голодных итальянцев соблазняли богатством, которое они обретут в России.
— Русские хуже эфиопов, — внушали им. — За красивую зубочистку они готовы отдать целую корову. Они пожертвуют семейной периной за плевую фотографию нашего великого дуче. Можно получить овцу за почтовую открытку с видом Виллы Савойя, в которой проживает наш скромнейший король.
Солдат, не желающих воевать с Россией, накачивали касторкой, а потом, изможденных обильным поносом, ссылали на голые острова близ побережья. Охотно шли в поход только чернорубашечники, убежденные фашисты, до пупа обвешанные значками всяких спортивных, филателистических, лесоводческих и охотничьих обществ.
— Наш дуче всегда прав! — кричали они…
Вскоре был устроен парад войск, отправляемых в Восточный поход. Конечно, дуче не удержался от речеговорения:
— Мы переломаем большевикам все кости с беспощадностью кровожадных хирургов, — заявил он. — Я дал вам могучую фашистскую технику! — При этом ленивые мулы, которым и не снилась Россия, энергично задвигали ушами, отгоняя назойливых мух. — Наша партия ничего для вас не пожалела. Каждая подошва ваших ботинок держится на семидесяти двух гвоздях. Если не верите, сосчитайте сами… только не сейчас, не на параде! Фашизм, — упоенно продолжал дуче, — это вам не какая-нибудь чесоточная крапивница, от которой не знаешь куда деваться, а потом зуд проходит сам по себе. Фашизм останется вечен, как и эти древние камни Рима… Вива, эй-ялла!
— Вива, вива, — гремело на площади. — Слава нашей великой фашистской партии, а дуче — всегда прав… прав… прав…
Чернорубашечники хором исполнили фашистский гимн:
Молодость — это весенние воды,
Только в фашизме счастье свободы…
На трибуне, провожая войска КСИРа в Россию, между германским и японским атташе, стоял военный атташе США — полковник Норман Фиске и делал рукой под козырек. Поехали! В вагонах воинского эшелона члены партии воодушевляли молодежь всякими идиллиями, вычитанными из газет:
— Все русские носят длинные бороды, а подпоясываются красными кушаками. У каждого в руках — балалайка или гармошка. С утра они играют коммунистический «Интернационал», при звуках которого в меру обнаженные колхозницы начинают плясать от радости… Все это мы скоро увидим своими глазами!
Эшелоны мчались на север, и на Бреннерском перевале итальянцы заплакали: здесь кончалась их родина. Кто-то вдруг запел «Бандьера нэва», запрещенную при фашизме:
На мосту Бассано — черные знамена,
Траурные флаги — вестники смертей.
На войну собрались храбрые альпийцы.
Движутся навстречу гибели своей…
Честно говоря, мне жаль этих итальянцев. Снежные сугробы в донских степях под Сталинградом станут для многих братской могилой, а те, кто останется в живых, будут расстреляны во Львове и Демблине, гитлеровцы затопчут их живыми в топи болот Белоруссии, и об этом долго-долго никто-никто в мире даже знать не будет… да, их жалко!
* * *
В отличие от Муссолини, испанский каудильо Франсиско Франко никогда не кричал о том, что он прав, но все-таки он оказался прав, не доверяя Гитлеру, и потому — в ответ на призывы фюрера — отправил в Россию только одну «Голубую дивизию», составленную из отбросов общества; русские в таких случаях говорят: возьми, Боже, что нам негоже…
Это был сброд! Уголовники, выпущенные из тюрем; нищие, желавшие обеспечить свои семьи; были и такие, что поскандалили с женами и «отомстили» им экскурсией в Россию; наконец, в «Голубой дивизии» было немало и республиканцев, сознательно ехавших на русский фронт, чтобы сразу же сдаться в плен. Немцы обещали платить наемникам 60 марок в месяц, но выплачивали советскими рублями (из расчета 20 рублей за одну марку).
«Голубая дивизия» сразу показала своим союзникам, что с ними шутки плохи. Проездом через Германию, ради лучшего освещения своих вагонов, испанцы снимали фонари на станциях. Они штурмом взяли вагон-холодильник с сыром и весь сыр мигом слопали; с перрона вокзала в Берлине испанцы мигом «увели» все чемоданы немецких офицеров, приехавших в отпуск, чтобы порадовать родных подарками из России.
«Голубая дивизия» обосновалась на Псковщине, немцы держали испанцев на особом пайке — всего 200 граммов сухарей в день, и они очень легко, даже беззаботно сдавались в плен.
— Сытно пожрать бы, — говорили они на допросах, — а больше нам ничего и не надо. Капитане — сволочь! Сам жрет курятину да нас же и обворовывает… Вы нас простите. Конечно, нам бы лучше сидеть дома, но там жрать нечего!
Испанцы не столько воевали с русскими, сколько дрались с немцами. Заодно уж — за компанию! — они Жестоко били своих офицеров. Среди моих земляков остались смутные предания:
— Испанцы-то? А шут их знает, что за люди? Если не дерутся, так они, почитай, все время дрыхли, как окаянные. Мы же сами их и будили. Вставайте, говорим, эвон, немцы идут. Тут они мигом вскакивали — и в драку…
В наших архивах сохранилось множество показаний испанских военнопленных. Меня удивил один протокол допроса:
«Я, — сознался один офицер, — постоянно испытывал все нарастающее чувство привязанности к русскому народу и земле русской. Многие мои товарищи испытывали те же чувства… поверьте, я будто стал очищенным ото всей скверны».
Франко очень скоро убрал «Голубую дивизию» с русского фронта, а Гитлер не смел возражать, ибо он нуждался в поставках ценного вольфрама из рудников Испании. Впрочем, этим испанцам потом даже повезло; многие до сих пор получают приличную пенсию от правительства ФРГ и живут неплохо.
Итальянцы ничего не получают и никогда уже не получат…
21. Война затягивается
Красная Армия по-прежнему отступала — когда дорогами, а чаще лесами, проселками, через болота. С картами было плохо! Перед войной, боясь шпионов, все, что надо и не надо, засекретили, даже географию, а так как военная доктрина учила, что воевать предстоит только на чужой территории, то выпускали карты Европы, а своих вот не было. У немцев же — наоборот! — имелись прекрасные карты России, и потому наши командиры всегда желали иметь трофейные карты своей же родной земли… Вот и «драпали» дальше на восток, при кратких вспышках спичек прочитывая по-немецки писанные русские названия: Дедово, колхоз «Путь Ильича», Бабий Лог, совхоз «Сталинским путем»…
— Эх, где наша не пропадала! Пошли, братцы, далее.
Ведь еще совсем недавно, во время предвоенных маневров, красноармейцы проходили через села, бабы выносили навстречу горшки с топленым молоком, старухи несли в подолах яблоки, малину в деревенских решетках, старики-пасечники угощали сотовым медом. А теперь даже таились деревень — как бы не нарваться на немцев — и тянулись околицами, небритые, грязные, кое-как забинтованные, стараясь не смотреть в глаза встречным, безголосый позор уязвлял души, а командиры со шпалами и ромбами в петлицах выслушивали объяснения стариков:
— Мы-то в германскую не пустили немака на свою землицу. На кого же нас бросаете? Сколь годочков в нитку тянулись, на вас же налоги платили, а вы… Вернетесь ли?
— Жди, дед. Вернемся. А сейчас и без тебя тошно…
Время было лютейшее: сегодня жив, а завтра тебя нету.
Люди топали по родимой земле, осиянной трескучими пожарами деревень, мимо старинных погостов, где под крестами навек опочили их достославные пращуры. Это уж потом, дошагав до Берлина, вислоусые «отцы» спрашивали молодых:
— Ты, сынок, с какого года на фронте?
— Да, почитай, с сорок третьего. А что?
— У-у, сопляк какой! Кто в сорок первом не воевал, тот и войны-то не видывал, тот и беды не знавал…
Орденоносцев в армии тогда было очень мало. На человека с медалью «За отвагу» смотрели во все глаза, как на жирафа глядят в зоопарках. Гимнастерки солдат, принявших на себя первый удар вермахта, были украшены значками «Готов к труду и обороне» или «Ворошиловский стрелок», но и эти скромнейшие отличия, наверное, тоже к чему-то обязывали… Отступали!
В редчайшие минуты отдыха Шапошников говорил:
— Эта война, какой еще не знало человечество, позже, когда нас на свете не будет, привлечет обостренное внимание историков. Потому нельзя оставлять после себя одни белые пятна, преступно говорить только об успехах, скрывая жесточайшую правду. И пусть потомки увидят не только мужество солдат наших, но и трагические просчеты генералов… Пройдут годы, и какой-нибудь листок из блокнота, написанный комбатом в траншее за минуту до его гибели, станет важным историческим документом… Сберечь бы все это!
Сберечь не удалось. Может, еще где-то на дне старческих сундуков лежат солдатские письма. Может, какая-нибудь старуха, вспомнив молодость, и прочтет в тысячный раз: «Добрый день, Маня! Во первых строках своего письма сообщаю, что я жив и здоров, чего и тебе желаю…» А куда он, ее муж, делся потом — об этом никто и никогда не узнает. Намучились до войны, страдали во время войны и наплакались они после.
Идут века, шумит война, Встает мятеж, горят деревни, А ты все та ж, моя страна, В красе заплаканной и древней. Доколе матери тужить? Доколе коршуну кружить?* * *
Паулюс с зятем возвращались из группы Манштейна в пустынном транспортном «юнкерсе», с ними летел и генерал Эрих Гепнер, на его голове черная пилотка танкиста сидела чересчур залихватски, а посреди фюзеляжа стоймя был поставлен рояль.
— Это ваш? — спросил Паулюс о рояле.
Рыцарский крест украшал мундир Гепнера.
— Именно о таком «Стейвейне» жена и мечтала. Это из витебского клуба железнодорожников. Русские держали его на сцене, совсем не понимая того, что габариты стиля «миньон» допустимы лишь для дамского будуара.
Взревели моторы «юнкерса», Гепнер невольно повысил голос.
— Вы не слышали последнюю новость, Паулюс?
— Нет. Я кормил комаров в лесах под Лугой.
— Сталин начинает менять людей. В начальники своего Генштаба он снова поставил старого Шапошникова, чтобы освободить Жукова для фронтовой работы. Думается, в Кремле сейчас мечутся, выискивая новых людей, чтобы заменить прежних начальников.
Гепнер по-хозяйски придерживал рояль (через три года, когда Гитлер станет его вешать, он будет жалобно просить об одном — не конфисковывать его имущество). Паулюс сказал, что для ОКХ останется, наверное, загадкой внезапное устранение Шапошникова из Генштаба, а теперь — непонятное его возвращение.
— Никаких загадок, — отвечал Гепнер, — просто у Сталина совсем не осталось здравых людей, вот и вернул Шапошникова.
— Но там уже был некий Жуков.
— А кто знает Жукова? Никто…
На аэродроме в Летцене Паулюс встретил генерала Курта Гаммерштейн-Экворда, снова он выслушал от него едкие слова:
— Все сроки прошли, а Россия не капитулировала, как вы полагали в Цоссене. Глупо думать, что отступление русских является преднамеренным, и вряд ли они следуют маршрутами Барклая и Кутузова. Вам, Паулюс еще предстоит покрутиться под куполом этого цирка но я… я уже покинул эту арену!
«Странные слова и при чем здесь 1812 год?»
Вот и Альтенштайнштрассе; поднимаясь по лестнице, Паулюс уже мечтал о пушистой пижаме и домашнем уюте. А завтра можно выехать с Коко за город — рисовать акварелью старые деревья над притихшей водой. Жена встретила его слезами:
— Боже, как я волновалась все эти дни, а теперь счастлива, что ты вернулся с войны… снова дома.
Паулюс, обнимая Коко, весело смеялся:
— Поверь, именно на фронте у Манштейна я… отдохнул. А теперь с ужасом думаю, что снова надо ехать в Цоссен или мотаться в Пруссию. На фронте все-таки легче…
Радиоприемник заполнял квартиру пением победных фанфар, знакомый голос Ганса Фриче возвещал о новых и, как всегда, «исторических» победах фюрера на Востоке. Молоденькая горничная поднесла Паулюсу рюмку яичного ликера на подносе. Он уже слышал шум горячей воды — ему готовили ванну.
За обеденным столом Елена-Констанция спросила:
— Не скрывай от меня — когда закончится война?
Паулюс в этот момент прислушался к речи Ганса Фриче, который сообщал о пресс-конференции для иностранных корреспондентов, устроенной Риббентропом, министр выразился так — СССР уже перестал быть фактором, имеющим в мире политическое значение. Даже те, кто сомневался в успехе этой войны, теперь свято уверовали в гений нашего фюрера.
— Не все, — сказал Паулюс, как бы отвечая и жене, и тому же Гансу Фриче. — Вермахт сильно забуксовал под Шмоленгсом.
— Это серьезная остановка?
— Вермахт она не остановит, но сроки войны передвинутся дальше. Мы ведь надеялись захватить много вагонов и паровозов, чтобы не перешивать узкую колею, принятую в Европе, на более широкую — российскую. Но большевики угоняют весь подвижной состав, и нам приходится задействовать автомобили. Сейчас мы собрали со всей Европы четыреста тысяч машин… Представь, сколько горючего пожирает эта армада.
Зазвонил телефон, жена сняла трубку.
— Гальдер… тебя, Фриди, — сказала он…
— Паулюс, — послышался сдавленный голос из бункера Цоссена, — у вас нет никаких соображений по поводу того, что Шапошников вернулся в свой Генеральный штаб?
Паулюс сказал, что ему как-то безразличны эти перестановки «мебели в кремлевских кабинетах», что в любом случае общий интерьер останется, по его мнению, прежним — маловыразительным. Затем они встретились и разговор Гальдером был продолжен:
— Шапошников, пожалуй, единственный сейчас в окружении Сталина, кто не боится возражать ему, и его советы могут быть опасны для нас. Потому его следовало бы обезвредить.
— Каким образом? — спросил Паулюс.
— Через Бухарест или Хельсинки — так будет достовернее! Подозрительный Сталин сразу удалит Шапошникова…
Теперь в Цоссене всем уже было ясно, что молниеносная война (блицкриг) превращалась в войну затяжную. Пока помалкивали об этом, но каждый понимал, что предстоит зимняя кампания, к которой вермахт не был подготовлен. По этой причине немецких генералов заразила эпидемия наполеономании. Это подтверждали и вести с фронта. Фельдмаршал Клюге — по мемуарам французов о походе 1812 года — пытался отгадать, что ждет его войска в зимней России. Ходили слухи, что Гудериан даже устраивает ночлеги в местах, где когда-то переспал и Наполеон. В совпадениях (да и даже в географии) немецкие генералы хотели видеть что-то пророческое, указанное им свыше. Гитлер, напротив, даже ликовал от совпадений:
— Мы форсировали Неман в тот же день, что и Наполеон! Наши танки ворвались в улицы Вильно и Ковно двадцать четвертого июня — в день, когда туда вошла кавалерия Мюрата… Но мы обгоним Наполеона на своих моторах!
Паулюс, вдумчивый аналитик, был далек от того, чтобы проводить мистические параллели между 1812 и 1941 годами:
— Сравнение этих войн не выдерживает критики, — рассуждал он академическим тоном, словно читая лекцию. — Избегая сражений с Наполеоном, русские ничего не теряли, кроме унылых и безлюдных пространств. В этой же войне они оставляют промышленные центры, без которых немыслимо снабжение сталинских армий. Потому и отпор большевиков будет возрастать день ото дня — по причинам, далеким от исторических аналогий. Сейчас их должны бы беспокоить потеря месторождений молибдена и марганца, без наличия которых немыслима вся сложная металлургия легированных сталей…
7 августа в Цоссене появился Хойзингер — со смехом:
— Поздравьте: у меня в Москве появился… антипод. Шапошников, вернувшись в Генштаб, выдвинул в начальники оперативного отдела молодого Александра Василевского.
— Что вам, абверу, известно о нем?
— Василевский еще в стадии нашего изучения. Известно, что он из семьи священника. Офицером стал еще до революции. Воевал с нами в армии Брусилова. Принадлежит к числу очень редких в Москве поклонников учения Драгомирова, который, как вам известно, моральный фактор в сражении ставил выше технического воздействия. В обращении с подчиненными Василевский отзывчив и даже мягок. В личной жизни порядочен. С отцом-священником, как член партии, отношений не поддерживает. Имеет лишь единственный орден… незначительный!
8 августе радиостанция Хельсинки нанесла провокационный удар. В передаче на русском языке некие «друзья» обращались лично к Шапошникову, убеждая его не казниться более муками истерзанной совести, к чему эти запоздалые раскаяния? Ему, бывшему офицеру царского штаба, пора обратить свой ум на служение не Сталину, а страдающей русской нации. Шапошников этой передачи не слышал. В эти дни (дни жестоких боев под Смоленском) его однажды видели даже небритым.
Он уснул над аппаратом Бодо, ожидая связи с Жуковым.
Связь работала, как всегда, отвратительно.
* * *
Незадолго до войны, в очень морозный день, Сталин звонил в Ленинград, и вдруг в его трубке послышалось:
— А корыто? Корыто купила ли? Ой, два часа выстояла… достала. Цинковое!
— Манька-то как живет? Разошлась со своим?
— Выгнала! У нее теперь хахаль… непьющий.
— А сколько он получает, ты не спрашивала у Маньки?
— Да инженер! Много ль с инженера накапает?..
Сталин вызвал наркома связи И. Т. Пересыпкина:
— Если я могу свободно подслушивать чужие разговоры, значит, и мои разговоры кем-то прослушиваются… Разберитесь!
В недостатках связи пришлось разбираться в самый разгар войны, когда управление армиями было уже потеряно. Войска слишком надеялись на линии Наркомата связи — на проволоку между столбами. Совсем не учли, что война будет маневренной, а линии связи протянуты, как правило, вдоль железных дорог или важных магистралей. Чуть войска отойдут от дорог подальше — ни столбов, ни проволоки. К тому же связь была не подземно-кабельная, а воздушно-проводная, и противник смело к ней подключался, прослушивая наши переговоры, а иногда немцы давали по нашим войскам ложные приказы — отступать! Слепое доверие к телефонам порой кончалось трагедиями, гибелью множества людей. При этом существовала «радиобоязнь»: к походным радиостанциям относились как к лишней обузе, за которую надо отвечать, при первом же удобном случае их отсылали в обоз. Это происходило от недоверия к сложной аппаратуре, от боязни штабов быть запеленгованными противником. Шифровальные же коды были настолько сложными, что зачастую приказы передавали в эфир открытым текстом, после чего на штабы сыпались бомбы. Но вот что достойно внимания: танкисты с авиаторами активно пользовались радио, требуя от командования только одного — скорейшей радиофикации танков и самолетов. Скоро наши воины освоили все приемы связи, а радио стало привычным для командования. Но в 1941 году мы еще блуждали во всеобщей немоте, и даже сам Пересыпкин, ставший маршалом связи, порою никак не мог соединить Сталина со штабом Буденного;
— Извините, осталась связь только по азбуке Морзе.
— Вы по азбуке Морзе с женой договаривайтесь, — злился Сталин, — а я должен слышать Семена, чтобы по голосу определить, как он там… жив или уже помер?
…Фельгиббель в эти дни снова повидался с Паулюсом.
— Мы, — сообщил он, — сейчас перехватили интересную информацию от русских. Сталин нервничает из-за Киева, очень недовольный Буденным, и, кажется, вместо этого конюха будет назначен Тимошенко… Тебя это интересует?
— Нет, — отозвался Паулюс. — Не все ли равно, кто будет под Киевом, которого русским все равно не удержать. Меня беспокоит иное… вот эта карта, видишь?
Запрограммированная в планах линия «Архангельск — Астрахань», эта стратегическая линия, на которую войска вермахта должны бы уже давно выйти, оставалась пока недосягаема. Паулюс просил Фельгиббеля всмотреться в эту роковую черту фронта, что вытянулась почти прямой вертикалью:
— Ленинград — Днепропетровск, вот и все, чего мы достигли ценой бешеных усилий, ценой колоссальных потерь, износив моторы и нервы, растратив колоссальные массы дефицитного горючего. Утешаюсь только тем, что инициатива и стратегический успех пока еще принадлежат нам … Все изменится, если не мы, а они станут навязывать нам свою славянскую волю, а эта воля, как известно из истории, всегда была способна соперничать с нашей, великогерманской.
— Значит, Тимошенко не боишься? — спросил Фельгиббель.
— Я должен остерегаться тех, которые еще неизвестны. Но они, несомненно, должны скоро обнаружиться… В двенадцатом году Наполеон знал тоже двух полководцев — Барклая и Кутузова, но разбили-то его совсем другие, Наполеону ранее не известные.
22. Куда покупать билет?
Теперь Паулюс редко бывал дома. Самолетом или дизельным экспрессом он часто мотался между Цоссеном, где владычил угрюмый Гальдер, и убежищем «Вольфшанце», где диктовал свою волю Гитлер, а Йодль с Кейтелем внимали ему с напряженным видом. Наконец, Паулюс решил не играть с фюрером в кошки-мышки, а честно предупредить его: зимняя кампания неизбежна, вместе с нею мучительно назревают новые проблемы.
— Мы ведь еще не знаем, — докладывал он, — как наша техника перенесет русский климат? Не загустеет ли в баках горючее? Как отреагируют технические масла? Что делать, если смазка замерзнет на оружии, а тавоты кристаллизируются? Русские лучше нас приспособлены к своим природным условиям, и наверняка именно зимой они постараются навязать нам свои решения.
Гитлер слушал спокойно (во всяком случае, Паулюсу не приходилось видеть его катающимся по полу и грызущим ковры от ярости). Лишь постепенно он стал возбуждаться:
— Паулюс, я не желаю слышать подобную болтовню, — именно так записала его ответ стенографистка. — Спокойно доверьтесь моему дипломатическому опыту. Армия должна нанести русским лишь несколько мощных ударов… Впредь я самым категорическим образом запрещаю вам говорить о зимней кампании!
Паулюс чуть было не сказал, что при морозе в сорок градусов никакой Талейран не способен повлиять на химический состав тавотов и бензолов. Близилась осень. Авиаразведка докладывала, что из смоленского котла советские войска выходят чуть ли не стройными колоннами. Разрывы в линии фронта угрожали теперь вермахту. Фельдмаршал фон Бок радировал Кейтелю, что его наступление выдохлось: через «кровавую печь» боев под Ельней прошли тысячи солдат, а от боевых дивизий, недавно еще полнокровных, остались лишь жалкие ошметки.
Гитлер заговорил иначе — даже ласково:
— Москва для меня — географическое понятие, не более того. Заводы Харькова и рудники Донбасса важнее! Москва, да, узел скрещения всех железных дорог. Согласен. Допустим, я покупаю билет на московском вокзале. Но… куда мне ехать дальше?
Тут и Паулюс, уж на что был выдержанный человек, но даже он разволновался, ибо отлично понимал, что со взятием Москвы война не закончится, а лишь еще более затянется, встреча же с японцами на берегах Байкала — такая перспектива в его сознании не укладывалась. Так куда же, черт побери, ехать дальше?
— Куда нам покупать билет на московском вокзале? Это спросил Йодль, а Хойзингер решил пошутить. — Лучше всего в… Берлин, — сказал он.
— Глупые у вас шутки, Хойзингер? — обозлился Гитлер…
Паулюс, наслушавшись таких разговоров, говорил жене:
— Не хватит ли? Меня в вермахте считают самым выдающимся бюрократом… надоело! Я чувствую, что пришло время сменить номера телефонов, чтобы обо мне, как о «бюрократе», забыли. Надо подумать о месте на фронте…
Гальдер знал об этом желании Паулюса, обещая помочь:
— Понимаю, вы уже засиделись до того, что пора приобрести геморрой. Хотя мне и жаль спускать вас со своего короткого поводка. А на длинном поводке много ли набегаетесь? Ведь вы никогда не командовали ни дивизией, ни даже полком…
4 августа Паулюс оказался на берегах Березины, в городке Борисове, где еще догорала спичечная фабрика. Здесь Гитлер пожелал встречи с генералами, дабы обсудить — куда следовать далее. Утром за чашкой кофе фельдмаршал фон Бок заметил Паулюсу, что у него еще хватит сил для решающего удара:
— По Москве, главному нерву большевизма…
Но, делая доклад в присутствии фюрера, фон Бок сам же признался в ослаблении своего фронта, предлагая своей группе «Центр» занять оборонительные позиции. Гейнц Гудериан веселья никому не прибавил, заговорив о… зиме :
— Как и подковам лошадей требуются шипы в гололедицу, так и танкам нужны шипы на гусеницах. Семьдесят процентов моторов отработали ресурсы, фильтры забило, они уже не спасают моторы от пыли, а поршневые кольца стерлись.
— Это и есть ваши претензии? — спросил Гитлер.
Кейтель с Йодлем тактично помалкивали.
— Я сказал только о моторах, но у меня почти не осталось опытных офицеров. Срочно нуждаюсь в пополнении.
— У меня такая же картина, — нехотя добавил Генрих Гот. — Сейчас мы способны на ограниченные операции с частным успехом. Опять мало пленных! Странная ситуация: чем сильнее напряжение вермахта, тем меньше количество пленных…
Было высказано соображение: варварским отношением с пленными мы сами дали отличный материал для советской пропаганды, и теперь русские не торопятся поднимать руки. Паулюс не вмешивался: военнопленные — это забота ОКБ, а он принадлежит к ОКХ, и пусть выкручивается сам Кейтель.
Кейтель громыхнул фельдмаршальским жезлом:
— С большевиками рыцарской войны не ведем. Речь идет о полном уничтожении их мировоззрения. Я не вижу причин для изменений в режиме военнопленных. Мы не намерены варить для них супы из концентратов для солдатского рациона.
Гитлер вызвал неловкую паузу, внеся предложение:
— Я не возражаю! Если пленные умирают от голода, то пусть пожирают один другого. Нам же спокойнее…
Паулюс заполнил паузу сообщением из Ливии:
— Нехватка резервов сдерживает Роммеля в его порыве к Нилу, он наскреб двести танков, а генерал Окинлек, сменивший Уэйвелла, собрал под Каиром больше тысячи машин.
— Нам сейчас не до экзотики с пирамидами, — ответил фюрер. — Роммелю занять прочную оборону и ждать, пока не сломлено сопротивление русских. К сожалению, у Сталина обнаружилось танков и авиации гораздо больше, нежели мы предвидели. Будь я осведомлен об этом заранее, мне было бы труднее принять решение в войне на Востоке…
Что это? Продуманные слова? Или случайная обмолвка?
Генералы даже притихли — в оцепенении.
— Теперь я понимаю, — продолжал Гитлер, — что нам уже не объять всей необозримой русской массы. Маршевое напряжение пехоты достигло крайнего предела. От гигантского русского торта мы должны (и как можно скорее!) отрезать самый лакомый кусок для насыщения нашей экономической базы. Я имею в виду промышленные районы Харькова и Донбасса. Согласен, что маршевое напряжение вермахта достигло предела. Вы знаете, я был против вмешательства Италии в наши русские дела. Римские крохоборы получили от Абиссинии горстку арахиса, от Греции имеют банку маслин, а теперь дуче пожелал иметь фунт русской говядины. Но пусть в Риме не думают, что отделаются тремя дивизиями с тощими мулами, слава Богу, их еще не надобно паивать нашим бензином. Теперь я потребую от дуче целую армию…
Франц Гальдер осмелился заметить, что вермахту необходима передышка, хотя отсутствие прежнего напряжения — он признал это! — неизбежно вызовет Стратегический кризис:
— Потери? Да. Но в прошлой войне кайзера потери Востоке тоже были гораздо более, нежели на Западном фронте
Вот тут Гитлер и взорвался, указывая на Гальдера:
— Он, проторчавший в тылу и не имеющий даже нашивки за ранение! Ему ли судить о потерях? Ему ли, который протирает штаны в кабинетах Цоссена на казенных стульях…
Август 1941 года вошел в историю как кризис в высшем руководстве вермахта, а вопрос о том, куда следовать, разрешался в трояком варианте: Готу и армии фон Лееба по-прежнему давить на Ленинград, чтобы соединиться с Маннергеймом, танкам Гудериана крутиться по Украине, а потом… и Москва!
Вечером Франц Гальдер, оскорбленный бранью Гитлера, устроил выпивку с Браухичем и Паулюсом. Говорили, что главные резервы Сталина собраны под Москвой, и потому, разбив эти резервы, покорением Москвы можно сразу покончить с затяжной войной. Стекла пенсне Гальдера отражали отблески пожаров на спичечной фабрике. Березина протекала рядышком — вся какая-то черная, страшная, невольно напоминая о Наполеоне.
— Фюреру, — сказал Гальдер, — уже не терпится насытить свои домны марганцем и железом Криворожья. Геринг предвкушает пышки из украинской пшеницы, которые он станет оснащать астраханской икрой. Наша большая стратегия стала зависима от обильного выделения слюнных желез рейхсмаршала и от аппетитов Круппа, сидящего на молибденовой диете.
Браухич, загрустив, предложил всем напиться:
— Прозит! Что поделаешь, если на руках нашего фюрера полно неоплаченных чеков из банков финансовых воротил…
Смысл в этих словах был, и смысл даже немалый, экономика воздействовала на политику, но она же вмешивалась и в вопросы батальной стратегии. В счет погашения этих «чеков» Гитлер перенацеливал главные силы к югу, где и без того мощная армада Рундштедта перепахала всю Украину гусеницами танков. Гитлер всегда испытывал брезгливую антипатию к самому Рундштедту, неуклюжему и рычащему, словно медведь, но Рундштедт был ему сейчас нужен — как таран для сокрушения ворот, открывающих подземные кладовые Донбасса. Гитлер в частной беседе с Паулюсом (еще в Борисове, на берегах Березины) сказал:
— Я более доверяю вашему приятелю Рейхенау.
И Паулюс невольно кивнул, понимая, что Рейхенау устраивает Гитлера как старый убежденный нацист,
— Вы, — спросил фюрер, — еще не потеряли нежных чувств к своей шестой армии?
— Нет, фюрер, с нею у меня много связано.
— Навестите ее! Заодно передайте Рейхенау мой партийный привет и скажите, чтобы меньше пил и меньше бегал…
Встреча с 6-й армией, которую Рейхенау толкал к Днепру, была для Паулюса очень приятна, он был прекрасно принят офицерами, сослуживцами по кампании во Франции, многие солдаты помнили его, приветствуя с прищелкиванием каблуков. Но… лучше бы Паулюс не навещал южных плацдармов фронта. Он вернулся в Берлин, изнуренный вспышкой дизентерии, которую унаследовал еще смолоду в рядах Альпийского корпуса.
— Вот видишь, — упрекнула его Коко, — лучше сидеть у телефона и карт в Цоссене, где все гигиенично. А тебя потянуло к этому забулдыге Рейхенау, которого сам черт не берет. Конечно, он так проспиртован, что ему даже чума не опасна…
Из двух туалетов в квартире обер-квартирмейстера один был закреплен лично за ним, ибо Паулюс часто нуждался в его отдельном уюте. Узнав о болезни Паулюса, его однажды навестили Кейтель с Йодлем, которых Елена-Констанция обдала высокомерным презрением аристократки, а потом говорила:
— Для общества таких людей, как этот Йодль с Лакейтелем, ты, Фриди, слишком порядочен и благороден…
Паулюс ответил жене, что с Кейтелем у него ровные отношения, но Йодль ему неприятен после одного случая;
— Когда я делал доклад о плане «Барбаросса», этот мерзавец зевал так беззастенчиво, будто я несу чепуху, и на морде у него было такое брезгливое выражение, словно его с утра накормили дохлыми мухами… Пробить не могу!
— Ты, надеюсь, сделал ему тогда замечание?
— Нет. Зачем наживать лишних врагов?
— Ах, Фриди! До чего же ты деликатен…
«Киев оказался крепким орешком», — известил в эти дни Рейхенау Паулюса. На помощь немецким дивизиям уже валила давно немытая, голодная и голосистая ватага итальянцев… КСИР!
* * *
24 августа Муссолини встретился с фюрером в Бресте, где была расположена личная ставка Германа Геринга. Бронепоезд Гитлера на всех парах еще подкатывал к Бугу, когда в его салоне Уго Кавальеро продолжал тягостную беседу с Кейтелем:
— Роммель полагает, что проблема Африки неотделима от дел Восточного фронта, желая, чтобы войска, ведущие осаду Тобрука, были подчинены лично вашему командованию в России.
Это все равно что быку показывать красную тряпку.
— Пусть не выдумывает! — надменно отвечал Кейтель. — Я понимаю интригу Роммеля: в подчинении Восточного фронта он станет претендовать на одинаковое с нами снабжение. Но мы не будем транжирить резервы вермахта, столь необходимые для России, ради его африканских иллюзий…
Два диктатора, дуче и фюрер, запечатлели свой нерушимый союз на фоне развалин Бреста множеством фотоснимков, что весьма льстило тщеславному Муссолини. Гитлер повел рукой вокруг:
— Смотрите! В этом городе Ленин подписал Брест-Литовский мир с Германией, который сделал Россию посмешищем всего мира, и теперь, когда Сталин запросит мира у меня, я заставлю этого азиата расписаться в собственном бессилии на первом же кирпиче, взятом из этой крепости… Клюге!
— Я весь внимание, мой фюрер.
— Подберите хороший кирпич. Я этим кирпичом сначала тресну Сталина по голове, а потом он на нем и распишется… Это нужно для музея славы, который после войны откроется в Берлине для обозрения иностранных туристов!
— Слушаюсь, мой фюрер.
23. Через Хацапетовку
Фельдмаршал фон Клюге и стал их полезным гидом
— Мы никак не ожидали, — рассказывал он, увлекая гостей в руины Брестской крепости, — что именно здесь возле границы, русские задержат вермахт на целый месяц. Форсировав Буг, танки рванулись вперед. Но вскоре пришлось отозвать их обратно — в помощь нашей инфантерии. Из Германии на особых платформах вывезли шестисотмиллиметровые пушки, чтобы они похоронили русский гарнизон в развалинах этой крепости…
Муссолини ликовал от подобных признании Клюге: «Значит, не всегда влетает моим бумажным итальянцам, достается теперь и железным фрицам…» Изобразив на лице приличное внимание, он выслушивал утомительные длинноты Гитлера, который снова завел любимую пластинку — о полном разгроме Красной Армии, которая, уже шатаясь от ран и голода, вот-вот взмолится о новом варианте «брест-литовского» мирного договора. При этом носком сапога фюрер поддел из-за камней что-то рыжее, и Муссолини отшатнулся, увидев истлевшее лицо женщины, облепленное спекшимися в крови волосами. Подле нее лежала винтовка, из груды кирпичей торчала ручонка младенца.
— Видите, — сказал Гитлер. — Эти азиаты, попавшие под ярмо жидовского марксизма, не жалеют даже своих мегер…
Фельдмаршал фон Клюге, стоя сбоку, подсказал Муссолини, что это не был «женский батальон», как писали в газетах: жены русских офицеров сражались рядом с мужьями. Муссолини заметил на стене какую-то надпись и просил перевести ее с русского: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, любимая Родина…» Это настолько потрясло дуче, что он даже притих, позволяя Гитлеру вести заунывные монологи о непобедимости его вермахта. Но теперь, после Бреста, дуче не очень-то в это верилось. Совсем недавно (19 августа) он решил более не посылать итальянских рабочих на заводы Германии. Именно об этом и заговорил с ним рейхсмаршал Геринг, который своим объемным животом тесно соприкасался с выпуклым чревом Муссолини:
— Напрасно вы отказываете нам в своих итальянцах. Взамен мы дали бы вам пленных большевиков, чтобы они работали на ваших заводах. Если их подкормить, еще показали бы вам, что такое стахановское движение и как с ним бороться.
— Нет уж! — испугался Муссолини. — С пленными русскими распутывайтесь сами. Если их поставить к нашим станкам, они быстро споются с моими бездельниками и лучше уж я велю полиции переловить тунеядцев, загорающих на пляжах Риччони или живущих в отелях Остии непонятно на какие доходы… Пусть они и ставят пудовые рекорды на ваших эссенских шахтах.
Потом дуче тихонько шепнул генералу Уго Кавальеро:
— Гитлер — сволочь… совсем обнаглел.
— Вы, дуче, так считаете?
— Да. Он всегда согласен в знак дружбы поменяться рубашками. Но при этом я должен не вынимать из своих манжет бриллиантовых запонок… Тебе, Уго, не кажется, что у немцев дела неважные? Как бы эти подонки не стали просить у меня солдат?
— Мы дали им три дивизии… разве недостаточно?
— Пойми, Уго, я сейчас в поганом положении. Если мы не проявим активности в России, победы вермахта выявят слишком большую диспропорцию между нашим у германским вкладом в общее дело «Стального пакта». Чем больше крови выпустить из моих итальянцев в России, тем больше выгод получим после мира…
Бенито Муссолини не кривил душой, уподобясь мародеру, который тихо крадется вслед за солдатом, чтобы тут же подобрать все, чем солдат не пожелал пачкаться. Так что в этом вопросе (о насыщении) цели дуче и фюрера полностью совпали. А потому, когда Гитлер завел речь об увеличении итальянского контингента в России, дуче согласился усилить КСИР:
— Мой корпус со временем превратится в «Итальянскую армию в России». Сокращенно назовем ее так — АРМИР.
— АРМИР… я не против, — согласился Гитлер. — Но ваш генерал Мессе будет подчинен моему генералу Эвальду Клейсту.
— Прошу, фюрер, напомнить о его заслугах.
— С удовольствием. Клейст недурно катается на «роликах»…
Из Бреста диктаторы, окруженные свитами, отбыли в Умань, где располагалась командная ставка Рундштедта. Здесь, в райском уголке Украины, на Гитлера обрушилась лавина почестей, криков и восторженных приветствий.
Несчастного дуче оттерли подальше, с сиротским видом он жаловался Кавальеро:
— Ничего, Уго! Скоро я их всех перепугаю…
Гитлер пригласил дуче к столу с оперативными картами. Рундштедту велели изображать великого стратега с указкой в руках. Гитлер сказал Муссолини:
— Для фоторепортажей нужно, чтобы мы склонились над картой. Заранее сделаем сосредоточенный вид. А вы, Рундштедт, не дергайтесь со своей палкой, будто ковыряетесь на помойке. Вы нам точно указывайте на Киев, чтобы берлинские и римские читатели газет ясно видели: битва за Днепр продолжается!
Наконец фотоблицы перестали вспыхивать.
— Будут отличные кадры, — сказал Гитлер, отходя от стола, а дуче подвигал кувалдой челюсти, словно давно несытый бульдог, которому разрешили облизать пустую миску…
«Вот я их напугаю», — предвкушал он.
Вереница автомобилей покатила в село Ладыжинку, на всем пути следования были расставлены стога сена, в которых сидели автоматчики, охранявшие кортеж от партизан. Дуче успокоился при мысли, что война с Россией изнурит Германию до такого скотского состояния, что уже не Гитлер будет диктовать волю Италии, а, чего доброго, он, Бенито Муссолини, станет грозно цыкать на Гитлера… Они въехали в Ладыжинку, где дуче произнес речь, потом состоялся парад «моторизованных» частей КСИРа, вызвавший новое унижение Муссолини и ядовитый смех напыщенных гитлеровцев. Берсальеры с петушиными хвостами на касках прокатились по деревне на спортивных мотоциклетках с таким страдальческим видом, будто их посадили на гвозди. Грузовики с пехотой постыдно буксовали в лужах, водители сидели в открытых кабинах, словно в прогулочных «фиатах», потом дружно свернули в кювет.
— Уго, — вспылил дуче, — где ты набрал эту рухлядь?
— По-моему, — отвечал начальник генштаба, — это легко выяснить, прочтя на бортах машин еще римские рекламы: «Пейте свежее пиво Черрони», «Стиральные машины у Пестикки»…
Показались и мулы, которые отчаянно брыкались, пытаясь сбросить пулеметы, привязанные к их тощим спинам. Наконец, это мотозрелище Гитлеру надоело.он вдруг заторопился в свое прусское «Вольфшанце».
На аэродроме в Кросно под Уманью их ждал самолет с работающими моторами. Муссолини не понравилось как он взлетел. «Юнкерс» фюрера еще только набирал высоту, когда дуче решительно проследовал в кабину пилота.
— Я вам покажу, как надо водить самолет. Не волнуйтесь. Ведь я имею диплом «первого пилота Италии».
Охрана вытянула шеи, глядя на Гитлера.
— Что делать? — помертвел Кейтель от ужаса.
— Покоримся судьбе, — отвечал Гитлер. — Только бы он не вздумал хвастать своим мастерством пикирования. Но если мы останемся живы, то на аэродроме в Кракове дайте понять Муссолини, что он еще не «первый шофер Германии».
Дуче вел самолет. На целый час полета в салоне воцарилось гробовое молчание. Кейтель, кажется, молился про себя. Гитлер утопил себя в глубоком кресле, поднял воротник и взирал в потолок, наблюдая за тем, как там ползает уманская муха, которой суждено пожить в Кракове. Каждый из свиты фюрера мысленно уже прочитывал свой некролог в «Фелькишер беобахтер». Наконец, самолет, ведомый Муссолини, коснулся шинами колес посадочного поля в Кракове.
— Иногда везет даже Муссолини, — ожил Гитлер и очень сухо простился с дуче, поспешая к своему автомобилю.
Муссолини с нетерпением ожидал в Риме граф Чиано.
— Имелись ли отклики на мою речь в Ладыжинке?
— Были, эччеленца, — отвечал зять. — Так, из Катании пришло письмо одного графомана, который со времен д'Аннунцио и футуриста Маринетти сидит в доме для помешанных. Этот псих в восторге от вашего красноречия. Он обещал, что, если ему подарят сто лир на сигареты, он переложит вашу речь в стихи, а затем Дело за композиторами и балетмейстером…
— Пошли ему сигарет, Чиано! Симфоний и балета не надо, ибо с первого сентября я ввожу в Италии карточки на продукты…
Когда возле мясной лавки в Риме женщины с котелками стали упрекать торговца, почему так мало дают мяса по карточкам, лавочник оказался храбрецом не боясь высказать истину:
— А не вы ли аплодировали нашему дуче, пока он толкал свои речи с балкона «Палаццо Венеция»? Не вы ли, бабье поганое, не давали своим мужьям всунуть вам между ног, пока эти мужья не запишутся в партию фашистов? Так перестаньте вопить, клячи старые, иначе я совсем прихлопну свою лавочку!
«Эй-ялла! — горланили фашисты. — Дуче всегда прав…»
— А скоро сдохнет от рака, — говорили итальянцы…
Муссолини после возвращения из России долго изучал карту Украины и, наконец, уперся пальцем в одно место:
— Вот где я оставлю след своей львиной лапы…
Граф Чиано прочитал трудно произносимое для итальянцев название: Хацапетовка.
* * *
Лиддел Гарт, британский историк, еще в 1941 году выпустил в Лондоне книгу, в которой писал: давний опыт политиков Англии обязывает их щадить противника, который со временем обязательно станет союзником, и, напротив, надо всячески ослаблять союзника, который после войны станет противником. Это была заявка на будущее, которой Уинстон Черчилль и придерживался.
Я, автор, очень уважаю Черчилля, крупнейшего политика нашего века, но при этом замечу, что он желал тогда «стоять с ружьем, прислоненным к ноге». Иначе говоря, Англия собрала большую и хорошую, но бездействующую армию. Чтобы оправдать бездействие армии, англичанам свыше внушалось:
— Не забывайте: еще не исключена опасность вторжения, германского вторжения с моря, а Германия еще способна прогнать русских даже до самого Урала…
Официальная Англия восприняла нападение Германии на СССР как чудесный отдых от недавнего напряжения, бомбежки городов сделались реже, были уже не так эффективны, от утесов Дувра война отодвинулась в пески Ливии и в страны Ближнего Востока, где английская армия подменяла полицию в конфликтах между евреями и арабами. Черчилль бдительно охранял целостность своей колоссальной империи, мало того, эта война предоставляла Великобритании удобный случай еще большего расширения колониальных владений королевства…
Утро 11 августа 1941 года Черчилль встретил на борте дредноута «Принц Уэлльский» — подле берегов Нью-Фаундленда; сюда же с дивизионом эсминцев прибыл и президент Рузвельт. Заунывному гласу «Боже, храни короля» корабельные оркестры США отвечали бойким мотивом «Звездного знамени». Рузвельт, как богатый дядюшка на именинах бедного племянника, подарил каждому британскому матросу по апельсину, по 500 граммов сыра и по целому блоку кубинских сигарет.
Атлантическая конференция началась. Черчилль сразу же напомнил Рузвельту, что для Англии важно сохранить контроль в Азии и в Северной Африке, с Германией же можно расправиться одними стратегическими бомбардировками — лучше по ночам, чтобы не давать фрицам выспаться, а в странах Европы, оккупированных немцами, победных результатов следует добиваться вспышками народных восстаний:
— Мы совсем не собираемся сколачивать грандиозные армии пехотинцев, как это было в первую мировую войну…
Улыбчивый Рузвельт, сидя в инвалидной коляске, отвечал, что, наверное, его страна принесет союзникам больше пользы, оставаясь нейтральной: «Наш боевой потенциал еще недостаточно развит». Черчилль настаивал на том, что удар по Гитлеру выгоднее наносить со стороны Африки, вторгаясь в Европу через Сицилию или через Балканы. Конечно, в беседе премьера с президентом постоянно присутствовал и довлеющий над миром мощный актив советско-германского фронта.
— Планы немцев четко определились, — докладывали военные эксперты, — после Киева они устремятся в Донбасс и, возможно, предпримут наступление в сторону Баку и Майкопа… Как бы ни были велики запасы нефти в Плоешти, но вермахт сосет их с таким усердием, что у румын скоро ничего не останется, а предстоящие операции вермахта будут нуждаться в новых источниках нефти — на Кавказе!
Черчилля волновали ароматы Гонконга, Индии и Бирмы (Рузвельт шепнул советникам: «Уинстон удивительно закоснел»).
— Он хочет, чтобы эта война закончилась для Англии так же, как кончались другие, — новым разбуханием его империи! Я не скрыл от него, что еще месяц-два буду таскать японцев за нос, а в отношении Германии поведу себя даже провокационно. Что мне это даст — не знаю! В лучшем случае этот чумовой парень из Берлина объявит Америке войну…
Историки признают, что в обмене мнениями Рузвельт, как политик, переиграл Черчилля; он оказался более тонким и проницательным, нежели высокопородистый потомок герцогов Мальборо. Сохранились кинокадры общего молебна на палубе линкора — под сенью многокалиберных пушек: «Рузвельт едва сдерживал слезы, а Черчилль украдкой вытирал глаза». Вермахт таранил советскую оборону на Днепре, устремляясь к шахтам Донбасса и нефтяным вышкам Майкопа, а Черчилль доказывал, что пора разделаться с этим «подонком» Роммелем.
В вопросе-ответе Рузвельта сквозила явная ирония;
— Вы думаете, ваш Окинлек справится с Роммелем?
— Не думаю, — честно ответил Черчилль. — Но я буквально задарил армию Окинлека пушками, танками и самолетами.
— Да, Роммель талантлив, — посочувствовал Рузвельт.
— Потому и наступление в Киренаике мы начнем с ликвидации этого таланта. Его больше не будет. Роммеля мы попросту укокошим, и эта вредная лисица навсегда забудет про наш курятник! — торжественно обещал Черчилль…
3 сентября (как бы в ответ на «Атлантическую хартию») Москва заявила о настоятельной необходимости открытия Второго фронта не где-нибудь на задворках планеты, а именно в северной Франции. При этом Сталин, исходя из богатого опыта первой мировой войны, напомнил Черчиллю, что только высадка в Нормандия способна «оттянуть с Восточного фронта 30 — 40 немецких дивизий». Этого было бы уже достаточно, чтобы Красная Армия не отступала. Через пять дней после обращения Москвы немецкие войска фельдмаршала фон Лееба замкнули удушающее кольцо блокады вокруг Ленинграда!
Наше положение с каждым днем все более ухудшалось…
* * *
Граф Галеаццо Чиано, зять Муссолини, был человек умным, а иногда даже прозорливым, к России и русскому народу относился хорошо. Поговорив с генералом Джованни Мессе, которого назначили командовать армией в России, граф в своем дневнике записал:
«Как и все, кто имел дело с немцами, он считает, что лучший способ разговаривать с ними — это пинок в живот. Мессе говорит, что русская армия сильна, а надежда на крах Советов — абсолютная утопия… Мессе еще не делает выводов, но зато он наставил передо мною множество вопросительных знаков».
6-я армия Рейхенау двигалась в авангарде группы Рундштедта, а фланги, итальянцев иногда смыкались с немцами. Разногласия у Мессе возникли с танковым генералом Клейстом. Мессе доказывал, что сроки продвижения частей КСИР нереальны:
— Наши моторы — это желудки мулов, а те грузовики, что мы имеем, развозили раньше по Риму булки и мороженое. Теперь мы возим на них свои испорченные мотоциклы.
— Я знать ничего не знаю, — твердил Клейст. — Если у меня на штабных картах возле номеров ваших дивизий нарисованы «колесики с крылышками», значит, вы — моторизованные.
— Так не я же их рисовал! — возмущался Мессе. — Это еще в Риме нарисовал Кавальеро, а транспорта у нас нету.
— Тогда топайте пешком. Только побыстрее…
Пешие итальянцы на ходу импровизировали песни:
По прекрасной Украине
Едем, как в трамвае римском:
Едешь-едешь, и конца нет.
Продаю вам свой билет!..
Их обгоняли трехосные тяжелые грузовики, на которых гитлеровцы ощущали себя «сеньорами» этой войны. Замкнув лица в суровой строгости, немцы истуканами восседали на лавках, держа на коленях шмайссеры и свысока поплевывая на союзных «пешедралов», утопавших в невыносимой пылище. Немцы снисходили до итальянцев, когда им требовались хорошие макароны.
— Эй, комарад! — окликнули они с высоты своего положения.
— Чего тебе надо, компаньо?
— Меняю отличную зажигалку на ваши спагетти.
После обмена контакт снова терялся (и не восстанавливался). Итальянцы платили союзникам издевками: «Каска у нациста — самая мягкая часть его тела, зато бей его палкой по заднице — сразу сломается!» Украинцы и русские с удивлением встречали итальянцев, носивших на пилотках пятиконечные звезды. Прав, да, звезды эти были не красные, а белые.
«Позднее, — по словам д'Фуско, — когда недоразумение рассеялось, таинственная „радиостепь“ разнесла весть, что эти ребята в зеленой форме — итальянцы, люди с хорошим характером, большие бабники и запивохи и в общем-то мало способны на жестокость. Немцы считали для себя унизительным пользоваться отхожими местами в домах крестьян, примыкавших к хлеву, но итальянцев это не оскорбляло:
— А что у нас на Сицилии? Разве лучше?..
Сельским жителям было не понять — что за животные с длинными ушами и коровьими хвостами, и потому итальянских мулов они долго принимали за дойную скотину. Итальянцам же очень нравилась русская кинокомедия «Антон Иванович сердится», и они часто ее смотрели. Итальянцы быстро разобрались — что к чему и как все правильно понимать. Конечно, они не встречали колхозников, с утра пораньше играющих «Интернационал» на балалайках, не увидели и малявинских баб, до утра пляшущих под музыку партийного гимна. Зато они наблюдали наш народ в высшей степени его страдания, и в войсках КСИР стало постоянным рефреном: «Русские хорошие… они такие же бедные, как и мы!»
Каким-то чутьем, идущим от народной мудрости, русские люди быстро научились отличать итальянцев среди прочих оккупантов. Они даже жалели их, видя худую обувь берсальеров, тощенькие курточки и вечно голодный блеск в глазах. Не одна бабка тишком совала в руки неаполитанца вареную картофелину:
— Покушай, родненький! У меня тоже сынок где-то имеется…
Что там деревенские нужники, соединенные с хлевом?
Итальянцы, обычно не в меру говорливые, даже примолкли, когда увидели обширнейшую панораму промышленного Донбасса: далеко за горизонтом уходили копры шахт, всюду виднелись цехи и заводы — это было как раз то, чего не хватало на родине, и уважение к ним. У них возросло еще больше. Даже бывалые фашисты признавались:
— Давно я не разевал свой рот так широко от удивления…
Фланги Мессе стали близко соприкасаться с флангами 6-й армии Рейхенау, и здесь итальянцы увидели виселицы с повешенными, ибо Рейхенау обладал почти звериной жестокостью по отношению к русским. В селе Марьянке (подле города Сталине) он велел живьем закопать в землю супружескую пару — за то, что они сожгли портрет Гитлера. Итальянцев заставили присутствовать при этом злодействе. Они плакали и плевались в гитлеровцев. Даже чернорубашечники, уже закаленные в верности фашизму, поддерживали беспартийных солдат, а офицеры Мессе рвали с себя ордена.
Это был как раз тот момент, когда в Риме дуче с линзой в руках указывал на Хацапетовку возле шахтерской Горловки.
— Для нас, — говорил он своему Кавальеро, — очень важно придать взятию этой Хацапетовки международный резонанс. Мир должен вздрогнуть от римского могущества. Заодно штурм Хацапетовки нейтрализует успехи германского оружия. При заключении мира Италия обретет должное равновесие с Германией, которое сейчас нарушено интригами Гитлера… Хацапетовка — это первый и решительный шаг к нашему будущему величию!
Клейст уже достаточно лаялся с Джованни Мессе, а теперь он приказал по радио, чтобы итальянцы выходили к станции Дебальцево. Но тут Мессе, даже не оповестив Клейста, вдруг отважно ринулся на Хацапетовку. Клейст говорил:
— Я в эфире, наверное, проделал большую дырищу, через которую и указывал на Дебальцево, а этот макаронник…
Джованни Мессе (как он писал в своих мемуарах) заставил немецкое командование признать его «точку зрения». В чем эта «точка» заключалась — я не знаю, но, очевидно, точка была внушительной, ибо генерал Клейст сказал:
— Не пойму, ради чего итальянцы привязались к этой Хацапетовке? Но я вмешиваться не стану… пусть побеждают.
Муссолини, гордый за Хацапетовку, вызвал Кавальеро:
— Наши дела выправляются. Мы устроим парад по случаю падения твердыни Хацапетовки, неприступной даже для вермахта.
Парад в Риме открывали проверенные фашиози, успешно сдавшие экзамен по прыжкам в высоту и в забеге на стометровку, за ними ехали старые члены партии на велосипедах, а оркестры гремели. Все шло замечательно, и военные атташе разных стран, союзных и нейтральных, уже вполне прониклись глобальным значением Хацапетовки, но тут все испортил сам Уго Кавальеро, который появился на трибуне дуче с телеграммой от Мессе:
— Должен огорчить, эччеленца. Дело в том, что Мессе почему-то не взял Хацапетовку. Мало того, под нерушимыми стенами этой Хацапетовки русские колотят Мессе с таким усердием, словно это паршивый тюфяк, который впору бы выбросить.
— А куда же смотрит Клейст, смыкающий с ним свои фланги?
— Клейст злорадствует, издали наблюдает…
Впереди их ждал Сталинград, а вот самой Волги итальянцы никогда не увидят, и скоро застынет навеки —
Итальянское синее небо,
Застекленное в мертвых глазах.
24. В глубоком тылу
Сталинград…
Чуянов сорвал трубку телефона:
— Алло, слушаю вас.
— Алексей Семеныч? — женский приятный голос.
— Да, я. Что вам угодно?
— Ну, подожди, гад! Вот завтра придут немцы в Москву, тогда мы тебе кузькину мать покажем…
Гудки. Чуянов медленно опустил трубку на рычаг. Сейчас у него в кабинете сидел главный инженер СталГРЭСа — Константин Васильевич Зубанов, специалист и человек дельный.
— Чего там? — спросил инженер.
— Да так. Балуются… из будки автомата, наверное.
* * *
Летом 1941 года в газетах и по радио Сталина поминали не так уж часто, прекратились бесстыдные восхваления его «мудрости и гениальности». Во время всеобщего отступления, порой даже панического, Сталину было выгодно стушеваться, чтобы в народе слыть безгрешным, и пусть люди сами доискиваются, кто виноват. Журнал «Огонек» пестрел именами безвестных солдат и лейтенантов, вернувшихся из атак: на страницах журнала — женщины: одни делали снаряды для фронта, другие копали для мужей окопы, третьи заменяли мужей возле станка, а портретов Сталина не встречалось. Сталин притих и как бы затаился в глубокой тени, словно классический театральный злодей, который хоронится за кулисами, чтобы выступить на авансцену уже в гордой позе торжествующего победителя…
Это время нашего всеобщего горя еще хранит много тайн!
При эвакуации часто не успевали вывезти оборудование заводов, врагам оставляли сокровища музеев и клады древних архивов, в банках забывали ценности, не хватало вагонов, чтобы спасти детей, но зато никогда не забывали расстрелять в тюрьмах узников, осужденных или подследственных по злосчастной 58-й статье, — за «измену родине», и, когда приходили немцы, ворота в тюрьмах были настежь, двери камер нараспашку, а в них, где ничком, где в углах, где вповалку, валялись трупы мужчин, женщин, стариков, иногда и подростков, — их убивали поголовно, уже не задумываясь, кто там прав, кто виноват, ибо чекистам было некогда, уже пора было смываться…
Это правда, что на передовой не хватало винтовок. Но еще страшнее, что фронт постоянно нуждался в людях — опытных и знающих офицерах высшего ранга, которые понимали сложный, сложнейший характер войны, переставленной с ног на гусеницы танков. Вот таких-то людей и не хватало на фронте, ибо они, давно репрессированные, вымирали от голода и побоев за колючей проволокой концлагерей, они ожидали конца в бериевских застенках, уже ни во что не верящие…
Да, внешне Сталин вроде бы изменился, стал скромнее и вежливее, в своей знаменитой речи он возвел нас в своих «братьев и сестер»; беседуя с военными, порой даже высказывал сожаление, что нет того-то, а здесь пригодился бы тот-то. А где они? Даже костей не осталось» — всех растерли в лагерную пыль!
— Сколько хороших людей погубил этот подлец Ежов! — сорвалось однажды с его языка (думаю, пред, намеренно, чтобы самому выглядеть невинным). — Звоню как-то в наркомат, говорят, нету, уехал, дел много. Звоню домой, а он лыка не вяжет… опять пьяный.
Нет, за собою он вины не признавал. И мало кому известно, что даже в сорок первом Сталин продолжал уничтожать военные кадры. Именно тех самых людей, которых — по его же словам — сейчас не хватало, чтобы наступил в войне крутой перелом. Армия сдавала города, никто еще не ведал, где последний рубеж, могущий стать вторым Бородино, а в подвалах Берии по-прежнему истязали людей («была настоящая мясорубка», — позже признавал сам Берия). Когда же враг стал угрожать столице, Берия спросил Сталина, что делать с теми, кто в этой «мясорубке» еще уцелел. Сталин указал выпустить К. А. Мерецкого, будущего маршала, и Б. Л. Ванникова, чтобы тот занял пост наркома вооружения. После падения Смоленска аппарат НКВД был эвакуирован из Москвы как общесоюзная ценность; вместе с палачами тайком вывезли в Куйбышев и подследственных; когда же началась осада столицы, Берия послал телеграмму — следствие прекратить, судить не надо, уничтожить всех сразу. И на окраине села Барбыш. была заранее отрыта могила. Над могилой поставили истерзанных и уже безразличных ко всему людей — лучших офицеров армии и командиров, лучших танкистов и асов авиации, а среди них и жену Рычагова — Марию Нестеренко, которая уже ни о чем не спрашивала палачей, а только тянула руки к любимому мужу:
— Паша, за что? Скажи мне, Паша, за что?
Какой уж день гремела война, погибали тысячи детей и женщин, на дорогах ревел брошенный скот, завывали сирены, тонули корабли, самолеты врезались в землю, а Сталин природным и звериным инстинктом ненависти, тишком, почти воровски, где-то на окраинах провинции, чтобы никто не знал, чтобы никто не слышал, истреблял лучших людей страны, воинов и патриотов, в которых так нуждалась страна
Все лето киевляне копали гигантские рвы, надеясь, что они остановят панцер-дивизии Клейста, уже громыхающие по ночам на подступах к городу. Но падение было неизбежно. Сталин зорко присматривался — ого бы сделать виноватым, чтобы самому остаться неровным? Если обвинить во всем Семена Буденного, когда всем станет ясно, что где Буденный — там и он, Сталин, этого делать нельзя. Сталин приказом № 270 обвинил в предательстве генералов, якобы сдавшихся в плен…
Нашлись честные люди, доложили Мехлису:
— Это неверно! Названные в приказе генералы в плен не сдавались, а пали в сражении как герои, даже не испугавшись рукопашной схватки. Делать из них предателей — позорно!
— Вы все политические младенцы, — отвечал Лев Захарович. — Предатели у нас были, есть и будут. Как же нам без предателей? Иначе почему же мы драпаем от фрицев, а? То-то…
Семен Михайлович Буденный тоже оказался человеком смелым. Он прямо заявил Сталину: «Ваше решение вместо меня назначить главкомом Юго-Западного фронта маршала Тимошенко ничего не изменит … Судьба Киева уже решена!» А виноватым в трагедии Киева был не кто иной, как тот же Лев Захарович Мехлис, — это он в самый канун войны велел демонтировать укрепленные районы на том основании, что их создавали «враги народа»…
С 8 августа 1941 года Сталин именовался Верховным Главнокомандующим. Невольно вспомнился мне случай из практики тех лет. В одной из наших газет — по недосмотру корректорши — была пропущена одна лишь буква, и вместо «Верховный Главнокомандующий» было напечатано «Верховный Гавнокомандующий». Опечатка историческая! Говорят, что в редакции после этого не только уборщицы тети Мани не осталось, но пострадала даже кошка, любившая греться под лампой на столе этой корректорши…
* * *
— Так на чем же мы остановились? — спросил Чуянов.
Зубанов продолжил разговор о распределении в Сталинграде электроэнергии, выразил и сочувствие Чуянову:
— Спать-то вы, спите ли? Наверное, дел по горло, Алексей Семенович ответил, что от дел все равно никуда не денешься, дела есть дела, тем более в такое время.
— Но с началом войны стали мешать всякие самоучки, изобретатели велосипедов. Я понимаю, — сказал Чуянов, — люди, желая помочь отчизне, искренне заблуждаются. Гнать их неудобно. Вот и сидишь, как дурак, слушая всякую ерунду с тангенсами и котангенсами. Изобретают, конечно, оружие. И, понятно, секретное. Откажись выслушать их — обещают Сталину жаловаться. Будто я враг народа, душитель народных талантов и прочее…
Они покончили с делами, но Чуянова не покидало мерзостное сознание, что враг уже здесь, где-то в городе. Отпуская инженера, Алексей Семенович все же задержал его в дверях. Душевные эмоции требовали разрядки.
— Вот! — сказал Чуянов, показывая на телефон. — В тридцать седьмом хватали, да хватали-то не тех, кого надо. Настоящие враги хайло свое не разевали. На трамвайных остановках они анекдотов про Сталина не рассказывали. Враги сидели тихо и — уцелели! А сейчас, именно сейчас, пришло их время…
Кажется, инженер Зубанов так и не понял секретаря обкома. «Впрочем, — думал Алексей Семенович, — всем и не обязательно понимать…» Он подошел к окну, долго оглядывая раскинувшуюся перед ним площадь Павших Борцов. Посреди площади лежал трофейный «мессершмитт», доставленный с фронта для всеобщего обозрения как символ вражеской слабости, а сталинградские ребята уже растаскивали его по винтикам. Не работал фонтан, окруженный танцующими девчонками, на которых развевались пионерские галстуки. Притихло здание Дома офицеров, куда еще забегали выпить пива. Возле подъезда драматического театра, положив на лапы лохматые головы, дремали мраморные львы, которые, наверное, еще помнили царицынских купчих, разряженных по-кустодиевски, что спешили послушать Ленечку Собинова; «Куда, куда вы удалились, весны моей златые дни…» Универмаг был еще открыт, в него входили, но тут же выбегали обратно без покупок: торговать было нечем, все продавалось по карточкам…
Конечно, будь у Чуянова самая буйная фантазия, он все равно не мог бы представить, что через год из подвалов этого универмага, что на площади Павших Борцов вдруг выберется человек в грязной шинели и резким жестом отшвырнет от себя заряженный «вальтер» — к ногам солдат в полушубках.
Это будет фельдмаршал Фридрих-Вильгельм Паулюс.
…Тыл . Глубокий тыл. И по утрам, когда жители Сталинграда еще спали, служители зоопарка выводили к Волге слониху Нелли — очень она любила купаться.
Первый день войны всегда отзывался сердечной болью, и Чуянов не забыл, как из секретного сейфа он извлек красный пакет с надписью: «Вскрыть при объявлении войны». На кой же черт пять сургучных печатей, если внутри — партийная инструкция о том, как агитировать народ на призывных пунктах:
— Слава Богу, нас агитировать не пришлось…
Призывники 1905 — 1918 годов рождения, даже не получив повесток, уже заполняли улицы перед военкоматами. На заводах разумно восприняли и сверхурочные допоздна, и отмену отпусков до конца войны. Студенты и старшеклассники записывались на курсы трактористов и комбайнеров. На площади Павших Борцов сталинградцы собрались на митинг, сразу 50000 жителей вступили в ряды народного ополчения. Поднималось на борьбу и казачество тихого Дона, ветераны германской доставали из погребов припрятанные от милиции клинки, примерялись рубить — по кустам. Впервые на улицах Сталинграда появились вислоусые старцы, обвешав скромные пиджачки георгиевскими крестами. Память прошлого логично сомкнулась с современностью. 27 июня Сталинград уже раскинул первые госпитали для раненых, женщины по доброй воле несли простыни и подушки, становились санитарками. Тысячи женщин и девушек давали свою кровь раненым — одни — чисто из патриотизма, некоторые ради получения дополнительного питания (не надо говорить об этом стыдливо: жизнь есть жизнь, а есть все хотят).
— Удивляюсь! — говорил Чуянов. — До войны мы тут погибали от всяких кляуз и доносов. Целая контора сидела и ковырялась в грязи. То соседка в суп плюнула, то директор пивной серьги купил любовнице, то участок под огород не так отмерили… Теперь же — тишина, хоть контору закрывай! Никаких жалоб, и все довольны, будто в рай попали. Вывод один: перед лицом великих народных испытаний сразу сделались ничтожны все мелочи жизни. Осталась лишь одна великая цель, самая праведная — выстоять и победить!
Хорошо пахло акацией из скверов Комсомольского сада, мажорно позванивали трамваи, в песочнице играли детишки, вдоль набережной вечерами еще гуляли влюбленные пары и целовались, а их любви салютировали с реки гудки пароходов. На речных трамвайчиках приплывали с левого берега — из деревень — молочницы с бидонами, с комками творога, завернутого в чистые тряпицы. На пригородных бахчах, даже на городских двориках вызревали арбузы и дыни. Из соседних колхозов присылали победные сводки — урожай в этом году обещал быть баснословным.
Начальник областного НКВД Воронин возглавил добровольческие отряды истребительных батальонов.
— Не хочу пугать, — сказал он Чуянову, — но в излучине Дона и в калмыцких степях уже появились диверсанты. Их по ночам сбрасывают с парашютами. Наконец, подозрительны частые пролеты немецких самолетов-разведчиков в сторону степей, где кочуют калмыки.
— Слушай! — сказал Чуянов Воронину. — Это уже по твоей части… Ввести патрулирование на улицах и ночные пропуска. Обеспечить охрану мостов, пристаней, телеграфных линий. Прописка в Сталинграде отныне запрещается. Виновных в нарушении светомаскировки — под суд. Знаю, что найдутся негодяи, желающие воспользоваться затемнением города… Таких шкурников и грабителей — всех ставить к стенке! Не жалко.
Перед обкомом возникло множество проблем. Найти замену опытным рабочим, ушедшим на фронт; обеспечить навигацию на Волге; помочь колхозам с уборкой урожая; ускорить ремонт пароходов на судоверфи; вывозить соль с озер Баскунчак и Эльтон; настоять, чтобы Астрахань пошевелилась с заготовкой воблы и селедки. Наконец, попросту надо изматерить торговлю, которая «сплавляет» по карточкам дорогие конфеты в коробках, тогда как народ желает «пососать конфетку», без которой немыслимо русское чаепитие.
А главное — танки! Все дворы СТЗ заставлены рядами бронированных машин, прямо с завода танкисты уводили их на фронт. Встречаться же с людьми становилось день ото дня труднее. Не потому, что в каждой семье уже появились нужда и горе, а потому что никуда не уйти от вопросов:
— Скоро ли наступать станем? Ну, сначала-то ладно — вероломство и прочее. А теперь? Куда ж дальше-то драпать, ежели шестьсот километров сдали — кошкам под хвост…
Почему-то все уверены, что он, первый секретарь обкома и горкома, больше всех знает. Вернется Чуянов домой, чтобы язык обсушить, а в родной семье — те же окаянные вопросы! Жена, дед с бабкой, даже мелюзга-сыновья тиранят:
— Папа, а когда разобьем этих фашистов? Ну, со своими-то намного легче:
— Пошли все спать! Время позднее… Ночью его разбудил звонок от Воронина:
— Слушай, Семеныч, на путях в Сарепте, там, кстати, бардак, каких свет не видывал, — среди эвакогрузов нашли эшелон противотанковых пушек. Триста штук, и нет хозяина. Артуправление эвако, — Воронин имел в виду Наркомат Обороны (НКО), — очевидно, уже поставило крест на эшелоне.
— А пушки исправны? — спросил Чуянов.
— Некомплектны. Частью демонтированы.
— Задержи эшелон. Поставь охрану.
— Взгреют, — сказал Воронин.
— Черт с ним! И не так еще нам влетало…
После эвакуации Харьковского тракторного завода, после демонтажа других предприятий на западе СТЗ остался ближайшим к фронту заводом, поставлявшим лавины могучих «тридцатьчетверок». «Красный Октябрь» — тоже единственный! — продолжал давать стране высококачественную сталь, как бы облачая в броню отступающие армии. Сталевары и прокатчики Сталинграда уже перевыполнили все планы, мыслимые и немыслимые, однако в августе наметился неизбежный спад в производстве
Чуянов оправдывался перед Москвой.
— Да не угрожайте вы мне! Не боюсь. Уже битый. У меня остались старики и бабы. Мальчишки из ФЗО и ремесленники засыпают у станков. Жрать нечего. С ваших карточек сыт не будешь… Я все понимаю, но поймите же и вы нас. В выпуске танков Сталинград зависел от 182 поставщиков. Теперь поставщики — кто остался под немцем, кто на колесах за Урал катит, а кто вообще пропал, и даже вздоха не слышно. Кооперация развалилась. Размещаем чертежи по городским предприятиям. Заняли все, что можно, вплоть до кроватных мастерских…
Москва слезам не верила, требуя наладить и выпуск минометов. Кавалеристы просили, чтобы для них шили седла и сбруи, чтобы обеспечили конницу подковами. А. И. Микоян звонил каждый день по телефону, умоляя Чуянова отправить эшелон с махоркой — для армии:
— Кстати, сразу же начинайте забой скота. У вас хорошие мясокомбинаты, налаженное консервное производство.
— У нас консервный завод гранаты делает.
— Нам нужны гранаты и мясная тушенка…
Отговорив с Микояном, Чуянов поехал на фабрику имени Сакко и Ванцетти, где выпускали медицинские инструментарии:
— Привет передовой советской интеллигенции! Срочно понадобились взрывательные капсюли для противотанковых мин. Только вы, помощники смерти, и способны сделать их…
Он ожидал возражений, но получил дозу юмора:
— Это как раз по части здравоохранения. Берегите свое здоровье, а мы испортим его всяким гудерианам…
Начался усиленный перегон скота на мясобойни города. А минометы удались так хорошо, что в Сталинград поехали делегации из других городов, чтобы поучиться… Но что-то страшное творилось на вокзалах и пристанях. Все пути забиты «пробками» эшелонов с эвакуированной техникой, в заколоченных теплушках ревели коровы, недоенные и непоенные; всюду узлы, чемоданы, жалкий людской скарб, на который и глаза бы не глядели. У кипятильников звон — от чайников и бидонов, крики. Дети плачут. Женщины мечутся. Какая-то дура от самой границы прет на своем горбу швейную машинку «Зингер» — кому что дорого…
Никто не знал, на сколько увеличилось население города. Люди, бежавшие от оккупантов, ютились в квррах, на огородах, заселяли улицы и площади, рыли для себя ямы, ночевали на берегу — под лодками. Под осень в Сталинград прибыл эшелон с ленинградскими детьми. Новая задача:
— Куда их девать? Чем кормить?
Чуянов созвал совещание в обкоме, велел продумать вопрос о том, как расселить массу несчастных людей, потерявших свои дома, свое имущество. Решили, что здоровых надо устраивать в донские станицы, в окрестных колхозах:
— Успокоятся. Отъедятся. Будут работать…
Запомнилась Чуянову одна старушенция на вокзале:
— Мы уж настрадались. А у вас-то в Сталинграде — слава хосподи. Сущая благодать. Как села, так и не встану. С утра арбуза покушамши. Нам с внучком-то карточки выдали. Конфетки получили, «Бим-бом» называются. Кругленькие… Свет не без добрых людей. Что ж не жить? Об одном Христа буду молить: тока бы энтот Гитлер проклятый сюдыть не забрался…
Алексей Семенович вернулся домой, сказал жене:
— Знаешь, я просто с ног падаю. — Но тут же раздался звонок телефона. — А, чтоб ты треснул, проклятый…
В трубке — тот же нежный воркующий голос:
— Ты еще не подох там, сволочь паршивая? Готовься быть повешенным на площади Павших Борцов… Детям твоим глаза выколем, а жену на рельсах под трамваем разложим…
Гудки. Чуянов медленно повесил трубку телефона.
— Кто там? — спросила жена.
— Да, наверное, по ошибке. Как всегда, перепутали номер телефона. Вот и звонят… из будки автомата. Дай поесть что-нибудь… Целый день на ногах. Даже не присел…
От автора
Много лет назад, когда я занимался написанием документальной трагедии «Реквием каравану PQ-17», я обратил внимание на одно странное обстоятельство. С весны 1942 года Уинстон Черчилль, всегда любивший выпить, пил много больше нормы, при этом он, будучи в сильном подпитии, часто вызывал нашего посла Майского, спрашивая его всегда об одном и том же:
— Ну, так когда же ваш мудрый Сталин собирается заключать с Гитлером новый вариант «брестского мира»?
Конечно, наш посол доказывал Черчиллю обратное, мол, советский народ настроен сражаться до окончательной победы над фашизмом, но Черчилль не очень-то ему верил. Тогда же он задерживал отправку в СССР союзного каравана PQ-17, делая это умышленно, так как, смею полагать, британская разведка уже оповестила его о «тайнах Кремля». Черчилль попросту боялся, как бы военные грузы поставок по ленд-лизу, доставленные в Мурманск, не оказались у… немцев.
В чем дело? Наверное, Черчилль имел основания подозревать Сталина в желании примириться с Гитлером. Но эта история имеет таинственный пролог, сугубо засекреченный на долгие годы. Суть его в следующем. Еще в июле 1941 года, когда наша армия, оставляя в котлах уже миллионы окруженцев, откатывалась от границ, а немцы через неделю вошли в Минск, в это время Сталин совсем растерялся, его воля была полностью парализована, он не думал теперь о государстве, а помышлял лишь о том, как бы ему удержаться на кремлевском престоле. Укрываясь от ответственности за поражение на своей даче в Кунцеве, он принимал у себя только Молотова и Берию.
Эта вот «троица», далеко не святая, пришла к выводу, что их может спасти только капитуляция перед Гитлером, они заранее соглашались на любые условия мира — какие бы из Берлина ни предложили, только бы задержать танковый разбег вермахта. Интересы Германии в Москве тогда представляло посольство Болгарии, и эта «троица» навестила посла Ивана Стаменова. Сталин отмалчивался, говорил Молотов, убеждая Стаменова связаться с Берлином.
— Если великий Ленин, — таков был примерно смысл слов Молотова, — если даже он пошел на сговор с кайзером, то мы сейчас тоже согласны на мир с Германией…
При этом, чтобы ублажить Гитлера, эта «троица» соглашалась уступить Германии всю Прибалтику, Молдавию и западные области Украины и Белоруссии, прилегающие к Польше, уже покоренной немцами. Чудовищно! Но болгарский посол верил в Россию и в русский народ гораздо больше, нежели эти партийные боссы, приехавшие к нему из московского Кремля.
— Успокойтесь! — отвечал он, и, наверное, я так думаю, отвечая даже с презрением. — Какова бы ни была мощь Германии, все равно ей никогда не сломить Россию, никогда не удастся покорить великий русский народ. Быть посредником в этом вашем позоре, — сказал Стаменов, — я отказываюсь, уверенный, что даже если ваша армия отступит до Урала, все равно победа будет за вами…
Капитуляция Сталина перед Гитлером — это еще неразгаданная тайна, и потому я опускаю здесь намеки на то, что летом 1942 года Молотов летал в Винницу, где находилась ставка Гитлера, чтобы договориться с ним об условиях постыдного мира (намек пока и останется намеком). Но кажется, что весной того же года Берия действовал в таком же духе, только самостоятельно. Известно, что весной с одного прифронтового аэродрома летал куда-то на запад наш самолет. Летал дважды не ночью, а днем (!), возвращаясь обратно, не боясь обстрелов вражеских зениток, его почему-то щадили и германские истребители. Свидетелям этих полетов начальство велело помалкивать:
— Он летал к партизанам… как тут не понять?
Но самолет-то летал без груза, а возвращался без раненых партизан, чего быть не могло при обычных полетах в партизанские лагеря. И почему он летал днем, заранее уверенный, что зенитки врага будут молчать, а истребители не тронут его? Из этого самолета, возвращавшегося вечером, выходили какие-то люди в плащ-палатках, а лица свои они укрывали капюшонами.
Я склонен думать, что Лаврентий Берия устанавливал свои личные контакты с правительством Гитлера — ради своих же личных целей. Так что летом 1942 года, когда 6-я армия Паулюса надвигалась на Сталинград, Черчилль, наверное, уже кое-что знал — потому и пил больше нормы, потому и вызывал посла Майского, чтобы задать ему один и тот же вопрос:
— Скоро ли Сталин пошлет Молотова в Брест?..
Жаль, что я, автор, не доживу до тех дней, когда будут распечатаны глубоко сокрытые тайны предательства…
Это меня! Это вас! Это всех они предавали!
Вот где подлинные враги народа…
Вот кого надо было сажать.
По знаменитой — по 58-й!
Часть вторая. На подступах
За ошибки государственных деятелей расплачивается вся нация.
Николай БердяевОпять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной…
Константин Симонов1. Обстановка
Паулюс давно сдал в архив зеленые книжечки ОКХ, в которых анализировался опыт Красной Армии в боях на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и на Карельском перешейке, служившие ему хорошим подспорьем при создании плана «Барбаросса».
— Теперь, — сознавал он, — мощь русских проявилась в новых, неожиданных для меня параметрах. Не спрашивайте, почему мои расчеты не дали четкого результата. В планировании войн, как и в медицине, много еще неясного и темного. Даже очень опытный терапевт может неверно определить диагноз болезни. А большая стратегия, как бы ни рассчитывать ее на победу, иногда способна терпеть крупные неудачи…
Неужели настало время, чтобы выискивать оправдания?
Германский генштаб продолжал свою окаянную работу. Вмонтированный в жесткое сцепление с ОКВ, он всегда оставался самой верной опорой фюрера. Генералы избегали конфликтов со своим «ефрейтором», а на строптивых Гитлер натягивал железные обручи подчинения. Иногда он подкупал их — денежными подачками, note 2 устройством личных дел, умел очаровывать их сердечным доверием. Наверное, я думаю, он был неплохим психологом, если сумел много лет подряд вариться в этом котле и кипятить в нем других…
Мощные германские экспрессы «Нибелунги» с грохотом катили в заснеженную Пруссию, тамошний аэродром в Летцене принимал самолеты с фронта: генералы ехали в «Вольфшанце» — одни, чтобы получить от Гитлера «по мозгам», другие являлись за рыцарскими крестами с почетным приложением к ним дубовых листьев.
Гитлер не слишком-то уж ценил своих полководцев.
— Где мои генералы, где мои фельдмаршалы? — горестно восклицал он, заламывая руки. — Я не сплю ночей, держусь как чемпион на одних допингах, а когда засыпаю под утро, мне снятся громадные оперативные карты. Мои же генералы озабочены недельными отпусками к женам или мечтают о месячном отдыхе на курортах Богемии. У кого из них не спросишь, у каждого в резерве держится застарелый ишиас или популярный радикулит в области поясничного крестца…
Гитлер отлично понимал: выжидающее поведение Черчилля — это закономерное продолжение «странной войны», потому фюрер без опаски перекачивал из Европы все новые эшелоны подкрепления для Восточного фронта, вполне уверенный, что Второго фронта еще долго не будет. С первого же дня войны с Россией немцы стали получать по 400 граммов мяса в неделю, с витрин берлинских магазинов исчезли колбасы и ветчина, вместо масла и сыра торговцы выставляли карты Советского Союза, украшенные синими стрелами прорывов. Но с фронта регулярно поступали солдатские посылки, набитые продуктами, громыхали длинные составы с вывозимым в Германию колхозным скотом — так что немцы на голод не жаловались. Старая немецкая поэзия по этому поводу уже высказалась:
Не стану дурачить газетами вас
И прочей учебной тоскою.
Скажу я: «Народ! Лососины нет,
Так будь же доволен трескою…
Но гестапо, никогда не снимавшее руки с пульса народных настроений, уже 4 августа отметило, что в Германии воцарилось уныние:
«Высказываются мнения, что кампания (на Востоке) развивается не так, как это можно ожидать на основании сводок… складывается впечатление, что русские располагают громадным количеством вооружения и техники, их сопротивление усиливается».
Доклад от 4 сентября гласил:
«Граждане рейха высказывают недовольство тем, что военные действия на Восточном фронте сильно затянулись, среди населения много разговоров о потерях. Миллионы немецких женщин опустили траурный флер с полей своих модных шляпок…»
Нервный шок панцер-генералов после появления Т-34 еще не миновал, но вскоре пришло время удивляться и Герингу, считавшему люфтваффе лучшей авиацией в мире. У русских вдруг обнаружился какой-то странный самолет Ил-2 (Ильюшин), в который немецкие асы вколачивали весь боезапас, его лупили слева и справа, ловчились дать очередь снизу, долбали сверху, от этого самолета отлетали громадные куски, но он продолжал лететь как ни в чем не бывало… Маршал авиации Вольфрам фон Рихтгофен, наблюдая за этим чудом, взывал к своим пилотам в эфир:
— Эй, сопляки! Почему вы его не сбили?
Ответ поразил Рихтгофена в самое сердце:
— Этого ежа даже в задницу не укусишь, а со стороны морды с ним лучше не связываться…
Русские наловчились отбиваться от германских танков бутылками с горючей смесью, которую немецкие солдаты прозвали «молотовским коктейлем». Боже, какие только бутылки не летели тогда в немецкие танки — и водочные, и пивные, из-под нарзана и доппель-кюммеля — и весь этот крепчайший «коктейль» в первое время здорово выручал русских, ибо (как не вспомнить Кулика!) с противотанковой артиллерией у нас было неважно. И уж совсем неожиданно для вермахта однажды что-то провыло в ночных небесах, и начался… ад : это заработали реактивные «катюши», за их стонущие вопли прозванные немцами «сталинскими органами». Первое впечатление от этих «органов» было таково, что бежали в разные стороны не только немцы, но и наши солдаты, которых — опять-таки ради секретности! — командование не предупредило о появлении нового оружия.
Один немецкий полковник, на себе испытав воздействие этой «музыки», уже в плену, весь в обгорелых ошметках, почти оглохший, полупомешанный, кричал на допросе в нашем штабе:
— Я солдат и смерти я не боюсь! Можете расстрелять меня. Но я не могу умереть, не увидев прежде это чудовище … Вы сначала покажите мне его, а потом и расстреливайте!
Гитлер, узнав о целой серии этих «новинок» на русском фронте, был отчасти тоже шокирован, а сложный вопрос о массовом производстве зубных щеток в СССР сразу перестал его волновать. В разговоре с Альфредом Йодлем он как-то спросил:
— Интересно, что еще могут изобрести эти варвары?
Йодль ответил фюреру, что, судя по всему, вермахту зимы не миновать, а в арсеналах России издавна затаилось могучее и страшное оружие, способное решать стратегические задачи.
— Не пугайте меня, Йодль, что вы имеете в виду?
— Мой фюрер, это страшилище… валенки.
— Вы шутите, Йодль?
— Шучу. Но мне вспомнилось, что в армии Наполеона уцелели лишь те шутники, которые обзавелись валенками…
Кейтель вмешался в разговор, сказав, что валенок не понадобится, ибо зимой вермахт будет топить печки в московских квартирах, зато страшнее морозов русское бездорожье…
— Грязи обычно там по колено, но иногда и до пояса…
Этот разговор возник неспроста. Вермахт обслуживали 400 000 автомашин, собранных со всех стран Европы, и не все марки были пригодны для русских условий. «Оппель-блицы» имели низкую посадку. Созданные для езды по асфальту, в России они садились на брюхо. «Пежо» еще как-то барахтались на наших проселках, штабные «бенцы» и «мерседесы» буксовали в необозримых лужах, санитарные «магирусы» для вывоза раненых опрокидывались, хорошо проходили только дизельные «бюссинги»… Об этом же заговорил и Паулюс при встрече с генералом Фельгиббелемз
— С транспортом ужасно! Колеса на русском фронте обматывают цепями, а где нет цепей, их обкручивают веревками. Наконец, от шин остаются лохмотья, а где Германия отыщет столько резины? Остался лишь эрзац «буна», но его производство обходится нам дороже, нежели покупка чистого каучука… У тебя что, Эрих?
Фельгиббель сказал, что его радиоперехват подтвердился:
— Сталин все-таки прогнал Буденного с Юго-Западного направления, заместив его из «Центра» маршалом Тимошенко.
— Мой зять барон Кутченбах недавно сообщил мне русскую поговорку: что в лоб, что по лбу — одинаково… Эта рокировка Сталину не поможет. — Паулюс огорошил приятеля другой новостью. — Генерал Шоберт, командующий войсками в Крыму, посадил свой «физелер-шторх» прямо на минное поле и разорван в куски. Теперь на штурм Севастополя мы переставляем Манштейна из группы фон Лееба, что бьется под Ленинградом. — Паулюс с улыбкой напомнил Фельгиббелю о своем дне рождения 23 сентября. — Встретимся, как всегда, в старом уютном «Тэпфере». Не забывай, Эрих, что моя Коко всегда любила с тобой танцевать.
— С меня коробка марципанов, — обещал Фельгиббель.
Эрих Фельгиббель был яростным ненавистником Гитлера, но с Паулюсом всегда оставался откровенен, считая его порядочным человеком, и сейчас, рассказав очередной анекдот о фюрере, генерал от радиоперехвата выслушал признание Паулюса.
— Вот! — показал Паулюс на сейф в глубине кабинета. — Я уже заложил туда свой проспект о том, что ожидает вермахт в России. С ним ознакомлен только Франц Гальдер. Но он велел мне спрятать его подальше и никому не показывать… Мой план «Барбаросса» был хорош лишь до того момента, пока армия наступала, совершенствуя методы танковых «ножниц». Но план, мною составленный, учитывал только начальный и обязательно победный вариант войны, а теперь, когда выяснилось, что блицкриг не выкатил нас на меридиан Архангельск — Астрахань, план «Барбаросса» стал бумажкой, а впереди вермахт ожидает затяжная война…
В это время (или чуть позже) из инспекционной поездки по Восточному фронту вернулся генерал Артур Нёбе, начальник уголовной полиции, который по долгу службы был связан с гестапо. Вот именно в гестапо и были зафиксированы его вещие слова: «Мы не только проиграем войну. На сей раз мы потерпим настоящее военное поражение — в этом у меня нет никаких сомнений…» Оба они, и Фельгиббель и этот Нёбе думали одинаково, что спасти Германию сейчас может только одно: если Гитлер найдет отмычки к сердцу Сталина, чтобы с ним примириться. И это даже странно, ибо 7 октября 1941 года Сталин, — не постыдившись присутствия Г. К. Жукова, — нервно указывал Лаврентию, чтобы его агентура нащупала способы установить условия мира с Германией.
Эрих Фельгиббель и Артур Нёбе будут повешены. Гитлером!
…Вермахт уже накатывался на Москву.
* * *
При устранении Буденного заодно досталось и работникам Генштаба:
«Сталин упрекал нас в том, что мы, как и Буденный, пошли по линии наименьшего сопротивления: вместо того, чтобы бить врага, стремимся уйти от него», — с явной горечью вспоминал об этом времени наш прославленный маршал А. М. Василевский.
Сталин доверил Юго-Западный фронт маршалу Тимошенко, пылкий оптимизм которого ему всегда нравился. Однако немцы уже замкнули Киев в кольцо, а Сталин не разрешил отведения частей, в плен попали многие-многие тысячи («пропали без вести» — так гласила терминология того времени), вся Правобережная Украина осталась под пятой оккупантов, а перед танками Эвальда Клейста открылся широкий стратегический простор… Тимошенко распорядился по своим отступающим войскам — занять жесткую оборону! Между тем наступление вермахта развивалось 6-я армия под командованием Рейхенау двигалась как таран в авангарде группы фельдмаршала фон Рундштедта. Фронт трещал, 3 октября немецкие войска вступили в Орел, 6-го числа они уже вкатились в Брянск, через два дня Клейст уже развертывал танковые колонны в самом опасном для него направлении — на Ростов и Таганрог. Именно в эти дни Гитлер, убедившись в успехе на юге, вернулся к давней мысли о продолжении натиска на Москву:
— Не ослабляя движения на Харьков, — предупредил он…
Манштейн уже откатился к югу, чтобы штурмовать Севастополь, но армия фельдмаршала фон Лееба вдруг взяла Шлиссельбург, отсекая Ленинград от страны, и город оказался в кольце блокады. Чтобы спасти Ленинград от гибели и вымирания, срочно формировалась 2-я ударная армия; командовать ею стал некий генерал Г. Соколов, заместитель Берии, который и выдвинул своего подручного в командующие. Соколов, вскормленный в палаческих застенках своего любезного шефа, сразу издал по армии приказ, который тебе, читатель, советую прочесть:
«Хождение, как ползание мух осенью, отменяю и приказываю впредь в армии ходить так: военный шаг — аршин, вот им и ходить, ускоренный — полтора аршина, вот так и нажимать. С едой у нас не ладен порядок… На войне порядок такой: завтрак — затемно, перед рассветом, а обед — затемно, вечером. Днем удастся хлеба или сухарь пожевать — вот и хорошо, а нет — и на том спасибо… Бабами рязанскими не наряжаться, быть молодцами и морозу не поддаваться. Уши и руки растирай снегом…»
Прочли? Теперь понятно, каким кретинам доверяли сотни тысяч жизней наших дедов и отцов и, надеюсь, читателю ясно, какие «полководцы» рождались в тиши кабинетов главного палача русского народа. Впрочем, Сталин любовно пестовал именно эту 2-ю ударную, не раз посылая в нее своих любимцев — Ворошилова, Маленкова и.. Мехлиса, который любил стрелять налево и направо (в своих, конечно!). Только под конец 1941 года, когда убедились, что Г. Г. Соколову место в доме для умалишенных, командовать армией прислали генерала Власова, того самого, что тоже ходил в любимцах Сталина. Трагедия 2-й ударной армии известна, и лишь в наше время местные следопыты начали сбор ее костей — для братского захоронения…
Иосиф Виссарионович звонил на фронт маршалу Коневу:
— Товарищ Конев, а почему вы палкой деретесь? Лучше под трибунал и расстрелять человека, но нельзя же его оскорблять.
Иван Степанович Конев потом говорил друзьям:
— Так я же ему не Мехлис, который сначала убьет человека, потом уже приговор подписывает. А я — да, палкой! Искал тут своего особиста. Туда-сюда — нету, пропал. Гляжу, а он в землянке — водку хлещет с бабами. Так что же, мне стрелять в него? Схватил дрын и этим дрыном его, а бабы — какая куда…
Осень. Дороги уже развезло. Не знаю, насколько это справедливо, но говорят, что была у нас такая злокозненная теория: не заводить в России хороших дорог, чтобы любой завоеватель застрял в непролазной грязище, утопая до самого пупа в слякоти, и… «сим победиши»! Если же подобная теория и существовала, то авторы ее не учли того, что бездорожье — палка о двух концах: одним концом она бьет по врагу, а другим — достается тебе же. Осенью сорок первого мы нахлебались горя со своими дорогами. Грязь — ладно, но грязь такая, что не пройти и не проехать. От этого зависела порой обстановка на фронтах, алчно пожиравших тонны боеприпасов, а бездорожье часто ставило наши войска в бедственное, иногда и в крайнее положение. Может, не сдали бы мы Орел и Курск, если бы наши грузовики не утонули в грязи… Офицеры тыловой службы доложили Сталину, что пора заводить конные обозы, и он подписал приказ.
— Что тут? — сказал с иронией. — Нужны торбы с овсом? Ладно. Пусть будут и торбы… Двадцатый век — чему удивляться?
Под Москвой появились новые войска — 76 «гужбатальонов».
Честь им и слава! Наверное, прав был Буденный, предрекая:
— А лошадь себя еще покажет…
И показала! Если ее, беднягу, не посылать в атаку против немецких танков, а впрягать в телегу иль в сани, так она, как русская баба, все выдюжит. В битве под Москвой «гужбатальоны» обеспечили фронт, доставив нашим бойцам припасов намного больше, нежели все самолеты и все грузовики…
У нас не было оснований сомневаться в том, что боевая техника Красной Армии скоро будет во многом лучше немецкой. Ошибки были допущены не в конструкторских бюро, а в планировании сроков вооружения; немалую роль сыграло и головотяпство тех, кто занимал высокое положение при Сталине. Трагический разрыв между старой техникой и новой преодолевался уже в сорок первом году. Эвакуированные далеко на восток наши заводы еще не развернули свою мощность, станки будущих цехов иногда выстраивались прямо под открытым небом, и по ночам — при свете луны или при свете прожекторов давали фронту первый снаряд, первую мину, первую пушку. С востока на фронт уже катились перегруженные эшелоны, и газета «Правда» писала сущую правду: «Они хотели блицкрига — теперь они его и получат!»
Но впереди нас ожидало еще столько бед и страданий, столько пролитых крови и слез… Как мы тогда выстояли?
* * *
— Хайль Гитлер! До Москвы осталось немного. Но если собрать все наши трупы и сложить их плечом к плечу, то это шоссе из мертвецов протянется до Берлина. Мы переступаем через павших, оставляя в грязи и сугробах раненых. О них уже не думаем. Это — балласт. Сегодня мы шагаем по трупам тех, кто шел впереди нас. Завтра мы сами станем такими же трупами и через нас храбро перешагнут другие, идущие за нами… Хайль Гитлер!
Рокоссовский слушал пленного, а сам смотрел в окошко избы и видел, как горят немецкие танки, один из них долго крутился на разбитых гусеницах, потом вспыхнул, разгоревшись прозрачным и едким пламенем. «На легком топливе», — точно отметило сознание Константина Константиновича.
— Уведите его! — показал он на пленного…
В убогой деревушке под Волоколамском командарм дал интервью английским корреспондентам.
О нем писали:
«Он высокий и стройный человек. Ему лет под пятьдесят, но на вид не более сорока. Он очень красив той особой красотой, которая располагает к себе…»
Рокоссовский начал интервью с необычного признания, что «воевал с отцами, теперь воюю с сыновьями» (с отцами — в первую, с сыновьями их — во вторую мировую войну).
Вот что сказал Рокоссовский англичанам:
— Может быть, я не объективен. Люди всегда склонны переоценивать сверстников и брюзжать по поводу молодежи. Но «отцы» были лучшими солдатами! Вильгельмовская армия была намного лучше гитлеровской. Я думаю, что фюрер испортил армию… Военному трудно объяснить это непрофессионалам. Гитлеровская армия способна одержать немало побед… и даже над нами! Но она никогда не выиграет войну. Эта армия прекрасно марширует. Ее солдаты великолепно обучены. Они храбры. Немецкие офицеры хорошо владеют тактикой боя. Тем не менее это… суррогат армии. Почему? Да потому, что вермахт строит свои планы лишь на использовании слабых сторон противника. И только!
Во время беседы журналисты пытались мысленно обрядить Рокоссовского в халат врача, в мантию ученого, даже в спецовку инженера. «Ничего у нас не вышло из этого, — признавались они потом. — Все эти профессии никак не сливались с ним».
Рокоссовский тогда еще не знал Паулюса, будущего своего противника, и, конечно, не мог знать того документа, который Паулюс составил как бы для своего личного пользования, а теперь прятал его от чужих глаз в своем сейфе, не желая оказаться пророком. Паулюс писал, что все рассуждения ОКБ и ОКХ о выборе направления на Москву «могут, очевидно, иметь лишь теоретическое значение… продемонстрированная в ходе войны Советским Союзом мощь — в самом широком смысле этого слова — доказывает, что это (наступление) является нашим глубоким заблуждением».
Если это так, то признаем за истину, что Паулюс, предсказывая катастрофу вермахта под Москвой, был умен так же, как был умен и наш Рокоссовский, убежденный в поражении немцев под Москвой. Это противники, но достойные один другого…
2. Роммель: наступать назад!
Паулюс, довольно оглядев себя в зеркало, тщательно проверил белизну манжет и вдел в них новые лучезарные запонки, которые получил в этот день в дар от любимой Коко.
— Наш «мерседес» у подъезда, — сказала она.
Усаживаясь в машину возле шофера, Паулюс произнес лишь одно короткое слово: «Тэпфер!» Этот интимный ресторан еще со времен кайзера Вильгельма II считался прибежищем аристократии, и Паулюс до женитьбы не мечтал бывать в нем. Теперь же здесь свободно расположились генералы, влиятельные партайгеноссе и гестаповцы — сыновья мясников, лудильщиков кастрюль, извозчиков и почтальонов. Среди таковых Паулюс высмотрел и начальника уголовной полиции третьего рейха — генерала Артура Нёбе.
— Хайль! Я вас давно не видел, Нёбе.
— Неудивительно, — отвечал тот. — Я околачивался в России. Кстати, побывал и в вашей шестой армии.
— Как там поживает весельчак Рейхенау?
— Именно в его шестой армии я проинструктировал саперов, как надо мастерить виселицы.
Нёбе уставил Паулюса совиные глаза.
— На этот раз мы не проиграем войну, — произнес он. — На этот раз мы развалимся с таким треском, который будет услышан даже пингвинами в Антарктиде. Они там пукнут и спляшут фокстрот.
— Кто из вас преувеличивает? — деликатно спросил Паулюс. — Вы сами, Нёбе, или то вино, которое забурлило в вас?
Генерал-уголовник безнадежно махнул рукой:
— Уж вы-то …генеральштаблеры! Кому, как не вам, надо бы знать, что даже фельдмаршал Рундштедт считает дальнейшее продвижение в России опасным для вермахта.
— Извещен. Да, его штабы более склонны к обороне…
Адъютант Фельгиббеля только к ночи (самолетом) доставил из Риги корзину свежих благоухающих марципанов, которым безумно обрадовались жены гостей. Множество свечей дымно оплывали над праздничным тортом. В углублении ниши итальянский посол, генерал Альфиери, скромно ужинал с радиокомментатором Гансом Фриче Паулюс пригласил к вальсу молодую цветущую Шарлотту, которая до замужества с фон Браухичем тоже не мечтала попасть под своды «Тэпфера», где дипломаты сидели в ряд с шарлатанами, а полководцы угощали шампанским мастеров пытошного дела.
— Как я вам благодарна, — шепнула Шарлотта.
— За что, дорогая? — удивился Паулюс.
Глаза женщины были наполнены слезами.
— Мой бедный Вальтер опять скандалил с фюрером, и об этом стало известно, потому никто не решается говорить с мужем, и никто, кроме вас, не пригласил меня танцевать… Это какой-то ужас! Неужели Вальтеру грозит отставка?
Когда Паулюс, вальсируя, приблизился к нише, занятой Альфиери, посол Муссолини сделал ему знак рукой, что хочет поговорить наедине. Этот разговор состоялся.
— Мы, конечно, благодарны вам, что вы, немцы, учли теплолюбив итальянцев и не отправили их мерзнуть в Карелию, но… Как оправдать наши потери под Кременчугом?
— Не так уж они велики, — отвечал Паулюс. — Клейст использовал итальянский корпус, когда в русских дивизиях, уже разгромленных им, четко определилась тенденция к отходу.
— Наш народ чересчур экспансивен, и теперь я не знаю, как эти потери на путях к Полтаве отразятся на настроениях Италии, где уже заметно опасное брожение.
Паулюс привел в ответ французскую поговорку:
— На войне как на войне… Кстати, я слышал, что Клейст не всегда находит общий тон с вашим генералом Мессе.
— Возможно, — парировал Альфиери. — Так же и наш Итало Гарибольди не находит общего языка с вашим задирою Роммелем. Французы правы: на войне как на войне. Не потому ли ваше командование отказывает в продовольствии нашим солдатам, ссылаясь на то, что немецкие солдаты кормятся за счет русского населения? Поймите нас, Паулюс, мы ведь следуем во втором эшелоне — следом за вами, и появляемся в районах, где уже нет ни одной курицы — одни только кошки и собаки… Вы знаете такое русское слово «кошкодав»?
— Впервые слышу. Сейчас справлюсь у зятя, барона Кутченбаха, он знаток русского языка.
— Не надо зятя. Русские прозвали «кошкодавами» прославленных берсальеров, наших заслуженных членов партии… Они побили все рекорды по удушению кошек в Донбассе!
Когда вернулись домой, жена проявила ревность:
— О чем ты шептался с Шарлоттой фон Браухич?
— Она скулила… — пояснил Паулюс. — Но я не сказал ей всей правды. Положение ее мужа сейчас трудное. Если же Браухич будет удален, тогда покинет ОКХ и мой Франц Гальдер… между ними такая договоренность!
— Кто же виноват в гневе фюрера?
— Русские! Они уже столько насыпали песку в буксы нашего вермахта, что теперь Гитлер явно ищет козла отпущения, чтобы загнать его в пустыню ради искупления собственных грехов.
— Господи, как хорошо, что это тебя не касается, впрочем, — быстро сообразила Коко, — «если Франца Гальдера задвинут за шкаф, то… не ты ли, Фриди, займешь его место?
Паулюс невольно подивился женской интуиции.
— Я бы этого не хотел, — честно ответил он. — Обстановка на фронте осложняется, бешенство ефрейтора может коснуться и меня. Стоит русским нажать посильнее и… Я очень хочу выспаться, — вдруг сказал Паулюс. — Разве ты сама не видишь, Коко, в каком дурном состоянии я нахожусь все эти дни?..
Елена-Констанция думала, что он жалуется на приступы дизентерии, что мучила его после посещения армии Рейхенау. Но Паулюс встал перед ней, сложив руки по швам, и сказал: «Смотри!» Жена вдруг увидела, что лицо мужа странно дергается. Левая половина лица Паулюса была поражена нервным тиком.
— Если бы не Рейхенау, я бы уже завтра просился у фюрера командовать шестой армией. Цоссен меня погубит, а фронт… фронт меня еще может спасти! Не возражай. Я так чувствую…
* * *
Москва утверждала: «сначала Германия».
Союзники думали иначе: «сначала Африка».
О значимости событий в Ливии лучше всего скажет статистика: Гитлер держал в армии Роммеля лишь полтора процента всех своих войск — остальные были задействованы против СССР!
Осенью 1941 года Сталин даже просил о помощи английской авиации в пределах Южного фронта, где складывалась критическая обстановка. Но тут, как это ни странно, в дела Восточного фронта опять вмешался «африканский фактор»: Окинлек забрал всю авиацию для себя — против Роммеля! Москва могла сделать вывод: для Черчилля даже ничтожный успех в Киренаике значительнее событий на главном театре мировой войны…
Была глубокая ночь, когда возле берегов Киренаики всплыли две подводные лодки. Диверсанты-коммандос, зачернив краской лица и ладони, бесшумно высадились на берег. Ворвавшись в штаб корпуса «Африка», англичане перестреляли из автоматов всех немцев, в том числе и… Роммеля!? Окинлек с Черчиллем торжествовали недолго: скоро в Каире стало известно, что Роммеля перепутали с начальником тыла, который ведал доставкой горючего, шортами, мылом и аптеками.
— Лисица опять вывернулась из западни, — огорчился Окинлек. — Но у нас готовы для нее новые ловушки…
Иссушающий ветер перегонял через Ливию жесткие комки верблюжьих колючек. Итало-немецкие войска мучила жажда и амебная дизентерия. Мухи — вот главный бич войны в Киренаике и Мармарике, от них не знали спасения, как и от поносов. Англичане, отступая, по-прежнему бросали в колодцы арабов мешки с солью! В редких оазисах засыхали финиковые пальмы, невозмутимые берберы, сидя на верблюдах, без особых эмоций наблюдали за маршами итальянской пехоты, за движением бронетранспортеров. Итальянец получал в день литр воды, немец — 10 литров и 4 лимона (плюс к тому еще и по литру лимонного сока в неделю). Все жалобы фашистских коллег Роммель отметал:
— Вы латинская раса, и вам легче в этом пекле, нежели нам, немцам, представителям расы нордической…
Тобрук, блокированный немцами, еще держался: он был необходим англичанам как промежуточная база снабжения между Мальтою и Египтом. Роммель озлобленно говорил:
— Черчилль воюет не только колониальными войсками, но руками чехов и поляков, которые за Прагу и Варшаву теперь готовы грызть мои танки зубами…
Англичане долго не тревожили Роммеля, выжидая, когда война на Востоке заставит Гитлера отобрать у него последние резервы. Немецкие эскадрильи прямо с аэродромов Сицилии брали курс на Москву: «крыши» над головой Роммеля не стало, в небе хозяйничали «спитфайры» и «харрикейны»; бомбами и торпедами они выбивали танкеры Муссолини, везущие Роммелю горючее. (После войны сами же немецкие генералы признали: «Война против России спасла положение Британской империи на Средиземном море, вызвав новый отлив сил с данного театра; в результате генерал Роммель не смог продолжить свое наступление…»)
Генерал фон Тома с вещевым мешком за плечами, будто бездомный бродяга, протиснулся в телетайпный автобус штаба, где за бутылкой вина хандрил Роммель.
— Ничего нового, — сообщил Роммель. — Фюрер, кроме подводных лодок, никакой поддержки не обещает. Забавная ситуация, Тома: фюрер обнадежил меня, что осенью разделается с русскими, и тогда я получу особую дивизию «Ф» с тропическим оснащением. Вместо этого вермахт торчит под Москвой, а мы загибаемся от поноса. Наверное, я был прав, предрекая Паулюсу, что каждый шаг в песках Африки определен маршрутами в гиблых лесах России…
В тени походного штаба термометр показывал 43 градуса, а ночью всех будет знобить от холода.
Тома поставил перед Роммелем простреленную кастрюлю, доверху наполненную чистым прозрачным виноградом:
— Ешьте! Это привез из Бенгази майор Меллентин.
Фридрих фон Меллентин был начальником разведки, но имел родственников — немцев из Южной Африки. Вызванный в автобус, майор сразу заговорил о битве под Москвой:
— Это дело серьезнее, чем на Украине. Думаю, судьбу России решит последний гренадер последней дивизии в последний день последней схватки на улицах Москвы.
— В таком случае, — уныло отозвался Роммель, — судьбу Африки решит последняя рюмка… Нет, не из этой бутылки, а из последней бочки бензина последнего танкера снабжения. Слушайте, Меллентин! Днем мы в шортах. А каково солдатам в России? Не слыхать ли новостей о теплых кальсонах? Честно говоря, по ночам я тоже нуждаюсь в теплом белье.
Тома бросил мешок в угол автобуса, подогнув ноги, улегся на него головою. Над ним вовсю стучал телетайп, но ему давно было все безразлично. Радист доложил:
— Странно! Окинлек молчит, словно сдох.
— Для Каира, любящего болтать обо всем на свете, это даже подозрительно, — заметил майор Меллентин…
На ночь в глубину пустыни Роммель скрытно выдвигал особый отряд радиоразведки; мощная аппаратура процеживала эфир, как через мелкое сито, пеленгаторы засекали все «голоса» ночного фронта, немцы умудрялись подслушивать даже телефонные разговоры в Каире, где британских офицеров давно пленяла знаменитая Хекмат Фатми, гениально исполнявшая танец живота, бесподобно вращая животом, эта соблазнительная танцорка служила агентом германского абвера, о чем англичане еще не догадывались.
Ночь была очень холодной, бедный Тома ежился под шинелью. Откуда-то вдруг появилась в палатке дикая кошка и нахально пожирала со сковороды печень газели, которую недоели немцы. Потом задул ураганный ветер, на Киренаику обрушился библейский потоп, дороги превратились в бурлящие реки, аэродромы оказались затоплены, «воздушный мост» между Сицилией и Бенгази оказался разрушен. Под утро из пустыни вернулся радиоотряд:
— А в Каире заткнулись, будто их прокляли…
18 ноября генерал Окинлек перешел в наступление. Зная, что под Москвой разгоралась великая битва, в Лондоне поспешили выдать войну в Ливии за открытие второго фронта. Би-Би-Си официально заверило мир: «Развитие боевых действий в Африке имеет большое значение для русского (!) фронта. Это и есть тот самый второй (?) фронт, о котором недавно говорил Сталин в своем докладе». Окинлек сообщил для газет, что теперь Германия получает по зубам одинаково — и в России, и в Ливии! Но это сравнение (со ссылкой на речь Сталина) вызвало только смех в ставке Гитлера. Нисколько не смущаясь, англичане заверяли международный эфир, что Окинлек в Киренаике готовит «новое Ватерлоо». Штаб Роммеля спасался в семитонном итальянском грузовике марки «СПА», а Меллентин доказывал Тома, что во всем виноват сам Роммель:
— Ему кажется, что он попал на дачный каирский поезд, отходящий точно по расписанию. Война же не ведает расписаний, не признает и маршрутов…
Ярко горели бидоны с нефтью, заранее вкопанные в песок, а струи пламени указывали англичанам проходы в минных полях. Британские транспортеры с пехотой взрывали тучи раскаленного песка. Кондиционеры от тряски выходили из строя, и внутри танков становилось трудно дышать. Роммель отступал. Заправленные бензином, его танки сгорали белым и чистым пламенем без дыма. Да, положение Роммеля было критическим.
Через триплекс он наблюдал, как британские «черчилли» и «стюарты» сминают гусеницами итальянскую пехоту.
— Я согласен и на Ватерлоо, — сказал он. — Где Тома?
Тома предстал, неотъемлемый от вещевого мешка. — Назад … иного выхода нет, — сказал Тома.
— Да! Пришло время наступать назад …
Его танки отходили, грохоча выхлопами газов. На перегретых моторах вскипало и пузырилось шипящее масло. В панорамах артиллерийских прицелов расплывчато колебались миражи Ливийской пустыни. В ночь на 24 ноября Эрвин Роммель заблудился среди витков колючей проволоки, угодив со своим вездеходом прямо в центр английского лагеря. Он велел шоферу здесь же и устроить ночлег. Английские солдаты освещали его фонарями, но не решились беспокоить спящего генерала. Утром Роммель выбрался из окружения и, дождавшись выгодного момента, ударил по англичанам. Первыми подняла руки, сдаваясь, бригада королевских стрелков. Сотни сгорающих танков и грузовиков пылали до глубокой ночи, отпугивая шакалов. Берберы слезли с верблюдов и стали растаскивать все, что пригодно в хозяйстве кочевников,
— Наступать назад , — повторял Роммель, увлекая Окинлека в расставленные им капканы. Ночью своими танками он окружил спящий английский лагерь, скомандовав по радио: — Включите фары! Курсовые пулеметы — огонь!
Англичан ослепили прожекторами. Они не стали возражать и тут же сдались (вместе со штабом). Заодно они любезно сообщили свой секретный сигнал зеленой ракеты.
— Благодарю, — отвечал им Роммель и велел заводить моторы.
В трофейные британские танки он пересадил немецкие экипажи. Сигнал зеленой ракеты успокоил армию Окинлека: Роммель велел танкистам входить в промежутки между английскими танками. — А теперь можете открывать люки!
Люки английских танков открылись, и англичане увидели в них хохочущих немцев.
Роммель распечатал новую бутылку с вином.
— Ну, вот вам и Ватерлоо! — сказал он. — Надеюсь, что теперь Окинлек перестанет трепаться…
Черчилль по радио был вынужден признать поражение, и после этого в Лондоне о втором фронте не помигали. Британские генералы суетно драпали до баров Каира, чтобы насладиться вращением живота божественной Хекмат Фатми. Окинлек оставил Роммелю три четверти своей моторизованной техники. Поврежденные танки он тоже бросил в пустыне, и Роммель сказал Тома:
— Этого нам пока достаточно, чтобы не изводить фюрера просьбами о поддержке. Тома, а что вы таскаете в своем мешке?
— Да так Бритва. Полотенце. Туалетное мыло.
— Традиционный набор для джентльмена, который готовится отсиживать срок в тюрьме. Зачем вам все это Тома?
— Мало ли что случается… на войне!
— Справедливо, Тома, — согласился Роммель. — На войне побеждают иногда даже тогда, когда наступают назад…
…Эрвин Роммель знал, что для него в Германии образован корпус «Ф», специально подготовленный для боевых действий в невыносимых условиях безводной пустыни.
— Их там всех сначала прожарили в температурных камерах, словно во вшебойке, давая полстакана воды на день. Сейчас этот корпус в Греции, — сказал Роммель, — и я жду его прибытия в Ливию, чтобы с его помощью выставить англичан из Каира…
* * *
Франц Гальдер, не терпевший Роммеля, все-таки был вынужден признать перед Паулюсом:
— Этот ваш африканский коллега, которого сам Черчилль наградил титулом «лисица пустыни», не спорю, обладает превосходным умением тактика. Но зато в стратегии он разбирается, как эскимос в бананах. Боюсь, — призадумался Гальдер, — что Черчилль уберет бездарного Окинлека, и тогда в Ливии появится некто , думающий не только тактически, но и стратегически… Вот тогда он и откусит нашей «лисице» ее пышный хвост, давно провонявший трофейным бензином!
…После окончания войны в Московской Военной академии читал лекции о победах над Роммелем сухонький и заносчивый человек, широко известный во всем мире. Сталин наградил его орденом «Победа», накинул на него шубу из сибирских соболей, подарил ему пышную боярскую шапку. Надеюсь, читатель уже догадался, что это был британский фельдмаршал Монтгомери — знаменитый «Монти». Но сейчас нам, русским, было не до Роммеля…
3.«Эх, широка мать — Россия…»
Даже слишком широка, а потому нельзя, чтобы ее судьбой распоряжались узколобые и злобные эгоисты, мстящие своему народу за свои же поражения… Странен был 1941 год! Но вдвойне кажется он страшнее, когда узнаешь, что Сталин повелел при отступлении выжигать все, что доступно огню. Запылала Русь, дымное зарево обагрило ее священные небеса. Немцы — оккупанты, да, они сжигали наши деревни, чтобы наказать жителей за сокрытие партизан.
Но Сталин приказал своим сжигать жилища своих же:
«за отважные действия — диктовал он, — по уничтожению населенных пунктов представлять к правительственным наградам…»
Кого награждать? — Поджигателей с факелами.
Нашелся ли хоть один, который бы сказал ему:
— Товарищ Сталин, зима ведь на носу, оставляем деревни со стариками, женщинами, детьми… Куда ж они денутся?
Все погибало в огне — дома, хлева, сады. Матери в ужасе прижимали к себе детишек. Старики копали на околицах ямы, в которых надеялись зимовать словно лесные звери. Стон стоял на русской земле, а Сталин упоенно диктовал свою волю:
«Для уничтожения населенных пунктов… бросить немедленно авиацию, широко использовать минометный и артиллерийский огонь».
Что это? Скудость ума? Растерянность? Или…
Враг подходил к Москве, а для товарища Сталина уже был приготовлен самолет, чтобы вывезти его в безопасное место. Люди бежали из Москвы, началась паника, войск не хватало, полками на фронте командовали лейтенанты. Берия доложил, что НКВД уже эвакуирован, но всех «врагов народа» вывезти не успели, — что делать?
— У меня на Лубянке еще сидят человек триста…
В застенках томились тогда опытные командиры высшего ранга, и, казалось, настал момент выпустить их и отправить на фронт, чтобы не лейтенанты, а они сами командовали полками.
— Расстрелять всех, — приказал Сталин, — чтобы ни одна сволочь не досталась немцам живьем…
Сам-то он, конечно, всегда успеет улететь на своем самолете, а ведь жалко оставлять Москву в целости и сохранности. Сталин распорядился по линии НКВД:
«В случае появления противника… произвести взрывы предприятий, складов и учреждений, которые нельзя эвакуировать, а также метро, исключая водопровод и канализацию».
В этом проявился «подлинный гуманизм» нашего вождя: мы еще попьем водички из кухонного крантика, мы еще спустим воду в туалете коммунальной квартиры.
Юные лейтенанты поднимали своих солдат в атаки:
— Вперед! За Родину… за Сталина… у-ррра-а!
Битва под Москвой и битва за Москву имеет множество летописцев и борзописцев, но мне, автору, выразительнее всех книг кажется лишь одна фраза, рожденная за мгновение до смерти:
— Эх, широка мать-Россия, да отступать больше некуда — за нами Москва!
* * *
Гитлер отправил под Москву громадный эшелон с вином из Франции, дабы воодушевить войска, но лучше бы это вино во Франции и осталось: когда вагоны открыли, там лежали осколки лопнувших бутылок и комки розового льда, — начинались морозы…
Дивизии пополнения прибывали тоже из Франции — в длинных брюках, в шнурованных ботинках, а Ганс Фриче вещал по радио о меховых куртках и солдатских джемперах; Геббельс был честнее и на пресс-конференции рассуждал о преимуществе русских портянок перед европейскими носками. Франц Гальдер в ОКХ сумрачно нахваливал русские валенки:
— Фюрер объявил в Германии кампанию по сбору зимних вещей. Уверен, что джемпера и меховые жилетки найдутся, но, скажите, где у наших немцев завалялись лишние валенки?..
В канун генерального наступления на Москву по радио долго переговаривались два фельдмаршала — фон Лееб («Север») и фон Рундштедт («Юг»), а смысл их переговоров был таков, что вермахту пора убираться на старые польские границы, и в этом случае Сталин, возможно, согласится на компромиссные решения:
— Мы откусили гораздо больше, нежели способны проглотить. Все эти дурацкие разговоры о продвижений к Вологде и Ярославлю после взятия Москвы свидетельствуют о хорошем аппетите, но еще никто не подумал о расстройстве пищеварения…
12 ноября Франц Гальдер поездом выехал в Оршу, расположил свою ставку фельдмаршал фон Бок, войска которого были нацелены точно в московском направлении. Перед гостем из Цоссена фон Бок заговорил совсем иное, нежели говорил ранее:
— Не скрою, что я честолюбив. Я брал Париж, берусь взять и русскую столицу. Вы же меня знаете! Если меня останется хоть последний велосипед, я буду крутить педали до полного изнурения, пока не свалюсь на панель перед мавзолеем на Красной площади. А потом можете тащить меня в госпиталь.
— Вы хотя бы окружите Москву, — отвечал ему Гальдер, — и постарайтесь вырваться к Ярославлю и Рыбинску…
Все разногласия среди генералов устранялись на совещании в Орше. Явные стремления к обороне чередовались с их острым желанием захватить Москву, чтобы поставить в конце войны жирный восклицательный знак. Фельдмаршал фон Клюге, вечно хмурый и малообщительный, приковывал к себе внимание орденом Гогенцоллернов, полученным еще за подвиги в эпоху «Вильгельм-цайт».
— Я не смею думать о наступлении с далеко идущими целями, — сказал он, косо поглядывая на ершистого фон Бока. — Наступление грозит обернуться для нас потерей инициативы.
Перед танками уже забрезжило тульское направление.
— Я вошел в страну русских, имея тысячу машин, — сообщил Гудериан. — В ходе боев получил еще полтораста. А на сегодня имею сто сорок «роликов»… остальные выбиты! Если я врежусь в улицы Тулы, местные фурии закидают меня из окон бутылками с «молотовским коктейлем». Уже известно, что рабочие Тулы поголовно вступили в ополчение, они будут драться на этот раз за свои квартиры и кухни, за свои иконы и самовары, и мы в результате получим второй Верден!
Танковый Эрих Гепнер тоже сомневался в успехе:
— Сейчас не май месяц, а мы не в Европе. Разговоры о выходе на Волгу к автозаводам Горького не стоят. Теперь и кружки прокисшего пива. Я хотел бы знать, когда придет эшелон с теплым бельем? Вчера мы вскрыли прибывший из Германии вагон, но в нем оказались шорты для Роммеля в Африке. Кто издевается над нами? Интенданты? Или железнодорожники?
— А что у вас под брюками, Гепнер? — разозлился Гальдер.
— Байковые кальсоны. Даже со вшами.
— Так чего же вы тут нам плачетесь?
— Но эти кальсоны я содрал с пленного. А чтобы он не околел, я подарил ему шорты африканского корпуса Роммеля…
Выслушав оправдания снабженцев, Гальдер резюмировал:
— Мне понятны ваши опасения, господа, но в ОКХ не желали бы связывать инициативу фельдмаршала фон Бока, если он чувствует в себе достаточно сил и энергии для развития нашего успеха. На войне (и вы знаете это) существует элемент счастья … Фюрер велел мне передать вам, что успех под Москвой должен повлиять и на внутриполитическое положение в Италии, которым дуче сейчас не мог бы похвалиться. Сразу после падения Москвы можно взяться за освоение германских колоний в Африке…
Они наступали! Браухич, уже дрожавший за свою карьеру, издалека подгонял генералов — вперед, ибо любая задержка в наступлении грозила ему неприятностями от фюрера. Москва стала прифронтовым городом.
Рокоссовский вспоминал: «Мы вынуждены были пятиться. За три дня непрерывного боя части армии отошли на 5 — 8 км».
Наши войска оставили Клин и Тверь (Калинин), вермахт с ожесточенным упрямством продвигался к столице. Маскхалаты немецких солдат уже замелькали среди деревьев дачных пригородов столицы. Наконец, возле Николиной Горы, где проживал нарком вооружения Д. Ф. Устинов, однажды всю ночь бродили немецкие лыжники-диверсанты. Берия запретил Сталину выезжать на дачу.
— В чем дело? — возмутился тот сначала.
— Ваша дача заминирована на случай… сами понимаете…
21 ноября фон Боку было доложено, что воздушная разведка засекла скопление русских возле Тамбова, замечено активное передвижение воинских эшелонов у Рязани.
— Что это? — удивился Бок. — Или сталинские резервы или подготовка к эвакуации? Я уже расшатал этот зуб. Мне осталось только вырвать его. Он уже не способен врасти в десны… Не сегодня, так завтра я буду в Москве!
Первые сомнения в успехе выражали солдаты:
— Наполеон доковылял до Москвы раньше, чем нам «далось доехать на „роликах“. Вся разница только в том, что этот паршивый корсиканец все-таки выдрыхся в покоях Кремля, а нам пока предоставлены одни снежные сугробы…
Немцы мерзли. Встретив русского в деревне, они первым делом смотрели, не что он несет в руках, а озирали его ноги. Женщины из подмосковных селений обертывали валенки всяким грязным тряпьем. Если же немцы замечали под ним валенки, тогда дело плохо:
— Эй, матка! Мне гут ва-ле-нок… шнель, шнель!
Офицеры вермахта были приучены спокойно оценивать самую паршивую обстановку. Погрязшие в снегах, небритые и страшные, они еще рассуждали: «Допустим, у нас дела идут не так как надо, но ведь у русских-то еще хуже! Не они подошли к Берлину, а мы наблюдаем разрывы зенитных снарядов над московскими крышами…» Наконец, немцы оседлали автостраду Москва — Ленинград, выбрались на пригородное шоссе, где под снежными шапками притихли подмосковные дачи. Их вынесло прямо к автобусной остановке, верстовой указатель показывал, что до Москвы оставалось 38 км . Немцы вынули губные гармошки, стали дурачиться, танцуя.
— Ну где же автобус? — хохотали они. — Почему он опаздывает? Мы въедем в Москву на русском автобусе…
Разведка докладывала фон Боку, что в рядах Красной Армии отсутствует тяга к отступлению, русские уверены в том, что сумеют отстоять столицу. Звонок от Клюге:
— Я получил приказ для пятнадцатой дивизии! Теперь этой дивизии можно приказывать что угодно, ибо ее больше не существует: в полном составе она отправилась в рай
Фон Бок связался с Гудерианом.
— Где вы сейчас? — спросил фельдмаршал.
— Сижу в кабинете Льва Толстого, в Ясной Поляне.
— Надеюсь, вы возьмете Тулу?
— Мне было бы легче написать «Войну и мир»…
29 ноября Г. К. Жуков позвонил Сталину с фронта и уверенно сообщил, что противник выдохся, настает момент, когда его можно гнать обратно. Сталин очень экономно использовал резервы Ставки, которые собрал в условиях строжайшей секретности, и маршалу Шапошникову он сказал, что тратить их в обороне нет смысла.
— Они понадобятся нам для прыжка вперед …
Одновременно с жесткой обороной столицы Красная Армия накосила удары в районе Тихвина и Ростова, чтобы группы фон Лееба и фон Рундштедта не могли оказать поддержку войскам «Центра», собранным под жезлом фельдмаршала фон Бока.
В этой обстановке, когда все было накалено до предела, в кабинетах Генштаба даже странно было слышать архивежливые распоряжения маршала Шапошникова:
— Я прошу вас, голубчик… Надеюсь, я в вас не ошибся, голубчик… Что же вы, голубчик, подвели меня, старика?
<blockquote>Примечание. Когда во главе разведки Генштаба стоял генерал Ф. И. Голиков, на сообщениях Рихарда Зорге из Японии им ставились резолюции: «Провокационная дезинформация!» Теперь Голиков был отстранен и Рихарду Зорге поверили, когда он предупредил, что сейчас Япония будет занимать выжидательное положение. Потому можно без боязни снимать с Дальнего Востока дивизии, что стояли, выставив штыки, против Мукденской армии. Началась срочная переброска войск на Запад; для перевозки каждая дивизия требовала до сорока составов; эшелоны почти впритык один к другому, и — только по ночам, почему и не были обнаружены германской авиаразведкой. Немцы видели на фронте полураздетых и неподготовленных ополченцев, взятых прямо от станка, и думали, что, если русские посылают в бой рабочих, значит, они «выдохлись». Однако из глубин Сибири на них уже накатывалась гроза свежих мощных дивизий…</blockquote>
* * *
— Измена ! — услышали от Гитлера. — Нас предали…
Франц Гальдер в своем дневнике от 30 ноября дописывал аккордную фразу:
«Очевидно, в ОКБ не имеют никакого представления о состоянии наших войск я носятся со своими идеями в безвоздушном пространстве».
На крики фюрера об измене Гальдер не реагировал, чтобы с этим делом разбирались другие, и в покои «Вольфшанце» уже спешил адъютант фюрера — Рудольф Шмундт:
— Мой фюрер, где измена? Кто нас предал?
— Рундштедт! Самолет — на заправку. Летим в Полтаву.
В самолете Гитлер уже не сдерживал ярости:
— Кто бы мог подумать? Тимошенко вышиб танки Клейста из Ростова, а Рундштедт отводит войска за реку Миус.
Миус, начинаясь с Донбасса, впадала в Азовское море.
— Ответственный рубеж, — сказал Шмундт.
— Да! Рундштедта сразу арестуем… Вот когда в трибунале его поставят к стенке, тогда он задумается!
Радиостанция самолета передала в Полтаву, что фельдмаршал Гердт фон Рундштедт приказом, отданным под облаками, отставлен от службы. Рундштедт, которому терять уже было нечего, сам же и встречал Гитлера на полтавском аэродроме. Но уже с новым вариантом стратегии:
— Не за Миус, — рявкнул он, когда фюрер появился на трапе самолета. — Не за Миус, а лучше сразу за Днепр отвести наши войска, пока еще не поздно, и убраться в Польшу, где нас так любят…
Гитлер уже протянул пальцы, чтобы рвать с фельдмаршала Рыцарский крест, но Рундштедт, сделав шаг назад, мужественно загородил свои ордена ладонью:
— Э-э. Прошу помнить, что я аристократ! А для получения пощечин у вас, фюрер, всегда найдутся другие люди, которые не стыдятся доедать за вами картофельные оладьи. Скоро исполняется девятьсот лет, почти тысячелетие, с той поры, как мои предки занимались только военным ремеслом, а это что-нибудь да значит!
Гитлер убедился, что «оппозицией» в ставке Рундштедта и не пахнет: просто старик выбился из сил. Фельдмаршал логично доказывал фюреру, что всякое продвижение невозможно:
— Нужна оперативная пауза, чтобы наложить бинты на свежие раны. Наш отход оправдан тактическими соображениями.
— Но… Клейст, Клейст, Клейст! — изнывал фюрер. — Как он мог позволить себе оставить Ростов?
Геббельс с 21 ноября трубил по радио, что ростовчане встречали танки Клейста цветами. Теперь решили дать сообщение, что Ростов сдали не Красной Армии, а… гражданскому населению. В сводке ОКБ было сказано:
«Большевики, возможно, выпустят теперь сообщение, что они обратно отвоевали Ростов, но об этом не может быть и речи…»
Абсурд немыслимый! Но умнее ничего не придумали.
В снегах под Москвой и на юге России складывалась та самая обстановка, когда одни сейчас с грохотом будут рушиться с пьедестала былой власти, а другие взлетят выше…
Среди взлетевших окажется и генерал-лейтенант Паулюс!
4. Предел
В конце ноября Паулюса навестил Фриц Фромм, командующий резервами вермахта, много знавший и немало понимавший.
— Я в прострации! — сказал он. — Фюрер трясет меня, чтобы срочно выискивал новые источники для пополнений А я уже и так набрал для вермахта всякой сволочи… под мобилизацию попали даже педерасты, а теперь, думаю, не пора ли выставить из тюрем наших уголовников? Летняя кампания ничего не решила, — заявил Фромм, — а если войну продолжать, от Германии останутся одни дыры.
— Принимайте первитин, — посоветовал Паулюс. — Говорят, он вреден, но если в меру… от тика я избавился!
Его расстроило письмо Рейхенау, подтверждающего именно то, что сейчас высказал генерал Фромм: «Достигнута та граница, когда тетива лука натянута до предела…» Это письмо Паулюс показал жене, и Елена-Констанция сказала:
— За шестой армией тянется очень дурная слава.
— Где? — не сразу понял ее Паулюс.
— Там, где эта армия воюет, — в России!
Боевая слава 6-й армии была как раз очень хорошая, а дурная слава тащилась за Рейхенау, командовавшим этой армией. В вермахте многих коробило от болтовня Рейхенау, у которого получалось так: «Я и фюрер, фюрер и я, фюрер сказал, но я добавил… фюрер согласился».
Гитлер был извещен о партийном фанфаронства Рейхенау, но многое извинял ему, видя в нем убежденного национал-социалиста. Паулюс знал, что Рейхенау точно исполнял знаменитый «приказ о комиссарах», расстреливая пленных коммунистов, наконец, буквально на днях (10 октября 1941 года) Рейхенау издал бесчеловечный «приказ на твердость».
— От тебя, Коко, у меня нет секретов… прочти.
Жена прочла лишь одну фразу: «Мой солдат должен вполне отдавать отчет о необходимости сурового, но справедливого искупления грехов низшей расы…»
Елена-Констанция молча вернула мужу листок с приказом
— Коко, — обиделся Паулюс, — ты молчишь, будто я в чем-то провинился. Не понимаю, отчего испортилось твое настроение? В конце-то концов, — сказал он жене — Шестая армия остается при Рейхенау, а я здесь, я с тобой, любимейшая!
* * *
3 декабря Гитлер вызвал в Полтаву верного Рейхенау, вручив ему всю группу армий, которой прежде командовал устраненный в отставку Рундштедт.
— А кому мне сдавать шестую армию?
— Командуя группой южного направления, вы, Рейхенау, остаетесь по-прежнему и командующим шестой армией, от которой я, — сказал Гитлер, — ожидаю невероятных успехов… В этом году, — продолжал он, — я сам вижу это, нам не выбраться к нефтяным вышкам Майкопа, не выйти и к Астрахани. Но я верю, что силы русских уже на исходе… будем же терпеливы! Помните одно, Рейхенау: что бы ни случилось — ни шагу назад!
— Яволь, мой фюрер. Служу великой Германии…
После этого Рейхенау продолжил отступление за реку Миус, начатое Рундштендтом, о чем и доложил фюреру, вдруг нагрянув в Полтаву — прямо к обеденному столу. Гитлер как раз уминал пшенную кашу.
— Рейхенау! — заорал он. — Я ведь не за тем дал по шее Рундштедту, чтобы ты продолжал то, что он сделал. Чей приказ ты исполнил — мой или этого Рундштедта?
Рейхенау повел себя так, будто ничего не случилось?
— Я отвел войска за Миус, как того желал Рундштедт, но об этом же мне говорил и мой фюрер.
— Я говорил? — ошалел фюрер. — Когда?
— Когда вы ставили меня на место Рундштедта…
Гитлер не понимал, кто в этом разговоре очень умный, а кто остался в дураках. Но Рейхенау так преданно смотрел на своего фюрера, что Гитлер стал доедать кашу, заговорив совсем о другом. Гитлер все неудачи под Москвой сваливал на… климат:
«Сначала грязь, потом эти проклятые морозы. Поверьте, таких холодов Россия не знала уже полтора столетия, от стужи там скорчились даже русские. Паровозы замерзали на рельсах, оружие отказывало в стрельбе, танкисты разводили костры под танками, чтобы спасти окоченевшие моторы…»
Никто не смел ему возражать (хотя метеосводки показывали температуру нормальной русской зимы, а сильные морозы начались лишь в конце ноября). Все возрастающее сопротивление Красной Армии еще не оформилось в четкий порыв контрнаступления, когда германский фронт под Москвой уже начал расползаться, как дряблая промокашка… 3 декабря фон Клюге связался с фон Боком и почти равнодушно сообщил, что начинает отход.
— Закрепитесь. Надо держаться, — отвечал фон Бок.
— Без резервов не удержимся.
— Резервов нет, — сознался фон Бок. — Правда, на тыловых станциях ждут паровозов отпускники, отъезжающие в Германию. Я пошлю полевую жандармерию, чтобы она гнала их к вам. Ничего не случится, если переспят с женами неделей позже…
Клюге швырнул трубку. Распорядился:
— Продолжать отход. Мы лучше знаем, что надо. А уж если отпускники вознамерились переспать с женами, так в этом случае никакой жандарм не загонит их обратно в окопы…
Все эти дни фон Бок держал устойчивую связь с ОКХ. — Гальдером, Паулюсом, Хойзингером; с их же согласия он 5 декабря принял окончательное решение)
— Атакам пришел конец! Армии занять оборону…
Советские войска еще не перешли в активное наступление, когда немцы сами отшатнулись от бастионов столицы. Впервые за всю войну войска вермахта впали в состояние, близкое к паническому. Их приводили в ужас русские дивизии, еще вчера погребенные в сводках ОКХ и ОКБ, давно отпетые по радио Геббельсом и Фриче, а сегодня снова вырастающие из-за лесов, словно ожившие призраки. При таком драпе по сугробам да еще с обильной вшивостью — ну, совсем хорошо! Одни топали пешком, другие катились в санях. Иные героически увлекали за собой на веревках полудохлых коров или овец. Советская авиация — впервые за всю войну! — господствовала в воздухе, не давая отступавшим немцам покоя. Все деревни в полосе фронта были выжжены еще раньше, потому гитлеровцы бывали рады-радешеньки крыше над колхозным свинарником или копне сена в чистом поле. В ночь с 5 на 6 декабря фон Бок проверил связь с Гудерианом, безнадежно застрявшим под неприступной Тулой.
— Вы еще гостите у графа Льва Толстого? — спросил он.
— Да. В обороне. Но долго не удержусь…
Изгадив все в Ясной Поляне, «быстроходный Гейнц» покатился назад, оставляя в сугробах свои последние танки. 6 декабря Красная Армия заканчивала разгром его международного авторитета, устроив ему хороший котел, но Гудериан из окружения все-таки выкрутился. Опомнясь, Гудериан обратился к своим войскам с призывом: «Мои боевые товарищи! Чем сильнее угрожают нам войска противника и сильные морозы, тем крепче сплотим свои железные ряды…»
После этого он осыпал упреками фельдмаршала фон Бока за его неумение вести крупномасштабные операции, а фон Бок, посинев от ярости, кричал ему по радио из Орши — открытым текстом в эфир, чтобы слышали все (даже русские)?
— Прекратите, Гейнц! Где ваша былая воля к победе?
— Моя воля, — огрызался Гудериан, — прямо пропорциональна количеству танков, а их осталось у меня… Догадайтесь!
Эфир, растревоженный круглосуточной работой немецких радиостанций, напоминал в эти дни «шумовую оркестровку»: его пронзали вопли преследуемых, крики отчаяния, призывы о помощи… В эту какофонию прорвался вопрос фон Бока:
— Так сколько, Гейнц, у вас «роликов»?
— Около тридцати! Пришлите мне хотя бы «красноголовых» (кумулятивных) снарядов, чтобы я мог отхаркиваться от лезущих на меня русских «тридцатьчетверок».
— «Красноголовые», — отвечал фон Бок, — фюрер отпускает по личному разрешению, как ценное лекарство и нам важно, чтобы его рецептура не попала в руки противника…
Гудериан писал: «У меня остались, собственно, еще только вооруженные шайки, которые медленно бредут назад». Он ехал в T-IV с радиостанцией, к пушке его танка был привязан мешок, в котором бултыхалась, оглашая лес нестерпимым визгом, большая колхозная свиноматка — это на ужин!
Между тем фон Бок с трудом вышел прямо на OKB:
— Кейтель, можете закрывать мой служебный формуляр отметкой о поражении.
Кейтель из «Вольфшанце», затихшего в прусских лесах, пытался убедить его в слабости русских.
— Но я слабости не замечаю, — отвечал фон Бок, — Если мы видим русский KB, мы еще способны продырявить его болванкой. Но когда мои ребята видят даже одну «тридцатьчетверку», то они… молятся. Да, да! Вермахт стал испытывать танкобоязнь, какую раньше внушал другим. Кейтель, не отходите от аппарата.
— Не отхожу. Что передать фюреру?
— Известите его, что у меня неблагополучно с почками и я стал нуждаться в срочном лечении на курортах Земмеринге…
Чтобы хоть как-то гальванизировать вермахт, застывающий в снегах Подмосковья, Браухич 13 декабря вылетел в Смоленск, где фельдмаршал фон Бок сознался, что войска «Центра» уже на пределе изношенности. Гитлер, не доверяя генералам, прислал в Смоленск для наблюдения за ними своего лейб-адъютанта — Рудольфа Шмундта, который нервно похаживал, комкая перчатки.
— Не бойтесь говорить откровенно в моем присутствии, — сказал он. — Я способен войти в ваше положение.
— Сейчас, — говорил фон Бок, — у меня нет никаких прогнозов на будущее, ибо дальнейшая судьба войны выходит из сферы чисто военной компетенции. Настал тот самый кульминационный момент, когда требуется чисто политическое решение.
Иначе говоря: пусть думает фюрер, а с него хватит.
— Вы не хотите воевать! — вспылил Браухич. — Как я доложу фюреру о подобных настроениях?
Фон Бок настаивал на приказе об отходе армий.
— Вы уже отходите! — кричал ему Браухич. — Отходите даже без приказа… На радость русским, вы все дороги забили своей брошенной техникой…
На следующий день прибыли Клюге из Малоярославца и Гудериан из Орла; за перебранкой генералов бдительно следил далеко не глупый Шмундт. На раздраженный вопрос Браухича — неужели они не чувствуют прежнего превосходства над противником? — Клюге и Гудериан сознались: нет , уже не чувствуют.
Браухич демонстративно принял лекарство.
— Простите, не могу! — и показал рукой на сердце.
Всем надоело отчаянное скрипение лакированных сапог Шмундта. Наконец, адъютант Гитлера остановился!
— Дайте ответ: что требуется сейчас для фронта?
Фон Бок собрал все свое мужество:
— Срочное отступление. По всему фронту… Но любое решение об отходе в этих условиях может и опоздать!
Рудольф Шмундт связался со ставкой Гитлера в «Вольфшанце», но фюрер отказался слушать об отходе вермахта, вместо него со Шмундтом переговорил Франц Гальдер.
— Что он сказал вам? — спросил фон Клюге.
— Гальдер сказал, что завтра фюрером будет принято самостоятельное решение. Как в ОКБ, так и в ОКХ ваше положение в России генеральштеблеры не считают таким катастрофическим, как утверждаете вы, сидящие передо мною. Гальдер сообщил мне слова самого фюрера: «Я не могу пустить все на ветер только потому, что в группе „Центр“ фронт по вине генералов оказался в дырках… Дырки можно еще заштопать».
Рудольф Шмундт, щадя самолюбие фронтовых генералов, умолчал о том, что мнение Гитлера о них было выражено более резко: «Их военный и политический кругозор никак не шире стандартного отверстия в унитазе…»
* * *
Ставка Верховного Главнокомандования (ВГК) правильно рассчитала выносливость своих войск и сроки прибытия подкреплений из Сибири, может быть, учла и свои возможности. Московская битва в ее наступательном периоде завершилась лишь в апреле 1942 года.
Красная Армия постепенно сбавляла темпы, словно локомотив, в котлах которого падало давление… Это и понятно — мы еще не были так сильны, чтобы сохранять постоянное напряжение фронтов. Сводки Совинформбюро, конечно, были преисполнены торжества; столица, отогнавшая врага, оживилась: снова открылись кинотеатры; женщины стали подкрашивать губы.
В конце декабря 1941 года молодой генерал Павел Иванович Батов был вызван в Генштаб, где царило приподнятое настроение, иногда даже схожее с ликованием. Все это было непривычно для Батова, только что вырвавшегося из-под Керчи, где успехами наше оружие не блистало.
Представ перед маршалом Шапошниковым, Батов тоже не скрыл своего восторга:
— В победе под Москвой вижу большую заслугу Генштаба!
— Какая там заслуга, голубчик, — со вздохом отвечал Борис Михайлович Шапошников и вдруг заговорил о том, чего никак не ожидал Батов. — Наш народ слишком жаждал победы, и потому успех под Москвой мы преподнесли с излишним пафосом — как решительный поворот в войне. Однако, — продолжал начальник Генштаба, — до истинного поворота нам еще далеко. Сейчас мы только отбросили противника от столицы! Вермахт уже оправился от кризиса, а нам еще предстоит осваивать опыт ведения современной войны… Я недоволен, — сердито сказал Шапошников. — Темпы наступления были низкими. Командиры действовали вяло и нерешительно. Генералы допускали ошибки. Если бы не категорический приказ товарища Жукова, запрещавший фронтальные удары в лоб, мы бы просто захлебнулись в крови. И не здесь, не под Москвой, будет решаться исход войны…
(К этому мнению Шапошникова, пожалуй, примкнул бы и генерал Рокоссовский, который о битве под Москвой говорил в иных словах, никак не совпадавших с мнением официальной пропаганды: Константин Константинович не считал Московскую битву примером военного искусства; он говорил, что изматывание отступающего противника достигалось путем непосильного изматывания своих же войск, к дальнейшему наступлению уже не пригодных.)
Но после впечатляющих сводок по радио, после восторженных статей в газетах речь Шапошникова подействовала на Батова, как ушат ледяной воды. Павел Иванович стал рассуждать о делах в Крыму, где продолжал битву героический Севастополь, но Шапошников торопливо прервал его:
— Не надо, голубчик. Тамошняя обстановка мне известна. Но сейчас работу Генштаба более тревожит ситуация, которая может сложиться к лету сорок второго.
Об этом же думал тогда и Рокоссовский:
— Как можно забывать, что вермахт к лету оправится от московского потрясения и снова устремится вперед, чтобы выйти на запланированную ими и роковую для нас линию Архангельск — Астрахань… Вот здесь!
Рокоссовским слово «Сталинград» произнесено не было, но его ладонь разом накрыла и большую излучину Дона и даже нижнюю Волгу. Рокоссовский (как и другие полководцы) уже побаивался летней кампании, а жестокие выводы Рокоссовского, сделанные им из опыта битвы под Москвой, потом были выброшены из его мемуаров рукою М. А. Суслова, ибо эти выводы никак не укладывались в привычную схему войны, облюбованную еще Сталиным и прилизанную его наследниками до нестерпимого блеска.
Вот только сейчас, в новые времена, мы начинаем публиковать то, что вырезано ножницами наших партайгеноссе…
5. В гостях у Чуянова
Не хотел удивляться, а придется…
БАМ, о котором так много шумели в недавние годы, имеет прямое отношение к Сталинградской битве. Правда, до 1941 года он назывался БАМлаг, а из всего, что НКВД успело создать на костях «врагов народа», уцелела лишь станция Тында, где надобно бы ставить памятник не комсомольцам-добровольцам, а именно им — избитым, голодным, умирающим и пристреленным прямо на шпалах. «Это была страшная сталинская мельница, под жернова которой сплошным потоком сыпались осужденные». Стройка была строжайше засекречена, о ней никто в мире не знал, и нам, читатель, до сей поры не известно, сколько десятков (или сотен) тысяч людей там погибли.
Но вот грянула война, и в бухгалтерии НКВД подсчитали — сколько осталось? Выжили только десять тысяч. Рельсы, что были проложены, сняли. И увезли их. Куда? Каторжников запихали в товарные вагоны и тоже повезли. Куда? И увидели они Волгу… Уже осенью началось строительство объездной железной дороги Сталинград — Саратов — Владимировка, «чтобы, — как писал А. С. Чуянов, — обеспечить выход за Волгу». Тогда же и началась жуткая — иного слова мне не найти! — прокладка стратегической трассы от Кизляра до Астрахани, дабы перегонять железнодорожные составы с бакинской нефтью. Раньше поезда с цистернами шли через Ростов, но под Ростовом хозяйничали танки Клейста…
Никто из жителей Сталинграда, ни сам секретарь обкома, ни последний попрошайка на вокзале — никто не знал, что в далеком Цоссене решено: Сталинграду пасть не позже чем 25 июля 1942 года. Вернувшись вечером домой, Чуянов говорил жене:
— Боже, какие мы нищие! Рельсы черт знает откуда привезли, так шпал нету. Кладут рельсы прямо на землю. Ни лопат, ни тачек — одни конвоиры да лозунги. Привыкли жить, думая, что мы баснословно богаты. А когда нужда приперла, так все аптеки в городе обеги — таблетки аспирина не сыщешь. Вот и крутись как знаешь. А виноватых днем с огнем не найдешь. Тем и кончится, что в конце концов я виноват останусь…
* * *
Осень в Сталинграде выдалась ранняя, дождливая. В канун битвы под Москвой Чуянов звонил во Владивосток приятелю Г. И. Масленникову и был поражен отличной слышимостью.
— У нас тоже пиковое положение, — доносилось с берегов Тихого океана. — Живем, как и флот, в готовности номер один. Сам знаешь, от соседей добра не жди.
Надеясь на сообразительность Масленникова, Чуянов отвечал нарочито легкомысленным тоном:
— А у нас по-старому. Живем, хлеб жуем. Тебе шлют приветы.
— Значит, помнят меня в Сталинграде? А — кто?
— Женщины. С чулочной фабрики Крупской, со швейной имени Восьмого марта. Работаем… телогрейки шьем, да ватники. Сам знаешь, что нужно для бойца в первую очередь.
— Толстые ватники, — догадался Масленников.
— По последней моде — сорок пять миллиметров…
Легкие на помине явились женщины. Целая делегация — как раз с тех фабрик, о которых он помянул. Жаловались на необычную дороговизну продуктов, рынок стал безбожно вздувать цены.
— И у нас дети Как прокормить? Молока нет. Раньше помидорами свиней кормили, а теперь помидоры на базаре кусаются.
— Дорогие мои, — отвечал Чуянов, — я вам не Бог, не царь и не герой. С частниками драться не стану. Это дело их совести. Но вот на колхозную торговлю нажать еще вправе и потому кое-кому влетит от меня по первое число…
Воронин из НКВД пришел с бумагами. Пользуясь затемнением города, шпана грабила прохожих. Их судили.
Воронин сказал:
— А не жалко? Молодые и — под расстрел?
— Сейчас телячьи нежности неуместны, — отрезал Чуянов. — А перевоспитывать некогда. Под расстрел не надо. Гони всех в штрафбат — там немцы их не помилуют…
Звонил из Москвы Ванников, ведающий вооружением:
— Привет. Тут маршал Кулик до меня напортачил. Исправлять все на ходу надо. Он, лопух, вместо автоматов, спихнул на армию серию винтовок СВТ… Брось один раз на землю — и больше из СВТ уже не выстрелишь. Сейчас необходимо как воздух автоматическое оружие… ППШ! Слышал о таком?
— Выезжаю в Москву, на месте все и решим, хотя для моих заводов — дело новое. Но освоим, освоим. Обещаю. Ладно.
В столице Чуянов пробыл недолго, застав Москву как раз в тот период, когда метро уже не работало; среди жителей возникла паника, удиравших на машинах рабочие сворачивали в кювет вместе с машинами, кому-то били морду. На обратном пути в Сталинград секретарь обкома впервые в жизни угодил под бомбежку, а вернувшись, сразу вызвал Воронина:
— Пора отрывать на дворах щели, подвалы очистить под бомбоубежища. Пусть наши бабки не воют — весь хлам из подвалов и чердаков выбросим. Я-то вот в поезде, когда бомбы засвистели, так, народу не стыдясь, под лавку нырнул и кепочкой накрылся…
Новое дело: мука есть, а хлеба нету. Мукомольня и хлебопекарням не хватает тока. Не дают электроэнергии. Зубанова было не узнать высох, почернел, вдобавок еще и зубы болят.
— СталГРЭС рвут на части! — простонал он. — Каждый день мучаюсь у щита распределения: кому ток важнее? СТЗ или булочным?
— Танки нужны, как и хлеб.
— О-о-ой, — провыл инженер-энергетик.
— Не вой, — сказал Чуянов. — Поезжай в Бекетовку там есть такая дивная краля, Клавдия Терентьева, на Плеханова. Видел?
— На кой ляд? До баб ли нам тут? Ой… опять схватило!
— Скажи этой красуле, что я велел тебе зубы вырвать. Она дантистка. А потом и думай — что на Т-34, а что на буханки.
Зубанова через день встретил — тот чуть не плачет:
— Больно было? — посочувствовал ему Чуянов.
— Лучше бы ее не видеть! Влюбился, как последний дурак.
— В кого влюбился?
— Да вот в эту… которая зуб вытащила.
— Мое дело сторона. Я тебе не сват. Сам разбирайся…
Были первые дни ноября. Вдруг на СТЗ не стало деталей для танков, которые всегда поставлял Тульский завод. Чуянов позвонил Жаворонкову.
— А его нету, — отвечали из Тулы. — Он с утра взял автомат и выехал на передовую, чтобы отстреливаться, А у вас какое к нему дело?
Чуянов вкратце объяснил.
— Мама дорогая! — удивились туляки. — Да у нас тут Гудериан под самым боком. Вот, погодите, отгоним от Тулы и дадим детали. У вас-то тихо?
— Тихо, — ответил Чуянов…
В день, когда пришло известие, что наши войска оставили Курск, Алексей Семенович выехал на СТЗ, чтобы проследить за отгрузкой танков — для обороны столицы. СТЗ был окружен высоченным забором, вдоль него бегали громадные сторожевые овчарки. Начальник охраны завода предупредил:
— Только ближе не подходите — вмиг разорвут. Объект секретный. Тут один тип хотел поживиться, одни пуговицы остались…
Чуянов испытывать судьбу и не собирался. Слишком ж страшны были громадные пасти псов с ощеренными клыками, служившие верной порукой тому, что ни один лазутчик не осмелится сигать сюда через забор. Около полудня Чуянова разыскали в цехах, велели скорее бежать в кабинет директора СТЗ.
— А кому там я понадобился?
— На проводе сам … товарищ Сталин.
Чуянова удивило, что Сталин разговаривал спокойно:
— Что за пушки вы там конфисковали в свою пользу? Артуправление в Москве не подтверждает наличие этого эшелона в вашем Сталинграде.
Чуянов ответил, что триста пушек он уже велел переделать в зенитные орудия, нужные для ПВО на переправах через Волгу.
— А разве вас бомбят? — спросил Сталин.
— Нет, товарищ Сталин. Но какие-то самолеты летают.
— Хорошо, — произнес Сталин. — А с нашими ротозеями из Артуправления, забывшими, где посеяли целый эшелон пушек, я разберусь в Москве уже сам … по-отечески!
Чуянов закончил разговор и перевел дух с таким облегчением, с каким, бывало, в юности сваливал мешок на пристани.
— По-отечески, — сказал он про себя. — Не завидую я теперь всем тем, кому он отцом доведется. Это уж точно…
Утром 7 ноября репродукторы на площади Павших Борцов транслировали из Москвы парад, разнося по всему миру грохот солдатских сапог по брусчатке. Прямо с парада войска уходили на передовую, и это как-то окрыляло, а многие женщины даже плакали, услышав по радио звуки марша «Прощание славянки». Дедушка дома тоже прослезился:
— Давно эфтакой музыки не слыхивали, все эти да «нас побить-побить хотели…» Минина да помянули. Чай, от вашего, яти его мать, интырцанала одни ошметки остались. Чего доброго, церкву откроют. Хоть помолиться бы нам, православным, перед смертью дозволили.
— Открою , — мрачно ответил Чуянов деду.
* * *
В конце ноября Чуянов созвонился с Ростовом, к телефону подошел секретарь Ростовского обкома Двинский:
— Рейхенау жмет… танки. Боюсь, не удержаться.
— Держитесь. Я еще позвоню… завтра! Слышишь? На следующий день из Ростова звонила уже секретарша.
— Помогите… не знаю, что делать! — кричала она. — Никого уже нет, я одна. А тут такое творится.
— Где Двинский? Дай его… срочно!
— Да все убежали. Одна ведь я! А тут по комнатам немцы шляются. Хохочут. На губных гармошках наши песни играют…
С юга — от Ростова — повалили на Сталинград эшелоны — раненые. Врачей не хватало. Медикаменты — на вес золота. Кошмар какой-то! Банно-прачечный комбинат был не в силах обслужить поток исстрадавшихся людей — ампутированных, искалеченных и обожженных. Алексей Семенович распорядился:
— Банщикам работать в три смены.
— А когда у них было меньше? Вот мыла-то где взять?
— Не знаю, — честно признался Чуянов. — Найдите. Средь дня заскочил домой пообедать, опять звонок.
— Откуда говорят?
— Из зоопарка.
— Чего вам от меня понадобилось?
— Слониху Нелли кормить надо.
— А что слоны едят?
— Не знаем, как в странах капитала, — отвечали Чуянову, — а советские слоны едят много.
Чуянову хотелось обложить говорившую «дурой»:
— Если Нелли все жрет, так все и давайте.
— Овощи-то на базар не пойдешь покупать. Дорого!
— Господи, да выкручивайтесь как-нибудь…
Наплыв беженцев увеличился. Поезда с юга подвозили по восемь тысяч человек в день, а сколько приплывало по Волге — не поддавалось учету. Среди эвакуированных — с севера — появились и ленинградцы.
Они уже хлебнули горя, всякого навидались. Рассказывали что рабочий у станка получает 250 граммов хлеба, прочие — 125 граммов . Чуянов зашел в столовую.
— Ну-ка, — сказал хлеборезу, — отпили мне сто двадцать пять граммов. Хочу посмотреть, сколько получится.
Дома Чуянов включил радиоприемник, и сразу же послышался четкий стук в двери. Жена сильно испугалась.
— Не вздрагивай! Это же позывные Би-Би-Си…
Призывно и настойчиво постучав в двери радиослушателей, Би-Би-Си сообщило, что 9 декабря японцы совершили вероломное нападение на американскую базу Пёрл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Вслед за тем гитлеровская Германия объявила войну Соединенным Штатам Америки.
Конечно, среди сталинградцев сразу пошли разговоры:
— Надо же, а! До чего же паразит нахальный. Уже под Москвой получил в зубы, а ему все мало, на войну так и лезет…
В один из дней секретарша обкома доложила:
— Алексей Семенович, а к вам опять… избиратель!
Чуянов даже за виски схватился, простонав:
— Господи, когда я от них избавлюсь?..
А принять надо. Вошел старомодный дядечка. Очень опрятный. На костылях. В шляпе. Он держал деревянную коробку. Вежливо объяснил, что учительствует в казачьей станице Алексеевской:
— Как учитель физики, на досуге изобретательствую.
— Очень приятно. Что изобрели?
— Электрический пулемет. («Все у меня есть, — подумал Чуянов, — только вот этой штуки еще не хватало. Ладно, мы и не такое видели. Переживем».) — Мое изобретение имеет большое будущее, — сказал учитель, — и оно способно свершить переворот в войне не только в тактическом, но и в стратегическом аспекте.
— Не сомневаюсь. Прошу. Садитесь.
— Спасибо. Мы постоим. Можно показывать?
Чуянов так уже изнемог от разных эдисонов, что ему было все равно, и он безнадежно махнул рукой:
— Чего стесняться в родимом отечестве? Валяйте.
Учитель извлек из сундучка странную машинку, внутри которой что-то мяукнуло; от машинки тянулся электрошнур.
— Вы не боитесь? — вдруг спросил он Чуянова.
— Боюсь. А вы?
— Я тоже. Побаиваюсь. За обстановку.
— Ничего. Она казенная. Вон там штепсель. Видите?
— Вижу. Внимание. Эксперимент. С великим извинением…
С этим «великим извинением» он воткнул вилку в розетку, и с этого момента Чуянов перестал понимать, что происходит в этом мире. Сначала — треск! Лампа на столе — вдребезги, люстра — на полу. Штукатурка отделилась от стены. В кабинете не продохнуть от пыли. Разгром полный. Изобретатель сказал:
— Знаете, я человек скромный. Вперед, как другие, не лезу. Но коли идет война народная, война священная, а я человек верующий, потому и решил внести священную лепту в дело нашей общей победы над гитлеровскими супостатами.
Чуянов долго вытрясал из волос штукатурку.
— Поздравляю, — сказал он учителю. — Вы первый изобретатель, в которого я поверил. Поедете в Москву… за счет обкома. Вместе со своим пулеметом. Я не специалист в таких делах, но вижу несомненные задатки таланта…
* * *
1 января 1942 года в небе над Сталинградом был сбит первый германский бомбардировщик, и Чуянов тогда же сказал:
— Тыловая жизнь кончилась — начинаем воевать…
6. За «отмороженное мясо»
Уцелевших в битве под Москвой солдат фюрер наградил почетной медалью «Зимней кампании», которую в вермахте прозвали медалью за «отмороженное мясо». Тогда же уменьшилось и количество желающих пополнить железные ряды национал-социалистической партии, а среди немцев блуждал такой анекдот:
— Ветераны нашей партии, завербовав в партию фюрера пять новых членов, получают законное право выйти из партии. А кто завербовал сразу десять кандидатов в партию, тому в партийной канцелярии Бормана официальную справку о том, что он в рядах нашей партии никогда не состоял… Я вот думаю: не сам ли Геббельс и придумал этот анекдот?
Он ведь был на все руки мастак, и сейчас (в «тронном зале» дворца Леопольда, который занимало его министерство пропаганды) он доказывал мрачному, как сатана, Гансу Фриче:
— Истина в пропаганде всегда терпит поражение, тогда как любая наглейшая ложь одерживает победы. Для лжи необходимо лишь правдоподобное, и тогда она уцелеет…
Сейчас, чтобы утешить немцев, он обратился к средневековому астрологу Нострадамусу, который предсказал главные события мировой истории — вплоть до 3000 года. Чтобы там ни болтали об астрологии, но этот чародей назвал 1918 год, когда на Востоке объявится «великое безбожное государство», он же назвал и 1933 год — год прихода Гитлера к власти.
— После чего, — говорил Геббельс, — многие страны Европы вольются в Германию, однако росту германского могущества помешает «великий князь Армении»… Думаю, что Нострадамус ошибся немного, ибо Армения граничит с Грузией, откуда и явился этот кремлевский «великий князь» Сталин.
Геббельс понимал, что официальной пропаганде люди давно не верят, склонные верить всему потаенному, что преследуется властями. Он живо развивал перед Фриче мысль, как выгоднее распространять в немецком народе пророчества Нострадамуса:
— Глупо, если они выйдут из типографии и будут продаваться в газетных киосках на улице… нет ! Их надо распространять в народе от руки переписанными, в машинописных копиях под копирку. И совать по утрам в почтовые ящики как нелегальные листовки. А нам следует дополнить пророчества Нострадамуса словами, что схватка с «великим князем Армении» завершится его гибелью, а эра всеобщего мира и благоденствия уже стоит на пороге каждого немецкого дома…
Ганс Фриче выслушал и поднялся, чтобы уходить.
— Йозеф, хочешь, я расскажу тебе последний анекдот?
— О ком?
— На этот раз — о тебе… Не рассердишься?
— Да нет, не обижусь, рассказывай, — согласился Геббельс.
— Наконец, и наш Геббельс умер, — провозгласил Ганс Фриче. — В рай его не пустили, а направили прямо в ад. Он испугался, но черти издали показали ему ад, в котором пляшут голые девки, а грешники хлещут французское шампанское. Геббельс, конечно, пожелал жить в аду. Но когда его доставили в ад, он обнаружил одни лишь адские муки и возмутился: почему издали показывали одно, если в действительности тут все другое? На это сам Вельзевул ответил Геббельсу: «Так это же была самая наглядная пропаганда — мы все учились у тебя…»
Геббельс выслушал анекдот и даже не улыбнулся.
— Отличная шутка, Ганс, не правда ли? — сказал он. — Но ты меня не рассмешил, потому что этот анекдот придумал я сам.
На прощание он сказал Фриче, что министерству пропаганды предстоит теперь как следует поработать; надо внушить немцам, что эта зима — русская зима — черт с ней, зато вот весна и лето предстоящего 1942 года станут решающими для побед вермахта.
— Кстати, — заключил он, пожимая руку партайгеноссе, — Сталин тоже думает, что в сорок втором с нами будет покончено… раз и навсегда! Поправь шляпу, Ганс, держись бодрее. А в новогодней речи по радио мне, очевидно, предстоит обронить фразу: «Теперь уже никто не знает, когда и как завершится эта война».
— Гениально! — сказал Ганс Фриче и поправил шляпу.
* * *
16 декабря группу «Центр», размочаленную под Москвой, возглавил фельдмаршал фон Клюге, человек непьющий и некурящий. Затем последовал жесткий приказ из «Волчьего логова»: без личного разрешения фюрера никто не имеет права отвести войска с занимаемой позиции, фронт следует удерживать до последнего патрона, отныне все генералы вермахта должны помнить, что они исполняют личную волю Гитлера…
Это распоряжение не вызывало энтузиазма на фронте.
— Кем же я стал? — ворчал «быстроходный» Гейнц, вовремя удравший из-под Тулы с колхозной свиноматкой, которую и съели в ночном лесу при свете костра. — Если я только исполнитель чужой воли, лишенный частной инициативы в оперативных порядках, то я уже не полководец, а жалкий чиновник, обязанный вставать при чтении высочайшего рескрипта.
Эрих Гёпнер выразился еще более ярко:
— Хорошенькое дело! Иваны лупят меня по морде, а я потерял право даже убегать. В таких случаях битые не кричат противнику: «Ах, какое счастье, что мы снова встретились!..» Боюсь, что фанатичное сопротивление в обороне приведет войска к гибели…
(Об этом приказе Гитлера после войны много говорили на Западе как о роковой ошибке, которая привела вермахт к потере оперативной эластичности. Но факты свидетельствуют об обратном. В условиях зимы 1941 — 1942 годов именно такой приказ Гитлера возымел сильное действие, и советские войска сразу же ощутили сильное противостояние противника.)
В эти дни Герман Геринг, обычно манкировавший визитами в «Вольфшанце», вдруг зачастил в Пруссию, отчаянно интригуя.
— Слабая голова у Гальдера, да и чего можно ожидать от баварца? А какие жидкие мозги в котелке у Браухича!
19 декабря Гитлер произнес такую вот фразу:
— Браухич — трусливый и тщеславный негодяй…
Тут он припомнил ему все: и развод со старой женой, и срочную женитьбу на молоденькой Шарлотте неизвестного происхождения, но которая выклянчила деньжат на строительство виллы. Браухич, держась за сердце, на полусогнутых от унижения ногах с трудом выполз из кабинета фюрера, сказав Кейтелю:
— Ну, все! Больше не могу. Мне дали под зад.
— Что теперь будет с нами… после Москвы?
— Спросите у него сами, а я поехал в отставку… к Шарлотте. В конце-то концов, этого мне давно следовало ожидать.
Кейтель сунулся было к Гитлеру, но получил свою порцию, в которой слово «кретин» звучало нежной лаской. Йодль застал Кейтеля плачущим над составлением просьбы об отставке. Под локтем же Кейтеля уже лежал заряженный вальтер.
— Вот допишу… и шлепнусь! — сообщил он Йодлю.
Йодль порвал бумагу, а пистолет его разрядил:
— Хоть вы-то не сходите с ума, Кейтель…
Дошла очередь и до Гудериана, фюрер не пощадил и его:
— Вы, кажется, решили сомневаться в моих распоряжениях? Так вы мне более не нужны. Поезжайте к жене и вместе с нею можете критиковать меня сколько вам влезет. Я не обещаю, что ни на какую вашу критику гестапо реагировать не станет…
Гитлер громил своих генералов с такой же яростью, с какой советские войска трепали его генералов. Большая стратегия таила в себе и большие страсти. 30 декабря немцы сдали Керчь, и в этот же день Гитлер связался с фельдмаршалом фон Клюге.
Телефонограмма их разговора уцелела:
— Дальнейшее удержание позиций бессмысленно, я прошу разрешения на отход этой же ночью.
— Отступлению не видно конца, — отвечал Гитлер, — Так можно откатываться до Днепра и Буга, а потом убираться в Польшу, чтобы сажать картошку. Удивлен, почему вы отступаете по всему фронту, если противник по всему фронту не наступает? Кончится все это тем, Клюге, что дождусь вас на Одере с мешком беженца за плечами. Вводит ли Жуков тяжелую артиллерию?
— Пока нет. Авиация. Танки. Инфантерия.
— Я, наверное, очень отсталый человек, — сказал фюрер. — Но во время моей молодости, я помню, даже десять процентов немцев, оставшихся в живых, продолжали держать оборону
— Мы еле таскаем ноги, — жаловался ему Клюге. — Вам, мой фюрер, не следует забывать, что здесь не цветущая Франция и сейчас не пятнадцатый год, а мы уже не так молоды.
Гитлеру все это попросту надоело. Он закончил:
— Клюге, я поздравляю вас с наступающим новым годом…
Фридрих Паулюс отмечал новый год в кругу семьи.
— Полная смена караула! — сообщил он жене. — После Браухича хотел уйти и мой Франц Гальдер, но Браухич, прежде чем хлопнуть дверью, уговорил его не покидать ОКХ, чтобы не потерялась главная нить прежнего руководства вермахта.
— Зачем такая перестановка понадобилась фюреру?
— Не знаю. Пока еще не знаю. Но… догадываюсь.
— Барон, — велел Паулюс зятю, — включите радиоприемник.
Совместно они прослушали по радио новогоднюю речь Геббельса, и, конечно, обратили внимание на его фразу, проскочившую в тексте как бы между прочима «Теперь уже никто не знает, когда и как завершится эта война…» Паулюс вяло улыбнулся:
— Где же ему знать, если даже мы, опытные генеральштаблеры, сами уже не видим конца всей этой восточной кампании…
Эта же речь, уже переведенная на русский язык, скоро лежала на столе перед Сталиным, и он остался доволен.
— Вот! — сказал Сталин. — Именно эта фраза Геббельса еще раз убеждает всех нас в том, что мы, завершив разгром немцев под Москвой, теперь способны развить первоначальный успех по уничтожению зарвавшегося врага, чтобы в этом же сорок втором году окончательно изгнать оккупантов с территории нашей любимой родины…
* * *
Паулюса в Цоссене снова навестил генерал Фромм, который, как и следовало ожидать, завел речь о резервах вермахта.
— Я в прострации! — опять начал он. — У меня подготовлены для фронта лишь тридцать три тысячи человек, а некомплект дивизий на русском фронте составляет уже триста сорок тысяч. Группы «Центр» и «Север» скоро будут иметь лишь около тридцати процентов от числа их первоначальной мощи, с какой они вступили в войну с большевиками.
Паулюс был уже достаточно информирован в этих вопросах.
— Кстати! — припомнил он. — Это хорошо, что вы, Фромм, навестили меня, Эрвин Роммель (вы сами знаете, что ему много не надо, чтобы он взвился до небес!) постоянно напоминает о том, что нуждается в усилении, Роммелю известно, что у вас давно подготовлен мощный корпус «Ф».
— Да, — кивнул Фромм, — этот корпус был предназначен для возни с англичанами в Ливии, но сейчас он в Греции.
— Роммель ждет его! — напомнил Паулюс.
— И не дождется, — отозвался Фромм. — Резервов нет, а корпус «Ф» пригодится нам в… Донбассе! Спасибо, что напомнили; я распоряжусь, чтобы из Греции корпус переводили на Украину, чтобы укрепить шестую армию Рейхенау
Естественно, помянув Рейхенау, они говорили о шестой армии, и генерал Фромм сообщил о слухах в Берлине:
— Говорят, Рейхенау превратил ее в карательную.
Паулюс раскрыл папку, пересеченную по диагонали желтой полосой, извлек из нее приказ Рейхенау, чтобы Фромм прочитал: «Солдаты 6-й армии, вы должны вести борьбу против беспринципной банды убийц. Все партизаны в форме или в гражданской одежде должны быть публично повешены…» Фромм сказал, что под видом партизан Рейхенау теперь может казнить любого прохожего.
— Это очень опасный документ… для всех нас! — сказал он. — По-моему, каждый разумный генерал, получив такую бумажку, обязан как можно скорее ею подтереться, чтобы никто потом не пожелал подшивать этот приказ к обвинительному протоколу.
Паулюсу вдруг вспомнился разговор с Людвигом фон Боком о личной ответственности полководца. Но, желая спасти честь 6-й армии, он пытался хоть как-то оправдать и Рейхенау:
— По натуре это заядлый эксцентрик! Помню, во Франции он явился на банкет в костюме циркового жокея. Наконец, он выбирал и приглашал к танцу в офицерском казино самых толстых женщин, а танцевать с толстухами нам при Секре-Секте было строго запрещено, чтобы не вызывать насмешек…
Фромм сразу отверг неловкие и наивные оправдания:
— Об этом, Паулюс, вы можете рассказывать жене. Но попадись Рейхенау в лапы русским, они сразу отволокут его до ближайшей виселицы, и всегда в толпе тех же русских отыщется такой же забавный эксцентрик, желающий накинуть петлю на шею…
Паулюс помрачнел. Уходя, Фромм спросил:
— Рейхенау-то еще в почете у фюрера?
— Да, как и его шестая армия. А как Франц Гальдер… удержится? Не знаю. Гальдера в ставке фюрера недолюбливают. Традиция обязывает, чтобы начальником генштаба был обязательно пруссак, а Гальдер имел несчастье литься в Баварии.
— Удержитесь хоть вы, Паулюс… Я пошел!
В эти зимние дни (на самом срезе двух переломных годов) Паулюс убедился в непорядочности Гальдера, который частенько подтрунивал над Гитлером, хотя нацистский режим считал для немцев даже «целебным». После катастрофы вермахта под Москвой он уже не рисовал стрел, нацеленных на Бейрут и Калькутту, которые пронзали Кавказ и Персию, — Гальдера, кажется, стала более заботить сохранность своей упитанной шеи. Теперь — с удалением Браухича из ОКХ — он при каждом удобном случае не забывал лягнуть его в присутствии фюрера:
— Если бы мы не пошли на поводу у этого честолюбца Браухича, все было бы иначе: мы бы уже качали нефть в Майкопе, нам бы не пришлось цепляться за сугробы под Демянском.
Гитлер почти с ненавистью разглядывал большие хрящеватые уши Гальдера, ярко-красные от прилива крови; фюрер уже привык к лести, но на такую грубую лесть он не улавливался:
— Вы оба с Браухичем бюрократы, а разница меж вами та, что Браухич без очков, а вы без очков ничего не видите. Вам бы, Гальдер, где-нибудь торговать двухспальными кроватями для молодоженов в глухой баварской провинции, а вы допущены мною в большую стратегию…
Уши Гальдера стали совсем алыми, и, наверное, он припомнил атташе Кёстринга, назвавшего генштаб «конторою по скупке старой мебели у бедного населения».
В подземных бункерах «Вольфшанце» гудела электростанция, от калориферов исходило приятное тепло.
В белокафельной ванной благоухало озоном и даже фиалками. Паулюс и Гальдер вышли из душевых кабин одновременно.
— Как вы могли стерпеть подобное обращение?
— Но я же не Ричард Львиное Сердце! — отвечал Гальдер. — И я не могу при каждом случае выхватывать меч, чтобы разрубать обидчика от макушки до копчика… Вы не надейтесь, Паулюс, отсидеться за бастионом своей безупречной респектабельности. Придет время, и вас тоже поволокут кастрировать, как блудливого и жирного кота. И как бы вы ни визжали, фюрер все равно сделает из вас своего паиньку…
Паулюс решил отмолчаться, держа руки по швам я его пальцы чуть подрагивали, касаясь малиновых кантов генеральштеблера.
Побывав дома, он известил свою дражайшую Коко:
— Фюрер у нас взбесился — всем генералам устроил разгон. Правда, его гнев еще не коснулся Рейхенау. Но сколько лучших умов потеряли за эти дни вермахт и генштаб… Правда, ко мне он по-прежнему внимателен и даже подчеркнуто вежлив, зато другим коллегам достается от него как никогда.
Елена-Констанция заговорила совсем о другом — о трудной беременности дочери, о консультации у лучших гинекологов Берлина, рассказывала, что ее беспокоило:
— Я родила сразу двойню, а теперь думаю: не наследственное ли это, и не станет ли Ольга, как и я, рожать близнецов?
Горничная, как всегда, уже подносила яичный ликер.
— Благодарю. — Паулюс оставался со всеми вежлив…
Ночью он долго не мог уснуть, и жена сказала ему:
— Ты приучил себя к первитину… о чем ты вздыхаешь?
— Мне сейчас вспомнилась одна строчка. Кажется, из Гейне: «Я лишаюсь сна, когда по ночам думаю о любимой Германии»!
7. Доказать на деле
Жуков стал членом Ставки Верховного Главнокомандования в самые тяжкие для страны дни, народ уже знал его, верил ему. За время войны поредели волосы, черты лица замкнулись в суровости. Говорил резко, точно, без сантиментов. Его боялись враги, но побаивались и свои, когда он выезжал на фронты, чтобы навести порядок железной дланью, за которой ощущалась сила поддержки самого Верховного (как тогда для кратости именовали Сталина). Среди командиров сложилось такое присловье — вроде окопного анекдота: «Если Жуков приедет злой, — всем врежет по первое число, а уедет веселым. А коли навестит добрым — обязательно всем по шеям накостыляет и уедет от нас злее черта…»
Георгий Константинович и с рядовыми не бывал приторно-ласков, в солдатские котелки не лез со своей ложкой, подражая «отцам-командирам», ищущим дешевой популярности. Нет. В беседах с солдатами говорил редко, да метко, больше спрашивая людей своего возраста — откуда сам, что думает, где семья, каковы боевые пути-дороги, бывал ли в окружении.
— Я из четырех котлов выгребся, — похвастал «старик».
— Ну и как? Штаны прохудил, небось?
— Первый раз прохудил. А потом-то и пообвыкся. В окружении не смерть страшна, а непонятность — что где творится? В котлах живешь партизаном. Только партизан в своем лесу и остается, а тебе из леса к своим надо выбраться.
В окопных разговорах люди бывали искренни. Один отступал от самого Львова, второй подбил три танка, а четвертый…
— Почему орденов и медалей не вижу? — спрашивал Жуков.
Вопрос каверзный. Солдаты мялись:
— Да кто ж их там, в штабах, знает! Сколько уж раз представляли. Обнадеживали всяко. А как до верху дойдет, там сразу — бац, и даже медальки от них не дождешься.
— Стыдно! — ругался Жуков в штабах. — Сколько по тылам сидят, до пупа обвешались, словно иконостасы, а на солдата бумаг выправить не могут. С чем он с войны вернется? С рассказами? Так в деревне-то не по байкам, а по орденам ценить станут…
Подобная же сцена однажды разыгралась и в Кремле.
Зимой, в самый разгар боев, Москву навестил Владислав Сикорский, глава польского эмигрантского правительства, и Сталин, готовясь к приему союзника, велел явиться при полном параде генералу Василевскому, как представителю Генштаба; Василевский явился, но его мундир был украшен одним скромным орденом Красной Звезды. Сталин выразил недовольство:
— А где же остальные? Почему не надели?
— Других, товарищ Сталин, у меня не имеется.
— Что за чертовщина! — возмутился Сталин. — Одни только болтают, а орденов у них до макушки, другие же работают, не щадя своих сил, и ничего не имеют Ладно. Разберемся!
Тема об орденах деликатная (до сей поры ищут стариков-героев, простых солдат, чтобы вручить им то, что заслужили еще в сорок первом, кровавом и лютейшем, и старики — под жужжание кинокамер — плачут как дети, не стыдясь слез, а мне понятны их слезы). Но читатель, в то время наша армия еще не бряцала берлинскими орденами, и миллионы безвестных уходили в небытие, не помышляя о наградах, а над их могилами не высятся гордые монументы славы — потому что и могил-то у них не было! Так и оставались лежать, глядя в плывущие над ними облака, чтобы раствориться навеки в русских лесах и полянах, в шелесте трав и цветов; они исчезли, не изведав посмертной славы, в голосах птиц, устроивших им посмертное отпевание.
* * *
Конечно, в нашем Генштабе знали, что Гитлер устроил в вермахте «генеральную чистку», удалив в отставку сразу 35 генералов, а сам взял на себя командование сухопутными войсками; наверное, до нашей разведки дошли и слова фюрера, сказанные им в этот момент:
— Катастрофа двенадцатого года с Наполеоном со мною не повторится, ибо я все продумал заранее…
После битвы под Москвой, после ударов у Тихвина и Ростова, когда всем стало ясно, что перелом в войне обозначился, Сталин вдруг снова возгордился, в глубине души, очевидно, уже примеривая к себе чин великого полководца. Перед всем народом он заявил, что 1942 год станет годом окончательного разгрома гитлеровской армии, но оспаривать эти иллюзии никто не осмелился.
— Гитлеру уже никогда не оправиться, — утверждал он, — и перед нами откроется прямая дорога на Берлин…
5 января в Ставке Верховного Главнокомандования было созвано ответственное совещание. Выслушав доклад Шапошникова о положении на фронтах, Сталин сказал:
— Немцы никак не были готовы воевать с нами зимой, а сейчас их командование в растерянности после сражения под Москвой, и настал выгодный момент для общего наступления Красной Армии.
Общего? — Вот в это не слишком-то верилось.
План был составлен заранее: отогнать захватчиков как можно далее от Москвы, деблокировать Ленинград, пока, умиравший от голода и обстрелов, на юго-западном направлении, которым командовал маршал С. К. Тимошенко, следовало освободить Харьков и весь промышленный район Донбасса. Тимошенко из Воронежа, где располагался штаб его фронта, горячо заверял Ставку, что у него все продумано, и Сталин верил в заверения маршала.
— Товарищ Тимошенко, — говорил он, — обязуется прижать группу Клейста к берегам Азовского моря и сбросить ее в воду — вместе со всеми его танками…
Жуков был согласен с тем, что наступление в центре фронтов следует продолжать, чтобы избавить столицу от угрозы, «но, — вспоминал он позже об этом совещании, — для успешного исхода дела необходимо пополнить войска личным составом, боевой техникой… Что касается наступления наших войск под Ленинградом и на юго-западном направлении, то там наши войска стоят перед серьезной обороной противника».
— Они, — доказывал Жуков, — не смогут прорвать оборону, сами измотаются и понесут большие, ничем не оправданные потери… Враг еще не сломлен, до коренного поворота в войне нам еще далеко, а положение на фронтах неустойчивое…
Такая осторожная точка зрения никак не устраивала Сталина, это было видно по его поведению, и, кажется, присутствующие поглядывали на вождя, Жукова поддерживать не станут. За годы непомерного раздувания авторитета Сталина был выработан негласный, но непреложный принцип: «там, наверху, лучше нас знают». Но теперь он подменялся принципом новой чеканки: «на месте виднее», и Сталин решил вдруг перестроиться, откровенно примкнув к этому принципу.
— Нам, — вдруг заявил он, — совсем нет смысла не доверять товарищу Тимошенко и членам военного совета его юго-западного направления. Товарищ Тимошенко как раз за то, чтобы наступать! Надо, — подчеркнул он, — как можно скорее перемалывать немцев, что они не смогли наступать весной. Мы, — настаивал он, — заставим врага израсходовать свои резервы до весны и обеспечим полный разгром гитлеровцев летом этого года.
Ссылка вождя на тот принцип, что «на месте виднее», его глубокая вера в таланты маршала Тимошенко заставили Жукова не возражать, а после совещания Шапошников сказал ему:
— Голубчик, вы, пожалуй, напрасно тут спорили, ибо вопрос о ближайшем прорыве к Харькову одобрен вождем заранее…
Георгий Константинович вспылил:
— Тогда зачем же спрашивали мое мнение?
— Не знаю, не знаю, голубчик! — сказал Борис Михайлович и тяжело вздохнул…
Через пять дней после этого совещания Ставка обратилась к командованию с особой директивой, отмечая просчеты и недостатки в наступлении под Москвой, — и, таким образом, критический отзыв Шапошникова, который охладил боевой задор генерала П. И. Батова, оправдывался строгим тоном самой директивы, которая признавала, что удар под Москвой мог бы оказаться сильнее и намного решительнее. Порочная полевая тактика с ее «индивидуальными ячейками», удобными для кротов, была уже отвергнута. Директива, наоборот, призывала командиров уплотнять боевые порядки, не боясь даже разрывов по фронту. От командующих Ставка требовала не растянутости армий, а, напротив, создания мощных пробивных группировок… Все это, конечно, хорошо!
20 января разведка Генштаба доложила в Ставку, что из двухмесячного отпуска по болезни на русском фронте снова появился генерал-полковник барон Максимилиан Вейхс, которого во время отдыха в Германии не коснулась опала Гитлера.
— Вейхс… что за птица? — спросил Сталин.
— Вейхс командует второй армией, ранее подчиненной группе «Юг» фельдмаршала Вальтера Рейхенау. Ничем не примечательный генерал, каких у Гитлера много. Если уж кого и бояться на юге, так это Клейста с его мошной танковой группировкой.
— Хорошо… — буду бояться, — хмыкнул Сталин шутливо.
— Еще одна короткая информация, которая вас, товарищ Сталин, может быть, и заинтересует: в командовании шестой армии вступает генерал-лейтенант Фридрих-Вильгельм Паулюс.
— А это еще кто такой? — удивился Сталин…
После войны германские генералы всю вину за свои поражения сваливали на Гитлера, якобы он, жалкий профан, вторгся в их непорочную стратегию, словно бегемот в антикварную лавку. На самом же деле — признаем за истину! — немецкие генералы редко бывали послушными марионетками. Не раз, поплевывая сверху вниз на личные распоряжения фюрера, они доказывали противникам свое превосходство в тактике, свою железную волю к победе, твердую решимость держаться даже в критических ситуациях. У них была своя голова на плечах, свои амбиции и свои убеждения — и потому нельзя сваливать все просчеты вермахта на одного лишь фюрера. Гитлер, кстати, тоже не был бесноватым придурком.
Манштейн писал о нем объективно:
«Как военного руководителя Гитлера нельзя, конечно, сбрасывать со счетов с помощью излюбленного выражения „ефрейтор первой мировой войны“.
Но за всю критику, которую Гитлер обрушил на своих генералов, они и рассчитались с ним, наведя на него свою критику — после войны!
— Так кто же этот Паулюс? — переспросил Сталин.
Москва еще не знала, что судьба Рейхенау решена.
* * *
«Чистка» была продлена Гитлером до самого апреля.
Старый фельдмаршал фон Лееб, будучи не в силах покорить Ленинград, не стал ждать пинка от фюрера, и сам запросил отставки. Гитлер метался в поисках выхода. В январе он распорядился, чтобы технический контроль на военных заводах не придирался к качеству:
— Нам сейчас не до полировки брони, была бы броня… В декабре, — продолжал он, — силы вермахта и корабли флота высосали из меня все нормы горючего уже за январь и февраль нового года. Значит, на одной нефти Плоешти мы далеко не ускачем. Нам срочно необходима вся нефть Кавказа! Наконец, моссульская нефть Ирака по качеству не уступает бакинской…
В неудачах под Москвой он обвинял немецкий народ. «Если представить, — записывали стенографистки, — что Фридриху Великому противостояли силы в двенадцать раз больше, то мы должны назвать себя не иначе как… дерьмо!» Сейчас ему как никогда хотелось нападения Японии на СССР. Хироси Осима, токийский посол в Берлине, выслушал от Гитлера целую речь:
— Инициатива снова будет в наших руках… летом ! Как только установится хорошая погода, мы возобновим наступление на Кавказ, и это направление я буду считать главнейшим. Перевалив через Кавказский хребет, мы выйдем к нефтяным источникам Азербайджана, Месопотамии и всего Персидского залива. Москва и Петербург будут уничтожены. Ждите от меня лета …
В семье Паулюсов появилась какая-то нервозность. Елена-Констанция говорила, что ее гнетут предчувствия чего-то неотвратимого, но сам Паулюс, внешне оставаясь спокойным, приписывал волнения жены только сложной беременности дочери. Между тем его зять барон Альфред Кутченбах часто спрашивал — не исчерпал ли вермахт свои возможности?
— Нет, — отвечал Паулюс. — Однако Риббентроп уже пытался уговорить фюрера, чтобы тот предложил мир Советам, но фюрер сказал, что об этом надо было думать в июле сорок первого, а не сейчас — с забинтованной мордой… Я полагаю, — рассуждал Паулюс, — что, объявив Америке войну, фюрер попросту издал вопль о помощи: лучше придите вы, пока не явились русские.
— Это немыслимо! — удивился зять.
— Немыслимо, но вполне вероятно, если учитывать, что наш фюрер в политике трафаретами не мыслит…
Дизельным «Нибелунгом» он вместе с Гальдером отбыл в Пруссию, приехал в «Вольфшанце» утром, когда Гитлер еще спал, и потому Гальдер предложил Паулюсу подышать свежим воздухом. На тихой лесной тропинке они долго наблюдали за прыжками белок.
— Читали последние метеосводки? — спросил Гальдер. — На юге России очень сильные морозы, а синоптики пророчат дальнейшее понижение температуры.
Гальдер вдруг заговорил, что силы русских, кажется, превышают силы вермахта.
— И не лучше ли нам сразу сковать фронты обороной? До весны.
— Вы будете говорить об этом с фюрером?
— Даже не заикнусь. Но этот вопрос я обсуждал с Хойзингером. У него несколько иная точка зрения, отличная от моей.
Паулюс поднял воротник, зябко сунул руки в карманы.
— Догадываюсь, — сказал он. — Наша оборона даст передышку русским, а за это время усилится роль Америки. У нас нет иного выхода, как только перейти в мощное наступление, чтобы уничтожить Красную Армию прежде, чем англосаксы начнут высадку на европейском континенте…
Гальдер повернул обратно. Долго шли молча.
— Неприятное известие, Паулюс, — вдруг сказал Гальдер. — Эрих Гёпнер откатил свои «ролики» назад, сдав свои позиции русским, и тем самым нарушил строгий приказ Гитлера.
— Может, он отошел с согласия фон Клюге?
— Клюге не одобрил его ретирады.
При входе на территорию «Вольфшанце» они оба — и Гальдер, и Паулюс — предъявили охране желтые пропуска.
— Но Гёпнер это еще полбеды, — продолжил Гальдер — а вот что сделает фюрер Рейхенау?
Паулюс всегда беспокоился за 6-ю армию:
— Что же там случилось… на юге?
— Рейхенау тоже отвел армию. Тимошенко доказал этому бравому «эксцентрику», что у него сила побольше, нежели мы считали. Теперь Рейхенау хлопочет о дальнейшем отходе.
— Не похоже на Рейхенау. Не похоже на шестую армию.
— Сейчас у нас все не похоже, — ответил Гальдер…
Гитлер проснулся к трем часам дня. Кейтель предупредил Паулюса, что фюрер настроен нервно, его месть по отношению к Гёпнеру и Рейхенау может оказаться жестокой. Гёпнер уже вызван в ставку, чтобы получить «по мозгам», а в Полтаву послан выговор в такой резкой форме, что Рейхенау служить далее не пожелает. После доклада Франца Гальдера Паулюс все-таки рискнул вступиться за Рейхенау, тактически пытаясь реабилитировать отведение 6-й армии с ее позиций. При этом он неосторожно признал, что большая стратегия всегда останется верной наложницей большой политики. Но, поминая политику, Паулюс забирался в чужой огород, где хозяйствовал один Гитлер.
— Паулюс! — обозлился фюрер. — Если вы считаете, что я неправильно руковожу войной, то вам место не здесь, а там, где вы можете на деле доказать правоту своих обобщений. Советую вам не вмешиваться в мои распоряжения! Иначе вы все окажетесь скоро в роли дворняжки, которая получила пинка под хвост, когда ей вздумалось заглянуть в мясную лавку…
«Что это значит?» — недоумевал Паулюс, готовя себя к самому худшему. Когда он вернулся в Берлин Елена-Констанция сразу заметила его подавленность!
— Фриди, у тебя опять дергается левая щека.
— Да, знаю. Смена караула продолжается, — сказал он жене. — В этой гробнице «Вольфшанце» сейчас сортируют свои неудачи с усердием, с каким монахи перебирают свои четки… Как Ольга?
— Ожидаем роды где-то в первых числах апреля.
Перед женой он не скрывал своих опасений, сказав Коко, что фюрер сейчас настроен очень решительно и ждет весны.
— Не думаю, чтобы Гёпнер и Рейхенау угодили под расстрел, но суд трибунала возможен. Жаль, если их ждет отставка. Я переживаю за шестую армию: ведь это моя армия. Уму непостижимо, сколько миль я накрутил с нею по Европе!
— Значит, — догадалась Коко, — среди генералов опять возникнут перемещения, и я… боюсь.
— Коко, о чем ты?
— Где сейчас Рейхенау? — спросила жена.
— Он сам и его штаб пока что в Полтаве…
Вот именно события в Полтаве и развернули судьбу Паулюса совсем в иную сторону — вместе с его 6-й армией!
15 января 1942 года в Полтаве было очень морозно.
После спортивной пробежки Рейхенау явился к обеду в офицерское казино. Его сопровождал полковник Фердинанд Гейм, начальник штаба его армии. Офицеры заметили, что их командующий, бодрый весельчак с раскатистым хохотом, сегодня едва волочит ноги.
— Доктор Фладе вернулся из Дрездена? — спросил он.
— Задерживается, — ответил Гейм.
— Хорошо бы, — вдруг сказал Рейхенау, — вызвать из Лейпцига профессора Хохрейна, нашего домашнего врача.
Возникло молчание. Офицеры в казино шепотом говорили, что Рейхенау плохо переживает выговор от фюрера и… опалу.
— У меня, — сказал Гейм, — есть бумаги, требующие вашей апробации, но если вы чувствуете себя неважно, то…
— Ничего. Давайте. Я подпишу.
Рейхенау подписал приказы, с трудом поднялся из-за стола. Все услышали его слабый стон. В вестибюле казино денщик уже держал наготове шинель фельдмаршала. Рейхенау просунул в рукав одну лишь руку и… упал, потеряв сознание. Был установлен «паралич с поражением центральной нервной системы», о чем немедленно была оповещена ставка Гитлера.
Хойзингер сразу же известил об этом и Паулюса:
— Кровоизлияние в мозг… Вот во что обходятся нам выговоры от фюрера! Положение идиотское: фельдмаршал Рейхенау не только командующий шестой армии, но под его жезлом и вся наша группа «Юг», где заметно оживились войска маршала Тимошенко… Впрочем, — сообщил Хойзингер, — наш фюрер не помнит зла: он выслал в Полтаву из Лейпцига профессора Хохрейна, а из Дрездена вылетает доктор Фладе. Желательно ваше возвращение в ставку.
Паулюс срочно вылетел в «Вольфшанце», на аэродроме в Летцене его поджидал Рудольф Шмундт, адъютант фюрера
— Поздравляю, — сказал он Паулюсу, — шестая армия нуждается в новом командующем, и фюрер вспомнил вас. Едем!
Как выяснилось позже, Йодль возражал Гитлеру:
— Паулюс отличный генеральштеблер, но какой же он полководец? Ни разу не командовал ни полком, ни дивизией, ни корпусом. Доверять ему целую армию, тем более такую прославленную, как шестая, лучшую в нашем вермахте, это… даже опасно.
Гитлер соглашался, что Паулюс только теоретик:
— Кто там сейчас начальником штаба? Ах, этот Гейм ? Согласен, не та фигура, чтобы подпирать Паулюса… Я дам ему в начальники штаба генерала Артура Шмидта.
На это Кейтель возразил Гитлеру, что если Паулюс только теоретик, то Шмидт лишь фронтовой практик, не имеющий высшего военного образования. Сочетать этих людей под единым штандартом слишком рискованно, а Йодль добавил:
— Помимо всего Шмидт обладает каверзным характером.
Но Артур Шмидт был заматерелым нацистом, что явно импонировало фюреру, и он сразу отмел всяческие сомнения:
— Пусть Паулюс поработает с Геймом, а потом со Шмидтом, и думаю, они станут образцовой «супружеской» парой, своими личными достоинствами устраняя общие недостатки.
Все эти пересуды происходили за спиной Паулюса, и он понял все, когда сразу был проведен к Гитлеру.
— Паулюс! — крикнул фюрер. — Вы получите армию, с которой можно штурмовать даже небо… В своем плане «Барбаросса» вы сами наметили эту линию до Астрахани на Волге, которая осталась для нас пока недостижимой. Я всегда высоко оценивал ваши мыслительные способности, но теперь вы обязаны доказать на деле, что шестая армия выйдет к Сталинграду, и тем самым будет перекрыта главная артерия, через которую Сталин перекачивает с Кавказа гигантские массы горючего для своих армий…
Паулюс вскинул руку в нацистском приветствии:
— Служу великой Германии! Хайль Гитлер!
Паулюс простился с бункерами «Вольфшанце», когда на пороге ему вдруг встретился танковый генерал Эрих Гёпнер, уже ободранный и небритый, с обмороженным носом. Он криво усмехнулся:
— Преимущества нашей службы неожиданно выявляются лишь в самом конце нашей злокачественной карьеры. Не так ли?
— Так! Но как вы осмелились оставить позиции?
Разжалованного Гёпнера одолевал грипп. По воротнику из черного бархата медленно сползала жирная фронтовая вошь.
— Не зарекайтесь, Паулюс, — с вызовом отвечал он. — Пробьет и ваш час, когда вы окажетесь в моем положении. Фельдмаршал фон Бок был прав: война на Востоке — это безумие, и вы еще не знаете, что вас ожидает в этой страшной России.
— Меня ожидает героическая шестая армия!
Эрих Гёпнер громко высморкался.
— Ах, к чему этот пафос? Вы, может, и уцелеете, но за вашу шестую армию я бы теперь не поставил и кружки пива…
8. Шестая армия
Коко сразу опустилась в кресло, как-то поникла.
— Откажись! — сказала она. — Ты всегда можешь сослаться на рецидивы дизентерии, на свой нервный тик. Наконец, подумай обо мне, подумай о нашей беременной дочери. О Боже! — разрыдалась жена. — Недаром меня томили дурные предчувствия…
Паулюс ответил, что нет смысла отказываться от армии, ибо в кабинетах Цоссена, как и в бункерах «Вольфшанце» сложилась нездоровая обстановка.
— Сейчас я занимаю в вермахте тот промежуточный уровень, когда возможен скачок наверх, но, даже возвышаясь, я должен буду еще глубже погружаться в болото разногласий, криводушия и угодничества. Лучше уж страдать на фронте, чем потерять честь в этой удушливой атмосфере.
— Глупец! — вспылила Коко. — Хотела бы я видеть, как ты будешь метаться по окопам в поисках личного туалета, испортив свои штаны с лампасами…
В какой-то момент Паулюсу показалось, что Коко права, и ему стало жаль отрываться от привычной кабинетной работы. Тем более что Гальдер и не подумал поздравить его.
— Доигрались, — сказал он с непонятной усмешкой…
Паулюс решил не форсировать события, благо Рейхенау не только забулдыга, но еще и хороший спортсмен, он может поправиться и снова возглавит армию. Цоссен поддерживал связь с Полтавой, и 17 января профессор Хохрейн известил Паулюса по телефону, что в здоровье Рейхенау наметилось улучшение:
— Самолет уже подан на стартовую площадку. Я доставлю фельдмаршала в свою лейпцигскую клинику, и. скоро мы снова увидим Вальтера бодряком… Не волнуйтесь, — сказал Хохрейн, — мы с Фладе пристегнем его к креслу ремнями, чтобы не выпал при взлете и посадке. Ждите моего извещения из Лейпцига.
— Да, — размышлял Паулюс, — лучше остаться в Цоссене, только бы выжил Рейхенау…
Но вскоре последовал звонок из Лемберга (Львова),
— Докладываю! — сообщил чужой голос. Самолет с Рейхенау садился у нас на дозаправку. Пилот не рассчитал дистанцию и врезался прямо в ангар. Хохрейн уцелел, а Фладе покалечился.
— Что с фельдмаршалом? — закричал в трубку Паулюс.
— Рейхенау оторвало голову, сейчас ее приделывают ему на прежнее место, чтобы хоронить со всеми почестями…
Паулюс опустил трубку телефона, сказал Гальдеру.
— Какое дурное предзнаменование для шестой армии!
— Тем более, — съязвил Гальдер, — для вас …
18 января 1942 года (именно в тот день, когда войска маршала Тимошенко перешли в наступление на реке Северный Донец) генерал-лейтенант танковых войск Фридрих-Вильгельм Паулюс был официально объявлен командующим 6-й армии, состоявшей в подчинении группы армий «Юг». Эта армия имела славу «покорительницы столиц», она первой ворвалась в Брюссель, парадным маршем прочеканила по бульварам Парижа, заслужив всеобщую ненависть людей — от тихих местечек Фландрии до уютных хуторов Украины. Пришло время прощаться…
Ольга под широким платьем скрывала высоко вздернутый живот, а зять Паулюса нервно моргал глазами.
— Вы не думайте, барон, — сказал ему Паулюс, — что останетесь без дела: мы вместе вылетаем в Полтаву.
Зондерфюрер войск СС отделался кратким «яволь», но совсем иначе восприняла это Ольга, сразу заплакавшая;
— Папа, не делай меня вдовой, а своих внуков сиротами.
— Не надо плакать, — отвечал Паулюс дочери. — Зондерфюрер лишь жалкий капитан, твоему Альфреду надо делать карьеру.
— Но я же знаю, что такое война в России. В газетах не пишут, что оттуда день и ночь идут эшелоны с калеками и мертвецами. У меня с Альфредом такая чудесная жизнь, мы так любим друг друга… Папа, не забирай его в Полтаву!
Отец пожелал Ольге легкого разрешения от бремени;
— Верь, деточка, я обязательно вырвусь с фронта, чтобы присутствовать на крестинах твоего или твоих младенцев…
Был очень холодный, ветреный день, когда семья Паулюса и берлинские знакомые провожали его на аэродром. Генерал-лейтенант с зятем — зондерфюрером СС в самолете успокоились от слез женщин и бранных пожеланий мужчин. Моторы транспортного «юнкерса» разом взревели, набирая мощь. На разбеге по взлетной полосе пассажиров долго трясло в узких сиденьях, потом к фюзеляжу мягко пришлепнулись катки колес, и Паулюс сразу ощутил безмятежную легкость полета.
— Теперь и отдохнем, — сказал он, закрывая глаза.
Радист самолета сразу принял из эфира телеграмму от доктора Геббельса, который желал Паулюсу боевых успехов, обещая, что министерство пропаганды не обойдет 6-ю армию своим особым вниманием. Из потемок гитлеровских бункеров Паулюс выбрался на свет Божий, чтобы обрести публичное имя в истории!
* * *
Кейтель утверждал, что война ведется не против России, а с еврейско-большевистским мировоззрением. Но в этом случае нацисты не должны были трогать наших храмов и музеев, наших парков и наших памятников. Когда проспект Сталина оккупанты переименовали в Садовую улицу, а площади Ленина возвращали старое название Театральная, то это еще как-то можно объяснить. Однако никакие идейные соображения не подходили под звериные приказы покойного Рейхенау, который запрещал в городах России даже тушить пожары. «Исторические или художественные ценности на Востоке, — писал этот варвар, — не имеют для нас значения». Если верить Рейхенау, то ценности имеют значение только на Западе, а мы, русские, обладающие тысячелетней культурой, только пахали и сеяли… Именно об этом и возник в самолете острый разговор между Паулюсом и его попутчиком — капитаном Борисом фон Нейдгардтом, который очень резко отзывался о палаческой практике в рядах 6-й армии. По красной окантовке формы Паулюс признал в нем артиллериста.
— Вы, капитан, из какой армии?
Нейдгардт ответил, что из 6-й.
— А вас не пугает то обстоятельство, что вы летите в одном самолете с новым командующим именно этой армии?
— Это никак не изменит моих взглядов. Мы можем вешать или целовать русских в задницу — все равно мы останемся для них только разрушителями той жизни, которая их вполне устраивала.
Паулюса смущал странный диалект его языка:
— Не пойму. Вы, наверное, баварец? Или, может пруссак?
— Нет, я… петербуржец. Сын последнего калужского губернатора. А если копнуть глубже, то я племянник премьера Столыпина и министра иностранных дел Извольского. Теперь, как видите, я офицер непобедимого германского вермахта.
Паулюс всегда испытывал слабость к аристократии и, глянув на дремлющего в кресле Кутченбаха, он сказал:
— Напрасно я тащу своего захудалого барона! Вы капитан, могли бы служить при моем штабе отличным переводчиком.
— Благодарю, — отвечал Нейдгардт. — Но я желал бы остаться при своих зенитных батареях калибра «восемь-восемь»…
(С этого момента и до самого конца Сталинградской эпопеи барон Нейдгардт избегал общения с Паулюсом. Он появится лишь в самом конце — уже в подвалах универмага на площади Павших Борцов, чтобы поиздеваться над высшим командованием, но об этом я расскажу позже.) Юнкерс уже пошел на посадку, под его фюзеляжем быстро-быстро мелькали крыши уютной Полтавы, утопавшей в глубоких снегах.
— Алло; алло, алло! — разбудил Паулюс своего зятя…
Его встречали начальник штаба Фердинанд Гейм и адъютант Вильгельм Адам. Гейм сразу же доложил, что с 13 января — вот уже второй день подряд! — русская армия маршала Тимошенко проламывает оборону на путях к Харькову;
— Акцентировано их стремление на Барвенково.
Гладко выбритое лицо Паулюса отражало сияние морозного дня, все отметили его рост в 190 сантиметров , его телесную худобу, узкие губы и нос с благородной горбинкой. Тонкая рука Паулюса освободилась от перчатки, протянутая Гейму:
— Благодарю, Гейм, о прорыве на Барвенково я извещен еще в Цоссене.
Затем Паулюс отвел ладонь Адама от козырька фуражки.
— Не будем официальны. Судя по выговору, вы гессенец?
— Так точно, уроженец Гессена.
— Значит, земляк. Мы, надеюсь, поладим…
Штабной «хорьх» катил по заснеженным улицам Полтавы, и Паулюс был невольно удивлен великолепием классических зданий, обилием памятников старины, красотой старинных барских и купеческих особняков. Помня о «наполеономании» множества генералов вермахта, он шутливо обратился к полковнику Гейму:
— Кажется, здесь Наполеон не ночевал, не закусывал и не заводил скороспелых шашней с полтавскими ламами. Так что мне в этом городе никакие исторические аналогии не угрожают.
Фердинанд Гейм оказался совсем лишенным чувства юмора.
— Да, — отвечал он, — зато здесь бывал шведский король Карл XII, и Полтава перегружена памятниками в честь той самой битвы, которая отбросила короля к Бендерам.
— Любопытно их осмотреть, — сказал Паулюс…
Они прибыли в штаб-квартиру, занимавшую здание какого-то техникума. Начальником офицерского казино в Полтаве оказался старый приятель Паулюса — капитан Бернгард Дормейер, который с готовностью официанта уже держал обеденное меню.
— С чего начнем? — спросил он весело.
— С картофельных оладий, — сказал Паулюс.
— И только? Мы же богатые люди.
— Богатые? Тогда с луковой подливкой…
Квартирмейстер фон Кутновски предъявил сводку о состоянии 6-й армии. Она выглядела весьма утешительно. В составе армии числились одиннадцать пехотных дивизий. 213-я охранная, танковую группу Паулюса составляли сразу пять мощных панцер-дивизий, а также моторизованные (в том числе и отборные дивизии СС — «Викинг» и «Адольф Гитлер»).
— Замечательно, Кутновски, — сказал Паулюс. — Скоро следует ожидать еще и маршевых пополнений из Франции.
— Ах, «парижане»! Они там избаловались в Европе и, попадая на русский фронт, сразу скисают…
В оперативном отделе штаба уже были развернуты карты, оперативники кратко и четко ввели Паулюса в обстановку на фронте, заодно утешив его тем, что места прорыва русскими войсками сразу же заполняются из резерва:
— Количество дивизий у маршала Тимошенко не должно настораживать, — докладывали они, ибо русских дивизиях едва наберется пять-шесть тысяч человек, бывает и намного меньше, тогда как полнокровная германская дивизия насчитывает до пятнадцати тысяч солдат.
— Благодарю. Я доволен, — отвечал Паулюс.
В казино он напомнил Кутченбаху о соблюдении должной субординации:
— Хоть вы и зять мне, но обедать впредь станете от меня отдельно.
— Ладно , — по-русски отозвался зондерфюрер…
Подле Паулюса обедал генерал-майор Мартин Латтман, командир 389-й пехотной дивизии, и Паулюс дружески ему улыбнулся…
— Мы с вами уже встречались. Помните, это было в доме фельдмаршала Эрвина Витцлебена… вы не забыли?
— Да, в лучшие времена, господин генерал-лейтенант. Я тогда закрывал телефон подушкой, чтобы гестапо нас не подслушало.
— Значит, времена не были лучшими, Латтман.
— Они стали еще хуже, — кивнул Латтман. — Хотя здесь, в условиях фронта, мы говорим более откровенно, нежели в тылу.
— Как тут дела с партизанами? — спросил Паулюс.
Морозы на Украине держались сильные, и Латтман сказал, что только теперь в армию стали поступать каталитные печи для разогрева моторов, в радиаторы стали заливать глизантин — незамерзающую жидкость. А партизаны бросают в бензобаки немецких машин кусочек сахару, и этого бывает вполне достаточно, чтобы в пути машина остановилась «по неизвестным причинам» — никаких следов диверсии не остается.
— Советы, — заключил Латтман, — сдали нам свою территорию только в тактическом плане, оставляя ее в сфере своего прежнего политического влияния, доверяя власть партизанам…
Командиры дивизий были заняты делами на фронте. В Полтаве Паулюсу представились лишь командиры корпусов. Он объявил генералам, чтобы впредь борьба с партизанами не превращалась в репрессии над мирным населением:
— Мой предшественник Рейхенау слишком категорично разумел правовые нормы своего поведения. При мне этого не будет. Статья сорок седьмая военного кодекса от 1872 года сохранила свой смысл и в новых условиях: выполнение преступного приказа уже само по себе является преступлением.
Его пожелал видеть генерал-полковник Вальтер Хейтц, командир 8-го армейского корпуса («выступающая нижняя челюсть, — описывал этого человека — придавала его узкому лицу какое-то жестокоевыражение»).
Хейтц был взбешен.
— Не понимаю! — заявил он. — Приказ Рейхенау одобрен лично фюрером, который повелел разослать его в копиях по всем частям вермахта как общее руководство к действию в условиях Восточного фронта. Отвергая этот приказ Рейхенау, — сказал Хейтц, — вы… вы впадаете в опасную крайность.
— Приказ Рейхенау в силе, — тихо добавил Гейм.
Пришло время проверки совести Паулюса. Он сказал, что в Семилетнюю войну генерал фон Мартвиц отказался исполнить звериный приказ короля Фридриха Великого, и на могиле Марвитца в святости сохранилась надпись: «Избрал немилость там, где повиновение не приносило ему чести».
— Может быть, — сказал Паулюс Хейтцу, — приказ Рейхенау останется руководством для всего вермахта, но только не для шестой армии. О том же, что творится вне сферы действия моей армии, я знать не знаю. Это меня не касается… Впредь, — распорядился он. — вешать так называемых партизан ЗАПРЕЩАЮ!
Ему было приятно, что вечером его навестил генерал Отто Корфес, благодаривший Паулюса за отмену приказа Рейхенау:
— Покойный любил убивать людей, веселясь, когда они падали в ямы трупами, и такие казни у Рейхенау превращались в загородные пикники — «с очередной выпивкой…
Корфес был уже в летах. Рано облысевший (только над ушами еще росли волосы), он имел крупный нос и крепкий подбородок, выдававший в нем волевого человека. (Тогда ему, генералу вермахта, не дано было знать, что со временем он станет видным историком, а его труды будут печататься в московской прессе. Паулюс, испытывая симпатию к Корфесу, сказал, что немало удивлен жестокости Рейхенау и даже не понимает причин, которые вызвали появление этих бесчеловечных приказов.
— Не забывайте, — напомнил Корфес, — что великая германская литература начиналась с «Разбойников» Шиллера. Так уж сложилась наша история, что с первых Гогенцоллернов, осевших в Бранденбургской марке нас, германцев, приучали к насилию, воспитывая в немцах превосходство над другими народами. Даже когда у нас не было штанов, чтобы прикрыть свои задницу мы задирали нос перед всем миром. Но из прошлого «бедного Михеля», над которым потешался весь мир. Гитлер превратил нас в «проклятого Фрица», ставшего пугалом для человечества…
Паулюс был несколько шокирован такой откровенностью Отто Корфеса, который просил называть его не «генерал Корфес», а «доктор Корфес», чем намекал на свое научное звание.
— Стоит ли обострять этот вопрос, доктор Корфес? Германия всегда была вынуждена воевать со своими соседями.
— Отменив приказ Рейхенау, вы, господин генерал-лейтенант танковых войск, доказали, что являетесь умным человеком. Подумайте сами, кто из соседей собирался нападать на Германию после Версальского мира? Может, поляки? Чехи? Норвежцы? Французы? Или русские? Нет, — сказал Корфес, — мы сами взорвали бочку с порохом и теперь враждуем со всем миром…
Разговор становился опасен. Паулюс ответил, что закрывать подушкой свои телефоны не станет, ибо гестапо не боится:
— Но вы, доктор Корфес, назовите мне ту прекрасную и блаженную эпоху германской истории, в которой вы бы хотели жить.
Корфес задумался, опустив голову. Молчал.
— Ну? — торопил его Паулюс, посмеиваясь.
Отто Корфес поднял лицо. Оно было даже бледным.
— Я не знаю такой эпохи, и потому мне приходится жить в той, которая меня породила. Но если я не согласен с этой своей эпохой, значит, я должен ее перестроить.
— Нет, доктор Корфес! — строго отвечал Паулюс. — Если я завтра же пошлю вашу дивизию на Астрахань, вы ее для меня возьмете. Но переделать эпоху вам не удастся. Она такая, какая есть, и человек, живущий в своем времени, обязан подчиняться его требованиям, если он не дурак и желает выжить.
— Простите. Вы рассуждаете… реакционно.
— Вы второй, от которого я слышу эти слова.
— Кто же был первым? — спросил Корфес.
— Ваш коллега — генерал Мартин Латтман. Но он казал об этом намного раньше вас, еще до похода в Россию…
Их разговор прервало появление зятя Паулюса — зондерфюрера СС Альфреда Кутченбаха, в общем-то невредного парня:
— Извините, господа. Но сейчас в нашу дверь должны постучаться позывные из Лондона — позывные Би-Би-Си.
Как раз в этот день (20 января) выступал генерал де Голль, который сказал:
«В то время, когда мощь Германии и ее престиж поколеблены, солнце русской боевой славы восходит к зениту. Весь мир убеждается в том, что этот 175-миллионный народ достоин называться великим … Самые суровые испытания не поколебали его сплоченности. Французский народ восторженно приветствует успехи и рост сил русской нации. Ибо эти успехи приближают Францию к ее желанной цели — к свободе и отмщению».
— Хватит, барон, — сказал Паулюс зятю. — Выключите.
Корфес собрался уходить, жалуясь на мороз, и хвастливо похлопал себя по добротным и высоким валенкам до колен.
— Парадокс! — сказал он. — Наши химики научились заменять каучук искусственной «буной», а вот освоить выделку валенок из обычного войлока германская наука оказалась не способна…
Это верно. На улицах Полтавы Паулюс не раз видел солдат в эрзац-валенках, и это было ужасное зрелище: они таскали на своих ногах какие-то несуразно раздутые гамаши, плетенные из соломы, которая не спасала ноги от холода, а подошвы были сделаны из прессованного картона. Морозы усиливались, поджимая по утрам до 45 градусов. Немцы объявили в Харькове и Полтаве кампанию по сбору теплых вещей. Они ходили по домам и говорили, что теплые вещи нужны для русских военнопленных. Конечно, жители, чтобы помочь своим, все отдавали. Кто что мог. А потом свои же фуфайки и шерстяные шали они видели на немецких солдата. Из фетровых шляп немцы мастерили подшлемники для касок, чтобы они не студили им головы. Иногда обматывали головы женскими рейтузами. Гонялись и за подшивками старых газет, чтобы обертывать ноги… Вся это «русская экзотика» Паулюса поначалу только смешила — никаких выводов он пока не делал. Методично и скрупулезно он приобщался к новой для него среде, все тщательно продумывая.
После войны Фердинанд Гейм вспоминал:
«Случалось даже так, что утром Паулюс отвергал решение, принятое вечером, всю ночь продумав и решив, что следует поступить иначе…»
Между ним и его адъютантом Вильгельмом Адамом сразу — почти с первого дня — возникли дружелюбные отношения.
— Меня тревожит, что большинство командиров корпусов и дивизий шестой армии старше меня не только годами. Как найти общий язык с Генрихом Дебуа, который когда-то командовал ротой, имея в своем подчинении ефрейтора Адольфа Шикльгрубера, ставшего для нас фюрером Гитлером.
— Э, ерунда, — отвечал Адам. — Дебуа не слишком-то задается от такой чести, ему плевать на всех ефрейторов…
Паулюс посетил поле Полтавской битвы, он долго стоял возле массивного памятника погибшим здесь шведским драбантам. Его внимание привлекла русская надпись на монументе.
— Кутченбах, а что здесь написано? Наверное, русские и на том свете не оставили шведов своей бранью.
Кутченбах перевел: «Шведам — от россиян … Вечная память храбрым шведским воинам». Удивлению не было предела. Мало того, что русские свято берегли могилу своих давних недругов, они еще и выражали им свое уважение.
— Интересно, барон, отнесутся ли русские с таким же решпектом к могилам наших солдат, офицеров я генералов?
Кутченбах страдал от мороза. Ежась в своей черной эсэсовской шинели, он сказал тестю, что в русском народе существует пикантное выражение «осиновый кол тебе в могилу».
— Я думаю, что русские, скорее всего, пройдутся над нашим прахом своими бульдозерами…
* * *
Конечно, он повидался с бароном Максимилианом Вейхсом, командующим всей группой «Юг», в подчинении которого состояла его 6-я армия. Вейхс, осторожный и болезненный человек, почти равнодушно реагировал на первый вопрос Паулюса:
— А как мне относиться к маршалу Тимошенко?
— А как вы к нему относитесь?
— Пожалуй, скептически.
— Скепсис здесь неуместен, — отреагировал Вейхс, — ибо для нас зачастую опасны не сталинские полководцы, а те силы, которые Сталин предоставил в их распоряжение. Правда, известно, что маршал Тимошенко не жалеет крови своих солдат, он со времени штурма линии Маннергейма привык действовать ударами «в лоб», но отказать ему в напористости я не смею. Тимошенко даже опасен для нас в своем нажиме на Барвенково, желая отворить ворота на Харьков и вытеснить нас из районов промышленного Донбасса. А почему вы, Паулюс, о нем спрашиваете?
Паулюс объяснил, что ему, вчерашнему генеральштеблеру, необходимо знать слабости противника?
— Если я начну строить свою тактику на академических военных законах, то это не значит, что победа мне обеспечена, ибо с противной мне стороны точные законы тактики и стратегии могут не соблюдаться, и в этом случае я могу остаться в дураках. Как бы ни была хитра лисица, как бы она ни изощряла свой ум, но в лапы медведя ей лучше не попадаться.
— Так вы и не попадайтесь, — здраво отвечал Вейхс.
Возвращаясь в Полтаву, закутанный в русскую шубу, Паулюс ознакомился с русской листовкой, которую поднял с дороги его адъютант Адам, и Паулюс прежде всего подивился хорошему качеству бумаги. Поразил его и удачный остроумный фотомонтаж: на листовке знаменитый Мольтке встряхивал Гитлера в своей руке, словно паршивого щенка, а внизу была приведена цитата из высказываний Мольтке: «Не смейте ступать в бескрайние русские просторы, бойтесь сопротивления русских».
9. Барвенково
Бывалые солдаты, которым выпало воевать с Тимошенко еще в Финскую кампанию, побаивались служить под его началом:
— Он, этот черт лысый, тогда нашего брата не жалел, гляди, как бы и теперь трупешников из нас не наделал.
Мнение бойцов было устойчивым: «Где бы Тимоха ни появился, там всегда, ожидай несчастья!» Семена Константиновича Тимошенко всегда отличал от других не в меру воинственный оптимизм. Даже попадая под бомбежки, полузасыпанный землей, он еще грозил кулаком немецким самолетам:
— Ну, ладно! Вы у меня еще дождетесь.
Тимошенко было присуще упорство в мнении, переходящее в упрямство. Внешне он никогда не поддавался панике, оставаясь невозмутимым. Как бы дурно ни складывалась обстановка на фронте, он всегда докладывал «наверх», что все в порядке; даже под Киевом, когда показалась, запылив небеса, танковая колонна Эвальда Клейста в полтысячи «роликов», маршал не изменил себе, смело выставив против армады свои последние девять танков… Хорошо это или плохо? Не мне судить. Думайте сами.
— Вы у меня еще дождетесь! — угрожал он вермахту.
Этот оптимизм, не всегда оправданный, делал маршала уверенным в победе даже в тех случаях, когда силы противника превосходили его реальные возможности. Тимошенко своей слабости не признавал, а опыт штурма линии Маннергейма убедил его в том, что если без конца лупить в одно и то же место, то оборона противника сама по себе развалится. Теперь, заведомо убежденный в слабости врага, тем более что товарищ Сталин уже сказал об этом по радио, Тимошенко убеждал себя и других:
— Никаких сомнений в успехе! Перед нами уже деморализованный, перепуганный враг, а мы имеем ясную цель. Вооруженные могучей сталинской техникой, мы способны теперь гнать и гнать подлых захватчиков до Берлина!
Фронтовые командиры, ежедневно соприкасаясь противником и допрашивая пленных, слабости врага не наблюдали. Наоборот, они уже выявили трехкратное превосходство немцев в противотанковой артиллерии, (в беседах между собой командиры критиковали беспричинные выводы главкома:
— Может быть, сталинская техника и могучая, но нас она еще не дошла… Ладно! Мы люди непромокаемые и несгораемые, а приказы начальства не обсуждаются.
— Ого! Еще как обсуждаются, стоит только в окопах наших солдат послушать. Это командирам да генералам можно рты позатыкать, а рядовому — попробуй. Он тебя пошлет до фени…
Разведка предупреждала: все населенные пункты немцы укрепили дотами, в селах выставлены гарнизоны, усиленные танками, насыпи железных дорог немцы заранее обливали водой, чтобы образовались скользкие и прочные откосы. Но Тимошенко оставался верен себе:
— Враг на себе узнает всю несокрушимую мощь нашей доблестной красной кавалерии.
Наконец, войска получили новое оружие — противотанковые ружья (ПТР).
В истории бывают странные совпадения: Тимошенко начал наступать, когда угробили в самолете полумертвого Рейхенау, когда в 6-ю армию назначили Паулюса, еще не успевшего освоиться в делах фронта. Лютовали морозы. Украину завалило таким снегом, какого старожилы давно не помнили. Артиллерийские тягачи не могли вытянуть пушки к передовой, в снегу умирали обессиленные лошади. Грузовики застревали в сугробах, шоферы лопатами разгребали завалы снега, чтобы прошли их машины. Штабы отрывались от своих частей. Убитые в атаках не падали, а замерзали стоймя — по грудь в сугробах. С первых же часов наступления стало ясно, что прорыва не будет, а будет лишь отжимание, оттеснение, отталкивание противника. Темп наступления был очень низким — от двух до восьми километров в сутки. Взяли хутор — хорошо, завтра возьмем деревню. Несмотря на героические усилия, бойцы с трудом разрушали немецкую оборону. Потери были велики; обескровленные войска в некоторых местах даже были отброшены назад. Кажется, прав был Г. К. Жуков, предвидя и малые успехи, и большие жертвы…
Тимошенко руководил наступлением из Воронежа, его начальник штаба Баграмян докладывал, что кавалерия, атакуя врага в лоб, застряла в глубоких снегах, а сверху ее уничтожает немецкая авиация. Боеприпасы уже кончаются.
— Так скоро? — удивился маршал.
— Да. На путях гигантские снежные заносы, эшелоны простаивают сутками, не в силах сдвинуться с мест.
— Сколько взято пленных?
— Двадцать пять фрицев.
— Почему так мало? — возмутился Тимошенко
— Не хотят сдаваться, вот и все.
За время наступления (а оно длилось 13 дней) плен сдались лишь 115 человек. Танков у Тимошенко было очень мало, но он подчинил их стрелковым дивизиям, командиры которых, далекие от понимания танковой тактики, поставили эти машины на убой по немецкие «восемь-восемь». Директива Ставки ВГК от 10 января, конечно, маршалом была изучена, но выводов он, кажется, не сделал. Мемуары И. X. Баграмяна в том месте, где он описывает эту операцию, пестрят выражениями: успеха не имели, вперед не продвинулись, были остановлены… Удачнее всех действовали лыжники и те войска, что двигались на крестьянских санях. Так иногда бывает на войне, что дедовские методы оказываются лучше новых, и полководец обязан учитывать их выгоду. Очевидец писал:
«Медленно, очень медленно двигались цепи. Бойцы шли по пояс в снегу, на плечах тащили пулеметы, с большим трудом тянули через толщу снега пушки».
Это была не только война, но и тяжкий труд — почти каторжный…
На флангах своих армий Тимошенко не удалось прорвать оборону; с севера Балаклею держал Паулюс с танками Гота, на юге вцепился в Славянск генерал Клейст — тоже с танками, которые по зимним шляхам он передвинул от реки Миус. Кризис в войсках противника обозначился лишь 24 января, когда наша кавалерия ворвалась на улицы Барвенково и, спешившись, вступила в кровопролитные бои. Барвенково служило для немцев тыловой базой снабжения, а железнодорожная станция Лозовая группировала немецкие эшелоны на харьковской магистрали, — эта Лозовая тоже была взята. Вейхс в эти дни приказал Паулюсу выдвинуть вперед свои резервы…
24 января, когда в армии Тимошенко всем уже стало ясно, что наступательный порыв выдохся, а войска не в силах продвигаться вперед, только один маршал Тимошенко не понимал этого и собрал у себя совещание, заявляя:
— Именно сейчас сложилась самая благоприятная обстановка для дальнейшего развития нашего наступления. Но слова, какие бы они ни были громкие, так и остались словами. Войска остановились, а по флангам велись затяжные изнурительные бои. Результат Барвенковской операции был таков: наша армия пробилась на 90 километров к западу, образуя в линии фронта выпуклость Барвенковского выступа, который выделялся на картах как болезненно разбухший нарыв. 31 января операция была закончена, но участники ее пишут в воспоминаниях, что она заглохла сама по себе — даже без приказа…
Иван Христофорович Баграмян был намного умнее маршала Тимошенко и развернул перед ним карту с этим выступом.
— Возникла новая опасность, — сказал он, — мы в результате громадных потерь обрели, благодаря этому Барвенковскому пузырю, лишние четыреста сорок километров в новой линии фронта, который образовался.
— Сам вижу, — отвечал Тимошенко. — Так разве же это плохо, что мы выдвинулись вперед, словно клин…
* * *
В эти дни Сталин сказал маршалу Шапошникову:
— Товарищ Тимошенко не справился с поставленной перед ним задачей Клейста с его танками он лишь побеспокоил, а Харьков не освободил. Но товарищ Тимошенко настроен очень бодро, основательно полагая, что Барвенковский выступ является удобным плацдармом для нашего дальнейшего продвижения — как к Харькову, так и в области Донбасса… Что скажете?
На столе Верховного остывал в тарелках обед, до которого он даже не дотронулся. Шапошников указал на дугу выступа:
— Немцы, — отвечал он, — способны совсем иначе взглянуть на кривизну фронта. Для нас этот Барвенковский выступ кажется многообещающим плацдармом для выдвижения, а немцы вправе считать его «оперативным мешком», в котором оказалась наша армия.
— Борис Михайлович, — вежливо сказал Сталин, — Мы с вами в Кремле, но товарищу Тимошенко на месте виднее …
Это как раз и был тот случай, когда «наверху» могло быть виднее, нежели «на месте», но спорить со Сталиным не приходилось. Шапошников был человеком слишком мягким, зато вот грубоватый Жуков высказал ему все, что думал:
— Из-за этого Барвенковского выступа они там получили фронт в два раза больше, чем имели, и весь он в дырках. Чем маршал Тимошенко заткнет эти дырки? Разве что своим пальцем, да и то на карте своего штаба… Где же конкретный результат? Не вижу. Сейчас уже не сорок первый год, когда мы немца в лоб пугали, а Тимошенко еще не слез с той кобылы, которую взнуздал в восемнадцатом… Я опасаюсь этого выступа!
— Я тоже, голубчик, — ответил ему Шапошников.
В эти дни Гитлеру доложили, что среди солдат Восточного фронта воцарилось уныние, не слыхать бодрых песен с уверенностью в конечной победе. Это фюрера возмутило:
— Всех запевал, которые осмелятся нагонять тоску, спровадить в штрафные роты. Пусть уж лучше горланят похабную «Лили Марлен», нежели «Был у меня товарищ, был у меня товарищ…».
Да, у многих были товарищи, но товарищей похоронили!
Что-то страшное творилось на путях, по которым двигались с фронта эшелоны, вывозящие в Германию раненых. Железнодорожное хозяйство было давно разрушено, а снежные заносы были столь велики, что санитарные поезда двигались со скоростью в десять — пятнадцать километров в час. Паулюс случайно как-то зашел обогреться в один из вагонов такого поезда, который оказался операционной; при нем врачи укладывали на стол ефрейтора со значком «23», что означало, что ефрейтор вышел живым из 23 рукопашных схваток. Теперь он орал от боли.
— А морфия нет, — предупредил врач.
— Коньяк? — с надеждой вопросил вояка.
— Тоже нет. Выпили. Терпите.
— Сколько можно? — кричал ефрейтор. — Если вы человек гуманной профессии, так пристрелите меня до операции.
— Санитары, держите его. Крепче.
— А-а-а-а-а-а-а…
— Воткните ему в рот сигару, — приказал врач.
Шестая армия Паулюса снабжалась бразильскими сигарами! Паулюс удачно выбрался из «Барвенковского кризиса», его смущала лишь потеря станции Лозовая. Вильгельм Адам писал о нем:
«Его острый, как клинок, ум, его непобедимая логика снискали ему уважение всех сотрудников. Я не помню такого случая, когда бы он недооценил противника или переоценил бы собственные силы и возможности. Решение его созревало после длительного и трезвого обсуждения».
Да, можно согласиться, что Паулюс — не импульсивный Клейст и не порывистый Гот. Характеру его, скорее, импонировал педантичный нрав барона Фердинанда Вейхса, который вскоре и навестил его в помещении сельской школы, где Паулюс разместил свой штаб. Пахло лизоформом, даже креозотом, наконец, просто дерьмом, кучи которого валялись по углам школьных классов и которое растаптывалось и разносилось на сапогах солдат по коридорам и лестницам.
— Что у вас за свинарник? — сказал Вейхс, здороваясь.
— В этой школе раньше стоял двести восьмой пехотный полк, который и загадил все, что можно. Я не стал ругаться, барон, ибо этот полк при выдвижении к Изюму в одну ночь потерял семьсот солдат убитыми и обмороженными…
В углу штабной комнаты кучей валялись красочные солдатские журналы с видами пляжей Нормандии с изображением солдат вермахта, загорающих в шезлонгах на берегах Ливии, они уплетали сливки в харчевнях древнего Брюгге, — такие фотографии украшались призывными надписями: «Бесплатное путешествие в рядах германского вермахта».
Вейхс, конечно же, завел речь о Барвенковском выступе:
— Скажите, Паулюс, вас не пугает этот болезненный аппендикс, в который маршал Тимошенко запихнул свою армию?
— Нисколько, — последовал ответ. — Я с Геймом уже обсудил ситуацию, сочтя ее выгодной для нас и очень опасной для того же маршала Тимошенко. Потому и решили не выдавливать русских из этого, как вы удачно выразились, «аппендикса».
Гейм услужливо раскатал карту, Паулюс указал Вейхсу на Балаклею:
— Если моя шестая армия ударит с севера, а танки Клейста, — палец Паулюса резко передвинулся к городу Славянску, — ударят с юга, то весь этот оперативный мешок окажется прочно завязанным.
— Однако, — заметил Вейхс, — Тимошенко все-таки получил от нас в подарок хороший плацдарм для выдвижения к Харькову.
Паулюс отвечал ему без промедления:
— Будь я на месте Тимошенко, я бы никогда не начинал наступление, выбираясь на стратегический простор из узкого оперативного мешка: это слишком рискованно.
— Что бы вы сделали, будь вы на месте маршала Тимошенко?
— Вопрос трудный, — поежился Паулюс. — Но я постараюсь ответить. Будь я на месте Тимошенко, я бы плюнул на все и отвел бы свои войска назад — обратно с этого выступа.
— Но вы понимаете, — засмеялся Вейхс, — что ни Сталин, ни Тимошенко на это никогда не пойдут. Отвести свои войска после того, как эти войска оросили Барвенковский выступ своей же кровью? Нет, сейчас они думают о другом: чтобы с этого выступа и начать свое наступление на Харьков и Донбасс.
Прощаясь, барон Вейхс — под большим секретом — сообщил Паулюсу нечто серьезное, выуженное из глубин «Вольфшанце»:
— Догадываетесь ли вы, почему фюрер поставил вас во главе шестой армии?
Паулюс сказал, что не догадывается.
— Он решил поднять ваш престиж на этом посту, чтобы потом вы, как фронтовой генерал, заменили Йодля, которым Гитлер недоволен.
— Но фюрер сейчас всеми генералами недоволен.
— Это правда, — сказал Вейхс. — Но Йодль стал его раздражать, настаивая на окончательном штурме Ленинграда, а не забираться на Кавказ, куда так стремятся наш фюрер, привлеченный ароматом майкопской и бакинской нефти… Впрочем, я пойду. А то у вас здесь в этой школе, дышать невозможно от вонищи. Сколько, вы сказали, положили в пехотном полку?
— Семьсот. Госпитали забиты. Вывозить не успевают.
— Всего доброго, Паулюс. Я поехал.
В морозном небе слышалось тарахтение — это кружил над школой русский самолет устаревшей конструкции По-2, который в вермахте называли «кофейной мельницей» или «швейной машинкой».
— Когда же кончатся эти морозы? — сказал Паулюс…
* * *
Вспоминаю. Когда бы ни зашла речь о войне, обязательно кто-нибудь из собеседников в удивлении воскликнет?
— А все-таки хотелось бы узнать, как могло случиться, что немецкие войска оказались на берегах Волги?
Однозначным ответ быть не может. Силы нашего народа были колоссальны. Мы не знаем, сколько людей выставила наша страна на передовую линию огня, и, пожалуй, это останется неизвестно. Но зато известно, что за годы войны мать-Россия пошила около 40 миллионов шинелей, 20 миллионов ватников, 70 миллионов гимнастерок и дала фронту 11 миллионов пар валенок. По этим цифрам можно прикинуть, каковы были наши резервы.
— А как же немцы оказались на Волге? В самом деле — как?
Знаю, что мое мнение историки, наверное, станут оспаривать, и все же я его скрывать от читателя не стану.
— Много, — скажу я вам, — было допущено ошибок в этой войне. Но будущая трагедия Сталинграда, мне кажется, начиналась именно с Барвенково, откуда Сталин и Тимошенко хотели бы развить мощное наступление, и от этого же Барвенково перед танками Паулюса скоро откроется стратегической простор, выкатывающий немецкие танки к берегам нашей матушки-Волги…
10. В ожидании
Войну в Ливии сами же англичане прозвали «африканскими качелями», и эти качели работали исправно — Роммель вперед — Окинлек назад, Роммель вправо — Окинлек налево.
Португальский историк Ф. Микше писал:
«Самой замечательной способностью Роммеля была его способность с молниеносной быстротой сосредоточивать свои войска в нужном направлении… благодаря той быстроте, с какой им это делалось, у противника создавалось впечатление, что такое же превосходство у него имеете и на всех других направлениях».
И чем хуже становились дела итало-немецкого корпуса в Ливии, тем изощреннее действовал Роммель. А сейчас дела складывались неважно.
Гитлер еще не мог оправиться после поражения под Москвой, а Муссолини задерживал доставку горючего, ибо его танкерный флот бомбили английские пилоты с аэродромов Мальты. Кстати, дуче не раз трезвонил, что возьмет Мальту с моря, и по этому случаю итальянцы придумали такой анекдот.
— Дуче, почему ты не можешь взять Мальту?
На этот вопрос фюрера Муссолини с язвой ответил:
— Потому что Мальта, как и Англия, тоже остров…
Намек, как говорят русские, не в бровь, а прямо в глаз!
Лишь в январе Муссолини отправил для Роммеля «нефтяные лоханки», которые на этот раз тащились под конвоем линкоров (!). Именно в те дни, когда маршал Тимошенко устремлял свою армию на Барвенково, Роммель (еще не маршал) опять начал раскачивать «африканские качели», с которых давно уже пора сорваться кому-либо из двух — или ему, Роммелю, или Окинлеку.
Фантазия у Эрвина Роммеля работала превосходно.
— Я никогда в жизни не красил заборов, — сказал он своему штабу, — но сейчас, кажется, предстоит побыть в роли хорошего маляра… А что, если нам закамуфлировать танки под грузовики, а грузовики сделать издали похожими на танки?
Этим примитивным камуфляжем он задурил разведку Окинлека, неожиданным маневром расчленив англичан на части, затем снова вошел в Бенгази, где и захватил склады снабжения, топлива, оружия и, естественно, пленных. Самая лучшая бронедивизия Окинлека драпала от него столь усердно, что оставила Роммелю — даже без боя! — сотню новеньких танков.
— Я не знал, — сказал Роммель, — что малярные работы так хорошо оплачиваются. Всегда выгодно иметь вторую профессию!..
Йодль как-то неохотно докладывал Гитлеру:
— Сколько же завистников у этого счастливчика… Он опять вырвался к Тобруку! При этом, мой фюрер, успех достигнут им даже без поддержки нашей авиации, и теперь, чтобы закрепить успех, Роммель просит у нас самолетов.
— И ничего не получит, — отвечал Гитлер. — Вся наша авиация задействована на Востоке, там она и останется …
Геббельс, навестив Гитлера в его «Вольфшанце», записывал в своем дневнике:
«Фюрер рассказал мне, как близко в последние месяцы мы были к зиме Наполеона… Собачка, которую подарили фюреру, теперь играет в его комнате. Он всем сердцем привязан к песику, который волен делать все, что хочет, в его бункере. В настоящее время этот пес ближе к сердцу фюрера, чем кто-либо еще…»
Выбравшись из бункера, Гитлер глянул на заснеженные елки и сказал Борману:
— Смотри, Мартин, за ночь выпал снег… Я с детства боялся холода, а снег ненавижу всеми фибрами души. Теперь я знаю, почему так. Это было дурное предчувствие! Но весной я всегда оживаю. Поскорее бы пришла оттепель, вместе с которой воскреснет и мой вермахт…
Роммель раскачивал «африканские качели» напрасно. Гитлера сейчас волновал не Тобрук, а русская Вязьма, где русские выбросили воздушные десанты. Правда, здесь они напоролись на крепкую оборону: сил для овладения Вязьмой у них не хватило. Но под Демянском росла угроза окружения немецких дивизий.
Йодль предупредил Гальдера:
— Кажется, наш гениальный фюрер раньше всех нас уже понял, что война на Востоке проиграна.
Гальдер и сам начал сознавать это.
— Но у нас нет выхода, — сказал он. — Теперь я думаю, что Хойзингер прав, говоря о наступлении летом как о спасении Германии, о спасении всех нас…
30 января в берлинском «Спортпаласте» Гитлер выступил с речью, откровенно признавшись перед публикой, что ему неизвестно, чем закончится будущая летняя кампания, и в конце речи он ханжески обратился к всевышним силам:
— Господь Бог, дай нам сил завоевать свободу нашему народу, нашим детям, детям наших детей и не только нашему народу, но и всем другим народам мира!
Это был очень странный и даже, я бы сказал, кокетливый реверанс безбожного атеиста перед… кем ? историки полагают, что всевышний тут ни при чем, а Гитлер, призвав Бога на помощь, заодно уж призывал к миру Черчилля с Рузвельтом, чтобы совместными усилиями доколотить безбожного семинариста Сталина.
Франц Гальдер встревоженно докладывал Гитлеру:
— Случилось то, чего мы никак не ожидали. Под Демянском русские захлопнули в котле около ста тысяч наших солдат. Кажется, они переняли кое-что из опыта блицкрига нашей прошлогодней кампании, когда мы их как следует вскипятили во множестве подобных котлов. Теперь для снабжения окруженных дивизий ежесуточно требуются усилия более сотни транспортных самолетов, рейхсмаршал Геринг обязан выстроить «воздушный мост».
В бункере Гитлера — нарочитая простота, серый линолеум на полу, серые стены, матовый плафон под потолком, коричневая обивка кресел. Из угла не успели убрать какашки его песика.
— Кто у нас специалист по котлам? — спросил Гитлер.
Гальдер удивленно выгнул плечи: до сих пор вермахт сам устраивал котлы другим, — и потому ответил!
— Мы таких специалистов не готовили. Правда, в котле оказался наш генерал Курт Зейдлиц фон Курцбах, прямой потомок того самого пьяницы Зейдлица, который водил кавалерию короля Фридриха Великого… Я уже имел связь с ним по радио, и Зейдлиц берется пробить коридор из котла…
Германская промышленность торопливо осваивала «сибирский» паровоз, которому не страшны русские морозы. Железнодорожная система Германии находилась в стадии развала. Русский фронт алчно заглатывал в себя не только танки и пушки, в нем бесследно растворялись и тысячи вагонов. Не хватало цветных металлов. Гитлер велел снимать с церквей колокола, из типографий изымали медные шрифты, из текстильных машин выдергивали медные вальки. В таких вот условиях Гитлер доверил вопросы вооружения вермахта своему лейб-архитектору, еще молодому человеку — Альберту Шпееру. Он не скрыл от Шпеера, что решил взять пример со Сталина, который поставил во главе Наркомата в вооружения совсем молодого парня — Дмитрия Федоровича Устинова!
— Который, кажется, моложе и вас, Шпеер! Предлагаю вам вступить с этим Устиновым в единоборство. Кто кого? Русские помешались на социалистическом соревновании, вот вы и покажите им германский стиль работы.
Шпеер оказался превосходным организатором. Он сразу же заявил, что ускорит программу выпуска самых новейших танков, которые станут совершеннее T-IV (речь шла о будущих «тиграх» и «пантерах»). Альберт Шпеер доказывал:
— За годы войны Германия сократила выпуск товаров широкого потребления всего лишь на три процента. Этого мало! Я считаю, что нам следует брать пример с русских, которые всю свою промышленность, включая и легкую, строго подчинили требованиям только фронта.
До января 1942 года Гитлер умышленно не сокращал производство ширпотреба, чтобы не возникло недовольство войной среди населения. Теперь архитектор Шпеер настоял перед фюрером, чтобы сократить ширпотреб на двенадцать процентов:
— А я обещаю вам завалить фронт танками. Они у меня будут выскакивать из цехов, как детские игрушки, а подводные лодки будут прыгать со стапелей в глубину моря со скоростью лягушек, завидевших аиста, щелкающего клювом от голода…
Тут появился и Геринг, заговоривший о женщинах:
— Хватит им торчать на кухнях или мотаться по магазинам, отыскивая кусочек мяса без костей и пожирнее…
Женский труд на производстве был запрещен, дабы не повредить женщине в главном — в ее материнстве, в ее заботах о воспитании детей, в домашних хлопотах. Женский труд был в Германии только добровольным — если женщина сама пожелает трудиться. Но в 1942 году Геринг доказал фюреру:
— Прежние запреты мешали эффективному привлечению женщин к труду на пользу фронта. Отныне женский труд станет не добровольным, а обязательным. Без этого нам никак не выправить промышленных задач, сопряженных с войной на Востоке…
Адольф Хойзингер именно в эти дни уже подготовил проект летнего наступления вермахта — строго секретный:
— С весны мы обрушим русскую оборону на Керченском полуострове. Манштейну взять Севастополь, наконец, — планировал Хойзингер, — мы ликвидируем уродливую «бородавку» Барвенковского выступа, после чего можно развивать наступление в сторону Кавказа и Волги… Если большевистский режим и уцелеет сам по себе, то летом он будет надломлен и полностью обескровлен!
«Москва, как цель наступления… пока отпадала», — писал Хойзингер, и я прошу читателя запомнить эту фразу, ибо в планах вермахта она была, пожалуй, самой существенной.
* * *
А милый песик продолжал жить и радоваться жизни в бункере фюрера. Иногда я думаю — не тот ли это песик, который потом вырос в большую собаку, на которой Гитлер в мае 1945 года испробовал силу яда, которым и сам отравился?..
* * *
Сильные морозы на Украине держались вплоть до 10 февраля.
Паулюс, страдая от холода и ослабленный приступами перемежающейся дизентерии, все-таки неустанно выезжал на линию Барвенковского выступа, возвращаясь с фронта или в уютную Полтаву, или в развороченный бомбами, обгорелый Харьков.
— Когда же, наконец, потеплеет? — спрашивал он…
Отменив приказы Рейхенау, Паулюс облегчил свою христианскую совесть, хотя его поступок вызвал осуждение генералов, подобных Хейтцу, но этот же поступок заслужил одобрение таких людей, как Мартин Латтман или Отто Корфес.
Утро командующего начиналось с чашечки кофе.
— Что за гадость мне сегодня налили? — спросил Паулюс.
— Русский кофе «Здоровье», — пояснил зять.
— Можно быть здоровым, только это не кофе.
— Да, пахнет обычным пережженным ячменем. У Сталина есть такой нарком Микоян, большой пропагандист советского шампанского, который с кофе выкручивается помощи Бразилии.
— Ага, значит, у них тоже полно всяких эрзацев.
— Сколько угодно! — отвечал барон Кутченбах. — Вместо сапог у них валенки, а вместо пиджаков — ватники.
За окнами деревья сверкали от искристого инея.
6-я армия еще продолжала испытывать давление русских у станции Лозовая и в направлении на Мерефу, что лежала под Харьковом). Начальник штаба полковник Фердинанд Гейм докладывал Паулюсу: «В действиях Тимошенко сквозит явное желание расшатать оперативное построение от Орла до Харькова».
Паулюс велел приготовить свой вездеход, теплые шубы и конвой на мотоциклах. В очередную поездку по дивизиям он взял Адама и Кутченбаха, который оказался беспомощен в знании украинского языка. Мороз усиливался. Обледенелая дорога тянулась меж высоченных сугробов. В степном украинском селе Паулюс обратил внимание на старинную церковь, внутрь которой солдаты закатывали бочки с горючим, тащили тюки с прессованным сеном. Паулюс никогда не забывал, что среди его предков были ученые богословы.
— Найдите мне коменданта, — велел он.
— Что это? — спросил Паулюс, показывая ему на сельскую церковь.
— Гарнизонный склад.
— Это не склад, а храм ! — вспылил Паулюс. — А вы осквернили его мазутом. Сейчас же выкатить бочки обратно. Если жители верят в Бога, мешать их вере никак нельзя. Помните, что мы не безбожные большевики, а освободители русских от страшного большевистского ига…
На линии огня под Мерефой его встретил генерал Георг Штумме, имевший кличку «шаровая молния», ибо его поведение бывало непредсказуемо. Страдающий сильным насморком, Штумме наглядно демонстрировал несовместимость своего здоровья с русским климатом, что дало повод Адаму сказать:
— Впервые вижу «шаровую молнию» с такими соплями…
Паулюс же завел речь о другом, удивляясь, почему Тимошенко застрял под Мерефой, не пытаясь прорваться на Харьков: — Вашу оборону, Штумме, я не могу признать прочной.
— Согласен, — не возражал Штумме. — И прощу усиления позиции прислать сюда «восемь-восемь», чтобы отплевываться от русских «тридцатьчетверок», если они появятся.
Паулюс обещал. Заодно он сообщил, что пальма первенства, отнятая у Т-34, скоро будет передана немецким танкам:
— Наши новые T-V и T-VI расплющат русские машины, словно банки из-под сардин. Фердинанд Порше уже готовит танк, который своими достоинствами превзойдет все танки мира.
— За счет чего? Брони? Огня? Моторной части?
— Это будет сгусток боевой энергии, и башни «тридцатьчетверок» полетят ко всем чертям словно сорванные головы.
В разговоре, конечно, был помянут и удачливый Роммель, о прорыве которого в Бенгази шумели германские газеты.
— Ему можно и позавидовать, — сказал Штумме. — За несколько дней он проскочил более шестисот миль, тогда как для нас в России даже шестьсот метров имеют немалое значение.
«Шаровая молния» вдруг с шумом взорвалась.
— Хочу в Киренаику! — заорал Штумме. — Я начал восточный поход от самой границы! Я был дважды ранен! Мои нервы уже на исходе! А в Ливии… отдохну , — шепотом досказал он.
— Не возражаю. Подайте рапорт… по причине болезни, — с некоторой брезгливостью разрешил ему Паулюс.
По дороге на Белгород полковник Адам, глядя на скрюченного от холода Кутченбаха, доказывал, что русские в такие морозы наступать не станут: «Нас ужасают трупы замерзших немцев, но мы почему-то не обращаем внимания на замерзших русских, — я цитирую самого Адама. — Между тем они страдают от холода одинаково с нами…»
В центре Белгорода, на площади, вездеход остановился.
На виселице качались трупы повешенных. Среди них была и женщина, еще молодая. Дико и нелепо выглядят очки на ее потухших глазах, превращенных морозом блестящие кристаллы.
Паулюс опрометью выскочил из вездехода.
— Я же отменил приказ Рейхенау! — крикнул он. — Кто осмелился делать из преступления публичное зрелище.
Кутченбах обошел трупы повешенных. На груди каждого висела доска с надписью по-русски. Паулюс спросил зятя:
— Зондерфюрер, переведите… что там написано?
— По трафарету:— «Я партизан, который не сдался».
— Кто эту чушь придумал?
— Это придумано еще Рейхенау, пояснил Вилли Адам…
Паулюс вызвал корпусного командира Ганса Обстфельдера, штаб-квартира которого располагалась в Белгороде. Обстфельдер предстал, задрав подбородок, и не потому, что он выражал почтение, нет, а по той причине, что опустить голову ниже ему мешал громадный фурункул на затылке, истекающий гноем.
— Вы кого повесили? Это партизаны? — спросил Паулюс.
— Нет. Только заложники. Комендант предупредил жителей, что они будут казнены сразу же, если будет убит хоть один наш солдат в городе. Мы, армия, в это дело не вмешиваемся. Но опыт войны показывает, что повешение с доской на груди, дающей объяснение приговора, действует на русских устрашающе…
Эта сцена отлично сохранилась в памяти Вильгельма Адама.
«Паулюс, — писал он, — стоял перед офицерами чуть сгорбившись, лицо его нервно подергивалось. Он сказал:
— И, по-вашему, этим можно приостановить действия партизан? А я полагаю, что такими методами достигается как раз обратное. Я отменил приказ Рейхенау о поведении войск на Востоке. Распорядитесь, чтобы это позорище исчезло…»
Виселицы спилили.
Обстфельдер мрачно сказал:
— Теперь в нас будут стрелять из-за каждого угла.
— Так отстреливайтесь, черт побери! — нервно отвечал Паулюс. — Но нельзя же вешать случайных людей…
С удовольствием он вернулся в Полтаву, сбросил тяжкий русский тулуп. Геббельс, не оставляющий 6-ю армию своим вниманием, прислал из Берлина лектора по национал-социалистическому воспитанию. Перед офицерами его представили как «специалиста по русскому вопросу и выживанию в условиях Востока». Паулюс тоже прослушал лекцию:
— Все русские прекрасные диалектики, и нет такого германца, который бы мог русского переспорить. Потому самый верный тон — это тон приказа! Если вы ошиблись в приказе, не стоит поправляться: русские должны считать, что мы, как завоеватели, всегда непогрешимы Особенно надо бояться русской интеллигенции. Под маской нигилизма и душевной расхлябанности они умеют скрывать свои подлинные чувства, обладая способностью проникать в душу немца, располагая его к искренности. Нам это не нужно. Не допускайте никаких выпивок с русскими. В этом деле русские такие непревзойденные мастера, что обставят любого баварца. При этом они могут вытянуть из нас все, что им надо, а сами остаются себе на уме. Это же относится и к женщинам. Не забывайте, что русские фурии тоже втянуты в партийную систему большевизма, они фанатичнее мужчин. Женщины в России опаснее мужчин, потому что в женщине нам труднее заподозрить тайного агента огэпэу.
ОГПУ давно отошло в область преданий, но гитлеровцы упрямо придерживались этого отжившего наименования. И через год, чтобы всем чертям тошно стало, в берлинских газетах будут писать, что фельдмаршал Паулюс до последнего патрона отстреливался не в подвалах сталинградского ГУМа, а именно из помещения ОГПУ. Наверное, Геббельс решил, что фельдмаршал, державший фронт в здании ОГПУ, — это пострашнее любого советского универмага с его изобилием товаров для широкого употребления.
О том, что оттепель на Украине началась только 10 февраля, читатель, я тебе уже говорил. Пойдем дальше.
* * *
Через пять дней после начала оттепели под натиском японской армии пал Сингапур, а британский гарнизон капитулировал.
Ливия и Сингапур — две неудачи подряд, и потому Уинстон Черчилль выглядел плохо, не в меру раздраженный, взвинченный. Посол Майский принес ему очередное послание Сталина, который выражал твердую уверенность в том, что наступивший 1942 год станет годом полного разгрома Германии и ее сателлитов. Черчилль сидел за столом в костюме «сирены» — в комбинезоне на молниях, очень удобном, чтобы по сигналу сирены укрыться в бомбоубежище. Ознакомясь с посланием Сталина, он с явным раздражением отбросил его от себя:
— Я не вижу никаких причин, которые бы превратили 1942 год в решающий для всей нашей коалиции… Мы — сказал он Майскому, — способны иметь временный успех в зимний период, но летом вы вряд ли справитесь с натиском немецкого вермахта…
Советскую военную миссию в Лондоне тогда возглавлял адмирал Н. М Харламов. Вскоре генерал А. Най, служивший в генштабе Англии, просил Харламова навестить его на службе.
— У меня есть новость для вас , — сказал Най. — Наша разведка сумела проникнуть в тайну предстоящей летней кампании вермахта на Восточном фронте. Главный удар немцы планируют нанести по вашей армии на Дону и на Волге — в направлении на Кавказ и на Сталинград.
— А где же московское направление?
— Оно отсутствует, — отвечал Най. — Примерная дата операции вермахта — июнь . Обо всем, что я вам сказал, прошу срочно известить Москву, правительство и русский Генштаб.
Казалось бы, тут все ясно! Помните, что планировал Хойзингер? «Москва, как цель наступления… пока отпадала!»
11. Спасибо за внимание
Во все время войны немцам запрещалось слушать заграничные радиопередачи, вещавшие на Германию. У них, правда, радиоприемники не отнимали (как у нас в 1941 году), но к аппаратуре были пришпилены официальные планкетки с выразительной надписью; «Слушая голоса врагов, ты изменяешь фюреру!»
Тайная радиовойна начиналась на рассвете. Голосисто запевали берлинские фанфары, загадочно стучалось в двери лондонское Би-Би-Си. Помимо широковещательных программ, стихию эфира пронизывали голоса станций — блуждающих, реальных или фиктивных, немцы, называясь американцами, обливали помоями Рузвельта, англичане, выдавая себя за фашистских агитаторов, ругали Гитлера, заодно обливая и Черчилля, из Берлина на русском языке вещала партия «ленинской старой гвардии», которая чуть ли не матом крыла Сталина, а заканчивала трансляцию «Интернационалом». Самые гениальные демагоги умело взбалтывали радио волны словно коктейль, в котором ничтожная доля правды оседала на дне, а наверх всплывала отрава лжи и отчаяния. В непрерывном треске электроразрядов слышались голоса погибающих кораблей и сгорающих под облаками бомбардировщиков дальнего действия, с фронтов вопили о помощи роты и батальоны, слали проклятья дивизии, лихорадочно стучала морзянка из котлов окружения. В узких каналах настройки быстро и деловито, пока их не засекли радиопеленгаторы, выстреливали пучками морзянки бойцы Сопротивления…
На фронте армии Паулюса по утрам через мощные репродукторы звучал голос немца, сидевшего в русском окопе:
— Говорит обер-лейтенант германского вермахта Рейер… Слушайте меня, солдаты Германии, обманутые Гитлером и опозоренные чудовищными преступлениями против человечества. Час пробьет, и возмездие для вас неизбежно…
В его сторону выстрелили, заодно спрашивая:
— Эй, кретин! Давно ли торчишь у русских?
— С двадцать второго июня сорок первого года.
— И тебе там еще не надоело?
— А вам? — спрашивал их Рейер.
— Ты скоро спятишь от глупости! — предрекали ему.
— Но вы раньше меня, — огрызался Рейер…
Из командного блиндажа вылез полковник Фриц Роске, послушал перебранку, летящую через линию фронта, крикнул солдатам:
— Кончайте трепотню. Нет и никогда не было в рядах вермахта обер-лейтенанта Рейера. Это русский комиссар. Дайте по нему из крупнокалиберного, чтобы о заткнулся…
Агитация шла и с немецкой стороны, гитлеровцы по утрам заводили патефоны, транслируя популярные песни мирного времени:
Броня крепка, в танки наши быстры,
И наши люди мужества полны.
В строю стоят советские танкисты,
Своей Отчизны верные сыны…
И потом через громкоговорители немцы призывали:
— Эй, рус! Кончай война, иди к нам…
Самолеты забрасывали наших бойцов листовками, которых была изображена здоровенная и мордастая бабища в сарафане, ниже ее титек были начертаны вирши:
СДАВАЙСЯ В ПЛЕН! Будешь дома, будешь в хате Спать со мною на кровати…Страна вступала в новый военный и тяжкий день!
* * *
Потеплело… С фронта вдруг стали поступать первые, еще робкие слухи о том, что у немцев появились какие-то танки с усиленной броней, по силуэту очень схожие с нашей «тридцатьчетверкой». Началось первое знакомство с гитлеровскими «пантерами» и «тиграми». Николай Николаевич Воронов (будущий главный маршал артиллерии) на одном из совещаний в Ставке выступил с предупреждением.
— Я допускаю, — говорил он, — что новые немецкие танки еще не запущены в серию. Скорее всего, их отдельные варианты немцы решили обкатать в полевых условиях фронта. Но следует заранее предвидеть, что утолщенная броня и динамика новых моторов потребуют от нас усиления артиллерии.
Сталин уже входил в роль «гениального» полководца.
— Товарищ Воронов, перестаньте разводить панику. Это бабьи сплетни! Не может быть у немцев новых танков, и ради мнимой борьбы с ними мы не станем усиливать артиллерию…
«Я уходил с камнем на сердце. Было очень больно, что не удалось доказать свою правоту, но еще больнее было то, что меня никто не поддержал». Между тем наши бойцы на фронте, плохо разбираясь в «зверологии» германского танкостроения, сожгли сразу шесть новых машин. Гитлер, явно смущенный слабостью новых танков, велел откатить их в глубокий тыл.
— Шпеер, — сказал он, — передайте Порше, проект был доработан. И впредь не показывать танки русским до тех пор, пока эти машины не стану неуязвимыми…
Не знаю, как отреагировал Сталин на сообщение адмирала Н. М. Харламова из Лондона о предстоящей летней кампании. Но ближе к весне наша разведка Генштаба, помимо британской, сама проникла в планы Гальдера и Хойзингера. В английской книге «Коммунистические партизанские действия» сказано:
«Некий мистер Кент, капитан Красной Армии, он же Венсенте Сиерра имел условленную встречу в Тиргартене с офицером немецкой контрразведки… Его предупредили, что главный удар немецкой армии планируется нанести в направлении Кавказа, причем часть этих сил будет брошена к Волге — на Сталинград! Против же Москвы немцы лишь имитируют наступление. Нельзя недооценивать опасности со стороны 6-й армии Паулюса, нельзя пренебрегать панцер-дивизиями Клейста, которые угрожают со стороны Краматорска…»
— Почему вдруг Сталинград? — возмутился Сталин, когда ему доложили об этом. — На юге немцы способны лишь на отвлекающие удары, чтобы замаскировать главный удар на московском направлении. Кто поверит, что немцы окажутся на Волге?
В этом ошибочном мнении Сталин окончательно утвердился после доклада С. К. Тимошенко, который сообщал:
«Мы считаем, что враг… весной будет вновь стремиться к захвату нашей столицы. С этой целью его главная группировка упорно стремится сохранить свое положение на московском направлении…»
Заодно уж, стараясь казаться провидцем, маршал указывал, что его боевая активность на юге уже полностью расстроила оперативные порядки армий Паулюса и Клейста — от самого Белгорода до узловой станции Лозовая, и немцы теперь ни к чему не способны.
Как тут не похвалить Тимошенко, и Сталин похвалил его:
— Молодец, товарищ Тимошенко… не как другие!
Семен Константинович, признаем за истину, обладал ангельским характером и в случае несогласия с ним спрашивал:
— Вы кому служите?
— Служу Советскому Союзу, — следовал ответ.
— Не вижу! — возражал маршал. — Это еще надо проверить, кому вы действительно служите.
— Служу Советскому Союзу и партии Ленина — Сталина!
— Вот это уже точнее, — признавал маршал. — Но если это так, то почему вы осмеливаетесь возражать высокому начальству, облеченному высоким доверием партии и правительства?
После такой постановки вопроса возражений уже не возникало, а маршал Тимошенко, отважный герой штурма линии Маннергейма, всегда оставался прав. В конце марта он созвал в Воронеже совещание высших командиров, чтобы подвести утешительные итоги минувшего года. Полковник И. Н. Рухле прочел доклад на тему, всех безумно волнующую: «Задачи партийной организации штаба…» Вкратце изложу содержание доклада.
— Война, — говорил Рухле, — вступила в новый этап динамики со всеми преимуществами Красной Армии как наступающей стороны. Германская же армия вынуждена теперь отказаться от наступления, она уже потеряла былую веру в успех… Красная Армия уже сломила материальные силы и моральную устойчивость врага и тем положила начало полному разложению германской военной машины… Германия уже до конца исчерпала свои преимущества!
Ей-ей, читатель, мне жалко этого несчастного полковника, который не имел права сказать, что он сам думает, потому что его обязали отражать мнение не только маршала Тимошенко, но и самых высших авторитетов в Москве, желавших видеть будущее в самом радужном свете. Зато Семен Константинович был солидарен с докладчиком и похлопал ему как положено. Гладко выбритая голова маршала излучала сияние, от маршала за версту благоухало одеколоном «Красная Москва», а настроен он был самым решительным образом… Рухле уступил ему место на трибуне.
— Товарищи! — радостно провозгласил Тимошенко. — В результате серьезных поражений, которые понесли войска вермахта, инициатива полностью перешла в руки героической Красной Армии; отныне мы станем развивать инициативу в новых победных битвах. Я особо подчеркиваю, — сказал Тимошенко, — что на юге, как нигде, заметна четкая тенденция к ослаблению гитлеровской армии. Мы уже навязали свою волю этим зарвавшимся гадам. Отныне мы вправе сами выбирать место и время для нанесения могучих сталинских ударов по всей этой фашистской сволочи…
За такие вот речи миллионы расплачивались своими ЖИЗНЯМИ.
Но мы, читатель, люди скромные, нам остается лишь аплодировать и не возражать, а то как бы Тимошенко не спросил нас:
— Вы кому служите?
* * *
Догадываюсь, что эти страницы многим покажутся скучными, но я все-таки убедительно прошу своего читателя вникнуть в рассуждения моих героев, ибо из их слов уже начинала складываться та страшная трагедия 1942 года, когда немецкие танки с ревом и лязгом выкатились на берега Волги…
Сейчас, перелистывая груды материалов тех лет и мемуары очевидцев давних событий, я понимаю — трагедия сложилась по той причине, что «гениальный» Сталин не велел верить тем людям, мнение которых не совпадало с его личным мнением, и, наоборот, он слишком доверял тем, кто угождал ему.
По сути дела, немцы уже не могли наступать по всему фронту, как они наступали в сорок первом году, мы тоже не были готовы к широкому наступлению, но преимущество в силах оставалось еще за вермахтом. 70 немецких дивизий по-прежнему торчали под Москвой, и Сталин полагал, что Гитлер еще способен к ударам на двух стратегических направлениях — на московском и южном. В конце марта им было созвано ответственное (даже очень ответственное!) совещание Государственного Комитета Обороны (ГКО) и Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК), на котором Шапошников изложил мнение Генштаба, призывая к сдержанности и не советуя строить слишком победных планов.
— Резюмируя сказанное, — заключил он, — я повторяю, что сейчас наиболее приемлем переход к активной обороне по всему фронту, чтобы поднакопить резервов и техники. Думаю, что под Воронежем нас еще ожидают оперативные осложнения.
— Воронеж… это барон Вейхс? — спросил Сталин.
— И танковый генерал Паулюс, — добавил Шапошников, — о котором мы извещены еще недостаточно. Наконец, со стороны Вейхса вполне возможен и неприятный для нас удар от Курска.
Василевский тоже поддержал выводы Генерального штаба.
— Но все-таки, — добавил Жуков, — надо стараться выжать немца из-под Вязьмы, необходимо покончить с демянским котлом, чтобы полностью избавить нашу столицу от угрозы…
Сталин внимательно слушал. При этом он заметил, что активная оборона — это, конечно, неплохо, но нельзя же, чтобы Красная Армия все лето просидела в траншеях:
— Мы должны упреждать противника собственной активностью! Прощупывать его слабые места. Я думаю, — сказал Сталин, — что товарищи Жуков и Шапошников предлагают нам лишь полумеры. Я не отвергаю метод стратегической обороны, но желательно нанести врагу несколько сильных ударов, чтобы окончательно закрепить успехи, достигнутые нами в эту зиму под Москвой.
Жуков едва заметно покачал головой, не соглашаясь, и как бы про себя буркнул, что наступательные операции широкого масштаба могут поглотить все наши резервы. Это было сказано Жуковым тихо, но слух у Сталина был отличный, и он обвел полководцев глазами, выискивая решительной и нужной ему поддержки.
— А что скажет нам товарищ Тимошенко? — сказал он, заранее уверенный в том, что Тимошенко скажет то, что необходимо слышать ему, Сталину, и в этом Сталин не ошибся…
— Я не сторонник полумер, — заявил Тимошенко, неодобрительно глянув на Жукова и Шапошникова. — Я стою как раз за самые решительные действия. Войска моего направления, образовав Барвенковский выступ, с этого же выступа всегда готовы продолжить наступление… к Харькову ! Сейчас бойцы моего фронта в таком состоянии, что они могут нанести сокрушительный удар, и если мы этого не сделаем сейчас, то я боюсь, как бы летом не повторилась суматоха сорок первого года…
— Будет точнее, — вмешался Сталин, — если именно Ваше выдвижение с Барвенковского выступа отвлечет силы противника с московского направления — самогоглавного!
Василевский напомнил о данных фронтовой разведки: в районах Днепропетровска и Кременчуга заметили скопление танков противника, по улицам оккупированных городов шляются танкисты — еще без машин и ожидающие их поступления.
— В одной только Полтаве проживают на казарменном положении 3500 танкистов. Простой подсчет показывает, что они составят экипажи на более чем тысячу боевых машин… Значит, на юге страны немцами что-то замышляется!
Сталин выслушал Василевского и сказал:
— Возможно. Но семьдесят германских дивизий под Москвой — от этого факта никуда не денешься…
Буденный тоже присутствовал на этом совещании, но я не знаю, какова была его реакция. Зато Ворошилов горячо поддержал боевую инициативу Тимошенко. При этом Шапошников тревожно переглянулся с Василевским: представители Генштаба, они никак не могли согласиться с петушиным задором Тимошенко, а их мнение опять-таки совпало с мнением Жукова.
— Я не понимаю, — резко заявил он. — Пора четко выяснить — или мы за частные операции с оперативными намерениями, или за стратегическую оборону? Только что мы признали целесообразность именно обороны, а сейчас, хлопочем о наступлении. За двумя зайцами сразу гоняться не следует. К тому же, — добавил Георгий Константинович, — любые частные операции на любом из направлений фронта расстроят все наши стратегические резервы, с таким трудом собранные со всех углов России.
— Товарищ Жуков, — выговорил Сталин, — мы не собираемся наступать очертя голову, но и сидеть сложа руки — преступно! Это преступно перед народом, которому от наших слов мало толку, народ ожидает от нас не слов, а результатов.
«Борис Михайлович Шапошников, — вспоминал Жуков, — который, насколько мне известно, тоже не был сторонником частных наступательных операций, на этот раз, к сожалению, промолчал». Вместо него подал голос молодой Василевский, рассуждавший как оперативный работник Генштаба:
— Заговорив о Харькове, мы вновь обращаемся Барвенковскому выступу… Наступление из оперативного мешка с выходом на стратегический простор всегда чревато многими опасностями для наступающего. Войска товарища Тимошенко уже дважды — в январе и в мартe — пытались выбраться с этого выступа, и оба раза они терпели неудачи.
Сталин задержал шаги за спиной Василевского:
— Значит, вы против наступления на Харьков?
— Да, товарищ Сталин, я боюсь неудачи. Генштаб считает Барвенковский выступ выгодным для наступления…
Тимошенко был все-таки старше Василевского.
— Когда это я терпел неудачи? — обиделся маршал. — И кому лучше знать обстановку на юге? Мне или вам, сидящему в Москве среди парикмахеров и телефонов? Мой штаб и члены Военного совета как раз в этом выступе и видят залог успеха.
— Прекратите! — вспылил Сталин. — Здесь не собрались жильцы коммунальной квартиры, чтобы выяснить на кухне, у кого больше лампочек вкручено… Вопрос уже ясен!
Иван Христофорович Баграмян помалкивал, ибо он был здесь самый маленький, но Сталин вопросительно глянул на него, и тот невольно поднялся, как солдат перед генералом, понимая, что отвечать надо так, чтобы ни с кем не лаяться, но и никому не поддакивать, чтобы Баграмян оставался Баграмяном.
— Я согласен, что вопрос о Харькове поставлен своевременно. Но в наших стрелковых дивизиях большой некомплект: они составляют лишь половину того, что положено по штату. В армии еще ничтожно мало новейших танков, острая нехватка в противотанковой артиллерии и в зенитной. Наконец, безобразно налажено снабжение продовольствием бойцов на передовой. Новобранцы приходят на передовую иногда босиком… и голодные. Как тут не вспомнить великого военного теоретика Вобана, который еще Бог знает когда заклинал: «Военное искусство, о! — это чудное чудо и дивное диво. Но ты не начинай войны, если не умеешь питаться…»
Сталин удивленно посмотрел на Баграмяна и, конечно, не стал развивать эту тему — как надо питаться, но, человек хитрющий, он заботливо ощупал солдатскую гимнастерку на Баграмяне:
— Товарищ Баграмян, почему вы так плохо одеты? Вы же начальник штаба крупных соединений, а гимнастерка у вас солдатская… штопана-перештопана. Товарищ Баграмян, кто вам ее заштопал?
— Сам и заштопал, товарищ Сталин.
— Молодец вы, товарищ Баграмян, но резервов для вас не будет! — неожиданно вдруг заключил Сталин, снова обращаясь к маршалу Тимошенко. — Резервы сейчас более нужны для Москвы.
Тут Тимошенко встал и сверкнул молодецкой лысиной.
— Справимся своими силами, — поклялся он, уверенный в себе и своих талантах. — В успехе я ручаюсь своей головой.
— Мне ваша голова не нужна, — тихо ответил Сталин…
Совещание закончилось напутствием Сталина: подготовить наступление на Харьков, в Крыму и в других районах. Таким образом, здравая идея активной обороны с накоплением резервов на будущее, когда враг будет измотан, распалась сама по себе — в разногласиях.
Наверное, если не все, то часть людей, расходясь с этого совещания, ощутила беспокойство.
Мне кажется, близость трагедии в полной мере осознал и маршал Шапошников, предупреждая Василевского:
— Голубчик мой, а я ведь уже старик — укатали сивку крутые горки. Буду рекомендовать именно вас на свое место.
Василевский никак не хотел быть начальником Генштаба:
— Какой вы старик? У вас лишь преклонный возраст.
— В моем преклонном возрасте, голубчик, иногда очень трудно сохранять непреклонный характер. Это общая беда всех людей, достигших моих чинов и моего возраста. Лучше мне уйти самому, нежели ждать, когда мой авторитет станет обузой для вас.
— Борис Михайлович, а врачи-то? Врачи что говорят?
— А вы думаете, у меня есть время для врачей?
* * *
Опять начинался новый день войны на Востоке. Немцы из армии Паулюса горланили из траншей в сторону наших окопов:
— Рус! Запевай: «Броня крепка, и танки ваши быcTPы…»
Танков не было. Солдаты озлобленно говорили:
— Перезимовал фриц, теперь ожил. Издевается…
Скоро к линии фронта подкатил желтый автобус ведомства пропаганды, через мощные репродукторы велась агитация:
— Только что на позиции солдат непобедимого германского вермахта доставлены колбаса твердого копчения, алжирские сардины в оливковом масле и свежие итальянские апельсины. Храбрые русские воины! Мы душевно разделяем ваши трудности. Нет, мы не предлагаем вам сдаваться в плен. Таких, как вы, у нас уже много. Приходите в гости, мы вместе позавтракаем и разойдемся по-хорошему. Если кто не пожелает возвращаться под иго своих жидовских комиссаров, мы будем рады… Для вас — это единственный способ, чтобы сохранить свою жизнь. Подумайте сами и решайте. А теперь мы, солдаты железного вермахта, желаем вам приятного аппетита; грызите свои черствые сухари и запивайте их тухлой водой из загаженного болота. Всего доброго! Как говорят ваши дурашливые союзники-американцы — спасибо за внимание…
12. Операция «Кремль»
Если у немцев были проблемы с транспортом (о чем я уже говорил), у нас на железных дорогах тоже кавардака хватало. Лазарь Моисеевич Каганович — это всем известно — плевал подчиненным в лицо, швырял в них стульями, доводил людей до слез и подводил их «под вышку» — как «шпионов». Ближайший «друг и соратник великого Сталина», он еще до войны разрушил железнодорожное хозяйство страны, а теперь в дни войны на железных дорогах зачастую царил попросту хаос.
Стоило танковым дивизиям Клейста появиться возле Ростова — и все южные магистрали сразу оказались плотно забитыми вагонами, платформами, паровозами и цистернами, которые как бы составили один нескончаемый эшелон. В этой «каше» (иначе не назовешь) намертво застряли мощные локомотивы ИС и ФД, позарез необходимые на трассах Урала и Сибири.
Между тем продолжалась ударная стройка железной дороги Кизляр — Астрахань, которой в нашем Генштабе придавалось стратегическое значение. Дело прошлое: кое-как одетые, почти не кормленные, путейские войска и работяги в этих унылых пространствах свершали трудовой подвиг! Чтобы они «шевелились» побыстрее, сюда был направлен заместитель наркома путей сообщения — пылкий чекист И. Д. Гоцеридзе.
Уже повеяло весной, когда в Сталинграде на столе Чуянова зазвонил телефон. Характерный акцент Гоцеридзе:
— Слюшай, дарагой! Ты там не психуй, но я тебе скажу: сегодня утром наши рабочие видели немецкие танки.
— Где танки? У вас? — Алексей Семенович не мог поверить. — Не может быть! — кричал он в трубку. — Вы посмотрите на карту, и тогда сами поймете, как же танки Клейста могли проскочить от Азовского моря до Каспия… через голые степи!
— Голые, да. Но мы не бредим. Это — танки.
— Вы слышали о них или сами наблюдали?
— Не кричи, дарагой! Я сам видел кресты на их башнях…
Чуянов созвонился с Москвой, вышел на связь с начальником тыла Красной Армии — генералом Хрулевым.
— Вполне возможно, — отвечал Хрулев. — Наверняка это работа Клейста, который решил провести глубокую танковую разведку. Я распоряжусь, чтобы рабочих на строительстве трассы вооружили. А вы передайте начальнику своего военного округа, генералу Герасименко: пусть подкинет на трассу пулеметов.
— Да где он возьмет их, товарищ Хрулев?
— Пусть поищет. У нас тоже ничего нету…
Признаем, что мобильность «роликов» Клейста была высокой. 1 апреля Гитлер лично известил Клейста, что ему предстоит катиться до нефтепромыслов Кавказа, чтобы навсегда лишить мобильности все моторы Красной Армии…
Дела были плохи! Харьков и Орел, где на заводах создавались танки, были уже захвачены немцами. Кировский завод в Ленинграде — блокирован, а Свердловск и Челябинск только сейчас разворачивали серийное производство новых танков.
Чуянов отговорил с Хрулевым и сказал сам себе:
—Вот еще наши заводы остались — сталинградские! Но одна-две хорошие бомбежки — и нам амба! О чем там думают?..
На юге страны уже разворачивалась армада немецких танков.
* * *
Военные врачи-психологи вермахта, постоянно изучавшие моральное состояние войск на фронте, докладывали и весной в ОКБ:
«Подавленность, связанная с зимним отходом, преодолена… Снова выявляется движение вперед, снова наступает доброе для нас летнее время!»
Но при этом психологи, достаточно объективные, отмечали, что перемен к лучшему не произошло среди штабных офицеров: склонные больше других к анализу, они довольно-таки мрачно взирали на будущее этой войны…
Фельдмаршала Ганса фон Клюге, который командовал группой армий «Центр», вызвали с фронта в ОКХ (в Цоссен).
— Русские, — сообщил ему Гальдер, — концентрируют резервы в окружности Москвы, но будет плохо, если они передвинут их к югу. Следует конкретно убедить противника в том, что летом мы нанесем новый удар по их столице. Вы как командующий «Центра» подготовите приказы о наступлении на Москву, приложив все старания, чтобы о смысле ваших приказов стало известно в Кремле. Эта операция по дезинформации противника и получает кодовое название «Кремль».
— Генерал Фельгиббель предупрежден?
— Да. Его полевые радиостанции сделают все, чтобы умышленно допустить достоверную утечку ложной информации. А ваши приказы должны выглядеть правдиво, чтобы у Сталина не оставалось и доли сомнения в их подлинности.
— Понимаю, — кивнул Клюге. — Это срочно?
— К маю должно быть все готово. Ганс Фриче проболтается по радио о том, что Москва летом будет наша. Вы должны сделать все, чтобы стратегические резервы Сталина удержались под Москвой — вдали от наших армий на юге.
Пожинать свои победные лавры прилетел в Берлин везучий Роммель; Гальдер охладил его пыл словами:
— Нам сейчас не до Египта! Подкреплений не ждите, что у нас осталось, забирает ваш лучший друг Паулюс. Волга для нас важнее дурацкого Нила с крокодилами.
— Гитлер оказался щедрее Гальдера?
— Роммель, вы гордость нации! На этот раз я не откажу вам в поддержке авиацией. Пусть фельдмаршал Кессельринг усилит бомбежки Мальты, обеспечу доставку итальянских танкеров с горючим. Но предупреждаю: в мае всю авиацию я заберу от вас обратно — для нужд Восточного фронта.
— Следует, ожидать важных операций на Востоке?
— Да, Роммель. Если мы и сейчас не добьемся решительных успехов, значит немецкий народ выродился в ничтожество, он не имеет право на существование в пусть он подыхает, — сказал Гитлер («и я тогда, — писал Роммель, — в первый раз заподозрил фюрера в ненормальности…»).
Как раз в эти дни Гальдер предупредил Гитлера, что русская промышленность после эвакуации на Восток начинает набирать небывалую мощь, ее заводы в глубоком тылу способны в ближайшее время поставить на конвейер 600 — 700 танков в месяц.
— Хватит гипербол! — не поверил Гитлер и сразу обозлился. — Я ведь еще не забыл о кризисе с зубными щетками.
— Мой фюрер, — отвечал Гальдер, — я согласен, что хороший ширпотреб так и останется недостижимой мечтой в русском народе, но… танки ! Они делают их быстрее нас.
Гитлер прогнал от себя начальника генштаба, а потом жаловался Борману, что Гальдера он не может терпеть:
— Этот баварец становится невыносим! Гальдер теперь взял моду преподносить мне всякие гадости. По его откормленной морде я вижу, что ему нравится играть на моих нервах.
Генерал Фромм тоже не пощадил его нервов:
— Как начальник резервов вынужден огорчить вас! Сейчас мы имеем некомплект в шестьсот двадцать пять тысяч человек.
— Выньте их из кармана, Фромм! Не стесняйтесь.
— Можно объявить призыв семнадцатилетних. Правда, германские законы в этом случае требуют согласия родителей.
— Мамочки и папочки пускай заткнутся, — сказал Гитлер. — Сейчас не до их прощальных воплей на вокзалах.
— Я такого же мнения, мой фюрер. Резервы обнаружились и у Геббельса: он держит вне призыва здоровущих кобелей вот с такими глотками, которые в кабаках распевают о Лили Марлен.
— Верно, Фромм! Теперь их песенка спета. О женских прелестях Лили Марлен могут распевать лишь наши заслуженные ветераны, еще не потерявшие голос от морозов в России.
Оказывается, Фромм обрыскал все тупики и закоулки рейха, где скрывались уклоняющиеся от фронта.
— Следует потрясти и Геринга: у него в люфтваффе на одного летающего по пять — десять бездельников обслуживающего персонала. Наконец, — закончил Фромм свой доклад, — можно сократить прислугу в зенитных расчетах. К зениткам можно поставить девок или подростков, любящих ковыряться с техникой.
— С вами, Фромм, приятно иметь дело.
— Служу великой Германии. Хайль Гитлер!
28 марта состоялось секретное совещание в ставке Гитлера, и по своей значимости оно имело столь же важное значение для судеб войны, что и недавнее совещание в кабинете Сталина.
Проблемы, столь мучительные для нашей Ставки, угнетали и верхушку гитлеровского вермахта, и эти проблемы — удивляться тому не следует! — во многом совпадали. Со слов Гейнца Гудериана понятна их суть. «Весной 1942 г ., — вспоминал он, — перед немецким верховным командованием встал вопрос, в какой форме продолжать войну: наступать или обороняться?..»
Самой оригинальной — и, пожалуй, самой неглупой! — была точка зрения адмирала Деница, который заявил:
— Сейчас возник такой момент, когда Египет у англичан завоевать намного легче, нежели отнять Кавказ у русских, и потому я считаю, что корпус Роммеля в Ливии надо не ослаблять, как мы делаем, а, напротив, усиливать.
Деницу тут же здорово влетело от владыки вермахта:
— Вы разве не верите в нашу победу на Востоке? В пустынях Ливии более заинтересован Муссолини, а Роммель останется при нем вроде мальчика на побегушках… Конечный результат всей войны должен проявиться в России, и только в России!
В основу летнего наступления вермахта был положен проект «Блау» — о выходе вермахта к Волге и на Кавказ, о чем еще зимою столь настырно хлопотал Адольф Хойзингер.
— Я, — сказал Гитлер, — вынужден повторить то, что твердил еще в прошлом году. Русские не так уж чувствительны к окружениям, как мы, и потому немцам следует освоить принципы очень плотных окружений чтобы уничтожать их внутри будущих котлов. «Блау» подразумевает экономические цели — захват русских нефтяных ресурсов, и политические — выход в страны Ближнего Востока, чтобы изолировать Советы от их союзников на юге, и заставить Турцию выступить против Сталина.
К этому времени пантюркисты Анкары, наследники былой славы Осмаилисов, уже выпустили в продажу карты, на которых советские территории с мусульманским населением — вплоть до Казани! — были заштрихованы как турецкие владения. А басмаческие шайки, нашедшие приют в горах Афганистана, готовились снова ринуться в нашу Среднюю Азию.
— Турецкий премьер-министр Сарадж-оглы, — сообщил Гитлер, — обещал моему послу фон Папену выставить летом в Турецкой Армении двадцать шесть полнокровных дивизий. В этом случае японцы тоже расшевелят боевой пыл своей Квантунской армии.
Все, что говорил Гитлер на этом совещании, было хорошо им аргументировано, никто не смел ему возражать, лишь Йодль высказал оперативные сомнения.
— Но усиливая группу «Юг», — заметил он, — мы тем самым ослабляем «Центр» и «Север», что позволит, думаю, Жукову проникнуть в направлении на Шмоленгс.
— Для этого, — отвечал Гитлер, — у него не хватит сил, ибо, ощутив привкус катастрофы на юге, Сталин начнет спешно перебрасывать свои силы от Петербурга и Москвы.
В глазу Кейтеля броско посверкивал монокль:
— После той бани, какую мы устроим русским у Барвенковского выступа, следующий удар барона Вейхса на Воронеж сначала будет выглядеть началом фиктивной операции «Кремль»! Русские подумают, что на этот раз мы идем на Москву через Воронеж. Когда же в Москве догадаются, что они обмануты, будет уже поздно. Котел вберет в себя все русские армии, размещенные по хордам гигантского треугольника, углами которого станут Воронеж — Таганрог — Сталинград. Дорога на Кавказ станет открыта!
На этом совещании все немецкие генералы были раболепно солидарны с Гитлером.
Правда, Франц Гальдер еще долго брюзжал перед Адольфом Хойзингером, но его брюзжание один Хойзингер и расслышал.
— Вермахт вряд ли способен к операциям такого масштаба, какие запланировал фюрер. Это же абсурд — расчленять группу «Юг» по двум дорогам — кавказской и сталинградской. Русские передушат их там поодиночке… Йодль, кстати, прав: стоит Жукову треснуть по Шмоленгсу, и тогда от «Блау» полетят перья.
— Что бы вы сделали на месте нашего фюрера?
— Мне хватило бы одного Сталинграда, — отвечал Гальдер. — Выйдя к Волге, я бы разом перекрыл все краны, из которых русские черпают горючее, и тогда армия Сталина умерла бы сама по себе в жестоких корчах нефтяной дистрофии…
В апреле Гитлер повидался с Муссолини и Антонеску, чтобы выкачать из Италии и Румынии новые пополнения. Он обнадеживал их в непременном успехе летнего наступления, утверждал, что у русских не осталось боевой техники:
— Сейчас они только импровизируют! Но им уже не собрать ту старую глину, из которой они сваляли своего безмозглого колосса. Что же касается помощи от союзников, то Черчилль и Рузвельт помогают Сталину в мизерных дозах, словно их паршивые «матильды» и вонючие «студебеккеры» — драгоценное лекарство для умирающего. Второго фронта в Европе не будет, и это позволяет мне в спокойной деловой обстановке приготовить для Востока еще шестьдесят новых дивизий. А скоро я буду иметь в рядах вермахта сразу девять миллионов солдат!
Муссолини очень боялся второго фронта — не в Европе, а в Африке, его рассуждения на эту тему были Правыми:
— Рузвельт может забраться в Марокко, а Черчилль нажмет от Египта, и тогда армия в Ливии, включая и вашу — Роммеля, треснет, как орех, раздавленный щипцами.
Гитлер рассуждал совсем неправильно:
— Если второй фронт и возникнет, то все дело кончится десантом в Норвегии, на большее Черчилль не согласится. Норвегию я беру на себя, а вы занимайтесь Мальтой. Если же эти похотливые янки сунутся в Западную Африку, я сразу оккупирую всю Францию целиком. Я не остановлюсь перед капризами Франко — буду штурмовать Гибралтар. При такой ситуации долго ли усидит Рузвельт в Касабланке?
Гитлеру явно мешал язвительный граф Чиано:
— Главное сейчас — Россия, и, кажется, она устоит разрушив прогнозы вашего командования.
До чего же Гитлеру был противен зять Муссолини!
— Это невозможно, — взбеленился Гитлер. — Я отнял у них молибден и марганец, без которого немыслимо создание бронебойной стали. Если у меня завтра кончится каучук, я тут же заменю его синтетической «буной». А чем заменят каучук русские на своих истрепанных шинах? Чем? Тряпками?
Чиано по-своему расправлялся с Гитлером:
— Боюсь, что «буна» не для русских ухабов. А Красная Армия использует добротный искусственный каучук, созданный в лабораториях своего химика Лебедева.
— Это большевистская пропаганда, Чиано!
— Да? — вроде бы удивился Чиано. — Но перед войной Рим торговался с Москвой о закупке именно русского каучука. Выходит, Сталин хотел надуть нас и подсунул нам… воздух?
* * *
Настали дни Пасхи, когда Паулюс появился в Берлине, дабы в кругу семьи отметить крещение двух младенцев-близнецов, благополучно рожденных дочерью Ольгой
Радиовещание Берлина в эти пасхальные дни захлебывалось от восторга: генерал Курт Зейдлиц прорубил «коридор» из Демянского котла, а германская авиация, отбомбившись по Мальте, уже раскладывала свои зажигалки по крышам Сталинграда… Первая деловая встреча Паулюса состоялась в кабинете Хойзингера:
— Сюрприз! — сообщил он. — Шапошников серьезно болен, на его место выдвигается Василевский, мой антипод. Думаю, мы раньше недооценивали его таланты. К сожалению, против Василевского абвер не подобрал компрометирующих материалов, если не считать того, он сын священника.
— Этот фокус не пройдет, — сказал Паулюс, — ибо Сталин тоже учился в духовной семинарии. А как Гальдер?
Паулюс застал Гальдера в веселом настроении:
— Нам повезло. Чертовски повезло… В наших руках оказался русский генерал Самохин Александр Григорьевич, бывший военный атташе в Югославии, а ныне командующий 48-й армией Брянского фронта.
— Как это случилось? Он сдался?
— Нет. После приема у Сталина вылетел на фронт. Но пилот посадил машину не в Ельце, а на нашем же аэродроме в Мценске. Самохину не стоит даже трепать нервы в абвере, ибо при нем взяли целую сумку секретных директив. Теперь перед нами вырисовывается полная картина летних планов Тимошенко на Барвенковском выступе. Вашей шестой армии, Паулюс, предстоит встретить удар на подступах к Харькову.
— Назовете ли точную дату?
— Примерную. Где-то в первой декаде мая…
Паулюс сомневался в достоверности рассказа Гальдера, ему с трудом верилось, что Самохин случайно сел на чужой аэродром с самыми секретными директивами своей Ставки:
— Слишком фантастична вся эта история. Не был ли пилот Самохина тайным агентом нашего фюрера? Или, может, Сталин нарочно пожертвовал своим генералом, чтобы всучить нам его портфель с фальшивыми планами?
— Нет. Просто его пилот летел без штурмана, плохо зная аэронавигацию, и теперь Москва будет за это расплачиваться…
Маршал С. С. Бирюзов, которому как раз и выпала горькая доля докладывать «наверх» об этом случае, после войны писал:
«У меня нет никакого сомнения в том, что трагический эпизод с генералом Самохиным сыграл свою роковую роль и в какой-то мере предопределил печальный исход нашего наступления на Харьков».
А пока там генеральштеблеры изучали бумаги из портфеля Самохина, в штабе фельдмаршала фон Клюге готовились фальшивые документы, чтобы убедить Сталина в его ошибочном мнении, будто летом вермахт будет снова наступать на Москву. Этот документ готовился в 22 экземплярах и — будьте уверены! — немецкая разведка постарается, чтобы один из этих экземпляр попал на стол самого Иосифа Виссарионовича. И уже одно название фальшивки «Кремль » должно вызвать душевный трепет вождя, который все резервы, какие у него есть, оставит при себе, чтобы оградит Москву и себя в Кремле.
13. «Охота на дроф»
Имена людей, которые я назову вам, ничего не говорят нам, и никакого геройства они не свершили, но весною 1942 года им привелось своими глазами увидеть нечто такое, что вскоре отразилось на делах наших армий Южного фронта и вызвало оперативный кризис, схожий с параличом.
Некий лейтенант Корженевский и рядовой Петров (имен их не знаю), изможденные до предела, оборванные и грязные, уже целый месяц выбирались к своим из окружения, в которое попали под Ростовом. Они стремились на север в сторону Славянска, где, по слухам, пролегала шаткая линия фронта. Пуганые и осторожные, они стороною обходили магистрали, чтобы не нарваться на вражеские разъезды. Однажды ночь застала их в голой безлюдной степи, оба прикорнули у костерка, пробужденные на рассвете страшным грохотом моторов и гусениц
— Танки! Смотри, смотри… сколько их, Господи!
Сначала десятки, а потом и сотни машин, маневрируя в степи, совершали какие-то странные эволюции. Наконец, они застыли, образовав четкую геометрическую фигуру, похожую на четкий квадрат, видимый, наверное, даже из космоса.
— Что бы это все значило? — обомлели оба.
— Напоролись… прямо на танки Клейста! Но что они тут делают и зачем выстроились в квадрат, этого я не знаю.
Петров был дважды ранен (он танков боялся):
— Может, уйдем от греха, пока не поздно, а?
— Поздно. Лежи. Заметят — прихлопнут сразу.
Между тем танки Клейста, составив форму гигантского каре, внутри которого оставалось свободное пространство, чего-то выжидали. Экипажи от машин не расходились. В утреннем воздухе были слышны резкие окрики офицеров.
— Летят… гляди, гляди! — вдруг сказал Петров. — Совсем непонятно, — ответил Корженевский… Пятерка брюхастых самолетов вдруг пошла на посадку, приземлившись в центре танкового квадрата. Машины вдруг ожили, экипажи забегали, разнося от машин длинные шланги, их подключали к фюзеляжам, Корженевский догадался:
— Вот оно что! Заправляют баки горючим.
На смену опустошенным авиацистернам прилетали другие, быстро перекачивали горючее из фюзеляжей в танковые баки, и так продолжалось несколько раз — при строгом соблюдении хронометража по времени, в порядке распределения горючего по часовой стрелке. Было видно, что у немцев эта операция четко отработана еще на маневрах. Наконец, вспыхнула сигнальная ракета, и танки, мощно содрогая поверхность истерзанной ими земли, колоннами развернулись в степные пространства… Корженевский и Петров долго не могли опомниться, потрясенные всем увиденным.
— Как в романах Уэллса, — сказал лейтенант. — Прямо марсиане какие-то, сошедшие на землю… Пошли, браток!
— Куда? — поднялся Петров, отряхиваясь.
— Хоть один из нас, — отвечал офицер, должен непременно остаться в живых, чтобы сообщить своим о том, что мы случайно здесь увидели… вблизи Краматорска!
Разведка нашей 9-й армии подтвердила рассказ окруженцев. О группировании танков Клейста к югу от Славянска напомнили вышестоящему командованию. В «Истории второй мировой войны» сказано:
«Однако ни командующий Южным фронтом генерал Р. Я. Малиновский, ни главнокомандующий войсками юго-западного направления маршал С. К. Тимошенко не приняли во внимание своевременный доклад… об угрожающей опасности».
Неудачи в войнах всегда неизбежны, но их нельзя оправдать, если они возникли по безалаберности людей, которым доверено ведение войны. Это явное пренебрежение к противнику послужило трагической людней к роковым поворотам в мае 1942 года.
На генерала А. И. Родимцева, будущего героя Сталинградской битвы, в эти весенние дни произвели сильное впечатление слова рассуждавшего в окопе молодого комбата:
— Война — штука простецкая! Философии тут надо. Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать как надо. Вот и вся премудрость!
* * *
Если сделать «короткое замыкание» в напряженной сети логических событий, то мы увидим, что судьбы двух битв — за Сталинград и Кавказ — были зависимы от битвы за Харьков, а судьба Харькова зависела от обстановки в Крыму…
Начиная с января 1942 года Керченский полуостров и город Феодосию занимали наши войска, которые сковывали немецкие армии Эриха фон Манштейна, который штурмовал Севастополь, действуя с оглядкой назад: постоянно следовало ожидать удара со стороны Керчи — и тогда, может быть, придется оставить штурм города и вообще убираться из Крыма. Мало того! Гитлер не мог начать летом наступление на Кавказ, ибо эта мощная русская армия могла угрожать тылам вермахта и тем же танкам Клейста, способная устроить немцам котел — подобный тому, что сейчас клокотал и кипел под Демянском…
Стыдно писать! Пожалуй, нигде не было собрано столько людей и боевой техники, как на этом узеньком Керченском перешейке; плацдарм был забит людьми, отчего, как говорится, и плюнуть-то было некуда.
— Вот и хорошо, — говорил Мехлис. — Пусть враг убедится в несокрушимой мощи сталинского удара.
Всей этой оравой командовал слабохарактерный генерал Дмитрий Тимофеевич Козлов, и Лев Захарович Мехлис состоял при нем представителем Ставки; бедного генерала Мехлис попросту запугал и задергал придирками. Что ни скажет Козлов, Мехлис во всем подозревал «вражеские происки». Весь перешеек-то в тридцать два километра по фронту, а Мехлис завел громоздкие канцелярии и даже… даже курсы по ускоренному обучению командного состава. А дармоедов-то сколько! Но все при деле. Кого ни спроси, каждый «исполняет поручение начальства».
Да, повторяю, писать стыдно!
Неслыханное дело! — на фронте возникли сразу два штаба; свой личный штаб Мехлис натравливал на штаб командующего армией. Сложилась нездоровая обстановка кляуз, доносов и болтологии. Вчера совещание, сегодня заседание, завтра отчетно-выборное собрание, послезавтра Мехлис собирает партактив, чтобы решать вопросы о воспитании бойцов в духе непоколебимой верности делу Ленина — Сталина… Муза бюрократии парила над армией.
— Что вы мне тут талдычите! — кричал Мехлис на военных (к их несчастью, подчиненных ему). — Вы изложите все четко на бумаге с приложением печати и чтобы вашу подпись удостоверил секретарь парторганизации. Вот тогда и будем разговаривать.
Абсолютный профан в военных делах, Лев Захарович запретил бойцам отрывать даже окопы и траншеи.
— Вам бы только в земле отсидеться, трусы! — оскорблял он людей. — Окапывание подрывает наступательный дух красного бойца, а большевик должен смело глядеть в лицо смерти!
Всю тяжелую артиллерию, которой сам Господь Бог велел торчать в тылу, Мехлис выдвинул на самый передний край фронта. Дивизия есть дивизия, а Мехлис держал их кучей, не разрешая растягиваться, теснил солдат одного к одному, как жильцов в коммунальной квартире, и дивизия занимала фронт на «пятачке» в 500 метров , а Козлов боялся вмешиваться:
— Погубит он всех нас, но… что делать? Кому жаловаться? Тронь это дерьмо, так оно тут же завоняет.
1937 год с его кошмарными страхами витал над Керченским полуостровом, и положение Козлова я понимаю. Во все времена, во всех войнах России русские генералы, не согласные с высшим начальством, сразу подавали в отставку, и за это их уважали! Но теперь-то времена иные: попробуй Козлов заикнуться об отставке или несогласии с Мехлисом, он был бы сразу уничтожен — как «изменник». Сталин знал, что Козлов задерган Мехлисом, но верил не генералу Козлову, а партайгеноссе Льву Захаровичу:
— Товарищ Мехлис не подведет. Хороший товарищ! Когда он был редактором «Правды», там у него одну правду писали…
Сколько у нас писали об этом мерзостном человеке, и хоть бы один автор сказал о Мехлисе доброе слово — нет, никто не сказал. Да, чужих жизней Мехлис никогда не щадил, стрелял людей направо и налево, словно это не люди, а мухи. Но свою-то голову он берег… еще как берег! Стоило над плацдармом появиться вражескому самолету, и Мехлис сразу поднимал в небо не только эскадрильи истребителей, но иногда целые авиаполки. Маршал авиации Н. С. Скрипко писал, что едино лишь для безопасности самого представителя Ставки «авиация фронта быстро выработала моторесурсы, а когда действительно потребовалось летать в полную силу многие истребители не могли подняться…» Голова незабвенного Льва Захаровича обошлась нам в 400 самолетов!
Конечно, Москва не за тем собрала большие силы, чтобы они там топтались на одном месте и пожирали казенную кашу. Ставка не раз толкала Крымскую армию в наступление, чтобы рванулась в глубину Крыма, чтобы выручила израненный Севастополь, чтобы взяла Перекоп и захлопнула крышку котла, в котором армия Манштейна и погибла бы… Только в апреле Мехлис с Козловым начали наступать, но так бестолково, что все атаки оказались бесполезны. Солдаты даже не знали, как наступать за огневым валом, не умели атаковать следом за танками. Радиосвязь бездействовала — штабы, как в гражданскую войну, полагались на телефоны, а если и телефон отказывал, они рассылали ординарцев;
— Сбегай, Ваня, скажи Петухову, что ему должно быть стыдно.
Манштейн очень легко отвоевал у Мехлиса город и порт Феодосию, отчего войска Крымской армии еще более стеснились на маленьком «пятачке», словно люди в переполненном трамвае.
— «Охота на дроф », — возвестил Манштейн, — именно так назовем мы эту операцию… Из этой каши, что заварили сталинские стратеги, мы устроим кровавую кашу!
На рассвете 8 мая немецко-румынские войска начали «охоту на дроф», а уже к вечеру наш фронт развалился. Бойцы сражались отчаянно — на пределе сил, гибли геройски, понимая, что мостов от Керчи на Тамань нету — море — Моряки в тельняшках вставали в полный рост, крича «полундррра-а!», пытались из винтовок стрелять в узкие триплексы смотровых щелей танков… Все они погибли под гусеницами! Манштейн вспоминал: «Все дороги были забиты брошенными машинами, танками и орудиями противника. На каждом шагу навстречу нам попадались длинные колонны пленных. Перед нами в лучах сияющего солнца лежало море, Керченский пролив и противоположный берег (уже кавказский) Цель, о которой мы так долго мечтали, была достигнута».
Мехлис бежал, оставив врагам 176 000 пленных, все самолеты, все танки и две с половиной тысячи орудий, которые Манштейн сразу отправил под Севастополь, — крушить его защитников. Но перед тем, как убежать, Лев Захарович отправил донос на генерала Д. Т. Козлова как на «изменника», и Сталин, получив этот донос, показал его Г. К. Жукову:
— Вот видите, к чему приводит оборона, до которой у нас так много охотников. Надеюсь, что товарищ Тимошенко, рвущийся в бой, понимает, что лишь в наступлении вершится победа…
Около полуночи 11 мая он вызвал С. М. Буденного;
— Семен, поезжай туда сам и разберись. Заставь (!) ты Мехлиса и Козлова остановиться, чтобы Манштейн не мог проникнуть к востоку далее — далее, Семен, уже Кавказ …
15 мая Сталин издал приказ: «Керчь не сдавать ».
Но Керчь уже сдали. Крымская армия, брошенная командованием, спасалась вплавь через Керченский пролив — вплавь , потому что катеров не хватало, люди цеплялись за каждую шлюпку. А часть наших войск, не сумев пробиться к морю, заживо погребла себя в каменоломнях Аджимушкая (и там, глубоко под землей, почти целых полгода они еще держали фронт, пока немцы не задушили их газами).
Севастополь теперь был обречен!
Сталину доложили, что пришел Лев Захарович Мехлис.
— Что ему? — спросил Сталин.
— Объясниться.
— Скажите ему, что я эту сволочь видеть теперь не могу.
Эта «сволочь» с великими почестями погребена Кремлевской стены, где — давно всем известно — полно всяких других сволочей и палачей народа, продолжателей дел и интерпретаторов наследия мавзолейного идола. Мы, русские, по собственной инфантильности, любящие прощать тогда, когда прощать нельзя, до сих пор еще не разгребли эту свалку, образованную возле святыни нашего оскорбленного государства.
— «Охота на дроф», — подвел итоги Манштейн, — закончилась удачно, и нашим богатым трофеям, наверное, позавидует в «Центре» мой коллега — фельдмаршал фон Бок…
* * *
В бункерах «Вольфшанце» шла активная подготовка к летней кампании. Гитлер, как и Сталин, ложился спать лишь под утро, он включался в оперативную работу ставки лишь после полудня. Тучи комаров налетали из чащоб в штабные бараки, по ночам зловеще угукали нелюдимые прусские филины, надрывно лаяли сторожевые овчарки эсэсовской охраны, каждодневно пожиравшие столько мяса, сколько рядовой немец не имел по карточкам в месяц.
Настроение у Гитлера было хорошее. Кейтель с Йодлем рассуждали, что лето начинается хорошо.
— Успех в Крыму определился, перед нами узенький Керченский пролив, и мы сразу окажемся на берегах Тамани, чтобы развивать движение в сторону нефтяных вышек Кавказа… Наконец, нам повезло и на Волховском фронте, где окружена и полностью разгромлена Вторая ударная армия, на которую так уповали в Кремле, и вчера нам сдался генерал, назвавшийся Власовым!
Фельдмаршал фон Бок вызвал к себе в Полтаву генерала Паулюса, и он предстал, тщательно выбритый, стройный и подтянутый, с упругой походкой человека, соблюдающего диету.
— Первоначальный успех, — сказал командующий «Центром», — определен ловкостью Манштейна, а дела в Крыму сразу же отразятся на Барвенковском выступе. Именно от вас, Паулюс, зависит и наш конечный результат — выход к Волге у Сталинграда. Никаких перемен в сроках более не предвидится, и маршал Тимошенко будет потревожен нами восемнадцатого мая…
Совсем иное настроение было тогда в нашем Генштабе совсем иное, просто паршивое. Александр Михайлович Василевский, уже генерал-полковник, был срочно отозван из-под Демянска, где наши войска никак не могли справиться с немцами, попавшими в окружение, но в кресле маршала Шапошникова он, новый начальник Генерального штаба, чувствовал себя крайне неудобно, словно самозванец, не по праву занявший престол.
Со своим приятелем генералом Анисовым он поделился:
— Как начинать? И — с чего? По сути дела, начинать мне приходится с позора … Да, да, с позора. Манштейн малыми силами сокрушил в Крыму наши большие силы. Вчера наш самолет пролетел на бреющем полете над крышами Керчи; пилот видел, что все улицы и дворы в Керчи забиты нашей брошенной техникой, и теперь нашей же техникой Манштейн станет усиливать свою штурмовую группу под Севастополем, судьба которого, таким образом, решена… Между нами говоря, — продолжал Василевский, — после всего, что случилось в Крыму и под Волховом, нет никакого смысла начинать операцию под Барвенково, чтобы штурмовать Харьков. Но… как доказать там, наверху, что только в обороне наше спасение?
А мне вновь вспоминаются слова молодого комбата, которые как-то услышал генерал Родимцев, и я эти слова с удовольствием повторю для тебя, читатель, ибо мне они представляются мудрыми: «…Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать как надо… вот и вся тут премудрость!»
К сожалению, у нас часто воевали так, как нельзя.
14. На рать идучи…
Прошу обратить внимание на очень рискованный стык во времени: Паулюс готовил армию для удара по Барвенковскому выступу 18 мая, а маршал Тимошенко планировал перейти в наступление опять-таки с этого выступа 12 мая, их планы разделяла одна неделя, но уже в этом почти совпадении дат и точном определении боевых позиций чуялось нечто роковое…
Б. М. Шапошников, навсегда покидая Генштаб, еще раз просил Ставку воздержаться от харьковской операции, считая ее рискованной и малоподготовленной, и Сталин, по словам Василевского, «дал разрешение на ее проведение и приказал Генштабу считать операцию делом направления, — то есть делом Тимошенко, — и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться…». Иначе говоря, Сталин, отвергая услуги Генштаба, как бы брал ответственность за предстоящее наступление на себя…
— Почему не вмешиваться? — переживал Василевский. — Без указаний Генштаба разве мало дров наломали в сорок первом? Ведь не один я тут сижу, здесь круглосуточно работает «мозг» всей нашей армии, я все-таки вмешаюсь.
— Желаю успеха, голубчик, — ответил Шапошников и ушел…
Будущая трагедия Сталинграда определялась просчетами Сталина и боевым апломбом маршала Тимошенко, всегда излишне уверенного в своих талантах и в своих силах. После страшного разгрома армии в Крыму, казалось, нет никакого смысла начинать движение на Харьков — тем более не с широкого плацдарма, а лишь с «бородавками» Барвенковского выступа. После крымской катастрофы многие понимали, что обстановка на юге изменилась в пользу противника. И наши, и западные историки придерживаются единого мнения: положение Красной Армии могло спасти не наступление, а, напротив, отказ от него, чтобы занять нерушимую оборону. К сожалению, Сталин и Тимошенко рассуждали иначе…
* * *
Катились грузовики с молодыми солдатами последнего призыва, для которых битва за Харьков станет первым и последним их боем, по зеленеющим обочинам неторопливо шли ветераны, крутя на ходу цигарки, иные даже босиком, покрикивали молодым:
— Мотопехота! Оттого, что шагать неохота…
Впервые за всю войну солдаты увидели в небе превосходство нашей авиации над вражеской, своими глазами убедились в том, что тяжелые KB — это не выдумка окопных краснобаев. Броня танков была украшена надписями: «За Сталина»!, «За нашу Советскую Родину!» и «Вперед к победе!»
Все это настраивало войска на боевой лад, да и кормить стали намного лучше, а до этого сидели на мерзлой картошке, которую выкапывали на заброшенных огородах под пулями немецких снайперов. В кисетах зашуршала махорка, по утрам старшина делил водку, как положено перед наступлением. Особым почетом пользовались бронебойщики с длинными ружьями ПТР, которые таскали вдвоем, как носят деревья (один с хлыста, а другой с комля). Радисты приникали к штабным аппаратам, боясь пропустить в эфире сочетание цифр «777», которые послужат сигналом ко всеобщему наступлению.
Молодой генерал Кузьма Акимович Гуров навестил в эти дни Александра Ильича Родимцева на передовой, широким жестом выставил на стол бутылку портвейна, на этикетке которой красовалась популярная марка «777». Родимцев — человек нервного склада характера, легко возбудимый, худощавый, очень подвижный — побарабанил по бутылке пальцами:
— Три семерки… что за символика? Как по заказу. Но погоди, Акимыч, сначала допросим одного франта.
Пленный, действительно, выглядел добротно, словно свежий товар, полученный прямо со склада. Морда сытая, сапоги сверкают, мундир с иголочки. Начали:
— Какой дивизии?
— Двадцать третья.
— Инфантерия?
— Нет, панцер.
— Откуда появились в наших краях?
— Из Парижа…
Карта парижского метро и фотография пленного на фоне мостов через Сену подтверждали его слова. Генерал Гуров, как политработник, спросил, нравится ли ему в России?
— Совсем не нравится, — отвечал пленный.
— А воевать… нравится?
— Если б не эта война, что бы я делал? Наживать горб у станка на заводе… это не по мне. Когда бы еще я смог повидать Норвегию, Крит, Ливию, побывать в Афинах и в Париже? И все это бесплатно — за счет вермахта!
Родимцеву было не до лирики, он спросил:
— Почему вы так откровенны с нами?
— А что мне скрывать? Я попал в плен случайно и пробуду в плену недолго. Скоро вы все будете уничтожены нами, а я тогда получу двухнедельный отпуск, долго не просижу за колючей проволокой, а вот вы еще насидитесь.
— Ну, что ж, — посмеялся Родимцев. — В откровенности вам не откажешь, в смелости тоже, за что и хвалю…
Пленного увели, Гуров открыл портвейн.
— Верно говорят наши бойцы: ожил фриц, отогрелся на солнышке. И теперь не слыхать, чтобы «Гитлер капут» орали, как это зимой было… Перезимовали, сукины дети!
— Да, — согласился Родимцев, — признак нехороший. Но меня сейчас тревожит иное. Я заметил уплотнение боевых порядков перед своим фронтом. Не напорется ли наш кулак на немецкий? Свои корпусные эшелоны Паулюс придерживает в Харькове, выдвигая лишь дивизионные резервы. Ясно, что немцы сохраняют силы в тылу для ответных ударов… В осторожности Паулюсу никак не откажешь.
— В уме тоже, — кивнул Гуров. — Это не Рейхенау, который частенько пер на рожон, действуя нахрапом. Я беседовал тут с Баграмяном — армянин с башкой, собаку съел на штабной работе. Так вот он говорил мне, что в поведении Паулюса чувствуется крепкая академическая школа. Скверно, если мы станем его недооценивать. Такой «академик» способен, кажется, переломать мебель и перебить всю нашу посуду…
В канун наступления маршал С. К. Тимошенко созвал в Купянске совещание командармов, еще раз заверив их в слабости противника, он говорил о полном преимуществе своих армий — как в живой силе, так и в техническом обеспечении. На этом же совещании были произнесены слова:
— Уже одно то, что товарищ Сталин, наш великий друг и учитель, одобрил наступательные планы армии, может служить верным залогом предстоящего успеха нашего наступления…
«Должен сказать, — писал очевидец, — что это сообщение прозвучало тогда весьма обнадеживающе. Мы сочли, что возложенная на нас задача связана с самыми широкими планами Ставки!»
Как и водится, все было достаточно засекречено, и потому командиры (и даже генералы) не могли знать о тех мнениях, что складывались в Генштабе и в кабинете Сталина, не всегда совпавшие. Повторялась сказка про «белого бычка»! Сталин ожидал удара немцев по Москве и толкал Тимошенко вперед, чтобы он, его натиск на Харьков оттянул немецкие силы от Москвы, а Тимошенко ставил перед собой задачи более широкие — выйти на широкий стратегический простор, чтобы изменить весь ход войны…
В ночь на 12 мая Тимошенко торжественно объявил приказом по войскам, что открывает «новую эпоху» в истории войны с заклятым врагом человечества… Этот преждевременный пафос многим пришелся по душе.
Гуров сказал Родимцеву, что говорить о «новой эпохе» рановато и даже нескромно:
— Как бы ни были благородны цели полководца, но лучше бы воздержаться от таких эффектных прогнозов.
— Да, — кивнул Родимцев, — что-то у нас быстро забыли о мудрости предков: «не хвались, на рать идучи…»
В армии Тимошенко напряженно ожидали сигнала 777.
* * *
Паулюс просыпался очень рано и, встревоженный подозрительным молчанием эфира, сначала спрашивал Гейма, своего начальника штаба, — дал ли что-нибудь ночной радиоперехват?
— Русские помалкивают. Теперь совсем не так, как было в прошлом году, когда они трещали, как сороки, и мы смеялись над их наивною болтовней в эфире… Тогда, — вздохнул Гейм, — воевать было легче: я всегда знал, что думает полковник Иванов и чего боится генерал Петров… Впрочем, лондонское радио на днях сообщило, что Тимошенко намерен наступать на Харьков и Днепропетровск, чтобы выбить из-под наших ног плацдарм для продвижения в сторону Майкопа.
Фердинанд Гейм был извещен, что на его пост начальника штаба 6-й армии скоро пришлют полковника Артура Шмидта, но Паулюс просил Гейма не торопиться с укладкою чемодана:
— Мы неплохо сработались и, чтобы не терять вас для своей армии, я прошу вас, Гейм, принять четырнадцатую танковую дивизию, в которой служит и мой сын Эрнст-Александр, с которым я стараюсь встречаться пореже, чтобы его не заподозрили в отцовской протекции. Сейчас он капитан и при мне капитаном останется вас, Гейм, я постараюсь рекомендовать для производства в генерал-майоры.
Гейм осторожными намеками дал понять Паулюсу, что полковник Артур Шмидт выдвигается на его место благодаря не столько оперативным талантам, сколько «иным качествам». Паулюс намек понял.
— Очевидно, — сказал он, — чтобы я не свихнулся, ко мне решили приставить идейную гувернантку… Неужели и полковник Баграмян тоже водит маршала Тимошенко на политических помочах? Мне, как и Блюхеру, необходим только Гнейзенау.
Вечером в казино Харькова немецкие офицеры смотрели советский документальный фильм довоенных времен «Борьба за Киев», в котором — на примере маневров Красной Армии — была показана ее высокая мобильность, ее передовая тактика, массированная мощь ударов — воздушных и танковых. Паулюс, как генеральштеблер, изучил этот фильм еще в Цоссене, а сейчас просмотрел снова — глазами придирчивого специалиста.
Вечер выдался хороший и теплый, после сеанса в душном казино было приятно прогуляться под липами харьковских переулков. Попутчиком Паулюсу стал генерал-майор Отто Корфес, командир пехотной дивизии, склонный ко всяческим историческим аналогиям. Сейчас, сопровождая командующего, доктор Корфес первым делом переложил «вальтер» из кобуры в карман мундира.
— Советую и вам поступить так же со своим парабеллумом, — сказал он Паулюсу. — Вечерние прогулки в России опасны…
Конечно, доктор Корфес в отличие от Паулюса еще весь находился под впечатлением документальной киноленты:
— На экране все выглядит превосходно, и хочется аплодировать. Но я никак не могу понять, куда все это делось? Красная Армия в тридцатые годы бесспорно была лучшей армией мира. Но сталинские наркомы, кажется, погнались потом за рекордами — кто выше прыгнет, кто дальше плюнет, кто глубже нырнет и никогда не вынырнет. Я думаю, — рассуждал Отто Корфес, — легче всего приготовить одного стахановца, дающего сразу тысячу процентов нормы. Но гораздо труднее наладить работу многих-многих тысяч рабочих, дающих сто обязательных процентов нормы и ни одним процентомбольше ! В конце тридцатых годов все утерянное русскими в погоне за рекордами освоили мы, немцы, и теперь наш вермахт ставит «рекорды», взятые из поучительной практики прошлого Красной Армии…
И размеренные шаги гитлеровских генералов резко звучали в тишине мертвых улиц оккупированного города.
Паулюс, доселе молчавший, вдруг заговорил:
— Я не боюсь маршалов вроде Тимошенко, но следует остерегаться новых русских полководцев, которые еще никому не известны, но которых Россия обязательно сыщет в своих необъятных недрах. Они, эти люди, может, и не смотрели кинохроники «Борьба за Киев», но наверняка многому научились на жестоких уроках прошлого года… научились у нас!
Мимо генералов, освещая улицу фонариками, процокал сапогами патруль автоматчиков, а позади немцев с карабином на плече шел русский полицай в кургузом пиджачке и пролетарской кепке. На площади Дзержинского генерал Корфес спросил:
— Правда ли, что Гейма заменяют Артуром Шмидтом?
— Да. В назначении Шмидта меня смущает лишь отсутствие у него высшего военного образования. Впрочем, такого образования не имеет и фельдмаршал Кейтель, услуживший фюреру.
Корфес уже был замешан в острых конфликтах с войсками СС, которые, словно тень, сопровождали 6-ю армию, и сейчас, стоя под одиноким фонарем на площади Дзержинского, он вдруг заговорил о загадочном «кружке друзей Гиммлера».
— Надеюсь, вы о таком слышали?
— Кое-что, — отвечал Паулюс. — Но в этот кружок, насколько мне известно, входят нацистские интеллектуалы или очень богатые люди… Разве Артур Шмидт принадлежит к их числу?
— В роли интеллектуала он выглядел бы смешно. Однако не забывайте: Шмидт из богатой семьи гамбургских коммерсантов.
— Ах, вот оно что… Впрочем, нацистские убеждения Шмидта вряд ли могут помешать исполнению им своих обязанностей. Спокойной ночи, доктор Корфес, я покидаю вас, а то мой зять, наверное, уже волнуется. Время позднее…
Были первые числа мая, и до немецкого наступления — 18 мая — оставались считанные дни, когда состоялось знакомство Паулюса с новым начальником штаба 6-й армии. Артур Шмидт оказался вульгарным крепышом с круглою головою, плотно вросшей в широкие плечи. Бодрый, хорошо упитанный, коренастый, на вид лет сорока, не больше. Небрежным жестом он вынул из кармана пачку сигарет «Аттика» и достал зажигалку. Одновременно с язычком пламени из зажигалки выскочил забавный смешной чертик.
— Чем только мой чертик не шутит, — сказал Шмидт…
Отныне эти два человека, Паулюс и Шмидт, столь разные, станут неразлучными до самого конца Сталинградской эпопеи, и они оба умрут на родине — Паулюс в Лейпциге, а Шмидт в Гамбурге, разделенные не только географией, но и политикой.
Между ними скакал этот пламенный чертик!
— Позвольте посмотреть, — протянул руку Паулюс.
— Пожалуйста, — показал ему Шмидт свою зажигалку. — Это мой священный амулет. Пока мой чертик пляшет в огне, я за свою судьбу спокоен. Только бы не посеять эту зажигалку.
Паулюс, смеясь, показал ему свою расческу.
— А вот и мой амулет, — сказал он, находя тему для установления первого контакта с начальником штаба. — Купил на Фридрихштрассе в магазине еврея Либензона, когда получил первый чин фенрика. С тех пор прошло много-много лет, но эта расческа всегда остается при мне… я, как и вы, суеверен.
Шмидт внимательно осмотрел амулет Паулюса:
— Странно, что за все эти годы из расчески не выпал ни один зубчик, и выглядит она совершенно новенькой.
— Да, — отвечал Паулюс, — в блаженные и невозвратные времена «Вильгельм-цайта», когда у нас еще не было фюрера, немцы из любого дерьма умели сделать шоколадную конфетку.
— Хоп! — Шмидт щелкнул зажигалкой с чертиком и, раскуривая сигарету, охотно согласился, что в старые времена вещи были добротнее. — Останется ли что-либо от наших эрзацев?
— Осколки, вынутые из наших ран. Вот они останутся.
— Осколки — не эрзацы, — отвечал Шмидт. — Они-то как раз сделаны очень добротно. Даже слишком добротно…
Не думали они тогда оба, и Паулюс, и Шмидт, что эти их амулеты, зажигалка с чертиком и старинная расческа, доставят потом немало лишних хлопот советским генералам-победителям.
* * *
12 мая 1942 года — ровно в 06.30 по московскому времени — фронтовые радисты выудили из бездонных омутов эфира долгожданный сигнал «777», и сразу заработали «катюши»: «Жжув-жжув-жжув-жжжув…»
Юные комроты и молоденькие комбаты выдергивали из кобур черненые пистолеты ТТ и призывали бойцов:
— За мной, славяне… даешь Харьков! Робеть не надо, а помирать придется… Урра-а-а… все там будем!
Удар, тщательно подготовленный Паулюсом на 18 мая, маршал Тимошенко предвосхитил на шесть дней, а боевой порыв его войск, устремленных на Харьков, в германских штабах восприняли радостно, почти восторженно, оперативники даже поздравляли друг друга.
— Для нас это волшебный дар небес… подарок судьбы! Спасибо маршалу Тимошенко « он облегчил исполнение наших планов в операции „Блау“, как будто все эти годы он получал жалованье не от Сталина, а от нашего фюрера…
Яснее всех выразился в это утро сам Паулюс:
— Лучшего мы и ожидать не смели! Нам уже не придется ломать последние зубы, прогрызая оборону противника. Русские сами лезут в капканы, для них расставленные. Как верующий человек, я могу только во кликнуть: с нами Бог!
Впервые прорезался голос и его начальника штаба Шмидта.
— Не будем забывать, — тактично напомнил он, — что при обоюдной готовности противников неизбежно следует «встречное сражение», а это, пожалуй, самая сложная форма боя.
Паулюс в ответ полковнику только посмеивался:
— Именно этот вопрос и занимал меня более всего, когда я вел кафедру тактики. Суть дела очень проста: пусть слабый и далее ослабляет себя в наступлении, а сильный сидит в обороне.
Появление Адама не предвещало ничего хорошего
— Требуется ваше вмешательство, — выпалил од Паулюсу. — Срочно созвонитесь с Джованни Мессе. Вот уже два часа подряд в Днепропетровске насмерть бьются немцы с итальянцами, и страшно, если дело дойдет до гранат и автоматов.
Подробности таковы. В кинотеатре Днепропетровска демонстрировался трофейный фильм «Антон Иванович сердится», немцы стали изгонять союзников с лучших мест, хотя итальянцы купили себе дорогие билеты; началась кровавая драка.
— Безмозглые фашисты! — горланили гитлеровцы.
— А вы… нацистская сволочь! — отвечали итальянцы.
(Союзники не сходились «идейно», ближайшее родство итальянского фашизма с германским национал-социализмом им суждено было познать несколько позже на политбеседах в лагерях для военнопленных.) Паулюс вышел на связь с Мессе.
— Камарад, — сказал он ему, — вы, наверное, извещены об этом прискорбном инциденте в Днепропетровске?
— Да, прекрасная комедия «Антон Иванович сердится».
— Прошу строго наказать своих виновных солдат.
— Если вы, компаньо, накажете своих… немцев!
— Накажу, — обещал Паулюс. — После чего, я думаю, что для укрепления боевой солидарности следует устроить товарищеский ужин для солдат вермахта и берсальеров ваших частей.
— Солидарность? — хохотал Джованни Мессе. — Но если моих ребят посадить за один стол с вашими, то, боюсь, что Антон Иванович рассердится еще больше…
Паулюс бросил трубку телефона:
— Эта драка из-за лучших мест — опасный сигнал для будущего шестой армии… и, пожалуй, для всего нашего вермахта. Теперь многое зависит от того, дорогие или дешевые места получат итальянцы в окопах большой излучины Дона.
Вильгельм Адам проявил редкое остроумие:
— Самые дорогие билеты достанутся нам, немцам…
Именно так и случилось потом — под Сталинградом. На всякий случай Паулюс принял таблетку первитина.
— Первитин сегодня просто необходим, — сказал он, запивая горькую таблетку. — Чувствую, предстоят бессонные ночи…
15. Барвенковский капкан
Не стану утомлять читателей нумерацией полков и дивизий, не стану перечислять имена их командиров, безвестно сгинувших или тех, что обрели бессмертие в наших энциклопедиях, постараюсь быть скупым в цифрах и датах, стараясь донести лишь главную суть событий, и всегда помнить, что на поле битвы все видится иначе, нежели значилось тогда на оперативных картах, а потом читается в мемуарах. Как бы ни философствовали в самых высших инстанциях, как бы ни мудрили в средних, все это было далеко от окопов, где солдаты всю мудрость жизни, политики, стратегии и тактики воплощали в едином душевном призыве:
— Бей их, гадюков! Тока бы прицелиться… Ишь, зад-то отклячил, а башку за пенек ховает. До свету не управимся…
Не в меру бодрые доклады маршала Тимошенко дали Сталину повод для резкого осуждения работников Генерального штаба;
— Если вас, любителей обороны, не подтолкнуть как следует, мы бы так и торчали на одном месте. А теперь, видите, как удачно все складывается у Тимошенко под Харьковом…
Верно! Наступление началось прямо-таки превосходно.
* * *
Ударные силы нашей армии рвались на стратегический простор из невыносимой и довлеющей над ними узости Барвенковского выступа, охватывая при этом Харьков с юга, а со стороны Волчанска двигалась на Белгород вторая группа, огибая Харьков с севера, и где-то — уже за Харьковом! — они должны были сомкнуться, чтобы устроить немцам хороший котел. Внешне все было задумано вроде бы правильно и сомнений не вызывало… Зато сразу же, с первого дня, возникли подозрения!
Но возникли они не там, где Тимошенко склонялся над картами, красным карандашом отмечая стрелы прорыва, подозрения появились там, где в невообразимой пылище шагали наши солдаты, рассуждая меж собой чтобы их не слышали командиры:
— Что-то непохоже на немца! Гляди, Вась, смываются от нас и даже не пальнут для порядку.
— Это как понимать? Вроде бы и далее нас заманивают.
— Да, братцы, чует сердце — не к добру…
В некоторых селах немцы оставляли богато накрытые столы со своим шнапсом и нашей самогонкой, навалом было пирогов, свинины, гусей и всякой другой снеди. Думали, что отравлено, поначалу боялись, а потом попробовали — никто не помер — и навалились. Колхозники говорили, что немцы сами пировать собирались да вдруг разом снялись и удрали.
— А куда удрали-то? — спрашивали их.
— А шут их ведает. Бала-бала — и давай деру…
В одном месте разбили отступавшую штабную колонну с радиостанцией. Немцы оставили портфель желтого цвета, что определяло его секретность. В портфеле нашли бумаги с верными характеристиками наших командиров, и вечером, подвыпив, особист полка говорил:
— Все знают! Кто пьет, кто трезвенник. У кого жена, у кого дети. Даже адреса домашние собирали. Мы, уж на что мы, и то своих же людей так не знаем… Капитан Панкратов, где ты?
— Да здесь я. А что?
— А то, миляга, что ты вот с Шуркой Водянкиной шуры-муры на сеновале крутил, так даже это немцам известно…
Немецкая разведка даром хлеба не ела, и в тот же день, первый день нашего наступления, Паулюс был извещен, что Тимошенко на один километр фронта имеет лишь до 19 орудий и не более пяти танков. Новых же танков очень мало, чаще — старых модификаций с противопульной броней, на бензиновых моторах, потому они и вспыхивают как спички. Впрочем, когда на фронте уже завязались бои, Паулюсу доложили:
— Тимошенко что-то уже почувствовал, потому что начинает вводить свои вторые эшелоны.
— Так рано? — удивился Паулюс. — Шмидт, вы. слышали?
— Да, слышу. Все это очень странно.
— Но мы не станем самообольщаться, — сказал ему Паулюс. — В отличие от маршала, мы побережем не только вторые, но и третьи эшелоны. Сейчас многое зависят от энергии фон Клейста.
— Клейст не опоздает для удара с южного фланга, — заверяли его. — После неудачи под Ростовом ему необходима реабилитация под Харьковом, чтобы вернуть себе расположение фюрера…
В первый день наступления наши войска продвинулись вперед — где на десять-двадцать километров, а там, где немцы оказывали сопротивление, даже два километра брались с неимоверным трудом. Танки противника еще не появлялись, авиация только прикрывала отход своих войск или вела разведку. Немцы очень экономно расходовали свои силы, и на юге выступа (южнее Барвенково) они бросали в бой строительные батальоны, нам попался в плен солдат из похоронной команды и даже из команды по сбору трофеев («барахольщик»). За ночь Паулюс выкатил из Харькова свои «ролики», и второй день наступления Тимошенко стал днем переломным.
Сопротивление ожесточилось. Паулюс запросил Адама, готовы ли к атакам панцер-дивизии Хубе и Виттерсгейма.
— Да, — отвечали ему, — всего триста семьдесят машин. Хубе и Виттерсгейм с нетерпением ожидают ваших распоряжений.
— Отлично. Не пора ли нам расшатывать фланги Тимошенко? На танки пусть Хубе примет пехоту. Заодно предупредите Рихтгофена, чтобы его четвертый воздушный флот выделил нам пикирующие бомбардировщики. Я подозреваю, что маршал Тимошенко, припомнив свою молодость, проведенную в конюшнях, обязательно прибегнет к помощи кавалерии… Конечно, — сказал Паулюс, — мне, генералу, как-то не совсем удобно учить маршала, но в этих условиях ничего другого не остается…
Удары танков и авиации Тимошенко воспринял на свой лад, как доказательство слабости противника.
— Ну, вот! — обрадовал он Баграмяна. — Паулюс уже на грани истощения, он транжирит свои последние козыри…
Силы противника сознательно им преуменьшались, а свои собственные Тимошенко преувеличивал. Совершенно не понимаю (и объяснений тому нигде не искал), почему Семен Константинович был убежден том, что на подмогу его армии идут свежие дивизии из Ирана (?).
— Но боюсь, они поспеют к шапочному разбору когда мы своими силами разделаемся с фрицами, — говорил он…
13 мая уже наметилась неразбериха. Штабы соединений и штаб самого маршала работали в отдалении от передовой — иногда их разделяли 20 — 30 километров бывало, что и более. При этом они все время перемещались, не предупреждая фланговых соседей, радиосвязь работала безобразно, позывные частей перепутались, и в этой сумятице мало кто еще догадывался, что управление войсками было уже потеряно … Но Тимошенко, уверенный в себе, уверял Москву и свой штаб, что всё складывается по плану:
— Я очень доволен ходом событий…
Маршал К. С. Москаленко (сам участник этих событий) по этому поводу писал: «Ошибочные оценки небыли изменены в ходе боевых действий даже тогда, когда наши войска, по существу, уже потеряли инициативу … Перелом обозначился, и теперь не мы, а Паулюс навязывал нам свою волю. Однако наступление еще развивалось, и к концу дня 14 мая определился даже четкий успех: с Барвенковского выступа мы шагнули на 50 километров , а со стороны Волчанска (севернее Харькова) пробили оборону врага вглубь до 25 километров».
Наверное, это и был тот самый счастливый момент, когда Александр Ильич Родимцев, оторвавшись от стереотрубы, вытер восторженную слезу:
— Вижу, шайтан вас дери… вижу! Дома, крыши, садики, фабричные трубы. Харьков! Пора слать туда наши разъезды.
В трудные моменты боя нас выручали «сорокапятки», шедшие в порядках пехоты (те самые орудия в 45 мм , которые в канун войны маршал Кулик и Сталин приказали снять с производства), — именно эти пушки и стали нашей «палочкой-выручалочкой» в годы войны. Прекрасные наводчики — казахи с их острым зрением степных жителей раз за разом отмечали точные попадания:
— Жаксы, жаксы… о, бек жаксы!
15 мая Клейст южнее Барвенкова уже разворачивал свою танковую армаду, а маршал авиации Вольфрам Рихтгофен поднял в небо воздушный флот, который устраивал над нашими войсками «небесную постель», обстреливая все живое, в строю «дикой свиньи» клином врезался в наши слабые авиационные звенья… любой натиск врага маршал Тимошенко не считал вступлением, расценивая его как жесткую оборону:
— Не сдаются, окаянные! Мы их переломим. Мы еще окажем, что умеем бить врагов по-суворовски: не числом, а умением…
Тогда же он заверил Сталина в успехе наступления. Между тем сражение уже распадалось на отдельные очаги, изолированные один от другого «пробоинами» в линии фронта, и в эти «пробоины» бурным потоком вливались резервы Паулюса, от Славянска с юга — начали проскакивать одиночные танки…
Иван Христофорович Баграмян запросил южное направление — какова у них обстановка и где сейчас танки Клейста? Ответ из штаба Малиновского был утешительным:
— Клейст не шевелится. А мы следим, чтобы к Барвенково он не прорвался. В случае чего — предупредим…
16 мая стало последним днем нашего наступления. Наши войска еще продолжали нажим на Харьков, а местные жители, стоя у деревенских околиц, кричали бойцам:
— Да оглянитесь назад, родимые! Вы-то вперед идете, а за вами-то, эвон, уже немецкие машины шныряют…
Из Харькова вернулась конная разведка. Родимцев выслушал, что там творится: немцы перепуганы, госпитали эвакуированы, с балконов домов свешиваются трупы повешенных, один старик повешен даже вниз головой над панелью. Люди рвались вперед — на Харьков, но Родимцев каким-то подсознательным чутьем воина уже ощутил трагизм положения и решил перейти к обороне:
— Спасибо, ребята. Расседлывайте коней. Понимаю вас. Понимаю и харьковчан. Но город сейчас не взять…
— Как же так? Нас в Харькове обнимали, нас всех целовали. Мы заверили харьковчан, что не сегодня, так завтра…
— Расседлывайте коней, — отвечал Родимцев. — Понимаю вас и понимаю харьковчан. Но город сейчас не взять…
Наши войска все больше увязали в «оперативном мешке» Барвенковского выступа, будь он трижды проклят, и разве можно было тогда подумать, что громадная армия уже обречена …
Командующий 6-й армией выпрямился над картой:
— Генерал Малиновский на юге не распознал угрозы со стороны броневого кулака Клейста, нацеленного вот сюда… от Краматорска, от Славянска! Не догадывается об этом и Тимошенко, а я, Шмидт, не завидую тем минутам свидания, которые уделит потом господин Сталин для приватной беседы со своим маршалом.
Явился Вильгельм Адам, крайне взволнованный:
— Ваш сын, капитан Эрнст Паулюс… ранен!
Паулюс остался спокоен (а, скорее, он притворялся невозмутимым — даже сейчас в проявлении отцовских чувств).
— Если мой сын ранен, — был ответ, — следует положить в госпиталь… на общих основаниях. Если у меня будет свободное время, я навещу его. Пока все!
Р. Я. Малиновский с южного фронта послал на помощь С. К. Тимошенко свой 5-й кавалерийский корпус. Тимошенко, узнав об этом, отправил Малиновскому свой 2-й кавалерийский корпус. Это напоминало обмен визитками вежливых людей, но тактически ничего не изменило в положении на фронте. Однако именно этот факт свидетельствовал о чем-то опасном: командование фронтов — ни Малиновский, ни Тимошенко! — еще не понимало близости катастрофы. Где-то уже летела в прорыв краматорская группа на звенящих гусеницах, а маршал Тимошенко, вспомнив молодость, надеялся задержать врага лихим набегом сабельной кавалерии.
— Орлы! — говорил он. — Разве кто устоит перед доблестной красной конницей, о которой в народе слагают песни?
Кавалерия уходила на верную смерть — с песнями!
С неба полуденного
Жара, не подступи,
Мы, конница Буденного,
Рассыпались в степи…
Уходящие в небытие, они видели своего главкома в широкой казачьей бурке и кубанской папахе набекрень. Маршал казался им далеким видением из эпохи гражданской войны, еще не ведавшей ожесточенной битвы
И танки горели! Горели танки. Наши …
И наша кавалерия была уничтожена авиацией. Генерал Гани Сафиуллин (из казанских татар) запомнил:
«Лошади без седоков, в одиночку и группами, на полном карьере, мчались в разные стороны. Вражеские истребители догоняли их на бреющем и уничтожали пулеметными очередями. Кони ржали, падали, пораженные пулями, они кувыркались через головы…»
И, дрыгая ногами, они затихали в смерти, а молоденький солдат, тоже видевший эту расправу, громко плакал, сказав Сафиуллину:
— Всегда их жалко! Мы-то люди, мы понятливые, мы знаем, за что кровь проливаем, а как им-то, бедным да бессловесным, как им объяснить — за что муку терпят?
Наконец, генерал Баграмян, начальник штаба, и Н. С. Хрущев, бывший тогда членом Военного совета фронта, убедили твердолобого и донельзя упрямого маршала, что наступление выдохлось — пора занимать жесткую оборону.
— Да, — вдруг согласился Тимошенко, — я и сам вижу, что на войска из Ирана надежды слабые, мы вынуждены перейти к обороне, о чем я извещу товарища Сталина, а вы, Иван Христофорович, готовьте приказ по армии о переходе к обороне.
— Слава Богу, что перестал артачиться. Наверное, и сам понял, что надо не свой престиж, а людей… людей поберечь!
Кажется, говоря так, Баграмян даже перекрестился.
* * *
Было три часа ночи, когда Баграмян вдруг навестил Никиту Сергеевича; на глазах начальника штаба были слезы.
— Что там еще? — спросил его Хрущев.
— Наш приказ о переходе к обороне… отменен.
— Кто посмел отменить? — сразу взвинтился Хрущев.
— Маршал. Он, действительно, разговаривал со Сталиным, а после чего велел продолжать наступление, а сам… пошел спать.
Хрущев сумрачно матюгнулся:
— Так когда же этот бардак у нас закончится?
— Я, — попросил его Баграмян, — умоляю вас переговорить с товарищем Сталиным, который наверняка дал нагоняй маршалу, после чего Семен Константинович и отменил свое распоряжение. А далее наступать нельзя, иначе, сами понимаете… катастрофа!
Хрущев, мужик с головой, понимал: сначала Тимошенко водил Сталина за нос, увлекая его на Харьков, а теперь Сталин начал водить Тимошенко — и это опасно. Но понимал Хрущев и другое, опасное уже лично для него: переубеждать Сталина — это значило, что надо заставить Сталина признать свою ошибку, а Сталин признает ошибки за другими, но своих — никогда.
— Сначала позвоню Василевскому, — решил Хрущев.
Но звонок Василевскому ничего не прояснил.
— Товарищ Сталин на ближней даче, — отвечал начальник Генштаба, давая понять, что не он главные вопросы решает. — Да, это его распоряжение… да, на даче… звоните ему… товарищ Сталин счел необходимым… не знаю… желаю успеха.
Хрущев долго собирался с душевными силами.
— Звонить Хозяину, — сказал он Баграмяну, — все равно, что давиться. Но… что поделаешь, если надо?
К телефону на ближней даче Сталина подошел Маленков.
— Подожди, — ответил он Хрущеву, — я сейчас доложу. — Последовала продолжительная пауза, после которой Маленков сказал, что товарищ Сталин говорить не желает. — Он просил тебя сказать мне, что надо, а я ему передам…
Делать нечего. Никита Сергеевич сказал, что нельзя отменять их приказ о переходе армии к обороне, как нельзя и наступать далее, ибо наше наступление отвечает замыслам противника, а в результате всей операции одна дорога — мы сами загоняем свою армию в германский плен.
— Мы и без того растянули линию фронта, — доказывал Хрущев, — а, случись, последует неизбежный удар с левого фланга (от Клейста), так нам кулаков не хватит, чтобы отмахаться…
Маленков, выслушав, просил обождать, переговорил со Сталиным, после чего опять вернулся к аппарату:
— Ты слышишь? — спросил он.
— Слышу, — отозвался Хрущев, замирая.
— Товарищ Сталин сказал, что надо поменьше трепаться, а надо наступать. Хватит уже! Посидели в обороне.
Разговор закончился, а Баграмян разрыдался.
— Все погибло, — говорил он. — На себе я крест уже поставил… мне все равно… Людей! Людей жалко…
В большой стратегии, как и в большой человеческой жизни, случаются страшные трагедии, когда ничего не исправить.
Читатель, надеюсь, уже и сам начал догадываться — кто прав, а кто виноват, и читателю стало уже понятно — почему армия Паулюса вскоре оказалась на Волге!
16. Время искать виноватых
Паулюс навестил в госпитале раненого сына. Он сказал ему, что на полях сражений догорают груды развороченных русских танков. Цитирую слова Паулюса, сохранившиеся в военных архивах Германии:
«Мы взяли в плен русского офицера. Он сказал нам, что маршал Тимошенко однажды приезжал на передовую, чтобы наблюдать танковое сражение: маршал видел наступающих вплотную немцев и свои танки, буквально разнесенные в клочья, на что он только проронил: „Это ужасно!“ После чего ему ничего не оставалось, как молча повернуться и покинуть поле боя».
Этот рассказ Паулюса сыну завершается выводом германских историков: Паулюс не столько был рад своим успехам, сколько был озадачен вопросом: «Какими еще резервами может обладать гидроподобный противник?..»
У гидры, как известно, на месте отрубленной головы сразу вырастают две новые. Но резервов у Тимошенко не было, ибо с первого же дня наступления он стал их транжирить В пламени боев сгорели вторые и даже третьи эшелоны его резервных полков. Утро 16 мая стало последним, когда наши войска еще пытались наступать. На следующий день Тимошенко перебрался подальше от фронта — на левый берег Сев. Донца, расположившись в районе Песков, не оповестив о перемене места ни свою армию, ни южного соседа — Р. Я. Малиновского, — там, в этих Песках, он и затих, армия, по сути дела, лишилась командующего, а где он сам и где искать его — никто не ведал. «Штаб армии, — писал Баграмян, — остался фактически без управления, так как радиосредств не хватало» (точнее — их попросту не было, ибо авиация Рихтгофена гонялась за каждой автомашиной, похожей на походную радиостанцию). Именно 17 мая и случилось то, чего больше всего боялись.
Эвальд Клейст вдруг бросил всю свою танковую армаду вперед, как бы подсекая Барвенковский выступ с южного его основания, как подсекают дерево с комля. После полудня гарнизон Барвенково был размят в жестоком бою; Барвенково оказалось в руках противника. Но в наших штабах об этом до самого вечера ничего не знали. Ничего !..
Вечер этого дня застал Артура Шмидта на позициях близ Балаклеи, когда из сумерек тающего дня вырвался танк, заляпанный дорожною грязью и кровью раздавленных им людей. Моторы он заглушил перед штабной палаткой 6-й армии. Из люка выбрался сухопарый танкист в коротком кителечке, лоснившемся от машинных масел. Рукава его были закатаны до самых локтей, а волосатые руки были сплошь унизаны браслетами разных марок, его пальцы сверкали золотом от обилия обручальных колец.
Он спрыгнул с брони танка на землю и крикнул:
— Дело за вами… Стоит вам ударить со стороны севера, и все русские останутся в нашем оперативном мешке.
— Вы откуда? — спросил Шмидт. — От Виттерсгейма?
Танкист расхохотался:
— Нет, я из группы Эвальда Клейста…
В руке Шмидта щелкнула зажигалка с «прыгающим чертиком».
Он задумчиво раскурил сигарету и засмеялся:
— И чем только мой чертик не шутит!
* * *
Как ни странно, но Сталина намного раньше, нежели Тимошенко, иногда тревожила эта мощная танковая группа Клейста, до поры до времени как бы затаившаяся в степных балках, замаскированная в редких перелесках, но активно «выстреливавшая» отдельные танки в сторону Барвенково… Однажды в присутствии Г. К. Жукова, который разделял его опасения, Сталин созвонился с командованием юго-западного направления и, переговорив с маршалом Тимошенко, отошел от аппарата успокоенный.
— Пока все идет успешно, — убедился Сталин. — И нет никаких причин для прекращения харьковской операции…
Но именно этот мнимый успех вызвал большую озабоченность работников Генерального штаба, которые давно почувствовали, что обстановка под Барвенково и Харьковом складывается не так уж мажорно, как об этом докладывает маршал.
17 мая на пороге сталинского кабинета в Кремле появился генерал-полковник Александр Михайлович Василевский:
— Хотя вы и распорядились, чтобы Генштаб не вмешивался в дела главкома Тимошенко, я все-таки решил вмешаться.
Сталин поднес спичку к своей легендарной трубке, но спичка догорела в его пальцах, он так и не раскурил трубку.
— Что вас беспокоит, товарищ Василевский?
— Беспокоит именно то, что совсем не волнует командование юго-западным направлением: группировка танков Клейста. Она подпирает с юга Славянск и всю ударную группу армий, силящуюся вырваться из мышеловки Барвенковского выступа…
— Вы разве хорошо знаете обстановку на юге?
— Она критическая! — запальчиво сказал Василевский. — Могу выразиться иначе — она попросту угрожающая. Тем более что дельных резервов мы в этом районе не имеем.
Разговор Сталина с Василевским происходил в то время, когда о прорыве танков Клейста к Барвенково они оба еще ничего не знали. Верховный Главнокомандующий предпочитал в эти тревожные дни не подписывать приказы своим именем, чтобы не оставаться потом виноватым в принятых решениях, — он укрывался за общим и расплывчатым определением слова «Ставка» (а там как хочешь, так и понимай — кто в Ставке умный, а кто глупый).
Пройдясь вдоль стола, Сталин подумал перед ответом:
— Товарищ Тимошенко резервов у нас и не просит. Он хорошо обходится своими силами… А что вы предлагаете?
Что мог предложить Василевский? Самое разумное.
— Немедленно, — сказал он, — прекратить наступление на юге и все силы развернуть назад — для отражения танкового удара со стороны Клейста. Если мы, Товарищ Сталин, не сделаем это сегодня, то завтра будет уже поздно.
Было поздно не завтра, а уже сегодня.
— Вы так думаете, товарищ Василевский?
— Уверен.
Сталин открыл графин с водою и закрыл его снова
— Хорошо. Я еще переговорю с товарищем Тимошенко…
Но это был как раз тот уникальный случай, когда в Генштабе лучше знали обстановку на юге, нежели в безвестных Песках, где укрывался маршал Тимошенко, думавший в это время не о том, как спасать армию, а как ему избежать гнева Верховного.
— Хорошо, — повторил Сталин, — сначала выслушаем товарища Тимошенко, с мнением которого нам нельзя не считаться.
И хотя Александр Михайлович видел, что зыбкая чаша доверия Сталина склоняется в пользу докладов Тимошенко, он, Василевский, решил продолжать свой диалог с Верховным, чтобы спасти армии, спасти знамена, спасти технику.
— Спасти хотя бы людей, — говорил он, не подозревая еще, что эти люди уже обречены. — Очень трудный диалог, но его надобно продолжить… завтра!
18 мая Сталин встретил его иначе — слишком сурово.
— Кого мне слушать? — сразу спросил он Василевского. — Вас или товарища Тимошенко? Вы тут разводите панику, а товарищ Тимошенко считает, что угроза со стороны краматорской группы Клейста сильно преувеличена… в кабинетах Генштаба! Наступление, по словам товарища Тимошенко, развивается точно по плану, и нет никаких причин для его прекращения.
Александр Михайлович все выслушал.
— Товарищ Сталин, обстановка требует немедленного свертывания операций под Харьковом, иначе могут возникнуть трагические последствия не только для армий маршала Тимошенко, но и для всего советско-германского фронта. Сейчас, — сказал он, — может быть, как никогда, решается очень многое.
Молчание. Тишина. Каков же будет ответ?
— Я беседовал с маршалом, а вы — с кем беседовали?
— Со своим приятелем… Анисовым.
— А это еще кто такой? — удивился Сталин.
— Генерал, который из штаба армий Тимошенко дал мне самую точную информацию, и она, эта информация с передовой линии фронта, никак не подтверждает информацию маршала Тимошенко.
Сталин, отвечая, даже не повысил голоса:
— У вас свои приятели, а у меня свои. И мои приятели говорят не то, что говорят ваши приятели.
Василевский намеренно голос повысил:
— Товарищ Сталин! Первоначальный оперативный успех под Харьковом скоро окажется ничтожным пустяком по сравнению со стратегическим (а не тактическим) успехом противника. Мощь ударов Паулюса и Клейста не ослабевает, а растет час от часу. Как можно не замечать всего этого маршалу Тимошенко там , на фронте, я не понимаю…
— Сейчас поймете, — сказал Сталин.
Он подошел к телефону, его снова соединили с маршалом Тимошенко. Было неясно, что отвечал вождю Семен Константинович, но Верховный повесил трубку в прежнем настроении:
— Поменьше слушайте своих приятелей. Товарищ Тимошенко сказал, что операция развивается удачно, как и задумано. Наверное, ему на месте виднее, нежели нам — в Москве… И все-таки странно! — вдруг сказал Сталин. — Товарищ Тимошенко настойчиво убеждал меня в слабости противника, а теперь сам просит у меня резервов. Он же знает, что резервов для него нет.
Однако Ставка ВГК нашла для Тимошенко стрелковую дивизию и две танковые бригады. Василевский сказал, что в лучшем случае они поспеют в сражение лишь через пять дней:
— А за этот срок все уже будет кончено!
* * *
19 мая от общего управления войсками остались рожки да ножки: каждый стал себе командиром, а генералы падали убитыми с винтовками в руках, отстреливаясь вровень со своими солдатами. Однако маршал Тимошенко умудрился издать приказ — усилить натиск на врага. Подписав этот приказ, он моментально издал и второй — перейти к обороне. Судьба этих приказов выражена с достаточной ясностью: они были примечательны только тем, что ни один из пунктов приказов никогда не был выполнен. Приказы Тимошенко поныне покоятся вечным сном в архивах Министерства обороны СССР, но, дошедшие до внимания историков, они до войск Тимошенко так и не дошли. Настал трагический момент, когда одним махом зачеркивались не только результаты зимних успехов под Москвою, не только рушились надежды на освобождение Харькова и Донбасса, но уже возникла угроза полного окружения войск в Барвенковском выступе.
«Видели ли эту опасность военные советы нашего направления? — задавался вопросом К. С. Москаленко. — Судя по всему, нет , они не видели…»
Тимошенко большим и мясистым пальцем перекрывал на штабных картах рокадные дороги противника.
— Здесь и вот тут… остановить немца танками.
— Где они, наши танки? Их нету. Как нет и горючего.
— Без паники! — диктовал маршал, сбрасывая папаху, чтобы освежить гладко бритую голову. — Уже идут свежие дивизии… из Ирана! В любом случае переломим немца. Пушки у нас новые, какие фрицам и во сне не снились. Все будет! А сейчас приказываю перекрыть дороги танками.
— Которых у нас нету?
— Приказы не обсуждаются, а выполняются…
Против танков Клейста пошла в бой кавалерия генерала Плиева, взятая из жалких остатков резервов. «Иначе говоря, — писал очевидец, — наши войска сами залезли в мешок». Когда же маршал авиации Рихтгофен поднял в небо свой 4-й воздушный флот, тогда, как вспоминали свидетели событий, «небо потемнело от самолетов». Остатки кавалерии тут же полегли костьми, немцы не жалели фугасок даже на одиночные телеги, бомбы сыпались на стада коров, телят и овец… Все живое уничтожалось!
Танки Клейста и Паулюса — с юга и севера — «перегрызли» пути отхода, давили людей на дорогах, разрезая коммуникации, ведущие к спасению на востоке.
23 мая случилось то, о чем боялся сказать вслух Баграмян, чтобы его не произвели в ранг «врага народа», но чём не побоялся поведать Сталину Василевский, почему и был обвинен в «паникерстве». Ударом с юга танков Клейста и натиском 6-й армии Паулюса с севера весь Барвенковский выступ был отсечен, и в кольце окружения оказались все армии маршала Тимошенко — с техникой, у которой не было горючего, со штабами и даже госпиталями. В разгромленной Балаклее Паулюс встретился с Клейстом.
— Поздравляю, — сказал он. — Сейчас мне хотелось бы знать, где маршал Тимошенко? Угодил он в наш котел или выскочил?
— Ходят слухи, что его видели в Волчанске.
Паулюс повернулся к Артуру Шмидту:
— Перенацельте удар на волчанское направление… Адам, — позвал он своего адъютанта, — а что вы скажете, если я предложу открыть бутылку яичного ликера?
— Лучше уж коньяк! — хохотал Клейст.
— Но у меня строгая диета, — отвечал Паулюс, давая понять, что от этой дизентерии никак не избавиться. — Я сейчас ожидаю возвращения из Лейпцига доктора Фладе, который собрал кости фельдмаршала Рейхенау и после похорон обещал навестить мою армию. Говорят, он любой понос заменяет запором…
25 мая куда-то бесследно исчез маршал Тимошенко. Москва, встревоженная, как бы маршал не угодил в плен, требовала отыскать его — живым или мертвым.
— Найти Тимошенко! — негодовал Сталин. — Сколько людей там оставили, не хватало еще, чтобы на потеху Гитлеру в Берлин привезли нашего маршала и бывшего наркома обороны…
Семен Константинович объявился в Валуйках лишь поздно вечером, усталый, голодный, весь какой-то помятый. Оказывается, он с самого утра просидел в придорожных кустах или прятался под мостом, ибо немецкие самолеты, расстилая на бреющем полете «небесную постель», гонялись не только за машинами, но охотились даже за каждым человеком на дорогах.
— Головы было не поднять, — оправдывался маршал. — Удивлен, куда делись наши замечательные сталинские соколы?..
Тем же вечером главком сидел в крестьянской хате, поедая вареники со сметаной. Это было там же, под Валуйками. Очевидец оставил нам точное описание этой сцены:
«Старуха хозяйка подсела рядом и долго смотрел на Тимошенко.
— Видела я тебя на портретах. Там ты моложе и бритый… Вона, у тебя танки были, всякие машины… Самолеты летали. У меня сыночек в ту германскую унтером был. Как сел, сердешный, на Карпатах, так и не пустил немца. А ты со своими танками — самолетами вон куда закатился! Да где ж теперича остановишься?
— Назад вернемся, — мрачно ответил Тимошенко.
— Чего же взад-назад ходить? — спросила его крестьянка…»
Утром маршал на легковой машине выехал на позицию.
— Придержи, — вдруг велел он шоферу.
Возле умолкнувшей пушки сидели и молчавшие артиллеристы. Подле валялись убитые. По ним ползали большие синие мухи.
Неподалеку лежали ездовые лошади с перебитыми ногами, с вывороченными внутренностями. Земля была перепахана воронками. Вдали догорали два немецких танка, еще дальше ползали по степи бронетранспортеры с немецкой пехотой.
Худенький командир, вчерашний школьник, с кубиками лейтенанта в петлицах застиранной гимнастерки, тупо и равнодушно смотрел на подходившего к нему маршала в громадной мохнатой шубе. Кто это? — или опять киновидение из эпохи гражданской войны, воспетой режиссерами в довоенных фильмах…
Семен Константинович спросил, остановившись;
— Отдыхаете? А кто за вас будет вести огонь по врагу?
— А чем… вести? — спросил лейтенант. — Еще вчера были у нас два снаряда… Вот они! — и показал на горящие танки. — А больше снарядов нету. И где взять — не знаем.
(Генерал армии С. М. Штеменко не скрыл от нас правду: «В войсках не хватало боеприпасов и горючего, хотя они были на фронтовых и армейских базах. Их просто не умели подать. Впоследствии все запасы этих баз своевременно на восток не вывезли, и они достались противнику…»)
Тимошенко вернулся в свою машину. Долго сидел
— Куда же теперь? — спросил его шофер.
— Сначала в Купянск.
— А потом?
— Наверное… скорее всего — в Сталинград!
Мимо них, обгоняя маршала, на полной скорости проскочил уцелевший танк с надписью на броне: «Вперед — на запад!»
— Во, драпальщик! — выругался шофер. «Довоевался, гад, до того, что запада от востока уже отличить не может… Такой вояка, глядишь, уже завтра в Сталинграде будет. Пивка, гад, выпьет да закусит волжской таранькой…
Семен Константинович вынул платок, долго вытирал мокрую от испарины большую крутолобую голову. Но даже сейчас он не терял присущего ему бравого оптимизма.
— Ничего! — сказал он. — Мы фрицам так надавали, что теперь они еще не скоро опомнятся. Наше дело правое.
— Никто и не спорит, что правое, — согласился шофер…
Жаль, не слышал Тимошенко, что в эти дни говорил о нем Паулюс в кругу своих приближенных и подчиненных.
— Как сложится теперь судьба этого маршала? Очевидно, Сталин казнит его, как он казнил и других неудачников.
— Однако, — заметил доктор-историк и генерал Отто Корфес, — ни Козлова, ни Мехлиса он не тронул, хотя эти люди в Крыму, по сути дела, решили судьбу Севастополя, который не сегодня, так завтра будет взят Манштейном.
Полковник Вилли Адам сказал:
— Наверное, маршал Тимошенко, сделавший из своей армии наковальню, подставленную под удары нашего молота, сам догадается застрелиться. Воинская честь ко многому обязывает. Вспомните генерала артиллерии Беккера! Когда он запутался в вопросах баллистики, он покончил с собой — и был объявлен национальным героем…
Появился танковый генерал Альфред Виттерсгейм, потрясая свежей нацистской газетой «Фелькишер беобахтер».
— Ура, ура, ура! — возвестил он. — Командующий нашей прославленной шестой армии генерал Паулюс всенародно объявлен национальным героем… Убедите сами, — сказал Виттерсгейм, разворачивая гигантский листы газеты Геббельса. — Вот и поздравления… от Роммеля из далекой Ливии!
Но Барвенковский и другие котлы еще жили, окруженные не сдавались. Леса часто оглашались перестрелкой, взрывами последних гранат. Отрядами и поодиночке люди прорывались на восток. Это было нелегко. Это было почти невозможно. И все-таки они шли на прорыв. Иные с оружием. Иные даже без сапог. Случалось, выходили из котла целыми дивизиями. Сделав «прокол» в немецком фронте, люди штыками прокладывали впереди себя узенький коридор, стенки которого тут же смыкались за ними…
Именно в конце мая Родимцев встретил такую труппу смельчаков. Сначала из леса выкатились сразу шесть Т-34, за ними двигалась пехота, артиллеристы с матюгами катили руками свои пушки (без снарядов). Люк переднего танка открылся, из него выбрался генерал Гуров, помахал рукою Родимцеву:
— Открыли «новую эпоху», яти их мать… начальники! Даже в прошлом году таких разгромов не знали. А отчего? Решили, что немец дурнее нас, мы его пилотками закидаем…
Кузьма Акимович прошелся по броне танка, громко стуча по ней сапогами. С гусеницы генерал спрыгнул на траву:
— Задали мы работу историкам! Теперь они поковыряются в архивах, чтобы выяснить — кто виноват?
Родимцев за эти дни высох. Почернел от беды.
— Ладно. Пора думать — где остановить фрица?
— Кажется, нас ожидает кривая и большая излучина Дона. Где же еще, как не там, удобнее всего держать оборону?
— Тихий Дон… — призадумался Гуров. — А я всю жизнь мечтал Шолохова повидать. Чтобы он мне книжку свою подарил. Мол, «дорогому Кузьме Акимычу на память…». Теперь на глаза ему не покажусь! Вдруг он спросит: «Что ж ты, размазня паршивая, на мой Тихий Дон фрица за собой притащил?..»
Коротко бывало счастье тех, кто вырвался из окружения.
Особисты армии Тимошенко уже заводили на Гурова дело:
— Что-то подозрительно — как он из котла выбрался. Может, его немцы сами и выпустили… с заданием?
Вот тут Никита Сергеевич взорвался.
— Хватит сходить с ума! — закричал он на особистов. — Мало вам, что немцы столько народу перебили, так теперь вы тех, что недобиты, под свой трибунал суете… Что это за война такая, если человек воюет за родину, а в душе червяк шевелится: коли враги не убьют, так свои прикончат… Хватит! Доигрались. Вот результаты — сами едва живы, а враги радуются. Да, хватит…
17. Третий фронт
За это время, пока случались наши несчастья возле Керчи и в безысходных боях под Харьковом, на периферии войны произошло немало событий, которые так или иначе, раньше или позже, но отразились на делах нашего фронта, и они, эти события, скажутся потом в самом пекле битвы за Сталинград…
* * *
Гитлер постоянно третировал своего союзника Муссолини, но и дуче не оставался в долгу, безумно радуясь каждый раз, когда вермахту влетало от русских. Поражение немцев под Москвою он приветствовал словами: «Вот и подуло блаженными ветрами Бородино и Березины…» А его зять граф Галеаццо Чиано тогда же записал в дневнике:
«Муссолини удовлетворен развитием событий в России, сейчас он даже не скрывает, что счастлив в связи с неудачами германских войск».
Политика дуче была примитивна, но понятна: чем больше достается фюреру на Востоке, тем независимее становится он, дуче! Такова была подоплека его романа о Гитлером, и теперь ясно, почему любое известие об успехах русских Муссолини встречал почти умиленно.
— Не все же нам! — говорил дуче. — Мой приятель тоже бегает по сугробам, наклав полные штаны.
Гитлер доказывал Муссолини, что судьба его завоеваний в Африке зависит от усилий вермахта в России. Исходя из этого, он снова забрал авиацию со Средиземного моря, обещая взамен самолетов прислать свои подводные лодки. «Отныне, — записывал в дневнике Чиано, — английская авиация будет господствовать нашем небе почти как в собственном…»
Муссолини навестил германский атташе Ринтелен.
— Запрос от Роммеля: почему не даете боеприпасов?
— Потому что ваша Германия не дает мне угля, необходимого для выплавки стали. У нас «снарядный голод». К тому же вы забрали из Италии ведущих инженеров на свои заводы…
Оставшись с зятем, дуче задохнулся от гнева:
— Фюрер, наверное, считает меня счастливым — Хотя бы уж потому, что его посол в Риме еще не дает мне пощечин…
В окружении Муссолини граф Галеаццо Чиано более всех ненавидел Гитлера и его оруженосцев. За год до нападения на СССР он серьезно помышлял о договоре Рима с Москвою, чтобы таким политическим жестом сорвать все планы Гитлера. Это ему не удалось. Не удалось и убедить тестя в том, что война Италии с Россией приведет к краху фашистского режима. Чиано, по мнению историков, был реальным и дальновидным политиком, но его руки были связаны женитьбою на Эдде, дочери Муссолини. Еще молодой человек, Чиано предвидел трагический финал — и свой, и своей семьи, а потому жил, как на пиру Валтазара, целые дни пропадая на пляжах с полуголыми красотками. В конце войны Муссолини привязал его к стулу и расстрелял как предателя со словами: «Ты изменил мне еще в ту ночь, когда впервые залез под одеяло к моей дочери…» Но перед смертью граф Чиано успел записать:
«Политика Берлина по отношению к нам (итальянцам) была сплошной цепью вранья, интриг и обманов. С нами всегда обращались не как с партнерами, а как с лакеями…»
Умный был человек, этот граф Чиано!
29 апреля дуче встретился с фюрером в Зальцбурге. Муссолини и сам любил поговорить, но Гитлер болтал и болтал, не давая слова сказать приятелю. Наконец, он стал оправдываться в поражении под Москвою, все сваливая на русские морозы:
— Это был не стратегический, а, скорее, нервный кризис. Под сильным воздействием русского климата мои генералы сначала потеряли здоровье, а затем и головы. Ах, какие были морозы! — воскликнул фюрер. — У наших танков лопались радиаторы, у солдат пальцы, носы, уши и даже веки глаз, отмороженные, падали на землю, как сухие листья с деревьев, что, конечно, вызывало приступы нервной паники…
— Это ужасно! — согласился Муссолини (он же и сберег эту речь Гитлера о «сухих листьях» в анналах истории).
Гитлер заверил дуче, что в наступившем 1942 году предстоит скорое падение Ленинграда и окончательный штурм Севастополя!
— Первый падет от голода, а на второй Манштейн обрушит всю мощь германской артиллерии самого крупного калибра…
Но при свидании в Зальцбурге фюрер сам просил Муссолини усилить войска КСИРа новыми дивизиями — и дуче обещал.
— Надо убрать и Джованни Мессе, — настаивал Гитлер, — этот генерал не мог взять даже Хацапетовки, но зато все время ругался с нашими генералами. Согласен и на Итало Гарибольди…
Полковник Кьяромонти, прибыв с фронта, хвастал дуче:
— У меня служил пулеметчик-сицилиец. В бою русские оторвали ему правую руку. И что же? Он нажал на спуск зубами и не разжимал их, пока от страшной вибрации пулемета у него не выскочили изо рта все зубы. Я сам, — говорил полковник, — потом собирал на снегу эти белые зубы без единой в них пломбы.
— Галеаццо, — позвал дуче зятя, — ты слышал, какие герои в нашей армии? Таких надо принимать в партию без кандидатского стажа! Кьяромонти, назови мне его фамилию.
Но фамилию тот… забыл. Главным театром войны Муссолини всегда считал фронт в Африке. Но, отчаянно цепляясь за барханы пустынь, за редкие колодцы и одинокие финиковые пальмы, Муссолини никак не мог отказаться и от войны в России; после свидания с Гитлером он готовил армию АРМИР, которая должна была в войне с русскими заменить его корпус КСИР.
Муссолини помнил о просьбе Гитлера.
— Итало, — внушал он генералу Гарибольди, — задача — не отставать от немцев, чтобы мы не остались в дураках, получив в конце войны только фунт русского мяса, да и то с подачи фюрера. Джованни Мессе хороший фашист, но он всегда поспевал к обеду, русские уже отмывали посуду после немцев…
Весною он послал в Германию делегацию инженеров и военных, чтобы детально ознакомились с советским танком Т-34.
— Мы такого еще не видели! — доложили по возращении специалисты. — Это не танк, а какая-то прима, способная на своих траках делать воздушные фуэте даже посреди болота…
Гитлер сам предложил Муссолини купить у него свои разбитые в России танки Т-III и Т-IV, и тут дуче взвился до небес:
— Гитлер и здесь желает вытопить сало из комаров! Видно, допекли его русские. Теперь он гонит с конвейера новые танки, а нам всучивает свои дырявые кастрюльки… Я сам отвечу фюреру, что фашистский танк Р-40 даже на песках Ливии легко развивает сорок два километра — больше немецких!
В конце мая Рим навестил генерал Джованни Мессе, еще не знавший, что его хотят спихнуть «за борт» за неумение ладить с немцами. Обеспокоенный слухами об увеличении итальянских дивизий в России, он рассуждал с дуче, как с товарищем по партии, открыто и четко, ничего не утаивая:
— Второй зимы в России нам просто не пережить… без тулупов и валенок! А немцы, кажется, уже мечтают о Волге. Нашу армию в России надо не увеличивать, а сокращать, пока русские не сократили ее до таких размеров, что для возвращения КСИРа домой вполне хватит одного товарного вагона…
Грудь Мессе украшал Железный крест — от Гитлера, и крест Савойского ордена — от короля Виктора-Эммануила.
— Не дури, Джованни, — отвечал дуче, — за столом мирной конференции, когда мы посадим Сталина на стульчак в нужнике, двести двадцать тысяч наших солдат в России будут весить больше, нежели шестьдесят. Давай бодрее смотреть в будущее!
— Давай, дуче, — согласился Мессе. — Я считаю, что эту авантюру на Востоке пора кончать, и пусть немцы возятся со Сталиным, а нашим ребятам там нечего делать.
Ты паршивый фашист, Джованни! — упрекнул его Муссолини. — Тебе надо брать пример со своих солдат, которые не жалеют оставить в русских сугробах даже свои прекрасные зубы.
— Вместе с зубами останутся там и их головы.
— Что ты хочешь этим сказать, Джованни?
— Русские никогда не мешали жить Италии, и мои солдаты не понимают, каким ветром их туда занесло. Паже старые члены партии, получив свое под Харьковом, спрашивают меня об этом. Если от меня решили избавиться, — заключил Мессе, — так я не пропаду и на макароны себе как-нибудь всегда заработаю.
— Но не больше того! — обозлился дуче…
Между тем граф Чиано поддерживал именно Мессе:
— Если мы обратимся к народу Италии, он выскажется за самые лучшие отношения с Россией, которая всегда поставляла нам кубанскую пшеницу для тех самых спагетти, которыми мы и прославились. Разве не так? — спросил граф. — Между славянской и латинской расами легче всего достичь обоюдного понимания.
— Помолчи хоть ты, Галеаццо! Если бы ты не был мужем моей дочери, я бы сразу напоил тебя касторкой…
Чиано доказывал:
«Нужно обратиться к сердцу итальянцев. Дать им понять, что речь идет не о судьбе партии, а о родине „ вечной и общей для всех, стоящей над людьми, над временем и над фракциями“.
На место Джованни Мессе назначили Итало Гарибольди — стареющего жуира с подкрашенными усами, который тщательно следил за развешиванием орденов на своем мундире, требуя от своих подчиненных такой же аккуратности. Корпус КСИР был увеличен до 220 000 человек, получив новое название — 8-я армия АРМИР. Для сравнения скажу, что 6-я армия Паулюса насчитывала в своих рядах много больше солдат, нежели этот АРМИР.
Перед отъездом в Россию расфранченный и преисполненный гордости Итало Гарибольди нанес прощальный визит графу Чиано:.
— Кого мне благодарить за назначение в Россию?
— Благодарите Гитлера… Это он считает, что старый и глупый дурак по имени Итало Гарибольди будет лучше слушаться немцев, нежели молодой и строптивый Джованни Мессе.
В подкрепление Гарибольди дуче выделил и дивизию альпийских стрелков с альпенштоками — лазать по скалам. По прибытии их в Россию ветераны-итальянцы, уже обстрелянные под Хацапетовкой и Харьковом, сразу оценили боевое значение альпенштоков:
— Вот чем удобно сшибать головы гусям и уткам!
— А еще лучше охотиться за прыткими советскими кошками…
К далекому маршу на Сталинград собирались лучшие дивизии дуче — «Коссерия», «Сфорцеска», «Винченца». Но на русских колхозников самое сильное впечатление произвело прибытие славной дивизии «Равенна» солдаты которой носили красные галстуки.
— Гляди-ка, Маня! Никак пионеров прислали?
— Сейчас разведут пионерский костер и начнут кошек жарить…
Конечно, война с Россией нужна была Муссолини из политических видов, но всей душой он болел за дела в Африке, где его мощь представлял все-таки немец — Эрвин Роммель. Между нами, читатель, говоря, на конюшне дуче уже холили белого коня, на котором Муссолини собирался въехать в Каир…
* * *
Каир тех дней утопал в такой постыдной роскоши, что казался оазисом вульгарного былого, крохотным островком наслаждений — посреди страшного моря разрухи, страданий, концлагерей, голода, убийств и пожаров, объявших полмира. Война бушевала где-то там, в далекой и малопонятной России, а здесь, под самым боком итало-германской армии Роммеля, до утра ворковали саксофоны ночных дансингов, магазины ломились от обилия редкостных товаров, рестораны изощрялись в достоинствах своих фирменных кухонь, спорт чередовался с флиртом, борьба на теннисных кортах обсуждалась в Каире с такой же важностью, как и вопросы стратегии. Процветала атмосфера сплетен, секса, спекуляций и восточного кейфа, где чашка йеменского кофе с турецкой сигаретой становилась приятным дополнением к чтению досадных и малоприятных военных сводок. Штабы Окинлека занимали лучшие отели Каира, поближе к купальным бассейнам и площадкам для гольфа. Выгнать их отсюда на фронт было почти невозможно…
Это об офицерах. А что же британские солдаты?
Британские «томми», дети нищеты доков Глазго и трущоб Лондона, попав в этот сказочный Вавилон, даже не подозревали, что в мире возможна такая сладкая жизнь. Война в Ливии их мало касалась — для этого хватало мужества австралийцев, новозеландцев, греков, чехов, поляков, евреев, киприотов, африканеров и даже отчаянных гуркхов из Индии, которые с ножами в зубах кидались на пушки Роммеля. У себя в метрополии «томми» радовались и овсяному супешнику с куском засохшего пудинга, а здесь, в Каире, они брезгливо ковырялись в экзотических блюдах Востока, лениво оценивая «танец живота» местной чертовки. Из тощих заморышей они превратились в откормленных и ленивых тельцов, недаром же Джеймс Олдридж, знавший обстановку Каира, прямо и беспощадно называл их «краснорожими» бездельниками…
Но Мальта не сдавалась, а Тобрук еще держался.
Роммелю исполнилось 48 лет. Яркий и талантливый индивидуалист, он не терпел чужих советов, ненавидел чтение официальных бумаг и писем, даже не отвечал на запросы Гитлера и Муссолини, а когда его одолевали визитеры, он садился в бронетранспортер и укатывал в пустыню — ищите его! Сейчас он укрывался от зноя под куполом мусульманского мавзолея.
— Мальта на совести воздушного флота Кессельринга, — говорил Роммель, — а я, наверное, давно бы взял Тобрук, если бы Окинлек не зачислил в гарнизон и германских эмигрантов. Там полно друзей Эрнста Тельмана! Им совсем не хочется побывать на Альбертпринц-штрассе — в кабинетах гестапо, вот они и вцепились в этот Тобрук… Тома, гляньте в карту: нет ли поблизости хоть захудалого колодца с питьевой водой?
— Есть Но его удерживают французы де Голля.
— Меллентин, — повернулся Роммель к начальнику разведки, — откуда здесь взялись войска «Свободой Франции»?
— Из Сирии… Де Голль уже предлагал эти войска Сталину для включения их в состав Красной Армии, но Черчилль, прослышав об этом, моментально перетащил их в оазис Эль-Бир-Хакейм — как можно дальше от русского фронта…
Киренаика знавала и лучшие времена. А теперь гусеницы танков раскрошили остатки римских терм, в которых некогда, еще на заре человечества, омывались философы и поэты; из катакомб первых византийских христиан дробно стучали английские пулеметы. При сильном откате орудий их сошки иногда выскребали из почвы осколки древнейших мозаик, плитки с непонятными письменами… Роммель изнывал от жарищи.
— Меллентин, куда же эти берлинские умники загнали всю мою авиацию, чтобы я не имел крыши над головой?
— Под Севастополь, где у Манштейна давно трясутся манжеты. А лучшие наши эскадрильи Геринг перевел на север Норвегии, откуда они станут бомбить караваны, идущие в Мурманск. Танки же, приготовленные для Ливии, передаются теперь шестой армии Паулюса, что залезает в страну донских казаков.
— Свиньи! — выразился Эрвин Роммель…
К мавзолею подкатил измятый бронетранспортер.
— Колодец взят, — доложили Роммелю. — Но пить нельзя: англичане оставили в нем целый мешок поваренной соли.
— Благородно с их стороны… сволочи! Я заставлю этого Окинлека хлебать мочу старых больных верблюдов. Но даже эту мочу я стану выдавать Окинлеку по капле — из пипетки…
Солнце стояло в зените. Пустыня звенела от мириад мух, роившихся над лужами поноса, над почерневшими мертвецами. Тесного соприкосновения противников не было, можно ехать часами — и пустыня поражала безлюдьем. Оборона держалась в боксах (опорных пунктах) , вокруг которых процвели знаменитые «сады Роммеля» — плотные минные поля. Окинлек же, в свою очередь, отгораживался от немцев своими взрывоопасными «оранжереями». Англичане имели 850 крейсерских танков и 420 держали в резерве. Эрвин Роммель имел лишь 280 полноценных машин, остальные танки давно можно было списать как безнадежно устаревшие. Уверенные в своей обороне, англичане от самого Каира обставили пустыню магазинами с холодильниками, в которых всегда было свежее холодное пиво. Это обстоятельство особенно возмущало генерала Тома; он, как нищий, подбросил на спине вещевой мешок и сказал:
— Они там хлещут пиво, не забывая при этом как следует посолить воду в арабских колодцах… джентльмены!
Роммель тоже страдал от амебной дизентерии.
— Геринг — старое трепло, — авторитетно заявил он, не стесняясь в выражениях, — обещал «воздушный мост» со стороны Крита, а мы сливаем в баки не больше ста пятидесяти тонн горючего в сутки. Автоцистерны гоняются за мною от самой Бизерты, за тысячи миль пожирая на маршруте столько, что танкам остается лишь дососать бензин с их дна.
Из трофейного джипа высадили пленного британского майора. Опрятное хаки. Ботинки из серого шевро, запах лоринга.
Казалось, майора взяли со светского файф-о-клока. Он поигрывал элегантной метелочкой, отгоняя насекомых. Роммель громко зевнул, глянув в его документы. Членский билет аристократического клуба в отеле «Семирамида». Чековая книжка каирского «Барклайз-банка» с внушительным счетом.
Все это Роммелю было известно.
— Конечно, — сказал он, — с такими деньжатами жить можно. Меллентин, поговорите с ним сами, а я завалюсь спать…
Меллентин начал допрос — почти с юмором?
— Хорошенькая война, не правда ли? Надеюсь, вы не в обиде за то, что мы оторвали вас от партии в бридж и вечернего фокстрота на крыше ресторана «Шепердс»? Кстати, танцовщица Тахия по-прежнему берет по десять фунтов за ночь?
Пленный смотрел на Меллентина с удивлением:
— Кажется, любовный прейскурант ею давно пересмотрен. Теперь она берет десять фунтов только за разговор с нею…
Джеймс Олдридж в своей монографии «Каир» писал, что армию Окинлека составляли не только прожигатели жизни, но еще и «безнадежные идиоты». Очевидно, этот майор как раз и принадлежал к их числу, ибо сразу выдал секретную дату — 7 июня:
— В этот день танки Окинлека сомнут вас, — сообщил он, ударом метелки пресекая жизнь мухи на своем затылке…
Извещенный об этом, Роммель заранее — 26 мая — упредил Окинлека превентивным ударом. После войны германские историки не раз делали «попытки скрыть зависимость военных действий в Северной Африке от событий на советско-германском фронте, чтобы оправдать Роммеля». По их словам, во всем виноват остается Гитлер, который, вместо того чтобы продолжать натиск на Мальту, растянул коммуникации Роммеля, требуя от него взятия Каира, о чем так мечтал и Бенито Муссолини.
Но у Роммеля, помимо Гитлера и Муссолини, был свой искусный сатана, который и таскал его за собой по пескам Киренаики, чтобы «африканские качели» не переставали скрипеть под стенами Каира, мешая спокойно спать Черчиллю…
Что еще сказать вам? Скажу, что Паулюс обладал холодным, академическим умом теоретика, мало способным к завихрению страстей, зато вот его африканский приятель Эрвин Роммель действовал чаще по вдохновению — «с бухты-барахты», как принято говорить среди нас, русских. Отрицать вдохновение глупо!
Может, именно по этой причине Эрвин Роммель намного раньше Паулюса получил чин фельдмаршала.
Полководцы, желаю вам быть вдохновенными!
* * *
В эти дни Уинстон Черчилль, политик смелый и хитрый, был озабочен военно-политическим вопросом большой важности:
— Как предупредить Сталина, что второго фронта в этом сорок втором году не будет? Но мне, очевидно, предстоит убедить этого восточного деспота в том, что третий фронт против армии Роммеля в Африке и есть тот самый второй фронт, открытия которого с таким нетерпением ожидают русские.
Готовилась операция «Торч» («Факел»), чтобы пламя этого факела разгорелось над Африкой. Но как Африку выдать за Европу? В эти же дни — в далекой Америке — генерал Эйзенхауэр писал еще более откровенно: «Высадка в Северо-Западной Африке (в Марокко) должна начаться в тот момент, когда Германия настолько завязнет в России, что она не сможет снять с Восточного фронта ни одной своей дивизии».
Но Эрвин Роммель опередил противников…
18. Результат
Окружение… И никаких надежд вырваться из котла не оставалось, как не оставалось и генералов — все геройски погибли в Барвенковском котле, который устроили им немцы не без помощи излишне «вдохновенного» маршала Тимошенко.
Больно. Почему так? Бездарные и самовлюбленные карьеристы не раз сдавали в плен врагу целые армии, а их подчиненные, попав в неволю, потом всю жизнь носили несмываемое клеймо изменников и предателей, чтобы после войны из гитлеровских концлагерей перекочевать в концлагеря сталинские.
Окружение… В редких перелесках и на дне размытых оврагов Харьковщины еще стучали робкие выстрелы. Нет, уже не отстреливались от врагов, а стреляли в себя, чтобы избежать позора. Партийные говорили товарищам по несчастью:
— Ну, что, добры-молодцы? Не пора ли погреться?..
Разводили маленькие костерки, на которых стыдливо сжигали партийные билеты и личные письма. Под корнями деревьев окруженцы зарывали ордена, питая слабую надежду на то, что после победы вернутся сюда обратно и откопают свои награды. Барвенковский выступ, столь удобный для развития викториальных фантазий горе-стратегов в Кремле, теперь превратился в жесткий котел, из которого не выбраться. Немцы прочесывали окруженцев трассирующими, швыряли в ночное небо ракеты, иногда покрикивая:
— Эй, рус, кончай ночевать! Хенде хох… сдавайс…
Не так-то легко выйти на большак и поднять руки. Разговоры же среди окруженных остались известны.
— Я этого котла ожидал… с первого же дня, как поперлись, — говорил седой полковник. — Еще за месяц только и болтали, где и как пойдем Харьков брать, вот и доболтались. Если все мы знали о предстоящем наступлении, так и немцы готовились.
— Пожалуй, — согласился молодой капитан. — Ух, как обрадовались в первый день, когда нажимали. А немцы того и ждали, они пожертвовали своими заслонами, чтобы взять нас в клещи…
— Страшно! — сказал рыжий сержант. — Всем страшно, не тебе одному.
— А мне всех страшнее. Я-то, видит Бог, должен сейчас радоваться. У меня до козырька причин, чтобы ненавидеть эту, яти ее мать, советскую власть и этого гада усатого.
— Полегче, приятель, — предупредил его особист.
— Заткнись, курва! — отвечал сержант без страха. — Моего деда еще в коллективизацию шуранули на край света, где и загнулся с бабкой. А моего отца при Ежове к стенке прислонили в подвале да в лоб всадили ему пулю, чтобы башка не шаталась. Сижу с вами и думаю, живым бы в землю зарыться, чтобы немцы не нашли, а в плен не пойду… Я не за вашу партию воевал, а за то, что раньше именовали Отечеством.
По украинским древним шляхам день и ночь тянулись длиннейшие и неряшливые колонны военнопленных; берлинские фанфары завывали на весь мир, празднуя победу. Геббельс возвестил по радио, что вермахт непобедим и под Харьковом он пленил 240 000 советских военнослужащих. И каждый из пленных уносил в своем сердце большую гражданскую и человеческую боль , от которой не избавиться до конца всей жизни… Кто виноват?
* * *
Сталин молчал. Наш историк А. М. Самсонов в научной монографии «Сталинградская битва» сообщает: «Причины этих трагических для советского народа событий долгое время не исследовались». Их попросту замалчивали! Мне, автору, понятно — почему: стыдно было признать страшные ошибки и, наверное, не стоило бередить в народе незажившие раны.
Сталин молчал. Великая страна болезненно переживала два страшных поражения — под Керчью и под Харьковом. Это легко написать, но сколько осталось сирот, сколько слез пролито вдовами, сколько горя выпало матерям. Сейчас уже не проверить, сколько людей погибло, сколько попало в плен; известно, что из окружения вышло лишь 22000 человек. Среди них только два генерала — К. А. Гуров и А. Г. Батюня.
Сталин молчал. На этот раз он никого не винил, понимая, что виноват сам. Виноват в том, что отверг мнение Генштаба и пошел на поводу заверений Тимошенко, который заблуждался сам и вводил в заблуждение других. Теперь советские историки, анализируя причины неудачи под Харьковом, выделяют и этот факт — неверная информация Ставки о действительном положении на фронтах…
Ах, как ему хотелось предстать перед миром в прекрасной роли «величайшего полководца всех времен и народов», а теперь… Хорошо владея собой, он встретил Хрущева вопросом:
— Немцы по радио хвастают, что взяли в плен больше двухсот сорока тысяч, почти четверть миллиона… Врут, наверное?
Никита Сергеевич и сам с ног до головы был виноват в том, что произошло, но, однако имел мужество не кривить душою:
— Правда , товарищ Сталин! Вся наша армия там осталась, а немцам сейчас нет смысла врать…
А кто виноват? Кого посадить? Кого расстрелять?
— Под Харьковом четверть миллиона да эти дураки Козлов с Мехлисом сдали под Керчью еще сто пятьдесят тысяч наших бойцов, вот и полмиллиона, словно корова языком слизнула…
Ни маршал Тимошенко, ни член Военного совета Хрущев не пострадали, и это понятно — почему. Признать их виноватыми для Сталина означало признать и свою вину за поражение под Харьковом, а он, великий и гениальный, все заранее предвидящий и все понимающий лучше других, ошибок за собой никогда не признавал. Но несчастного библейского козла отпущения, изгнанного в пустыню за чужие грехи, следовало отыскать, и, будьте уверены, читатель, он его скоро отыщет…
Только через месяц — 26 июня — Сталин признал:
— Под Харьковом нам выпало пережить катастрофу, подобную той, что случилась в четырнадцатом году с армиями Самсонова и Ренненкампфа в Восточной Пруссии…
Поразмыслив, он дал указание для Совинформбюро!
— Сейчас народу надо сказать всю правду …
Но говорить правду народу — это не в характере Сталина, и потому холуйски-услужливое Совинформбюро признало, что под Харьковом «пропало без вести» 70 000 советских воинов.
— Пусть об этом знают враги и друзья, что мы, большевики, говорим только правду, — утверждал Сталин…
Да, я согласен, что тогдашние сводки казались нам жестоко-объективны, иногда поражая откровенностью в признании слабостей нашего командования. Возможно они порой выглядели даже излишне трагически. С какой целью? Эта обостренная доля правды должна была еще раз напомнить союзникам, что хватит уже «стоять с ружьем, приставленным к ноге», что второй фронт крайне необходим. Враги тоже понимали это. Германский историк Типпельскирх писал:
«Открытое признание (Сталиным) поражения было первым, но не последним призывом русских к своим союзникам — не оставлять их будущим летом одних выдерживать натиск немцев…»
Мнимая откровенность Сталина была, по сути дела, призывом о помощи.
— Черчилль, — говорил Сталин, — обещал, что со вторым фронтом поспешит, а наше дело — выстоять под Москвою…
Сталин по-прежнему был твердо уверен в том, что летом немцы снова будут наступать на Москву. Напрасно наша разведка проникла в тайны кабинетов ОКВ и ОКХ, докладывая «наверх», что летом вермахт будет развернут в двух направлениях — на Кавказ и на Волгу, но переубедить Сталина было невозможно:
— Гитлер верен своему правилу! Захватив столицу в Европе, он уже считался победителем всей страны…
В таком случае фельдмаршалу фон Клюге (командующему «Центром») было совсем нетрудно укрепить товарища Сталина в его несомненной правоте, и он очень искусно проводил операцию «Кремль», чтобы наш дорогой товарищ Сталин и остался в дураках.
Немецкая авиация демонстративно вела аэрофотосъемку подступов к Москве, полевые радиостанции «Центра», обычно осторожные, болтали о передислокации частей, в сумках убитых офицеров все чаще находили планы окраин столицы, партизаны докладывали, что немцы мастерят столбы дорожных указателей — на Москву! Немецкие офицеры, угодившие в наш плен, на допросах охотно показывали, что сейчас фельдмаршала Клюге интересует оперативная линия: Тула — Москва — Калинин. Если суммировать все эти данные, сомнений не возникало: враг уже готов повторить удар по нашей столице
Сталину доложили, что Клюге ведет сильные атаки на московском направлении, и, наконец, перед ним на стол выложили подлинный приказ фельдмаршала от 29 мая. Вот его начало:
«Документ № 1»
Командование группы армии «Центр».
Штаб 29.05.1942 г.
Оперативный отдел. № 4350042.
Совершенно секретно
Документ командования
22 экземпляра.
20-й экземпляр
Штамп: Совершенно секретно!
Содержание: «КРЕМЛЬ»
Документ командования 6-й
Передавать только офицерам
ПРИКАЗ О НАСТУПЛЕНИИ НА МОСКВУ
(карта 1 : 1000 000)
1. Главное командование сухопутных войск отдало приказ о возможно скорейшем возобновлении наступательной операции на Москву…» и так далее.
Даже первого пункта этого приказа Сталину было достаточно, чтобы он окончательно уверовал в свои предначертания.
— Вот! — говорил он, даже довольный. — Теперь ни у кого не может быть сомнений относительно летних планов Гитлера…
Наш историк А. М. Самсонов признает:
«Тот факт, что Советское Верховное Главнокомандование не разгадало подлинных намерений противника на летнюю кампанию 1942 г ., позволяет предполагать, что это крупное дезинформационное предприятие фашистов не осталось без последствий».
Смею думать, что Сталин еще более утвердился в своем ошибочном мнении после того, как маршал Тимошенко доложил ему с фронта:
— Товарищ Сталин, по моему глубокому убеждению, противник в настоящий момент на юге уже мною ослаблен, способный лишь на вспомогательные удары. Все свои главные силы он придерживает, конечно, для нового удара по Москве…
План операции «Кремль» и эти прогнозы маршала Тимошенко имели одну общую дату — 29 мая. Конечно, это случайное совпадение, какими история иногда любит шутить над нами.
…Эта глава была уже написана мною, когда вдруг недавно, буквально на днях, я раскрыл свежий номер «Военно-исторического журнала» и понял, что Сталин все-таки отыскал главного виновника разгрома армий Тимошенко под Харьковом. Им оказался, конечно же, Иван Христофорович Баграмян!
«Товарищ Баграмян, — диктовал Сталин, — не удовлетворяет Ставку не только как начальник штаба, призванный укреплять связь и руководство армиями, но не удовлетворяет Ставку даже и как простой информатор, обязанный честно и правдиво сообщать в Ставку о положении на фронте. Более того, т. Баграмян оказался неспособным извлечь урок из той катастрофы, которая разразилась на Юго-Западном фронте… благодаря своему легкомыслию не только проиграл наполовину уже выигранную Харьковскую операцию, но успел еще отдать противнику 18 — 20 дивизий…»
Длинные колонны наших военнопленных — несчастных.
Виноватого нашли! Легендарный «стрелочник» необходим…
* * *
В самом конце мая Харьковская операция закончилась, и Паулюс спросил своего квартирмейстера фон Кутновски:
— Каковы потери моей армии в минувшем сражении?
— Двадцать две тысячи.
— Почему такая округленная цифра?
— Калькуляция потерь подведена лишь условно. Много пропавших без вести, еще отыскивают раненых. Кажется, — добавил Кутновски, — мы с трудом выбрались из этого кризиса?
— Да, — не скрывал от него Паулюс, — под Харьковом иногда возникали моменты, когда я думал, что город придется оставить. Но виновником моих опасений было упорство русского солдата, а никак не упрямство маршала Тимошенко… Впрочем, Наполеон был прав: Бог всегда на стороне больших батальонов!
Полковник Адам настраивал радиоприемник. Из трескотни эфирных помех вдруг выделилось имя Паулюса. Берлин голосом Ганса Фриче возвестил о том, что генерал-лейтенант танковых войск Фридрих Паулюс за полный разгром армии маршала Тимошенко возводится фюрером в кавалеры Рыцарского креста.
— Признаюсь, — сказал Паулюс, — я надеялся на следующий чин генерал-полковника. Но стоит радоваться и кресту, ибо получение его сопряжено с приятным визитом в столицу.
Самолет приземлился в Темпельгофе лишь в два часа ночи, и Паулюс был безмерно удивлен, встретив Франца Гальдера, который ждал его. Скупо поздравив с наградой, Гальдер сказал:
— Мне без вас трудно работается, вы умели ладить с этим психопатом, а мы с ним грыземся, словно бродячие собаки из-за каждой кости. Я с трудом переношу его оскорбления, от которых краснеют не только стенографистки, но даже Кейтель с Йодлем… Садитесь в мою машину, дорогою переговорим. — Едва захлопнув дверцу, Гальдер сразу же начал бранить фюрера за непонимание самых насущных законов стратегии. — После ошеломляющей победы под Харьковом разве не абсурдно ли последующее расчленение армий на две группировки с дирекцией — на Кавказ и на Сталинград. Русские передушат нас там поодиночке…
Паулюс никак не желал драматизировать летние планы:
— Что бы вы сделали на месте фюрера, Гальдер?
— Сейчас мне хватило бы лишь одного Сталинграда.
— Но тогда моя шестая армия образует невыгодный клин с необеспеченными флангами от Воронежа до Ростова, вот тогда-то меня русские и задушат…
Гальдер сказал, что падение Воронежа (со стороны барона Вейхса) и возврат Ростова (со стороны Клейста) будут обеспечены в ближайшее время.
— Таким образом, ваша боязнь за свои драгоценные фланги отпадает сама по себе. Дело не в этом! — многозначительно произнес Гальдер и замолк, надвинув козырек фуражки на глаза.
Машина мчалась во мраке, пронзая улицы Берлина, еще два-три поворота, и они выедут на Альтенштайн-штрассе.
— Вы, кажется, не поняли меня, — продолжил Гальдер. — Выходом к Волге я бы разом перекрыл все краны, из которых русские черпают горючее, и Красная Армия скончалась бы сама в жестоких корчах топливной дистрофии. Но при этом нам не пришлось бы штурмовать Эльбрус и залезать в Баку!
— И вы ждали меня, чтобы…
— Ждал. Чтобы просить вас, Паулюс, при свидании с фюрером убедить его высочайшее невежество в стратегической выгоде одного лишь сталинградского направления.
— Обещаю. Но при условии. Если ваши оперативные сентенции не нарушат ритуала моего награждения…
(Оба они, и Гитлер, и Гальдер, желали выиграть войну, теперь уж если не оружием, то хотя бы топливным дефицитом советской промышленности, конкретным наличием советских двигателей. Но подходили к этой победе разными путями. Гитлеру хотелось сосать горючее прямо из нефтяных скважин Кавказа, а Гальдер) более осторожный, желал лишь перекрыть Волгу, которая в те годы была для нас главным «нефтепроводом». Мне, автору, трудно давать оценку вражеским рассуждениям. Я сошлюсь на мнение видного английского историка Лиддела Гарта; в книге «Стратегия непрямых действий» он писал о планах вермахта на Кавказе: «Это был тонкий расчет, который был ближе к своей цели, чем принято думать …»)
Дома Паулюса не ждали; разбуженная его появлением жена, оказывается, все уже знала — по газетам.
— Рыцарский крест, — горячо шептала она, — к нему бы еще мечи и дубовые листья. А потом и жезл фельдмаршала… Ах, Фриди! Как я счастлива, что стала твоей женой… Мне последние дни все чаще вспоминался давний Шварцвальд, наша первая прогулка в горы, где у тебя закружилась голова.
— Коко, спасибо тебе за все! — отвечал Паулюс. — Но голова у меня кружится и теперь. Я трудно переношу всякую высоту…
Берлин сильно изменился. Высокие заборы отгораживали здания, уничтоженные английскими фугасками. Прохожие выглядели озабоченно. Семью Паулюса нужда не коснулась, но другие — не элита общества! — получали в неделю 250 граммов сахара, столько же маргарина, который иногда заменяли свекольным мармеладом. На все продукты были введены карточки, ордера-бецугшайны — на одежду и обувь, особые талоны — купоны — на обед в ресторанах. Горничная рассказывала Паулюсу:
— Множество талонов и карточек! На случай отпуска, болезни и регистрации брака. Карточки для тех, кого еще не бомбили, и карточки для тех, кто уже испытал это безумное удовольствие, для инвалидов другие — с повышенной калорийностью. Если бы не посылки солдат с Украины, я не знаю, как бы мы тут жили…
В подворотнях Берлина торчали безногие и безрукие калеки. Выкриками на ломаном русском языке они давали понять, что побывали на Восточном фронте. Их выкрики, порою грубые, иногда безобидные, зачастую предназначались тем же русским людям, насильно угнанным в Германию, и теперь эти «рабы» ковырялись лопатами в канавах, они чистили трамвайные пути, разбирали руины зданий… Странно, что на московских радиоволнах слышались задорные частушки, а немцы казались подавленными.
Бархатный воротник генеральского мундира ласкал шею Паулюса, которую облегала лента Рыцарского креста. Гитлер долго тряс руку, заглядывая прямо в глаза:
— Сейчас есть два громких имени в Германии — это вы и Роммель! Я всегда высоко оценивал ваши способности и был рад доверить вашему руководству именно шестую армию, лучшую армию вермахта. Надеюсь, победа под Харьковом послужит для вас удобным трамплином для прыжка через Дон — прямо к Волге! Помните, что я вам сказал однажды: с такою армией, какова шестая, можно штурмовать даже небо…
После таких слов терялся всякий смысл отстаивать брюзгу Гальдера, и Паулюс вскинул руку в нацистском приветствии.
— Служу великой Германии, — был его ответ по уставу…
Геббельс в эти дни сотворил из Паулюса кумира всего вермахта, сделал из него популярный «боевик» для своей пропаганды. Газеты именовали Паулюса подлинно народным генералом, вышедшим из народных низов, его называли героем нации, портреты Паулюса были выставлены в витринах магазинов на Курфюрстендам, их показывали в обрамлении лавровых венков. Правда, подле изображения Паулюса всегда соседствовали и портреты его приятеля — Эрвина Роммеля. Иногда меж ними являлся и весело хохочущий Курт Зейдлиц, аристократ с лицом деревенского парня, герой прорыва окруженной армии из гибельного Демянского котла…
— Фриди, ведь это слава, — говорила Коко, стараясь не выдавать своего ликования. — Когда смотрят на тебя, то все невольно оглядывают и меня. Расскажи еще раз о нашем сыне.
— Не волнуйся. Доктор Фладе следит за его здоровьем. Я его отправлю погостить к румынскому дяде — твоему брату, пусть он восстановит силы на королевском курорте в Предеале…
Паулюс появился с женою в опере, и за спиной не раз слышал восторженные голоса: «Паулюс… тот самый! Герой нации и любимец фюрера…» Да, это была слава, которая не так уж часто ласкает честолюбие полководцев. Он нашел время навестить сестру Корнелию у которой застал какую-то тихую пожилую женщину, всплакнувшую при виде Паулюса, и он с большим трудом узнал в ней ту самую девицу, что давным-давно была в него влюблена:
— Неужели вы… Лина Кнауфф?
— Увы! Была. А теперь… вдова Пфайфер. Я счастлива, что вижу вас снова, а вы такой же стройный, как и в молодости.
Это свидание невольно всколыхнуло былое, Паулюс с какой-то минорной грустью вспомнил прежние годы, не забыв и тот гороховый суп, что приносил из тюрьмы бедный и добрый отец.
— А как ведь было вкусно! — сказал он…
Дела звали на фронт. Паулюс устроил прощальный ужин в ресторане «Фатерлянд» на Потсдамской площади. Среди множества его богатых залов — баварского, рейнского, саксонского и прочих — он выбрал для себя родной гессенский зал.
— Что вам угодно? — склонился метрдотель.
— Картофельные оладьи, — ответил Паулюс.
— Простите, я не ослышался? У нас ведь очень богатая кухня, в «Фатерлянде» кормят гостей не по карточкам.
Паулюс не изменил своим привычкам:
— Оладьи! С луковой или грибной подливкой… К сожалению, у меня строгая диета, а я должен оставаться в форме.
* * *
Долго-долго тянулись от Барвенково многотысячные колонны военнопленных, которых совсем не кормили. Потом, когда их загнали за колючую проволоку, всем дали — ешь, сколько влезет! — по миске круто сваренной баланды из «магары». Наш художник Владимир Сойдарец, угодивший в плен под Барвенково, описал, каковы были последствия этой кормежки: «Многие сразу поняли весь ужас своего положения, перепуганно приуныли и целыми днями висели на краю зловонной ямы, пытаясь проволочной петлей извлечь из себя затвердевшую пищу. Но было уже поздно…» Тысячи, десятки тысяч трупов там и остались. Если бы Сталину рассказали об этом, он, скорее всего, ответил бы убежденно:
— А не надо было изменять Родине…
Дикая мораль! По мнению Сталина, советский человек, если ему угрожает плен, обязан покончить с собой. Для «вождя народов» как бы не существовало многовековой военной истории, в которой всегда бывали пленные, но никакой тиран не требовал от своих верноподданных, чтобы они стрелялись, вешались, травились или резались. В самой идее Сталина было заложено безнравственное начало ! Никогда не щадивший людей, он от людей и требовал невозможного — чтобы они тоже не щадили своих жизней.
Да, он умышленно не подписывал Женевскую конвенцию! Мне рассказывали люди, пережившие все ужасы гитлеровских концлагерей, что французы, англичане и прочие узники регулярно получали продовольственные посылки от международного Красного Креста, и только наши бедолаги, взращенные «под солнцем сталинской конституции», ничего не имели, умирая от голода. А немцы им говорили (и на этот раз, кажется, даже справедливо):
— Мы не виноваты, что вы доходяги! Надо было вашему усатому подписать Женевские протоколы, тогда бы и вы не шатались от голода. А теперь — вон помойка! Иди и копайся в ней. Что найдешь, все твое будет.
Хочется эту тему продолжить. Англичане не меньше нас, русских, любят свою родину, но даже их традиционный «джингоизм» (ура-патриотизм) никогда не мешал им сдаваться в плен целыми гарнизонами, и в Англии их за это не клеймили позором, за решетку их не сажали. Но у нашего вождя было иное мнение о всех военнопленных, весьма далекое от примитивного гуманизма. Дело дошло до того, что однажды Де Голль сообщил Сталину, что его люди проникли в тот концлагерь, где сидел его сын Яков Джугашвили, и разведка Де Голля бралась вызволить его из неволи. Сталин и это предложение даже не ответил. Наверное, он и родного сыночка считал «изменником» (или «пропавшим без вести», как называли тогда всех, кто попал в плен)
…Прямо от стола гессенского зала «Фатерлянда» доев свои оладьи с подливкой, Паулюс вылетел на фронт. В полночь радист «юнкерса» принял из эфира депешу из канцелярии Геббельса, который извещал Паулюса, что скоро пришлет в Харьков радиокомментатора Ганса Фриче, чтобы тот с места событий воспевал геройские подвиги его прославленной армии.
Паулюса на аэродроме в Харькове встречал верный Адам.
— Я уверен, — сказал ему Паулюс, — что фон Клюге, разыграв эту фальшивую операцию «Кремль», замаскировал внимание русских от наших южных направлений. Завтра мы и приступим…
Спал он очень мало, но рано утром в Красных Казармах Харькова, где когда-то размещались штабы советской армии, Паулюс сразу поднялся в оперативный отдел.
— Внимание! — распорядился он. — Прошу разложить карты большой излучины Дона, которая выгибается столь усердно, словно природа когда-то желала влить донские воды в Волгу.
Сразу засуетились десятки расторопных офицеров!
— В каком масштабе карты? В стратегическом?
— Нет, Сразу в оперативном. Уже в конце июля этого года мы должны быть в Сталинграде на Волге.
— Тогда прикажете готовить и карты Волги?
— Да, от Саратова до Астрахани. Я выбираюсь на черту, которую сам и установил для вермахта два года назад… Внимание!
19. На пороге нашей победы
Итало Гарибольди, начернив усики и глядя на портрет Наполеона, с которым он не расставался с тех пор, как переболел триппером в Париже (еще до первой мировой войны), уже входил в роль великого итальянского полководца. Проверив, как расположена на его груди гирлянда сверкающих орденов, он сказал:
— Такие вещи прощать нельзя! Затребуйте в Харьков выездную сессию военного трибунала, чтобы судить этого… как его?
— Франческо Габриэли.
— Вот-вот! Этого негодяя надо расстрелять перед строем…
Вина берсальера Франческо была ужасна. Он сидел на заваленке избы в деревне Телепнево и ел огурец, краденный на ближайшем огороде, когда кто-то, проходя мимо, окликнул его:
— Опять жрешь. А сейчас твоего капитана Эболи шлепнули.
На это бравый берсальер встряхнул петушиным хвостом, украшавшим его каску, и, доедая огурец, изволил ответить:
— Ну и что? Одним меньше. Туда ему и дорога…
В бывшем клубе металлистов Харькова состоялся судебный процесс над Франческо Габриэли, а подсудимый оправдывался:
— Правда, ваша честь. Я не скрываю, что имел глупость произнести именно такие слова. Но как раз в этот момент я приканчивал огурец, и мой возглас «Одним меньше» относился только к этому огурцу, и никак не к погибшему капитану Эболи, отдавшему жизнь за нашего короля и нашу славную партию.
— Вы тут не выкручивайтесь! — разъярились судьи. — Да, свидетели подтверждают, что вы ели огурец. Но после выражения «одним меньше» вы добавили слова «туда ему и дорога». Чем вы объясните свое предательское поведение?
— Правда, ваша честь, — сознался берсальер, начиная плакать. — Все так и было. Когда я увидел, что от огурца ничего уже не осталось, я сказал: «Туда ему и дорога!» При этом, ваша честь, я имел в виду свой ненасытный желудок, давно тоскующий по макаронам. Не мог же я запросы своего желудка сравнивать с геройской гибелью своего отважного капитана…
Суд вынес постановление: Франческо Габриэли намертво приковать к пулемету и посадить в обороне на самый опасный участок фронта, чтобы он отстреливался до последнего патрона. Ночью этот берсальер ушел к русским и утащил за собой пулемет. Там русские солдаты его расковали и накормили опять-таки огурцами, которых полно было тогда на брошенных огородах.
«Одним меньше!»
* * *
А здесь — тоже суд, и нам уже не до юмора.
На скамье подсудимых — жалкий, затравленный человек.
Но суд военного трибунала безжалостен:
— …гражданин П. А. Головченко, исполняя должность начальника вагонного депо сортировочной станции Сталинград-П, используя свое служебное положение, в первых числах мая сего года отцепил от воинского эшелона железнодорожную емкость — цистерну с авиационным спиртом, который и расходовал в корыстных целях. Исходя из законов военного времени, гражданин П. А. Головченко приговаривается к высшей мере наказания — расстрелу! Подсудимого можно увести…
Чуянов ничего этого не знал, поглощенный повседневными заботами, которые обрушивались на него со всех сторон, требуя ежедневных, ежечасных, ежеминутных решений. Первые бомбежки Сталинграда (начались еще в апреле) не нарушили городского ритма, зенитным огнем отстояли цеха заводов от попаданий фугасок, но Рихтгофену удалось высыпать вороха зажигалок на жилые кварталы Рынка, на рабочие поселки СТЗ. Фронт надвигался. Из станицы Вешенской, где проживал М А. Шолохов, сообщали, что их бомбят непрестанно.
Воронин удивлялся:
— За что так достается станице Вешенской?
— Как не понять? Популярность Шолохова исключительная, лишиться его сейчас — нанести рану всем нам, а заодно и порадовать Геббельса… Вот и сыпят осколочными! Я недавно видел Михаила Александровича, — сказал Чуянов, — он в ужасном состоянии и, подобно многим казакам, отказывается понимать, как это случилось, что немецкие танки уже вылезают к Тихому Дону.
— Я тоже не понимаю, — сознался Воронин. — Черт его задери — этот Барвенковский выступ! С него-то все и началось. Как говорится, «пошли по шерсть, а вернулись сами стрижены…».
В это время у нас в стране с доставкой горючего все было более или менее в порядке, не хватало только высокооктановых сортов авиационного бензина (его поставляли нам союзники с караванами — через Мурманск). Москва постоянно требовала от Астрахани в Сталинграда энергичнее перекачивать в верховья Камы запасы жидкого топлива — судами «Волготанкер» или нефтеналивными баржами. С трудом, но справлялись! Сама цифра вывоза невольно ужасала — десять миллионов тонн, в первую очередь следовало спасать высокосортные нефтепродукты (бензин и лигроин). В низовьях Волги уже не знали, куда сливать запасы нефти, поступающие из Баку в немыслимых количествах. Емкостей для хранения не было.
Алексей Семенович срочно вылетел в Астрахань, где увидел гигантские нефтяные озера в искусственных ямах. «Немецко-фашистская авиаразведка, — писал он в дневнике, — непрерывно ищет эти склады… подняли на ноги всех пожарников. Всякое может быть — и бомба, и удар молнии в земляной склад, а тогда катастрофа неминуема». Чуянова порадовало скорое создание многопролетного моста через Волгу под Астраханью — мост позволял «протолкнуть» длиннейшие эшелоны, застрявшие на путях Кавказа.
Домой возвращался на попутном истребителе, который в полете все время забирал правее, в калмыцкие степи, чтобы не напороться на немцев; подлетая к сталинградской Бекетовке, издали видели шапки зенитных разрывов — это девушки-зенитчицы отстаивали от пиратов Рихтгофена элеватор, мясобойни и здание СталГРЭСа.
Алексей Семенович выискивал скрытые резервы города.
— А что делают наши трамвайщики? — однажды спросил он.
— Как что? Людей возят. На работу и обратно.
— Бездельники! У них там свое депо, свои мастерские и старые рабочие кадры. Пусть наладят производство гранат…
Над столом Чуянова — плакат: «Все для фронта, все для победы!» Кирпичные заводы Сталинграда уже выдавали взрывчатку — динамон марки «О». Чуянов вспомнил, что в вагонном депо задержали сдачу бронепоезда фронту: не хватало спирта, нужного для обработки металла. На звонок в депо дежурная ответила, что инженера Головченко теперь у них нет:
— Под статью подвели. Наверное, давно ходанул.
— Головченко? — оторопел Чуянов. — Под статью? За что?
— Не знаем. Дело тут темное, а мы люди маленькие…
Воронин сообщил из НКВД, что тюрьма уже переполнена:
— Провели облавы по вокзалам и пристаням, в очередях. Взяли всех, кто без документов. Спекулянтов, дезертиров, хапуг, жуликов, паникеров. В донских станицах каждую ночь ловят диверсантов. Посылаю туда истребительный батальон.
— Стоп! Сначала доложи — что там с Головченко?
— Отцепил, гад, цистерну со спиртом и угнал к себе в депо.
— Спирт-то он пил?
— Нет. Все трезвые.
— Живой? — Не знаю.
— Приостановить действие приговора…
— Постой! Он же ведь сам во всем сознался.
— К вам только попади, так сразу сознаешься, что это я велосипед изобрел… А я знаю Головченко, это честнейший человек, трудяга. Не спорю, что увел спирт. Просто он напоролся на нашу бюрократию. Дело в депо стояло, а под боком торчала на путях и эта цистерна со спиртом. Вот и пошел на преступление. Но ради дела общей победы… Головченко я не отдам! Буду жаловаться.
— Семеныч, да кому жаловаться-то?
— Лично товарищу Сталину. Если ты, начальник областного НКВД, однажды отыскал целый эшелон с пушками, то почему бы другому эшелону не потерять одну цистерну со спиртом? Понял? Или не дошло?
Воронин, уходя, оставил ему вражескую листовку: «Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки», — так и было написано.
— Во, заразы! — ругался Чуянов. — Хоть бы постыдились. И где они поэтов находят… однако все в рифму.
Чуянов, весь в запарке, уже издерганный, позвонил в Воронеж — секретарю тамошнего обкома партии Тищенко:
— Владимир Осипыч, как там справляешься?
— А., никак! — донеслось из Воронежа. — У меня в городе уже двадцать два госпиталя. Эвакуированные, с детишками. С мешками. Голодные. На вокзалах — стон стоит. По улицам гонят колхозные стада. Коровы их не успеваем выдаивать. Элеваторы забиты зерном. Молоть уже некогда. Зерно самовозгорается. А тушить— вода. Значит, зерно сгниет. В холодильниках всего навалом. Начиная со шпика и кончая банками с камчатскими крабами. Вывозить? Так нет транспорта. И если есть транспорт, так нет бензина. Лимит, братец, лимит! Мне кричат из Москвы: «Вывози, такой-сякой-немазаный…» А — как?
Чуянов выслушал коллегу, посочувствовал, ответил:
— Только не гони беженцев ко мне — Сталинград не резиновый. Со скотом тоже не знаю как быть… Бомбят?
— Не очень. Уже привыкли.
— Ну, жди! Ты ближе. Западнее… Пока!
Только отговорил с Воронежем, звонок из Астрахани:
— Семеныч, это я — Голышев… Нас тут бомбами разнесли к чертям собачьим. В городе пожары. Деревяшки горят. Два часа без передыху садили по переправам. Водопровод не действует. Сидим без света. Но нефтехранилища уцелели… Мы тут сами диву даемся: как немцы в самолетах сверху их не заметили?
Никак было не дозвониться в местный штаб ПВО, пришлось связаться с генералом Герасименко, начальником военного округа:
— Василий Филиппович, слышал ли? Астрахань уже разбомбили. Я на днях летел оттуда, так с высоты видел нефтяные ямы — они сверху, как зеркала. Понимаю. Одеялом не закроешь. Но ты подумай сам: нужны ли над нефтехранилищами аэростаты? Что? Отпугивать врага? А, может, наоборот, они привлекают? Эти «колбасы» и у нас в Сталинграде точно показывают немцам, где мы храним все свое горючее… Ладно. Ты зайди ко мне.
А потом думал: «Ну, ладно — нефть. А как замаскировать от летчиков огненное зарево мартеновских печей? Ведь ночные бомбардировщики видят их пламя за многие мили и летят, как мухи на патоку… Чем тут закроешься?» Из Вешенской сообщили, что немецкая авиация недаром кружила над станицей: вчера бомба разорвалась как раз во дворе дома Шолохова:
— Мать писателя погибла. Михаил Александрович страшно переживает. Семью он потерял. Наверное, после похорон выедет к вам. Вы уж как-нибудь его… Ладно?
Вскоре Чуянова навестил командующий округом Герасименко:
— Жарко, Семеныч. А я к тебе… по важному делу
— Садись. Я тоже замотан. Ну, что у тебя?
— Понимаешь, — начал Герасименко, прищелкнув пальцами для полноты впечатлений, — у нас в гарнизоне полно девах разных. По мобилизации. Ну, и добровольно. При зенитных батареях служат.
— Ну, как же! Знаю. Уважаю.
— Уважения мало, — сказал командующий. — Их еще и одеть надо. У них там все по вещевому аттестату: гимнастерки, шапки, ватники… Все есть, сам понимаешь, но для девок этого мало.
— Так чего же им еще не хватает?
— А куда прикажешь титьки девать?
— Какие титьки? — совсем обалдел Чуянов.
— Самые обыкновенные. И нуждаются наши зенитные батареи как раз в том, что в вещевом аттестате солдату не предусмотрено.
— А что там?
— Нужны бюстгалтеры, а в наших магазинах, я уже пошукал, одни барометры для измерения атмосферного давления да еще вот такие громадные щипцы для завивки волос — и все!
— Слушай, дорогой, где я тебе бюстгалтеров наберу?
— Твое дело. Хоть тресни, а достань, — заявил Василий Филиппович.
— Это еще не все: девка — организм сложный, на солдата мало похожий. Как хочешь, а каждый месяц ей по куску ваты давай… опять же в вещевом аттестате не предусмотрено, чтобы солдата ежемесячно ватой снабжали.
— Ну, ладно, — сказал Чуянов. — Пошурую. Может, найду… Ах, Боже мой, какие мы, Филиппыч, все убогие да бедные. И ни хрена у нас нету. Чего ни коснись — все проблема…
Герасименко ушел. На пороге кабинета возник солдат штрафного батальона, бывший инженер вагонного депо П. А. Головченко:
— Пришел проститься перед отправкой… Спасибо, Алексей Семеныч, что не дали пропасть, как собаке. Штрафбат тоже не сахар, сами понимаете. Но тут хоть честно — до первой крови. А уж крови не пожалею. Войнища тут такая пошла…
Чуянов вышел из-за стола, обнял штрафника.
— Ты меня тоже прости. Если б мы умели работать, как надо, тебе не пришлось бы воровать по ночам цистерны со спиртом… Хорошо, что зашел. Давай, брат, по стакану тяпнем перед разлукой. Так уж положено на святой Руси. Закуски, правда, нет, да и хрен с ней, с закуской, рукавом утремся.
Выпили, утерлись, помолчали.
— Куда ты теперь? Далеко ли? — спросил Чуянов.
— Да нет. Это раньше на войну далеко ходили.. Вон Суворов, аж в Италию забрался. А теперь… завтра уже буду в окопах!
Чуянов показал инженеру немецкую листовку: «Сталинградские дамочки, готовьте свои ямочки».
— Во, какая поэзия у нас поехала. Хоть плачь, хоть смейся. Оказывается, Паулюс-то уже двадцать пятого июля обязан выйти к Волге, вот и нажимает на Дону. Но Сталинград не сдадим. Верю, что наш красноармейский ансамбль песни и пляски под управлением товарища Александрова еще споет и спляшет в Берлине…
— Я до Берлина не дойду… ухайдакают меня здесь, на пороге родного дота. Так что это хорошо, что мы выпили. В разлуку вечную. Ну, ладно. Пора идти.
Головченко повернулся и ушел воевать — недалеко, здесь.
С улицы раздался трубный рев — это служители зоопарка повели к Волге купаться слониху Нелли.
* * *
— Я надеялся, — говорил Паулюс, — что между сериями кратких блицкригов возникнут промежутки оперативных пауз, дающие нашей армии передышки. Но эти редкие паузы русские заполняют плотным сопротивлением, и потому война с Россией не даст нам времени, чтобы отдохнули наши кости и мышцы. Мне представляется, что урок, полученный Тимошенко под Харьковом, оказался внушительным, и сейчас Тимошенко ведет себя осторожнее, обращается с нами так, будто мы драгоценная хрустальная ваза.
Эти слова Паулюс высказал перед Иоахимом Видером, офицером его разведки; сын католического священника, он импонировал Паулюсу своей набожностью, считая себя на войне участником какого-то адского шабаша, в котором и сам он, Иоахим Видер, тоже, повинен. Сейчас он, отвечая командующему, высказал мысль о том, что Тимошенко, давно загипнотизированный штурмом линии Маннергейма, многому научился:
— У нас, у немцев! В боях под Харьковом маршал, кажется, хотел бы окружить нашу армию, используя те приемы «раковых клешней», что принесли вермахту успех в сорок первом. Но у русских явно не хватило нашего громадного опыта по окружениям противника и нашей отличной организации.
Паулюс согласился с Видером, но не во всем:
— Пожалуй, Тимошенко стал осторожнее в обращении с нами, но я не заметил новизны в его тактике, сейчас он будет отступать, чтобы сберечь остатки того, что у него сохранилось…
В штабе его ждало письмо из Бухареста — от шурина Розетти-Солеску, пострадавшего за участие в заговоре против диктатуры Антонеску. Паулюс просил зятя не проговориться об этом:
— Жена очень любит своего брата, ее огорчит крах его камергерства при дворе короля Михая… Антонеску, между нами говоря, сущий спекулянт: он уже понял, что без его нефти в Плоешти нашему фюреру не разжечь даже примуса. И потому Бухарест набивает цену — на себя и на свою нефть. Конечно, пока мы не выбрались к промыслам Майкопа, мы будем всегда зависимы от этого пройдохи с повадками опереточного шулера!
— Но фюрер, — отвечал барон Кутченбах, — к Антонеску относится хорошо. Пожалуй, намного лучше, чем к Муссолини.
— Не спорю, — согласился Паулюс. — Но, будь в Италии залежи нефти, он бы облизывал под хвостом и Муссолини…
Этот разговор возник неспроста. Паулюс всегда интересовался румынскими делами, и не только потому, что был женат на румынке, но еще и по той причине, что румынские войска входили в подчинение его 6-й армии. Правда, немцы относились к союзникам пренебрежительно. «Макаронники хуже румын, — говорили они, — а кукурузники хуже макаронников». Как бы ни старался Антонеску угодить Гитлеру, поставляя ему по дешевке нефть и своих солдат, румыны всегда испытывали уважение не к немцам, а именно к русским, и эти чувства они переняли от своих дедов и прадедов, которые всегда видели в России свою защитницу, не раз выручавшую их в османской неволе. К своим офицерам румынские солдаты не питали особого почтения, а социальные перегородки сказывались даже в еде: если в германском вермахте солдаты и офицеры кормились из иного котла, то в армии Антонеску офицеры питались за особым столом, и этот стол был намного лучше солдатского. Может, по этой причине Паулюс неохотно посещал румынские части, чтобы не встречаться с какими-то недоверчивыми взглядами румынских солдат.
Паулюсу было известно, что говорили румынские солдаты: «Я боюсь сдаться в плен, русские посадят нас за колючую проволоку вместе с немцами, и тогда немцы отберут у нас последний кусок хлеба…»
Паулюс давно покинул тихую Полтаву и со всеми штабами армии перебрался в Харьков, где на площади Дзержинского разместился с зятем в двухкомнатной квартирке. На кухне барон Кутченбах, скинув мундир эсэсовца и повязавшись передником, жарил на сковородке оладьи и варил кофе для своего тестя. Все это создавало обстановку некоей семейственности. А по утрам зять брился перед зеркалом, тихонько мурлыча по-русски:
Утро красит нежным цветом
Стены древнего Кремля,
Просыпается с рассветом
Вся советская земля…
В постоянном общении с зятем Паулюс уже начал осваивать трудности русского языка; пусть даже коряво, но все же иногда он пытался вступать в разговоры с местными жителями. Между Паулюсом и зятем однажды возникла некоторая зловещая недоговоренность. Началось с пустякового вопроса Кутченбаха:
— Насколько вредны выхлопные газы танковых моторов?
— Не советую вдыхать. Это такая зараза, что любого из нас свалит в госпиталь с очень стойким отравлением легких.
— А куда списывают старые моторы танков, которые исчерпали свои технические ресурсы?
~ Они могут еще долго работать дальше. Но уже не в боевой обстановке. А почему вы спрашиваете об этом, Альфред?
— Кутченбах сказал, что в польской Белжице танков моторы дают выхлоп газов в камеры смертников, в концлагере Треблинка для этих же целей установлен дизель с подводной лодки.
— Вы уверены, что это не сплетня? — спросил Паулюс.
— Об этом я слышал от Хубе и Виттерсгейма. Танковые генералы, уж они-то знают судьбу отработанных моторов.
— Боюсь, они повторяли злостную выдумку врагов Германии, — не поверил Паулюс. — Если же это правда, то вермахт не виноват: на подобные зверства способны только сопляки из СД или СС… Но только не честный немецкий солдат!
— Германа Гота вы считаете честным солдатом?
Генерал-полковник Герман Гот командовал 4-й танковой армией, постоянно соприкасаясь в делах фронта с Паулюсом.
— Безусловно, — подтвердил Паулюс.
— А доктора Отто Корфеса?
— Вне всяких сомнений. Оба они честные солдаты.
— Так вот, именно Корфес был под Волчанском свидетелем, когда русские засели в блиндаже, не сдаваясь. Герман Гот подогнал задним ходом свой танк и весь газовый выхлоп он отработал в амбразуру русского дота… Вы, — завершил Кутченбах, — отменили приказ Рейхенау, а Гот дополнил его новыми статьями.
Паулюса вдруг навестил генерал Георг Штумме — носитель не совсем-то доходчивой клички «шаровая молния»:
— Мой рапорт по команде о том, чтобы меня по состоянию здоровья перевели в африканский корпус Роммеля, где-то застрял, и я хотел бы просить вас, господин генерал-полковник…
— Никаких просьб! — сразу отказал Паулюс. — Вы мало цените честь состоять в шестой армии, которая известна не только вермахту, но ее знают в немецком народе. Вам просто желается избежать опасностей, которые сопутствуют всем нам на русском фронте в большей степени, нежели на африканском…
«Шаровая молния» доказал непредсказуемость своего поведения тем, что, вместо двери, хотел шагнуть прямо в окно, но его удержал за хлястик командующий славной армии.
— Не дурите, Штумме, вас ждут великие дела!
— Но, шагнув с пятого этажа без помощи лифта, я хотел лишь доказать вам, что опасностей не страшусь…
В одну из ночей английская авиация разнесла бомбами спящий Кельн; промышленность, как всегда не пострадала, зато взрывами по кирпичику были разбросаны жилые кварталы, немцы прямо из теплых постелей переселились в холодные могилы. Известие об этом сильно отразилось на настроении солдат 6-й армии, многие из которых были уроженцами Кельна, и теперь они говорили:
— Если я не смогу отомстить Англии, так я отыграюсь на русских. Пусть они плачут, их слезам Черчилль все равно не поверит. Вперед, парни: Дон уже недалеко, а за Доном течет и русская Миссисипи — Волга… Говорят, там плавают здоровущие стерляди. Во, такие — как жирные поросята. Насытимся…
Иоахим Видер, человек религиозный, был, наверное, прав, что война порою напоминала ему адский сатанинский шабаш. Пережив ужасы Сталинграда как свою личную трагедию, он после войны писал:
«Перед историей грешен и фельдмаршал Паулюс, который до самого конца не смог освободиться от ослепления и трагических иллюзий. Он оказался не в состоянии осознать дьявольскую природу происходящего. Ему не хватало необходимой политической проницательности и способности прислушаться к голосу собственной совести».
Этому приговору Видера можно верить, ибо Видер очень хорошо относился к Паулюсу, считая его человеком в личном плане вполне порядочным и честным.
* * *
После катастрофы под Харьковом в войсках Тимошенко отрешились от ложного представления, будто враг ослаблен, а мы каким-то чудом усилились. Вермахт показал свои зубы, хотя уже и расшатанные, но внешне еще здоровые, способные разрывать все живое… Резкий перелом в делах на фронте повлиял даже на маршала Тимошенко: теперь он соглашался на отвод войск, лишь бы не оказаться в позорном окружении.
Сталин, сущий дилетант в вопросах стратегии, по-прежнему был уверен, что снова подвергнется нападению Москва — ложная операция «Кремль» убедила его в этом, а потому возле столицы были развернуты главные резервы. Особой озабоченности у Сталина еще не было, хотя он уже понимал, что маршал Тимошенко это лишь парадная вывеска довоенных времен, а к управлению армиями он полностью неспособен. Но…
— Где мы сыщем Гинденбурга? — не раз говорил Сталин, перебирая военачальников, способных выправить положение на южных фронтах.
В один из дней А. М. Василевский застал Сталина беседующим по телефону, и речь Верховного была раздраженной:
— Вы постоянно твердите мне о слабости противника, но при этом требуете от меня новых резервов… У меня нет танков! Я вам для Харькова уже дал танков гораздо больше, нежели их было у противника, но вы не умеете их использовать, а кончилось все тем, что половину танков отдали противнику…
Разговор окончился. Поймав на себе вопросительный взгляд Василевского, Сталин сказал, что звонил Тимошенко.
— Тоже не… Гинденбург! — вдруг сказал он.
Было видно, что Сталин ищет ему замену, но еще не решил, на каком из полководцев остановить свой выбор. Задумчиво набивая табаком трубку, Верховный недовольно проворчал:
— Еременко тоже… но в обороне был совсем неплох. Вообще-то генерал из драчливых. Жаль, что он сейчас ранен.
Если «кадры решают все», то война, самый жестокий судья, сама отбирает кадры, внимая гласу народному, гласу Божьему.
Но Сталин этого еще не понимал — он желал назначать людей указом, считая, что его указа вполне достаточно, чтобы человек, отмеченный его доверием, сразу заблистал талантами. После провала Керченской операции уже был образован новый для страны фронт — Северо-Кавказский, а командовать этим фронтом Сталин послал — кого бы вы думали? — опять-таки песенно-конюшенного Буденного, которого уж никак не причислить к плеяде всяческих «гинденбургов». Мало того Сталин указал ему — заодно уж — командовать и Черноморским флотом, что, сами понимаете, не вызвало бурной радости среди моряков-черноморцев.
Сталин злобно выколачивал пепел из своей исторической трубки.
— Ладно, — сказал он Василевскому. — Вы позвоните Еременко в госпиталь. Справьтесь о здоровье. А я то я звонить не хочу… чтобы он не зазнался!
20. Паника в Каире
Вернемся в Киренаику…
После падения Сингапура удержание Тобрука стало для Черчилля вопросом его политического престижа, а сам Тобрук, если говорить честно, стратегической ценности не представлял. Вряд ли он был нужен и Гитлеру, но для Роммеля этот город-крепость значил многое.
Как только не называли Роммеля — ловкий фокусник, шарлатан, цирковой эксцентрик, авантюрист и далее эквилибрист на проволоке. Согласен, что Роммель действовал иногда как азартный игрок, часто ставя все на карту — и эта карта оказывалась козырной. Роммель всегда верил в победу, испытывая величайшее презрение к противнику, а степень риска он просто не считал нужным учитывать, слепо доверяясь фортуне, которая ему благоволила…
Во время своего последнего визита в Берлин Роммель был, конечно, извещен о планах вермахта в предстоящей летней кампании. Сейчас он сидел в штабном автобусе, изнутри обвешанном картами, и говорил, что Каир сам по себе ему не важен:
— Важен Суэцкий канал и выход в Палестину, а где-то там, в безбрежном отдалении, в конце лета я пожму руку Клейсту, чтобы совместно следовать… хотя бы до Индии!
По общей договоренности между Гитлером и Муссолини Эрвин Роммель, если ему удастся взять Тобрук, обязан был перейти к жесткой обороне, пока не прояснится обстановка на русском фронте. Но, кажется, сидеть в обороне Роммель не собирался… Он открыл бутылку с кьянти и вспомнил о Паулюсе.
— Интересно, кто из нас двоих скорее управится! или Паулюс выберется к Сталинграду или я отберу у англичан этот проклятый Тобрук, который Окинлеку Кажется неприступным Карфагеном… Интересно! — с Удовольствием повторил Роммель, хмелея. — Между мною и Паулюсом нечто вроде спортивного соревнования: кто оборвет ленточку на финише раньше? Но Паулюс сойдет с дорожки скорее меня, а этот великобританский Карфаген скоро станет моим…
Май был на исходе, а в конце этого меся Каир был встревожен радостными слухами из Тобрук
— Роммель дошел до конца веревки, на которой скоро и будет повешен… Разве вы не слышали последнюю новость? Роммель неудачно обошел бокс Бир-Хакейм и застрял у дороги на Капуццо… Да, приятно, что Роммелю приходит конец. Но жаль, если война в Ливии закончится: где еще мы будем так весело жить?
* * *
Сплошной линии фронта в Ливии никогда не было Роммель перенял старинную атаку «гуситского лагеря»: его армия гигантским табором перемещалась в пустынном пространстве, окружность его составляли танки и бронемашины, а внутри «лагеря» двигались штабы, артиллерия, ремонтные мастерские, службы радиоперехвата, походные госпитали…
От Бир-Хакейма до Тобрука всего 64 километра , а сам Тобрук и подступы к нему были перенасыщены линиями обороны, минными полями и боксами, окружавшими Тобрук столь плотно, как ожерелья шею красавицы. Роммель решил срывать эти «ожерелья» одно за другим, чтобы потом вцепиться и в шею жертвы.
— Стоит только подумать, что сражение проиграно, как с этого же момента оно становится проигранным. Будем думать иначе, что мы его выиграли, — сказал он…
Авиация маршала Кессельринга, базируясь на аэродромах Сицилии, заранее проутюжила фугасками английские позиции, досталось и Тобруку, но Меллентин сказал Роммелю, что в Тобруке еще Муссолини выстроил такие бетонированные бомбоубежища, что англичане не дрогнут:
— Впрочем, там англичан мало, в основном — индусы, французы, евреи да южноафриканцы — мои земляки…
Из радиаторов грузовиков валил пар, быстро выкипали остатки воды охлаждения, внутри танков все было липкое от текучести машинных масел, расплавленных жарою. В узких триплексах виделись то клочок знойного неба, то холмистые кряжи на подступах к Тобруку. Танки Роммеля на полном форсаже моторов обошли Бор-Хакейм с юга, с ходу разгромили танковую дивизию Окинлека, они перемешали с песком и дерном две мотопехотные бригады и, развернувшись вдоль мощных «оранжерей», насыщенных минными ловушками, открыли сражение… Здесь их стали жестоко ломать американские танки типа «Грант», сокрушающие цели с недоступных для немцев дистанций. Роммель второпях доверил своему дневнику признание в том, что появление этих машин армии США «вызвало панику в наших рядах… за один день мы потеряли более трети своих танков».
Среди горящих машин зигзагами мотался мотоцикл с коляской, в которой сидел граф Бисмарк — потомок «железного канцлера».
— Кажется, впереди нас — французы и евреи! — крикнул он Роммелю. — Им отступать уже некуда…
Потом англичане прижали Роммеля к своим минным полям, и он — как рассказывали — чуть сам не угодил в плен. Мокрый от пота, измазанный мазутом, в разодранных шортах и без фуражки, он окликнул Тома:
— Впервые я понял, каково боксеру, которого притиснули к канатам, чтобы молотить его под свист радостной публики…
Штаб его был разгромлен. Среди развороченных телетайпов валялись оперативники, мертвые телефонистки в коротеньких белых юбочках. Английские радиостанции гудели от восторга, извещая Окинлека: «Роммель в западне… теперь ему не избежать позора капитуляции!» Не тогда ли в Каире и начали радоваться?..
— Неужели мы в котле? — удивлялся Тома.
— Похоже, что так, — не отрицал Роммель. — У нас не стало своих позиций. Мы оказались сами внутри позиций противника, и, куда ни сунешься, всюду нас окружают боксы, западни и «оранжереи Окинлека»… Радируйте Кессельрингу, чтобы высылал ко мне все, что способно держаться в воздухе…
За ночь саперы расчистили коридор в минных полях, обставили его банками из-под бензина, в которых тлели фитили, указывая безопасный проход для танков. Роммель укрылся в глубине коридора, отгородившись от англичан их же «оранжереями». Через этот спасительный коридор всю ночь он перекачивал горючее для танков, пополнял боеприпасы… Удар ! — и три тысячи англичан, ударов не ожидавших, разом подняли руки.
Из Тобрука вышли свежие танки, которые понесли страшные потери. Роммель беспощадно швырял в «Мясорубку» боя дивизии итальянцев, сохраняя немцев для опасных участков сражения. Уго Кавальеро диктовал из Рима, чтобы он прекратил эту бойню (Роммель даже не ответил ему). С аэродрома Тобрука взлетели воздушные «танкоистребители», но зенитки Роммеля посбивали сразу сорок машин. Сизый угар не таял над полем боя, между проволочных заграждений метались похоронные команды, немецкие и британские, наспех засыпая трупы раскаленным песком…
— Тома, сколько у нас осталось еще «роликов»?
— Едва ли наберется сто сорок.
— А сколько у наших макаронников?
— Штук семьдесят. Не больше.
— И это все?
— Все…
5 июня Роммель разрезал британские дивизии на отдельные части. Борьба завершилась приказом от английской армии: «Как можно скорее отрываться от противника…»
— Лисица и здесь провела нас, — досадовал Окинлек. — Но сенсация для Роммеля всегда была дороже тактики, и сейчас он снова, как и в прошлом году, оставит Тобрук в своем тылу, чтобы, наступая нам на пятки, выбраться на рубежи Египта…
Черчилль прислал Окинлеку телеграмму из Лондона: «В любом случае не может быть и речи об оставлении Тобрука!»
Окинлек был убежден, что Роммель, словно угождая ему, станет преследовать отступающих, но войска Роммеля неожиданно развернулись прямо на Тобрук! На рассвете первые взрывы возвестили гарнизону крепости, что пришел его последний час. Гигантские бомбоубежища не могли вместить всех желающих пересидеть это время в тишине и спокойствии. Тесно? Да, тесновато. Но при бомбежках в Лондоне на станциях метро собиралось тоже немало народу… Они там и сидели, пока им сверху кто-то не крикнул, что можно вылезать — Тобрук сдался!
— Капитуляция… не ожидал, — заметил Тома. Впрочем, тут богатые склады. Надо бы сразу послать людей, чтобы поискали что-нибудь из американских деликатесов…
Меллентин доложил Роммелю, что в Тобруке, помимо вооружения, взяты запасы продовольствия на 90 дней, а в плен сдались 33 000 человек. Роммель первым делом спросил о горючем:
— Ищите горючее! Сейчас самое главное бензин, а вся армия станет маршировать, как дачники в воскресенье, по гудрону приморского шоссе Виа-Балбиа — в тени пальм и лавров…
Теперь все стало ясно. Солдаты Роммеля шагали на Каир и распевали самую популярную «песню негритят» (о возврате Германии ее прежних африканских колоний, которые были потеряны еще во время кайзера):
Даже негритята в Африке большой, даже негритята просятся домой: — Хотим опять в колонию, в рейх наш дорогой, в рейх, в рейх, в рейх… Ать-два, левой-правой, марш-марш… в рейх, в рейх, в рейх!Армия Роммеля выходила на рубежи Эль-Аламейна, где Окинлек имел последние позиции, а дальше… дальше Каир.
От Эль-Аламейна до Александрии всего 60 добрых миль, а это значит — всего полторы заправки для танка.
Британские адмиралы первыми поняли, что ждет их корабли. Они не стали ждать, когда «панцеры» Роммеля, словно железные крабы, станут вползать по сходням на палубы их крейсеров — и спешно уводили свой флот в Красное море.
Александрию потрясли серии взрывов — уже рванули под небеса содержимое арсеналов, а Каир охватила паника.
— Танки! — орали на улицах. — Танки Роммеля уже подошли к Эль-Аламейну… они идут сюда… спасайтесь!
Все рестораны, игорные и публичные дома, все корты и стадионы разом опустели. Британские офицеры толпой кинулись спасать свои деньги, вложенные в многочисленные банки. Никакие ревю с раздеванием женщин не могли бы так быстро собрать километровую очередь, какая мигом возникла у дверей «Барклайз-банка». Армия спасалась под стенами Каира, войска растекались по дельте Нила; те, кто в 1940 году бегал у Дюнкерка от танков Гудериана, теперь удирал от танков Роммеля — от тех самых танков, которых у Роммеля не было …
Вот сущая правда: Окинлек обладал еще тройным превосходством в танках. Он имел еще свежие дивизии. Но падение Тобрука стало сигналом к общему бегству. В числе драпающих оказался и нью-йоркский журналист Эдмунд Стивенс, которого потрясли груды брошенного оружия. Роммелю оставлялись громадные склады, забитые боеприпасами, зато из холодильников, расставленных в боксах пустыни, спешно вывозилось все холодное пиво. Здесь же Стивенс встретил и толпу английских генералов, которые, даже убегая, сохраняли надменное выражение на лицах. Все они были в белых шортах, а на головах — красные фуражки.
В одном из них репортер узнал самого Окинлека.
— В чем дело? — спросил его Стивенс. — Почему бросаете оружие, но вывозите все пиво до последней бутылки?
— Э! — отмахнулся Окинлек. — Вы, американцы, еще не прониклись духом этой беспощадной войны… В таких условиях бутылка пива дороже любого «Гранта», и надо же, наконец, чтобы этот мерзавец Роммель скорчился от нестерпимой жажды…
Каир быстро пустел. Хорошо, что есть куда удирать:
— Куда идет этот поезд? В Бейрут? Это годится.
— Когда отходит экспресс… даже до Багдада?
— О, это нам как раз подойдет!
— Глупцы! Сейчас тише всего в эфиопской Аддис-Абебе, куда никакой Роммель не доберется…
Британские штабы сжигали секретные документы, крыши Каира и его парки густо засыпало слоем пепла, словно Везувий погребал новую Помпею. По улицам, отчаянно звеня, мчались переполненные трамваи, которые вели яркие каирские красотки, а пассажиры (сплошь арабы и негры) кричали из окон прохожим — назло своим колонизаторам-англичанам:
— Нажимай, Роммель! Свободу Египту… великий Аллах!
В политической неразберихе все смешалось — даже Роммель стал вдруг союзником самого Аллаха. Десятки тысяч европейцев и богатые каирские евреи, потеряв головы от страха, брали вокзалы штурмом, солдаты британского гарнизона гроздьями висли на подножках вагонов, ехали даже на крышах вагонов — в Палестину, где Иерусалим приманивал их вечным покоем. А в длинной очереди перед торжественным фасадом «Барклайз-банка» с нетерпением топтались британские офицеры:
— Нельзя ли поактивнее? Почему так медленно? Мы скорее дождемся танков Роммеля, нежели возвращения капиталов…
Знаменитая Хекмат Фатми вдохновенно демонстрировала «танец живота» перед опустевшим залом. В трущобах Каира и на баржах, сонно дремавших в заводях Нила, работали подпольные радиостанции абвера, и Роммель был прекрасно извещен обо всем, что творилось тогда в Каире…
* * *
Англичане бросали свои поврежденные танки, а Роммель свои танки оттаскивал для ремонта, и они снова годились для боя. Заодно он ремонтировал и английские, которые тоже включал в свои колонны… Приморская автострада Виа-Бальбиа уже была прочно оседлана его войсками, гусеницы фашистских танков медленно сползали с обжигающих песков и выкатились на гладкое асфальтированное покрытие — форсаж!
— Что мне делать с этими ублюдками? — говорил Роммель. — Они сдаются в плен такими громадными кучами, что число пленных уже намного превысило количество моих войск… Еще день-два, и мы, наверное, сами сдадимся своим же военнопленным!
Вскоре аэродром в Гамбуте (близ Тобрука) принял самолет фельдмаршала Кессельринга, который сообщил Роммелю, что в море появился американский авианосец «Уосп»:
— Теперь «спитфайры» с его палубы перескочили сразу на Мальту, и потому я вынужден забрать от вас свои «пикировщики».
— Опять мы без крыши над головой! — воскликнул Роммель.
— Это еще не все, — договорил Кессельринг. — Сейчас, когда успешно развивается наступление вермахта на юге России, нам, дорогой Роммель, совсем невыгодно устраивать бесплодные демонстрации своей мнимой мощи в Киренаике и Мармарике. А чтобы вы не пыхтели от злости, я сообщаю вам нечто приятное…
— Опять какая-нибудь гадость из «Вольфшанце»!
— Фюрер присвоил вам жезл генерал-фельдмаршала …
Гамбут принял самолет из Каира, он доставил в штаб Роммеля вождей национального движения в Египте, которые взмолились перед фельдмаршалом, чтобы он ускорил движение к Каиру.
Роммель не внял внушениям Кессельринга, хотя и понимал, что они исходили из ОКХ, и штабной автобус покатил его по роскошной Виа-Бальбиа — в сторону Эль-Аламейна… В пустыне приземлились два самолета из Рима: из первого вылез сияющий от радости Бенито Муссолини, за которым адъютант тащил множество чемоданов, из второго самолета осторожно вывели белую арабскую лошадь, на которой дуче собирался 30 июня открыть триумфальное восшествие в Каир.
— Сейчас, — доложил ему Роммель, — я доколачиваю англичан их же оружием, трофейным, экипажи моих танков забыли, когда последний раз была у них заправка… Где ваши танкеры?
— Увы, авиация Кессельринга едва машет крылышками над Мальтой… Что вы так злитесь, Роммель? Матросы моих линкоров чуть ли не с ведрами ползают по трюмам, собирая с днищ кораблей последние литры мазута. Надеюсь, со взятием Кавказа наши дела с горючим поправятся, и вы снова оживитесь.
Роммель сложил прискорбную формулу своего будущего:
— В таких условиях продолжать марш на Каир и Суэц — это значит: отступать вперед . Но я попробую…
30 июня его войска вышли на рубеж Эль-Аламейна.
Роммель выкатил на этот рубеж лишь ТРИНАДЦАТЬ танков!
— Кажется, здесь и торчать нам. Дуче не забыл о своей белой лошади, но он не подумал об «овсе» для моих моторов…
Немцы издали разглядывали сумрачную тень пирамиды Керет-эль-Хемеймат, утоляя жажду марокканским вином. Роммель повидался с Муссолини, сидящим на своих чемоданах.
— Дуче! — сказал он ему. — Было золотое время, когда мы разливали горючее бидонами, а теперь наши танки делят его с помощью аптекарской мензурки…
Дуче вскочил с чемоданов, потрясая кулаками:
— В чем же я виноват, если русский фронт сожрал все наши припасы?.. Скажите честно: когда возьмете Каир?
— Чем — спросил его Роммель…
Муссолини величаво указал на свои чемоданы:
— Я оставляю их на фронте — залог того, что обязательно вернусь, чтобы въехать в Каир на белой лошади…
21. Начало жаркого лета
Они начали наступление почти одновременно, только цели их наступления были несопоставимы — Роммель вышел к Эль-Аламейну с 13 танками без горючего и толпою оборванцев, падавших от изнурения и амебной дизентерии, а Паулюс, тоже страдавший поносом, вел к Сталинграду 270 000 солдат и стойкие панцер-дивизии полного состава… Разница есть! Была разница и в другом: Паулюс, в отличие от Роммеля, не был полководцем с фантазией и размахом — зачастую он оставался как бы некоей промежуточной инстанцией, чтобы получив сверху приказ, затем спустить его вниз, пунктуально приготовить его для исполнения. В этом Паулюс был сродни барону Вейхсу — они оба методично и выносливо работали в одной и той же упряжке, как волы, согласные тянуть любой воз, лишь бы их пореже стегали…
6-я армия находилась в зените славы, считаясь непобедимой. Германский солдат был еще крепок. Напрасно Илья Эренбург писал, что армию Гитлера составляют дети или старики, расслабленные инвалиды, проклинающие Гитлера и жаждущие одного — поскорее оказаться в плену. Немецкий солдат лета 1942 года был еще молод, в основном не старше 30 лет, это были здоровые и хорошо обученные вояки. Такого солдата не так-то легко было выбить с его позиций, и сдавал он их лишь по приказу свыше.
Взятые в плен немцы держались еще нахально:
— Отчего бы нам унывать? Это вы, русские, можете плакать, а мы воюем не на своей, а на чужой территории…
Они жгли, убивали, вешали и выдирали все живое. Руины оккупированных ими городов зарастали чертополохом, на центральных проспектах росла крапива словно на погорелых пустырях, а они, расстегнув мундиры и засучив рукава, шагали на восток, упоенно распевая частушки, сложенные на русском языке, чтобы мы, русские, еще раз осознали все свое унижение:
Нема курки, нема яйки. До свидания, хозяйки! Съели сало, нема свинки. Будь здорова, Катеринка!Зять Паулюса, барон Альфред Кутченбах, исполняя обязанности переводчика при штабе его армии, был в эти дни настроен подавленно. Было заметно, что после побед под Харьковом его угнетает фронтовая обстановка, и однажды он сказал:
— Когда мой предок торговал головками сыра на базарах Тифлиса, он, конечно, еще не думал, что я, потомок его, вернусь на эту землю как завоеватель, которому русские готовы плюнуть в глаза… Их сдерживает, очевидно, только мой черный мундир СС, внушающий им осторожность.
Паулюс понял, на что зять намекает, но виноватым в страданиях населения он себя не считал, напротив, даже гордился отменою жестоких приказов покойного Рейхенау.
— К чему вы завели этот неприятный для меня разговор?
— Мне он неприятен тоже, — помялся зондерфюрер СС. — Но я изучал русский язык со всеми его выкрутасами совсем не для того, чтобы воспитывать в себе сознание превосходства над русскими. Напротив, я привык уважать их культуру, их характеры и даже их логику, не всегда доступную для понимания европейцев. Из истории же известно, что Европа жила спокойно только в те периоды, когда Россия и Германия были друзьями и, напротив, Европа задыхалась от страданий и кровопролития, когда русские с немцами не ладили.
— Это у вас еще от Бисмарка, — отмахнулся Паулюс.
— Плевать — от кого, но теперь я боюсь, что ненависть русских к нам, немцам, с концом этой войны не закончится. Хотя меня, — заключил Кутченбах, — отчасти порадовали слова Сталина о том, что гитлеры приходят и уходят, а Германия и немецкий народ остаются…
Паулюс сказал, что Сталин — плагиатор, эти слова принадлежат поэту Арндту, который в 1812 году, будучи в Петербурге, говорил, что кайзеры приходят и уходят, а Германия остается.
— Однако при этом Сталин не мешает Илье Эренбургу разжигать в своих статьях лютую ненависть к нам, немцам. Читали?
— Слежу за его статьями внимательно. Но Ганс Фриче из министерства пропаганды выражается о русских еще забористее…
Паулюс просил зятя, чтобы он не афишировал свои мысли, когда его 6-ю армию навестит Ганс Фриче… Сейчас эта армия вновь наступает, отжимая разрозненные и ослабленные части Тимошенко к востоку большой излучины Дона, а Гитлер в эти дни испытывал к Паулюсу самые теплые симпатии, что подтверждалось и восхвалениями Геббельса на газетных страницах. Паулюс получал много писем от людей, ему незнакомых, которые поздравляли его с успехами 6-й армии, а заодно искали и его протекции. Среди писем были и открытки от вдовы Лины Пфайфер, бывшей Кнауфф, и теперь Паулюс сам был не рад, что случайно повстречал ее у сестры Корнелии. Впрочем, он понимал настроения этой женщины, когда-то в него влюбленной. Несчастная и жалкая вдова солдата, для которой он теперь представал в ореоле героя нации невозвратным видением ее молодости…
Артур Шмидт, всегда услужливо согласный с Паулюсом, как начальник штаба еще ничем себя не успел проявить (да и вряд ли себя проявит). Паулюс в это время более общался с фронтовыми генералами, заметно выделяя Альфреда Виттерсгейма, видя в нем отважного водителя танковых колонн.
— Виттерсгейм… ваш фаворит? — как-то спросил Шмидт.
— Я не женщина, чтобы иметь фаворитов, — скупо отвечал Паулюс, — но я вижу, что Виттерсгейма еще ждут великие дела. Не ошибусь, если скажу, что именно Виттерсгейм разглядит через щель триплекса Волгу — первым из нас ..
Во время событий под Харьковом Иоахим Видер, ведая разведкой, посвящал командующего армией в дела противника, он же знакомил Паулюса с допросами пленных. «Я помню, — вспоминал Видер, — какое сильное впечатление произвели на нас тогда некоторые сведения… о непрерывно растущем производстве танков на эвакуированных далеко за Урал русских заводах». В самом конце мая Видер показал Паулюсу карту фронта взятую из планшета убитого русского офицера:
— Зная ваше пристрастие к оперативной работе, осмеливаюсь обратить ваше внимание на планы отхода русских.
Карта была проработана разноцветными карандашами рукою талантливого оператора, и Паулюс невольно восхитился ею:
— Классический образец высокой штабной культуры. Тщательность исполнения позволяет сделать вывод, что нынешнее отступление русских планомерно. Ведь когда войска драпают, тогда в штабах не думают, какими карандашами рисовать стрелы наших прорывов… Какие еще новости, Видер?
— Ничего существенного. Но на днях фюрер распорядился, чтобы всем генералам его ставки привили сыворотку от малярии.
— О чем это говорит, Видер? Не догадываетесь?
— Догадываюсь, что фюрер боится русских комаров. А значит, после прививок он со всем синклитом появится на фронте.
— Хвалю за проницательность, Видер! Время быть постоянно побритым и думать о чистоте наших манжет…
* * *
1 июня аэродром Полтавы, оцепленный эсэсовцами, принял личный состав фюрера. Гитлер, сходя по трапу на землю, одной рукой делал небрежное «хайль», а другой держал себя за левую часть задницы — место укола от малярии. Вместе с ним в штаб группы армий «Юг» прилетели Кейтель с Йодлем и Хойзингером из ОКХ, обрадованные свиданием с Паулюсом.
— Перемены, но… потом, — успел шепнуть Хойзингер.
После выкриков команд и необходимых приветствий сразу же и резко защелкали дверцы «хорьхов» и «оппелей»; генеральские машины образовали длинную стремительную колонну, едва поспевающую за бронированным «мерседесом» фюрера. На окраинах Полтавы зеленели соловьиные рощицы, виднелись желтые незасеянные поля. В уличной пыли города копошились курицы обывателей, старухи с прутьями в руках гнали гусей от Воркслы, в раскрытых дверях парикмахерских стояли грубо размалеванные немки, прервавшие завивку волос, чтобы посмотреть на кортеж фюрера, а русские и украинцы сиротливо жались по обочинам улиц.
Паулюс ехал в одной машине с Гансом Фриче; Фриче сообщил, что направлен сюда лично Геббельсом, который к 6-й армии испытывает какую-то дьявольскую нежность:
— А вся его любовь, ранее обращенная к Рейхенау, теперь обращена лично к вам… Я обязался состряпать для радиослушателей серию боевых репортажей о вашей армии. А вы не продадите меня, Паулюс? — вдруг лукаво спросил Фриче.
— Нет смысла, — отвечал Паулюс.
— Тогда я вам посоветую по секрету; гоните свою армию, как можно скорее за большую излучину Дона — к Волге.
— А — что?
— Как только Сталинград будет взят нами, вы понадобитесь фюреру совсем в другом месте.
— Любопытно — в каком?
— В заднем проходе.
— Извините, Фриче, не совсем вас понял.
— Как? Разве до вас не дошло, что «Вольфшанце» и ОКБ фюрера теперь принято называть «задним проходом вермахта».
— Впервые слышу. И кем же я стану… в этом проходе?
— А вот этого я вам не скажу. Возьмите Сталинград, и тогда все узнаете сами, каково жить под хвостом у фюрера…
В штабе фельдмаршала фон Бока были заранее разложены громадные карты — от Саратова до Астрахани. Помимо танковых «богов», Клейста и Гота, вокруг стола оживленно толпились Паулюс, Рихтгофен, барон и прочие. После поражения под Москвой у Гитлера потрясывалась левая рука, и он обрел привычку придерживать ее правой рукой, чтобы другие трясучки не заметили.
— Как ваши румыны? — мимоходом спросил он Паулюса.
— В оперативном плане осложнений не возникало
— А что поделывают ваши итальянцы?
— Пользуются исключительным успехом у местных колхозниц. Дезертируя, они, как правило, укрываются у женщин, которые не выдают их нам, как не выдают и своих партизан
— А как партизаны?
— Здесь мало лесов, мой фюрер, а в степных оврагах трудно найти укрытие, потому часто случаются диверсии, но партизанской войны не предвидится…
Прежде чем фон Бок начал доклад, Гитлер попросил Паулюса и Вейхса встать подле него, и это ближайшее соседство с фюрером как бы определяло главные стратегические направления — на Сталинград и Воронеж. (Странно и даже дико звучит, но вся большая стратегия вермахта летом 1942 года заключалась в краткой формуле: путь на Москву лежит через нефтепромыслы Кавказа с выходом на Волгу в Сталинграде, — неужели, думаю я, Паулюс не замечал примитивности этой задачи?..)
Гитлер сразу сказал, что вечером улетает обратно:
— У меня нет времени, в Хельсинки меня ожидает барон Маннергейм, которому исполняется семьдесят лет, а потому, господа, выявим главную суть того, что определит наши летние успехи согласно планам «Блау». Будем считать, что весна прошла в частных операциях, а теперь предстоит серьезная борьба за обладание стратегическими плацдармами… Барон Вейхс, от вашего удара по Воронежу зависит продвижение шестой армии Паулюса, а от того, как сложится успех шестой армии, зависит и завоевание Кавказа… Будем конкретны, — призвал фюрер. — Вопрос ставится так: Советы должны быть вообще отрезаны от Кавказа, и тогда наш московский партайгеноссе поймет сам, что война проиграна, и ему следует из Кремля выезжать с мебелью, чтобы искать себе новую квартирку…
Кейтель при этом остро блеснул линзой монокля:
— Главное сейчас — скорость танкового прорыва у Воронежа.
Вейхс понятливо кивнул, а Кейтель обернулся к Паулюсу.
— Ваша армия с танками Гота, как бы стекая вниз по течению Дона, должна свертывать русский фронт в гигантский рулон, подобно тому, как скатывают в трубку географические карты или убирают с паркета ковры… Что вам не ясно, Паулюс?
— Ясно все. Но я не вижу совпадения пропорций между задачами моей армии и ее боевой потенцией.
Он хотел сказать, что желал бы ее усиления.
— Не беспокойтесь об этом, — ласково ответил Гитлер — Во втором эшелоне готова итальянская АРМИР Итало Гарибольди, а Клюге из «Центра» передаст вам две танковые и две моторизованные дивизии. Второго фронта не будет, и потому, Паулюс, я безбоязненно пригоню из Европы для вашей армии еще одну танковую и шесть пехотных дивизий… Куда же еще больше?
Паулюс знал, что фюрер третирует Гальдера, но он никогда не думал, что Гитлер позволит себе грубо и бестактно — в присутствии других генералов — оскорбить Йодля.
— В Древнем Риме, — сказал он, реагируя на возражения Йодля, — был прекрасный обычай: за колесницей триумфатора бежали покрытые пылью и с веревками на шее те крикуны-хулители, которые ранее осуждали триумфатора. Так вот, Йодль, учтите: после победы вы с веревкой на шее будете бежать вприпрыжку за моим «мерседесом», въезжающим на Красную площадь…
Во время краткого перерыва, посвященного закускам, распиванию пива и пересудам, Хойзингер тишком предупредил Паулюса, что Гитлер, кажется, решил расстаться с Йодлем:
— Йодль мрачно взирает на будущее. Соответственно готовьтесь занять его место, для чего вам предстоит переместиться из окопов в «Вольфшанце»… ближе к фюреру… Вы не верите?
— Ганс Фриче уже намекнул мне на это, но… верить ли? Разве наш фюрер откажется от услуг ходячего архива вермахта? Голова Йодля так идеально устроена, что он вынимает из нее тысячные номера дивизий, все даты прошлых событий, все имена офицеров, живых и мертвых, и никогда не ошибается…
Дела призвали всех обратно — к картам. Гитлер не сказал ничего нового, он повторял избитые фразы о сырьевых ресурсах, о пшенице и горючем, закончив свою энциклику словами:
— Если я летом не получу от вас, господа, нефть Майкопа и Грозного, я должен буду закрывать эту войну …
Эту многозначительную фразу Паулюс сохранил в памяти и донес ее до судей Нюрнбергского процесса. Но за кулисами совещания Гитлер развил эту фразу до безумия, заявив, что, если Германия не способна победить, он столкнет в пропасть полмира… Вечером Хойзингер сказал Паулюсу:
— До скорой встречи в «Вольфшанце»! Фюрер выразился конкретно: «Йодля я загоню в Финляндию, а все оперативные дела в ОКБ передам Паулюсу сразу же, как только он выберется на Волгу». Возможно, что перемещение случится и раньше, и ваше место займет Манштейн — сразу после падения Сталинграда…
Адам ожидал Паулюса с бутылкой ликера:
— Вы поделитесь со мной впечатлениями от Полтавы?
Паулюс снабдил его хронологией предстоящего наступления; Сталинград взять не позже 25 июля, Саратов — 10 августа, Самару — 15 августа, Арзамас — 10 сентября, а в Баку вермахт обязан войти в конце сентября.
— Меня, — сказал Паулюс, — сейчас волнует «задний проход».
— Простите, не понял.
Паулюс объяснил Адаму значение этих слов.
— Туда легко забраться, но трудно оттуда выбраться…
…Пройдет время, и фельдмаршал Паулюс (в русском ватнике, в болотных сапогах, с лубяным лукошком в руке) будет бродить в русских лесах под Суздалем, собирая грибы. Но даже здесь, в благословенной тыловой тиши, пронизанной свиристением птиц, его не оставит эта тревожная мысль — об изгибах судьбы, о капризах фатума, о влиянии рока:
— Моя судьба могла сложиться иначе. Если бы я взял тогда Сталинград, я бы уже не гулял в этом дивном лесу, радуясь опятам и маслятам. Йодль на Нюрнбергском процессе как-нибудь выкрутился бы от приговора Международного трибунала. А вот я, заодно с фельдмаршалом Кейтелем, висел бы с головой, замотанной в черный мешок. Теперь думаю: неужели в Сталинграде было мое спасение? Неужели Бог сохранил меня подвале универмага на сталинградской площади Павших Борцов?..
* * *
Чувствую, пора сказать, каков был результат полководческих талантов маршала Тимошенко, — иначе, читатель, нам будет трудно осознать все то, что затем последует
После катастрофы под Харьковом, когда Тимошенко сдал врагу 240 000 наших бойцов, в линии советско-германского фронта образовалась громадная — в сто километров! — брешь , таким образом, фронт, почти оголенный, был практически разрушен. Перед врагом открылся широкий стратегический простор, выводящий его на Кавказ, в степи калмыцких раздолий, прямо к берегам матушки-Волги
А резервов не было (и когда они будут?).
Как и летом 1941 года, перед нами встали задачи — заново восстановить фронт. Предстояло сражаться теми слабыми и разрозненными силами, что остались от разгромленных армий. Мало того, штабам приходилось срочно перестраивать свое сознание, а наступательный дух следовало заменить строго оборонительным, готовя себя к изматывающим боям и большим потерям…
Да, товарищ Тимошенко, это вам не линия Маннергейма!
Отступая с боями, наши бойцы говорили:
— Хлебным мякишем крысиной норы все равно не заделаешь. Теперь вот шагай, и не знаешь, где остановишься…
На рассвете 10 июня Паулюс начал наступление на Волчанск (когда-то дикие Волчьи-Воды, а в гербе города — волк, рысью бегущий). Расхлябанные грузовики ерзали по тем самым дорогам, что в давности были татарской «сакмой», которая выводила крымские орды на Русь — для грабежа, насилий и умыканий в злую неволю… Давно разбежались от Волчанска голодные волки, не стало татар с колчанами, зато наседали с грохотом «панцеры» и, работая одной гусеницей, волчком крутились на одном месте, пока на месте окопа не оставалась из земли, бревен и раздавленных людей…
В суматохе боя Кирилл Семенович Москаленко был с КП на прямом проводе была Москва, был Генштаб, был Василевский, который спрашивал — насколько их потеснили?
— Ударили крепко! Заметно направление на Купянск, однако, товарищ Василевский, продвинулись фрицы немного, немного, говорю! Километра три-четыре, не больше… Держимся, закопав танки в землю. Простите, такой грохот… я плохо слышу! На Купянском шоссе, думаю, немцы потеряли с полсотни танков. Горят… Но жмут! Жмут, сволочи… трудно! Очень трудно…
В ответ еле расслышанный голос Василевского:
— У вас еще ничего, а со стороны Чугуева немцы нажимают сильнее. Помните, что врага надо остановить на Купянском шоссе, иначе они проскочат и дальше, и это недопустимо…
Москаленко грубо пихнул трубку связисту, выругался:
— А! Много они сейчас там, в Москве, понимают Странно перебирать немецкие фотографии того времени: Паулюс, без фуражки, рот постоянно перекошен в разговоре — он что-то доказывает своим офицерам, в чем-то их убеждает, он явно озабочен, и ни разу его лицо не осветилось улыбкой… Наступление его армии вступало лишь в первоначальную стадию оперативного развития. Паулюс в этот день мог похвастать лишь энергичным нажимом на Волчанск, а правые фланги его армии терялись на изюмском направлении. Но эти скромные результаты давались ценою адского напряжения пехоты и моторов, а фон Кутновски, его квартирмейстер, доложил:
— Что у вас тут творится? Такое впечатление, что передовые цепи попали в мясорубку… потери немыслимые с первого дня!
Конечно, немецкая организованность работала четко, и там, где дело касалось подвоза боеприпасов или воздушной поддержки с воздуха — там перебоев не возникало, но к вечеру и она дала первую осечку. В самом неожиданном месте — вдруг кончился морфий в передовых лазаретах обработки раненых. Генерал-лейтенант Отто Ренольди, начальник медицинской службы 6-й армии, срочно выехал туда, и его встретили вопли искалеченных.
— Если в Германии нет больше морфия, — орал фельдфебель с оторванной ногой, так, наверное, еще найдется пуля, чтобы прикончить меня сразу.
Один гренадер не выпускал из руки гранату:
— Я взорву себя и всех вас! — кричал он. — Воткните мне шприц, или я сейчас угроблю всю вашу контору…
На узких носилках тихо стонал обгоревший танкист:
— О, майн готт! О, моя Даниэлла, о, мои дети…
Слова очевидца: «Я наглядно ознакомился с кровавой палитрой полевой хирургии… самое тяжкое впечатление от попавших в зону минометного обстрела».
В операционной палатке хирург с сигарой в зубах задержал скальпель над развороченной раной, когда увидел генерала Ренольди.
— Ну, что? — спросил он. — Вошли мы в Купянск?
— Не пройти, — отвечал Ренольди.
— Сотня трупов на одном этом шоссе… Мы их держим в штабеле, надеясь свалить на кладбище в Купянске.
— Зарывайте здесь… у шоссе, — отвечал Ренольди. — Сейчас настал такой момент, когда не до церемоний…
К ночи разразилась гроза, хлынул оглушительный ливень
Начался отход наших частей, сильно поредевших, измотанных динамикой суточного боя. Колеса телег застревали в глубоких лужах, лошадиные копыта слякотно вырывались из раскисшей грязи. Слышались приглушенные разговоры:
— Чует сердце, живым нам отсель не выбраться.
— Опять назад… Ну, сколько ж можно?
— Хана! И закрепиться не знаешь где — степь.
— Э, братцы! Зато в лесу-то как хорошо.
— Хоть бы зима поскорее, чтобы мороз…
— Дурень! До зимы-то еще дожить надо…
Утром фельдмаршал Рихтгофен засыпал отступающих не только бомбами, но и листовками на разноцветной веленевой бумаге, из которой не скрутишь цигарки и даже не подотрешься, ибо бумага у немцев — первый сорт, только бы стихи писать на такой… На этот раз вражеское командование обращалось не к ним, бойцам, а через их голову — прямо к политическим комиссарам, дружески советуя верно оценить обстановку и уговорить своих солдат сложить оружие.
— Совсем уже спятили! — говорили красноармейцы. — Вчера комиссар талдычил «ни шагу назад», а теперь в плен, что ли, зазывать станет…
14 июня танки Паулюса прорвались у Волчанска. На раскладном штативе стола в походной палатке Паулюса запрыгала штабная «лягушка» (телефонный аппарат зеленого цвета, связующий его палатку даже ОКХ в Цоссене, даже с ОКБ в «Вольфшанце»). На этот раз звонил Артур Шмидт:
— Хочу напомнить, чтобы вы в горячке событий не забывали об оперативном совещании в Харькове, которое взялся вести сам Штумме — наша «шаровая молния».
— Благодарю, Шмидт, — вялым голосом отвечал Паулюс. — Но я не тот человек, который забывает о том, что необходимо исполнить. Русские опять отходят и возникла пауза, а действие противника слабеет. Мне уже расстилают походную койку… сейчас я рухну и буду спать, как убитый!
22. Пропавший самолет
Представьте, война закончилась нашей победой и весь мир блаженно вдыхал долгожданную тишину., 17 июня 1945 года группа наших офицеров въехала в люксембургский городишко Бад-Мондорф, где американская администрация устроила им свидание с Кейтелем, ожидавшим суда в Нюрнберге.
Сохранился очень интересный протокол этой беседы, опубликованный в нашей печати только в 1961 году. История войны со многими ее тайнами в 1945 году еще не была расшифрована, многое от нас было сокрыто, и, я думаю, что наши офицеры попросту не обратили внимание на одну из фраз Кейтеля, которая сейчас имеет особое значение для познания сложной предыстории Сталинградской битвы. Вот она, эта загадочная фраза:
— В самый последний момент перед наступлением на Воронеж стало известно, что майор Рейхель, один из офицеров генерального штаба… видимо, попал в руки русским. Кроме того, в одной из английских газет проскользнула заметка о планах немецкого командования (на Востоке), в которой упоминались точные выражения оперативной директивы генерального штаба. Мы ожидали контрмер со стороны русских и впоследствии были очень удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось нашим успехом…
Я тоже удивлен! И пусть удивится читатель, почему Сталин, поверив в фальшивую операцию «Кремль», все-таки пренебрег подлинными документами, сочтя их дезинформацией.
* * *
19 июня в Харькове закончилось оперативной совещание офицеров, которое проводилось при штабе 40-го танкового корпуса генерала Георга Штумме. Здесь были доложены результаты свидания с Гитлером в Полтаве, планы высшего командования на летний период 1942 года… Ближе к ночи Паулюса навестил серый от пыли полковник Вильгельм Адам.
— Не знаю, чем все это кончится, — сказал он, — но сейчас по всему фронту идет такой перезвон, будто мы попали на междугородную телефонную станцию.
— Что еще могло случиться, Адам?
— Ерунда какая-то… Пропал «фезелер-шторх», на котором из Харькова вылетел в свою дивизию майор Иоахим Рейхель.
— Напомните о нем.
— Рейхель — начальник оперативного отдела двадцать третьей дивизии. Он вылетел из Харькова, но в свою дивизию не попал. А при нем был портфель, набитый секретными документами и картами… Сейчас штабы обзванивают весь фронт, всех подряд.
Паулюс поначалу никакого внимания не выказал:
— Найдется. И самолет. И майор. И его портфель…
Нашли ! В ночь на 20 июня советский Генштаб получил сообщение с фронта, что в районе поселка Белянка (Нежеголь) воины 76-й стрелковой дивизии подбили «фезелер-шторх», который и сел прямо на брюхо. Два офицера и летчик сгорели.
Но один майор с портфелем выскочил из «шторха» и, отстреливаясь, хотел драпануть в кусты. Его шлепнули наповал. В портфеле оказались оперативные планы германского командования относительно операции «Блау».
Николай Федорович Ватутин, бывший тогда заместителем начальника Генштаба, вопросительно глянул Василевского:
— Не фальшивка ли, Александр Михайлович?
— Но тогда к чему же такой спектакль с посадкой на брюхо, с двумя сгоревшими и стрельбой? Это не кино…
С. М. Штеменко вспоминал: «В Генштабе взволновались: такое случается нечасто… К нам попали карта с нанесенными на нее задачами 40-го танкового корпуса (Штумме) и 4-й танковой армии немцев (Гота) и много других документов, среди них шифрованных. К шифру быстро удалось найти ключ…»
Паулюс утром спросил Вильгельма Адама!
— — Ну, что там наш майор с портфелем?
— Никаких следов. Перезвон продолжается. Очевидно, при низкой облачности «фезелер-шторх» нечаянно перелетел линию фронта. Если это так, то кое-кому в ближайшее время предстоит облизать мед с лезвия бритвы.
Командующего 6-й армией вскоре навестил Иоахим Видер:
— «Фезелер-шторх» найден. Сейчас из одной дивизии сообщили, что вчера вечером над ними пролетал в сторону русских окопов самолет, который и упал на ничейной земле. Сейчас эта дивизия ходит в атаки, чтобы добыть самолет и пленных, показания которых сейчас крайне необходимы…
Тревога в нижних фронтовых инстанциях перебралась на верхние этажи германского руководства. Гальдер записал в дневнике: «Самолет с майором Рейхелем с исключительно важными приказами по операции „Блау“, по-видимому, попал в руки противника». Гальдер при этом сказал Хойзингеру:
— Узнает фюрер, в ОКХ посрывают головы.
— Заодно пусть летят головы и в ОКБ… Кейтель проявил несвойственное ему легкомыслие!
— Я знаю русских, — сказал он (совсем их не зная). — Если этот самолет и достался им, они из дюраля наделают себе портсигаров, из плексиглаза кабины пилота намастерят расчесок, а секретные документы изведут на махорочные самокрутки. К чему лишняя нервотрепка. Случай с генералом Самохиным не может служить прецедентом для ситуации с нашим майором Рейхелем.
В тот же день Василевский вышел на связь с Тимошенко.
— Ставка просит кратко доложить ваше отношение перехваченным у немцев документам. Какие у вас сомнения?
— Документы майора Рейхеля сомнении не вызывает. Рейхель летел самолетом боевого назначения, который в условиях плохой погоды потерял ориентировку . По нашей оценке, — докладывал Тимошенко, — замысел противника сводится к тому, чтобы нанести поражение нашим фланговым армиям, создать угрозу советским войскам с фронта Валуйки — Купянск.
К аппарату подошел сам Сталин — с указаниями:
— Строго держите в секрете, что удалось нам узнать. Возможно, перехваченный приказ вскрывает лишь один участок оперативного плана противника… Мы тут думаем, что двадцать второго июня немцы постараются выкинуть какой-либо номер, чтобы отметить годовщину войны, и к этой дате они приурочивают начало своих операций…
В конце разговора Тимошенко снова просил для своего фронта хотя бы одну стрелковую дивизию. Сталин ответил:
— Дивизиями, к сожалению, на базаре не торгуют. Если бы торговали, я бы пошел на базар и купил вам дивизию. Умейте воевать не числом, а умением. Вы не один там держите фронт. У нас, не забывайте, много других фронтов…
Ночью заодно досталось от Сталина и Хрущеву: кажется, Сталин не был трезв, подвыпив в компании своих верных опричников — Молотова, Берии, Маленкова, Жданова и прочих — он сказал, что, если немцы вознамерились брать Воронеж, то лишь затем, чтобы от Воронежа ринуться на Москву; Сталин начал попросту издеваться над Хрущевым, спрашивая:
— Ну, что еще там немцы подбросили? Неужели вы это всерьез принимаете? Даже самолет прислали и генерала вам с картами подкинули, а вы во все верите?..
Наверно, он опять ни во что не верил, по-прежнему собираясь оборонять Москву, как и в прошлом году, чтобы утверждать свой «престол» в Кремле. Хрущев вспоминал — с явной горечью:
«Вместо того чтобы правильно разобраться (с этим самолетом) и усилить нашу группировку войск, чтобы быть готовыми к отражению врага, не было сделано ничего…»
Это дало повод для удивления Кейтеля, который после войны говорил нашим офицерам в Бад-Мандорфе:
— Мы были удивлены, что наступление на Воронеж сравнительно быстро увенчалось нашим успехом…
* * *
21 июня Иоахим Видер прибыл на передовую возле Белянки, когда закончилась очередная атака по захвату пленных
— Обыскали самолет? — спросил Видер.
— Там нечего искать. Обломки и головешки.
Видер приступил к допросу пленных красноармейцев:
— Вы видели, как вчера упал наш самолет?
— Да. Он сразу загорелся.
— Что было дальше?
— Один ваш офицер выскочил и побежал. Его срезали из автомата. Больше ничего не знаем.
— Он отстреливался?
— Да. На всю обойму.
— Значит, одна рука его была занята пистолетом. Вы не заметили, что у него было во второй руке?
— Ничего не было.
— А может… портфель? — подсказывал Видер.
— Нет, портфеля не видели…
Видер велел поднимать полк в новую атаку:
— Мне нужны пленные, знающие больше тех, которых вы взяли. Не советую спорить. Вопрос с этим «шторхом» гораздо сложнее, нежели вы думаете. Сейчас им занимается сам фюрер!
Гренадерам снова выдали шнапс и кофе, снова проделали артподготовку — атака! Потом мимо Видера протащили убитых в рукопашной. Прикладами гнали пленных. Среди них только один красноармеец был очевидцем падения самолета. Видер сразу налил ему коньяку, угостил сигаретой
— Успокойся, — сказал ему Видер. — Ничего плохого с тобой не случится… Что тебе больше всего запомнилось в том офицере, который выскочил из самолета?
Пленный нервно досасывал сигарету:
— У него на брюках… вот так, — показал он по бокам своих галифе, — был красный лампас. Как у генерала…
Видера передернуло: это мог быть майор Рейхель.
— Куда его дели? — жестко спросил он.
— Закопали. По-божески.
— Можешь найти могилу?
— Не уверен.
— А придется… пошли! — сказал Видер.
«Мы получили задание, — вспоминал он, — до конца выяснить все обстоятельства дела и избавить командование от мучительной неопределенности». Он-то, как разведчик, знал истинную цену портфеля… Пленного вывели к разрушенному «фезелер-шторху», велели осмотреться. Он показал в кусты:
— Вот в эту ольху и сиганул от нас.
— Если хочешь жить, отыщи нам его могилу. Вот тебе лопата. Сам будешь и раскапывать.
Пленный долго бродил в ольховнике, подозрительно озираясь, и Видер на всякий случай расстегнул кобуру, чтобы пресечь любые попытки к бегству. Лопата со скрежетом вонзилась в землю. Копать долго не пришлось — из-под земли мелькнул малиновый лампас генеральштеблера.
— Вынь его, — распорядился Видер. Ветками, сорванными с ближайшего куста, он обметал серую землю с серого лица. — Да, это он… Рейхель! — убедился Видер, но вылезти пленному из могилы не позволил и достал «вальтер». — В этой яме ты и останешься, пока не вспомнишь, что было в левой руке нашего майора, если в правой он держал пистолет?
— Портфель… кожаный, — ответил пленный из могилы (и весь сжался в комок, ожидая выстрела в затылок).
— Куда делся этот портфель?
— Отдали. Мы отдали.
— Кому?
— В политотдел дивизии…
«Итак, — записывал Видер, — наши худшие предположения подтвердились: русским было теперь известно о крупном наступлении из района Харьков — Курск… Противник знал и дату его начала, и его направление, и численность наших ударных частей».
Об этом сразу же сообщили в ставку Гитлера, а Франц Гальдер оставил в дневнике моральную сентенцию:
«Воспитание личного состава в духе более надежного сохранения военной тайны оставляет желать лучшего».
Вильгельм Адам сказал Паулюсу:
— В сороковой танковый корпус нагрянули эсэсовцы и утащили за собой «шаровую молнию» — нашего Штумме! Боюсь, что для него это плохо кончится. Лучше сразу разрешили ему отправиться в Африку к Роммелю.
Паулюс тяжело переживал арест своего генерала
— Если кто и виноват в этой истории, — сказал он — так это сам майор Рейхель, которому не терпелось, глядя на ночь, поспеть в свое казино к казенному ужину
На его столе вдруг запрыгала зеленая «лягушка»; на связь с Паулюсом вышел сам фон Бок, обеспокоенный пропажей портфеля: ведь именно 40-й танковый корпус Штумме и должен был «проложить армии путь в большую излучину Дона».
— Можем ли мы изменить планы «Блау»? — волновался Бок. — Теперь я думаю, что, если их отложить на некоторое время, то вы будете в Сталинграде уже не в июле, а только зимою!
— Я встревожен не менее вас, — отвечал Паулюс. — Но шестая армия уже нацелена на большую излучину Дона…»
24 июня гроза коснулась и бункеров «Вольфшанце». Гитлер выходил из себя от ярости, генералы ОКБ обвиняли генералов ОКХ, а Гальдер, чуть не плача от оскорблений, записывал: «Травля офицеров генерального штаба… по делу Рейхеля… фон Бока завтра вызывают к фюреру». 25 июня фельдмаршал фон Бок прилетел в Ставку, где Гитлер встретил его отъявленной бранью:
— Из-за какого-то идиота Штумме операция «Блау», в таких муках рожденная, уже валяется с проломом в черепе. Не так уж глупы русские, чтобы в наши секретные директивы заворачивать селедку… Они, конечно, сделают выводы. Но я же не могу останавливать армии на пороге Дона и Кавказа!
— Да, мой фюрер, — соглашался фон Бок.
— Там все планы, там карты… Рейхель имел все. Как бы подтверждая слова Гитлера, с фронта пришла радиограмма: русская авиация дальнего действия начала обкладывать исходные позиции армии Паулюса, особенно точно прицеливаясь по штабу 40-й танковой бригады подсудимого Штумме.
— Вот результаты расхлябанности Штумме, — бушевал фюрер.
Судебный процесс над «шаровой молнией» был по-военному краток Председатель трибунала был сам рейхсмаршал Герман Геринг, который, недолго думая, предложил Штумме:
— Пять лет заключения в крепости… тебе хватит подумать? Время пролетит быстро, и жена не успеет состариться.
«Шаровую молнию» с треском и грохотом загнали в одиночную камеру, из которой иногда слышались вопросительные возгласы:
— Может быть, в этой великой империи найдется хоть один умник, который объяснит мне, в чем я виноват!?
* * *
«Таким образом, — констатировал Вильгельм Адам, адъютант Паулюса, — дело Рейхеля и завершившая его расправа тяготели над предстоящим наступлением, как угроза тяжкой расплаты», а самому Паулюсу все происшедшее стало казаться роковым предзнаменованием, и он составил письмо в защиту Штумме.
Это письмо попало в руки Гитлера, которому в это жаркое лето особенно не хотелось портить отношения с Паулюсом, устремлявшим свою могучую армию к берегам Волги.
— Хорошо, — сжалился фюрер. — Штумме можно отправить под Эль-Аламейн к Роммелю, тем более что он и сам не однажды просил об этом, а на Восточном фронте такие разгильдяи не нужны. Но прежде, — указал Гитлер, — напугайте Штумме как следует, чтобы он покинул тюремную камеру через замочную скважину…
В камеру генерала вошли эсэсовцы во главе со штурмбанфюрером, с ними был врач в белом халате. Штумме увидел шприц в руке врача и схватил табуретку, чтобы обороняться.
— Не дамся! — орал он. — Я вам не крыса, чтобы меня травили, и, если я не нужен великой Германии, так пусть Германия не поскупится, чтобы подарить мне пулю… одну лишь пулю!
Эсэсовцы согнули его надвое, сорвали с него штаны. Покрываясь потом от ужаса, Штумме с отвращением почувствовал, как что-то мерзкое и холодное вливается в его тело.
— Что вы делаете, скоты? — зарыдал он. — Я согласен вернуться на Восточный фронт и сдохнуть в окопах… как рядовой… Пощадите! Ради моих детей, ради… мерзавцы!
Шприц выдернули, а место укола смазали.
— Готово, — равнодушно сообщил врач.
— Садись, — предложили Штумме, а штурмбанфюpep глянул на свои ручные часы. — Вам сделали инъекцию эвипана. Через пять минут вы будете мертвым. В официальном сообщении будет сказано, что смерть наступила в результате сердечного приступа, а вашей семье фюрер обязался выплачивать пенсию…
Штумме натянул штаны, и только сейчас в нем обнаружился характер взрывчатой «шаровой молнии», способной проникнуть через замочную скважину или взорваться, вылетев через форточку.
— Сволочи! — честно заявил он. — Теперь, когда ваше корыто продырявлено, фюрер решил простирнуть в нем свои грязные кальсоны… Вам не терпится выйти на Волгу, но русские хотят остаться на Волге, и вы ищите виноватых там, где их нету! Ищите виновников там… в кабинетах Цоссена, в кабинетах фюрера!
— Заткнись, — кратко предупредили эсэсовцы.
А штурмбанфюрер с усмешкою снова глянул на часы:
— Пять минут прошло в приятных разговорах, а вы еще живы. Может, сознаетесь, в чем секрет вашего организма?
— Иди ты…
— Благодарю, — сказал штурмбанфюрер. — А теперь можете одеваться по всей форме. Это был не эвипан, а… глюкоза , чем и объясняется секрет вашего долголетия. Мы просто пошутили. Нам было скучно, и мы просто… пошутили. Вы уже сегодня будете на Сицилии, а завтра встретите рассвет под Эль-Аламейном, куда вы давно стремились. Сеанс окончен…
Война продолжалась. На несколько дней, как и бывает перед наступлением, фронт притих. В немецких траншеях на трофейные патефоны завоеватели ставили трофейные пластинки, и в большой излучине Дона разливался знакомый нам голоса
А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все ха-ара-шо…От автора
Я не забыл это жаркое лето — не в меру жаркое для Архангельска, заставленного кораблями союзников, куда меня забросила нелегкая судьба. Как это ни странно — начало моей самостоятельной жизни связано по времени с началом битвы за Сталинград, о котором сейчас пишу… Разве не странно?
13 июля 1942 года мне исполнилось 14 лет, и я, конечно, не мог знать, что именно в этот день немцы заняли безвестный хутор Горбатовский, впервые ступив на землю тогдашней Сталинградской области. День своего четырнадцатилетия я отметил поступком, в котором никогда не раскаивался и раскаиваться не стану до самой смертной доски: я отпраздновал свой день рождения тем, что… убежал из родительского дома.
— Куда ты, Валя? — крикнула, помню, мать.
— Я сейчас… на минутку. Скоро вернусь, — ответил я… и вернулся только через три года, бренча медалями, разметая пыль широкими клешами, заломив на затылок бескозырку с широковещательной надписью на ленте ее: «Грозный»…
Летом того страшного года (страшного для всех нас) я оказался в гигантском — так мне казалось — здании флотского Экипажа; память отчетливо сохранила гулкие своды старинных залов, наполненных приятной прохладой, и в этих залах — мы, подростки, собранные со всей страны, которым предстояло носить самое высокое и самое гордое звание на флоте — юнга!
Принуждения, воинского или комсомольского, не было; брали в юнги не по набору, а лишь тех, кто сам пожелал рисковать головой на шатких палубах боевых кораблей нашего сильно поредевшего флота. Нам объявили, что всех «гавриков» скоро отправят на легендарные Соловки, где в тиши таинственных островов затаилась тюрьма, в камерах которой нас и станут готовить для героической флотской службы. До отплытия на Соловки мы жили в кубриках Экипажа и, как мне помнится, были озабочены примеркою формы, драками и обидами, иногда слезами да еще трепетным и обедов и ужинов (не забывайте, что время-то было голодное). Мне достались штаны, которые я подтянул ремнем до уровня подмышек, мне дали бескозырку, свободным диском вращавшуюся на моей макушке, получил я и бушлат, скрывающий мою фигуру до самых колен. Красота!
По сводкам Совинформбюро в те дни было не понять — кто убегает, а кто догоняет, так все было сокрыто флером секретности, но даже без царя в голове все-таки мы догадывались, что на юге творится что-то неладное. Многое забылось, но почему-то врезался в память лишь один день. Всех нас, предвкушающих близость ужина вдруг загнали в актовый зал Экипажа; наверное, для «затравки» сначала нам показали фильм «Оборона Царицына», в котором молодой и веселый Сталин отважно и гениально сокрушал всех врагов революции. Фильм закончился. В зале включили свет. Мы уже начали обсуждать, какая ждет нас каша сегодня, перловая или овсяная, но…
— Сидеть на местах! — было приказано.
Из зала нас не выпустили, а возле дверей, чтобы никто не убежал, встали наши старшины, чем-то озабоченные. Мы ждали. На сцену поднялся комиссар флотского Экипажа.
— Встать! — окрик команды. — Слушай приказ № 227…
Безо всякого предисловия комиссар приступил к чтению знаменитого ныне приказа, который долго-долго скрывался потом от народа, как скрывали потом и полеты НЛО над нашими головами. До сих пор, честно говоря, не пойму, с какой целью нас тогда «оглушили» этим приказом? Хотели, чтобы мы прониклись ответственностью? Или для того, чтобы робкие отказались от звания юнги? Не знаю. Я был тогда еще слишком глуп и наивен, но доселе помню, что каждое слово этого приказа, не ко сну будь он помянут, буквально впивалось в сознание. Каждая его фраза глубоко западала в душу, и все мы тогда поняли, что теперь шутки в сторону, перловая там каша или овсяная, но дела нашего Отечества очень плохи, а главное сейчас — НИ ШАГУ НАЗАД!
Слова приказа рушились на нас, словно тяжелые камни. Прошу не считать меня сталинистом, но мне и доныне кажется, что Сталин в те дни нашел самые точные, самые весомые, самые доходчивые слова, разящие каждого необходимою правдой. Без преувеличения я до сих пор считаю приказ № 227 подлинной классикой военной партийной пропаганды… Сталин писал:
«Некоторые неумные люди на фронте утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке… Такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми, выгодными лишь нашим врагам…
После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, — стало быть, стало меньше людей, хлеба, металла… У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше — значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину.
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад!»…
Суровое время требовало суровых мер. В приказе № 227 Сталин призывал усилить дисциплину, беспощадно расправляться с трусами и паникерами, снимать с постов и судить начальников, допустивших отход с фронта, строго карать офицеров за оставление позиций без приказа свыше…
С нашей стороны — никаких вопросов, только молчание.
И никаких комментариев со стороны начальства.
— Головные уборы надеть. На выход… марш!
В ту же ночь нас посадили в трюмы корабля, чтобы доставить на Соловки. Перед отплытием меня отыскал отец, который тогда служил офицером на Беломорской военной флотилии. Он был как-то особенно мрачен, но мой поступок не осуждал. В эти дни проводилась добровольная запись моряков в морскую пехоту, которую готовили для боев в Сталинграде, и отец был в числе первых, кто поставил свою подпись под длинным списком добровольцев.
— Так было надо, сынок, — помню я его слова.
Свидание было кратким, и отец ушел, даже не оборачиваясь, чтобы в руинах Сталинграда сложить свою голову. Больше я никогда не видел его. Лишь недавно я узнал обстоятельства его гибели, что и толкнуло меня к письменному столу, дабы рассказать вам, ли, о Сталинградской битве.
Часть третья. Большая излучина
С точки зрения большой стратегии ясен простой факт: русские армии убивают больше нацистов и уничтожают больше вражеского снаряжения, чем все остальные 25 Объединенные нации, вместе взятые.
(Из письма генералу Д. Макартуру Фр. Д. Рузвельт, от 6 мая 1942 года).Ныне пойдем за Дон и там или победим и все от гибели спасемся, или сложим свои головы.
Дмитрий Донской (1380).1. Доживем ли до августа?
Почему так коротка память людская?
Вот и настали дни нынешние… Давно шаблоном стали слова, набившие нам оскомину: «Не забудем о Сталинграде!» А вот мне в это не верится. Ни черта мы не помним, все позабыли.
Два года назад, в день 23 августа, старая актриса по имени Вера Васильевна, которая еще до войны не сходила с подмостков сталинградского театра драмы, эта вот женщина, порядком хлебнувшая горя на своем веку, проснулась с ожиданием какого-то чуда… Ей ли, жившей на окраинах Бекетовки, откуда, как с высокой горы, был виден весь Сталинград, ей ли забыть тот день, когда Божий свет померк в глазах, а Сталинграда попросту не стало. Утром еще был город, а вечером исчез город.
Сейчас и город совсем другой, даже название у Сталинграда иное, и люди какие-то не такие, что были раньше, а ей, старухе, все не забыть того дня… Да и можно ли забывать?
Вышла на улицу. Спросила на остановке автобуса:
— День-то какой, знаете ли?
— День как день. А что?
— Страшный! Тут бы молиться всем нам…
Посмотрели как на сумасшедшую, мигом забили автобус и отъехали, не желая ничего помнить. Возле пивного ларька — шумно и людно. Дружно сдувается пена с кружек.
— Помните ли, какой день сегодня?
— Август. Кажись, двадцать третье. А что?
— Это день, который нам, сталинградцам, не забыть
— Праздник, что ли? — спрашивали старуху.
— Не праздник, а поминанье того великого дня.
Разом сдвинулись кружки — за день сегодняшний.
— Выпьем! Чего это «божий одуванчик» тут шляется? Наверное, из этих самых… о морали нам вкручивает!
Нет, никто в бывшем Сталинграде не желал помнить, что случилось 23 августа 1942 года. Вера Васильевна, почти оскорбленная, вернулась домой и включила телевизор:
— Должны же хоть с экрана напомнить людям, какой это день. День двадцать третьего августа… ради памяти павших!
«…показывали в этот день обычные передачи: разговор о перестройке, бюрократическом торможении, международные события. Показали сюжет из Белоруссии, связанный с памятью о войне. Но на воспоминания о двадцать третьем августа в Сталинграде времени не хватило…»
В новом Волгограде не помнили о трагедии Сталинграда!
— Грех всем нам, — сказала Вера Васильевна, заплакав. — Великий грех всем вам, люди, что забыли вы все страшное, чего забывать-то нельзя… нашим внукам знать надобно!
Этой датой, ставшей уже безвестной, я предваряю свой рассказ, и днем 23 августа я завершу изложение первого тома.
Люди! Бойтесь двадцать третьего августа…
2.«Был у меня товарищ…»
Из Рима дуче отъехал в свою резиденцию Рокка-делле-Каминате, а настроение у него было сумбурное. Как бы ни относиться к Муссолини, все же, читатель, над признать, что римский диктатор шкурой предчувствовал события лучше Гитлера.
«У меня, — записывал он в дневнике, — постоянное и все усиливающееся предчувствие кризиса , которому суждено погубить меня…»
Угадывая развитие событий в Африке, где застрял Роммель, дуче ощущал угрозу со стороны Марокко — это был удобный плацдарм для высадки десантов, хотя Гитлер считал, что опасность десантов угрожает в заснеженных фиордах норвежского Финмаркена.
Дуче хандрил. Галеаццо Чиано, зять его, настаивал на разрыве с гитлеровской Германией, пока не поздно!
— Пока наши головы держатся на плечах, пока вся Италия не переставлена на костыли… Мы говорим, что от этой войны зависит судьба фашизма. Верно ли? Не лучше ли повышать дух народа упоминанием о чести нации, о патриотизме, как непреложной идее, стоящей над людьми, над временем, над фракциями?
— Это приведет к разобщению народа и партии.
— Но в Италии, — доказывал Чиано, — народ уже давно живет отдельно от партии, а партия существует сама по себе. Итальянцы способны жертвовать во имя родины, не в степях России они не желают погибать за идеалы партии, к которой присосались шкурники, карьеристы и просто жулики…
В это время фашистская партия насчитывала в своих рядах 4 770 700 человек, и дуче верил в свое могущество:
— Мне стоит шевельнуть бровью, как миллионы фашистов сбегутся на площадь перед Палаццо Венециа, аплодируя мне и готовые умереть за наши идеи. Оставь меня с партией, а сам убирайся к своим босякам, которых ты именуешь народом…
Не так давно в больнице для умалишенных умер сын дуче — Бенито Альбино, рожденный от массажистки Иды Дельсер, которую дуче, придя к власти, сам же и уморил — тоже в бедламе. Сейчас при нем, помимо известной Клары Петаччи (что орала на улицах Римаз «Хочу ребенка от дуче!»), состояли еще две женщины — некая Анджелла и очень красивая официантка Ирма. Что никак не радовало жену Муссолини — донну Ракеле. Дуче запутался в бабах, как в политике, а в политике он погряз, как и в распутстве. Но его утешало и бодрило мнение ветеранов фашистской партии, которые вторгались его мужской потенцией:
— У нашего дуче во такая громадная мошонка, а в ней чего только не водится! Потому и кидается на бабенок…
Муссолини листанул настольный календарь:
— Что там Роммель? Когда доклад Уго Кавальеро? Сразу, как только Гитлер возвысил Роммеля до чина фельдмаршала, дуче поспешил произвести в тот же чин и Уго Кавальеро, который был начальником генштаба.
Первый возрос Муссолини:
— Уго, каковы успехи моей армии в России?
— Итало Гарибольди извещает, что наши солдаты имеют большой успех у русских колхозниц, которые их же подкармливают.
— Понятно, отчего такая щедрость! — сразу сообразил дуче. — Где еще русские колхозницы могли видеть таких отважных и бравых ребят, в ботинки которых заколочено — точно по уставу! — сразу семьдесят два гвоздя.
Уго Кавальеро намекнул, что в Италии уже достаточно вдов и сирот, ибо Восточный фронт постоянно требует жертв.
— Их можно объяснить, — воскликнул дуче, — лишь избытком боевой инициативы наших прославленных берсальеров…
Тобрук пал. Роммель торчал в оазисах Эль-Аламейна, а дуче рассчитывал вскоре побывать в Каире. Кавальеро замялся:
— Уго, ты что-то хочешь сказать? Если это очень важно, та прежде ты обязан встать.
— Да, мой дуче. Я встал! Вчера в Средиземное море через Гибралтар проскочил английский авианосец «Игл», а на аэродромах Мальты садятся американские бомбардировщики, по этой причине я подозреваю, что скоро всем нам достанется.
— А куда смотрит Кессельринг с его воздушной армией?
— Кессельринг смотрит на своего фюрера, который велел ему половину воздушной армии отправить в Россию, чтобы помочь в прорыве на Кавказ и к берегам Волги. Потому английские караваны беспрепятственно следуют в Александрию.
— Следует нанести по ним мощный крейсерский удар!
Кавальеро объяснил Муссолини, что для нанесения такого удара итальянским кораблям не хватит горючего.
— Чтобы только запустить машину крейсера, необходимо пять тонн мазута, а потом еще по тонне в день для «подогрева» котлов.
— Уго, почему ты не просил у немцев горючее?
— Умолял их! — отвечал Кавальеро. — Но Кейтель ответил мне, что у них расход горючего сокращен до предельного минимума — ради наступления на Сталинград и Майкоп, в Германии сейчас обеспечены горючим одни подводные лодки…
— Это, — продолжал Муссолини, — подсказывает мне правильное решение: наши батальоны «Червино» должны следовать на Кавказ вместе с немцами, чтобы Италия могла претендовать на освоение нефтепромыслов в Майкопе, а тогда нам уже не придется выступать перед Гитлером в роли попрошаек, умоляющих о лишней бочке мазута… Ты понял меня, Уго?
Пока они там судачили, над Италией стремительно пролетала «шаровая молния» — генерал Георг Штумме, отправленный в армию Роммеля, и скоро ему предстоит не только заменить Роммеля, но и взорваться в песках Ливии с оглушительным треском, чтобы после взрыва ничего от него не осталось…
* * *
«Четыре месяца я болел тяжелой формой амебной дизентерии», — так писал Фридрих фон Меллентин, начальник разведки армии Роммеля, и его книга «Танковые сражения», которую он выпустил после войны в южноафриканском Иоганнесбурге, дала мне многое для понимания войны в Киренаике и на полях моей родины. Меллентин отзывался из Африки в Германию, чтобы подлечиться в Тропическом институте от поносов, изнуряющих его (как изнуряли они и самого Роммеля), но институтские профессора, врачи опытные, сказали ему:
— Есть одно радикальное средство избавиться от поносов — это русская водка, а потому советуем проситься на Восточный фронт, чтобы каждый день принимать водку внутрь в неограниченном количестве, после чего гарантируем вам излечение…
Впрочем, поправился он потом, а сейчас, еще страстно желая присесть за ближайшим барханом, Меллентин делал доклад фельдмаршалу Роммелю о положении в перепуганном Каире?
— Обстановка такова. Каир объявлен на военном положении. Окинлек доверил его оборону самым стойким войскам — новозеландским и австралийским. Египетские же солдаты заперты в казармах, чтобы предотвратить возможное восстание против колонизаторов. Сам же король Фарук, как главный заводила среди египетского офицерства, находится под домашним арестом, а электромонтер дворца водит к нему уличных женщин, чтобы он не бесился…
— Достаточно! — не захотел слушать далее Роммель и открыл бутылку с вином. Выпив, он обнаружил недурную фантазию. — Меллентин, а почему наши занюханные физики не могут изобрести такой двигатель, чтобы он работал на всасывание не бензина, а воздуха, как работают легкие человека, предпочитающего пить вино, а не бензин? Впрочем, какие еще у вас собраны сплетни?
— К нам летит «шаровая молния».
— Приятно слышать, — сказал Роммель. — Георга Штумме я знавал когда-то. У него там были какие-то нелады с Паулюсом?
С тех пор, как Роммель — на последнем издыхании моторов — выбрался к Эль-Аламейну, он ни на шаг не продвинулся к тенистым кущам блаженного Нила, где хотел бы поиграть с крокодилами. Казалось, наступило сомнительное равновесие: будто он, Роммель (со своими ничтожными силами), заключил перемирие с генералом Окинлеком (обладавшим большими силами). Окинлек не дразнил Роммеля, а Роммель не был способен ударить по Окинлеку. По этой причине «африканские качели», к скрипу которых столь бдительно прислушивался Черчилль, вдруг — на удивление всего мира — перестали качаться…
Роммель уже не надеялся получить корпус «F» — его включили в группу «А» фельдмаршала Листа. Солдат этого корпуса как следует прожаривали в теплокамерах, их пытали жаждой и голодом, они сутками гнили по шею в прусских болотах, их зарывали в раскаленный песок, готовя для боев в Африке, а теперь направили штурмовать предгорья Кавказа. Наконец, Паулюсу мало воздушного флота Рихтгофена — у Роммеля отняли и эскадрильи Кессельринга.
Он вдруг вспомнил ослепительный зал берлинского «Адлона», где струились разноцветные фонтаны, а длинноногие девки стучали в воинственные барабаны, украшенные цветами: «Был у меня товарищ, был у меня товарищ…»
Воспоминание о Паулюсе было даже неприятно!
— Застрявший в краю русских казаков, он обобрал меня до последней нитки… На меня в Берлине плюнули, как плюет солдат на беременную шлюху, чтобы не приставала с любовью!
Наконец, новые мощные танки, уже закамуфлированные под цвет ливийской пустыни, тоже оказались в придонских степях, даже не переменив желтой окраски на серо-зеленую:
— Да, был у меня товарищ, — говорил Роммель, хмелея. — Но хотел бы я знать, кто из нас раньше продвинется вперед?
Между ними, разделенными громадным пространством, возникло некое единоборство: если Паулюс обязан был 25 июля войти в Сталинград, то из Берлина и Рима требовали взять Каир или Александрию не позже 20 июня; Роммель изо всех сил пытался доказать Гитлеру первостепенное значение Ливийского фронта, но Гитлер поддерживал и укреплял не его, Роммеля, а — Паулюса…
— Меллентин, разве не смешно, что у нас отняли все, а взамен всего этого нам присылают «шаровую молнию»?..
Муссолини оставил свои чемоданы, обещая вернуться к тому времени, когда перед Роммелем откроется блаженная дельта Нила; сейчас Роммелю было плевать на всех и на этого дуче; он уснул на железной лавке бронетранспортера, а генерал Тома заботливо подсунул под голову фельдмаршала пилотку.
— Пусть дрыхнет, — сказал Тома Меллентину. — Он еще не знает, что утром взорвался на минных полях внук «железного канцлера» — Бисмарка, разъезжавший на своем мотоцикле…
Роммелю снились желтые пески Киренаики, редкие пальмы в оазисах Мармарики с черными шатрами арабов, над ними нависал мрачный силуэт пирамиды Карет-эль-Хемеймат, темнеющий на горизонте, в ушах «лисицы пустыни» еще стоял треск британских пуль, разрывающих резину автомобильных покрышек. Роммель спал недолго, а когда проснулся, то увидел цветущие за штакетником прекрасные розы Франции, машущих крыльями аистов на крышах городов Фландрии.
Роммель сказал:
— Наверное, что-нибудь одно — или стала сдавать моя психика, или это обычный мираж, какие бывают в пустынях…
Меллентин предъявил ему пленного, одетого в хаки британского солдата, обутого в добротную обувь.
— Вот и новость! — сказал он, смеясь. — Нам попался чудак, который ни слова не знает по-английски. Попробовали говорить по-французски — тоже молчит. Да. же на арабском ничего не понимает… Язык его похож на эсперанто!
— Я… русский, — вдруг заявил пленный по-русски.
Казалось, мираж для Роммеля еще не рассеялся: на фоне чернеющей вдали пирамиды египетских фараонов стоял русский солдат, и, как выяснилось, генерал Окинлек имел в своей армии не только чехов и евреев, не только австралийцев и деголлевцев, — в его армии появились и русские, которые бежали из германского плена, каким-то чудом перемахнули Ла-Манш и вот… оказались здесь — под Эль-Аламейном.
Да, мало мы еще знаем историю войны в Африке, а ведь там — от Марокко и до Ливии — доныне находят солдатские могилы с непонятными русскими именами.
* * *
А я не шучу, читатель: в ботинок итальянского солдата Муссолини заколачивал 72 гвоздя — не больше и не меньше, именно так повелевал устав фашистской армии, и генерал Джованни Мессе, уже разжалованный, доказывал Уго Кавальеро:
— Это хорошо для парадов! Но абсурдно в условиях Восточного фронта: в периоды русских морозов эти гвозди, промерзнув, сдавят ногу солдата ледяными тисками.
— Этого не случится, — заверял его Кавальеро. — В Берлине считают, что к осени с Россией будет покончено, и я своими ушами слышал, как фюрер сказал; «Сейчас положение русских гораздо хуже, нежели оно было летом прошлого года…»
Начиная с весны 1942 года Муссолини постоянно усиливал свою армию на Восточном фронте; к лету его АРМИР насчитывала уже 220 000 солдат, она имела 55 танкеток («спичечные коробки») и 1130 тракторов, лошадей и мулов я не учитываю. Желание дуче усилить свои войска в России ради политических и экономических выгод в будущем на этот раз совпадало с желанием Гитлера, который вознамерился использовать «бумажных итальянцев» вроде затычек — шпаклевать ими те «дыры» в линиях фронта, для затыкания которых немцев уже не хватало.
На этот раз с отправкою войск в Россию возникало немало осложнений. Итальянцы стали подозрительно часто вспоминать историю похода Наполеона, а женщины, провожая мужей, голосили навзрыд, чего ранее не бывало. Детолюбивые итальянцы, шествуя на вокзалы, в каждой руке держали ручонки своих детишек (об этом я сужу по итальянским же фотографиям). Началось дезертирство. Муссолини распорядился объявить набор добровольцев. Таковые нашлись, но в Италии их считали сумасшедшими или ссылаемыми в Россию для отбытия наказания за преступления против нравственности.
— Что ты там натворил, бедный Кало? — рыдали родственники. — Или продул в карты казенные деньги из полковой кассы? Или испортил дочку заслуженного члена фашистской партии?..
Офицеры тоже не рвались в окопы Восточного фронта.
— Объявите по войскам, — велел Муссолини, — что каждый офицер, отбывающий на Восточный фронт, получит от казны новенькую пижаму и по тюбику мыльного крема для бритья…
Мало того! Уго Кавальеро в генштабе, дабы поднять авторитет офицеров, провел в эти дни научный референдум.
— Среди прочих вопросов, волнующих наше благородное общество, — сказал он, — считаю немаловажным вопрос на животрепещущую тему: стоит ли в условиях Восточного фронта заводить отдельные уборные для каждого офицера или пусть все офицеры не побрезгуют испражняться в общую яму…
Муссолини очень гордился количеством гвоздей в ботинках своих беспощадных берсальеров, от которых в России было не спастись ни одной кошке, даже самой прыткой; а проблема зимней обуви давно занимала воображение генералов. С русского фронта в Рим были доставлены валенки, которые Уго Кавальеро и продемонстрировал в пышных залах Палаццо Венециа:
— Если мы хотим быть победителями в России, нам никак не обойтись без этой вот штуки, — сказал фельдмаршал.
Муссолини подверг валенки тщательному изучению:
— Ничего в жизни не видел уродливее! — было им сказано. — Только дикари способны таскать по снежным сугробам такие огромные и бесформенные футляры скатанные из войлока.
Кавальеро ответил, что вальсировать в валенках смешно, но еще смешнее будет выглядеть итальянский солдат на снегу в ботиночках и в обмотках, — ведь зимою 1941 года число обмороженных превышало количество раненых.
— Эти валенки раздобыл Джованни Мессе, чтобы убедить всех нас в необходимости делать такие же для АРМИРа.
— Разве от валенок зависят успехи Сталина? — недоверчиво фыркнул дуче. — Джованни привык заниматься пустяками.
Но со времен Нерона и Калигуллы гордый Рим не валял валенок. Да и о чем Мессе хлопочет, если к осени с Россией будет уже покончено… От былого могущества у нее останутся валенки!
(Наш историк Г. С. Филатов, лучший знаток итальянского фашизма, писал, что «авторитетные инстанции в Риме пришли к заключению, что изготовление валенок является причудой Мессе… нашлись люди, которые были заинтересованы в том, чтобы валенки не перекрыли путь уставным ботинкам»; от себя я, автор, добавлю, что придет зима, и тогда ботинки с обмотками станут причиной гибели многих итальянцев под Сталинградом.)
Клара Петаччи, Анджелла и прекрасная официантка Ирма закономерно дополняли брачный союз Муссолини с тяжеловесной донной Ракеле. Не думайте, что во дворце Палаццо Венециа царило семейное согласие. Нет! Однажды сюда проник тайный агент гестапо по фамилии Дольман, и донна Ракеле, задыхаясь от гнева, нашептала ему:
— Если ваш великий фюрер обеспечит мою старость хорошей персональной пенсией, то я согласна извещать его об изменах моего мужа и предательстве зятя графа Чиано, отца моих внуков… В этом доме, — сказала женщина, — давно ползают коварные змеи и бродят по углам тщеславные павлины, согласные продать всех нас за хорошую порцию макарон с маслом.
Дольман обещал ей «порцию макарон» на старости лет.
* * *
Наконец появился и Георг Штумме, пострадавший за портфель майора Рейхеля, и Роммель сразу предупредил его, чтобы перестроил свое сознание, сложившееся на Восточном фронте:
«У нас дивизиями называются даже батальоны, уже истрепанные в маршах. Дивизии полного состава мы наблюдаем у Окинлека — с кухнями-ресторанами на колесах, с походными парикмахерскими, с артистами и фокусниками в передвижных театрах. Наконец, британские офицеры даже в условиях пустыни могут принимать ванны, а мои солдаты имеют лишь пол-литра воды в сутки…
«Шаровая молния», попав в Африку из-под Харькова, еще не мог отрешиться от опыта войны с русскими.
« — Не знаю, как у вас в Киренаике, а вот иваны с танками не мудрили. Пол-литра „молотовского коктейля“ под жалюзи — и танк мигом превращается в жаровню. Здесь у меня стало прихватывать сердце, — жаловался Штумме. «После украинских морозов со вшами на белье да сразу попасть в африканскую баню с неизбежным поносом… тут и негру пора показаться врачу!
Штаб Роммеля ютился в мусульманском мавзолее-часовне, выложенном изнутри плиточными изразцами, которые — пусть летят века! — до сих пор не потеряли яркости древних красок. Роммель заметил, что «шаровая молния» прихрамывает. Штумме жаловался, что в армии на Ливийском фронте — не как в России! — отсутствуют полковые сапожники, а внутри его сапога вылез гвоздь, и…
— Разувайтесь, — велел ему Роммель. — Здесь вам не Россия, где вермахт лакомится услугами от личных забот фюрера, а я не белоручка Паулюс, берегущий чистоту своих манжет…
Фельдмаршал не погнушался работой сапожника. Он вдруг схватил гранату и этой гранатой стал заколачивать выпирающий из подошвы гвоздь, чем и привел Штумме в ужас.
— Граната — не молоток! — орал перепуганный Штумме.
— У вас русский опыт, — отвечал Роммель, размахивая гранатой, а у нас периферийный, и мы хорошо знаем, что итальянские гранаты выделки Муссолини не взрываются…
Они покинули мавзолей, купол которого вдруг рухнул, осыпав свиту фельдмаршала осколками разноцветной смальты.
— Все-таки взорвалась, — захохотал генерал Тома и, как нищий, подбросил на спине неразлучный вещевой мешок…
Как раз в эти июньские дни Совинформбюро сообщало о первой конференции итальянских военнопленных в Советском Союзе, которые призывали всех итальянцев «выступить против преступной войны, затеянной Муссолини, добиваться разрыва с гитлеровской Германией и свержения фашистского режима Муссолини». Мы, читатель, временно прощаемся с Роммелем, и мы встретимся с ним опять, когда он побежит прочь от Эль-Аламейна, а его другу Паулюсу бежать будет уже некуда , и тогда один фельдмаршал будет вспоминать другого фельдмаршала словами старой солдатской песни: «Был у меня товарищ, был у меня…»
3. Когда поспевает малина
О положении на фронтах народ знал больше по слухам.
После двух катастроф подряд, под Керчью и Харьковом, наши газеты отмалчивались, будто ничего страшного не случилось, а центральная печать отделывалась от читателей стереотипными фразами. «Наши силы растут и крепнут. Недалек тот час, когда враг вполне испытает силу наших ударов…» 21 июня, когда на юге страны крепчал железный кулак вермахта, «Красная Звезда» порадовала военных людей известием, что немецкая армия наступать уже не способна: «Перед немцами теперь стоит вопрос не о завоевании СССР, а о том, чтобы как-нибудь продержаться». Через два дня Совинформбюро добавило в утешение, что почва для разгрома Германии подготовлена, ее военная машина развалена Гитлер уже потерял десять миллионов своих солдат, а потери Красной Армии составляют лишь четыре с половиной миллиона.
Разве можно было поверить в подобное?..
Наконец, дяде Пете или нашей тете Мане трудно было понять, что таится в скупой информации, заключенной в мало что говорящих фразах: «На Севастопольском фронте напряженность боев усилилась ввиду того, что немцы ввели в бой новые части… На Харьковском управлении советско-германского фронта — бои с наступающим противником…» И уж совсем невдомек было читателю догадаться — какой смысл в кратком сообщении Совинформбюро от 25 июня: «Генерал Эйзенхауэр, командующий американскими войсками на европейском театре войны, прибыл в Англию».
Эйзенхауэр не был еще знаменит, его только ожидало великое будущее, а прибыв на берега Альбиона, он сообщал на родину суть своих замыслов о моменте открытия второго фронта, когда Германия завязнет в России.
Этот момент был близок!
Впрочем, сроки активного наступления вермахта на юге не раз уже откладывались, и виною тому был «пропавший самолет» с майором Рейхелем и секретными документами о развитии операции «Блау». Немецкое командование нервозно выжидало реакции со стороны русских, а Паулюс бранил покойного майора, которому взбрело в голову лететь глядя на ночь:
— Вот и покойник… Теперь, — рассуждал Паулюс, — мы не в силах изменить наши четкие планы «Блау», для этого потребовалось бы слишком много времени и большой работы ОКБ и ОКХ. Но вполне разумно, если мы отодвинем сроки наступления. Стратегическая пауза иногда даже необходима…
Его 6-я армия перешла в наступление лишь 30 июня…
* * *
Состав с зерном возле элеватора еще горел.
— Анастас Иванович, — сказал в трубку Чуянов. — Не успели мы избавить город от колхозного скота из Смоленщины, как все Задонье потонуло в пыли — на подходе стада из Воронежской области, из Ворошиловградской… Куда их девать? На улицах уже не повернуться от машин и беженцев. Мостов не имеем. Переправы заполнены. Скотобойни города загружены до предела.
Из Москвы усталый голос А. И. Микояна:
— Наша большая ошибка, что Сталинград не имеет мостов. Но погодите с бойнями. Нам еще после войны жить надо. Переправляйте скот на левый берег Волги гоните его дальше.
— А как быть с частниками? Каждому жаль со своей скотиной расставаться. И в ухо каждому не вдудишь, что, если не отдаст корову государству, враг придет и сожрет ее даром.
— Никакой принудиловки! — отвечал Микоян. — Действуйте только убеждением. Частник есть частник. Он и без того нами обижен. Не хочет разлучаться с овцой, оставьте ему овцу.
Есть такая народная примета: хлеба убирать, когда поспевает малина. Но в ту пору малина еще не созрела, когда пришло время думать об уборке урожая, чтобы он не достался врагу в зрелых колосьях. На Дону было тревожно, Москва требовала, чтобы зерно вывозили со складов и элеваторов в тыл.
— На тачке, что ли? — говорил Чуянов. — Автотранспорта нет, горючего нет, а на лошадях сотни тысяч тонн далеко не увезешь. Не знаю, как мы управимся, если предстоит эвакуация людей и скота из донских станиц и колхозов…
Эвакуация началась загодя, издалека гнали скотину из отдаленных станиц, а кто? — опять же школьники с хворостинами, плелись за гуртами скота старики да бабки, которые сами-то едва ноги передвигали. На волжских переправах — что-то ужасное, все стада перепутались, чей там бык, а чья корова — уже не разберешься, всех подряд гнали на паромы, а паромов не хватало, немцы бомбили, и рядом с павшей скотиной теперь лежали те же самые мальчишки с хворостинами и бабки, но уже мертвые.
Чуянов накоротке повидался с Ворониным:
— Садись, эн-кэ-вэ-дэ. Разве не безобразие? Гигантский город на правом берегу, а моста на левый берег не соорудили.
— Так это же хорошо, что нет моста, — отозвался Воронин. — Будь такой мост, его бы немцы с воздуха мигом раздраконили…
Как-то еще не верилось, что Сталинград может стать фронтовым городом, дворники поливали цветочные клумбы на улицах, и аромат цветов доносился в кабинеты обкома, напоминая о мирных днях, когда о цветах даже не думалось: пусть благоухают, на то они и посажены…
Чуянов казался рассеянным.
— Что у тебя еще? — спросил он.
Воронин вынул из портфеля немецкую листовку, издали показав ее секретарю обкома — читай, если грамотный. Чуянов увидел всего две строчки частушечного лада:-
До Воронежа с бомбежкой
В Сталинград войдем с гармошкой
Эту листовку Чуянов оставил у себя и показал ее генералу Герасименко, командующему Сталинградским военным округом:
— Ну, не нахальство ли, а?
Герасименко пробежал листовку глазами и сказал, что Геббельсу, как пропагандисту, еще далеко до батьки Махно:
— Вот это был агитатор! Пламенный… Помню, гонялись мы за его бандами, а батька за нами гонялся. На тачанках. Я тогда молодой был. Вот гонит нас батька в хвост и в гриву, оглянешься назад, а на тачанках его — лозунг: «X… уйдешь!» Потом стали гнать батьку. Настигаем, а на тачанках у махновцев опять плакат полощется: «X… догонишь!» Вот это, я тебе скажу, агитация такая, что до печенок пробирала. Наглядно и убедительно. Геббельсу до такого не додуматься…
Разговорились. Алексей Семенович спросил:
— Василий Филиппыч, не кажется ли тебе, что наше положение сейчас гораздо хуже, чем в прошлом году?
— Кажется. Только говорить об этом боюсь.
— Смотри, как бы не прижали нас к Дону. Слухи неважные. Фронт расшатан. Командуют лейтенанты. А маршала не видать… Скажи мне честно, что за человек этот Тимошенко?
— Как кто? Бывший нарком. Маршал. Орденоносец.
— Это я и без тебя знаю. О другом говорю. Я человек сугубо штатский и то, кажется, кумекаю, что есть здесь что-то неладное. Как он не пострадал после катастрофы под Барвенково или под Харьковом? И не такие головы с плеч летели…
— Все дело в обороне Царицына, — шепнул Герасименко, на дверь оглянувшись. — Кто тогда был в Царицыне при нем да сумел ему понравиться, тех он не трогал, вот они и полезли наверх… Ворошилов, Буденный, Городовиков, Щаденко и прочие… Я такого мнения, — сказал Герасименко, — что историю этой войны после войны будут писать не кровью, а медом, чтобы сверху покрывать ее лаком. И писать станут не с сорок первого, а с того самого срока, когда мы побеждать научимся.
— А куда же девать сорок первый? Наше лето?
— Псам под хвост! — энергично ответил Герасименко, даже обозлившись. — Кому из наших мудаков охота сознаваться в своих ошибках? Вот увидишь, что даже о сорок первом станут ворковать, как голуби. Не знаю, как ты, а мне не дожить до того времени, когда станут писать правду…
Большая излучина тихого Дона уже таила страшную угрозу всем нашим армиям, заключенным в эту природную дугу, вогнутую в сторону Волги и Сталинграда. Не понимать этого могли только глупцы! В эти дни газета «Красная Звезда» ожидала от Михаила Шолохова статью под названием «Дон бушует». Но писатель отказался от написания такой статьи, «так как, — сообщил он в редакцию, — то, что происходит сейчас на Дону, не располагает к работе над подобной статьей…».
Один старик-журналист рассказывал мне, что видел в эти дни Шолохова плачущим. Слезы его понятны: тихий Дон и донское казачество знавало всякие времена, но такого еще не бывало, чтобы его берегам угрожали вражеские танки, а германские пулеметы «универсал» насквозь простреливали донские станицы.
…Стратегическая пауза затянулась, и лишь 27 июня Франц Гальдер отметил в своем дневнике: «Никаких признаков того, что противник как-то реагирует на потерянный нами приказ (по операции „Блау“)…» Тогда же, почти синхронно, из Старобельска стал названивать в Харьков барон Максимилиан Вейхс.
— Завтра, — сказал он Паулюсу, — я начинаю. Ждать, когда Москва распишется в знании наших секретных планов, становится опасно. Герман Гот уже нервничает, его «панцерам» не терпится прокатиться по трамвайным рельсам улиц Воронежа.
— Моя шестая, барон, — ответил Паулюс, — через два дня после вас начнет выдвижение в районе Волчанска.
— Будем помнить о флангах, — током заговорщика произнес Вейхс, и в этих его словах таился немалый смысл…
* * *
«Будем помнить о флангах!» — заклинал барон Вейхс.
Да. Еще летом 1941 года генералы вермахта заметили, что русские мало чувствительны к обходам, но германская военная доктрина, напротив, чересчур обостренно заботилась о своих флангах. По этой причине немцам сейчас прежде всего желалось покончить с Севастополем и захватить Воронеж, ибо это и были фланги германской армии, устремленной на Кавказ и Сталинград, и даже не тактические, а имеющие уже стратегическое значение.
Паулюс отлично понимал беспокойство Вейхса, понимал и то, что Артур Шмидт с его «чертиком» в стратегии разбирается плохо, а потому он и растолковал ему азбучные истины оперативного искусства с особой заботой о флангах:
— Виноват Манштейн! Он так долго ковыряется с Севастополем, а его армия, застрявшая в Крыму, не может обеспечить нам южные фланги до тех пор, пока Севастополь не рухнет. Но если еще и барон Вейхс застрянет под Воронежем, тогда шестая армия не будет прикрыта и с северных флангов… Не удивляйтесь, Шмидт, — говорил Паулюс, — но я так воспитан, чтобы думать о флангах!
Паулюс навязывал Шмидту свои понимания, хотя не раз замечал, что Шмидт исподтишка пытался навязать ему свою волю, и эта воля была опасной. В этом потаенном единоборстве Паулюса выручало то, что многие генералы 6-й армии явно третировали Шмидта, как выскочку, жалея об устранении Фердинанда Гейма, бывшего начальника штаба. Отто Корфес не однажды намекал Паулюсу, что Шмидт — вроде надзирателя, приставленного к армии не из Цоссена, а из партийной канцелярии Мартина Бормана.
— Гейм реально оценивал события, за что, кажется, и поплатился, а Шмидт излишне бравирует оптимизмом в Духе речей Ганса Фриче. Правда, — признал Корфес, — Шмидт человек неглупый и осторожный, но его партийная убежденность зачастую смахивает на самое банальное упрямство. А вам не кажется, — вдруг спросил Корфес, — что за хвостом нашей шестой армии тащится подозрительно много эсэсовских команд, которые за нами, словно шакалы за тигром, отправившимся за добычей?..
Ответ Паулюса поставил Корфеса в неловкое положение.
— Прошу не забывать, доктор Корфес, что мой зять барон Кутченбах тоже носит черный мундир войск СС и об этих войсках я сужу по гуманным поступкам своего зятя.
Корфесу оставалось только ретироваться, что он и сделал, а между ними пробежала первая черная кошка. Сутью этого разговора Паулюс поделился с адъютантом Вильгельмом Адамом, спрашивая — кого же еще не терпят в его армии?
— Никаких симпатий не вызывает и Гейтц из восьмого армейского корпуса. Гейтц так долго председательствовал в военных трибуналах, что до сих пор не расстался с дурной привычкой расстреливать людей. Гейтц (вы не верите) иногда садится в транспортер с пулеметом и объезжает прифронтовые зоны, всюду оставляя после себя трупы.
Паулюс испытал неловкость, проворчав что-то о «наследии» покойного Рейхенау.
— Вы бы знали, Адам, как мне трудно! Я чудесно чувствую себя в штабном «фольксвагене», где прыгает моя зеленая «лягушка», но зато мне бывает противно видеть, как прыгает лукавый «чертик» моего начальника штаба…
Заранее он выехал на фронт. Обширный «фольксваген», сплошь забитый радиоаппаратурой и стеллажами с оперативными картами, катил за сто километров от Харькова — на берег Оскола, в сторону Купянска; сам городок, почти деревянный, еще хранил облик купеческого прошлого, и как-то странно было думать, что здесь когда-то грозно бушевали половецкие пляски, а «каменные бабы» в степях невольно напоминали идолов с острова Пасхи.
— Какая страшная дыра… этот Купянск, — заметил Шмидт, — и не пойму, как здесь могут жить люди?
— Живут, — кратко отозвался Паулюс. — Мой зять где-то вычитал, что в древности здесь пролегали пути в сказочную Византию, а хазары справляли в Купянске богатые свадьбы с иудейками…
Непрерывно стучал телетайп, работала радиорелейная связь, щеголеватый солдат с усиками «под фюрера» печатал информацию радиоперехвата. Река протерла лениво и тягуче, словно наполненная ртутью. В красных песках другого берега Оскола белели меловые откосы, поросшие дубняком, липами и ясенем. Одна из «молниеносных девиц» в кокетливой пилотке выскочила на минутку из автобуса, набрав для Паулюса горсть недозрелой малины.
— Желаю угостить вас, — сказала она.
— Признателен, фрейлейн. Вот вы и ешьте, а я остерегаюсь нарушить привычную диету…
Почти с ужасом он заметил вошь, ползущую по воротнику мундира девицы, и при этом вспомнил последнюю встречу с разжалованным Эрихом Гепнером, тоже вшивым.
— Откуда у вас… это? — брезгливо спросил Паулюс.
— Ах, это? — не удивилась «молниеносная», снимая с себя насекомое и крутя его на пальцах, словно козявку. — Так у нас их полно еще со времен покойного фельдмаршала Рейхенау…
Внутрь «фольксвагена» забрался Ганс Фриче в черном мундире зондерфюрера СС (Паулюс отметил, что его зять в таком же звании). Артур Шмидт, явно заискивая перед помощником Геббельса, щелкнул зажигалкой с «чертиком», говоря любезно:
— Вы, зондерфюрер, забыли раскурить свою сигару, которую и таскаете во рту, как младенец пустышку.
— Благодарю, — задымил сигарою Фриче. — И когда же вы, шестая и непобедимая, рассчитываете ловить осетров в Волге?
— Вам бы потерпеть до двадцать пятого июля, когда мы врежемся в улицы Сталинграда с музыкою оркестров.
Фриче ответил, что его шеф обожает оперативность:
— Геббельс требует срочной информации. Я думаю, что стоит вам начать, и русские иваны устроят нам хороший концерт с музыкой «сталинских органов» и тарахтением «кофейных мельниц» под облаками… Серию репортажей о подвигах вашей армии доктор Геббельс хотел бы дать по радио в шумовом сопровождении боя. Не нужно получить от вас возгласы артиллерии, грохот танковых гусениц, торжествующие крики наших гренадеров, увидевших Волгу, и вопли отчаяния бегущих Иванов.
— Вы это получите, — обещал ему Шмидт.
— Послушайте, полковник, — недовольно выговорил ему Паулюс, — министр пропаганды, навестив наш ресторан, вправе заказывать любое блюдо, но вы еще не метрдотель, чтобы поставлять продукты для изготовления фронтовых деликатесов…
Заодно Паулюс предупредил Фриче: он хотел бы прослушать репортажи еще до того, как их запись будет выпущена в эфир.
— Во избежание возможных ошибок, — добавил тактично.
— Ошибок не будет, — заверил его Фриче. — Я устрою в эфире такой трам-тарарам, что радиослушатели просто ошалеют от восторга, а больше ничего и не требуется… У меня большой опыт пропагандиста, и потому успех обеспечен.
— Но это не мой успех, а… ваш!
— Какая разница, — захохотал Фриче…
Он выразил желание глянуть в оперативные карты, и Шмидт побострастно предложил ему свои услуги;
— Не могу ли помочь? Что вы ищите в излучине Дона?
— Станицу Цимлянскую, — отвечал Фриче. — Говорят, тамошнее вино сродни рейнскому, а доктор Геббельс просил меня привезти пару бутылок, чтобы сравнить его с французским шампанским.
Артур Шмидт, достаточно наблюдательный, заметил, что Паулюсу не по душе вся эта возня с Фриче, и, видя озабоченность командующего армией, он приписал ее предстоящему наступлению.
— Вы, очевидно, волнуетесь, как перед стартом?
— Я не спортсмен, — резко ответил Паулюс. — Ухаживайте за приятелем министра пропаганды. Я спокоен за свою армию, но меня волнует напряжение флангов. Барон Вейхс — человек крайне медлительный, а бравый Манштейн никак не может покончить с Севастополем, чтобы прикрыть меня и Листа с юга…
Паулюс машинально глянул на часы и кратко сказал:
— Можно начинать. Дирекция — на Сталинград…
* * *
Севастополь держался, а по специально проложенным и особо укрепленным железным дорогам в Крым двигались сразу 60(!) длинных составов. На мощных платформах немцы перевозили крупповское чудовище «Дора» — пушку-монстр с длиною ствола в 30 метров , в дуло которой можно было легко пропихнуть даже теленка. Высота лафета этой пушки равнялась трехэтажному дому. «Дора» готовилась для сокрушения «линии Мажино» во Франции, но там она не понадобилась. Теперь о ней вспомнил Манштейн, и паровозы, часто пыхтя, тянули ее под Севастополь — для последнего штурма русской твердыни.
Близились последние дни обороны. Даже враги признавали небывалое мужество наших бойцов и жителей города-героя. Манштейн писал:
«Плотной массой, ведя отдельных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они (русские) на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые, тоже с оружием в руках, воодушевляли бойцов…»
4 июля, обессиленный, Севастополь пал!
Об этом в тот же день помянули во всем мире, а радиовещание США откликнулось словами, которые полезно припомнить и в наши дни:
«Эта оборона (Севастополя) наглядно показала всему миру, что Гитлер не может выиграть войну. Он может еще добиться кое-каких местных успехов, но вынужден будет платить за них чрезмерно высокую цену. Оборона Севастополя является героической страницей всей мировой истории …»
Итак, за южные фланги Паулюс теперь мог быть спокоен, а что касается Воронежа, то он надеялся на танки Гота:
— Герман Гот нетерпелив, и Воронеж, считайте, наш …
Армия Паулюса уже рванулась в большую излучину Дона!
4. На рубежах — ближних и отдаленных
Что там, в излучине Дона, творится — этого не узнаешь.
Чуянов зачастую узнавал о положении на фронте от рядовых телефонисток области. Самый верный источник информации, когда в трубке слышался испуганный девичий голосок:
— Они уже здесь! Я осталась одна. Совсем одна, в окне вижу их танки с крестами. Все разбежались, а я не успела… Ой, ради Боженьки, скажите скорей, что мне делать?
Ответ из Сталинграда всегда был одинаков:
— Ломай коммутатор и — смывайся, пока жива…
Орел, Курск, Воронеж — как-то дико сознавать, что война пришла в эти края, где бытовал чисто русский язык, еще не испорченный всякими «измами», откуда вышли классики нашей литературы — Кольцов и Тургенев, Фет и Лесков, а теперь…
— Мать их всех за ногу! — в сердцах выругался Чуянов. — Доигрались сволочи до того, что никаких слов не сыщешь, как объяснить людям, где лево, где право, где зад, где перед… И не хочешь, да станешь материться, когда вспомнишь аксиомы от маршала Ворошилова, еще довоенные: «бить врага на чужой территории» и «ни одного вершка родной земли не отдадим…»
С женою Чуянов был еще откровеннее, и он сказал ей:
— Где же она, эта великая русская армия с ее суворовской «наукой побеждать»? Где, наконец, не липовые, а подлинные герои ? Куда все это подевалось, черт побери?
* * *
На этот риторический вопрос Чуянова наш передовой советский читатель уже готов назвать имена, осиянные вечным отблеском Сталинградской битвы, — Чуйкова, Еременко, Рокоссовского, Людникова, Родимцева, Шумилова, Москаленко, Баданова и прочих. Да, имена этих героев давно высечены на скрижалях руин Сталинграда, но еще не пришло время им появиться на этих страницах, да и сам город на Волге еще не дымился руинами…
Среди этих героев — не липовых, а настоящих! — невольно припоминается и Василий Тимофеевич Вольский, генерал бронетанковых войск. Он умер от горловой чахотки сразу после войны, и о нем понемногу забыли. А жаль! Этот человек в самый разгар битвы на Волге высказал особое мнение о событиях, не согласное с мнением самого Сталина и Генштаба, о чем не побоялся тогда же заявить открыто и честно, хотя рисковал не только карьерой, но рисковал и своей головой. С этим гордым человеком мы еще встретимся, читатель, но позже…
А сейчас Вольский командовал 4-м танковым корпусом, который в штабах именовали «четырехтанковым», ибо весь корпус насчитывал лишь четыре танка.
— Чем богаты, тем и рады, — иронизировал Вольский…
Ему доложили, что в штаб привели пленных итальянцев.
— Сопротивлялись? — вопрос естественный.
— Не, сами пришли. С листовкой. Вот с этой…
В листовке было сказано: «Итальянцы! Ваш народ никогда не забудет имен Кавура, Мадзини и Гарибальди, изгнавших немцев-австрийцев из вашей прекрасной страны… Дело, которому служили патриоты Италии, теперь поругано Муссолини, подчинившим Италию гитлеровскому режиму… Россия никак не может быть вашим врагом, она никогда не угрожала и не может угрожать вашей родине. Вы, итальянцы, и сами понимаете это…»
— Понимают. Давайте их сюда. Поговорим…
Вошел офицер, за ним и солдаты, явно робеющие от непривычности обстановки. Пленные ожидали чего угодно, вплоть до зуботычин, но были потрясены, когда русский генерал в измазанном комбинезоне танкиста заговорил с ними на их же родном языке.
— Компаньо! — радостно возвестил Вольский. — Мне, поверьте, лучше видеть вас живыми в плену, нежели мертвыми перед своим фронтом. — Его голос временами садился до шепота, и Вольский сам объяснил причину, показав на свое горло. — Застудил на маневрах в сибирской тайге. Крым уже не помогает, лечился у вас в Италии, а летом прошлого года собирался повторить курс лечения у ваших прекрасных ларингологов, но тут… Тут-то мы и стали врагами! Кстати, — спросил Василий Тимофеевич, — вы, компаньо, из какой дивизии? «Равенна» или «Сфорецка»?
— Нет, «Коссерия», — охотно отозвались пленные.
— Тогда… садитесь, — предложил Вольский. — Правильно сделали, что пришли сами и догонять вас было не надо. А что ваш Джованни Мессе? — спросил он офицера. — Уже в отставке?
— Нет. Стал заместителем у Итало Гарибольди. — Офицер Луиджи Комоло сказал, что Италия сыта Россией по горло. — Первый раз мы пошлялись в Москву вслед за Мюратом, королем неаполитанским, который потащил наших дедушек в Россию за своим зятем Наполеоном, и дедушки не вернулись к нашим бабушкам. Вторично мы сунулись вслед за англичанами под Севастополь — и после нас в Крыму осталось обширное кладбище. Теперь мы тащимся в обозах вермахта, а он завезет нас — неизвестно, но мы хотели бы умереть на своих постелях, а не в сугробах.
— Конечно! — рассудил Вольский, показав им листовку. — Тут не только Мадзини и Гарибальди, тут и другое. Более важное. Я ведь знаю, что итальянцы — народ храбрый. Но они хорошо сражаются, когда дело касается их Италии, а так… плохо!
— Мы хотим домой, — дружно заговорили солдаты. — В конце концов папа с мамой — это тоже не мусор. Если каждая русская тетка и спрячет нас в погреб, так каждый из нас до конца войны согласен быть ее страстным любовником. Лучше уж сидеть в погребе на картошке, нежели подыхать в немецком окопе.
Итальянцы достали письма своим родным и просили Вольского отправить их в Италию — через международный Красный Крест; плохо знакомые с географией России, они путали Дон с Волгою и, оказавшись плененными в излучине Дона, обычно начинали свои письма словами: «Привет с русской Волги!»
— Ну, до Волги-то еще далековато, — сказал им Вольский и, подумав, добавил. — Ну ладно. Письма отправим. Идите.
— Куда ? — обомлели итальянцы.
— Да обратно. Не станем же мы из-за семи человек гонять в тыл конвоира. Идите. Заодно расскажете о нашем разговоре своим товарищам. И возвращайтесь обратно со всеми солдатами…
…Италия имела свою судьбу, неповторимую: в 1945 году не быть ей в числе стран побежденных, а быть ее народу в числе победителей! Согласитесь, что такое случается редко…
* * *
Прошло не так уж много времени после трагедии армий Тимошенко, а к Сталинграду до самого июля (точнее, до осени) еще выбирались бойцы, вырвавшиеся из кольца окружения. Кто из-под Харькова, другие о Барвенкова. Одетые во что попало, грязные и оборваванные, озверевшие от крови пролитой и ненависти пережитой. Почти все окруженцы без каких бы то ни было документов. Теперь не знали, к кому обратиться, кто им поможет, а властей они тоже боялись, ибо окруженцев могли замести особисты как «немецких агентов» (такое не раз бывало). Шлялись они, как неприкаянные, по улицам Сталинграда, как-то стыдливо козыряя офицерам, словно чувствовали себя виноватыми. Смотреть на них страшно: вместо ремней на винтовках — фитили от керосиновых ламп, иные даже лошадей вывели, вместо поводьев — бинты санитарные. Народ молчаливый. Сплошь небритые. Голодные. И… все-таки даже счастливые от того, что снова среди своих.
— Вот такие люди, — говорил Воронин, — злее всех дерутся. Они такое пережили, что теперь стали бессмертны.
Чуянов был согласен с мнением НКВД, но предупредил, что к окруженцам налипает немало бессовестной сволочи.
— Дезертиры и трусы только называют себя окруженцами, чтобы скрываться поудобнее. Они тоже опасны — сплетнями, страхами, домыслами… Кстати, как тюрьма твоя? Очистилась?
— Да всех вывезли в Камышин. Стенки же в тюрьме — во такие. Так теперь ни одной камеры нет свободной.
— Как понимать, если всех вывезли?
— А так и понимай. В камеры столько народу набилось! От бомбежек прячутся. Скажи кому-либо — так не поверят.
— А ты что?
— А что я? Или сердца у меня нету. Ключи отдал от камер. Не откажешь ведь — с детьми многие. С бабками. Суп варят с макаронами. Такой дух в тюрьме…
Город-гигант просто распирало, так он был перенасыщен людьми. Тут и местные, тут и бежавшие с Дона, тут и наехавшие Бог знает откуда в поисках тишины и покоя, а теперь эти беженцы не знали, что им далее делать, куда бежать:
— Мы-то, грешные, думали, что на Волге-матушке покой сыщем, а вот заехали — из огня да прямо в полымя…
Сталинград постепенно огораживал себя противотанковыми рвами, сооружал блиндажи, копал траншеи. Все го отрыли 20 миллионов кубометров земли. Это легко пишется, еще легче говорится. А ты попробуй за один день десятки тысяч раз нагнуться и распрямить спину чтобы поднять и бросить наверх лопату тяжелой земли. Трудом домохозяек и пенсионеров Сталинград опоясал себя кушаком оборонительных сооружений общей длиною в 487 километров . Такое расстояние даже не пройти — нужно объезжать на поезде… И не все было гладко. Некоторые не выдерживали. Бомбежек, драной обуви, иссушающего зноя, жажды, наконец. Просили у врачей справку о болезни, чтобы вернуться домой. Сами женщины с рубежей и позвонили Чуянову:
— Мы тут вынесли резолюцию: врачам справок об освобождении по болезни не давать! Мы — коренные сталинградцы, здесь родились, здесь и помрем. Мы все соседи, и лучше врачей знаем, кто чем живет, кто больной, а кто дурака валяет…
Чуянов созвонился с тем же Ворониным.
— Слушай, эн-кэ-вэ-дэ. Тут дело такое. Бабы и сами разберутся, кто здоровый, а кто симулирует. Речь о другом. Изредка женщины видят, как бомбят Сталинград, и когда зарево стоит над городом от пожаров, тогда многие бегут в город, чтобы узнать — живы ли дети да старики ихние? Понял?
— Ну, понял… Нет, не понял, — сказал Воронин.
— Так пойми: таких не задерживать. Сердца материнские надо понять — ведь у каждой, считай, дите малое. Пока!..
4 июля генерал Герасименко застал Чуянова плачущим.
— Семеныч, да что случилось?
— Севастополь… Я ведь грешным делом думал, что хоть до Урала нас допрут, а Севастополь так и останется нашим. А теперь вот… в самый последний миг Севастополь к нам обратился, словно эстафету какую нам передал. Прочти, что сталинградские радисты от севастопольских только что приняли…
«Прощайте, товарищи, и отомстите за наш разбитый Севастополь», — так было записано. Герасименко развел руками:
— А в нашей избушке свои игрушки. Сейчас со станции Боево сообщили, что батальон немецкой пехоты через Дон переправился. Откуда он там взялся — сам бес не догадается. А под Воронежем еще гаже — оборона уже прорвана…
— Как жить дальше — не знаю, хоть вешайся! — Чуянов еще раз глянул на прощальные слова Севастополя. — Я уже подсчитал. Двести пятьдесят дней они там держались, а в Крымскую кампанию… не помнишь ли, сколько?
— Шут его знает. Забыл. Кажется, около года.
После Герасименко явился в обком К. В. Зубанов, главный инженер СталГРЭСа, и вид у него был плачевный.
— Что, опять зубы схватило?
— Хуже. На этот раз сердце.
— Лечись. Как с электроэнергией? Опять не хватает?
— Электроэнергии хватит, а моя давно кончилась.
— О чем ты, Константин Васильевич?
Тут инженер сознался, что влюблен напропалую, а в кого — догадаться можно, в ту самую дантистку Марию Терентьевну, что больной зуб ему вытащила по рекомендации самого же обкома.
— Уж я и так и эдак перед нею! — рассказывал Зубанов. — Согласен хоть все зубы тащить без наркоза, только бы она не так сурово на меня глядела…
— Ты что? Совсем уж рехнулся? — обозлился Чуянов. — Тут такая пальба идет, Севастополь пал, Воронеж, гляди, оставим, люди мечутся на пристанях и вокзалах, как угорелые, в городе жратва кончилась, по карточкам даже пайка не выкупить, а… ты? На кой черт ты мне все это рассказываешь?
Тут Зубанов взмолился:
— Помоги мне… хотя бы партийным авторитетом.
— Соображай! — наорал на него Чуянов. — У меня земля горит под ногами, а я как последний дурак поеду в Бекетовку, чтобы твою бабу уговаривать… сам поладишь! Лучше давай о делах СталГРЭСа, жалуются на заводах: почему энергии — кот наплакал, куда подевал ты ее? Или в подарок своей дантистке отдал?..
В самом паршивом настроении Чуянов только к ночи вернулся к себе домой на Краснопитерскую, и сразу раздался звонок телефона (видать, за ним следили). Жена сняла трубку.
— Тебя , — сказала она. — Послушай, что говорят…
Чуянов сам взял трубку телефона: «Слушаю!» В ответ не женский, а на этот раз мужской голос, крепкий и уверенный:
— Это ты, сволочь поганая?
— Допустим, что я — сволочь. Все равно слушаю.
— Не вздумай бросать трубку. Двадцать пятого ты и твое потомство, заодно со своей б… будете повешены на площади Павших Борцов и висеть вам, веревка не сгниет.
— Сам придумал? Или научили тебя?
— Я говорю сейчас от имени германского командования, и ты, гад, от нас уже не скроешься. У нас руки длинные…
«Но откуда, из какой норы — не первый уже раз вылезла эта гадина, добралась до телефона, чтобы брызнуть в нас ядовитой слюной?» — записал тогда же Чуянов.
Легли спать. Потолок спальни отсвечивал кровавыми отблесками, которые переливались волнами, а висюльки стеклянной люстры ярко вспыхивали, — это на Волге какой уже день полыхали нефтяные баржи, приплывшие из Астрахани.
— Долго ль они гореть будут? — спросила жена.
— Пока не сгорят. Спи. Мне завтра рано вставать…
Утром Чуянов вдруг стал безумно хохотать.
— Господи, с чего развеселился? — удивилась жена.
— Вспомнил, инженер Зубанов, знаешь такого? Так вот он, дурень такой, вдруг влюбился. Нашел же время…
По Краснопитерской улице гнали большое стадо свиней, потом в сторону пристаней пылило громадное стадо коров, и каждая, мотая головой, названивала в свой колокольчик, — эвакуировали колхозную скотину из дальних станиц Задонщины. Старики толкали перед собой визгливые тачки с домашним скарбом, женщины, босые и загорелые, тащили на себе неряшливые узлы. Много навидался Чуянов таких вот несчастных беженцев, но запомнился ему мальчик в коротких штанишках с ширинками сзади и спереди, еще маленький, нес он на себе кошку, и эта кошка обнимала ребенка за шею лапами, доверчивая, покорная, испуганная…
Сталинград начинал новый трудовой и боевой. До 23 августа будет еще много таких вот дней.
* * *
В борьбе с идеологией противника итальянским фашистам скажем прямо, не очень-то везло: в одном из донских городков они сокрушили изваяния усатого колхозника с колхозницей в широком сарафане, решив, что эти статуи изображают великого Сталина и его любимую жену — Сталиничче.
В развитии же боевой стратегии Итало Гарибольди оказался плохим помощником Паулюсу, который указывал союзникам двигаться в междуречье Донца и Дона, чтобы окружить там советские войска. Но русские из котла вывернулись, а когда Гарибольди замкнул мнимое кольцо окружения, то выяснилось, что внутри его — пусто! Немцы же сочли, что мешок завязан, они окружили его, но в «плен» им достались сами же… итальянцы.
— Почему так мало русских пленных? — спрашивал Шмидт.
На это Паулюс не мог ничего ответить. Промолчал.
— Придерживайте макаронников на флангах, — указал он Шмидту, — а на главных направлениях их не выпускать…
Опять эти фланги! Паулюс не знал (да и не мог знать), что эти вот фланги его непобедимой 6-й армии, которые он доверил опять-таки итальянцам, позже и станут тем слабым звеном в линии фронта, который прорвут русские… Конечно, будем справедливы, трагически сложилась судьба 6-й армии в котле, но еще ужаснее будет судьба итальянцев!
5. На закате и на восходе
Борис Михайлович Шапошников лишь 44 дня не дожил до нашей победы, и Москва проводила его в последний путь артиллерийским салютом, который правомерно вписался в симфонию викториальных залпов, слышимых во всем мире. Даже покинув Генштаб, маршал не оставлял службу; больной, он еще трудился, и в затруднительных случаях Сталин иногда говорил:
— Вот здесь нам необходимо выслушать, чему учит Школа Шапошникова , передовая школа нашей военной науки…
Впрочем, эта «передовая школа» сложилась не вчера и не сегодня, она вела родословную еще из царской Академии Генштаба, из которой — задолго до революции — и вышел Борис Михайлович, последний из могикан «проклятого прошлого». Дух маршала Шапошникова, казалось, еще долго витал в кабинетах Генерального штаба, а Василевский не спешил занять его пост, оставаясь лишь «временно исполняющим обязанности». Николаю Федоровичу Ватутину, своему заместителю, он говорил:
— Возможно, я принял бы этот пост, не задумываясь, если бы ранее не видел, как работает Борис Михайлович. Наблюдая за ним, я понял, какая Генштабу нужна голова, какая четкая организованность. Меня это и смущает! Пойми, Николай Федорович, я просто чувствую свою неготовность.
Ватутин по-дружески советовал Василевскому все же не отказываться от того кресла, что покинуто Шапошниковым:
— Тем более карьеристы уже стали выдвигать Тимошенко, а сам Тимошенко подсаживает на место Шапошникова генерала Голикова, что до войны был начальником разведки Генштаба, а ныне Брянским фронтом командует… плохо командует!
— День ото дня не легче, — вздохнул Василевский.
Положение нашей страны с каждым днем осложнялось. Весною турецкий премьер-министр Сарадж-оглу получил призыв из Берлина: мол, именно сейчас «была бы весьма ценной (для Германии) концентрация турецких сил на русской границе» — возле Кавказа. В ответ Сарадж-оглу заявил, что он «страстно желает уничтожения России. Уничтожение России, — сообщил он, — является подвигом фюрера, равный которому может быть совершен раз в столетие… Русская проблема может быть решена Германией только в том случае, если будет убита половина всех живущих на свете русских!».
Об этом изуверском желании нашего ближайшего соседа стало известно в Москве.
— Будет скверно, — сказал Василевский Ватутину, — если танки Клейста нажмут от Ростова, а турки ударят снизу по Еревану. Теперь нам следует учитывать и угрозу со стороны Турции.
В газетах, доселе утешавших читателей, появились фразы, на которые не каждый мог обратить внимание: «Над родиной снова сгущаются грозные тучи…» Александр Михайлович Василевский навестил больного маршала Шапошникова, поделился своими заботами. Стратегические резервы Ставки были израсходованы еще весной в тех операциях, которые успеха не принесли. Между ними возник разговор, в чем-то схожий с тем, который однажды вели меж собою Чуянов и генерал Герасименко.
— Наверное, — сказал Василевский, — история этой войны будет писаться после войны и только со дня наших побед. Но где они, эти громкие победы, способные переломить хребет врагу?
Борис Михайлович приподнялся с дивана, взволнованный:
— Такая мысль, голубчик, есть предательство по отношению к тем мертвым, которые не сложили оружия еще в сорок первом. Которые кладут свои жизни на фронте и поныне Легче всего вырвать мрачные страницы из летописи наших поражений, чтобы сразу обрести задиристый и бравурный тон. Но мы, — утверждал Шапошников, — не имеем морального права украшать свои же просчеты яркими павлиньими перьями. Чем откровеннее признаем перед народом свою растерянность в сорок первом, свои трагические ошибки в ту весну, тем больше пользы для будущего…
21 июня юго-западное направление — наконец-то! — было ликвидировано, как изжившее себя, а маршал Тимошенко из главнокомандующего превратился в обычного командующего фронтом. Ставка все энергичнее вмешивалась в дела войны через своих представителей, чтобы вовремя одернуть командующих, если они ошибались, а иногда эти представители только мешали командующим, которые считали московских посланцев не помощниками, а… надзирателями. Сталин, наверное, догадывался о закулисной возне среди генералов, но в Генштабе он не желал видеть маршала Тимошенко, тем более не хотел видеть и генерала Голикова, — он твердо придерживался кандидатуры Василевского, которому достаточно доверял, видя в нем ученика из «школы Шапошникова».
Сталин умел быть внимателен к людям, когда эти люди становились ему необходимы. В один из дней он спросил:
— Товарищ Василевский, почему вы забыли родного отца?
— Я не забыл, — невольно покраснел Василевский. — Но когда меня принимали в партию большевиков меня обязали прервать с ним всякие отношения, как со служителем культа.
— Вот это нехорошо, товарищ Василевский! — наставительно декларировал Сталин, и был прав. — Мне известно, — продолжал он, — что ваш бедный отец-священник влачит в провинции самое жалкое существование, едва не побирается от голода. А вы, вполне обеспеченный человек, ничем старику не помогли… Это очень нехорошо. Вы должны взять отца к себе в Москву.
— Слушаюсь, товарищ Сталин! — отвечал Василевский.
— Да не меня надо слушаться. Самому надо соображать…
После такой «личной заботы товарища Сталина» товарищу Сталину было неудобно отказывать в чем-то, и 26 июня Василевский официально был утвержден в должности начальника Генерального штаба. Поздравляя его, Шапошников предупредил:
— Чем выше положение человека, тем труднее ему учитывать чужое мнение, тем недоступнее становится он для критики. Помните, голубчик: это очень опасная ситуация! А впрочем… я рад за вас: начинается ваше личное противостояние Францу Гальдеру, он сейчас, кажется, на закате, а вы сейчас на восходе…
…Как уже догадался читатель, я в своем изложении событий несколько отступил назад во времени. Вейхс еще не угрожал Воронежу, и, смею думать, наши люди никакой угрозы для Воронежа не ощущали. Почему? Да хотя бы по одному примеру. Именно в эти дни некий майор Андрианов — наконец-то! — получил ордер на комнату в коммунальной квартире того же… Воронежа. Жилищный вопрос, как видите, не угасал даже не вдалеке от линии фронта, и счастливый майор по случаю новоселья устроил хорошую выпивку с друзьями из местного гарнизона. Пройдет лишь несколько дней, ордер на комнату майору Андрианову уже никогда не понадобится, а сам обладатель ордера, прописанный Воронеже, вольется в ту великую армию, о которой после войны будут писать как о «без вести пропавших».
Судьба Воронежа была решена, и в трагизме это судьбы повинны те люди, которых, выражаясь как бы помягче, хотелось бы называть хотя бы «растяпами».
* * *
Время — самый безжалостный фильтр нашей истории: одних он бережет в народной памяти, других оставляет догнивать в «отходах прошлого», о котором нежелательно вспоминать, но вся беда в том, что часто — очень часто! — судьбы многих тысяч людей зависели от неугодных персон, облаченных, как принято у нас говорить, «доверием партии и правительства». Мне думается: мирные дни, наверное, для того и даются армии, чтобы она из своих неисчерпаемых недр выдвигала все самое разумное и достойное, а все негодное отсеяла, словно мусор. Но при Сталине так никогда не делалось. О человеке судили не по его качествам, а лишь по страницам его анкеты.
Я не сомневаюсь, что анкета была «чистая» у генерала М. А Парсегова — знойного кавказца с аккуратными усиками; но анкетой да внешностью все и кончалось. С первого года войны он как-то органично сроднился с мощной стихией роковых отступлений и так привык к «драпу», что считал его делом почти неизбежным. Отвоевал он себе легковушку с шофером, в машине спал и ел, там у него вся канцелярия, есть тарелка и стакан в красивом подстаканнике, предметы мужского туалета, и потому выглядел Парсегов, не в пример прочим фронтовикам, даже молодцевато. С утра побреется, не выходя из машины, поправит перед зеркальцем усики, после чего, освеженный одеколоном, мог и покомандовать.
— Товарищ боец! — окликнул он из машины. — Почему у вас походка неровная? Советский боец должен ходить… знаете как?
— Да учили… на строевой подготовке.
— Вот так и ходите.
— Да я, товарищ генерал, третий дён не жрамши, из окружения вышел, ноги едва волочу. Мне бы в санчасть какую…
— Все равно! Подбородок держать выше… по уставу. А вы, товарищ боец, над кем смеетесь?
— Веселый человек дольше живет. Вот и смеюсь.
— Ладно. А то я думал, вы надо мной издеваетесь…
Генерал П. В. Севастьянов, хорошо знавший Парсегова, писал о нем так: «Никакое окружение, никакое бегство, никакие несчастья и неудачи так не деморализуют солдата, как бездарное руководство!» Парсегов командовал 40-й армией Брянского фронта, а фронтом командовал небезызвестный Филипп Иванович Голиков. И кого Голиков больше боялся — Сталина или немцев? Этот вопрос историками еще до конца не выяснен.
Если же Филиппа Ивановича спрашивали о талантах Парсегова, он отвечал:
— Собранный товарищ! Не как другие, что даже забывают побриться в окопах. Одна в нем беда: на связь не выходит, и никогда не знаешь, где его армия находится…
Из этих слов видно, что хорош был Парсегов, умело прятавший свою армию от начальства, но еще лучше был и сам командующий фронтом, не знавший, где искать эту армию! Но однажды Голиков все-таки обнаружил «сороковую» в селе Хорол. Голиков сказал Парсегову, что из портфеля майора Рейхеля известно: барон Вейхс, торчавший у Курска, должен бы наступать двадцать второго июня, но…
— Не мычит, не телится! Наверное, фрицы поняли, что мы их «рассекретили», вот и отложили свое наступление по плану «Блау». А ты, Михаил Артемьевич, ручаешься за свою оборону?
— Мышь не проскочит, — был получен бравый ответ.
(Между тем, Брянский фронт имеет всего лишь до пяти орудийных стволов на один километр — совсем не густо).
— Тут и слона протащить можно, — сомневался Голиков
— У меня и слон не пройдет! — заверил его Парсегов…
Затишье в обороне всегда обманчиво, а враг начинает казаться надоедливой, примелькавшейся деталью военного пейзажа — не больше того. 28 июня барон Вейхс нанес мощный удар со стороны Курска, а через два дня 6-я армия Паулюса стала наступать южнее — и началось! Противник верно нащупал слабину в стыке Брянского фронта Голикова с фронтом армий маршала Тимошенко; танки армии Генриха Гота врезались в эту мягкую и ослабленную подвздошину двух наших фронтов, разорвав их широкой кровоточащей раной. Прямо на Воронеж двигалась моторизованная дивизия «Великая Германия»… А на улицах Хорола — дым столбом! Жгли и рвали штабные документы, волокли в грузовики тяжеленные сейфы, девушки-солдатки метались, не зная, куда сунуть пишущие машинки, а жители села плакали:
— Господи! Да на кого ж вы нас покидаете?..
В этой панике один лишь Парсегов оставался невозмутим и, сидя в своей легковушке, он… догадываетесь, он брился! Тут его и застал Севастьянов с поручением от Голикова.
— Командующий Брянским фронтом просит вас срочно выйти на связь с его штабом. Обстановка сейчас такова, что…
Парсегов, глядя в зеркальце, прифрантил свои усики:
— А зачем спешить, дарагой? Самое малое, через час я сам буду уже в Воронеже, тогда и пагаварю с товарищем Голиковым… Можно ехать. Жми прямо на Воронеж! — велел Парсегов шоферу, и его легковушка первой рванула с места…
Отдадим должное девственной «чистоте» анкетных данных о генерале Парсегове, — этот Аника-воин постыдно бросил свою армию (и вся его 40-я армия позже целиком погибла, попав в железные клещи танковых окружений), а ведь на эту армию рассчитывали в штабах, воронежцы меж собой говорили:
— Нам-то что? До нас фрицы не дойдут, эвон, мне Марья-соседка сказывала, что есть такая армия Парсегова… у-у, силища!
Воронеж считался еще тыловым городом и жил, украшенный бодрыми призывами, обычной трудовой жизнью: «Работать с удвоенной энергией! Все для фронта, все для победы!» В скверах играли детишки, на улицах бабки торговали семечками. Привычно названивали трамваи, фронтовикам странно было видеть машины «скорой помощи» — кому-то вдруг захотелось поболеть, но никого из жителей это не удивляло. Никто не думал, что враг способен дойти до их города. По вечерам работал цирк с новой программой, люди навещали театр, все шло своим чередом…
Голиков засел в Воронеже, а связь с войсками фронта отсутствовала. На путях вокзала попыхивал паром одинокий бронепоезд, и там еще пели: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути…» В гарнизоне числились тыловые войска НКВД с винтовками, один батальон был поголовно вооружен только наганами, кавалеристы оттачивали клинки. А на окраинах Воронежа уже образовывался фронт, и зенитчики ПВО все чаще опускали стволы орудий к земле, нащупывая в прицелах кресты немецких танков. Гот не считался с потерями; на Мокром Лугу он сам загонял свои танки в топь, на их башни, торчавшие из воды, он стелил мосты и по этим настилам быстро пропускал другие танки и пехоту…
Голиков воевать не умел, а теперь поздно учиться!
30 июня Сталин прочел ему суровую нотацию по связи ВЧ, и мне думается, что Верховный лучше Голикова понимал обстановку.
— Запомните хорошенько, — поучал Сталин. — У вас теперь на фронте более тысячи танков, у противника же нет и пятисот… Все зависит только от вашего умения использовать свои силы и управлять ими по-человечески. Поняли?
Сталин был прав только «по-человечески». Танков у Голикова было достаточно, но… каких? Разрушающие мосты, неповоротливые KB, которые сами же танкисты прозвали «бронированными комодами», и устаревшие Т-60, по выражению солдат, — «трактора с пушками», а новых Т-34 не было. Конечно, при умении можно было задержать немцев и этими танками. Но Голиков не знал, как это делать. Пошел один танк — подбили, посылает второй — тоже, шлет третий — и третий сгорел. Наверное, он проспал то время, когда во всем мире победила доктрина массового применения танков, а он, командующий фронтом, примерял боевые качества танкистов к возможностям пехоты…
4 июля на Брянском фронте появился Василевский.
— Второй год воюете, а так и не научились, — отругал он Голикова. — Танки отдельно. Пехота сама по себе. Авиация только наблюдает. Ставка пошла на крайность, давая вам из резерва пятую танковую армию генерала Лизюкова. Поторопитесь! Шестая армия Паулюса выходит (или уже вышла) к Каменке, возникает угроза нашим тылам не только у вас, но и у Тимошенко. Будьте любезны использовать танковую армию Лизюкова как надо — ударом от Ельца, дабы сорвать переправу противнику через Дон… Надеюсь, вам все ясно?
Филипп Иванович почтительно соглашался:
— Все ясно. Благодарю. Все сделаю. Как велели…
И — сделал: погубил 5-ю танковую армию Лизюкова, пустив ее в гущу сражения кое-как, даже не догадавшись, что танковая армия нуждается в поддержке артиллерии и авиации.
Стало ясно, что Голикова на фронте держать нельзя.
— А что делать с генерал-майором Парсеговым? — спросил Василевский. — Ведь его даже на передовой никогда не видели.
— Мерзавец! — отвечал Сталин. — Нацепил звезду Героя и теперь думает, что ему сам черт не брат… Отправьте его куда-нибудь далеко, так, чтобы я о нем даже и не слышал.
Парсегова тут же отправили во Владивосток, где к его услугам было множество парикмахерских. Не жалко мне ни Голикова, ни этого Парсегова — жалко мне жителей Воронежа, которые еще не знали, что их ждет. До слез жалко и того майора Андрианова, который получил ордер на комнату в коммунальной квартире Воронежа! Сталин, как это ни странно, по-прежнему считал, что немцы вторично стремятся захватить Москву и на этот раз через Воронеж; когда же он поймет, что совсем не Москва является целью нового «блицкрига», тогда будет поздно…
О, тупость мышления, взятого в колодки собственного величия! Подобная тупость пределов не имеет…
* * *
Фельдмаршал фон Бок из Полтавы подгонял Вейхса, положение которого под Воронежем напоминало «топтание на месте».
Гитлер же в «Вольфшанце» бесновался перед Кейтелем:
— Что там делают мои генералы? Они теряют драгоценные дни. Я ведь уже говорил, что, если Воронеж не сдается, его можно оставить в покое. Мне надоели разговоры о флангах! Главное сейчас: четвертая танковая армия Гота! Чтобы она скатывала дивизии Тимошенко вдоль правого берега Дона, как скатывают паршивые ковры… Это ваши слова, Кейтель! Не отпирайтесь. А глупый барон Вейхс застрял под Воронежем, мешая Готу выполнять самую насущную задачу плана «Блау» — выходу в излучину Дона…
Лишь 7 июля барон Вейхс информировал Паулюса:
— Можете меня поздравить, — с явным облегчением сказал он. — Наши танки ворвались в Воронеж, когда по улицам еще бегали трамваи, а на перекрестках дежурили милиционеры. Это надо было видеть, как разбегались очереди мужчин от газетных киосков, женщины и дети — от ларьков с квасом и мороженым…
Вейхс приврал! Воронеж был захвачен им лишь частично: в наших руках оставались предместья Отрожка и Придача. Начались уличные бои, красноармейцы удерживали Университетский район на северных окраина города. Битва за Воронеж продолжалась, и не скоро ей кончиться Но теперь 4-я танковая армия Гота (хотя и с опозданием) стала лавиной сползать вниз вдоль берегов Дона, и тогда все армии Тимошенко, действительно начали скручиваться в упругий рулон, быстро оттесняемый к югу
От Ельца до Таганрога возник сплошной грохочущий фронт!
Тимошенко отводил свои армии на восток…
Сталин давно разуверился в полководческих талантах маршала, но, очевидно, держал Тимошенко на фронте по соображениям политического порядка, дабы не давать лишнего повода для злорадства геббельсовской пропаганде.
— Надо искать ему замену, — не раз говорил он.
К тому времени два наших видных полководца, Рокоссовский и Еременко, с трудом выправлялись после тяжких ранений. Рокоссовский с осколком в спине не выдержал и «бежал» из госпиталя, не долечившись, а генерал Андрей Иванович Еременко передвигался на костылях, и когда их оставит — неизвестно.
Сталин, когда Василевский вернулся в Москву, сказал, что пришло время менять командование. Обстановка требует образования Воронежского фронта — самостоятельного, а Брянский фронт можно смело доверить К. К Рокоссовскому.
— Надеюсь, никто возражать не станет. Гораздо сложнее с вопросом, кого назначить на Воронежский фронт?..
Генерал Ватутин, заместитель Василевского, встал:
— Товарищ Сталин, назначьте меня.
— Вас? — удивился Сталин, вскинув брови. — Ладно, — сказал он, помедлив, — при условии, если товарищ Василевский не станет возражать, теряя такого хорошего работника Генштаба. — Сталин походил вдоль стола и сказал Василевскому: — А товарищ Голиков пусть послужит заместителем у товарища Ватутина, чтобы пострадал своим самолюбием… Так ему и надо!
Рокоссовскому предстояло командовать Брянским фронтом. Он появился в кабинете Сталина — стройный, подтянутый. Сталин обошел генерала вокруг, словно любуясь его гвардейскою статью.
— Ну, как? Еще побаливает? — слегка тронул за спину.
Ответ последовал — с юмором:
— Осколок застрял возле позвоночника. Но, если верить медицине, доля железа организму даже необходима.
— Тогда посидите, — сказал Сталин, и в кабинет вызвали генерала Козлова, разжалованного после поражения под Керчью. — Товарищ Козлов, — мягко начал Сталин, мне говорят, вы сильно обиделись, будто мы вас наказали несправедливо.
Рокоссовский переживал за Козлова: хватит ли мужества отвечать правду или согласится со всем, что с ним сделали?
— Да, — смело сказал Козлов, — ваш личный представитель Мехлис мешал командованию. Своим партийным авторитетом он пытался подавить меня, командующего, а мои распоряжения оспаривал и высмеивал. Издевался! Если бы не вмешательство Мехлиса, думаю, не Манштейн, а мы были бы сейчас в Севастополе, а сам Манштейн купался бы в море со всей своей армией.
— Но кто командовал фронтом… вы? — спросил Сталин.
— Я
— Связь со Ставкой у вас по ВЧ была?
— Была.
— Вы докладывали, что вам мешают командовать?
— А как мне жаловаться на вашего же представителя? Сравните меня, генерала Козлова, и этого Льва… Захаровича.
— Вот за то, что боялись позвонить мне и потребовать удаления Мехлиса, в результате запороли все наши дела в Крыму, вот за это вы и наказаны народом, партией и мною. Идите.
«Я, — писал Рокоссовский, — вышел из кабинета Верховного Главнокомандующего с мыслью, что мне, человеку, недавно принявшему фронт, был дан предметный урок …»
Прибыв на фронт, Константин Константинович встретил немало боевых друзей; он был всегда любим людьми.
* * *
Рокоссовский завел себе кошку, она нежилась под настольной лампой, гуляя по оперативным картам, я командующий фронтом карандашом трогал ее усы, ласково приговаривая:
— Ну, что, бродяга? Валяешься? Хорошо тебе? А мне вот плохо. Там, наверху, виноватых ищут. А я даже прощаю тех, кто провинился. У нас ведь как? Снимут одного и пришлют другого, еще больше виноватого. Разжалуют кого-либо, а взамен присылают другого, тоже разжалованного. Одни — вверх, другие — вниз. А вот тебе всегда хорошо. Никакой ответственности…
Глубокой ночью солдат, лежавший в дозоре близ передовой, был удивлен, когда к нему тихо-тихо подошел командующий фронтом и прилег рядом:
— Оставь мне свою винтовку, а сам иди. Скажи, чтобы покормили. И выспись, братец. А я до утра побуду здесь, вместо тебя. Иди, иди. Я не шучу. Я ведь тоже солдат …
Не сразу, а постепенно устранялись негодные фанфароны, с трудом оформлялась армия, которой суждено было пройти через неслыханные поражения и уверовать в таланты своих полководцев, имена которых останутся святы в нашей ущемленной грехами памяти.
— А что нам делать с товарищем Тимошенко? — спрашивал Сталин начальника Генштаба. — Уж очень он теперь старается, чтобы Гот или Паулюс не посадили его в новый котел. Не потому ли и убегает так быстро, что за ним и на танке не угонишься?
6 июля Василевский появился в сильном волнении.
— Что случилось? — встревоженно спросил его Сталин.
— Страшно сказать: маршал Тимошенко пропал.
— Как? — воскликнул Сталин. — Опять пропал?..
«Пропавший» маршал — это, пожалуй, гораздо опаснее, нежели «пропавший» самолет майора Рейхеля с его портфелем… Тут всякие мысли приходят в голову; недавно сдался в плен генерал Власов, но маршал-то весомее генерала.
— Найти! — указал Сталин. — Живого или мертвого!
6. На фронте без перемен
Жизнь продолжалась — даже сейчас, когда до смерти-то два шага и при донских станицах и городках, опрятных хаток и полустанков, расцвели как ни в чем не бывало прекрасные и стыдливые мальвы. Было отчасти странно входить в степные поселки, где вечерами еще работали клубы, дикими и непонятными казались шумливые очереди в кассу за билетами, чтобы еще — в сотый раз! — посмотреть дурашливую комедию «Волга-Волга», на пыльных площадках полустанков еще танцевали под всхлипы гармошек солдаты с местными девушками, тут же влюблялись и расставались, чтобы больше никогда не увидеться.
Но иногда в теплых лиричных сумерках слышалось:
— Кончай кину показывать! Будет вам вальсы раскручивать! Иль не слыхали, что пора всем драла от фрица давать?
— Да брось, — отвечали жители. — Лучше почитай сводки в газетах: на фронте без перемен, и до нас беда не дойдет.
— А ты вон тамотко пыль-то видишь ли?
— И что? Небось опять стада издали к Волге погнали.
— Не стада! Через час танки здесь будут…
Вольфрам Рихтгофен имел 1400 самолетов — больше половины всей авиации, которую Геринг держал на Восточном фронте, и вся эта армада, убивающая и завывающая беспощадная и наглая, вихрилась теперь над нашими армиями в степи, где человеку негде укрыться от бомб, где ты всегда останешься виден. А на речных переправах — ад кромешный, все там перемешалось: автоколонны, коровы, медсанбаты, танки, повозки, лошади, пожитки беженцев и фургоны со снарядами… ад!
Алан Кларк, хороший английский историк, писал, что немецкие танковые колонны угадывались даже за 60 километров — это была чудовищная масса пыли, которая перемешивалась с дымом и пеплом горящих деревень. И это грозное облако, застилая горизонт, за ночь не успевало рассеяться над степью, а утром оно становилось еще плотнее, смешиваясь с новою тучей пыли. Зрелище гигантской армады танков и техники было, конечно, впечатляющим, и сами же немцы были не в силах сдержать своего восторга перед той могучей силой, что надвигалась в большую излучину Дона; войска вермахта двигались даже не по дорогам, которых почти не было, а катились прямо по гладкой степи (и фотография этой армады, которая лежит передо мною, действительно ужасает!). «Это строй римских легионеров, — писали немецкие корреспонденты, — перенесенный в XX век для укрощения монголо-славянских орд…»
Берлинская «Фелькишер Беобахтер» сообщала читателям, что русские отходят даже без выстрела (во что верить не следует): «Нам весьма непривычно углубляться в эти широкие степи, не наблюдая признаков противника…»
Гитлер в эти дни ликовал, и Кейтель сказал Йодлю — как бы между прочим:
— В состоянии подобной эйфории наш фюрер был, кажется, только после падения Парижа… Заметили?
— Возможно, — согласился Йодль. — Из абвера, кстати, поступило сообщение: в Кремле сейчас настроение подобное тому, что было летом прошлого года. Следует ожидать, что Сталин начнет изыскивать побочные контакты для нового Брест-Литовского мира с нами… на любых, конечно, условиях, лишь бы ему не потерять своего положения в кабинетах Кремля!
Верно, Гитлер так радовался успехам своего вермахта, что, сменив гнев на милость, сам же позвонил в Цоссен.
— Теперь с русскими покончено! — известил он Гальдера.
— Похоже, так оно и есть, — скупо отвечал Франц Гальдер. Не согласный с фюрером во многом, сам он уже заметил, что центр армии Паулюса уподобился клину, достаточно острому по форме, и что по мере продвижения к Волге его фланги слабеют, обнажаясь.
Об этом он из Цоссена и доложил фюреру.
— Перестаньте о флангах! — прервал разговор Гитлер…
Это были как раз те дни, когда Черчилль собирался лететь в Москву, он пил гораздо больше, чем можно пить в его годы, и часто вызывал нашего посла Майского, чтобы спросить его с некоторой ехидцей: когда же «дядюшка Джо» (Сталин) обратится к Гитлеру с просьбой о заключении мира?
Удивляться тут нечему: британская разведка работала, и работала она хорошо, зная о том, о чем мы не догадывались…
* * *
Кажется, войскам армии Тимошенко готовились клещи: от Воронежа скатывалась танковая армия Гота, южнее их подпирала мощная армия Паулюса, грозя окружением. Вокруг же, на множество верст, куда ни посмотри, до небес вздымались гигантские столбы черного дыма — горели деревни, фермы, хутора, МТС. Горизонт утопал в непробиваемой пылище, которая не успевала рассеяться за ночь: это двигались танки с пехотой, это брели стада и толпы беженцев с котомками за плечами. Сверху людей обжигало палящее солнце, пикировали на них бомбардировщики. Пыль, гарь, сухота, безводье… Ветеранам 1941 года невольно вспоминались прошлогодние дороги былых отступлений.
— Нет, — сравнивали они, — в этот раз хуже …
И — страшнее: «Тогда (в 1941 году) было меньше войск, техники. Тогда мы знали: захваченная врасплох страна там, в тылу, только еще собирает силы. А сейчас — вот он, прошлогодний тыл, вот силы, накопленные за год…»
Сколько горьких, злых, справедливых слов сказано в те дни о неоткрывшемся втором фронте!
— А, мать их всех! — ругались солдаты. — Начерчеллили планов — и никаких рузвельтатов . Мы за всю Европу, за всю Америку должны тута, в энтом пекле, за всех отбрыкиваться…
Но Тимошенко не терял присущей ему бодрости.
— В этот раз, — авторитетно заверял он, — мы не доставим удовольствия немцам и в окружение не влипнем. Лучше сохраним силы в планомерных отходах на вторые и третьи позиции…
Начиная с 6 июля Ставка не раз теряла маршала Тимошенко, который сторонился всяких переговоров. Вел он себя несколько странно, избегая общения со своим штабом, на вопросы даже не отвечал. 7 июля его штаб покинул Россошь и перебрался в Калач (Воронежский), но Тимошенко почему-то остался в Гороховке.
— Вы поезжайте, — сказал он, — а я… Гуров со мною! Вот я с Гуровым тут посижу да подумаю.
Странное решение! Штаб терял связь с армией, а он, командующий армией, сознательно отрывался от своего штаба. По этой причине Москва получала из штаба Тимошенко одни сведения, а Семен Константинович иногда заверял Москву, что причин для волнений нет. Потом маршал вообще пропал, в Гороховке его не было, а куда он делся — никому неизвестно.
Василевский в эти дни даже почернел от переживаний, безжалостно обруганный Сталиным за то, что Генштаб потерял контроль над положением фронта, самого ответственного сейчас. Операторы сбились с ног, отыскивая пропавшего маршала, между собой делились сомнениями, что с Тимошенко это не первый раз:
— Помните, под Харьковом… он тоже «пропадал». Весь день просидел в кустах или под мостом. А где сидит сейчас?
Генерал Бодин, посланный на фронт как представитель Генштаба, докладывал в Москву: «Его (маршала) отсутствие не позволяет проводить неотложные мероприятия… у меня есть определенные опасения, что это дело добром не кончится!»
Никита Сергеевич Хрущев высказал то, о чем другие боялись и думать:
— Слушайте, а не драпанул ли он к немцам? Ведь за такие дела, как наши, ему головой отвечать придется…
«Появилась, знаете, у меня такая мысль, — вспоминал позже Хрущев. — Хотел ее отогнать, но она сама нанизывалась на факты… Естественно, зародились нехорошие мысли». И лишь 9 июля раздался в штабах почти торжествующий вопль:
— Нашли ! Жив наш маршал… вот он, объявился!
Тимошенко, как всегда, выглядел бодро, он вел себя так, будто ничего особенного не случилось, а на все вопросы отмалчивался. Вместе с ним был и Гуров, который шел, низко опустив голову, словно опозоренный. От маршала ответа не дождешься, а потому все наседали с вопросами на Гурова:
— Так где же вы были? Объясни наконец.
— Идите все к черту! — мрачно отвечал Гуров.
Газеты бестрепетно возвещали прежнее: «На фронте без перемен», и потому люди интуитивно чувствовали:
— Без перемен — значит, погано. Боятся сказать правду…
* * *
Жарища — невыносимая! Пить хотелось. Пить бы и пить, блаженно закрыв глаза, а воды не было. В редких хуторах мигом вычерпывали колодцы, оставляя их сухими, и, подкинув на спинах тощие вещевые мешки, далее, отступая. На бахчах оставались дозревать арбузы и дыни, а громадные подсолнухи склоняли над плетнями царственно-венчанные головы, словно навеки вечные прощались с уходящим. Избавляясь от лишнего, солдаты шли босиком по обочинам шляхов, распоясавшись, офицеры покрикивали:
— Любую хурду бросай, а саперные лопатки береги… еще окапываться. И не раз! Не век же драпать. Остановимся!
«А где?» Среди молоденьких лейтенантов, только что вышедших из военных училищ и сразу угодивших в сатанинское пекло такой вот войны-войнищи, не умолкали мучительные разногласия:
— Не понимаю! Нас со школы учили: самое главное — человек, а техника уж потом. Этим же гадам, Клейсту иль Готу, плевать на человека. У них другое в башке: броня, скорость, огонь. И вот результат: я, гордый человек, царь природы, и что есть мочи драпаю от этой самой вонючей техники.
— Так чего ж ты, Володя, не донимаешь?
— Не укладывается в голове, как это мы, поставив человека выше техники, отступаем до Волги, а немцы жмут нас во всю ивановскую. Несгибаемые большевики — так внушали нам с детства — а живем полусогнутыми — под бомбами.
— Да, ребята, кто прав? Я согласен: железо само по себе воевать не умеет. Но бьют-то нас все-таки железом и моторами.
— Наверное, Игорек, кой-чего у нас не хватает.
— Мозгов не хватает!
— К мозгам нужна и техника. Вот у меня сестренка. Еще сопливая, а уже по восемнадцать часов у станка вкалывает Куску хлеба радуется. Я верю, что в тылу люди мучаются не напрасно. Будет и у нас железяк всяких… во как, выше головы! Только бы до Волги живым дойти, а пировать станем на Шпрее.
— Оптимист… голова садовая! Давай вот, топай… Да, мы опять отступали.
И до чего же обидно было нашим бойцам, когда они, едва живые после изнурительных маршей, позволивших оторваться от противника, потом разворачивали газеты и читали написанное: «На Юго-Западном фронте без перемен». Армия Тимошенко изнемогала, вся в крови и бинтах, а Москва еще боялась сказать народу горькую правду-матку, и солдаты злобно рвали газеты на самокрутки?
— Во, заврались! Кажись, нам живьем надо самого Гитлера поймать да яйца ему отрезать, тогда увидят они перемены…
В немецких штабах были крайне удивлены: при таком страшном напоре и скорости продвижения русских пленных было «не как в сорок первом», ничтожно мало. Из этого следовал вывод: наши рядовые бойцы даже в самых тяжких условиях, все-таки научились сражаться, а вот их военачальники еще не овладели искусством войны… Самолеты эскадрилий Рихтгофена поливали колонны отступающих из пулеметов, сыпали на них пачки осколочных бомб, иногда с неба слышался такой страшный свист и вой, что даже отчаянные храбрецы вжимались в землю. Не сразу сообразили — что к чему, и скоро в колоннах хохотали:
— Надо же! На испуг нас берут. Колесами…
Да, для устрашения отступающих немцы иногда сбрасывали колеса тракторов из МТС, которые — в силу своей конфигурации — издавали почти немыслимые завывания.
— Хоть бы Волга-то поскорее, — говорили усталые.
— А на что она тебе, Волга-то?
— Говорят, там и остановимся. Чтобы ни шагу назад.
— Это какой же умник тебе сказывал?
— Да начальник станции. Дядька начитанный. Умный…
Соседей зорко оглядывали — не затесался ли кто чужой? В такое-то время всякое бывает. Заметили одного вихрастого, у которого в петлицах гимнастерки что-то непонятное было.
— Это что у тебя там обозначено?
— В петлицах-то? Так это лира. Признак музыкальности.
— А сам-то ты, выходит, на лире играл?
— На трубе!
— А где труба-то твоя?
— Спрашиваешь! Скоро нам всем труба будет.
— Не каркай.
— А что?
— А то, что и по мордасам получить можешь…
Отступая, они еще и сражались (и немцы, угодившие плен, на допросах признавались: «Это был ад… мы никак не ожидали встретить от вас, отступающих, такое сопротивление!»).
* * *
— Так где же вы были? — продолжали пытать Гурова.
— А откуда я знаю? — огрызался тот, явно смущенный…
Наконец сам Н. С. Хрущев спросил его об этом же.
— Маршал, — отвечал Гуров, — отыскал стог сена, забрался в него, бурку свою разложил и говорит мне: давай, мол, Кузьма Акимыч, посидим здесь, чтобы не приставали.
— Что? — удивился Хрущев. — Так и сидели в стогу?
— Да нет. Иной раз, завидев отступающих, маршал вылезал из сена и показывал, куда идти, где сворачивать.
— О чем хоть думали-то… в сено забравшись?
— Маршал сознался, что сил нет появляться в штабе, говоря: «А что там делать? Хозяин станет по ВЧ мытарить, а что я скажу в оправдание? Войск нет. От меня потребуют жесткой обороны, для которой сил нет…» Вот так и сидели!
— Хорошо, хоть выбрались из этого стога, — сказал Хрущев. — А то ведь, знаешь, что я тут думал? И не один я.
— Догадываюсь, — согласился Гуров…
Только 9 июля Тимошенко удалось залучить в Калач — к аппарату Бодо, и в разговоре со Сталиным маршал открыто и честно признал свое бессилие и слабость своих войск:
— Над моей армией нависла серьезная опасность!
Вот с этого и надо было начинать, а не отсиживаться на куче сена, разложив под собой героическую бурку эпохи гражданской войны. Язык не повернется, чтобы в этом случае винить и Гурова в трусости (вспомните, как он на танке вырвался из котла под Барвенково — человек смелый!). Но появление Тимошенко в Калаче ничего не изменило; его фронт разваливался, маршал жаловался Сталину, что без подкреплений и авиации ни о каком отпоре противнику и речи быть не может:
— Враг очень силен, товарищ Сталин.
— А это я и без вас знаю, — грубо отвечал Сталин…
Наверное, в давних боях за Царицын маршал чем-то угодил Сталину, ибо даже сейчас голова его уцелела. Тимошенко продолжал оставаться героем штурма «Линии Маннергейма». Но в Москве наконец-то поняли, что события на южных фронтах стали неуправляемы, а Семен Константинович, кажется, и не был способен управлять ими. В одном маршал был прав: немцы хотели его войска взять в кольцо окружения, а он из этого кольца выкручивался, отступая все дальше и дальше… А куда же дальше?
Южный фронт генерала Р. Я. Малиновского рискованно склонялся к Ростову, а войска Тимошенко отжимались Паулюсом за Дон, а в рядах наших отступающих бойцов все чаще можно было услышать;
— Что ж это, земляки? Весной хотели из Днепра напиться, а сами уже за Дон тащимся. Гляди, так и до Волги недалече.
— А мы что? Мы люди маленькие. Скажут остановиться, мы и остановимся. Начальству виднее.
— Да где ты видел-то начальство? Лучше в газетку вчерашнюю глянь: на фронте у нас без перемен. Вот и получается, что там, наверху, ни хрена еще толком не знают…
Понятно, что им, рядовым труженикам военной страды, не дано было знать, что «там, наверху» — в ночь на 12 июля — родилась грозная директива Ставки № 170495: «Прочно занять Сталинградский рубеж западнее реки Дон и ни при каких условиях не допустить прорыва противника восточнее этого рубежа в сторону Сталинграда», — солдаты не знали, что в Ставке уже смирились с тем, что немцы займут излучину Дона, и им, солдатам, будет разрешено переплывать на восточный берег тихого Дона.
В ту же ночь фельдмаршал фон Бок, сильно встревоженный, вышел на связь с Гитлером и стал доказывать, что пока Вейхс не разделался с Воронежем, дальнейшее продвижение к Сталинграду и на Кавказ опасно для вермахта?
— Мой фюрер, не забывайте о флангах, — напоминал он.
— Вы мне более не нужны! — отвечал Гитлер, взбешенный тем немаловажным обстоятельством, что какой-то там фельдмаршал осмеливается учить его, бывшего ефрейтора…
Гитлер спустил директиву для Вейхса, словно предчувствуя, что сказано в директиве Сталина: «Не позволить противнику отступить на восток и уйти через реку Дон…»
Вейхс никогда не был заметным дарованием в рядах пышного генералитета немецкого вермахта, и он, человек умный, с оттенком грусти известил Паулюса, что именно отсутствие талантов выдвинуло его на высокий пост в такой напряженный момент, Гитлер, по словам барона, сделал из него удобную пешку, а сам остался ферзем, от которого зависит и участь пешки.
— Фюрер запретил русским выкупаться в Доне, приказав задушить их в дуге большой излучины, но — посмейтесь, Паулюс, вместе со мною! — русские уже переправляются на левый берег Дона, никак не желая оставаться в пространстве этой излучины…
Немецкие «панцеры» генерала Альфреда Виттерсгейма уже ворвались в мирную Ольховатку, танкисты 14-го танкового корпуса, столь обожаемые Паулюсом за дерзость, мигом растащили с маслобоен все сливки и сметану — котелками и касками, они алчно заглатывали масло целыми кусками; отсюда оставалось всего 30 километров до Россоши, жители которой еще не подозревали о близости врага, наивно полагая, что они живут в глубоком тылу. Паулюс давно не улыбался, усталый.
— Барон, — сообщил он Вейхсу, — ожесточение русских накалено до такой степени, что моя пехота отказывается ходить в атаки без танков, а танкисты Виттерсгейма прежде запрашивают прикрытие с воздуха…
В тот же день, до предела насыщенный событиями, московские газеты вдруг перестали вспоминать Юго-Западный фронт, который был упразднен. Но газеты, подвластные жесткой цензуре, стыдливо умалчивали о том, что взамен исчезнувшему фронту. Сталин распорядился образовать новый — Сталинградский , командовать которым оставался опять-таки маршал Тимошенко. Довольный, что так случилось и больше не придется метаться по пыльным шляхам, маршал, поникший от неудач, выбрался из легковой машины на площади Павших Борцов…
— Ах, как здесь хорошо! — сказал Семен Константинович. — И словно нет войны. Даже, глядите, за пивом очередь… Сколько тут цветов! Ах, до чего ж я люблю запах цветущих акаций…
В газетах, чтобы людей не пугать раньше времени, Сталинград еще не поминался, писалось о том, что наши войска планомерно выравнивают свои позиции (отступая, добавлю я от себя), комсомолец Петухов двумя последними гранатами уничтожил два вражеских танка, прядильщицы Ивановского полотняно-ткацкого комбината взяли на себя новые социалистические обязательства по случаю геройских побед Красной Армии, а концерты латышской певицы Эльфриды Пакуль проходят с неизменным успехом… Ну, так и надо!
А в Сталинграде — правда — благоухали акации.
* * *
В густой пылище утопали фронтовые грузовики, сплошь забитые ранеными, в кузовах иных машин везли солдат, столь утомленных, что они не просыпались даже от толчков на ухабах. Какие там дороги? Иногда шоферы гнали свои машины прямо по целине, а взрывы бомб или снарядов на поле подсолнухов осыпали бойцов тучами перезрелых семечек… Пыль, пыль, пыль — почти как по Киплингу! Эта пыль лежала на людях словно плотное бархатное одеяло. Пить хотелось, только бы — пить …
— Немцы-то где? — вопрошали встречные.
— Да, эвон… недалече отсель. Подпирают.
— Много их, паскудов?
— Бить — не перебить. На всех хватит. Диву даешься! Откуда в Германии столько мужиков здоровых набрали? Кажись бы, уж после Москвы — все ясно, наша взяла, ан нет… Хреново!
К отступающим присоединялись жители, обычно те, что помоложе, шли женщины с детьми, и солдаты брали детей на руки, а с матерями, шагавшими рядком, судачили о том о сем, беседуя житейски. В деревнях и станицах собаки уже не лаяли — привыкли к тому, что теперь много-много людей ходит туда и обратно, какой-нибудь Шарик или Жучка иногда для приличия гавкнет из-под забора, но тут же и хвостом завиляет, словцо извиняясь за собачью невежливость…
Хлебные поля наливались колосом, который в этом году отряхнет свои зерна не в ладонь человека. Сады обогащались плодами, которые деревья роняли на землю, никого больше не радуя. И сама добрая мать-земля заново наполняла пустые колодцы водою, которую выпьют злые пришельцы. Однажды солдаты видели лошадь с оторванной ногой; стоя на трех ногах, она продолжала хрумкать травой. Потом заржала — прощалась.
Плакать хотелось вчерашним мужикам от этого ржанья:
— Ну, ладно уж мы… человеки! Притерпелись. А вот животная… Разве объяснишь, за што ей такие муки выпали?
Жарища была — выше сорока градусов. Полуголые танкисты армии Гота высовывались из люков своих машин, на их груди качались уродливые амулеты, сулившие им бессмертие. Немецкая пехота шагала в нижних рубашках и трусиках. Завидев колонны отступающих русских, немцы горланили еще издали — почти дружелюбно, совсем без воинственной злобы:
— Эй, рус, ком, ком… рус, капут! Сдавайс…
Нет, теперь-то русские им не сдавались. А скоро отступающие войска Тимошенко заметили, что не вровень с ними, а навстречу им, израненным и оборванным, двигаются новые войска — бодрые, уверенные, отлично обмундированные, идущие не шаляй-валяй, а чуть ли не в ногу — празднично. Словно не ведая того, что впереди ожидает враг, они смело шли наперекор общему потоку — на запад. Как тут не удивишься?
— Эй, куда вас понесло, братцы? Там уже немец.
— Ты и драпай дальше. А мы знаем, куда нам надо.
— Откуда вы, славяне? Какая армия?
— Шестьдесят вторая … непромокаемая, несгораемая! Скоро на позициях приметили нового генерала. Еще молодой, курчавый, резкий в движениях, недоверчивый к докладам штабов, этот генерал так и лез под огонь, чтобы все видеть своими глазами. При этом — даже в окопах — не снимал белых перчаток.
— Кто такой? — спрашивали вокруг с большим недоверием.
— Чуйков … наш генерал. Из Китая приехал.
— А зовут-то его как?
— Как и Чапаева — Василием Ивановичем.
— Чего это он в белых перчатках, как на параде?
— А бес его знает. Видать, фасон держит…
7.«Степь да степь кругом…»
Знойный день миновал. Чуть-чуть повеяло едва замет, ной прохладой. Поникла в полях пшеница, картофельные поля давно были вытоптаны инфантерией, размолоты гусеницами танков. В вечерней духоте жалобно попискивали степные суслики.
— А мы, кажется, заблудились, — сказал фельдфебель Гапке.
Его взвод с утра рыскал по бездорожью, отыскивая хутор Поливаново, два вездехода марки «Кюбель» тарахтели за ним, иногда посвечивая фарами.
Гапке вдруг широко раздул ноздри:
— Клянусь, здесь кто-то жарит печенку.
Тут и все солдаты принюхались:
— Наверняка кукурузники… жрут, как всегда.
Заглянули в ближайший овраг — точно! Там горел костерок, а румынские солдаты жарили на вертеле печенку.
— Эй, откуда у вас такая роскошь? — окликнули их немцы.
— Лошадиная!
Румыния всегда славилась кавалерией.
— А на чем поедешь, если лошадь осталась без печенки?
— На ваших грузовиках. Мы уважаем немецкую технику.
— Вы слишком сообразительны! — хохотал Гапке. — Техника не для вас. Впрочем, гони сюда печенку, пока она не подгорела, а мы устроим вам плацкартные места в нашем «Кюбеле» без брезента.
Кроме румын, хорватов и мадьяр, к 6-й немецкой армии примыкали, почти растворяясь в ней, войска итальянской армии. Паулюс не торопил Гарибольди, держа союзников подальше от передовой, не слишком-то им поверяя. Неизвестно, кто распустил слух, будто немцы скоро вооружат итальянцев новейшим электропулеметом.
— Кто их знает? — сомневались итальянские солдаты. — От немцев всего ожидать можно. Если они даже изобрели такой пулемет, то нам-то что с него?
— Интересно, — тут же возник вопрос, — если пулемет электрический, то куда включать штепсель в этой унылой степи?
— Как куда? Втыкай себе под хвост, и тогда пулемет будет работать безотказно, а каждая фасолина попадет в цель.
— Не так-то все просто, компаньо, — шутили другие. — Если вставить вилку кому-то из нас, ничего не получится. Пулемет стреляет только в том случае, если получит энергию из задницы верного члена нашей партии… Лучше всего его включать сразу под хвост нашего славного Итало Гарибольди!
(Когда эти итальянцы попадали к нам в плен, пришлось поломать головы в наших штабах, ибо из их показаний было трудно понять, о каком «новом секретном оружии» идет речь и где главный источник питания этого пулемета?)
Положение вермахта считалось устойчивым, в победе над Россией немцы не сомневались. Личные вещи убитых сразу отсылали родным (на память), личный жетон убитого квартирмейстеры переламывали пополам, одну половину его бросали в могилу, а вторую часть жетона отсылали в штаб — для документации. Даже в моменты фронтовых кризисов немецкие солдаты регулярно получали отпуска домой; в Кракове им выдавались особые «подарки фюрера». Это были стандартные пакеты, в которых к награбленному в России добавлялись продукты из ограбленной Европы: бутылки французского вина, масло, кофе, банка сардин, шоколад, сигареты «Юно» и прочее. Являясь домой, фронтовик невольно ощущал себя в голодной семье неким «сеньором войны».
Впрочем, солдат мог получить отпуск и вне всякой очереди. Для этого надо было подбить русский разведывательный самолет У-2 или По-2, которые немцы Прозвали «кафемюлле» (что значит «кофейная мельница»).
Как только по ночам над позициями начинал стрекотать эти тихоходные самолетики, все немцы хватались за оружие:
— А, русс фрейлен! Проклятые русс фанер…
Эти самолеты вели русские летчицы, и они, как бы зависая в воздухе, точно клали свой груз, способные, казалось, попасть бомбой даже в печную трубу. Вот немцы и палили! Чтобы получить Железный крест или недельный отпуск с «подарком фюрера».
А кому, спрашивается, не хочется побывать дома?
* * *
6-я армия Паулюса впервые применила новое оружие вермахта — шестиствольные минометы, поражающие сразу большие площади, наносившие большой урон нашей пехоте.
— Прекрасно! — восторгался Шмидт. — Силы нашей армии мощной глыбой нависли над армиями Тимошенко, и маршал спешно отводит полуокруженные войска, боясь их полного оцепления.
— Вот это-то и плохо, что он их отводит. Фюрер заинтересован не в отступлении, а в уничтожении живой силы противника… Кто сейчас торчит перед нашим носом? — спросил Паулюс.
— Двадцать первая армия русских.
— Я не о номере — кто ею командует?
— Генерал-майор Гордов.
— Не знаю такого. Видер! Дайте о нем аннотацию.
Иоахим Видер доложил:
— В. Н. Гордов десять лет назад окончил Военную академию, был на штабной работе, отличается неуживчивым характером, авторитетом среди подчиненных не пользуется.
— Шмидт, где сейчас «ролики» четырнадцатого корпуса?
— Виттерсгейм в движении к югу от нас.
— Разверните его на меня, — велел Паулюс. — И пусть молодчага Виттерсгейм ударит по Гордову так, чтобы этот неуживчивый генерал потерял последние остатки авторитета…
21-я армия была раздавлена. Гордов первым отвел войска на левый, восточный берег Дона, когда другие наши армии еще сражались на западном (в предполье большой излучины Дона). В два часа русской тягостной ночи Берлин отмечает полночь; в это время по радио комментировались дневные сводки ОКБ, звучали радостные фанфары, диктор предупреждал: «Внимание, говорит Ганс Фриче, все слушайте Ганса Фриче…» Фриче заполнял эфир трескучей буффонадой о подвигах 6-й армии Паулюса.
— …мне трудно говорить, — притворно задыхался он, как астматик, у своего микрофона (будто и в самом деле не мог дышать от дыма сражения). — Моя радиоустановка не успевает следовать за бросками армии, преисполненной пламенной верой в своего народного полководца. Поверьте, они едины — и сам Паулюс, и его гренадеры, каждым шагом утверждающие в русских степях могущество непобедимых идей нашего великого фюрера. Враг растерян. Враг бежит. Враг мечется в безумных поисках выхода…
Снова шли письма от Лины Кнаупфф из далекого Касселя, и это было Паулюсу даже неприятно, а из Берлина звонила жена, милая Коко, поверившая в радиоболтовню Ганса Фриче. В эти же дни капитан танковых войск вермахта Эрнст-Александр Паулюс вернулся из отпуска, который провел в Предеале, на климатическом курорте Румынии. Вид отца поразил его — лицо Паулюса, дочерна загоревшее, словно обугленное, было покрыто множеством морщин, напоминая старинный фарфор в мельчайших трещинах. Изложив домашние сплетни о бухарестских родичах, сын просил:
— Мой румынский дядя хотел бы, папа, чтобы ты позаботился о румынских частях, которые снабжаются хуже наших… А правда ли, что мы в этом году можем зимовать в Месопотамии, где тоже богатые нефтепромыслы?
Паулюс нехотя отвечал сыну, что до мосульской нефти в Ираке еще далеко, а нефтяные вышки Майкопа откроются перед вермахтом сразу за Ростовом, который еще предстоит взять:
— Впрочем, это забота не моей армии, а фельдмаршала Листа и Клейста с Готом, а мне предстоит брать Сталинград, после чего мы спустимся вниз по Волге — До Астрахани. Включи радиоприемник, пришло время послушать истерику Ганса Фриче…
Это случилось 3 июля, когда Ганс Фриче умолк.
— Странно, — сказал Паулюс. — Странно и даже любопытно бы знать, кто из великих мира сего заткнул его пробкой…
Через день советская авиация АДД (авиация даль него действия) сожгла склады горючего, упрятанные на дне глубоких степных оврагов, и Паулюс потерял присущее ему хладнокровие.
— Это уже из области мистики! — воскликнул он досадуя. — Какое роковое совпадение! Я застрял с пустыми баками в тот же день, когда опустели баки и танков Роммеля, выскочившего к оазисам Эль-Аламейна. Но, лишив меня горючего, русские обеспечили себе тактическую передышку…
5 июля его армия форсировала Оскол, а Шмидт напомнил:
— По планам «Блау» нам осталось лишь двадцать дней до взятия Сталинграда, но, кажется, мы в сроках опаздываем.
— Шмидт! — обозлился Паулюс, сорвавшись в крик. — Играйте со своим чертиком, а не листайте календарь, словно невеста, высчитывающая, сколько ей осталось дней до блаженной свадьбы…
7 июля вся мощная группировка армий «Юг» была разделена Гитлером по двум стратегическим направлениям: группа армий «А» фельдмаршала Листа была нацелена точно на Кавказ, а группа армий «Б», подчиненная Вейхсу, устремлялась в большую излучину Дона; 6-я армия Паулюса стала главным колющим оружием, она стала как бы тяжеловесным молотом, чтобы ударом в сердцевину великой русской реки разрушить кровообращение всей экономики России, чтобы пресечь все связи России с югом…
Общее руководство группами «А» и «Б» взял на себя Гитлер!
Паулюс в это время находился в Миллерово, зловонном от гниения трупов, и он уже начинал понимать то, что понял и Франц Гальдер в тихом уютном Цоссене, благоухающем резедою (оба они мыслили одинаковыми стереотипами). Но беспокойство Паулюса усилилось, когда его навестили командиры дивизий — Отто Корфес, Мартин Латтман, Арно фон Ленски, и по лицам этих генералов он догадался, что предстоит серьезный разговор.
Начал его, как и следовало ожидать, доктор Корфес, сначала заговоривший о бескрайних русских пространствах:
— Оставим в покое прах Клаузевица, писавшего о непреодолимости этих пространств. Сейчас нас волнует другое. Шестая армия, по сути дела, путешествует к Сталинграду, образуя перед собой коридор, она растянулась на десятки километров по безводной степи, а после того, как фюрер отнял у нас танковую армию Гота, мы остались лишь с танковым корпусом Виттерсгейма.
(Об этом же тревожился Гальдер, примерно так мыслил и сам Паулюс, но сейчас ему надо было оправдать… Гитлера.)
— Пожалуй, — отвечал Паулюс, — это верное решение фюрера, ибо Гот и Клейст в нижнем течении Дона скорее разберутся с Ростовом, открывающим путь к Майкопу.
Неожиданно не Корфес, а Мартин Латтман стал возражать
— Любопытно! — заметил он. — Где и когда наш фюрер постиг алгебру научной стратегии? Не тогда ли, когда в пивной Мюнхена его боевые соратники дрались пивными бутылками?
Паулюс резко ответил, что хорошо знает Гитлера:
— Я не согласен с вами: да, фюрер мало знаком с законами стратегии, но ее суть ощущает интуитивно, а все неприятности на фронте предчувствовал заранее, как женщина приближение менструаций.
…Обладай Паулюс подобной же интуицией, и он уже тогда понял бы, что его навестили не просто сомневающиеся генералы, которых легко уговорить, нет, его навестили люди, думающие иначе, нежели думал он, и эта разница в мыслях скажется не сегодня, а когда он будет сидеть в подвале сталинградского универмага, а Шмидт станет щелкать перед ним своим чертиком…
Командиры дивизий переглянулись. Отто Корфес прекратил этот бесполезный разговор, поднимаясь, чтобы уйти, и вдруг он припомнил строчки Гейне, которые и произнес… для кого?
— Но берегитесь — беда грозит. Еще не лопнуло, но уже трещит.
— Это вы… мне ? — вскинулся Паулюс.
— Не персонально! Это я сказал для всех нас …
На тыловую станцию Россошь прибыл эшелон с советскими офицерами из резерва, чтобы пополнить кадры полков и дивизий. Все выглядело мирно. Внезапно ворвались немецкие танки с мотопехотой, пассажиры были перебиты в вагонах. Конечно, война слишком жестокая вещь. Но, согласитесь, все-таки страшно видеть целый состав пассажирских вагонов, в которых — сплошь мертвые.
— Пленных не было, — браво доложил Виттерсгейм. — Они, правда, отстреливались… по танкам… из пистолетов!
Паулюс почти любовно оглядел стройную фигуру Виттерсгейма, который с каждым днем нравился ему все больше, и он, кажется, уже тогда предчувствовал, что именно ему, командиру 14-го танкового корпуса, предстоит решить, если не главные, то, во всяком случае, исторические задачи у Сталинграда. Но верный своим принципам — быть со всеми одинаково любезным, он ничем не выдал своего фавора к Виттерсгейму.
— Вызовите похоронную команду, — велел Паулюс квартирмейстеру. — Все-таки это не солдаты, а …офицеры. Надо освободить эшелон от трупов, ибо у нас как раз не хватает вагонов.
При этом он сам недоумевал: как мог этот состав залететь в тыл его армии, неужели русские совсем не понимают обстановки?
— Понимают, — ответил Кутченбах, — но у них есть такой наркомат путей сообщения, который никогда не ладит с Генштабом.
Генерал Эрих Фельгиббель, давний приятель Паулюса, держал на русском фронте сразу шесть полков радиоперехвата и радиоразведки; дешифровкой ведали ученые Геттингенского университета, видные математики и лучшие немецкие шахматисты. Круглосуточно прослушивая эфир, пеленгаторы фиксировали все переговоры русских, даже ничтожные (иногда нашему радисту стоило лишь коснуться ключа, как он сразу был засечен). В один из дней Фельгиббель навестил Паулюса, поздравив его с победами.
Но сразу же заговорил о расчленении армии «Юг»:
— Этим мы показываем русским детскую «буку» на растопыренных пальцах… Испугаем ли мы их сейчас? Нет ли у тебя, дружище, предчувствия неотвратимой катастрофы?
— Оно было у меня в прошлом году, — ответил Паулюс.
Ответ друга был слишком уклончивым; неудовлетворенный им, Фельгиббель увлекал Паулюса в опасные дебри политики:
— Фриди, как ты относишься к словам Сталина, что Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское — остаются… Не кажется ли тебе, что Сталин выразил то, что может многое перевернуть в сознании немцев? На меня, признаюсь, эти слова произвели сильное впечатление.
Ответ Паулюса был для Фельгиббеля неожиданным:
— Мне думается, что этими словами Сталин признал свое поражение, давая понять Гитлеру, что, если он отодвинет вермахт на старые границы, то Германия останется им не тронута.
— Странный ответ! — причмокнул Фельгиббель. — Но в чем-то, дружище, ты и прав, наверное. Неужели Сталин давал нашему фюреру аванс, как бы обещая, что он не собирается уничтожать диктатуру нашей партии, а задача московского Кремля — только в том, чтобы изгнать нас, немцев, с захваченных русских земель?..
Паулюс догадался, куда заманивает его приятель, но эти «дебри» политики всегда опасны, а потому он поспешно извинился, что никак не может уделить другу должного внимания:
— Я слишком занят. Прости и не обижайся… Голова разламывается от грохота телетайпов, глаза устали видеть постоянно прыгающую зеленую «лягушку»…
Все чаще он покидал раскаленный от солнца «фольксваген»; мучимый жаждой и жарищей, не раз просил раскинуть в степи палатку, в тени которой и разрешал оперативные вопросы. Его наблюдательный адъютант писал: «Критически мыслящий генштабист, Паулюс не мог не заметить слабости и авантюризма гитлеровской стратегии Его это тревожило, терзало… он надеялся, — писал В. Адам, — исправить упущения и просчеты верховного командования… Только бы он не сдал физически — выглядел он больным».
— Шмидт, — спрашивал Паулюс, — не кажется ли , что наши удары предназначены для колебания атмосферы?
— Главная цель — окружение и уничтожение живых масс противника — остается недостижима. Русские увертываются от ударов, как опытные боксеры на ринге. Я объезжал поля битвы — где же убитые? Их ничтожно мало. Я пролетал над дорогами — где колонны пленных? Их не видно. Я надеялся видеть брошенного оружия. Но всю технику, даже тяжелую, русские утаскивают за собой…
Шмидт поиграл зажигалкой:
— Все равно — мы наступаем. Мы наступаем, а не они! Я уже вижу себя в зимнем Бейруте — ожидающим когда от Нила приползут танки вашего приятеля Роммеля…
Паулюса обескуражил доклад Вольфрама Рихтгофена:
— В моих самолетах разорвана монтажная система, некоторые приборы выведены из строя. Но это не диверсия, а работа степных грызунов, которые по ночам шарят в кабинах пилотов, словно воришки в карманах у спящих пьяниц.
Одновременно стал жаловаться и Виттерсгейм:
— Мои танки застряли у станицы Боковской. Суслики и степные мыши шныряют внутри танков, как в погребах, пожирая изоляцию, выводят из строя электротехнику. Легче всего поставить часовых. Но не могу же я, черт побери, ставить у каждого танка по дюжине мышеловок.
Паулюс обмахнул пот с изможденного худого лица.
— Тоже… партизаны! — сказал он. — Кажется, сама русская природа ополчилась против нас. Даже грызуны делают все, чтобы мы околели здесь, как проклятые… Что ты здесь околачиваешься? — при всех накричал он на своего сына. — Марш на фронт! Твое место сейчас — впереди батальона…
Паулюс сознательно не держал сына при себе, дабы в армии не возникало излишних пересудов и нареканий. Он не мог знать, что потери Красной Армии в это лето были меньшими по сравнению с потерями вермахта (узнай Паулюс об этом, он был бы безмерно удивлен). Но он сам чувствовал, что его потери чересчур велики. Квартирмейстер 6-й армии фон Кутновски, пожимая плечами, известил Паулюса, что в его армии, когда-то полнокровной, сейчас едва насчитывается 170 тысяч человек, хотя в некоторых ротах осталось по 40 — 60 солдат:
— Остальные убиты или госпитализированы.
Это настолько потрясло Паулюса, что он срочно вызвал к себе главного врача армии, профессора и генерала Ренольди, отчего такая убыль в моих войсках?
— Дело не только в убитых и раненых. Солдаты валятся на маршах, как снопы. Резко подскочил процент сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных поносов. Наконец, появились первые признаки степной туляремии от невольного общения со степными грызунами. К этому добавьте легионы мерзостных вшей, и картина, достойная кисти гениального Менцеля, будет дописана до конца…
Вскоре стало известно, что Ганс Фриче крепко запил.
— В такую-то жарищу? — удивился Паулюс.
Одетый в безрукавку, он сидел за столом, вкопанным в землю, степной ветер загибал края оперативных карт, обгрызанных ночью степными мышами. Он машинально пронаблюдал, как в сторону Дона проплыли эскадрильи Рихтгофена, отягощенные многотонным бомбовым грузом, чтобы обрушить его на крыши Сталинграда. За этим же столом зять Кутченбах деревянной ложкой поглощал из тарелки простоквашу.
— Была причина напиться, — сообщил он. — Фриче так влетело от Геббельса, что у него искры из глаз посыпались…
Оказывается, комментируя сводки ОКБ, Фриче перехвалил Паулюса как блистательного полководца. Геббельс устроил Фриче скандал: признавая заслуги Паулюса, никогда нельзя забывать, что Гитлер — полководец, и он лучше своих генералов знает секрет победы, а генералы лишь исполнители его предначертаний. Паулюсу вся эта история была крайне неприятна, и он поспешил избавить армию от Фриче, который и упорхнул в Берлин — извиняться перед шефом. Вскоре после этого случая заявился при штабе генерал Гейтц, который, памятуя о своей службе в военных трибуналах, не потерял прокурорской бдительности.
— Я глубоко уважаю вашего друга Фельгиббеля, но вчера в разговоре с генералом Гартманом он позволил Себе нескромные выражения о нашем фюрере. В условиях фронта это… опасно!
Паулюс поручился за своего друга:
— Стоит ли заострять углы, и без того острые? Геббельс простил Ганса Фриче за нескромность в отношении меня, а мы простим Фельгиббеля за нескромность отношении фюрера.
В большой излучине Дона сопротивление русских резко возросло, темпы наступления 6-й армии явно замедлились.
— Мы выбиваемся из графиков, — забеспокоился Паулюс. — Неужели двадцать пятого июля не сделаем русским «буль-буль» в их родимой Волге?
— Я предлагаю, — сказал Шмидт, — за счет ослабления флангов усилить нажим в центре общей дирекции на Сталинград.
— Пожалуй, разумно… хотя и рискованно! Наши боевые порядки уже потеряли оперативную плотность. Дивизии стали расползаться по фронту, как перегнившие тряпки — по ниточке.
В пустотах брешей на картах Шмидт аккуратно вписывал утешительные слова; «Боевая группа заполнения разрыва». Но этих «боевых групп» никто не видел… Паулюс сомневался:
— Кого мы обманываем, Шмидт? Неужели себя?
— Скорее в ОКВ… надо же давать Кейтелю хороший материал для сводок по радио. Пусть там знают: фронт прочен.
— Не слишком ли это авантюрно, Шмидт?
— Ax! Чем только мой «чертик» не шутит…
Солдаты рвали из рук друг друга карты:
— Где тут станица Цимлянская? Говорят, там такие шипучие вина, как шампанское, потом два дня — волшебная отрыжка…
* * *
12 июля танки вломились в Миллерово. Паулюс прибыл в этот городишко, когда в нем царил полный разгром. Почти все дома разбиты, заборы обрушены. На улицах полно раздавленных всмятку людей, попавших под гусеницы «панцеров». Кутченбаха при виде такого зрелища мучительно вырвало. Паулюс сказал:
— Все танками… опять танки! Что бы я без них делал? А все-таки генерал Альфред Виттерсгейм большой молодец…
Город гудел от пожаров. Автоматчики разбивали витрины магазинов, выкидывая на улицы груды белья и одежды, потом ковырялись в них, отбирая для себя все лучшее. Полковник Адам уже приготовил для Паулюса более или менее приличную квартиру в доме, не пострадавшем от огня и разбоя. Кутченбах стал хлопотать у самовара. Паулюс морщился:
— Черт, что-то мне было надо, но я забыл… А! Вспомнил. Я не закончил разговора с Фельгиббелем, где он?
Выяснилось, что лучший приятель улетел в Берлин, даже не соизволив с ним попрощаться. Паулюсу это было неприятно:
— Эрих всегда был так вежлив, так любезен…
Только потом (год спустя) Паулюс догадался, что Фельгиббель посещал его 6-ю армию по причинам более серьезным, нежели техническая проверка станций радиоперехвата. Фельгиббель уже тогда вписал свою биографию в число генералов-заговорщиков против Гитлера, чтобы избавить Германию от фюрера, но… сам задохнулся в петле. Фельгиббелю и было поручено прощупать политические настроения Паулюса — нельзя ли и его, столь авторитетного в вермахте, перетянуть в лагерь генеральской оппозиции? Но покинул 6-ю армию, даже не попрощавшись с Паулюсом, ибо Фельгиббель убедился, что его друг остается верным паладином того режима, который его выпестовал и возвеличил… Да, читатель, Паулюс по-прежнему, как и в былые времена, держал «руки по швам»!
Его эсэсовский зять, барон Альфред Кутченбах, уже завел патефон, поставил на диск русскую пластинку, сказав:
— Это очень хорошая песня. Вы слушайте, а я стану для вас переводить: «Степь да степь кругом, путь далек лежит…»
Кутченбах сразу покорил хозяина дома своим превосходным знанием русского языка, вызвав его на откровенность.
— Давай, отец, забросим политику к едреной фене, — дружески сказал он старику. — Если говорить честно, так я понимаю вас, русских. Вам сейчас обидно и тяжело. Но со временем, когда вся эта заваруха закончится нашей победой, ты сам будешь благодарить нас, немцев, за тот новый порядок, который мы вам несем… Поверь! Так оно и будет.
Ответ домовладельца обескуражил Кутченбаха:
— Нешто вам, немцам, кажется, что вы принесли на святую Русь («новый порядок»)? Да у нас-то, слава те, Господи, и старый порядок неплох был. Вспомню былое, так ажно душа замирает. При царе-батюшке у нас о городовых на улицах порядка было больше, нежели у вашего фюрера…
Паулюс вышел на двор и, оглядевшись, стал мочиться возле разрушенного русского блиндажа. Из развороченных бревен, прямо из земли, будто она росла там торчала рука человека, а на руке — часы, и было видно, как стремительно мчится секундная стрелка часов по циферблату, а пальцы руки еще шевелились…
«Неужели живой?» — удивился Паулюс и еще раз огляделся.
8. Чем люди живы
Близится роковое число — 23 августа, а я по-прежнему далек от желания описывать подробности, свойственные научным монографиям, вроде того, что 217-й стрелковый полк занял хутор Ивановку, а 136-я пехотная бригада отодвинулась в северо-западном направлении. Как бы ни были ценны такие подробности для военных историков, но главное все-таки — люди , сама жизнь человеческая, их нужды и радости, сомнения и страдания.
Не буду оригинален, если скажу: нам бы никогда не выиграть этой страшной войны, если бы не русская женщина. Да, тяжко было солдату на фронте, но женщине в тылу было труднее. Пусть ветераны, обвешанные орденами и медалями, не фыркают на меня обиженно. Мы ставим памятники героям, закрывшим грудью вражескую амбразуру, — честь им и слава! Но подвиг их — это лишь священный порыв краткого мгновения, a каково женщине год за годом тянуть лямку солдатки голоде и холоде, трудясь с утра до ночи, скитаясь с детьми по чужим углам или живя в бараках на нарах, которые ничем не отличаются от арестантских.
Не возражайте мне, ветераны! Не надо. Лучше вдумаемся. Мы-то, мужики, на одном лишь геройстве из войны выкрутились, а вот на слабые женские плечи война возложила такую непомерную ношу, с какой бы могучим Атлантам не справиться. Именно она, наша безропотная и выносливая, как вол, русская баба выиграла эту войну — и тем, что стояла у станков на заводах, и тем, что собрала урожай на полях, и тем, что последний кусок хлеба отдавала своим детишкам, а сама и тем сыта оставалась…
Думаю, неспроста же в те военные годы и сложилась горькая притча-байка, которую сами женщины о себе и придумали:
Ты и лошадь, ты и бык, Ты и баба, и мужик!До войны сытен был хлеб, политый потом колхозниц, этих подневольных рабынь «победившего социализма», но вдвойне горек был хлеб, политый женской кровью. Они-то этого хлеба и не видели вдосталь, отдавая его солдату на фронт, опять-таки нам, мужикам с винтовками. Где же он, памятник нашим женщинам? И не матери-героине, не физкультурнице с неизбежным веслом, не рекордсменке в комбинезоне, а простой русской бабе, которая на минутку присела, уронив руки в тоске и бессилии, не зная, как прожить этот день, а завтра будет другой… и так без конца! Доколе же ей мучиться?
* * *
С утра пораньше Чуянов навестил аэродром в Питомнике — как раз к побудке летчиков, которых оживляли командой:
— Эй, славяне! Ходи на уборку летного поля…
С метелками в руках, выстроясь в одну шеренгу, нетчики, штурманы и стрелки-радисты голиками подметали взлетные полосы, столь густо усеянные рваными и острыми осколками, что ими не раз повреждались шины колес при взлетах и посадках.
— Бомбят вас, ребята? — спрашивал Чуянов.
— Да не очень. Рихтгофен больше сыплет на отступающих к Дону да на город кладет… Жить можно!
Но Чуянов-то понял, что житуха у них плохая. Самолетов мало. Нашей авиации было ой как трудно противостоять мощному воздушному флоту Рихтгофена, а потерь много… Потом, побросав голики, летчики выкраивались перед столовой.
— У нас две очереди, — невесело шутили они. — Кому в боевой полет — кому в столовку, где дают кислую капусту в различных вариациях, и только компот еще из нее не варят. А на капусте из крутого пике выбраться да и миражи опасны…
Может, и шутили, кто их знает? Но Алексей Семенович воспринял эту шутку, как издевательство над людьми, которые каждый день — с утра до ночи — рискуют своей головой, и, едва вернувшись в обком, сразу же распорядился, чтобы скотобойни города каждый день слали лучшее мясо в Питомник.
— И чтобы колбасы не жалели! — кричал он в трубку телефона. — Кому так в три горла пихаем, а героям сталинградского неба капусту кислую… Стыдно. Очень стыдно.
Днем в здание обкома партии вдруг ворвалась с улицы страшная собака: шерсть вздыблена, как у волка, глаза горят, скачет с этажа на этаж, мечется по коридорам, чего-то ищет, секретарши с визгом запрыгивали на столы, мужчины кричали:
— Безобразие! Кто пустил сюда зверя? Эй, охрана!
Алексей Семенович Чуянов вышел из кабинета.
— Позвоните на СТЗ, — указал он спокойно, — кажется, эта овчарка из той злобной своры, что завод охраняла…
Выяснилось, что после бомбежки охрана СТЗ, действительно, не досчиталась сторожевых собак, вот одна из них и заскочила в обком партии, а Чуянов зверье любил.
— Эй! — позвал псину. — Как зовут тебя?.. Допустим, что Астрой. Ну, Астрочка, иди ко мне. Не бойся.
Шерсть на овчарке прилегла, она тихо поскулила и доверчиво подошла к человеку. Чуянов храбро запустил пальцы в загривок собаки и потрепал ей холку.
— Ладно, — сказал он. — Сейчас тебя отведем в столовую, где объедки сыщутся, накормим, а потом…
Потом эта страшная зверюга, готовая разорвать любого, вдруг лизнула Чуянова в руку и покорно, как дворняжка, побежала за ним в столовую. С того же дня она стала отзываться на кличку Астра… Секретарь обкома стал для нее хозяином!
— Ладно, — сказал хозяин, — там вчера фрица подбили. Герасименко звал на допрос его… Съезжу. Скоро вернусь.
В штабе Сталинградского военного округа он слушал, как проходил допрос немецкого аса, прыгавшего с парашютом из горящего бомбардировщика — прямо на крыши окраинной Бекетовки.
— Вы из четвертого воздушного флота Рихтгофена?
— Нет. Из второй воздушной армии Кессельринга, которая обслуживала африканский корпус фельдмаршала Роммеля.
— Что-то не верится. Назовите аэродромы.
— Пожалуйста. Бари. Палермо. Бенгази. Эль-Газала.
— Как же вас занесло на Волгу? — вмешался Чуянов.
— Роммель застрял под Эль-Аламейном, а бомбежки по базам Мальты отложены. Английское командование само просило наше об этом — для эвакуации своих госпиталей. А нас отправили в Россию, чтобы помочь армии на Дону и на Волге.
Все это было странно, и настроение, и без того поганое, ухудшилось.
Чуянов вернулся в обком, где его поджидал Воронин.
— Ну, что хорошего? — спросил, думая о своем, Чуянов.
— У нас хорошего мало. Вон за границей, мне читать приходилось, даже через океаны провода тянут, а… у нас?
— Что у нас?
— Дерьмо собачье! Кабеля нет, чтобы воду не пропускал. Сегодня проложат через Волгу полевой кабель, а завтра, глядишь, меняй снова: изоляция уже намокла и сдала…
Еще хуже было на восточном берегу Волги: там до Баскунчака и Астрахани — столбы с проводами; немецкая авиация даже бомб не тратила, сбрасывая на линии связи и высоковольтные провода железнодорожные рельсы и шпалы, «бомбила» их обрезками водопроводных труб и швыряла пустые бочки… Воронин сказал:
— Сегодня рано утром маршал Тимошенко с Хрущевым приехали. Удивлялись, что у нас пивом торгуют… Вы, говорят, живете так, будто и войны у вас нету. Лучше, чем в Москве!
Тимошенко появился в Сталинграде 13 июля, и Никита Сергеевич, улучив минуту, шепнул Чуянову на ухо:
— Ну, ни в какую! Едва вытащил. Товарищ Сталин сам указал, чтобы сидел в Сталинграде, а он… сам не знает, чего хочет!
Чуянов заметил в Тимошенко некоторую нервозность вполне оправданную для его положения, но выглядел он (или желал таким казаться) излишне самоуверенным любезно пригласив Чуянова вечером к ужину. Надо полагать, маршал переживал большую человеческую трагедию. Хотя, если судить честно, во всем происходящем на фронте он мог бы винить только себя, и теперь каждый удар противника должен бы восприниматься им как справедливый удар судьбы, жестоко мстившей ему за прежние просчеты. Ведь ему, довоенному герою, всегда казалось, что он будет лихо побеждать врагов на чужой территории, а вместо этого очутился на берегах великой русской реки…
Маршал задал только один вопрос:
— Когда будет наплавной мост через Волгу?
— Военные обещают навести его где-то в конце августа.
— А до войны, что, ума не хватало?
— У меня хватало. Я писал кому надо, чтобы подумали, но… есть выше начальники.
— Кругом начальники, — буркнул маршал…
Побывав дома, Чуянов на минутку заскочил к Герасименко — его штаб военного округа располагался как раз напротив универмага (того самого, в подвале которого потом сдался победителям Паулюс). Поговорили, а говорить было о чем. Сейчас на СТЗ все цехи и дворы были заставлены танками, вытащенными с поля боя. Теперь их спешно ремонтировали, рабочие сами обкатывали машины на заводском полигоне, став за это время опытными танкистами. Герасименко рассказывал:
— Притащат такую гробину с передовой, а внутри — снаряды, гранаты, оружие… Ну, разбирают между собой. Иные домой тащат. Иногда же люк открывают — там одни черные скелеты, уже обгорелые. — Герасименко жаловался, что к отступающим примазываются агенты абвера или диверсанты. — По-русски болтают не хуже нашего… Все время шлют истребительные батальоны. Кого поймают, того шлепнут. Там, в станицах, такая кутерьма сейчас — не приведи Бог! А людей можно понять: одни бегут, другие остаются. Ведь сколько лет наживали, там телега еще от деда, а икона еще от прабабки… Без слез все не бросишь. Жалко!
Чуянов заговорил совсем о другом:
— А все-таки странный человек маршал Тимошенко! Другой бы на его месте в дугу от стыда согнулся, а Тимошенко ходит гоголем, грудь колесом, с него — как с гуся вода. Никак не пойму, почему товарищ Сталин одних жестоко карает за ничтожные промашки, а другие, с ног до головы виноватые, остаются командовать фронтами…
Василий Филиппович Герасименко тридцать седьмой год хорошо помнил и даже крякнул, прежде чем ответить.
— Не наше то дело, — сказал, осторожничая — Тут и без маршала виноватых хватает. Привыкли мы думать, что умнее нас да сильнее никого нет на белом свете. Вот за это проклятое зазнайство теперь и расплачиваемся.
— Неужели немцы способны выйти к Волге?
— Что ты! — отмахнулся генерал. — Под мудрым руководством товарища Сталина мы растопчем врага в излучине Дона, но никогда не допустим его в город, носящий имя великого вождя…
«О Господи!» Чуянов, хотя и был партийным работником высшего ранга, но от подобной выспренности оставался далек. Неприятно ему было и то, как вел себя Тимошенко за ужином, провозгласив нечто вроде тоста, сейчас попросту неуместного.
— Мы, большевики, — сказал он, — преодолеем все трудности на путях к победе, мы не остановимся на достигнутом…
— Уж молчал бы… дурак он или, наоборот, очень хитрый, но дураком притворяется? — размышлял Чуянов, наблюдая за маршалом. На другой день вся Сталинградская область была переведена на военное положение. Заводские рабочие перешли на казарменное положение (с выдачей пайков по месту работы). Город по-прежнему утопал в зелени, цвела и благоухала акация. В киосках «пиво-воды» продавали бочковое пиво, что особенно удивляло фронтовиков — глазам своим не верили.
— А нам можно? — робко спрашивали они продавщицу.
— А почему бы и нет? Или вы не люди?
* * *
Не люблю я высоких слов, но все же скажу: в народе не сомневались в конечной победе, хотя люди уже понимали, что цена победы будет высокой, и пилотками немецких танков не закидаешь. А середина июля примечательна в истории войны: только теперь (!) Сталин начал догадываться, что целью нового «блицкрига» был не захват Москвы (операция «Кремль»), а продвижение вермахта к Сталинграду и на Кавказ. Василевский осенью 1965 года, когда многое отболело в нашей душе вспоминал:
«Предвзятое, ошибочное мнение о том, что летом основной удар противник будет наносить на центральном направлении, довлело над Верховным Главнокомандующим вплоть до июля…»
Многое в это лето сложилось бы иначе, если бы Сталин не был таким упрямым!
Теперь днем и ночью грохотали на стыках рельс воинские эшелоны.
Подолгу стояли на полустанках, старушки спрашивали:
— Кудыть вас, сердешных, гонят-то?
— Дорога, мамаша, теперь одна… на фронт!
— Ну, помилуй вас Бог, сыночки родимые…
Ехали, ехали, ехали. Двери товарных вагонов распахнуты, а в них, свесив ноги в обмотках, солдаты, солдаты, солдаты. Одни уже нахлебались лиха, а другие — совсем молодняк, еще вчера сдавали экзамены в школе, кто на пятерку, а кто и на троечках выехал… прямо в войну! Вот и узловая станция.
— Поворино, — читали название, а знающие и бывалые говорили: — Отселе нам тока две дороги: если повезут на запад, будем под Воронежем, а ежели на юг — тады в Сталинград…
Чуянова среди ночи разбудил долгий телефонный звонок — вызывали из Серафимовича, бывшей казачьей станицы Усть-Медведицкой, когда-то богатейшей, многолюдной, славной храмами и образованием не обиженной; секретарь тамошнего райкома партии сообщил, что уже приступил к эвакуации людей и всего самого ценного, но очень трудно с вывозом зерна и скота:
— Хлеба заколосились… жечь, что ли? Паромов через Дон нету, скотина лодки переворачивает. Овцы, считай, гуртом потонули, а свиньи все переплыли. Стада же коров силком в реку заталкиваем. А трактора? А наши МТС? Куда их девать?
— Гони к нам.
— Да нет горючего. Пришлите. Перегоним.
— А где я тебе возьму горючего?
— Как где? Там же у вас полно караванов от Астрахани.
— Это когда было? — кричал в трубку Чуянов, разбудив всех домашних. — До войны. А сейчас какую нефтебаржу с воздуха ни заметят, сразу бомбят… горит наша Волга, горит!
— Что там, Алеша? — спрашивала жена, зевая.
— Спи. Это из Серафимовича. Уже поехали. Забыл сказать, чтобы жгли хлеба. Все равно не вывезти. Урожай-то больно хорош в этом году. Жалко. Спасаем, что можно. Спи. Еще рано…
Немецкие «ролики» вкатывались в большую излучину Дона, а сталинградцы еще выезжали на полевые работы. Как правило, женщины-домохозяйки, школьники постарше да старики. Вместе с жителями города не отлынивали и беженцы, желающие заодно подкормиться! на заброшенных огородах зрели овощи, бесхозные сады плодоносили в это лето — как никогда. Привыкли у нас бросаться на ветер высокими словами, и каждый год твердили, что не просто «уборка урожая», а обязательно «битва (!) за хлеб». Но смею заверить читателя, что летом 1942 года под Сталинградом шла настоящая битва за спасение урожая, и хлеб, который мы потом ели, был пропитан кровью…
Эскадрильи Рихтгофена кружили над полями, бросая осколочные бомбы, прострачивали хлебные нивы пулеметными очередями. Страшно читать свидетельства очевидцев. Под бомбами и пулями одна женщина загораживала лицо лопатой, подростки прятались под телегами, а какая-то старушенция накрылась газетой «Правда», словно верила, что Бог правду видит…
Неожиданный звонок от генерала Герасименко:
— Из Москвы получено распоряжение — всему штабу военного округа срочно передислоцироваться в Астрахань.
Календарь показывал 17 июля. Не верилось.
Чуянов ответил:
— Что за бред сивой кобылы? Быть того не может, чтобы в такой напряженный момент и… Кто распорядился?
— Ставка Верховного Главнокомандования. «Если сама Ставка, значит, скоро всем нам амба…»
— А кто — конкретнее? — спросил Чуянов, еще сомневаясь
— Генерал Ефим Щаденко… герой известный.
Алексей Семенович ощутил небывалую растерянность
— Неужели, — спросил, — наше положение в Сталинграде и впрямь столь тяжелое? А как отнесется к вашему отъезду городское население? Люди-то не дураки они поймут ваше бегство на свой лад — значит, город будет сдан…
Опасения подтвердились. Когда штаб округа (с чемоданами и семьями) грузился на пароход, пристань заполнили толпы жителей, слышались возгласы — негодующие, озлобленные:
— Во, паразиты проклятые! Привыкли бегать.
— Мурло-то себе разъели, берегут свои шкуры.
— Мы ж их кормили, одевали, думали — вот защитники!
— Всю жисть налоги с нас драли на армию, а они…
— А чего с них взять-то? С драпальщиков…
Это случилось в тот самый день, когда Сталин получил от Черчилля извещение о том, что обещанного ранее второго фронта в 1942 году не будет, и настроение у Сталина было, конечно, не из лучших. В ночь на 20 июля Чуянов заработался в обкоме: приближался рассвет, когда по ВЧ его предупредили:
— С вами будет говорить товарищ Сталин…
В аппарате послышался тяжелый человеческий вздох:
— Как у вас идут дела? Как вы готовитесь встретить врага, который будет пытаться взять Сталинград с ходу ?..
(«Ясно представляю себе суровый взгляд карих глаз, сомкнутые брови и, откровенно говоря, очень волнуюсь…»)
— Обстановка тревожная. Но промышленность работает. С огромным напряжением. Народ относительно спокоен…
— Значит, «относительно»? — прервал его Сталин. Последовала пауза для накопления диктаторского гнева. — Вы решили сдать город врагу? — внезапно обрушился Сталин на Чуянова. — Вы зачем туда поставлены? Чтобы покрывать трусов и паникеров? Чтобы замазывать товарищу Сталину глаза? Почему от вас удрал в Астрахань весь военный округ? Завтра немцы сядут вам на шею и всех вас передушат, словно котят…
Под мощным шквалом грозных обвинений Чуянов с трудом выбрал момент, чтобы заступиться за генерала
— Штаб военного округа выехал по приказу из Москвы.
— Кто осмелился дать такой идиотский приказ?
— Ваш генерал… из ставки… генерал Щаденко!
Молчание.
Наконец Сталин заговорил:
— Мы на месте разберемся и строго накажем виновных. Передайте товарищу Герасименко, чтобы возвращался со штабом обратно.
И закончил разговор директивными словами:
— Сталинград не будет сдан врагу. Так и передайте всем …
* * *
Никита Сергеевич вскоре пригласил Чуянова навестить его в гостинице, где маршал Тимошенко желал бы выслушать мнение человека, недавно прибывшего на Сталинградский фронт, а потому способного видеть события иначе, нежели видят они.
— Желательно знать, что он думает вообще об обороне Сталинграда, которая, сам понимаешь, никак не будет похожа на оборону Царицына… Можно ли вообще тут обороняться?
Чуянов пришел. На стене были развешаны оперативные карты, в которых Чуянов плохо разбирался, путаница неясных для него обозначений лишь озадачивала его; он понимал лишь кроваво-красную линию фронта, рискованно выгибающуюся к Сталинграду, а синие стрелы ударов противника невольно наводили на мысль о злокачественной гангрене, готовой вонзиться в страдающее тело.
Маршал Тимошенко имел вид несколько отвлеченный — вроде того, какой имеют старики, наблюдающие за играми детей. Выслушать же предстояло молодого генерала, поразившего Чуянова тем, что он не снимал со своих рук белых перчаток.
— Кто это? — шепотом спросил Чуянов у Хрущева.
— Чуйков… из шестьдесят второй армии.
Тимошенко задал первый вопрос, далекий от тактики и стратегии, к обороне Сталинграда отношения не имеющий:
— Вы почему не ладите с генералом Гордовым?
— А почему я должен с ним ладить? — отвечал Чуйков маршалу, видно, совсем не боясь сталинского фаворита. — Генерал Гордов — это не мой сосед по коммунальной квартире. Да и в коммунальной квартире я бы с ним не ужился.
— Но все-таки, — заметил Тимошенко. — Как-никак, это вам непосредственный начальник. Воевал. А вы где воевали?
— Прибыл сюда прямо из воюющего Китая.
— Были военным советником?
— Да. В армии Гоминдана, при маршале Чан Кайши.
— Вот вы, человек свежий, что вы скажете о наших делах? Каковы, по-вашему, плюсы и минусы Сталинграда?
— Вы, товарищ маршал, спрашиваете о видах на оборону?
— Да. Удобен ли Сталинград для обороны?
Василий Иванович Чуйков долго оглядывал карты — с таким видом, будто попал в музей, где наконец-то увидел подлинники классических шедевров, о каких ранее приходилось только читать.
— Природный рельеф Сталинграда, — начал он, — и окрестностей города никак не способствует обороне. Как защищать эту гигантскую килу, что протянулась вдоль берега чуть ли не в полсотню верст? А ширина этой килы от силы два километра, а далее начинается степь…
— Выбирайте выражения! — сразу заметил Тимошенко. — Откуда вы взяли эту «килу»? Не советую забывать, чье имя носит этот город… «кила», по-вашему.
— Извините, — сказал Чуйков. — Я продолжу. Степи, примыкающие к Сталинграду с запада, изобилуют множеством оврагов и балок, вытянутых, как назло, с запада на восток, перпендикулярно этой ки… этому городу, и все они выходят к Волге, как бы разрезая Сталинград на отдельные участки подобно тому, как режут колбасу на отдельные куски. А в тылу армии, обороняющей Сталинград, течет широкая Волга — огромная преграда, мешающая маневру, не позволяющая отойти в случае надобности. Мало того, — продолжал Чуйков, — Волга, не имея мостов, связывающих оба берега, всегда будет препятствовать снабжению наших войск и эвакуации раненых. Противник же в любом случае, будет обладать громадным преимуществом, имея в своем тылу обширные гладкие пространства для маневра и подвода техники. Затем, — было сказано Чуйковым, — противник, владея высотами на западе от Сталинграда, всегда будет просматривать нас и наши позиции на десятки километров, а мы, как бы ни маскировались, все равно останемся видимы, словно мухи в сметане…
— Что такое? Тут тебе и отвратительная «кила», тут тебе и «колбаса», тут тебе и «мухи в сметане»… Ай-ай, разве так можно. Нехорошо выражается Чуйков, надо его поправить.
— Не знаю, как уж там при Чан Кайши выражаются, — заметил Хрущев, — но здесь вы могли бы говорить иначе.
— Что иначе? — переспросил Чуйков, не понимая вопроса.
— По вашим словам, — круто и недовольно заговорил маршал Тимошенко, — получается так, что Сталинград к обороне совсем не приспособлен, и вы… Вы даете отчет своим словам?
— Даю. Совсем не приспособлен, — ответил Чуйков.
— А вы, — спросил его Хрущев, — не учли того, что наш советский народ воодушевлен на свершения подвигов и под знаменем Ленина — Сталина он готов… и вы… не учли этого?
— Учел, — отвечал Чуйков, подтянув белые перчатки.
— Так чего ж вы нам тут головы морочите? — обозлился Никита Сергеевич. — Километры подсчитываете, о рельефах нам рассказываете… О главном-то вы забыли?
— О чем? — переспросил Чуйков.
— О главном, — повторил Хрущев.
— А в чем оно, это главное?
— Главное… в главном.
— Возразить вам трудно, — ответил докладчик…
Тимошенко кивком головы указал в спину уходящего Чуйкова:
— Вот и воюй с такими… сами не понимают!
— Опыта нет, — добавил Хрущев. — Мало их били.
— Пойдемте и поужинаем, — предложил маршал.
Чуянов ужинать отказался, сославшись на дела в обкоме, а на лестнице гостиницы он нагнал уходящего Чуйкова:
— Меня найти легко. Если что понадобится — заходите. Буду рад помочь, если какая нужда возникнет. Меня здесь все знают.
Но Василия Ивановича Чуйкова тогда мы еще не знали…
9. Винница и Житомир: комары и крысы
Восточная Пруссия. «Вольфшанце» — «волчье логово»…
Тихо постукивая дизелем, от вокзала отошел белоснежный поезд Геринга «Азия», а в тупике станции укрылся личный поезд Гитлера по названию «Америка» (15 вагонов и два мощных локомотива). Из окон оперативного барака, где обычно фюрер совещался с генералами, виднелись псарня, здание гостиницы для приезжих, кухонный барак и здание кинотеатра.
Альберт Шпеер, министр вооружений и боеприпасов, заметил, что Гитлер чрезвычайно возбужден, уверенный в успехе своих армий на юге России, и он долго развивал мысль, которую можно было бы выразить очень кратко: по сути дела, вермахт только сейчас завершает те планы, что не были осуществлены летом прошлого года. «Теперь, — сказал фюрер, — я увидел свет нашей победы в конце этого длиннейшего туннеля…»
— И сейчас, — разрешил он, — можно возобновить производство товаров ширпотреба в его прежнем объеме.
Шпеер ответил, что о ширпотребе думать еще рано:
— Но, кажется, пришло время отменить ежемесячные призывы в армию большого количества немецких рабочих.
Гитлер не возражал, вернувшись в прежнее состояние эйфории, опять нудно рассуждал о том, что Германия, лишенная прежних колоний в Африке (еще кайзеровских), будет иметь большие выгоды от захваченных территорий в России, а заодно, завершая свои рассуждения, фюрер выругал и своих генералов:
— Эти люди способны мыслить чисто военными категориями, но учитывать экономические выгоды от войны с Россией приходится мне… одному мне! Кстати, Шпеер, вы должны подумать о сооружении моста через Таманский пролив, чтобы армия фельдмаршала Манштейна из Крыма шагнула сразу на Кавказ!
Летом этого года в Германии еще не было перебоев с продуктами, карточки отоваривались полностью, хотя жирность молока понизилась, в колбасу добавляли всякие примеси, а фруктов не было совсем, ибо все они поступали на выделку мармелада. Гитлер поговаривал, что пора переносить ставку в Винницу, ближе к фронту. Не так давно в «Вольфшанце» получили информацию, что Квантунская армия японцев уже наготове для нападения на Владивосток и Благовещенск, в ставке Гитлера это сообщение вызвало ликование. Риббентроп, тоже обрадованный, вызвал японского посла Хироси Осима, которому и было им сказано:
— Наш фюрер, зорко следя за успехами Японии на Тихом океане, думал, что вы сначала укрепитесь в новых владениях, а уж потом осуществите нападение на Россию, но теперь, когда наш вермахт выходит на Волгу, для Японии — по мнению фюрера — как раз наступил благоприятный момент, чтобы включиться в общую борьбу с московской кадократией…
Кадократия — термин, означающий «власть необразованной черни», редко употреблялся в разговорах, но Осима понял, что Риббентроп имеет в виду тех самых кремлевских недоучек, о которых ранее он говорил, что эта компания напомнила ему «общество старых партийных товарищей».
— Если, — продолжал Риббентроп, — Квантунская армия выйдет к Байкалу, конец этой войны будет сразу же предрешен…
Гитлер потом звонил в Берлин, спрашивая Риббентропа, чем завершился разговор с японским послом?
— Осима вежливо улыбался, но, судя по его словам, в Токио решили выждать — чем окончится битва за Сталинград. В любом случае до октября Квантунская армия с места не тронется. Сейчас Сталинград — ключ от того сейфа, в котором укрывается результат всей войны.
— Жаль , — отозвался Гитлер. — У меня уже начинает болеть живот каждый раз, когда я думаю о Сталинграде…
Гитлер имел краткое свидание с Муссолини, которому не терпелось, чтобы Роммель перекрыл для англичан шлюзы Суэцкого канала, но при этом дуче был озабочен тем, что англосаксы, кажется, решили покончить с его африканским корпусом и вполне возможна высадка их десанта в портах стран Магриба.
— Сейчас, — утешал его Гитлер, — англичане способны лишь маневрировать на периферии, чтобы смирить нетерпение Сталина. Но далее обещаний в Лондоне не пойдут. У нас же скоро появится новый превосходный союзник — Турция, и премьер Сарадж-оглу намерен сожрать Грузию с Арменией сразу, как только танки Клейста перевалят через Кавказский хребет. За это, дуче, мы дадим туркам пососать горючего из нефтяных скважин Баку…
«Он и мне даст… пососать»! — с неприязнью думал дуче.
— Но, — признался Гитлер, — ни японцы, ни турки не выстрелят даже из детской хлопушки до тех пор, пока русские удерживают Сталинград.
Муссолини по-прежнему дрожал за Африку, желая иметь от нее «горсть фиников», но Гитлер не придавал значения возможной высадке десанта Рузвельта и Черчилля в Африке:
— Вместо второго фронта возникнет лишь третий, а потому открытие второго фронта в самой Европе будет опять отложено. Это значит, — здраво рассудил Гитлер, — что пока они там возятся с Африкой, нам нет необходимости держать большое количество войск в Европе, гадая, в каком месте англосаксы могут совершить высадку… Теперь, даже при наличии только третьего фронта, мы можем смело перебрасывать свои войска с Запада на Восток — против России!
13 июля разведка абвера сообщила, что русские образовали Сталинградский фронт, хотя об этом — ни звука в советской печати, и Адольф Хойзингер, как оперативник, сразу и верно предсказал, что русские не собираются отходить далее Волги.
— Это их дело! — отвечал Гитлер. — Но мне иногда начинает казаться, что Паулюс давно наносит удары в пустоту — перед ним лежит голая степь, создать линию обороны Тимошенко не смог. Не понимаю, чего Паулюс там ковыряется? Надо забрать у него четвертую танковую армию Гота, перенацеливая ее — в помощь Листу — на кавказское направление. Тех сил, что имеются у шестой армии, вполне достаточно для взятия Сталинграда… Хойзингер, каковы последние сводки абвера о делах в городе?
— Эвакуационные настроения в Сталинграде проявляются в массовом перегоне скота, но они еще не коснулись демонтажа промышленности. По данным нашей агентуры, паники в городе не наблюдается, в театре русские ставят «Королеву Чардаша» Кальмана, которая на афишах у них называется «Сильва». Наверное, это подтверждает мое мнение о том, что жители города еще не испуганы.
— Пора бы и напугать их! — сказал Гитлер. — Сразу после взятия Сталинграда всех мужчин в городе уничтожить, а женщин вывезти.
Куда вывозить женщин, об этом Гитлер ничего не говорил.
— Впрочем, — продолжал он, — я сам напомню Паулюсу об этом, когда повидаюсь с ним в Виннице…
14 июля Франц Гальдер отмечал юбилей — сорокалетие военной службы. Маннергейм и болгарский царь Борис прислали ему дружеские приветы. Кейтель с Йодлем сложились и сообща подарили серебряный поднос. Гитлер, как обычно, проснулся во второй половине дня и пригласил юбиляра «на чашку чая». Гальдер похвастал подарком от Паулюса — роскошным альбомом с видами минувшей битвы под Харьковом в период окружения армий Тимошенко возле Барвенково. Гитлер рассматривал фотографии с большим интересом и, вопреки прежним своим заявлениям, похвально отзывался о русском солдате, как очень крепком и выносливом. «В техническом отношении, — говорил фюрер, — русские достигли тоже немало успехов, и качество их вооружения стало намного лучше…» О зубных щетках фюрер более не поминал!
— Впрочем, — сказал он Гальдеру, захлопывая альбом, — лето всегда являлось решающей стадией наших умопомрачительных успехов. Меня беспокоит лишь медлительность Паулюса…
Вечером Гальдер устроил «мальчишник» в лесной гостинице ОКХ, где угощал сослуживцев пивом и бутербродами.
Йодль нашел момент, чтобы шепнуть юбиляру на ухо:
— Нашему фюреру много не надо, чтобы он взвился до небес. И он взвился, когда я сказал ему — лучше избрать что-либо одно: или поход на Кавказ, или выход на Волгу.
Гальдер без аппетита дожевал казенный бутерброд:
— Он толкает Паулюса в спину, но это становится… опасно. Если шестая армия будет продвигаться и далее, то она образует костлявый палец, вытянутый к Волге и он станет подвержен ампутации. Русские выпустили Паулюса из большой излучины Дона, могут поступить с его армией таким же образом, как мы весной поступили с ними возле Барвенково.
Йодль благодарил Гальдера за откровенность:
— Но эти мысли держите при себе, чтоб он не взвился.
Гальдер долго и задумчиво вращал перед собою кружку с пивом, потом сказал, что ему жаль Паулюса:
— Я бы не желал ему судьбы маршала Тимошенко…
16 июля с секретного аэродрома Ангербурга фюрер со свитой вылетел в Винницу.
Настроенный добродушно, он сказал Гальдеру:
— Пора разобраться с фронтовыми генералами. Ах, чего только не наслушаешься от этой публики… Рихтгофен жаловался рейхсмаршалу Герингу, будто слепые суслики выводят из строя электропроводку в навигационных приборах самолетов, а Генрих Гот докладывал по радио, что мыши грызут его бедные танки. Мои генералы, наверное, хотят, чтобы я поверил, как им тяжело сражаться с русскими мышами.
Если угодно, читатель, можете прослушать по радио вечернее сообщение сводки Совинформбюро: «В течение 16 июля наши войска вели бои с противником в районе Воронежа. На других участках фронта существенных изменений не произошло».
Вот и все! Понимай, как знаешь…
Полет до Винницы продолжался три часа и 15 минут.
* * *
Еще с декабря 1941 года Гитлер обзавелся второй ставкой по названию «Вервольф», что означает «оборотень». Она затаилась от людей в незаметном лесочке под Винницей, близ деревни Стрижавка, подземный бронированный кабель связывал ее с министерствами Берлина. Кольцо неприступных дотов окружало здесь Гитлера, который как бы и сам превращался в зловещего оборотня, чтобы из партийного фюрера сделаться главнокомандующим вермахта.
У себя в «Вольфшанце» фюрер комаров не боялся, но почему-то русские комары вызывали в нем ужас, он был уверен, что их укусы смертоносны, а потому усердно насыщал себя атарбином от малярии. Окна штабных бараков были заделаны непроницаемыми сетками, а чтобы все насекомые передохли, Гитлер велел опрыскивать окрестности смесью керосина с креозотом. Под лучами жаркого солнца эта смесь испарялась, издавая невыносимое зловоние. Днями Гитлер изнывал в бараке от духоты, а по вечерам начинал войну с комарами .. для этих тварей, казалось, сетки не служили препятствием, а к аромату креозота русские комары оказывались нечувствительны. Вот и опять их наглое зудение.
— Летит! — говорил Гитлер с таким выражением, будто слышал рев моторов «летающей крепости». — Опять летит… и где найти спасение от инфекции?
Шлеп себя по лбу.
— Промахнулся! Эти гнусные твари неуязвимы. О чем думают гениальные немецкие химики? Неужели мне погибать от комаров?..
Бывая проездом в Виннице, он обратил внимание, что украинские дети никогда не носят очков, а их зубы не нуждаются в услугах дантистов, и это произвело на фюрера очень сильное впечатление. Мартину Борману он указал:
— Займитесь этим вопросом… ради будущего германской нации! Рослых и белокурых детей с голубыми глазами следует отбирать у родителей, чтобы воспитывать их в нацистском духе.
Услужливый Борман, соглашаясь с Гитлером, тут же придумал теорию, будто украинцы — ответвление арийских племен, родственных древним германцам. Ставка Генриха Гиммлера в эти дни размещалась возле Житомира, бронированный автомобиль Гиммлера каждодневно курсировал между Винницей и Житомиром, Гитлер не забыл напомнить и рейхсфюреру СС:
— Генрих, пора думать о селекционном отборе славянских детей для пополнения резервов живой силы нашего рейха, ибо украинцы внешне представляют отличный евгенический материал…
Вызванный с фронта Паулюс сразу погрузился в невыносимую атмосферу ставки, а Хойзингер сказал, что у фюрера трещит голова:
— В такой вонище это неудивительно. Но фюрер боится русских комаров, жалящих, словно пчелы…
Адольф Хойзингер уже работал над планами проникновения в Иран и Ирак, где были сильны антибританские настроения, эту работу, начатую еще Гальдером в Цоссене, он продолжал в «Вольфшанце» и здесь, под Винницей, Хойзингер дал понять Паулюсу, что сейчас он пребывает в фаворе у Гитлера, и случалось так, что его точка зрения усваивалась фюрером более основательно, нежели мнения Йодля и Кейтеля. Человек достаточно проницательный, Хойзингер заметил, что Паулюс, внешне собранный и, как всегда, подтянутый, внутренне чем-то озабочен.
— Положение осложняется, — не скрывал Паулюс, — если ранее моя армия маршировала по тридцать километров в сутки, то теперь мои темпы снизились, и мы с трудом преодолеваем пространство не более десяти-пятнадцати километров.
— Значит, силы русских возросли? — спросил Хойзингер.
— В том-то и дело, что они уменьшились, — отвечал Паулюс. — Но возросло их упорство. Я не хотел бы оказаться в простаках, обещая фюреру, что двадцать пятого июля, и никак не позже, я буду в Сталинграде. А тут начались предосенние грозы, фронт заливается ливнями, дороги, если их можно только назвать дорогами, раскисли. Техника вязнет в грязи…
Гитлер жаловался, что у него начинает болеть живот, когда он думает о Сталинграде, но у генерала Паулюса живот болел сам по себе, вне всякой связи с большой стратегией, и эти боли в области кишечника становились порою невыносимы. Перед Францем Гальдером он не скрывал, что его Елена-Констанция заранее сняла апартаменты в Бартале, на курортах Киссенгена, куда и выехала с дочерью, поджидая мужа.
— Но я, — сказал Паулюс, — должен отложить курс лечения на водах, пока не развяжусь с этим Сталинградом.
Франц Гальдер лечебным водам не доверял:
— Лучше всего… водка ! — сказал он. — Но прежде чем вы станете поглощать русскую водку, обратитесь в берлинскую клинику на Венцельштрассе. Впрочем, я чувствую, — усмехнулся Гальдер, — что ваша очаровательная супруга поторопилась снять палаты в Киссенгене: русские не хуже нас понимают стратегическое значение Волги как основной нефтеносной артерии, связующей их главные центры с Кавказом…
При свидании с фюрером Паулюс сразу же выразил неудовольствие тем, что у него забрали 4-ю танковую армию Гота:
— С моих рук содрали железные перчатки, которыми я ломал сопротивление русских. Сейчас Гот проходит к югу через мои боевые порядки, занимая переправы, нужные для моей пехоты. При этом танки Гота своей массой ломают речные мосты.
Гитлер не внял обидам Паулюса:
— Гот развернут мною на Ростов, а вашей армии, Паулюс, следует торопиться с выходом на Калач, чтобы затянуть петлю окружения русских в излучине Дола… У вас же там четырнадцатый танковый корпус Виттерсгейма, которым вы не можете нахвалиться! Опять летит, — сказал он, пытаясь поймать комара. — Мой ширпотреб возобновлен в прежнем довоенном уровне…
Тут смешалось все: Виттерсгейм с комарами, а комары с выпуском ширпотреба, а далее Гитлер убежденно говорил, что у Сталина, кроме тех резервов, что собраны им под Москвою, других резервов уже нет и не будет.
— Но… Сибирь, но… Дальний Восток, — намекнул Паулюс.
— Сталин не тронет их, — отвечал Гитлер, — по той причине, что Квантунская армия японцев вылезает из камышей.
Паулюс из диалога с Гитлером вынес главное и не совсем-то приятное впечатление: фюрер считает, что мощь русских подорвана основательно, а заветная линия «А — А» (Архангельск — Астрахань) скоро определит границы его завоеваний. Но в частной беседе с Хойзингером Паулюс признал, что окружение русских возле Калача-на-Дону малоперспективно для его армии:
— Русские научились выкручиваться из мешков и вылезают из любых бурлящих котлов… Кто мне ответит, — спросил он о самом главном, что терзало его вроде кишечной боли, — или захват Кавказа будет решать судьбу Сталинграда, или захват Сталинграда отразится на судьбе продвижения Листа на Кавказ?
Вопрос по-русски звучал резко: не в бровь, а в глаз.
Даже Хойзингер, опытный оперативник, помялся с ответом.
— Факторы взаимодействующие, — отвечал он, — как шестеренки в одной машине. Не половив стерлядей в Волге, мы не понюхаем, чем благоухает бакинская и моссульская нефть…
Это не ответ! Паулюс вдруг вспомнил о Роммеле:
— В армии ходят слухи о том, что в ближайшее время возможна высадка англосаксов где-то в Западной Африке.
— За французское Марокко мы спокойны. Ни англичане, ни тем более американцы не обладают опытом для таких операций…
Сильные грозы и бурные ливни бушевали над фронтом!
…Близилось время, для Сталина почти роковое. Читатель, надеюсь, помнит, что именно в это время Черчилль задерживал отправку в СССР каравана PQ-17 с поставками по ленд-лизу, что он много пил, часто вызывая нашего посла Майского, тревожа его одним и тем же странным для Майского вопросом…
Вопрос был! Со слов Н. С. Хрущева известно, что именно сейчас Сталин стал выискивать побочные контакты с Гитлером для заключения с ним сепаратного мира, и при этом Сталин согласен был уступить немцам Украину и Белоруссию, часть России, уже захваченные немцами Прибалтику и Молдавию — только бы выбраться из этой войны, которая складывалась не в его пользу. Это очень похоже на Сталина, нерусского человека, пришельца со стороны, который был озабочен не честью Российского государства, а лишь сохранением своего царственного престола, который он занимал в Кремле! Поиски контактен начались, когда Гитлер из Пруссии перебрался в Винницу.
«У Берии, — вспоминал Никита Сергеевич, — была какая-то связь с одним банкиром в Болгарии, который являлся агентом гитлеровской Германии. По личному указанию Сталина был послан наш агент в Болгарию, и ему было поручено нащупать контакты с немцами…»
По другим сведениям (за достоверность которых я, автор, не могу поручиться!), в Винницу ездил сам Молотов!
Но Гитлер настолько был уверен в скорой победе, что отверг всякие переговоры с «кадократией» Кремля, считая, что Сталин уже поставлен им на колени. Оправдывая предательское поведение сталинской клики, Хрущев писал, что Сталин, очевидно, желал лишь выиграть время, дабы предупредить катастрофу на фронте, а потом каким-нибудь образом (каким?!) вернуть отданное обратно. Но мне это представляется чушью: Гитлер не расстался бы с той частью страны, которая была им завоевана…
Хочется спросить: кто же они, эти подлые враги народа , искавшие среди нас и находившие среди нас «врагов народа»? Я не стану оправдывать Сталина, имевшего в своих сикофантах палача Берию, но хочу напомнить, что таким же сикофантом при Гитлере состоял его палач Гиммлер, и вот тут, мой читатель, я нащупываю некоторую духовную связь между ними…
* * *
Генрих Гиммлер осмотрел свои пальцы.
— Пусть зайдет Эбба Гюнтер, — велел адъютанту.
Ставка обер-палача размещалась в здании военного училища, превращенного в командный пункт СС, и Гитлер в своем вонючем «Вервольфе» мог бы еще позавидовать Гиммлеру; отсюда, из живописного Житомира, где не зудели комары, рейхсфюрер СС в любой момент мог связаться не только с Берлином, но узнать, что поделывают сейчас в Риме, каково настроение Франко в Мадриде, о чем думают в очередях за мясом голландцы или как весело пляшут жители свободной Бургундии.
— Хайль Гитлер! — послышалось веселое от дверей. — Здравствуй, Эбба, я тебя не слишком обеспокоил?
— Нет. Я только что закончила партию в теннис.
Эбба Гюнтер — молодая, пышущая здоровьем девица, была облачена в черный мундир эсэсовки, исполняя роль маникюрщицы для обслуживания нацистской элиты. Она разложила свои инструменты, расставила перед Гиммлером баночки с лаками.
— Какой сегодня угодно? Светлый? — спросила деловито.
— Чуть-чуть с оттенком перламутра, — отвечал Гиммлер…
Пока очаровательная маникюрша приводила в порядок когти своего шефа, они болтали о пустяках, но их мирную беседу прервало появление Вальтера Шелленберга (не путать с графом Шулленбургом, что до войны был германским послом в Москве). Шелленберга, человека из абвера, но близкого и к делам гестапо, в Германии называли «единственным интеллектуалом среди палачей» или «гангстером среди интеллектуалов». В ставке Гиммлера он появился не случайно, и по выражению его лица Гиммлер догадался, что сегодня гангстер решил побывать в роли интеллектуала.
— Благодарю, Эбба, — отпустил он маникюршу.
Потом долго махал растопыренными пальцами рук, чтобы перламутровый лак высох поскорее, и справился о здоровье.
— Спрашивая о моем здоровье, — отвечал ему Шелленберг, — вы имели в виду совсем другое. То, о чем я думаю, оставаясь единственным трезвым в общем похмельном угаре наших успехов… А вам разве не кажется, что Германия сейчас (именно сейчас!) находится на самом крутом изгибе опаснейшего поворота, ведущего ее в пропасть?
Конечно, возвещать об этом, когда вермахт шагал на Кавказ и устремлялся к Волге, когда сам Гитлер не имел сомнений в конечной победе, мог только очень сильный человек, умевший анализировать обстановку во всем ее международном многообразии, человек, хорошо извещенный о военных потенциалах СССР и США, ведающий секретной информацией о том, что молох германской промышленности скоро истощит сам себя, а тогда…
«Что тогда?» Гиммлер нарочито-равнодушно спросил:
— Не пойму, что беспокоит вас, милый Вальтер?
Ответ был рискованным для Шелленберга:
— Настал момент для принятия решений, которые будут, пожалуй, самыми труднейшими со времени начала этой войны.
Гиммлер, сам не дурак, уже понял, куда направляет его подручный, но собственные мысли он еще утаивал, вынуждая Шелленберга раскрыть свои карты до конца, чтобы дальнейшая игра, столь опасная, началась вчистую.
— Разве можно, Вальтер, понять вас?
— Попытайтесь! — отвечал Шелленберг. — Но прежде я задам вам один вопрос, от которого вы… вздрогнете.
— Что ж! Согласен и вздрогнуть.
— Тогда скажите, — отвечал Шелленберг, — в каком из ящиков вашего стола затаился сугубо секретный план запасного решения относительно финала этой войны?
Казалось, Гиммлер сейчас схватит стул и запустит его в собеседника, а потом велит тащить его в подвал гестапо. Но Гиммлер долго смотрел на Шелленберга, как бы недоумевая, а потом заговорил, сначала тихо-тихо, а затем вскочил из-за стола, бегая по кабинету, выкрикивая ругательства:
— Сумасшедший! Сейчас, именно сейчас, когда… Может, вы заработались? Может, дать нам месячный отпуск, чтобы попьянствовали и забыли свои слова?
Шелленберг выждал, когда Гиммлер истощит свой гнев, явно наигранный, как у хорошего актера, а потом спокойно продолжал заколачивать в башку своего шефа тот самый длинный гвоздь, над которым уже занес свой расчетливый молоток.
— Было бы глупо ожидать от вас иной реакции на мои слова, — сказал он. — Признаюсь, я ожидал даже худшего. Но… вернемся к истории. Даже великий Бисмарк, что бы ни делал, всегда имел запасное решение, и такое решение, я не сомневаюсь, уже сокрыто в ящике вашего стола… Сейчас, — напористо продолжал Шелленберг, — Германия ведет войну не столько ради победы, сколько ради выигрыша времени, чтобы отсрочить час нашего поражения. Не понимать это могут только глупцы! Ясно, что второго фронта в Европе долго не будет, как не будет его и далее, и я думаю, что Рузвельту с Черчиллем выгоднее пойти на сепаратный мир с нами, нежели, услужая Сталину, открывать в будущем второй фронт с большими для них жертвами…
Гиммлер слушал и время от времени начал кивать головой, соглашаясь с Шелленбергом, а однажды даже пробурчал:
— Не спорю, Вальтер, что голова у вас работает. Но что вы предлагаете мне конкретно? — спросил он.
Предлагать было опасно, но Шелленберг все-таки предложил:
— Германии пришло время заново начинать мирный диалог с Западом, пока наш рейх еще полон сил и могущества, пока наш вермахт не отступает, а наступает на русских, и потому мы, именно мы, тайные службы Германии, должны начать переговоры, ведя их с позиции силы…
Был очень долгий разговор, и Гиммлер спросил, не истолкуют ли на Западе эту акцию, как признак слабости Германии?
— Возможно, — отозвался Шелленберг.
— Не усилит ли наша акция желание западных держав еще большего укрепления связей с московскими заправилами?
— Этого не случится! — заверил его Шелленберг. — Напротив, они будут рады поболтать о мире с нами за спиной Сталина.
— Пожалуй, — согласился Гиммлер. — Но кто выступит в роли маклера, чтобы заранее подсчитать все наши убытки и чтобы Германия не выглядела банкротом в глазах Запада и Америки.
Шелленберг сказал, что фюрер не должен быть посвящен в их планы, а доверить переговоры Риббентропу опасно:
— На что существуем мы, секретные службы, имеющие подземные и подводные каналы, через которые, как через трубы городской канализации, протекают всякие нечистоты, но горожане при этом даже не ощущают зловония фекалий великого города!
— Разумно, — кивал Гиммлер. — Но… вам не страшно?
— Страшно, — сознался Шелленберг. — Но гораздо страшнее другое. Мы уже не можем уповать на тотальную победу, ибо наша великая Германия неизбежно скатывается в пучину тотальной войны, за которой ее ждет тотальное поражение.
Гиммлер долго и внимательно изучал блеск своих ногтей.
— Что вам необходимо для начала переговоров?
— Нейтрализуйте ведомство Риббентропа до рождества этого года, чтобы я за это время установил контакты с разведками союзников, а они выведут нас и на политиков…
Разложив карту Европы, они еще долго изучали, что придется вернуть союзникам, а что оставить в составе своего рейха.
— А как же… Россия? — вдруг спросил Гиммлер. Вальтер Шелленберг не ответил, а только пожал плечами.
— Все наши территориальные приобретения, — сделал вывод Гиммлер, — должны стать разменной монетой для выгод рейха. Я вас понял. Понял и… доверяю. Но если случится провал, то я вас не дезавуирую, как паршивого дипломата, — нет ! — сказал Гиммлер, — я вас выброшу, как старые и грязные носки.
— И будете правы, — согласился Шелленберг
…Помню, зимой 1943 года в заполярной бухте Ваега я нес ночную вахту на пирсе. По одну сторону пирса покачивался наш эсминец «Грозный», по другую — американский корвет. Я ходил вдоль заснеженного пирса с карабином, во флотском полушубке и в валенках. Надо мною с тихим потрескиванием разворачивался веер полярного сияния, тихо плескались волны, а стальные швартовы кораблей поскрипывали от напряжения. Это была «собака» — вахта с нуля до четырех, самая паршивая вахта.
Она подходила к концу, и вдруг… что такое? Глазам не верилось. Я увидел то, о чем раньше читал только в морских романах. По швартову, протянутому с полубака американского корвета, отчаянно на нем балансируя, передвигалось что-то непонятное, но живое. Еще, еще и еще… крысы ! Одна за другой они покидали корабль, и мне, сознаюсь, стало тут жутко. У нас на мостике была сигнальная вахта, на сходне — тоже стоял матрос, а союзники дрыхли: ни единой души на их палубе. А крысы скопом покидали корабль, по швартову сбегая на пирс, после чего — одна за другой — исчезали в сторону берега.
На этот раз я «собаку» не достоял, как положено. На нашем эсминце и на корвете США почти одновременно пробили «колокола громкого боя», призывающие к походу. Мы вышли в море и еще на Кильдинском плесе, откуда разворачивался простор океана, американский корвет был торпедирован немецкой подводной лодкой. Сколько тогда спасли — не помню! В таких случаях обычно спасали семь человек (не больше и не меньше). Но с тех самых пор я свято уверовал, что крысы заранее чуют беду и, повинуясь природному инстинкту, покидают корабль, который обречен на гибель…
Не так ли и Шелленберг с Гиммлером? Вермахт был еще силен, он наступал, а мы отступали, но они, словно крысы, уже ощутили тот момент, когда надо покидать гитлеровский корабль. Говорят, что крысы умные. Не спорю. Но ведь и Шелленберга с Гиммлером дураками никак не назовешь…
10. Вот такие дела…
Сталинград просыпался. Возле булочных выстраивались длинные очереди. Трамваи, отчаянно дребезжа, развозили рабочий люд по заводам и фабрикам. Позванивая, ехали велосипедисты. Над городом уже плавала под облаками «рама» — разведывательный самолет противника. Возле речной пристани сидели два матроса. На ленточках их бескозырок было четко обозначено золотом, что они не барахло какое-нибудь, а — «Волжская военная флотилия», таким и сам черт не брат. Возле ног катались громадные арбузы, из которых матросы выбрали самый большой на расправу.
— Кажись, сойдет… вот этот! Бесплатный.
— Так режь его, Вася, коли платить не надо… Война!
Под ступенями пристани тихо плескалась Волга, а неподалеку какой уж день догорала баржа, приплывшая из низовий. Матросы ели арбуз, а корки бросали в воду, далеко и смачно плевались они черными семечками. Но мешал им дым с этой баржи, густо наползавший на сталинградский берег.
— Горит. Какой уж денек. Сказывали, что в трюмах селедка была. Астраханская. Малосольная. Вкуснятина.
— Закуска пропадает, — отвечал второй матрос. — Если бы нам где пол-литра достать, так я бы до баржи сплавал: туда и обратно. Уж двух-то сельдей бы выручил… для закуси.
— Слышь, Федя, а вам колбасу вчера давали?
— Давали.
— А чего еще вам давали?
— Политграмоту давали.
— А из жратвы ничего не было?
— Сказали: потом давать будут.
— Может, искупаемся?
— Можно. Но сначала давай арбузы доедим.
— До свету не управимся! Гляди — гора какая.
— Русский матрос все трудности преодолеет… Невдалеке у пристани чуть пошатывался на волне их боевой корабль — вчерашний «речной трамвай», на котором за гривенник катались в мирные дни сталинградцы по Волге, а теперь возле его рубки приладили пушку, снятую с поврежденного танка.
Город пробудился, Чуянов, выглянув в окно, сказал жене:
— Гляди, она уже здесь. Ожидает.
— Машина подошла или… кто там?
— Овчарка эта… Астра! Ждет, когда я в обком тронусь. Вот тебе и зверь — вернее человека бывает…
Во дворе соседнего дома на Краснопитерской недавно поставили зенитную пушку. Обнаженные до пояса зенитчики, здоровущие балбесы, до вечера резались в домино, оглашая двор неумолчным стуком костяшек. Из окон высовывались всякие бабки:
— Креста на вас нетути! Что за жисть такая пошла. Ежели не бомбят, так от своих нет спасения. Вы бы не козла забивали, а эвон, самолет крутится — сбейте его… На то вас нету, охламоны несчастные. Вот ужо, ты генералам нажалимся.
— Мы генералов не боимся, — орали зенитчики.
— Так мы самому Сталину… вот ужо!
«Ночью младший сын вздрагивает от пронзительного воя сирен, полусонного его уносят в бомбоубежище… Я его так мало вижу.
Старшему пошел десятый, и все семейные тяготы легли на жену. Она молодец, не ропщет, внешне держится спокойно, хотя чувствую, что нервы ее взвинчены до предела».
Чуянов отложил дневник. К нему подошла жена!
— Алеша, я долго молчала. Теперь скажу. Ну, ладно — мы с тобой. Но у нас ведь дети. Старик с бабкой. Чужих людей ты спасаешь в Заволжье, а свою семью не бережешь.
Понять женские и материнские опасения было легко.
— Нельзя! — жестко ответил Чуянов. — Народная власть останется на местах. Пока моя семья в городе, и люди спокойны. Начни мы свои манатки паковать, и в Сталинграде сразу решат, что городу пришел конец… Пойми — нельзя!
— Кончится прямым попаданием. Или пожаром.
— Чем бы это ни кончилось, — ответил Чуянов жене, — но моя семья должна оставаться в Сталинграде.
— Ох, жестокий ты человек, Алеша! — отошла от него жена.
— Может быть, — не сразу сам себе признался Чуянов.
Возле элеватора долго и чадно горел состав с зерном. А по улицам, даже не плача, смиренные, какими бывают в горе только русские женщины, матери несли маленькие гробы — для своих же детей, которых у них не стало вчера или позавчера…
* * *
После войны, когда Василий Иванович Чуйков был заместителем министра обороны СССР, его очень побаивались на маневрах. Стоило генералу начать бравый доклад о наступлении, как Чуйков сразу отстранял его в сторону, говоря при этом:
— Не лезь! Тебя убили. Остался начальник штаба.
— Я пускаю через мост танки, — решил начштаба.
— А мост уже взорван, — вмешивался Чуйков.
— Тогда, используя броды, я начинаю форси…
— Стоп! В этой реке нет никаких бродов.
— Я запускаю авиацию поддержки…
— Твоя авиация разгромлена противником еще на аэродромах. Боеприпасы кончились. А эшелоны не подошли, разбитые на путях танками противника. Склады горючего объяты пламенем.
— Как же тогда воевать, Василий Иванович?
— А вот именно так мы и воевали в сорок втором…
Впрочем, намаявшись в штабах армии Чан Кайши, Василий Иванович и сам-то еще не умел воевать, а поначалу больше присматривался — что и как, чему верить, а на что можно и плюнуть. Одно крепко понял Чуйков, что война — это не всегда отчаянная атака с громогласным «ура» и не суворовский штык-молодец. А сама же война иногда преподносит такие коллизии, что ахнешь. Приноравливаясь к делам фронта, Василий Иванович — не в пример иным военачальникам — не гнушался говорить по душам с солдатами-ветеранами, которые протопали от Буга до излучины Дона, набирался ума-разума от этой серой и многоликой массы людей, которые на себе испытали все ужасы войны, а рассказы их были иногда таковы, что Илья Эренбург вряд ли поместил бы их в свои очерки. Однажды, встретив в окопах лейтенанта Петрова, вчерашнего солдата, носившего на гимнастерке Звезду Героя Советского Союза, генерал напрямик спросил его:
— Дружище! А что самое страшное ты видел в этой войне?
— На войне все страшно.
— Ну, а все-таки, что больше всего запомнилось?..
Он ожидал услышать геройский рассказ о прорыве из окружения или как последней гранатой подбили немецкий танк, крутившийся над траншеей, а вместо этого услышал совсем другое, звучавшее почти мистически — и страшно, и трагично:
— Пожалуй, вот зимой сорок первого здорово струхнул я. Было это под Калинином. Лежим в снегу. Жрать охота — во как! Вечереет. Ждем немца, чтобы отстреляться. Вдруг перед нами, на ровной снежной поляне, из леса выходят… призраки.
— Какие ж на фронте призраки?
— Обыкновенные. Головы у всех наголо обритые, как у маршала Тимошенко. Сами жуткие! Балахоны на них белые, на ветру развеваются. Идут на нас. И пляшут. Но пляшут не по-людски, а как-то заморски. Дергаются, кривляются, кричат. Руки у всех на животе, связанные рукавами. Издали мы их приняли за лыжный батальон в маскхалатах. Видим — не, что-то другое. И палок не видно в руках. А за призраками… немцы.
— Как же так? — не поверил Чуйков.
— А вот так.
Оказывается, немцы гнали психов.
— Каких психов?
— Самых настоящих. Из какой-то больницы для сумасшедших. Ну, тут мы поднялись, дали немакам прикурить, а психам вернули свободу. Обогрели, сухарей дали и обратно всех — за решетку, как положено… Вот это и было самое страшное!
Многое открывалось Чуйкову как бы заново, и он, профессиональный военный, стал понимать нечто такое, чему в Академии Генштаба не обучали. Даже вопрос о героизме, единоличном и массовом, требовал, кажется, совершенно новых оценок. Люди так устроены, что по-разному воспринимают опасность, по-разному переносят страх. Бывали на войне такие герои, которым выстоять под огнем минометов — хоть бы что, но эти же люди превращались в трусливые тряпки при бомбежках. И, наоборот, забившись в кусты под минометным обстрелом, человек поднимался во весь рост под лавиною бомб. Вот, поди ж ты, разберись в таких причудах человеческой психологии… А сколько было случаев, когда здоровущие мужики лежали плашмя, уткнувшись носами в землю, не в силах от нее оторваться, и вдруг вставала курносая девушка из санитарок, звавшая их в атаку:
— А ну, трусы! Водку-то жрать да кашу лопать — все горазды, а сейчас что? Вперед, всем за мной — за Родину, за Сталина…
Запомнилось Чуйкову, что при отступлении пали под гусеницами танков четыре солдата, и корреспондент фронтовой газеты живописал их гибель как подвиг. Но бывалый боец, уже пожилой, внуков имевший, рвал ту газету на самокрутки.
— Хреновина все это! — говорил он. — Под гусеницами танков обычно погибают в двух случаях: или те кто бегут от страха, или те, кто решился стоять насмерть… Ну, а эти говнюки просто бежали. Немцу-то и в радость: догнал их и передавил, будто клопов каких. Я-то ведь сам видел, как они драпали…
…Василий Иванович Чуйков ступил на Сталинградскую землю 16 июля и сразу же проявил свой характер — самостоятельный, непокладистый, даже агрессивный. Получив от Тимошенко директиву на боевое развертывание 62-й армии, Чуйков догадался, что командование фронтом обстановки на фронте не знает. Это были дни, когда передовые отряды 62-й армии с трудом сдерживали противника. Чуйков доказывал дельно:
— Головные отряды моей армии выгружаются из вагонов, чтобы начать марш к фронту. А хвосты армии и тылы снабжения армии застряли еще в Туле… Вы требуете завтра же занять оборону по реке Цимла, до которой нам пешедралить двести километров. Вот и подумайте — когда мы там будем?
Его стали бояться. Говорили, что заняты. Говорили, что принять не могут. Нигде не добившись разумных решений, Чуйков в оперативном отделе отыскал полковника Рухле.
— Сейчас не время, чтобы спорить, — сказал Рухле. — И война не ради соблюдения уставов. Ждать нельзя. По мере разгрузки эшелонов — войскам в бой. Тылы подтянутся позже…
— Для чего же писались тогда уставы?
— Для мирного времени, — отвечал Рухле. — А сейчас пишутся другие. Военные… Но теперь писать их приходится кровью.
— Чернилами-то… дешевле! — обозлился Чуйков.
Рухле взял директиву Тимошенко и тут же перенес сроки исполнения с 19 на 21 июля. «Я был поражен, — вспоминал Чуйков. — Как это начальник оперативного отдела без ведома командующего может менять оперативные сроки? Кто же тогда командует фронтом ?» Чуйков выехал в степи — нагонять войска. По дороге навестил 62-ю армию, где встретил дивизионного комиссара К. А Гурова, недоверчиво глядевшего на генерала в белых перчатках:
— Что вы тут вырядились? Как для парада.
— Извините, что перчаток не снимаю, — сказал Чуйков, здороваясь. — Был я военным советником при штабе Чан Кайши и от китайской грязи подцепил на руках экзему…
Когда он осмотрелся на местности и понаблюдал за противником, Кузьма Акимович спросил его о первых впечатлениях.
— Отвечу… Вермахт, конечно, организация солидная. Но, кажется, изъянов в ней тоже немало. Пехота не лезет вперед без танков, танки не идут без прикрытия авиации с воздуха. Взаимодействие отработано у немцев блестяще. Но вот что я заметил: стоит нарушить эту взаимосвязь, отключить из общей цепи хотя бы одно звено — и машина вермахта сразу буксует. Артиллерия у них работает слабенько. Пехота не имеет рывков. Автоматчики атакуют шагом, будто гулять собрались…
— Ну-ну! — подзадорил его Гуров.
— Побеседовал с бойцами, — продолжал Чуйков. — После всего, что произошло, они своим комбатам в окопах верят намного больше, нежели маршалам в кабинетах. Вернуть им эту веру в высшее командование можно только успехом. Но прежде следует сдержать отступательные настроения в войсках. Что-то уж больно они разбежались — от Харькова и до Волги!
— Ты прав, Василий Иванович, — сказал Гуров. — Многие уже освоились с удобной мыслью, что Дон потерян, оборона будет лишь на подступах к Сталинграду. С этим надо кончать. Чем дальше от Сталинграда удержим Паулюса, тем легче будет и Сталинград отстаивать… Сейчас, как никогда, вся армия нуждается в строгом, повелительном окрике: «Ни шагу назад !»
64-й армией командовал генерал Василий Николаевич Гордов, а Чуйков считался его заместителем. Их знакомство состоялось не в лучший момент военной истории «Я видел, как люди двигались по безводной сталинградской степи с запада на восток, доедая последние запасы продовольствия, задыхаясь от жары и зноя. Когда их спрашивали: „Куда идете?..“ — они отвечали бессмысленно — все кого-то искали обязательно за Волгой…»
Штаб генерала Гордова был на колесах, даже спальный гарнитур командарма, — все моторизовано, чтобы в отступлении, не дай Бог, задержки не возникло: мотор завел — и поехали! Это не понравилось Чуйкову, как не понравился ему и сам Гордов: «Острый нос, острый подбородок, узкие губы, маленькие кустики бровей над глазами, коротко острижены под бобрик черные с проседью волосы. Держится ровно, но отдаленно…» Гордов смотрел на Чуйкова, а глаза его, казалось, не видели заместителя, и, что бы ни говорил Чуйков, на лице Гордова было написано равнодушие, и, наверное, ему бы сейчас подошли слова: болтай тут что хочешь, а изменить обстановки на фронте мы уже не в силах.
Настроенный пораженчески, Гордов сказал:
— Я все знаю. Лучше вас. Но выше башки не прыгнешь.
— Да прыгают! — возразил Чуйков. — Например, спортсмены.
— Так это спортсмены, им сам Бог велел прыгать. А война — не спорт. Что там у вас ко мне? Давайте.
Ни вопросов, ни дискуссии, ни возражений — ничего этого не было, и Гордов, будучи дремучим столоначальником, легко подмахнул бумаги Чуйкова о позиции первого и второго эшелонов.
— В излучине Дона, — буркнул он на прощание, — лучше бы оставить лишь часть армии, а резервы держать поближе к городу. Сами видите, что допрут они нас до Волги, так будет для нас же удобнее, если … сами понимаете!
Чуйков понимал, что кроется в сознании Гордова за этим трусливым «если», и стал горячо возражать.
— А вот возражений я не терплю, — сказал ему Гордов.
«Ну и катись ты к чертовой матери», — думал Василий Иванович, покидая этот штаб, переставленный на колеса.
* * *
Хронологическая схема такова: 16 июля Гитлер перебрался в «Вервольф» под Винницей, а 17 июля принято — по традиции — считать первым днем Сталинградской битвы.
Не стало Юго-Западного фронта во главе с маршалом Тимошенко, но об открытии Сталинградского фронта, с тем же маршалом во главе, наши газеты тактично помалкивали, хотя, как известно, шила в мешке не утаишь. Честно говоря, порой можно и запутаться? Сталин постоянно — чаще, чем нужно — совмещал соседние фронты, он разъединял их, деля на два фронда, он их переименовывал, а командующие фронтами перемещались у него постоянно, будто пешки в шахматной игре.
Сталин почему-то (неясно — почему) считал, что частая рокировка командующих лишь усиливает руководство фронтами, но сами причины перетасовки генералов с одного фронта на другой оставались известны только одному Верховному. Отличился кто из командующих — бац! — переводят на другой фронт, понесла твоя армия большие потери — тоже переведут, иногда даже с повышением. Вот и пойми тут… Думаю, что наш дорогой товарищ Сталин и сам толком не знал, что изменится, если Иванова заменить Петровым, а на место Петрова посадить Васильева.
Если же кто и был крупно виноват, Сталин спрашивал:
— А морду ему набили? Лучше всего — бить в морду…
Но как бы ни сортировали своих генералов, непреложным оставалось правило: все успехи в войне принадлежали несомненно «гению» Сталина, а в случае поражений виноватыми останутся те же самые Иванов, Петров да Васильев… Вот он, изворот азиатской психологии, вот он, патологический выверт болезненной самоуверенности и гипертрофированной самовлюбленности!
Между тем в сознании народа не одни генералы виноваты, а кое-кто и повыше, и Сталин чувствовал себя в пиковом положении. Не он ли, мудрый и гениальный, на весь мир издал торжествующий клич о том, что 1942 год станет годом победного апофеоза, когда гитлеровская армия будет разгромлена полностью, но… Катастрофа следовала за катастрофой, а теперь можно было ожидать, что именно сорок второй год и выведет вермахт на роковую линию «А — А» (Архангельск — Астрахань), которую в уютных бункерах Цоссена наметил Паулюс в своем плане по названию «Барбаросса»… Так, спрашивается, кому же теперь оставаться виноватым, чтобы товарищ Сталин оказался правым?
Иосиф Виссарионович уже давненько, еще со времен Барвенково, не раз подумывал, что виноват-то маршал Тимошенко, однако обвини он маршала, тогда косвенно и сам останешься виноватым. Лучше уж убрать Тимошенко потихоньку, шума не делая, а вот… кого подсадить на высокий пост командующего Сталинградским фронтом, сейчас едва ли не самым тревожащим? Если бы Сталинград оставался прежним Царицыном, так черт с ним, не так уж страшно, но город-то носит его имя, и становился символом его собственного величия… Да, вопрос сложный.
Москва — Кремль. Сталин — Хрущев. Беседовали.
Никита Сергеевич, хотя и приехал из Сталинграда но обстановки на фронте не ведал, зная лишь одно — обстановка паршивая, и никаких перемен к лучшему не предвидится. Сталин об этом был извещен гораздо лучше Хрущева, в разговоре он точно называл имена генералов, не ошибался в нумерации полков и дивизий, потом упомянул генерала Еременко, высказав сожаление, что тот еще в госпитале, ранение у него тяжелое…
Без предисловий был задан вопрос в упор:
— Кого нам назначить командующим?
Ясно, что судьба Тимошенко уже решена и ему командовать уже не придется, потому Хрущев о маршале больше не заикался. На вопрос же удобнее всего отвечать своим вопросом:
— А вы, товарищ Сталин, кого бы считали нужным сделать командующим Сталинградским фронтом?
Сталин опять стал говорить о Еременко, упомянул, что отлично показал себя генерал Власов (в ту пору еще не сдавшийся в плен немцам и бывший одним из любимцев Сталина).
— К сожалению, — говорил Верховный, — Власов сейчас задействован на другом фронте и сидит там в окружении… Так называйте кандидатуру, пригодную для обороны Сталинграда.
Хрущев вертелся и так и эдак, ссылаясь на то, что знаком только с теми людьми, с которыми имел дело на фронте, но Сталин прилип к нему, как банный лист, и Хрущев понял, что ему сейчас хоть с потолка снимай, но дай срочно командующего.
— Правда, есть у нас такой вот Гордов, — сказал он.
— Гордов? — переспросил Сталин.
— Хотя, честно говоря, много у него недостатков.
— Какие же? — заинтересовался Сталин.
— Сам-то он вот такого роста, щупленький, как недоносок, но очень грубый. Дерется! Бьет даже командиров, и в его армии нет людей, которые бы любили его и уважали.
— Это хорошо, — сказал Сталин, уже начиная испытывать симпатию к Гордову. — Это хорошо, что Гордов не боится дать в морду… Такие люди особенно нужны нам сейчас!
Решили.
27 июля Чуянова навестил мрачный, как туча, генерал Герасименко, ругал жарищу проклятую (хоть бы поскорее осень пришла), печалился о делах обороны города, и мнение его отчасти совпадало с недавним мнением генерала Чуйкова — Волга отрезала тылы от фронта, словно голову от туловища:
— Посуди сам, Семеныч! Тылы-то наши в Заволжье, а фронту, очевидно, бывать в городе. Наш правый берег — еще так-сяк, он обжитый, пусть и худые дороги, но все же проехать можно. А на левом берегу — пустота и безлюдье, ковыль да бурьян, верблюды шляются, даже куста нет, и только железная дорога, каких свет не видывал: прямо на земле рельсы уложены…
Высказался от души Герасименко, потом объявил:
— Новость у нас: нет больше Тимошенко, сняли.
— Кто же теперь станет в Сталинграде командовать?
— Генерал-лейтенант Гордов, который и поговорить-то с людьми не умеет. Правда, Никита Сергеевич при нем же остается, как и был, членом Военного совета фронта. Вот такие дела…
Странно! А если бы Гордов не махал кулаками? А если бы Гордов не прославился «матерным правлением»? А если бы Хрущев не вспомнил его? Может, и не было бы этого Гордова в истории величайшей битвы на Волге.
Писать об этом даже как-то неловко! Стыдно.
* * *
В редкие минуты затишья со стороны зоопарка слышался над Сталинградом жалобный, но могучий рев — это трубила слониха Нелли, никак не понимавшая, почему в такую жарынь ее перестали водить к Волге, чтобы она купалась. Фронт приближался, а среди военных странно было видеть командира в зеленой фуражке пограничника, и фронтовики иногда злобно окликали его:
— Эй ты… граница на замке! Где же ты нашел границу свою? Неужто на Волге? Хоть бы фуражку снял! Постыдись!
— А граница вот здесь, где я стою, — не обижаясь отвечал пограничник. — Это по вашей вине граница передвигается, вот и я передвигаюсь вслед за вами. Все зависит от вас, ребята, чтобы от Волги я вернулся опять к Бугу…
Тяжко было сталинградцам покидать свой город, где они росли и выросли, старики даже плакали порой, говоря:
— Господи, да в подвале отсидимся. Нешто вы не люди? Ой, да не толкайте меня. Мы же здесь сызмальства, у нас и могилки-то дедовские вон тут недалече… Я же не сталинградский, я же ишо — царицынский, понимать надо!
Чуянов выбрал свободную минуту, чтобы навестить здание сталинградской тюрьмы, которая за эти дни превратилась в общежитие. Всюду, куда ни глянешь, женщины куховарили, простирывали в тазах бельишко, малолетки просились у матерей «а-а» на горшок. По длинным тюремным коридорам мальчишки гонялись на самокатах, детвора играла в пятнашки.
— А вы, друзья, эвакуироваться не собираетесь?
— Ни в жисть! — отвечала за всех бойкая старушенция с бельмом на глазу. — Эвон, стенки-то здесь каковы, будто в крепости какой Я в своей одиночке даже занавесочки развесила… Здесь не страшно! Уж что-что, а тюрьмы-то у нас наловчились делать. Никакая бомба не прошибет…
11. Директива № 45
Немцев было много. Так много, что, занимая станицы, они разом вычерпывали до дна колодцы, вламывались в дома:
— Матка, вассер, матка, кур… матка, яик!
После них генералу Итало Гарибольди оставалось давить кошек, а румыны глодали свою кукурузу. Глядя, как прокатывается мимо немецкая мотопехота, хорваты говорили:
— У, собачье мясо! Пешком не любят ходить…
Паулюс в приказах по армии призывал солдат не смотреть свысока на своих союзников, находил доходчивые слова:
— Сейчас мы единая футбольная команда, стремящаяся к единой цели — забить решающий гол в ворота Сталинграда, которые, считайте, уже распахнуты перед нами…
После краткого периода гроз и ливней — снова иссушающая жара. Паулюс растирал рукою живот, мучивший его болями, и часто поминал доктора Фладе — того самого, что летел с трупом Рейхенау и врезался в ангар аэродрома:
— Слишком долго он собирает в лубках и гипсе свои переломанные кости. Хотя именно Фладе обещал избавить меня от болей.
Полковник Вилли Адам подсказывал:
— Почему бы вам не довериться главному врачу нашей элитарной армии — профессору и генералу Отто Ренольди?
— Как профессор, он более озабочен вспышками сыпного тифа и желтухой, а как генерал, он отважно сражался с гнидами и вшами, и ему некогда заниматься моим кишечником…
Степь казалась почти пустынной, в балках и низинах не сразу угадывалась близость хуторов, где яблони и виноградники окружали мазанки, а под купами старых вязов тихо дремали дедовские «копанцы», и только в речных долинах шумели рощицы.
«Страшная жара и голая степь без воды, — записывал в дневнике некий Вильгельм Гофман. — Впервые в жизни мы наблюдали мираж. Кажется, впереди нас ждут лес и озеро, манящее к отдыху. Но лес и озеро все время от нас удаляются…»
— Странно, — озирались немецкие солдаты, — куда же делись местные жители? Даже старух и детей не видно…
Сидевшие в бронетранспортерах, они, как «сеньоры войны», легко обгоняли на своих моторах союзников.
— Одна команда! — говорили, посмеиваясь. — Но если забьем гол в ворота Сталинграда, то судья присудит победу вермахту, а этим голкиперам просвистит только штрафные…
6-я армия занимала как бы промежуточное положение по фронту — между войсками Вейхса, что окапывались под Воронежем, и мощной группой Листа и Клейста, направленной в сторону Ростова и Кавказа. Инфантерия двигалась налегке, по-деловому засучив рукава до локтей, пилотки они держали заткнутыми за поясные ремни, а головы солдат покрывали яркие пластмассовые козырьки, какие носят спортсмены на стадионах.
Мнение солдат 6-й армии Паулюса было однозначно:
— Только бы выйти на берега Волги и выспаться в квартирах Сталинграда, а там, за Волгой, русских ждет голая калмыцкая пустыня, и тогда они сами поймут, что войну проиграли…
Для них, едущих или марширующих, стало уже привычным зрелище: грузовики, которые отъезжали в тыл, доверху заполненные мертвецами, еще вчера вот так же шагавшими в авангарде, еще сегодня утром рассуждавшими такие же образом: «Только бы выбраться к Волге — и война сразу закончится!» Для них война уже завершилась, хотя Волги они так и не увидели…
Пехоту нагоняли громадные автоцистерны с питьевой водой, и солдаты, наполнив фляги, шагали дальше, распевая:
Яволь, майне херн, Даc хабен вир зо герн — яволь, яволь, яволь!Смысл их песни был прост: сомнениям нет места, а они, верные солдаты фюрера, всегда готовы исполнять любые приказы. По вечерам, отдыхая от маршей, они включали радиоприемники, и до них доносился усталый немецкий голос — голос из Москвы, ежедневно предупреждавший: «Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат…»
* * *
Винница — «Вервольф» (оборотень). Опять благоухание приятной смеси керосина с креозотом. Снова трагическая война с комарами, пронизанная их гудением и торжествующими воплями Гитлера в редкие моменты его личной виктории…
Франц Гальдер медленным жестом, еще додумывая что-то очень важное, опустил на рычаг трубку зеленой «лягушки».
— Паулюс? — спросил Хойзингер.
— Нет. Его адъютант Вилли Адам.
— Что-нибудь случилось в шестой армии?
Адам доложил, что в маршевых ротах убыль достигла предела… в иных ротах осталось не более 50 человек.
— А вторые эшелоны? Наконец, резервы у Вейхса?
— Резервов нет, ибо Вейхс сцепился в смертельном поединке с армией Рокоссовского и окапывается под Воронежем, словно сурок, на которого пикирует ястреб. У Паулюса же второй эшелон — в основном итальянцы да румыны, которые, как и женщины, нуждаются в жестких корсетах, чтобы они выглядели стройнее. На них нельзя рассчитывать. Это лишь пробки для затыкания дырок в нашей протекающей бочке.
Совсем недавно Гальдер отпраздновал свой юбилей, получив от Гитлера ценный подарок — его же портрет с автографом, оправленный в рамку из серебра, и, казалось, ничто не предвещало беды.
Сняв пенсне, Гальдер сказал:
— Не пора ли и нам тоже… окапываться?
— Не понял! — ответил Хойзингер.
— Мы уже завязли в России всем телом, широко раскинув руки в стороны Волги и Кавказа, а это… это чревато огромным напряжением не только для вермахта, но и непредвиденными последствиями для будущего всей Германии.
— Вывод? — спросил Хойзингер.
— Вывод таков: пора думать о переходе к жесткой обороне на зимних квартирах, чтобы морозы не застали нас в сугробах, как это случилось под Москвой.
— Вы только не скажите об этом фюреру, — намекнул Хойзингер, — он как раз уверен, что наши дела превосходны…
Гитлер не был последователен, воодушевляясь по мере нарастания того напряжения, какое испытывали фронты его вермахта. Так, например, поначалу он не требовал обязательного захвата Воронежа, но теперь указывал Вейхсу держаться за его улицы и переулки зубами; в его планы сначала не входило и взятие Сталинграда, но теперь он требовал от Паулюса непременного штурма этого города, который носил имя его соперника. Состояние победной эйфории, как и война фюрера с комарами, рискованно затянулось…
Йодль думал если не совсем так решительно, как Франц Гальдер, но примерно так же осторожно. Он считал, что до Баку вермахту не добраться, следует ограничить себя Майкопом и Грозным, а все силы обратить против Сталинграда. Но едва Йодль заговорил об этом при Гитлере, как сразу разгорелся «неслыханный скандал, такого скандала еще никогда не бывало в ставке — вспоминал Йодль перед казнью. — Меня должны были сместить с поста. Фюрер больше не здоровался со мной и Кейтелем, не заходил к нам, как бывало ранее, не обедал с нами…».
При встрече с Гальдером он спросил его:
— Теперь ваша очередь. Собираетесь говорить с ним?
— Пока нет. Жду случая.
— У нас таких случаев много. Поспешите за оплеухой…
По негласной, но старой традиции, главную роль в немецком генштабе всегда исполнял северогерманец (лучше — пруссак!), а Гальдер был уроженцем Баварии, и, как ни странно, это обстоятельство тоже ослабляло его служебные позиции. Скандал не замедлил разразиться, когда Гальдер подсунул Гитлеру самую последнюю сводку из абвера:
— Мой фюрер, кажется, ваш премудрый московский коллега Сталин решил обогнать вас, производя в месяц тысячу танков.
Этого было достаточно.
— Я, — закричал Гитлер, — вождь величайшей промышленной державы, опираясь в своих расчетах на величайшего гения, в поте лица своего выпускаю шестьсот танков в месяц, а вы… герр Гальдер… о чем?.. уберите эту фальшивку!
При этой сцене, довольно-таки грубой и непристойной, случайно присутствовал и фельдмаршал Манштейн, который не забыл всей картечи оскорблений, летевшей в сторону Гальдера. Но при этом Гальдер и далее раскручивал жернова гитлеровской ярости, которые его же и перемалывали.
— Мой фюрер, — вежливо, но ехидно сказал он далее, — вы жалуетесь, что при упоминании о Сталинграде у вас начинает болеть живот, и ваше гениальное предчувствие, как всегда, вам не изменяет… Сейчас возникло слишком высокое перенапряжение двух фронтов в группах «А» и «Б», что сказывается на состоянии нашей пехоты и танков. Вы требуете от войск небывалой твердости духа, забывая о том, что тысячи молодых немцев складывают в пирамиды свои головы и…
— Вы, — опять заорал Гитлер, — две войны подряд протирали штаны с лампасами на штабных стульях, а ваш мундир не имеет ни единой нашивки о ранении. — При этом Гитлер указывал на черную нашивку, украшавшую его мундир. — Как вы смеете судить о достоинствах германского солдата, который заставляет трепетать весь мир… даже небоскребы в Нью-Йорке сотрясаются от его могучей поступи. Да, мы будем в Сталинграде — это моя стратегия, да, наш вермахт прильнет к нефтяным скважинам Кавказа — того требует моя экономика…
Гальдер выбрался из барака фюрера распаренный:
— Фу! Как будто я побывал в русской бане, отчего меня избавь Всевышний… Все я понял, я не понял только одного: кто этот гений, на которого опирается наш фюрер?
— Альберт Шпеер — с усмешкой пояснил Хойзингер. — Но вы ошиблись, докладывая о том, что русские производят тысячу танков в месяц. Абвер уже располагает новейшими данными, что Сталин каждый месяц имеет две тысячи.
— Чего? — не сразу сообразил Гальдер.
— Конечно же, зубных щеток! — смеялся Хойзингер…
Мартин Борман, заправляя партийным аппаратом Гитлера, прибрал к своим рукам — заодно с партией — и самого фюрера.
— Да, мой фюрер, — говорил он, словно сожалея о чем-то, безвозвратно потерянном, — с Гальдером пора кончать. Мы избаловали этого баварца в удобной для него роли «голоса певца за сценой», а быть главным солистом в нашей прославленной опере он попросту не способен, ибо слишком зазнался и уже не внимает требованиям дирижера.
— Да, да, — соглашался Гитлер, — на его место я возьму человека с фронта, далекого от интриг в нашей лавочке, и чтобы он остался благодарен мне за выдвижение на высокий пост.
— Кто же это будет, мой фюрер?
— Я еще не решил. Но он станет распевать по тем нотам, в которые я ткну его носом… Йодль тоже заслужил хорошего пинка под зад! Но сейчас главное — Сталинград, при упоминании о котором у меня, это правда схватывает живот…
Гальдер пролил слезы над урной своего дневника: «Продолжающаяся недооценка возможностей противника принимает уродливые формы… О серьезной работе не может быть больше речи. Болезненное реагирование (фюрера) на вещи под влиянием момента и полное отсутствие понимания механики управления войсками…»
— Я буду противоречить фюреру до тех пор, пока он не вышвырнет меня на улицу, ибо никакими разумными аргументами убедить его сейчас уже невозможно. Фюрер перестал ощущать тлетворное дыхание катастрофы на Востоке…
Может, кризис верховного командования и не возник бы, если бы как раз в эти самые дни (последние дни июля) Гитлер не издал бы своей директивы № 45, ознакомясь с которой, Паулюс сказал:
— История этой войны — после ее завершения! — будет напоминать потомкам творения Гомера, в которых мы так до конца и не выяснили — где тут правда, а где тут вымысел…
Было ясно одно: Гитлер готовил Паулюсу небывалое возвышение, но прежде, нежели он возвысится, ему предстояло обязательно взять Сталинград и распять его…
До сих пор движение 6-й армии к Волге считалось едва ли не вспомогательным, дабы прикрыть северные фланги фельдмаршала Листа, но постепенно сталинградское направление становилось чуть ли не самым главным. Паулюс в разговоре со Шмидтом сказал, что в этой директиве № 45 он обнаружил некоторые детали своего плана «Барбаросса»:
— Конечно, смешно было бы мне обвинять фюрера в плагиате. Зато как приятно вспомнить о лирических вечерах в милом Цоссене, когда из сада чудесно благоухало резедой и левкоями.
Артур Шмидт всегда был далек от лирики:
— Но теперь мы хотя бы точно знаем, что от Сталинграда нам уже не отвертеться. А ведь я иногда думал, что за Доном кампания и закончится. Чем только мой «чертик» не шутит!
* * *
Еще день-два, и наступит роковое. 25 июля на которое планировалось захватить Сталинград…
Устремляя свою армию к этой цели, Паулюс был далек от нее, он захватывал лишь пустое пространство, но русские ловко выкручивались из его оперативных клещей, которые он раскалял докрасна в ночные часы раздумий над оперативными картами; выскальзывая из окружений, русские тут же создавали новые очаги обороны. Это немало удивляло Паулюса, и он частенько цитировал слова Фауста, обращенные к Мефистофелю:
— Ты много совершил чудес. Так выиграй сраженье, бес!..
Ганс Дёрр, участник событий, после войны писал:
«Командование русской армии продемонстрировало редко отмечавшуюся ранее гибкость в управлении войсками и уверенно определяло момент для перехода от отступления к упорной обороне».
Недаром же Паулюс в раздражении признавал:
— Наступать русские еще не умеют, но отступать уже научились… Когда же закончится это соревнование? Русские получили от меня достаточно оплеух, но ринга еще не покинули. За это время они даже стали мастерами маневренных отходов, чему раньше их не обучали и к отступлениям не готовили. Но будет скверно, если они освоят приемы охватов и окружений… Впрочем, — сказал Паулюс, — мы наблюдаем только свои трудности, и мы еще не знаем, каковы трудности противника. Думаю, они не меньше наших…
Свою особую директиву № 45 от 23 июля 1942 г . Гитлер открывал голословным утверждением: «Лишь весьма незначительным силам противника из армий Тимошенко удалось избежать окружения…» Далее (цитирую выборочно) Гитлер ставил задачи для группы «А»: «форсировать р. Кубань и захватить возвышенную местность в районе Майкопа и Армавира… захватить Черноморское побережье… захватить район Грозного и частью сил перерезать Военно-Осетинскую и Военно-Грузинскую дороги по возможности на перевалах… ударами вдоль Каспийского моря овладеть районом Баку». Для группы армий «Б» Гитлер ставил такие задачи: «нанести удар по Сталинграду и разгромить сосредоточившуюся там группировку противника, захватить город, а также перерезать перешеек между Доном и Волгой и нарушить перевозки по реке (т. е. по Волге)… выйти Астрахани и там тоже парализовать движение по главному руслу Волги… Степень секретности: совершенно секретно. Только для командования».
Первая же фраза возмутила «доктора» Отто Корфеса:
— По мнению Гитлера, противник уже поставлен на колени и с коленей не поднимется. Отсутствие пленных не есть ли прямое доказательство того, что именно значительные силы противника окружения избежали? Наконец, если мы желаем нанести русским решающее поражение, то для этого прежде необходимо знать, что русские собрали против нас именно свои главные силы а потом их уничтожить. Но у меня нет уверенности ни в одном из этих факторов.
— Доктор Корфес, — отвечал Паулюс генералу, — я не смею отказывать вам в парадоксальности мышления но… Что вас смущает в этой директиве и в том, что вы наблюдаете?
— Гитлер, надо полагать, инстинктом определил, что именно под Сталинградом завязывается главный узел русского сопротивления. А смущает меня, — пояснил Корфес, — только календарь, ибо через три дня кончается намеченный ранее срок взятия Сталинграда, но мы, наша хваленая шестая армия, застряли в излучине Дона и…
— Я с вами откровенен! — перебил его Паулюс. — Мы уже на пороге цели. Но, как любит выражаться наш фюрер, «без приближения окончательной победы». Я не наблюдаю осмысления всего происходящего в верхах — на высотах ОКБ или ОКХ, и сколько бы я ни испытывал ювелирные приемы оперативного построения планов, все равно… — Возникшая пауза требовала заполнения, и Паулюс признал: — Нам в чем-то отказано, а в чем именно — этого я еще не могу понять. Думаю, это «что-то» и есть тот роковой фактор удачи, о котором не раз говаривал еще Фридрих Великий. У нас немало побед, зато нет удачи …
Корфес поднялся, чтобы уходить. Но при этом сказал, что Германия, как учит опыт ее истории, способна выиграть лишь молниеносные войны; Корфес погладил себя по вспотевшей лысине и еще раз глянул в директиву:
— Здесь фюрер изложил, по сути дела, отказ от всех законов войны, решив наносить удар не кулаком, а растопыренными пальцами… Вот эта штука под номером сорок пять, — сказал он, — приведет нас в Каноссу, но прежде как бы нашей армии не побывать в Каннах…
Паулюса даже передернуло: Канны, где Ганнибал устроил первый в мире котел гордым римлянам… Возмутительно!
Надо что-то ответить. А — что?
— Я, — ответил Паулюс, — не вижу среди русских полководцев ни одного генерала подобного Ганнибалу, который был бы способен устроить моей превосходной армии Канны. К сожалению, у меня начинает сдавать память, и я забыл имя римского полководца, который угодил в этот котел с тысячами своих воинов.
— Его звали… Пауллюс, — не сразу ответил Корфес.
— Неужели?
— Да, в котел при Каннах угодил Эмилий Пауллюс… И тогда Фридриха Паулюса снова передернуло, а на левой части лица снова — как и раньше — начался нервный тик.
— Всего доброго, доктор Корфес, не смею вас задерживать далее. С вами мне всегда очень интересно… Благодарю!
* * *
Паулюс был приятно взволнован, когда ему представился новый командир 51-го армейского корпуса — невысокий и курносый человек, внешне чем-то очень похожий на русского крестьянского парня. Это был генерал-лейтенант Вальтер Зейдлиц фон Курцбах, имевший громкую славу за удачный прорыв из Демянского котла Зейдлица отличал апломб потомственного генерала, ибо его знаменитый пращур возглавлял кавалерию короля Фридриха Великого. На груди Зейдлица сверкал Рыцарский крест с дубовыми листьями, а рукав мундира украшала особая нашивка.
— Это за Демянский котел, — пояснил он. — Я не знаю, каково побывать в котле, из которого я, слава Богу, удачно вытащил сразу несколько дивизий. Теперь меня в Германии чуть ли не официально именуют специалистом по котлам».
Паулюс смотрел на Зейдлица почти восхищенно:
— Браво! — сказал он. — Если вы признанный «специалист по котлам», то отныне моей армии не грозят никакие Канны и Ганнибалы, а я не останусь в жалкой роли Эмилия Пауллюса… Рад! И не скрываю радости что вы, Зейдлиц, мой генерал…
Конечно, 25 июля победное вступление 6-й армии Сталинград не состоялось, и, наверное, именно по этой обидной для Паулюса причине барон Кутченбах застал своего тестя в некотором унынии. Паулюс перебирал большие картоны с наклеенными на них оперативными картами, как это делает разочарованный художник, пересматривая завалявшиеся эскизы к неосуществленной картине. Шедевра не получилось:
— А не выпить ли нам по этому случаю ликера?
— Вы чем-то удручены? — спросил Кутченбах.
— Просто я сегодня вспомнил забытого английского поэта Джона Донна: «Никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Может быть, колокол звонит по тебе…» Надеюсь, вы меня поняли?
— Да! Но если не в июле, так в августе мы будем на Волге.
— Желательно, — отвечал Паулюс, смакуя бенедиктин. — Но моя армия прежде нуждается в усилении. Артуру Шмидту я не совсем-то доверяю и потому решил послать в ставку фюрера своего верного Вилли Адама…
30 июля в ставке под Винницей состоялось совещание. Хойзингер — со слов адъютанта Паулюса — доложил, что напряжение маршевой 6-й армии достигло критического предела.
— Паулюс задействовал уже восемнадцать дивизий, но не исключено, что русские скоро принудят его перейти к обороне.
Гитлер на это сказал:
— Но даже Тамерлан не имел такую ораву войск, какой обладает сейчас Паулюс! К тому же у Тамерлана не было 740 танков и его не прикрывал с неба воздушный флот Рихтгофена. Я опасаюсь, что удар шестой армии будет нанесен в пустоту, ибо русские части уже разгромлены и деморализованы.
Йодль авторитетно заявил, что недавняя передача 4-й танковой армии Германа Гота на южное направление была тактической ошибкой, а судьба Кавказа зависит от Сталинграда.
— Для поддержания Паулюса необходимо срочное переключение сил из группы «А» в группу «Б». Танковую армию Гота следует развернуть обратно — и пусть она давит на Сталинград с южной стороны, от калмыцких степей, где Сталинград почти не имеет войск и обороны, наши «панцеры» легко выйдут к городу — вдоль железной дороги от Котельниково. Можно снять и резервы с участка станции Вешенская, доверив оборону этого фланга генералу Итало Гарибольди и его кошкодавам…
Адам вернулся из Винницы радостно-возбужденный:
— Тамошние комары совсем одолели нашего фюрера! Сейчас не только Йодль, но даже Кейтель изнывает от страха — как бы их не отправили на передовую, чтобы они заработали нашивку о ранении. Даже Франц Гальдер так запуган, что бродит из барака в барак, словно потерял кошелек, и лишь один Хойзингер процветает… Главное сделано: армия Гота повернула назад!
— Яволь , — радостно отвечал Паулюс.
…Его штабной «фольксваген» тронулся, перед ним расступались колонны марширующих, и он, командующий, почти с нескрываемым удовольствием выслушал обычный рефрен: «яволь, яволь, яволь…» Вовсю стучали штабные телетайпы, кокетливая солдатка-радистка поймала голос Москвы, который день за днем повторял для них одно и то же: «Каждые семь секунд в России…» Обгоняя «фольксваген», мимо моторизованных колон пылил мотоцикл с коляской, в которой отчаянно трясло на ухабах «специалиста по котлам» Вальтера Зейдлица.
— Не раскисать, парни! — покрикивал он. — С нами теперь и Бог, и Гот, а до Волги не так уж много осталось… к Рождеству будем дома! Сталинград — это конец войне…
(Пройдет два года, и этот же генерал Зейдлиц пойдет на запад — в рядах Красной Армии, помогая нам развенчивать славу гитлеровского вермахта. Но тогда, в очень знойное лето 1942 года, он сам душой и телом был предан этому вермахту…)
12. Волга-Волга
Волга-Волга, мать-река, широка и глубока…
Вот когда выпали ей трудные дни! Возле пристаней (заодно с ними) сгорали белые пассажирские пароходы. Чтобы сорвать перекачку горючего из Астрахани, Рихтгофен регулярно бомбил флот «Волготанкера», и только бомбил, но и забросал фарватеры минами, как раз на путях нефтяных караванов. Бакенщики и жены и детишки сутками сидели на берегах, не сводя глаз с реки. Ночь, луна, тихо, стрекот кузнечиков, гул мотора, черная тень, вой, всплеск воды… Мина поставлена! Теперь дай Бог, точнее запомнить место, куда она упала, и сразу звонить морякам Волжской флотилии — это уж их дело, моряцкое.
Но мин было так много, что тральщики не успевали их выуживать. Возле Черного Яра возникла «пробка»: караваны с нефтеналивных судов и плавучие госпитали не могли пробиться к волжским верховьям. А время подстегивало, а в Кремле нервничали, а моторы простаивали: страна позарез нуждалась в горючем! Что делать? Контр-адмирал Борис Хорошкин взялся проверить фарватер «на себе»: пан или пропал! Он вывел свой бронекатер на минное поле и… все погибли (вместе с адмиралом), но ценой жизни они открыли водный путь к Сталинграду. Каверзны были мины (особые — магнитные): три корабля пропустят над собой, а четвертый — вдрызг! Обнаружить такие мины почти невозможно: тихо, гадюки, дремлют на грунте, а тралами их никак не зацепить. Что делали наши матросы? Скажу, так не поверите. Они ныряли на глубину, на ощупь отыскивая эти мины в иловой слякоти, а иногда шли, нащупывая мины… босыми ногами.
— Кому повезет, а кому и хана! — говорили матросы…
Алексею Семеновичу как раз в эти дни предстояло повидаться с Гордовым, благо, тот теперь не просто генерал, каких много, а командующий фронтом, от которого зависело — быть или не быть Сталинграду. Правда, Герасименко накануне удивил Чуянова словами сожаления о том, что Тимошенко убрали:
— Кто не без греха? Маршал иногда заливал нам сказки про белого бычка. Но с ним хоть поговорить было можно, а Гордов… Так и напрашивается каламбур: Гордов — человек гордый!
Василий Николаевич Гордов расположил свой командный пункт в обычной городской квартире, из которой еще не выветрился дух прежних хозяев, даже из кухни щами припахивало. При появлении Чуянова тот даже не оторвался от карты (или, точнее сказать, делал вид, что занят ее изучением). На вопрос Чуянова, чем он может помочь армии как представитель местной власти, главком даже не поднял глаз. Постояв для приличия и вежливо покашляв, секретарь обкома, как оплеванный, на цыпочках удалился, дабы не мешать созерцанию карты. «Должен сказать, — вспоминал позже Чуянов, — все мои попытки установить хоть какой-либо деловой контакт с Гордовым успеха не имели». Наверное, главком еще не забыл, как танки Виттерсгейма давили его позиции, и, сознательно отмалчиваясь, он молчанием скрывал растерянность перед грозными событиями. Не только Чуянову — многим тогда казалось, что Гордов, надломленный поражениями, где-то уже, наверное, смирился с той роковой мыслью, что Сталинград все равно придется оставить.
Алексей Семенович созвонился с Москвой, желая информировать ЦК партии о ненормальном поведении главкома.
К аппарату подошел Маленков, сразу и грубо осадив его:
— А что вам не нравится в генерале Гордове?
— Ведет себя странно. Слова ответного не выжать. С таким видом, будто он здесь и царь, и Бог… Ладно уж я, черт со мною, но представляю, каково его подчиненным!
— Мало ли что вам не нравится, — был ответ. — Менять главкома, только что назначенного с личного одобрения товарища Сталина, мы по вашим капризам не станем. Умейте работать с людьми, как учит нас товарищ Сталин, а не занимайтесь собиранием всяких сплетен…
«Сплетни, — думал потом Чуянов». Кому война, а кому так одна хреновина… Живем на военном положении, но чует сердце — грядет положение осадное, вот тогда навоемся…»
* * *
От станции Боковской противник быстрым маневром не только отбросил, но и разгромил закаленную 62-ю армию. Две стрелковые дивизии и одна бронетанковая оказались в окружении.
«Я видел, как танки противника под прикрытием авиации врезались в наши боевые порядки… Наши тяжелые танки (KB) выдержали атаку, зато легкие Т-60 расползались по оврагам, не принимая боя».
От мостов авиация оставила обломки и головешки. На переправах громоздились обозы со скарбом беженцев, переполненные ранеными медсанбаты. Ни одного нашего самолета в чистом и солнечном небе никто не видел…
Чуйков сам и допрашивал пленного немецкого летчика.
— Мы ваших истребителей не боимся, — честно доложил тот. — Во-первых, потому что их у вас просто нету. Во-вторых, по своим боевым параметрам они отстали от наших «мессершмиттов». Если у меня мотор тянет машину в три раза сильнее вашего, так я всегда могут бить вас с любых виражей.
— Возможно, — не стал возражать Чуйков. — Мы хорошо знаем, что из преимуществ в своей авиации Германия извлекла немало побед… Кстати, что вы думаете о конце войны?
— Я ничего не думаю. Но где-то наш фюрер просчитался. Он мог бы ограничить себя Европой, а в Россию полез напрасно. Так что, простите, я не знаю, каков будет конец…
В Чирской станице Чуйкова обступили женщины-казачки, навзрыд плакали, спрашивали — что же будет дальше? Но одна из бабенок демонстративно отошла, усевшись на бревнах.
— А чего с ним гутарить? — издали покрикивала она. — Сколь веков казаки на Дону жили, а такого сраму не видывали, чтобы чужаков сюды допущать… Теперь нарыли нор, будто кроты худые, хотят в земле отсидеться. Им-то што? А у меня пятеро на руках виснут. Муж без вести пропал. Скотины — двор полный. Всю жизнь трудились, себя не жалея. Куда ж ныне деваться?
— Уходи с детьми, — мрачно отозвался Чуйков.
— Куда? И все нажитое бросить?..
Наши войска немцы теснили за речку Чир (правый приток Дона), оборона трещала, как худой забор. Трудно было артиллеристам: лошади давно пали, а колхозные тракторы ЧТЗ развалились; пушки перекатывали вручную, на переправах тащили их по дну реки на веревках, орудия вылезали из воды, все в тине и водорослях. Бойцы, переплыв реку под пулями, потом выливали из сапог воду, выжимали гимнастерки:
— Ведь скажи кому — не поверят. Раньше мы такое только в кино смотрели… да и то про Чапаева!
— А вон и Чапаев, — показывали на Чуйкова, — тоже Василий Иванович, только нам от того не легше… Вояки!
Генерал-майор Михаил Степанович Шумилов в эти тяжкие дни известил Чуйкова, что его желает видеть Гордов.
— Я тут справлюсь, — сказал он Чуйкову, — а ты езжай в Сталинград да с Гордовым лучше не собачься: сам, наверное, знаешь, что на Руси святой поверх воды плавает…
Гордов два дня мурыжил Чуйкова, отказывая ему в приеме. Наверное, сказать было нечего. Случайно он занял высокий пост, явно не подготовленный — ни как полководец, ни даже как человек. Кажется, он еще не выбрался из того транса, в который его погрузили прошлые неудачи… Наконец, встреча состоялась. Чуйков вспоминал: «Возражений со стороны подчиненных Гордов не терпел, моего доклада слушать не стал».
— Противник, — свысока декларировал он, — уже прочно увяз в наших оборонительных рубежах. Пора его уничтожить.
Это была отрыжка былого: мол, пилотками закидаем. Василий Иванович пытался убедить Гордова в обратном.
— Я не хуже вас знаю положение на своем фронте, — резко перебил его Гордов. — Вы мне лучше отчитайтесь, почему осмелились отвести правое крыло армии за реку Чир?
— Удар противника оказался намного сильнее нашей обороны. Войска давно измотаны. А противник наращивает удары.
— Это слова, — сказал Гордов. — Но словам требуется письменное подтверждение. С меня тоже наверху спрашивают. И не как с вас — покруче. Вот и составьте доклад по всей форме…
Уходящему Чуйкову хотелось хлопнуть дверью так чтобы из нее все филенки вылетели к чертовой матери.
— Бюрократы несчастные! — сказал он в сердцах. — Страшны они в мирные дни, но еще страшнее на войне…
Вышел на улицу, огляделся, стал думать — где бы перекусить. Кто-то вдруг пожал его руку выше локтя — дружески. Стоял перед ним гражданский — вроде бы знакомый.
— Извините, — сказал Чуйков, — у меня с памятью стало паршиво. Где-то вас видел, а где — не припомню.
— Чуянов Алексей Семенович, секретарь обкома, виделись еще у маршала Тимошенко… А вы чего тут дежурите?
Чуйков в двух словах поведал о визите к Гордову, а Чуянов изложил о нем свои впечатления.
— Глупость пришла в голову, — вдруг стал смеяться Чуйков. — Случись ведь такое, что попадем мы с вами в историю, так в энциклопедии стоять нам на одной странице.
— Как так?
— А так: Чуйков, а потом Чуянов — рядышком. По законам алфавита… Алексей Семеныч, есть давно охота, на обед к Гордову не напрашивался, а у вас в обкоме можно перекусить?
— Пошли. Не в обком, а ко мне домой…
Дорогой разговорились. Раздражение от встречи с Гордовым еще не унялось в душе, и, не называя его имени, Чуйков стал ругаться, говорил, что навешали тут орденов, а сами…
— Не все продумано в этом вопросе, — сказал он. — Я не понимаю, зачем генералов награждать во время войны?
— А когда же их награждать?
— Было бы вернее, — сказал Чуйков, — если бы каждый генерал получил все ордена в первый же день войны.
— Шутите, Василий Иванович?
— Не до шуток… Пусть бы все генералы начинали войну с полной гирляндой орденов на груди. А потом, во время боев, у них отбирали орден за орденом — по мере того как они терпят поражения, совершают глупости. В результате, когда наступит желанный день победы, у нас не останется ни одного генерала с орденом… чтобы не задавались напрасно!
…Даже не энциклопедия, а Мамаев курган в Сталинграде навеки объединил их добрые имена — именно там, на высоком кургане, Чуйков и Чуянов нашли место для могил своих, как заслуженные герои Сталинградской битвы.
* * *
Сталинград превратился в тупиковую станцию: с севера, от Камышина и Саратова, поезда еще шли, но дальше им пути не было; на вокзалах и сортировочных горках в Сарепте, в Сталинграде-1 и Сталинграде-2 образовалось скопище вагонов, теплушек и, паровозов — возникла «пробка», глухая и безнадежная. Железнодорожники не щадили себя, чтобы рассосать эту «пробку», но… тупик! Среди воинских эшелонов безнадежно застряли вагоны с имуществом беженцев и учреждений, в запломбированных теплушках можно было обнаружить самые неслыханные грузы… Сталинград как раз навестил генерал артиллерии Н. И. Воронов, и Чуянов, беседуя с ним, жаловался:
— Наверняка немецкая агентура шныряет на путях, будет плохо, если пронюхает, что среди эшелонов намертво заклинило вагоны с боеприпасами, а под берегом — баржи со снарядами! Много ли надо, чтобы рвануть их с воздуха?
Воронов возлагал немалые надежды на артиллерию ПВО:
— Правда, в зенитных расчетах у нас немало девчат. Вчерашние студенточки. Прически фик-фок на один бок, а под мышкой учебник. Не уверен, как-то они стрелять будут?
Во время ближайшего же налета девушки сбили сразу три «Хейнкеля-111», а мужские расчеты мазали. Воронов в бешенстве вызвал начальника ПВО округа.
— В чем дело? — возмущенно спросил он. — Наверное, в мужских расчетах цигарки крутят. Слышал, и «козла» забивают. Наведите порядок, товарищ генерал-майор. Иначе «генерала» мы вычеркнем, от вас один лишь «майор» останется… — Воронов потом спросил Чуянова, чем бы наградить зенитчиц?
— Парашют бы им… один на всех.
— Зачем это?
— Дело такое, — смутился Чуянов. — Надо бы… Одного парашюта на всех, думаю, хватит… поделят… Шелк-то ведь — первый сорт, выносливый. А им, бедняжкам, по вещевому аттестату титишников-то не положено. Вот и нашьют себе лифчиков… А?
— Будет парашют… завтра же! — обещал маршал.
На совещании партактива Чуянов заговорил о бесплатном кормлении детей (а их немало навезли в Сталинград отовсюду):
— Многие уже здесь, в Сталинграде, стали сиротами, где они что возьмут? Не воровать же! Это наша забота…
По Волге плыла горящая нефть. Прямо через пламя шел портовой «Гаситель», забивая огонь из широких камеронов, похожих на пушки. В зоопарке горестно стонала слониха Нелли.
Какой уж день идет война. Какой же день?
Чуянов натянул кепку, бросил на ходу секретарше:
— Если спросят, так я — на переправах. Пока…
Мучило его, как рассказывали, что дети малые не покидали убитых матерей, плакали — теребили мертвых: «Мама, не пугай, открой глазки…» На переправах и в самом деле — ад кромешный, паромов и буксиров не хватало. В ожидании очереди на посадку женщины и старики руками отрывали в прибрежных откосах глубокие норы, в которых и прятались — от бомбежек. Матери здесь теряли своих детей (и навсегда), дети звали матерей (но мамы своей они больше никогда не увидят). Волга-Волга, много ты видела в те дни… А к пристаням все тянулись вереницы подвод с новыми беженцами. Уже не лошади, а даже коровы шли навьюченные скарбом, надменно выступали с грузом калмыцкие верблюды. Усталые, босые, запыленные, измученные люди шли и шли Бог весть откуда — иные-то даже с Донбасса, шли, чтобы не оставаться «под немцем», и безвестные старухи вели за руки уже безвестных детей, которые потом в приютах станут получать страшные в юдоли фамилии — Бесфамильный…
Подходил воинский паром. Местные женщины не пускали на паром танк с надписью на броне: «Вперед — на запад!»
— Ишь, какой шустрый, уже и за Волгу его потянуло. Ты почитай, что у тебя написано, да назад поворачивай.
Одна из бабок держала на руке лупоглазую кошку, а в другой мясорубку (наверное, самое ценное в ее жизни), и вот она больше всех наседала на танкиста, аж зашлась в крике:
— И-де совесть-то у тебя? У-у, глазищи бесстыжие… И какая ведьма родила тебя под косым забором?
Танкист пытался отшутиться. Не тут-то было:
— Сказано тебе — не пустим за Волгу! Вот хоть дави ты нас здесь своей тарахтелкой, а мы с места не сойдем…
Вмешался пожилой солдат с медалью «За отвагу»}
— Бабы-то верно балакают. Ты их послухай.
— А ты что здесь за маршал такой, чтобы указывать?
— Будь я маршалом, так я бы тебя, говнюху такую, сразу б под трибунал подвел… Много вас развелось, охотников драпать. Ты совесть-то заимей. Да постыдись. Молод еще.
— Кого мне стыдиться? Я, может, от самого Барвенково с боями… тоже с медалью! Кого мне стыдиться?
— Да хотя бы женщин, — ответил солдат. — Они же от тебя, балбеса, защиты ждут. А ты навонял тут керосином своим и смылся. На таких, как ты, мать-Россия недолго удержится.
Паромщик отмалчивался. Потом мрачно сплюнул.
— Поворачивай. Для таких пути за Волгу нетути. Это пусть наши бабы да раненые катаются. Вот их и буду переправлять. Жми вперед — на запад, как и написано…
Тут Чуянов подошел, треснул ногой по гусеничному траку.
— Наш ! — сказал. — Сталинградский. Тракторного. Не для того на СТЗ делали, чтобы ты за Волгой торчал… Пошли!
— Куда? — оторопел танкист.
— Недалеко. До коменданта. Там и поговорим.
— О чем мне говорить-то с ним?
— Найдете тему. О героизме. О трусости. О совести.
Вечером он вернулся в обком, чтобы покормить Астру, заодно позвонил в Ростов своему партийному коллеге — товарищу Двинскому, но ему ответил срывающийся голос женщины:
— У нас тут немцы… Товарищ Двинский уехал… на велосипеде. Город горит… Внизу ломают двери… Я боюсь…
— Круши все подряд, что можешь, и — удирай…
* * *
Маленькая деталь тогдашнего быта, о которой долго помнили сталинградцы: город бомбили — то жилые кварталы, то заводские, а в домах обывателей постоянно останавливались часы, чего ранее не бывало… Отчего? Неужели от сотрясения почвы? В квартирах сами собой с противным скрипом затворялись двери, а двери закрытые сами собой, неслышно вдруг отворялись. Почему?
В один из дней Чуянову позвонил Воронин.
— Беда! — сообщил он. — Утром один гад из облаков вывернулся и свалил фугаску в полтонны прямо… прямо в тюрьму, где, сам знаешь, сколько народу собралось.
Убитых похоронили, раненых развезли по больницам, но в мертвом здании тюрьмы осталась девушка — Нина Петрунина.
— Жива ! Но вытащить ее нет сил, — сказал Воронин. — Ей ноги стеной придавило, а стена едва держится. Кажись, чуть дохни на нее — и разом обрушится. Семнадцать лет. Жить хочется. Красивая… уж больно девка-то красивая!
— Спасти! — крикнул Чуянов. — Во что бы то ни стало. Я сам приеду. Сейчас. Сразу же.
Люди тогда уже привыкли к смерти, и, казалось бы, что им еще одна? Но город взбурлил, имя Нины стало известно всем, а равнодушных не было, всюду — куда ни приди — слышалось:
— Ну как там наша Нина? Спасут ли… вот горе!
Разве так не бывает, что судьба одного человека, доселе никому не известного, вдруг становится средоточием всеобщего сострадания, и множество людей озабоченно следят за чужой судьбой, в которой подчас выражена судьба многих.
Чуянов приехал. Воронин еще издали крикнул ему:
— Не подходи близко! Стена вот-вот рухнет…
Нина Петрунина лежала спокойно, и Чуянов до конца жизни не забыл ее прекрасного лица, веера ее золотистых волос, а ноги девушки, уже раздробленные, покоились под громадной и многотонной массой полуразрушенной тюремной стены, которая едва-едва держалась. Здесь же сидела и мать Нины.
Чуянов лишь пальцами коснулся ее плеча, сказал?
— Сейчас приедут… укол сделают, чтобы не мучилась.
Нину кормили, все время делали ей болеутоляющие уколы, и время от времени она спрашивала:
— Когда же? Ну когда вы меня спасете…
Явились добровольцы — солдаты из гарнизона.
— Ребята, — сказал им Чуянов, — как хотите, а деваху надо вытащить. Орденов вам не посулю, но обедать в столовой обкома будете, по сто граммов нальем… Выручайте!
Лучше мне не сказать, чем сказали очевидцы: «Шесть дней продолжалась смертельно опасная работа. Бойцы осторожно выбивали из стены кирпичик за кирпичиком и тут же (на место каждого выбитого кирпича) ставили подпорки» Кирпич за кирпичом — укол за уколом. Наконец Нину извлекли из-под хаоса разрушенной стены, и она спросила:
— Господи, неужели я буду жить?..
В больнице ей ампутировали ноги, и она… умерла.
Сколько людей в Сталинграде плакали тогда навзрыд!
Наверное, сказалось давнее и природное свойство русских людей — сопереживать и сострадать чужому горю; это прекрасное качество русского народа, ныне почти утерянное и разбазаренное в его массовом эгоизме, тогда это качество было еще живо, и оно не раз согревало людские души… Подумайте: ведь эти солдаты-добровольцы из сталинградского гарнизона понимали, что, спасая Нину, каждую секунду могли быть погребенными вместе с нею под обвалом стены!
Ефим Иванович, дедушка Чуянова, тоже плакал:
— Лучше бы уж меня… старого!
Волгой я начал рассказ, Волгой и закончу его. Сейчас в нашей стране так много сказано о загрязнении великой русской реки. А мне часто думается же началось это экологическое бедствие, которое лучше именовать всенародным? И тут, годами перелистывая книги о героической обороне Сталинграда, я, кажется нащупал первоначальные истоки нашей беды. Очевидцы тех дней — летних дней 1942 года — свидетельствуют нечто ужасное: весло в речной воде было тогда не повернуть, ибо вода в нашей кормилице-Волге была наполовину перемешана с загустевшей нефтью… Вот результаты бомбежек!
* * *
23 июля — в тот самый день, когда Гитлер издал директиву № 45, — из Москвы вылетел в Сталинград начальник Генштаба А. М. Василевский как полномочный представитель Ставки.
Следовало ожидать перемен… Каких?
13. Клещи
Ростов… Он был теми воротами, через которые немцы вламывались на Кавказ, к его нефтепромыслам. У них все было готово к тому, чтобы лишить нашу страну горючего, а Германии заполнить свои бензобаки «выше пробки». Вот когда им пригодился засекреченный корпус «F», которого в Африке так и не дождался Роммель; этот корпус берегли от боев — специально для захвата нефтепромыслов, при нем (тоже секретно) состоял большой штат инженеров-нефтяников, готовых сразу же качать горючее для моторов вермахта. Н. К. Байбаков, министр нефтяной промышленности, писал в мемуарах, что Москва указала качать нефть из скважин до самого последнего момента, а потом взорвать промыслы, чтобы врагу ничего не досталось:
«Мы получили предупреждение, что если врагу достанется нефть, нам грозит расстрел, а если поторопимся и выведем из строя промыслы, которые не будут оккупированы, то нам грозит та же участь — расстрел!»
Ростов… Все железные дороги от Ростова вплоть до Каспийского побережья были сплошь заставлены эшелонами с имуществом заводов, что эвакуировались, многотысячные толпы беженцев парились в теплушках, а пути были так забиты, что встречные воинские эшелоны не могли пробиться к тому же Ростову, чтобы вступить в битву с противником. Если в Сталинграде такая же «пробка» была оправдана тем, что Сталинград стал тупиковой станцией, то никак нельзя оправдать то, что творилось на путях от Ростова, а… кто виноват?
Виноват «главный сталинский стрелочник» Л. М. Каганович, что был наркомом путей сообщения. Сталин послал его и Берию — навести порядок, чтобы помогали один другому в трибуналах, расстреливая людей, никак не повинных в том бардаке, который они же и устроили перед линией фронта, разрываемой танками Клейста. Страшно читать, что там творили эти два кремлевских опричника, на которых управы никогда не было. Обстановка на фронте под Ростовом была такова, что требовались сиюминутные решения, а товарищ Каганович сутками выдерживал путейцев и генералов в приемной: «Товарищ Каганович устал… Лазарь Моисеевич принять не может» и т. д. Наконец, этот кремлевский «барин» допускал до своей персоны; перебирая в руках янтарные четки (зачем ему, еврею, четки католика — убей меня Бог, не знаю) и выслушав доклад, он орал:
— Исполнить через три часа, иначе…
— Товарищ Каганович, и тридцати часов не хватит.
— Через два часа! Доложить лично, иначе …
И люди понимали, что иначе — расстрел! Ничуть не лучше этого сатрапа был и наш знаменитый маршал С. М. Буденный, приказы которого военным людям звучали в такой форме:
— Ни шагу назад! Так и объявить всем. А кто отступит, тому — камень на шею… и бултых в море!
Читатель, надеюсь, понимает, что с такими «полководцами», как Берия, Каганович и Буденный, мы не только Ростов, мы всю Сибирь могли бы отдать немцам. Когда задумываешься о любимцах Сталина, которым вверялась власть над миллионами наших солдат, то невольно возникает вопрос: как мы вообще эту войну с Германией выиграли?
Ростов… Не стало у нас Ростова; сдали.
* * *
Генерал Эрих Фельгиббель, давний приятель Паулюса (и кандидат на виселицу), хорошо наладил для 6-й армии радиодиверсионную службу, но русские теперь сделались осторожными, провокационные вызов их частей под удары немецких «панцеров» или шестиствольных минометов кончались провалом. Мы уже верили дружеским голосам — как по проводам телефонной связи, так и звучавшим в эфире. А то ведь раньше бывало и так:
— Коля, привет. Это я, комбат Шишаков. Выходи на разъезд пятнадцатый, тут фриц меня жмет… Выручай, дружище!
Раньше шли, но теперь поумнели?
— Сначала ты скажи, на какой улице жил я в Гомеле, ты же бывал у меня, вместе водку жрали, я тебя выручу, но прежде назови имя моей жены, а заодно вспомни, какого цвета у меня шкаф стоял в коридоре… Что? Молчишь, гад? Соображаешь, что ответить? Ну и отвались к едрене фене, не на того напал…
А. М. Василевский вылетел из Москвы 23 июля, а через два дня — возле Калача-на-Дону — был предпринят контрудар. Конечно, за два дня невозможно подготовить наступление, многое было не согласовано, большинство частей еще находились в степени первичного формирования, для иных танкистов первый выстрел в этом бою стал первым выстрелом в их жизни, а 4-й танковый корпус назывался (помните?) «четырехтанковым», и этот анекдот-быль отражал всю слабость наших войск… Знал ли об этом Василевский? Да, знал. Но оправдывать его не стану, ибо Александр Михайлович после войны сам оправдал себя.
Бои у Калача разгорелись за день-два до снятия Тимошенко, а далее руководил Гордов. Я, автор, подозреваю, что если управление их войсками и не было совсем потеряно, то думается, что оно было почти потеряно. Будь это иначе, командиры полков и дивизий не получали бы от Гордова вот таких приказов: «Действовать самостоятельно в зависимости от обстановки». Иначе говоря, командующий фронтом, сам оставаясь как бы в стороне, всю ответственность за происходящее на фронте перекладывал на фронтовых командиров: с них и спрос…
Василевский выехал на фронт в район Калача-на-Дону, на окраине города велел адъютанту снять комнату в одном из домишек, из которого тот выскочил, как ошпаренный».
— Не пускают! Там хозяйка полы красит.
— Нашла время. Или немца ждет?
— Да нет. Говорит, с трудом по блату краски достала. А теперь боится, как бы немцы не отняли. Вот и красит полы, чтобы добро даром не пропадало… Тоже дура хорошая. Тут земля трещит, страх да смерть ходят, а она с кисточкой ползает.
— Не вини бабу. Каждому свое, — отозвался Василевский…
Ему лишь накоротке довелось повидать Чуйкова — черного, как цыгана, от загара, почти сожженного палящим солнцем. Возле него стоял худенький майор и блаженно улыбался
— Контужен. Ни гу-гу не слышит, — пояснил Василий Иванович. — Четырнадцать танковых атак отбил и чудом жив остался. Тут и не веришь, да все равно взмолишься…
Обстановка под Калачом была тогда аховская! В полосе 62-й армии враг держал в кольце окружения наши дивизии, Паулюс вот-вот мог проломиться к Сталинграду К С. Москаленко командовал тогда 1-й танковой армией, которая только-только начинала формироваться, больше всего напоминая птенца, едва проклюнувшегося из яичной скорлупы. Вовсю квакали лягушки, тянуло сыростью. Дон-то рядышком… Ворчливо, словно выражая недовольство, начинали работать танковые моторы.
— Не имея полного комплекта, и принимать бой… неужели сразу с колес? — спрашивал Москаленко.
— Прямо с колес, — отвечал Василевский — Положение сейчас таково, что требует от всех нас невозможного…
(К чести Москаленко, он позже полностью признал правоту Василевского, который и сам видел неготовность к контрудару.) Люди сознательно шли на смерть, от начальника Генштаба не укрылось, что в экипажах машин танкисты имели пистолеты.
— Чего это вы, ребята, так вооружились?
— Кончим себя, ежели понадобится.
— Так уж сразу?
— А живьем в этой банке жариться — лучше?
— Можно ведь и выскочить.
— Куда выскакивать? В лапы извергам? Нет уж…
Танкисты знали, что говорили. У немцев было такое правило: если схватят наших танкистов, выскочивщих из горящего танка, они сразу обливали их бензином, и люди сгорали факелами — по этой причине возле подбитых танков всегда находили три-четыре обгорелых, как головешки, трупа. Танков Т-34 было прискорбно мало, больше устаревшие Т-70, у которых сразу два мотора: попади хоть в один, и танк полыхал костром. Немцы предпочитали бить даже не снарядами, а цельнометаллическими «болванками», которые — даже в танке Т-34! — насквозь прошивали лобовую броню.
Василевский следил за ходом сражения из деревни Камыши, что близ города Калача, который вернее бы называть поселком. Гордову он, представитель Ставки, сразу дал понять, что его решения будут иметь большую значимость, нежели доводы Гордова. Авторитет Василевского прочно покоился на оперативной грамотности, на высоком воинском интеллекте, какими Гордов, при всем его желании, никогда бы не мог похвастать…
— Кстати, — сказал ему Василевский, — кажется, что Чуйков после Китая сразу вошел в атмосферу фронта?
Гордов согласился, отвечая, что генерал Чуйков среди многих недостатков обладает еще одним, непростительным:
— Терпеть не может начальства. Говоришь ему что, так он делает такую гримасу, будто его лимонами кормят.
Представитель Ставки от сплетен держался подальше:
— Я тоже не всегда бываю доволен своим начальством. Но приходится терпеть, как терпят нас и наши подчиненные…
В самый разгар сражения и прорвалось: Гордов, обычно молчаливый, в условиях боя вдруг обрел небывалое красноречие, дополняя его в приказах по телефону виртуозными оборотами.
Василевский долго терпел, но решил вмешаться.
— Прекратите! — гневно вспылил он. — Так разговаривать с людьми можно только в том случае, если вы уверены, что ваш оппонент способен ответить вам такими же матюгами. Не забывайте, что вы разговариваете со своими подчиненными…
С самого начала сражения было видно, что возможно лишь частичный успех, но никак не решающий. Накануне вылета из Москвы Василевский глянул в сводку разведки: 6-я армия Паулюса имела 18 дивизий, насчитывая 270 000 солдат, она громыхала из семи с половиной тысяч орудий, минометов и огнеметов, ее таранную мощь составляли 750 танков, а с небес она была прикрыта воздушным флотом Рихтгофена… И вся эта масса людей и техники, скопившаяся в большой излучине Дона, теперь рвалась из этой излучины на простор, как хищник из клетки…
Василевский сказал, что главное — задержать врага, чтобы затрещали все сроки гитлеровских планов, заодно он спросил Гордова — сколько человек в дивизиях Паулюса? Гордов пояснил: в пехотных до 12 тысяч, а в танковых еще больше. При этом Гордов заметил, что на его фронте, прикрывающем Сталинград, есть такие дивизии, где едва наберется триста штыков.
— На бумаге все выглядит гладко — дивизия на дивизию, баш на баш. Но триста наших бойцов не могут переломить мощь полнокровной немецкой дивизии… Это же факт!
— Факт, и весьма печальный, — согласился Василевский.
— Потому, — подхватил Гордов, — нам и нельзя вести себя так, будто мы уже находимся на подступах к Берлину.
Александр Михайлович понял, на что намекает Гордов: мол, чего ты, дурак, эту битву затеял, сидел бы тихо.
— Пока не закончим эту войну, — жестко ответил он Гордову, — на дивизии полного штата надеяться не стоит. Но мы находимся на подступах к Сталинграду, и, может быть, именно отсюда, от этого Калача-на-Дону, и начинается наш путь к Берлину…
Вечером, вернувшись в Калач и долго лавируя на своей «эмке» в кривых переулках, среди садов и заборов, Василевский слышал, как чей-то женский голос звал его адъютанта.
— Никак тебя? Что, уже познакомился?.. Адъютант вернулся в машину, рассказывая со смехом:
— Да, эта орет. Согласна комнату сдать. Говорит, что теперь полы просохли. А мужиков в хозяйстве не осталось. Вдова…
Василевский долго и мрачно молчал; потом сказал шоферу:
— Поехали, Саша… вдова! Как много у нас вдов.
Кривыми улицами Калача утром катился танковый батальон — к переправам, снаружи все обвевало речным донским ветерком, а из раскрытых люков машин било жаром, как из банной парилки.
— Левее! — покрикивали. — Забор не тронь… мужиков в хозяйстве не стало, одни бабы… Теперь правее бери. Прямо!
От железнодорожной насыпи отходил переулок с громким названием — Революционный, а возле убогой халупы без крылечка стоял однорукий мужик в измятой рубахе, босой и небритый.
— Эй, братцы! — кричал. — Я же ваш… или забыли?
Это был местный житель — Майор Павел Бутников, израненный в боях под Барвенково и демобилизованный подчистую, как полностью негодный. Его узнали. Танки остановились.
Бутников подошел, хромая. Гладил шершавую броню и… плакал:
— Вот, инвалидом стал. Вернулся в Калач, вон, домишко-то мой… а тут и вы. Опять фриц нажимает. Братцы, куда ж мне теперь деваться? Жить не хочется… чует сердце, что долго вас не увижу. Так возьмите меня с собой. Все равно пропадать. Так лучше уж с музыкой… а?
* * *
Мосты через Дон не выдерживали груза танков — рушились. Издалека нависала багровая туча пылищи, жарко и тревожно сгорали на корню хлеба, и шли — опять! — немецкие «панцеры». Между танками и бронетранспортерами энергично двигалась — перебежками между стогов — вражеская пехота, которая была вроде эластичных ребер корсета, которым Паулюс, казалось, удушал нашу оборону… Чуйков — под пулями — спрыгнул в окоп.
— Умеют воевать, сволочи. Но бить-то их все-таки можно!
Василий Иванович еще не ведал своей легендарной судьбы, а судьба обламывала его жестоко. Немало наших людей в этих боях под Калачом попало в окружение, из которого потом выходили кто тишком (по ночам), а кто шел «на ура» средь бела дня, прорываясь. Но появились и пленные со стороны противника.
Чуйков находил время, чтобы присутствовать при допросе пленных, и они зачастую удивляли его своей откровенностью.
— Я парикмахер из Кельна, — сказал один из них. — Не скрою, что на фронт пошел добровольно.
— Что вам худого сделала Россия и русские?
— Ничего. Просто мне захотелось иметь «э-ка».
Его не поняли. Пленный объяснил, что «э-ка» — так в вермахте сокращенно называют Железный крест (Eiserne Kreuz).
— У меня, — не скрывал пленный, — заведение в Кельне лишь на одно кресло, а имей я на груди хотя бы одно «э-ка», то мог бы открыть салон на десять клиентов сразу.
— Вот и вся правда, — невольно вздохнул Чуйков и велел увести пленного парикмахера, мечтавшего о Железном кресте…
Среди пленных попадались итальянцы из 8-й армии Итало Гарибольди — из дивизии «Сфорческа», что служила Паулюсу заслонкой, дабы прикрывать свою армию с северных флангов. Эти ребята были чересчур говорливые, нехотя входившие в общую колонну с немцами.
Однажды конвоир пригрозил немцу:
— Эй ты, фашист, давай, шевели мослами!
— Я фашист? — оскорбился немец. — Я убежденный национал-социалист, а к этой сволочи, — он показал на итальянцев, — никакого отношения не имел и не желаю иметь.
Пленные итальянцы не желали следовать в наш тыл в одной колонне с пленными немцами из армии Паулюса.
— Мы честные фашисты! — кричал один офицер. — И мы не желаем маршировать рядом с этой нацистской заразой…
— Не спорь с ними и уводи в тыл поскорее, — вмешался в этот идеологический спор Чуйков. — Кто там нацист, а кто фашист, кто лучше, а кто хуже — и без нас в лагере разберутся.
Именно в эти дни 6-я армия Паулюса несла очень большие потери, а генерал-профессор медицинской службы Отто Ренольди доложил, что похоронные команды иногда не справляются с приготовлением могил и тогда используют для захоронений глубокие воронки. Иногда даже обычных крестов не ставили над солдатскими могилами, а, зарыв убитого, клали над ним его каску и писали на ней белилами номер полевой почты. Но каждую неделю в 6-ю армию поступали свежие киножурналы «Вохеншау», и солдаты Паулюса видели себя бодрыми и веселыми, всегда наступающими, а русские представали обычно в рядах пленных.
Слухи о больших потерях вермахта в это время достигли Германии, вызвав среди немцев перешептывания догадки, сомнения и прочее. Немецкая публика каждую неделю просматривала «Вохеншау» — самые свежие кинорепортажи о делах на Восточном фронте, и в темных залах кинотеатров иногда слышались почти истерические женские выкрики — мать узнавала сына, а жена узнавала своего мужа.
Геббельс, с чела которого никто не срывал лавры самого изобретательного пропагандиста, сказал Фриче:
— Приятель, не сыграть ли нам на этом? Объяви-ка по радио, что каждая немка, увидевшая в «Вохеншау» близкого ей человека, отныне имеет право бесплатно получить фотокопию с тех кинокадров, где появились ее муж, сын или братец…
В этом вопросе Геббельс явно поторопился: наплыв заказов на копии отдельных кадров из боевой кинохроники был настолько велик, что скоро Фриче пришлось внести поправку. Копии стали высылаться за счет государства только матерям или вдовам, чьи сыновья и мужья уже погибли на фронте, а все эти занюханные невесты, сестры и прочие право на копии не имели…
А московское радио, верное себе, каждый Божий день повторяло стереотипную фразу: «Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат». Думаю, что в конце июля 1942 года немецкие солдаты гибли гораздо чаще…
* * *
Я внимательно перечитал солидную работу «Великая победа на Волге» под редакцией маршала К. К. Рокоссовского, изучил «Сталинградскую эпопею» под редакцией маршала М. В. Захарова, у меня не сходили со стола авторитетные издания «Битва за Сталинград» и конечно, «Сталинградская битва» нашего историка А. М. Самсонова, и все эти материалы еще раз убедили меня только в одном: наше контрнаступление, наспех организованное А. М. Василевским, никаких результатов не принесло, а все перечисленные мною монографии лишь подчеркивали неготовность наших войск к наступлению, пусть даже самому малому, и — да простит меня Бог! — я почувствовал, что мы в ту пору гораздо активнее были в обороне, нежели в наступательных сражениях. А что немцы? Пожалуй, только одна фраза из мемуаров Вильгельма Адама, адъютанта Паулюса, убедила меня в том, что Василевский был все-таки прав, начиная это контрнаступление, плохо подготовленное. Вот она, эта фраза: «Несколько дней 6-я армия была в опасном положении…»
После войны наши историки и полководцы не раз попрекали в печати А. М. Василевского за то, что именно он организовал контрудар возле Калача, хотя и сам понимал, что наша армия к наступлению не была готова. Через 20 лет после окончания войны Василевский в своем интервью для «Военно-исторического журнала» сказал, что в тех условиях, какие сложились тогда под Сталинградом, любое наступление — пусть даже слабое! — было единственным выходом для разрешения трагической альтернативы. Мало того! Александр Михайлович честно признал, что наши контрудары у Калача «не привели к разгрому ударной группировки противника, прорвавшейся к Дону, но они, как видно из последующих событий, сорвали замысел врага окружить и уничтожить войска 62-й и частично 64-й армий, сыгравших в дальнейшем основную роль в защите города Сталинграда!».
Немецкий историк Ганс Дерр тоже признал после войны, что наш контрудар возле Калача «дал (нам) выигрыш во времени примерно в две недели». А это — много! «Затем, — писал Г. Дерр, — из двух недель стало три, и потому лишь 21 августа 6-я армия Паулюса Смогла начать свое наступление через Дон…»
Но теперь, именно теперь! — когда Паулюс с трудом выбрался из гущи боев, для него невыгодных, и его армия несла невосполнимые потери, — Гитлер уважил мнение Йодля
— Йодль, пожалуй, вы были недавно правы, сказав что судьба Кавказа зависит целиком от Сталинграда. Прошу, распорядитесь, чтобы четвертая танковая армия Германа Гота срочно развернулась в сторону Сталинграда, который и будет взят нами в клещи — с запада от Паулюса, а с юга от Гота!
…Клещи ! В ночной степи, выбрасывая из выхлопных труб свирепые факелы гудящего пламени, загромыхали железные чудовища — «панцеры». Это двинулась в долгий путь танковая армада Германа Гота, и его машины шли напролом, не признавая дорог — перед ними лежала гладкая калмыцкая степь, и «панцеры» мчались с включенными фарами, а все живое, все пугливое быстро пряталось в норы… Клещи!
14.«Ни шагу назад!»
Был в Сталинграде такой скромный рабочий по фамилии Гончаров, а имени и отчества его я не знаю. Когда стали записывать добровольцев в истребительный батальон народного ополчения, этому Гончарову в записи отказали.
— Иди, иди! — сказали. — Тут и без тебя добровольцев хватает, а у тебя жена и четверо детей… мал мала меньше.
Вернулся Гончаров в свой домишко на окраине города, в садике его давно перезрели вишни, пришло время расцветать георгинам. Жена его гладила белье еще бабушкиным утюгом, доставшимся ей в приданое.
— Не берут меня, — сказал Гончаров.
— Почему? — спросила жена и плюнула на утюг, чтобы по шипению его точно определить — не надо ли в него жарких угольков подбросить?
— Да вот из-за этих… — показал работяга на своих детишек, гомонивших на кухне. — Четверо у нас. Вот и пожалели!
* * *
Бедный Климент Ефремович! Вот уж, наверное, икалось ему в то время: наши войска оставили Ворошиловград (бывший Луганск), а теперь немцы угрожали и Ворошиловску (бывшему Алчевску). Надарили своих имен городам и весям, а теперь эти имена казались жалкими этикетками, наспех приклеенными — ради украшения. Невольно вспоминается Екатерина Великая: когда узнала, что турки потопили корабль, носивший ее же имя, она указала — впредь давать кораблям только нейтральные названия, дабы личные имена, особенно исторические, ни капитуляциями, ни поражениями никогда не были опозорены…
Сталин своего приятеля не обижал, ибо они оба из числа «героев Царицына», не забывал Сталин и царицынскую оборону, которую подхалимы-историки вознесли на степень величайшего сражения века, сколько о нем было книг и фильмов!
— А что? — говорил Сталин. — Помню, тогда нам здорово помогли бронепоезда. Хорошо бы и Сталинград защищать бронепоездами, чтобы они ездили по окружной ветке железной дороги и стреляли из пушек, ограждая город с западных рубежей…
Никто, конечно, не возражал, но что-то я не слышал, чтобы бронепоезда сыграли решающую роль в битве у Сталинграда. Жесткая директива № 45, сочиненная Гитлером, еще не была известна в Кремле, но даже не ведая ее содержания, Иосиф Виссарионович интуитивно предчувствовал, что Сталинграду не миновать жестокой и легендарной судьбы — под стать царицынской.
Из-под Калача-на-Дону возвратился Александр Михайлович Василевский, и Сталин как бы невзначай спросил его:
— А что там товарищ Гордов? Как справляется? Тут нам в ЦК звонил товарищ Чуянов, жаловался товарищу Маленкову, что с товарищем Горловым трудно работать.
Гордов «царицынской» славы не имел, но, казалось, мало чем отличался от маршала Тимошенко, как бывает и копию трудно отличить от оригинала, и Василевский отвечал уклончиво!
— Гордов справляется не хуже маршала Тимошенко, но еще не всегда может найти общий язык с подчиненными и потому не стесняется — даже при женщинах — заменять его матерным.
Сталин долго ковырялся спичкой в своей трубке, воспетой сонмом поэтов и отраженной в живописном соцреализме.
— К сожалению, — вдруг сказал он, — генерал Еременко еще на костылях, он врачей своих за нос водит фокусы всякие показывает, будто и без них обойтись может, чтобы его на фронт отпустили…
После постыдной сдачи Ростова (уже вторичного за время войны), после того, как немцы взяли Новочеркасск, славную столицу Донского казачества, и перед ними, наглевшими от успехов, уже явственно замаячили нефтяные вышки Северного Кавказа, а боевые действия угрожали даже тем забвенным краям, где издревле кочевал пушкинский «друг степей калмык», — после всех этих трагических неудач… не поискать ли виноватых? Падение Ростова явилось для Сталина как бы отправной точкой, от которой и вычерчивалась сложная схема его умозаключений Ростов не просто оставили — это было, пожалуй, стихийное бегство массы людей, облаченных в воинскую форму, и вся эта орава (иначе не скажешь) драпала на Кавказ, а в Ессентуках заградотрядам пришлось даже отбивать «атаки» на винные склады, на элеватор и консервный завод…
Понятно ли тебе, читатель, почему именно в эти дни появился знаменитый приказ Сталина под № 227, который в простонародье называли конкретнее: «Ни шагу назад!»?
Сколько у нас писали об этом приказе, погребенном потом в тайниках сверхсекретных архивов, сколько было сказано слов о его насущной необходимости и его почти лютейшей жестокости , ибо теперь отступивший на шаг назад подлежал немедленной расправе.
Приказ гласил:
«…надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без конца отступать… Паникеры и трусы должны истребляться на месте… Ни шагу назад без приказа высшего командования!»
Нового я ничего не сказал — всем давно это известно.
Но повторяю свое личное мнение:
« Я считаю приказ № 227 самой яркой и выразительной страницей из всех страниц, когда-либо вышедших из-под пера Сталина, ибо в этом документе, датированном 28 июля, он эмоционально поднялся до высот настоящего гражданского пафоса. Все-таки, положа руку на сердце, стоит признать (как это признали очень многие), что такой приказ (я согласен), был тогда нужен!
Но… и тут у меня есть свои — авторские — «но»!
Призывая людей стоять на месте под страхом расстрела, чтобы наши бойцы и командиры не смели помыслить об отходе, приказ № 227, по сути дела, лишал нашу армию главного преимущества в тактике — маневра , сковывая армию роковой неподвижностью, и боец, боясь покинуть свою траншею, как бы заранее был обречен — или смерть, или… плен?
«Ни шагу назад!» — гласил приказ. Но в этом случае разрушалась сама логика испытанной веками тактики и стратегии, а старинное искусство побеждать заменялось примитивной формулой: стой там, где стоишь. Не спорю, что на фронте бывают именно такие моменты, когда отступать нельзя, когда надо отстреливаться до последнего патрона, но это моменты — никак не система, а лишь исключение из правил военного искусства. Теперь же искусство воинского маневра с отходом назад Сталин заменил командным требованием: «Ни шагу назад!»
Думая так, может, я, автор, в чем-то и ошибаюсь…
Иногда, чтобы победить, надобно прежде отступить. Сталинградский фронт был давно уже весь в прорехах, и там говорили:
— Где ты видишь линию обороны? Смотри сам, если глаза имеешь. Десять и даже больше километров фронт удерживают лишь три наших батальона. Чувства локтя давно уж нет и в помине. Сидим словно смертники! А разрыв между частями — два-три километра, тут аукаться не станешь, а через наш фронт не только фриц, а целая свадьба проедет — и даже не заметишь!
Верно. Бойцы меж собой иногда устраивали перекличку.
— Ну, как ты, Сеня? Живой?
— Держусь, — слышалось издалека. — А ты, Петь?
— Я тоже. Копошусь. Три гранаты осталось.
— Махра кончилась. Вот беда! Перебрось.
— Лови кисет. Потом вернешь… кидаю…
Стояли насмерть и без этого приказа № 227.
Но бывало и так, что боец поникал в одиночестве. И тогда страшен был его одинокий зов, обращенный в пустоту неба:
— Эй, братцы! Есть ли кто тут живой?..
А в ответ ему — мертвое молчание. Только пиликал над ним свою песню степной жаворонок да звенели большие зеленые мухи, перелетавшие меж трупов, по лицам которых они и ползали. И тогда солдату казалось, что он последний солдат России…
Со стороны излучины Дона надвигалась армия Паулюса, а с юга катилась на Сталинград танковая армия Германа Гота.
Была уже полночь 1 августа, когда в московском госпитале раздался звонок кремлевского телефона. Еременко дохромал до аппарата.
— Александр Иваныч? Ваш рапорт рассмотрен товарищем Сталиным, и за вами сейчас приедет машина… приготовьтесь.
Александр Иванович Еременко отложил костыли, взял в руки палку. Но и палку он оставил в приемной Верховного, чтобы выглядеть молодцом…
«Сталин подошел ко мне, поздоровался и, пристально посмотрев мне в лицо, спросил:
— Значит, считаете, что поправились?..»
Василевский после войны писал:
«Ставка и Генеральный штаб с каждым днем все более и более убеждались в том, что командование этим (Сталинградским) фронтом явно не справляется с руководством и организацией боевых действий такого количества войск, вынужденных, к тому же, вести ожесточенные бои на двух разобщенных направлениях…»
Сталин готовил новую рокировку среди командующих!
* * *
Как раз тогда нашумела пьеса А. Е. Корнейчука «Фронт», в которой автор (наверное, с одобрения Сталина) нанес справедливый удар по тем генералам, что жили прежними заслугами, воюя по старинке. В главном персонаже пьесы Корнейчук вывел туповатого и самонадеянного упрямца Горлова, который даже хвастался, что академий не кончал, радиосвязь — от нее одна лишь морока, а он побьет врага «нутром» и геройством рядового солдата. Впервые столь открыто ставился вопрос о непригодности военачальников, не желавших видеть глубоких перемен в искусстве ведения моторизованной войны, и недаром же такие вот горловы слали проклятья автору, требуя от властей запрещения вредной — по их понятиям — пьесы.
Гордов тоже был достаточно возмущен:
— Где Горлов, там и я — Гордов… это как понимать?
— Да совпадение, — утешал его Хрущев.
— За такие совпадения морду бить надо…
Вскоре они выехали на передовую, заодно навестили 64-ю армию, которой командовал Василий Иванович, как называли солдаты Чуйкова, почему-то пренебрегая его фамилией. Вид у Хрущева, прямо скажем, был довольно-таки кислый, очевидно, под стать своему командующему, он не очень-то верил в то, что оборона Сталинграда надежна. Да и чем, спрашивается, они, Гордов и Хрущев, могли помочь фронту? Они и обстановки-то на фронте не ведали… На передовой же появились не в самый героический момент — армия Чуйкова откатывалась за Дон, кто плыл в кальсонах саженками или брасом, держа на голове котомку со шмуткани, иные цеплялись за автомобильные покрышки или за пустые бочки, держались за бревна.
— А вас… что? — орал Гордов. — Война не касается? Ну что за народ пошел? Только бы пожрать да драпать…
Зато в штабе 62-й армии дорожки песочком посыпаны, будто тут гулять собрались, сам же Чуйков — даже в условиях фронта умудрялся выглядеть элегантно. С вызывающим шиком он, как джентльмен, опирался на трость. Но что особенно поразило Хрущева, так это его белые перчатки.
— Армия-то драпает… когда воевать научитесь?
— Учимся, — скромно отозвался Василий Иванович.
— Мало вас били, — упрекнул его Хрущев.
— Меня — да — мало! — не возражал Чуйков, и Гордову стало явно не по себе, когда он со знанием дела стал нахваливать гибкую тактику противника. — Казалось бы, — доложил он, — оборона вдоль реки и должна бы повторять конфигурацию береговой черты. Однако немцы умышленно оторвались от береговых контуров. Даже отступили от реки, нарочно создав «ничейное» пространство, чтобы мы в нем завязли…
— Его армия драпает, а он, такой-сякой, врага же и расхваливает…
Тут Гордова и понесло: мать и перемать, и в такую вас всех, выдал полный набор душеспасительных слов, а Никита Сергеевич тоже не скрывал, что Чуйков ему неприятен:
— И не стыдно ли фасонить перчатками? В такой исторический момент, когда вся страна напрягла свои силы на разгром зарвавшегося…
— Да у меня экзема… еще с Китая.
— Ладно — экзема. А дубина-то в руках для чего?
— Не дубина, а… стек! Мне так удобнее.
Тут Гордов и Хрущев в один голос:
— У него армия бежит, а он… Судить таких надо!
Ух, до чего же неприятен показался им этот Чуйков!
Возвращаясь в Сталинград, Гордов и Хрущев никак не могли успокоиться, дружно ругая «Василия Ивановича»:
— Нельзя таким пижонам доверять армию…
— Нельзя, нельзя, — соглашался Хрущев. — Ведь это на что похоже? Стек, перчатки, еще цилиндр не успел завести.
— Гнать его в три шеи, — решил Гордов, — чтобы такие пижоны мой Сталинградский фронт не позорили.
— Верно! В резерв его… пока не поумнеет!
Во время разговора со Сталиным Хрущев доложил, что Чуйкова они сняли — как неспособного ! Не станешь же рассказывать о перчатках да трости, лучше сказать — неспособный.
— И правильно сделали, — послышался из Москвы ответ Сталина. — Чуйков такой пьяница, что весь там фронт пропьет…
Василий Иванович пьяницей не был. Но теперь, поди ж ты, доказывай «вождю народов», что ты трезвый, если «вождь» уже решил, что ты пьяный. Долго ли у нас на человека ярлык наклеить? А потом сам он не отлипнет, и не отдерешь его…
4 августа Чуйков, отозванный в резерв фронта, возглавил оперативную группу Сталинградского фронта. Спросил:
— А где она, эта группа?
— Нет группы, — отвечал Гордов. — Собрать надо…
Чуйков не растерялся. Собирал в городе вышедших из окружения, отбившихся от своих частей, брал тех, кто из госпиталя выписался, если дезертира поймают — он и дезертира в строй ставил, внушал ему, чтобы дураком тот не был!
— Хорошо, что на меня напал. Другой бы, знаешь, куда тебя отвел? Не вчера война началась и не завтра закончится. Чем бегать-то, так лучше у меня послужи… Героем с войны вернешься, от баб отбою не станет, все девки перед тобой в штабеля сложатся…
Его оперативная группа скоро отличилась на фронте героизмом бойцов, и опять по фронту шла добрая молва:
— Вот Василь Иваныч… вот душа-человек!
А кто теперь знает генерала Гордова? — Никто.
А кто знает сейчас маршала Чуйкова? — Все.
Но тогда еще не пришло время славы Чуйкова — еще царили бездарные временщики типа гордовых-горловых.
* * *
Сталин начинал новую рокировку фронтов и командующих.
— Значит, поправились? — заботливо переспросил он. — Так точно, — по-солдатски отвечал Еременко.
— Будем считать, что товарищ Еременко вернулся в строй… Сразу приступим к делу. Сейчас, — сказал Верховный, — обстановка под Сталинградом настолько осложнилась, что мы решили Сталинградский фронт разделить на два фронта, и один из них намерены поручить вам.
Василевский, развернув карты, четко доложил о линия раздела Сталинградского фронта, причем эта линия рассекала на две части и сам город. Еременко сразу насторожился, и было отчего: город един, оборона его едина, а задачи фронтов вроде бы самостоятельны. Один фронт оставался с прежним Сталинградским наименованием — во главе с Гордовым, а Еременко предстояло командовать Юго-Восточным, ограждая Сталинград с южных направлений… Чушь какая-то!
— Вы желаете что-то добавить? — спросил Сталин, сразу приметив, что Еременко чувствует себя не в своей тарелке.
Андрей Иванович встал и сказал, что оборону города нельзя делить между двумя фронтами, более того, линия раздела, идущая по реке Царица, тянется вплоть до Калача, а стык между фронтами всегда останется уязвим в обороне.
— Если Сталинград един, то и одного фронта достаточно для его обороны — незачем делить его, как буханку хлеба…
Сталин, бывший до сей минуты душа-человеком, любезно интересовавшийся у Еременко, как срослись у него кости, вдруг разом переменился, стал раздражительным, ибо он не терпел, если кто-то осмеливается думать иначе, нежели решил он, великий Сталин. Погуляв по кабинету, он задержался возле Василевского и, давая урок Еременко, сказал;
— Оставить все так, как мы наметили…
Рано утром 4 августа Андрей Иванович вылетел в Сталинград, который он разглядел с высоты еще издалека — над городом нависала шапка дыма от сгоравших на Волге судов «Волготанкера» с их нефтяными трюмами. Хрущев выслал за Еременко свою машину, и прямо с аэродрома Еременко доставили на квартиру в центре города, в которой проживал и Гордов, сразу увидевший в Еременко не соратника своего, а, скорее, соперника. Раздвоение единого фронта уже сказывалось, да оно и понятно, ибо в народе давно примечено, что два паука в одной банке никогда не уживутся.
Никита Сергеевич вел себя как радушный хозяин, пригласил Еременко к самовару, но выглядел сам измотанным, усталым. Не лучшее впечатление сложилось и от Гордова, который после недавнего посещения передовой не был уверен в том, что армии Гота и Паулюса можно остановить. («Некоторая растерянность, — вспоминал Еременко, — и нервозность в его поведении насторожили меня. Его дальнейшее поведение удивило меня еще больше».) Гордов даже не спросил, как наладить стыковку двух фронтов в одном городе, и замкнулся в своей комнате.
— Поговорим, — тихо сказал Хрущев за чаем и вкратце поведал Еременко о том, что творится на фронте. — Не все у нас в порядке с командованием, — сказал Никита Сергеевич, — сам понимаешь, что я имею в виду этого… Гордова.
Хрущев, как и многие тогда в Сталинграде, не любил командующего и не доверял его способностям, о чем он и предупредил Еременко (но в своих мемуарах Хрущев отозвался о Гордове положительно, может быть, по той простой причине, что Гордов после войны был расстрелян за одну неосторожную фразу, произнесенную им по пьянке, — мол, «рыба у нас всегда с головы гниет», в чем Сталин и усмотрел намек на свою голову). Тогда же, за чашкой чая, Хрущев говорил о Гордове иное!
— Ты ему про Ивана, а он тебе про Кузьму. Совсем не умеет общаться с людьми. Кроме матюгов, слова путного не услышишь. Знаниями тоже не обладает… Сталинград нуждается в других людях. Вот Чуйков: поначалу я видеть его не мог, а сейчас вижу, что это настоящий командир, таким, как он, довериться можно. Но товарищу Сталину кто-то там сболтнул, что, мол, Чуйков пьяница…
Итак, Сталинградский фронт товарищ Сталин мудрейше и гениально, как всегда, разделил на две половины, а мудрая теория о двух пауках в одной банке сразу же дала практические результаты. Между Еременко (Юго-Восточный фронт) и Гордовым (фронт Сталинградский) возникла обоюдная неприязнь, тем более, что командный пункт у них был один — в подземных штольнях, отрытых на дне оврага, вдоль которого жалкая Царица спешила отдать свои мутные воды царственной Волге. Гордов всюду критиковал Еременко, но Андрей Иванович за словом в чужой карман не лез. Таким образом, хотел того или не хотел товарищ Сталин, но в Сталинграде образовался третий фронт — между командующими фронтами, и, если им часто не хватало боеприпасов для фронта, то слов они припасли немало. Да и причин для вражды было достаточно: задачи у них одинаковые, зато штабы у них, снабжения фронтов и планы — все разное, что приводило к бестолковщине, о чем товарищ Сталин не подумал, а Василевский, понимая, что совершается глупость, не был настолько смел, чтобы возражать «отцу народов». (Впрочем, если мы вспомним Шапошникова, то он тоже не всегда отстаивал свое мнение, отличное от сталинского.) Так и воевали: с юга напирает Гот с танками, с запада прет армия Паулюса, а двери кабинета Еременко напротив дверей кабинета Гордова, а командный нужник у них один на двоих, хотя Никите Сергеевичу забегать туда не возбранялось. Вот это война!
Но читатель не должен волноваться, ибо товарищ Сталин мудрее всех нас и он скоро начнет другую рокировку.
…Совинформбюро пока что помалкивало, но, между нами говоря, наши войска кое-где уже отходили из большой излучины Дона — еще с 22 июля, а на другой день Паулюс выходил к речным переправам.
* * *
Нет, я не забыл о слесаре Гончарове — помню.
Однажды он пришел на завод, молча и многозначительно выставил перед рабочими… утюг. Обыкновенный домашний утюг, которым совсем недавно жена его бельишко гладила.
— Вот! — сказал Гончаров. — Было у меня все, как у людей. А вчерась ото всего, что было, только утюг остался.
Не поняли его, и тогда Гончаров заплакал:
— Прямое попадание! Ни жены, ни четверых детишек… ничего больше! Один утюг уцелел… Дайте винтовку. Пишите меня добровольцем. В батальон истребительный. Я их, гадов энтих, что всю жизнь мою искалечили, не пожалею… и за себя теперь не ручаюсь. Не дадите оружия — руками душить стану!
Дали ему винтовку, и пошел Гончаров в цех СТЗ, а винтовку теперь прислонял к станку, чтобы оружие всегда было у него под рукой. Вы только подумайте, у этого человека отняли все разом, всю его жизнь, все будущее и остался в руинах дома один лишь чугунный утюг… Озвереть можно!
Вот он и озверел, а потому 23 августа 1942 года Гончаров выключит станок и возьмет в руки винтовку.
О таких вот рабочих Паулюс никогда не думал…
15. Противники
«Каждые семь секунд в России погибает один немецкий солдат!» Не совсем-то нравственно, на мой взгляд, подсчитывать, сколько убивают врагов в секунду, и при этом умалчивать, сколько русских за семь секунд убивают немцы.
Теперь обе группы армий «А» и «Б», разделенные меж собой полумертвым пространством, из которого бежали жители, но в которое оккупанты еще не вошли, — эти «А» и «Б» страшными сороконожками двигались самостоятельно: Лист и Клейст нажимали на Кавказ, а Паулюс из большой излучины Дона выбирался к берегам Волги. Начинался август, и мне, чтобы ощутимее был накал тогдашних боев, все-таки придется сказать, что в группах «А» и «Б» убыль за этот месяц составила 132800 человек, а пополнение было совсем ничтожное — лишь 36 000 солдат.
Но потери мало заботили Гитлера, и, уверенный в том, что второго фронта еще долго не будет, он перекачивал свои дивизии из Франции и Германии на Восточный фронт, который, подобно чудовищному молоху, губил миллионы жизней. Вечером 5 августа в столовом бараке «Вервольфа» под Винницей фюрер удачно прикончил комара на своем затылке!
— Моя стратегия оправдалась полностью. Русские поставлены на колени, и я понимаю причины, по которым Сталин не желает покидать город, носящий его имя. Наверное, назови я в Германии какой-либо городишко Гитлербургом, мне бы, наверное, тоже было жаль отдавать его этому Чингисхану…
1 августа танковая армия Германа Гота, прокатывая свои «ролики» вдоль железной дороги к Сталинграду, взяла станцию Ремонтная, через день она была уже в городе Котельниково, а теперь выходила к реке Аксай. Паулюс был доволен, что силы русских теперь раздвоены — против него и против Гота, когда квартирмейстер фон Кутновски доложил ему о нехватке похоронных команд, не успевающих зарывать трупы!
— Хотя мы не отказываем им в голландском «Шокакола», они курят только сигареты «Аттика», каждый имеет в день по банке португальских сардин и фруктовых консервов.
Порыв ветра сдул со стола Паулюса штабные бумаги — синие, белые, красные и зеленые (по степени их секретности).
— Закройте окно, черт вас всех побери! — нервно крикнул Паулюс. — Накажите священникам, — велел он, — чтобы впредь не церемонились с индивидуальными захоронениями. Кажется, уже пришло время братских могил… как у русских.
— Думаю, — поддержал его Артур Шмидт, — что католиков и лютеран можно сваливать в общую яму, а на том свете все будут равны перед Всевышним…
«Молниеносная девица» приняла свежую информацию: танки Клейста вступили в Сальск, одна колонна двинулась на Краснодар, другую Клейст развернул на Ставрополь (7 августа танки Клейста возьмут Армавир, а еще через два дня окажутся в Майкопе). Вильгельм Адам перебрал в пальцах хитроумные ключи от секретного сейфа с документами 6-й армии;
— Интересно, успеют ли русские взорвать нефтепромыслы?..
Вопрос таил общую тревогу. Начиная с июля, вермахт испытывал острую нехватку горючего, отчего продвижение замедлилось. Рихтгофену не отказывали в бензине, но в 6-й армии застыли тягачи «Фамо» и мощные «Фр. Крупны», простаивали семитонные «Хономаки» и грузовики «Адлеры», теперь пушки таскали по степи могучие «першероны», на крупах которых были выжжены особые тавро вермахта… Паулюс сказал Виттерсгейму:
— Вы гоняете свои «ролики» даже за водой к реке, тогда как русские не забыли об услугах крестьянской телеги.
Виттерсгейм огрызнулся — его танки, не признавая дорог (которых и не было), катились по целине:
— Потому за одну неделю моторы сожрали всю месячную норму, а двигатели у нас всегда рискованно перегревались.
— Не будем спорить… как там служится моему Эрни?
— Ваш сын превосходный танкист, но слишком горяч!
— Вы следите за ним, Виттерсгейм, — просил Паулюс, чуть покраснев от стыда. — Поймите, я готов смирить страхи отцовских чувств, но моя жена… ее материнское сердце…
Вечером Паулюс, оставшись один, грустил:
Тихо-тихо скрипка играет,
А я молча танцую с тобой…
— Бедная Коко… бедная, — тосковал Паулюс.
И не знал самого страшного. Пройдет недолгий срок, его имя будет вычеркнуто из жизни, а в гестапо от Коко станут требовать, чтобы отказалась от мужа и чтобы даже переменила фамилию, дабы в Германии все немцы забыли это презренное имя — Паулюс. Но Елена-Констанция, эта милейшая и умная Коко, откажется предать мужа и потому до конца войны ее будут держать колючей проволокой Равенсбрюка. Она умрет в 1949 году. И они, всю жизнь так любившие друг друга, больше никогда не увидятся… Никогда! Никогда! Никогда!!
* * *
В ставке Гитлера под Винницей, как отметил Франц Гальдер, «невыносимая ругань по поводу чужих ошибок», — это и понятно, ибо фюрер, подобно Сталину, считал себя гением, а все ошибки он сваливал на головы других, которые — вот идиоты — гениями себя не считали. Гальдер понимал, что дни его сочтены, и он позвонил в Цоссен, чтобы заранее подогнали в Винницу его личный поезд «Европа», дабы покинуть театр военных действий, где фюрер неустрашимо побеждал комаров.
— Я вас не держу, — сказал Гитлер, — можете забрать с собой и своего ученика Паулюса, который неравно распинался передо мною, что скоро сделает мне символический дар — бутылку с натуральной волжской водой… Где она? Теперь не Паулюс, а Герман Гот войдет в Сталинград!
С нашей стороны пропаганда сработала неряшливо, — и Москва прежде времени оповестила по радио мир, что «на берегах Волги высится нерушимая крепость — Сталинград», о неприступность стены которой гитлеровцы обломают последние зубы. Для Геббельса этой обмолвки было достаточно, и он отреагировал быстро.
— Послушайте, Фриче, — сказал он приятелю, — на этом можно удачно сыграть. Ведь не мы, а сами русские объявили Сталинград крепостью вроде Вердена, а поэтому ты нарочно проболтайся по радио, мол, наша задержка под Сталинградом тем и объясняется, что Сталинград — крепость, которую предстоит брать штурмом.
— Пардон, — отвечал Ганс Фриче своему шефу. — Но… кого обманем? Крепости создаются на границах государств, а иметь их в глубоком тылу… какой смысл?
Если бы, наконец, Сталинград был крепостью, так местные партайгеноссе не гоняли бы своих баб с лопатами и тачками — рыть окопы…
Но все-таки в речи по радио Фриче развил эту тему, оправдывая медленное продвижение к Волге 6-й армии. В эти дни Паулюс испытывал почти ревнивое чувство к 4-й танковой армии.
— Будет нам стыдно, если Гот выкатит «ролики» к СталГРЭСу раньше, нежели моя пехота вломится в цехи СТЗ и разгонит прикладами рабочих… Вилли, где последние данные аэрофотосъемки?
Нет, не с начальником штаба Артуром Шмидтом, а со своим верным адъютантом Паулюс изучал планы города и подступов к нему со стороны большой излучины Дона, при этом Вильгельм Адам разбирался в таких вопросах лучше Артура Шмидта.
— Конфигурация Сталинграда, — говорил он, — такова, что нам невозможно окружить его, прежде не форсировав реку, а Волга здесь слишком широка, мостов же она не имеет. Мы можем лишь закрепиться в улицах города, чтобы поставить Волгу под жесткий контроль. Сам же город никакой ценности не имеет!
Паулюс, надев очки, всматривался в тени и полутени на земле, снятые с высоты полета, спросил — что за черточки?
— Траншеи, — ответил Адам. — А вот и сам главный пояс оборонительных сооружений, который серьезным препятствием назвать нельзя. Русские напрасно старались, перевернув руками своих женщин горы земли лопатами, и даже вот эти рвы — видите? — совсем не задержат нашу армию.
Паулюс пришел к выводу:
— Мои кости не дрожат при виде этих укреплений между Доном и Волгой, но зато трясутся манжеты, когда я подумаю, что ожидает нас в самом городе?..
Грянул выстрел. Совсем недалеко от штабного автобуса.
— Вилли, узнайте, что там?..
Адам скоро вернулся и махнул рукой.
— Глупейшая история, — сказал он. — Застрелился заслуженный гауптфельдфебель Курт Эмиг, который уже три раза отказывался ехать в отпуск, чтобы нахватать «э-ка» побольше, но, пока он тут обвешивал себя Железными крестами, жена в Грайфевальде изменяла ему налево и направо. Вот он узнал об этом сегодня и… Наверное, решил отомстить.
— А много у него было «э-ка»?
— Уже три. И медаль за «отмороженное мясо».
— Вот глупец! — сказал Паулюс…
Приказ № 227 был утвержден Сталиным 28 июля, а через пять дней он уже попал в руки немцев, подверженный тщательному анализу.
Кутченбах быстро приготовил перевод приказа.
— Главная мысль Сталина такова: без приказа не отступать.
Притом Паулюс случайно вспомнил победный 1941 год и Эриха Гёпнера, разжалованного за отступление без приказа свыше.
— Но у нас такие же приказы фюрер издал после Москвы, а Сталин повторяет их смысл, но уже под стенами Сталинграда, объявленного им крепостью. Ничего оригинального в сталинском приказе я не усматриваю.
— Простите, — вмешался Шмидт. — Сталин уже нервничает, а его приказ — явное свидетельство слабости его армии.
— Пожалуй, вы правы, — согласился Паулюс…
Но согласился неохотно, ибо соглашаться со Шмидтом он не желал бы — ни в чем! Шмидта называли «серым кардиналом», который, за спиной Паулюса, желал бы управлять его армией; наконец, до Паулюса дошли и слова генерала Арно фон Ленски, что Шмидт — это партийный Мефистофель, приставленный к аполитичному Паулюсу. Шмидта в армии не любили и за грубость, с какой он выражал свое мнение, не раз выдавая его за мнение командующего.
Барону Кутченбаху, своему зятю, Паулюс сказал:
— Милый Альфред, я не желаю, чтобы моя любимая дочь Ольга осталась вдовой. Я вам советую иногда снимать свой черный мундир зондерфюрера, чтобы не нарваться на пулю от русских, которых вы же сами иногда и жалеете…
Этот совет он дал зятю после одной тягостной для него беседы с генералами Отто Корфесом и Мартином Латтманом, которые откровенно называли эсэсовцев «сопляками»:
— Они — войска СС и СД — крадутся, словно шакалы, за нашей армией, а что они творят там, на хуторах и в станицах, об этом известно, пожалуй, лишь начальнику вашего штаба.
— Пусть они и отвечают за все, — сказал Паулюс. — Но при чем здесь моя элитарная армия?
— Увы, — отозвался Латтман, — кровавые следы эсэсовцев совпадают со следами, оставленными подошвами наших солдат, и русские нашу армию знают… еще со времен Рейхенау.
— Меня это не касается! — вспылил Паулюс. — Я не отвечаю за прошлое своей армии, и вы не забывайте, что в Белгороде я распорядился спилить все виселицы…
Между тем Артур Шмидт оказался достаточно проницательным, и, желая расположить к себе Паулюса, однажды он даже рискнул на откровенный разговор:
— Вы напрасно презираете меня… плебея. Да, я, как и вы, тоже поднялся из самых низов жизни. В гимназии, не скрою, меня называли «лавочником», ибо я, чтобы нажить на папиросы, торговал в классах тянучками из лавки своего отца. Вас ввела в круг элиты удачная женитьба на румынской аристократке, а меня подняла верность национальным интересам Германии. Вы не изменяли своей жене, а я не способен изменить своим политическим и партийным идеалам.
Паулюс возмутился подобным хамским сравнением:
— Как вам не стыдно? Сравнивать измену жене с изменой партии — это, простите, скверный анекдот из гомосексуальных казарм времен штурмовика Эрнста Рема.
— Вы меня неверно поняли, — смутился Шмидт.
— Оставьте меня в покое, и впредь я никогда не желаю разговаривать на темы политики. Армия — вне политики…
Об этом конфликте он рассказал только Адаму:
— Подозреваю, что Шмидт приставлен ко мне вроде гувернантки. Я не буду удивлен, если узнаю, что у него имеется параллельная моей, но потаенная радиосвязь не только с Винницей, но даже с Житомиром, где засел шеф гестапо…
Адам печально вздохнул и сказал, что с передовой снова названивал генерал Курт Зейдлиц.
— Вам ничего не говорит имя капитана Эрнста Хадермана?
— Впервые слышу, — ответил Паулюс.
— Награжденный Железным крестом от фюрера, он сдался русским еще под Харьковом, и теперь они используют его в своих целях. Зейдлиц жаловался, что по утрам Хадерман орет в мегафон через линию фронта, что война Германией проиграна, а наши победы апокрифичны. В конечном итоге войну, по словам Хадермана, выигрывает не тот, кто выигрывает победы, а только тот, кто выиграет всю войну…
Паулюс в эти дни навестил позиции 51-го армейского корпуса, которым командовал Зейдлиц, и Паулюс не скрывал, что ему было лестно иметь в подчинении такого заслуженного генерала. Зейдлиц обладал независимым характером, его решения подчас резко отличались от планов высшего командования. Он был умен, расчетлив и любил говорить правду.
— Кстати, Зейдлиц, что известно об этом Хадермане?
Зейдлиц выложил брошюрку в 40 страничек, обнаруженную в своей же легковой машине, и которая называлась так: «Как можно покончить с войной? Откровения немецкого капитана».
— Мало ему болтовни, так он еще и пишет?..
Паулюс читал: «Чтобы спасти наших солдат на фронте, чтобы избавить германский народ от неминуемой катастрофы, необходимо прежде всего сбросить Гитлера…» Паулюс снял очки:
— Я уверен, Зейдлиц, что никакого Хадермана не существует. Это выдумка большевиков, которые убили подлинного Хадермана, но его имя теперь они используют в собственных интересах.
Курт Зейдлиц думал иначе и быстро листал брошюру:
— Вот! Слушайте: «Настоящее лицо Германии еще скрыто, заграница видит лишь искаженную душу немецкого народа. Наш дух задавлен, над нами восторжествовала грубая сила». Если бы не эти слова, — сказал Зейдлиц, — я бы отдал брошюру своим солдатам на пипифакс. Но капитан Эрнст Хадерман, наверное, существует, ибо так писать может только немец.
Хадерман вступал в контакт с войсками по вечерам, после ужина, и Паулюс выразил желание его послушать. Они опоздали, пережидая пулеметный огонь русских, и Паулюс спрыгнул в окоп, изнутри украшенный предупредительными надписями: «Не забывай пользоваться презервативами», «Помни о русских снайперах».
Диалог — через линию фронта — был уже в разгаре.
— Эй, кретин! — орали солдаты Зейдлица. — Сознайся по совести, сколько тебе платят русские?
С русской стороны мегафон возвещал:
— Не будь дураком! Я такой же военнопленный, как и другие, и, поговорив с тобой, я отсюда снова вернусь за колючую проволоку лагеря. Русские мне платят только своим доверием, ибо я, очень далекий от их марксистских увлечений, желаю умереть честным немцем.
— Проваливай… трепло поганое! — орали в ответ солдаты. — Пусть иваны угостят тебя ликером из своих елок, отрежут кусок торта из опилок и угостят махоркой.
Со стороны Хадермана слышалось:
— Немцы, вспомните, что писал наш великий Гёте: «Немцев всегда злит от того, что истина слишком проста…»
Зейдлиц наслушался брани и затоптал свой окурок:
— Эй! Кончайте болтовню… Дайте по предателю нации из крупнокалиберного пулемета, чтобы он навсегда заткнулся.
— Заодно, — добавил Паулюс, — всадите туда парочку осколочных с примесью горящего фосфора… вот и конец!
* * *
Генерал-профессор Отто Ренольди сообщил, что на контроле в Кракове задержаны триста солдат 6-й армии:
— Наши отпускники! Им не дали «подарков фюрера» и не пускают в Германию, ибо они не прошли дезинсекцию на вшивость.
Паулюс удивился — отчего завшивела его армия?
— Конечно, от русских, — подсказал Шмидт.
— Нет, — со знанием дела отвечал Ренольди. — От русских заводятся клопы, а вши от кукурузников и макаронников. Вы ж знаете, что британские войска в Киренаике никогда не занимают окопы после итальянцев по тем же причинам.
Паулюс с присущей ему брезгливостью предложил, чтобы солдаты 6-й армии почаще полоскали белье в речках.
— Но эти звери не тонут, — отвечал Ренольди, более практичный, и Паулюс спросил профессора, как о этим бедствием налажено дело у русских. — У русских, — пояснил Ренольди, — еще со времен царя заведены в войсках регулярные «прожарки».
— Нельзя ли и нам… как при царе?
— У нас, — настырно вмешался Шмидт, — тоже имеются подобные камеры. А немецкая техника самая передовая в мире.
— Конечно! — не возражал Ренольди. — Но в соревновании нашей техники с техникой противника имеется небольшая разница: в русских камерах зараза полностью уничтожается, а в наших гнида только получает легкий загар, как на испанском курорте. Предупреждаю: набравшись вшей у Харькова, мы протащим их на переправе через Дон, а когда выйдем на Волгу, сыпной тиф нашей героической армии обеспечен, как пенсия по старости…
Ренольди оказался прав. Но спасать жизни немецких солдат от сыпного тифа будут уже наши врачи, многие из которых и станут жертвами сыпняка, заразившись от своих пациентов. Германия об этом помнит, а солдаты 6-й армии до сей поры благодарят наших врачей, которые спасли их, а сами погибли. Паулюс этой болезни миновал.
В Суздале, уже за стенами монастыря, где содержались многие его коллеги, однажды к нему подошел немецкий офицер с Железных крестом поверх мундира потасканного:
— Наш диалог был тогда прерван, господин фельдмаршал, и прерван не по моей вине. Я и есть тот самый капитан Энрст Хадерман, которого многие из вас сочли большевистской выдумкой. Если не возражаете, мы прежний диалог продолжим и, надеюсь, с большим успехом… во всяком случае — без стрельбы!
16. В городе
В скверах города гуляли козы и коровы, по бульварам и дворам носились отощавшие бесхозные свиньи с поросятами.
Еременко вскоре же познакомился с Чуяновым.
— Живете, — сказал недовольно, — словно дикари какие, даже моста через Волгу не перекинули. А потом, — спросил, — что я вижу? Сталинград — город, носящий имя великого вождя, а здесь коровы бродят по газонам и ко всем бабам пристают, чтобы их подоили. Едешь по городу, а свиньи визжат, коровы мычат, собаки лают… Хорошо ли это?
Алексей Семенович не спорил; но откуда свиньи взялись — и сам не знал, признав за истину, что хозяина их не отыскать: обещал направить комсомольцев на отлов свиней, чтобы всех — на мясокомбинат, а комсомолок — чтобы коров доили.
— Конечно, тут не Москва, где мильтон свистнет, так сразу все разбегаются. Мы — провинция. Это в столице скажут: глядеть всем наверх — и все смотрят, а у нас прежде спрашивают: «Зачем наверх глядеть? Чего мы там не видел?..»
Андрей Иванович схватил костыли, по комнате — скок-скок в один конец, повернул обратно, снова за стол уселся (раны еще болели, и Еременко превозмогал сам себя).
— Слушай, ты сам-то с какого года?
— Урожден в год революции — в пятом.
— А я еще в прошлом веке родился, старше тебя, — сказал Еременко, — так чего ты тут дурака валяешь. Я ведь дело говорю. В конце-то концов плевать мне на свиней да коров недоенных… Сейчас во как, позарез, мост нужен!
Чуянов ответил: уж сколько бумаг им было написано, каждый год отвечали — то в планы пятилетки мост не влезет, то средств не сыскать, а сейчас, когда немцы с двух сторон жмут, какой же тут мост построишь? Только на горе себе:
— Сегодня построим, а завтра от него немцы одни сваи оставят. Меня же и турнут за милую душу, как… Дон-Кихота!
Еременко сказал, что мост берет на себя:
— У меня же саперы. А мост наплавной сделаем. Коли разбомбят, восстановим быстро, и снова поехали… Нельзя же воевать, если армия на одном берегу, считай, в городе, а тылы ее на другом, в Заволжье, где одна тоска зеленая.
Разговор происходил на командном пункте двух фронтов (в штольнях), в соседней комнате тихо попискивала морзянка, в проходе были кучей свалены аккумуляторные батареи, а стены в кабинете Еременко были сплошь обтянуты тонкой фанерой, и оба они, не раз бывавшие на приемах в Кремле, понимали, что это личный вкус товарища Сталина, обожавшего именно такую обивку на стенах.
— Хозяин распорядился, — намекнул Чуянов.
— Верно! — огляделся Еременко. — А я-то сижу я думаю: отчего в подвале все такое знакомое, будто в кабинете вождя нахожусь? Вот она, наглядная забота о нас партии и правительства…
(Подобные словесные эскапады были в духе речей того времени, даже в мемуарах Еременко писал, что в Кабинете Сталина ему казалось, будто Ильич с портрета улыбался ему , словно ободряя на подвиг). А дома Чуянова поджидала жена.
— Алеша, — завела она прежний разговор. — Или глаз у тебя не стало? Разве не видишь, что творится в городе? Твои партийные работники из обкома и даже из райкомов уже давно семьи из города тишком повывозили. Теперь живут в безопасности в заволжских кумысолечебницах, беды не знают на обкомовских дачах в «Горной поляне». Один ты у меня…
— Ша! — сказал Чуянов. — Не скули. Я тебе уже говорил, что моя семья останется в Сталинграде, и больше с такими вопросами ко мне не приставай.
Дедушка Ефим Иванович поддержал Чуянова:
— Алексей-то правду сказывает. На него же люди смотрят: сбежал аль сидит? Вот и крепись, а не хнычь… Сама знала, за кого замуж выходила. У них, партейных, своего винта нет — они сверху крутятся, как окаянные…
Если выдавались спокойные ночи, сталинградцы из окон своих квартир видели далекое зарево — это полыхала степь, в огне сражений собрали на корню массивы переспелой ржи и пшеницы. Надрывно, почти истошно перекликались меж собой маневровые «кукушки» на станциях Качалино, Паншино, Котлубань, — сталинградский узел уже задыхался в страшном и тесном тупике, из которого, казалось, не выдернуть ни одного вагона и не найти места для вагона прибывшего. А вокруг города, ограждая его от наседающих армий Гота и Паулюса, подтянулась на 800 километров извилистая и постоянно колеблющаяся линия фронта — в разрывах и проломах, уже рваная…
В эти дни Еременко вызвал к себе саперов, их в Сталинграде возглавлял инженер-генерал В. Ф. Шестаков.
— Без моста задохнемся… Вспомните, как наш замечательный советский классик Алексей Толстой в своем гениальном романе «Хлеб» описал скорое строительство моста через Дон нашим легендарным маршалом Ворошиловым.
— Так это в романах, — отвечали саперы, — легко было писать Толстому, а ты попробуй-ка сделай… У нас тут не Дон, а Волга-матушка, и мы тоже не товарищи Ворошиловы.
Строить наплывной мост решили возле Тракторного завода (СТЗ), и Шестаков сказал, что будут поторапливаться, ибо железная дорога от узловой станции Поворино уже доживает последние дни! не сегодня, так завтра немцы могут ее перерезать.
— Будем спешить, — скромно обещал генерал Шестаков…
Наводить мост решили от набережной, чтобы через острова Зайцевский и Спорный он вывел к Ахтубе, где густо дозревали вишневые сады. А дальше уже тянулись нелюдимые степи Заволжья, в пустынное небытие шагали ряды телеграфных столбов, звенящие струнами проводов, и на каждом столбе сидели хищные коршуны, зорко высматривая добычу.
* * *
Примерно за день до назначения В. И. Еременко в Сталинграде случилось нечто из области не научной, но административной фантастики, явление, до сих пор необъяснимое
В тупике железнодорожных путей, где скопились вагоны с различным сырьем для металлобазы Вторчермета, грузчики наткнулись на запломбированный вагон, который охранял солдат с винтовкой. Естественно, работяги удивились;
— Чего у тебя там в вагоне? Медь, чугун?
— Железяки всякие.
— Так чего хлам охранять-то?
— Так велено.
— Ну валяй отсель, — сказали грузчики. — Да проспись. На тебе лица нет. А мы твой вагон под разгрузку ставим.
— Хрена с два, — отвечал стойкий часовой. — Мне приказано никого не подпушать, а ежели кто полезет — стрелять.
— Не дури! Вот и квитанция у нас на разгрузку.
— Отойди по-хорошему, — кричал солдат, щелкая затвором винтовки. — Иначе, ей-ей, пальну — не возрадуетесь,
— Псих ты, что ли? Совсем очумел?
— Говорю — отойди. Иначе всех перестреляю…
С базы Вторчермета звонили в обком, просили вмешаться, а Чуянов поднял на ноги НКВД, наказав Воронину разобраться с этим вагоном. Воронин, ныряя под составами, забившими станционные пути, долго ползал в неразберихе путей, наконец вышел на грузчиков, которые в сторонке покуривали.
— Эвон, — показали они ему, — вагон под пломбами. На базе ждут, чтобы пустить металлолом в переплавку, а энтот молокосос обрадовался, что «винтарь» доверили — не подпущает.
Воронин сунулся было на площадку вагона, чтобы одним махом обезоружить солдата, но тут же кувырком полетел под насыпь от удара приклада и окрика: «Стой! Стрелять буду…» Отошел подальше, отряхнул галифе, матюгнулся и стал думу думать — как бы ему разоружить бойца, чересчур усердного, чтобы он с винтовкой расстался. Как представитель могучей организации НКВД, Воронин, конечно, начинал с лирики:
— Эй, товарищ боец, благодарю за верную службу!
— Служу Советскому Союзу, — последовал четкий ответ.
— А какой день ты не жрамши? — ласково спросил Воронин.
— Кажись, пятый. Забыл, когда ел.
— Небось, и пос… хочешь? — ласково спросил Воронин.
— Прижимает. Да боевой пост не оставишь.
Воронин продумал свое поведение, издали спрашивая:
— Эй, хочешь, я тебя арестую?
— Зачем? — удивился часовой.
— А… просто так. Больно уж ты мне понравился. Я ведь тебе не хрен собачий, а НКВД… что хочу, то и делаю. Могу хоть здесь ордер на арест выписать и припаяю «врага народа».
— За што? — еще больше удивился боец.
— У нас не спрашивают — за что? Значит, так надо. Лучше бросай винтовку да пойдем со мной. Хватит трепаться. Я тебя в нужник сведу и даже кормить стану… Идет?
Все-таки уговорил. Боец сдал винтовку, свой пост, Воронин отправил его с запиской в комендатуру города, куда и сам позвонил, чтобы там его накормили и дали парню выспаться.
Потом свистнул, подзывая бригаду грузчиков:
— Эй, ребята! Срывай пломбы… I
Сорвали. Дверь теплушки с грохотом откатилась в сторону, Воронин глянул внутрь вагона и… обомлел.
— Никому ни слова, — предупредил грузчиков. Сразу пришел в диспетчерскую, всех из комнаты выгнал чтобы не подслушивали, позвонил Чуянову. — Держись крепче на чем сидишь, — сказал он.
— Вагон взяли с утильсырьем?
— Взяли и открыли.
— А что в нем? — спросил Чуянов.
— Золото.
— В уме ли ты? Может, бронзу с золотом перепутал?
— Нет. Полный вагон золота… в слитках.
— Так откуда он взялся, этот вагон?
— Теперь не узнаешь. Никаких документов. Кажется, идет вагон давно, а откуда — неизвестно. Скорее всего — его для маскировки запихнули в эшелон с металлоломом… Как быть? Еще бы немного, и поставили под разгрузку. Уж, наверное, каждый грузчик по слитку бы в зубах домой унес… Как быть?
Чуянов позвонил в Москву в Госбанк СССР.
— Скажите, пожалуйста, — нарочито умильно начал он, — у вас случайно никогда не пропадал вагон с золотом?
— Как вы могли подумать! — отвечали из Москвы. — Мы здесь каждую народную копейку бережем, а вы… вагон с золотом?
— А все-таки, — продолжал Чуянов, — как вы отнесетесь к тому, что я подарю вашему банку вагон с золотом?
— Перестаньте хулиганить! — отвечали ему…
Вечером позвонил из Госбанка какой-то товарищ, судя по апломбу голоса, ответственный и авторитетный:
— Это у вас нашли наш вагон с золотом?
Чуянов не отказал себе в удовольствии поиздеваться:
— Пока что вагон не ваш, а, простите, мой.
— А что вы с ним сделали?
— Пропиваем. Всем городом.
— Не до шуток! Как этот вагон к вам попал?
— Вот об этом, — обозлился Чуянов, — надо бы не меня, а вас спрашивать, почему вы этот вагон с золотишком чуть было на переплавку вместе с утильсырьем не пустили.
— Поставьте к вагону усиленную вооруженную охрану.
— Сейчас! Вот только берданку заряжу и побегу охранять…
Дальше этим вагоном занимался Воронин, ставил усиленную охрану, выдергивал вагон из немыслимого хаоса составов, а сам Чуянов еще долго не мог успокоиться.
— Лопухи! — возмущался. — Финансисты дырявые. Зато и везет же нашему Сталинграду: в прошлом году нашли на путях целый эшелон с пушками, а в этом — вагон с золотишком… во где бардак!
Душно было, жарко. Во дворе обкома стояла зенитка, и через открытое окно Чуянов слышал, как политрук части, собрав бойцов, проводил очередные политзанятия. Он начал так:
— Товарищи бойцы, сегодня у нас самая почетная программа занятий. Кто из вас берется перечислить все те должности, которые занимает наш великий вождь и учитель товарищ Сталин… Ну? Неужто никто не знает? Смелее, товарищи. Нельзя побеждать кошмарного врага, не зная наизусть все посты, занимаемые великим полководцем и вождем всех народов…
Алексей Семенович высунулся в окно, крикнул:
— Эй, кончай! Разворачивай свою пушку… летят!
С женой он договорился так, что — еще до объявления воздушной тревоги, о которой узнавал раньше всех, — Чуянов звонил на Краснопитерскую и говорил два слова: «Катюша едет», что означало: пора его семье спускаться в подвал. Все реже он бывал дома, в своем же кабинете и спал на диване, чтобы в любой момент взять трубку правительственного или городского телефона. Средь ночи на диван к нему запрыгивала приблудная овчарка Астра и благодарно лизала хозяина в нос.
— Да иди ты! — отмахивался Чуянов. — Нашла время для нежностей… не мешай выдрыхнуться.
Иногда гремели отдаленные взрывы, но Чуянов уже привык и спал, как убитый — до звонка! Спал и даже не слышал, как в городском зоопарке всю ночь жалобно трубила, словно предвещая беду, некормленная слониха Нелли.
* * *
Верно говорили немецкие генералы, начиная войну: всегда известно, как в Россию забраться, но никогда не будешь знать, как из нее выбраться. Чем дальше войска вермахта погружались в наши великие пространства, тем обширнее становился фронт, растягиваясь, словно резина, а от центральных направлений то и дело ответвлялись пучки других направлений, и каждое требовало новых усилии, новой техники, все больших запасов горючего. Вот краткий пример: казалось бы, Герман Гот, начав прорыв к Сталинграду от станицы Цимлянской, имел лишь одно генеральное направление — на Сталинград, но сразу возникло опасение, что русские нанесут его армии удар с тыла — через калмыцкие степи, со стороны Астрахани, и Готу, чтобы обезопасить себя, пришлось часть своих сил бросить на захват Элисты, столицы Калмыкии, — так возникло еще одно направление, а Паулюс, когда он сидел в Цоссене над планами «Барбаросса», конечно же, не мог предвидеть, что мощь вермахта будет раздергана на множество мелких задач, и, взяв Элисту, немцы потом не будут знать, как из этой Элисты унести ноги…
Известно, что после войны гитлеровские генералы, эту войну проигравшие, все свои беды свалили на своего несчастного «ефрейтора», который забрался в область большой стратегии, словно свинья в парфюмерную лавку. Писали они: мол, Гитлеру бы лучше заниматься своей партией, а не лезть в их дела, а вот они, дай им волю, разделались бы с Россией еще летом сорок первого года… Немецким генералам от наших историков за это попало! Мол, сами воевать не умели, а теперь валят с больной головы на здоровую (этим самым невольно признавая стратегические таланты фюрера). Но, касаясь операций лета сорок второго года, я — автор — все-таки склонен думать, что немецкие генералы были правы, а Гитлер попросту зарвался, когда на юге страны раздвоил свой вермахт, подобно растопыренной раковой клешне, силясь одним ударом достичь сразу двух стратегических целей — выхода к нефтепромыслам на Кавказе и занятия Сталинграда на Волге.
По-моему, прав и Курт Типпельскирх, писавший:
«Не вызывает почти никакого сомнения, что Сталинград в начале августа можно было взять внезапным ударом с юга».
Возможно, что и так… Возможно, говорю я! Но Гитлер бросил армию Листа на Кавказ, потом от этой армии оторвал армию Гота, а сам Гот ослабил себя, откатив часть своих «роликов» в направлении Элисты, чему, как вы догадываетесь, немало подивились наши калмыки, жившие в своем захолустье, как у Христа за пазухой.
«Таким образом, — завершает свой вывод Типпельскирх, — 3-я армия (Паулюса) и ослабленная 4-я танковая армия (Гота) должны были вести фронтальное наступление против непрерывно усиливавшейся обороны противника…»
— Эти собаки, — говорили на допросах пленные румыны и итальянцы, хорваты и венгры, и наши особисты не могли взять в толк, о каких «собаках» идет речь (союзники Германии именно так отзывались о немцах).
Вот признание одного пленного:
— Эти собаки катили в грузовиках и бронетранспортерах, словно по трамвайному билету, а я протопал семьсот миль пешком. Хотите, разуюсь и покажу вам свои ноги… от перепрелости они все в волдырях, из которых течет гной с сукровицей. Бог спас меня, и завтра не надо маршировать под солнцем, думая, где бы нахлебаться воды. В полку уцелело меньше половины солдат. Мы все удивлены — где русские берут столько людей и вооружения? Бьем, бьем, а они колотят нас каждый день беспощаднее. Сейчас мы все озабочены одним — как бы найти протекцию на родине, чтобы нас отозвали с фронта. В плен сдаваться многие еще боятся, поступая проще. Берут буханку хлеба и через эту буханку стреляют в свою руку иль ногу. Но это тоже опасно. Ведь о раненых заботятся только у этих собак, а у наших врачей каждая таблетка аспирина на счету… Мы, читатель, спокойно читаем старые сводки Совинформбюро, а ведь тогда, летом сорок второго, наши матери и бабушки, читая их, плакали . Даже та скудная и кривобокая информация, что поступала с фронтов, таила роковую недоговоренность, которая казалась страшнее правды. Теперь немецкие самолеты забрасывали окопы защитников Сталинграда листовками, текст которых едва ли отличался от тех, что сыпали на нас раньше.
В Сталинград придем с бомбежкой, А до Саратова — с гармошкой…
Сталин не очень-то охотно расставался с запасами стратегических резервов, что держал под Москвой для обороны столицы, но обстановка на юге все же убедила его наконец, что судьба войны будет решена на берегах великой русской реки. Денно и нощно катили эшелоны. Но железные дороги работали безобразно, их графики были перегружены до предела. Бывало и так, что «голова» дивизии уже вела затяжные бои в излучине Дона, а «хвост» дивизии еще начинал погрузку на подмосковной станции Люберцы. Иногда эшелоны застревали далеко от Сталинграда, и бойцы топали на фронт «пешедралом» (поэтому некоторые подкрепления добрались до Сталинграда после 23 августа, когда многое было уже решено). А станции и степи под Сталинградом как назло не имели платформ, и разгрузка танков проводилась остроумно — по команде старшего:
— Заводи моторы, славяне! Делай, как я…
Танки, рыча моторами, один за другим шли прямиком по товарным платформам, и в конце эшелона они, как лягушки, «спрыгивали» на землю, иногда «прямо с колес» принимая бой…
Немцы, как правило, воевать начинали с восьми утра, а по ночам дрыхли, развесив над линией фронта «лампады» — осветительные бомбы, которые, плавно снижаясь на парашютах, освещали позиции феерическим светом. Поля вчерашних битв напоминали «деревни» — так много оставалось на полях боя подбитых танков. Наши бойцы ночью «шуровали» в брошенных танках, где находили множество награбленных вещей, особенно женских, — для отправки в «фатерлянд». Приказ Сталина № 227, сразу ставший «секретным», немцы разбрасывали над нашими позициями в виде листовок. При этом текст приказа они ничем не исказили, сохранив в листовках весь его грозный смысл, только в конце его сделали примечание: вы, русские солдаты, сражаетесь прекрасно, и мы, немцы, в мужестве вам не отказываем, но мы удивлены бездарностью вашего командования. Политруки и особисты такие листовки отбирали…
Гитлер, как и Сталин, уверовав в какую-либо собственную версию, потом не сразу с ней расставался, он упрямо лез на Кавказ, считая его чуть ли не главной целью всей этой летней кампании, и лез не только затем, чтобы насосаться нашей нефти, словно клоп чужой крови, но и ради того, чтобы боевыми успехами вермахта оказать политическое давление на правителей Турции, дабы они не медлили с нападением на Грузию и Армению. Но турки, как и японцы, терпеливо выжидая, чем закончится поход на Сталинград, и постепенно Гитлер стал склоняться к мысли, что не сам Кавказ (предгорья Кавказа), а именно Сталинград станет ре-1ающим фактором всей войны.
* * *
Лютое было время! Помню его отдаленные всплески, которые, как прибой, накатывались на Соловки, где я — в звании юнги! — в ту самую пору выламывал оконные решетки в тюремных камерах Савватьево, чтобы постигать потом в этих камерах-аудиториях сложную науку рулевого-сигнальщика… Политруки не слишком-то баловали нас правдой, но даже нашего мальчишеского ума хватало на то, чтобы понять — под Сталинградом творится что-то грозное и решающее, никак не похожее на «героическую оборону Царицына», а мне Сталинград казался тогда особенно близким по той причине, что мой отец Савва Михайлович Пикуль уже сражался там в рядах морской пехоты…
* * *
2 августа Уинстон Черчилль вылетел из Лондона, и через два дня он был в Каире, завороженный вниманием к двум направлениям войны — лагерем Роммеля под Эль-Аламейном и скорым продвижением вермахта к Кавказу, что грозило Лондону утратой политического влияния в странах Востока. Это было время, когда немцы уже вступали в Армавир…
Удивительно! Пленный румын жаловался, что «эти собаки» гнали его пешком и он маршировал 700 километров, а я вот читаю мемуары наших ветеранов, которые, выбираясь из клещей окружений, за одну неделю отмахивали на своих двоих по триста миль кряду — и на волдыри не жаловались, снова готовые сражаться. Отход наших войск из большой излучины Дона стоил нам потери многих баз снабжения, которые так и не вывезли — не хватало транспорта. Сколько там осталось добра в наших складах — и тогда не знали, да и сейчас узнавать нет смысла. 62-я армия тоже отошла из-под Калача, а четыре ее дивизии остались в окружении и, не вылезая из кровавых боев, все-таки вырвались из котла. А мы отступали… да, отступали! А каково быть в арьергарде? Пожалуй, страшнее, чем в авангарде, когда идет отступление, арьергард отходит последним, и все шишки достаются ему.
6-ю армию Паулюса отделяли от Сталинграда более полусотни километров, и он, кажется, ревниво относился к успехам Гота:
— Пожалуй, этот парень решил нас обогнать — что стоит для его «роликов» прокатиться двадцать-тридцать километров по гладкой степи, где почти не осталось русских войск, а вдоль насыпи железной дороги можно вкатиться прямо на вокзал Сталинграда…
Если читатель сыщет на карте реку Сал и проведет взором вдоль железной дороги на Сталинград, то станет ясен и маршрут 4-й танковой армии, следовавшей почти по рельсам. Наши войска, отжимаемые к северу, сдавали рубежи на реках — Сал, Аксай и, наконец, остался последний водный рубеж на реке Мышкова возле станции Абганерово. Далее отступать, кажется, и нельзя, ибо от Мышковой до Сталинграда оставалось рукой подать, и Герман Гот не выдержал напряжения боев.
— Конечно, — сказал он в штабе, — мой коллега Паулюс будет смеяться, но мы только теряем время и танки в бесплодных атаках… Даже интересно: кто держит оборону перед нами?
— Генерал Чуйков… совершенно неизвестный.
— Будь он в моей армии, — сказал Гот, — я бы давно представил его к Рыцарскому кресту с дубовыми листьями…
Перед ним развернули карту, но от станции Абганерово он перевел взгляд в желтые степи, где между Волгой и железной дорогой скромным пятнышком обозначилось озеро Цаца (Чаган-Хулсун), а за этим озером лежал Красноармейск.
— Что в этом Красноармейске? — спросил Гот.
— Большая деревня, в которой русские держат ускоренные курсы танкистов. Но к этому городишке — видите? — примыкает и Бекетовка — южный район Сталинграда…
И танковая армия Гота развернулась от Абганерово прямо к берегам Волги, чтобы, минуя озеро Цаца, ударить в подвздошину Сталинграда — со стороны Красноармейска, при этом Гот обходил наши рубежи с востока, и нам ничего не оставалось, как снова отходить к Сталинграду, чтобы избежать окружения, а река Мышкова стала для нас новым и, пожалуй, самым последним оборонительным рубежом… Степь стала здесь черной и вся трава выгорела. Немецкие танки сгорали в прозрачном голубоватом пламени, и бывалые солдаты говорили молодым:
— Вишь, гады какие! Ходят на бензине высокого качества, какого у нас и нету, а сами нефти нашей захотели…
Генерал Чуйков был теперь одет по-солдатски, гимнастерка побелела на солнце, он обходил своих бойцов, не по-людски понимая, и потому, наверное, его понимали тоже:
— Братец, если отступишь, то далеко не утикай, чтобы мне потом не искать тебя. Убегая, не вперед смотри, а оглядывайся, чтобы…
В те жаркие дни на защиту Сталинграда прибыли и разместились в Красноармейске добровольцы-матросы с кораблей Северного флота и Беломорской военной флотилии. Обыватели тишайшего Красноармейска теперь спать не могли — моряки повесили на улице корабельную рынду и каждые полчаса — динь-дон, динь-дон — отбивали на ней «склянки», как положено на корабле.
— Нельзя ли потише? — говорили им. — Ведь мы каждые полчаса вздрагиваем от звона вашего.
— Нельзя! — отвечали матросы. — Мы только тогда дрыхнем спокойно, когда звенят склянки, отбивая нам часы вахты.
Верные флотским привычкам, моряки первым делом справились — где тут гальюн и где камбуз. «Нам, — говорили, — без гальюна и камбуза житья нету…» Их переодели в солдатские гимнастерки, выдали им пилотки, но они не расставались с тельняшками, держа «про запас» бескозырки с именами покинутых кораблей. Вот они и попали к генералу Чуйкову, составив бригаду морской пехоты. Воевать же на сухопутье, прямо скажем, они не умели! Зато было много лихости и бравады, в условиях фронта губительной. Брали презрением к смерти, да тельняшками, да свистом, да «полундрой», отчего и погибало моряков гораздо больше, чем солдат…
Привезли они с собой на фронт невесть откуда взятую красавицу-девку с замечательным голосом профессиональной певицы. Взяли ее на свое довольствие. Все любили ее, и никто не смел за нею ухаживать. Долго не понимали, что она при моряках делает. Наконец, стало известно: если кто из моряков умирал от раны, она ему… пела . И как пела! Даже умирать было не страшно. Так — с песней — уходили моряки на тот свет:
Где эта улица, где этот дом, Где эта барышня, что я влюблен? Вот эта улица, вот этот дом, Вот эта барышня, что я влюблен…Голос поющей красавицы был для них прощальным салютом.
17. Второго фронта не будет
— Представь себе, — говорил Рузвельт сыну, — что мы, американцы, лишь запасные игроки, сидящие на скамье и наблюдающие за футбольным матчем. Когда наши форварды (русские, китайцы, англичане) выдохнутся, мы со свежими силами ринемся в игру, чтобы забить в ворота Гитлера решающий гол…
Сказано точно! Мало того, нацистская Германия — через франкистскую Испанию — регулярно закупала в Америке хлеб и маис, уголь и кокс, каучук и горючее. Англия была уже до того перегружена войсками и боевой техникой, что шутники даже высказывали опасения — как бы она не затонула от тяжести, а Черчилль говорил своим близким, что второго фронта не будет:
— Подождем, пока германский вермахт не окажется в могиле, а Красная Армия — на операционном столе…
К Сталину и его приспешникам он не питал никаких симпатий, чего и не скрывал в своих мемуарах:
«Мы всегда ненавидели их безнравственный режим, и если бы германский цеп не нанес им удара, они равнодушно наблюдали бы, как нас уничтожают, и с радостью разделили бы с Гитлером нашу империю на Востоке».
Думаю, что Черчилль выпил лишку, когда 14 марта разразился оскорбительной для нас тирадой:
— Русские не являются человеческими существами. В шкале природы они стоят ниже орангутангов,
— это его слова!
Уверен, что самый последний русский дурак никогда бы не стал сравнивать англичан с обезьянами. В политике Черчилль следовал древнему завету своих предков — герцогов Мальборо; делая войну, помни, что тебе нужно после войны. В транскрипции XX века этот девиз звучал благороднее:
«Государство, которое растрачивает свои силы до полного истощения, делает несостоятельной свою собственную политику и ухудшает перспективы на будущее».
Черчилль не собирался истощать ни самого себя, ни тем более, свою метрополию. Он придерживался стратегии дальнего прицела. А потому все победы или поражения советского оружия воспринимал лишь в той степени, в какой они отражались на его политике.
Десять миллионов человек, одетых в военную форму, хорошо обеспеченных, занимали выжидательную позицию «с ружьем, прислоненным к ноге», а в глазах англичан генерал «Айк», как они называли Эйзенхауэра, выглядел странной фигурой. Пришелец из-за океана, в Англии он уже подчинил себе 336 генералов высшего ранга и даже позволял себе курить в присутствии капризного, как барышня, Монтгомери.
Наш посол И. М. Майский, хорошо изучивший Черчилля, считал, что премьер «был явно влюблен в Египет, в Аравию, в северный берег Африки… здесь было его сердце и его ум, а имена Тобрука или Эль-Аламейна говорили гораздо больше ему, чем имена Гавра или Лилля». Сталин, осведомленный о том, что англичане не собираются открывать второй фронт в Европе, писал Черчиллю: «Боюсь, что этот вопрос начинает принимать несерьезный характер…» Читая это послание, Черчилль был не совсем трезвехонек, а слова Сталина воспринял болезненно.
— Уж не значит ли это, что вы собираетесь оставить Англию в одиночестве? — обратился он к Майскому о явной тревогой…
В ночь на 30 июля Майскому позвонили е просьбой — срочно приехать на Даунинг Стрит, где обычно работал Черчилль. Он принял посла в «костюме сирены», рядом с ним сидел Антони Идеи в домашних шлепанцах. Майский вспоминал:
«Оба выглядели утомленными, но возбужденными. Премьер был в одном из тех настроений, когда его остроумие начинает искриться добродушной иронией, и тогда он становится очень привлекательным.
— Вот, посмотрите, годится ли это куда-нибудь?..
Он ознакомил Майского с посланием Сталину, выражая желание встретиться с ним — в Астрахани или на Кавказе. 1 августа Черчилль собирался вылетать в Каир, и в этот же день был получен ответ Сталина, который соглашался на встречу в Москве «для совместного рассмотрения неотложных вопросов войны против Гитлера, угроза со стороны которого в отношении Англии, США и СССР теперь достигла особой силы…». Решительные успехи вермахта на подступах к Волге и Кавказу вызвали в Англии нервозную озабоченность (за сохранность империи):
— На Дону и Кубани русским не удержаться! Но что будет с нашими владениями на Ближнем и Среднем Востоке, если русские не устоят на Волге и на Кавказе?..
В дорогу до Москвы Черчилль брал немалую свиту: начальника генштаба Алана Брука, маршала авиации Теддера, из Индии был вызван генерал Арчибальд Уэйвелл — тот самый, что когда-то сражался с Роммелем в Ливии и который хорошо владел русским языком. В Каире их ждал личный представитель Рузвельта — Авелан Гарриман, обещавший Черчиллю не давать его в обиду, если кремлевский «дядюшка Джо» слишком разъярится. «Дядюшкой Джо» (иногда с прибавлением эпитета «сердитый») союзники называли Сталина. Садясь в самолет, Черчилль сказал, что Сталин не обрадуется отсутствию второго фронта в Европе?
— Мы на пути в Каноссу! Тащить на себе это известие до Москвы — все равно, что отвозить на Северный полюс глыбу льда.
Сейчас их политический престиж был вроде бы однозначен: за Сталиным крылась мрачная тень поражений под Керчью и Харьковом, сдача Севастополя и неудачи на юге страны, но Черчилль тоже «сидел в замазке» по самые уши — его армия в Сингапуре, не в пример Севастополю, позорно капитулировала перед японцами и перед Роммелем в неприступном Тобруке. Так что партнеры по коалиции в военной игре имели как бы равные козыри.
Геббельс, узнав о визите Черчилля в Москву, дал указание прессе не придавать этому визиту никакого значения.
— Информируйте кратко, и этого пока достаточно…
В это время фельдмаршал Роммель жаловался Гитлеру на свою безмерную усталость — и — по слухам — собирался подлечиться в условиях горного санатория в Земмеринге, но в Каире уже учитывали его как сильного и талантливого противника. «Африканские качели» еще поскрипывали возле Эль-Аламейна. Роммель не имел сил и горючего, чтобы отодвинуть англичан к Нилу, а Окинлек не испытывал желания отшвырнуть Роммеля в пески Киренаики. Окинлека даже возмущало, если Роммель атаковал его в воскресенье: «Безбожник! Сегодня же нерабочий день…»
* * *
Черчилль понимал, что Окинлек не пригоден для борьбы с Роммелем, как раньше был не пригоден и Уэйвелл, но трудно найти нового герцога Веллингтона. 4 августа, подлетая к Каиру, он сказал Бруку, что на Роммеля нужна длинная веревка:
— Если не удалось убить этого бандита, так можно прогнать Окинлека, заменим его… хотя бы этим чудаком «Монти»!
Во время остановки в Каире Черчилль призвал Окинлека к наступлению на Роммеля, но Окинлек воспротивился:
— Раньше сентября ничего не получится. Солдаты еще не акклиматизировались в условиях пустыни. А за Роммеля не стоит волноваться: он уже загибается от инфекционной желтухи…
Черчилль просил его навязывать немцам постоянные стычки — не ради побед, а чтобы заставить Роммеля тратить остатки горючего, надо регулярно бомбить позиции у Эль-Аламейна.
— Все позиции мы уже разбомбили. Что еще бомбить?
— Так бомбите… землю , — указывал Черчилль.
Черчилль убедился, что в Африке нужен человек, способный поставить капкан на «лисицу пустыни», и все больше склонялся к мысли, что для сокрушения армии Роммеля необходим Монтгомери («Монти»), который таскал в бумажнике портрет Роммеля, считая его талантливым полководцем.
— Под дудку нашего «Монти», — говорил Черчилль, — Роммель станет плясать до тех пор, пока мясо не отвалится от костей.
Черчилль пробыл в Каире до 10 августа; от Нила самолет премьера развернулся на Палестину; после отдыха в Тегеране летели над Каспием, внизу тянулись унылые калмыцкие степи. «В самолете теперь находились два русских офицера, — писал Черчилль, — и Советское правительство взяло на себя ответственность за наш перелет». Пилоты забирали вправо от Волги, дабы не нарваться на германские истребители. Во время полета Черчилль (говоря его же словами) «размышлял о своей миссии в это угрюмое и зловещее большевистское государство, которое я когда-то настойчиво стремился удушить при его зарождении…». Генерал Уэйвелл обратил внимание, что слева по курсу остается Сталинград, где грохочет небывалая битва. Но премьера, кажется, более тревожил Кавказ, за горами которого вермахт мог открыть ворота не только в нефтеносный Иран, но даже… даже в Индию! Уэйвелл проявил поэтический дар, сложив песню, в которой рефреном звучали слова: «Второго фронта не будет», и генералы исполнили ее хором. Подлетая к Москве, Черчилль выразил желание перекусить:
— Еще неизвестно, чем накормит нас добрый «дядюшка Джо»!
Вот и Москва! Отгремели гимны трех союзных стран, почетный караул вскинул винтовки, оружием салютуя высокому гостю. Черчилль — факт известный! — чересчур пристально всматривался в лица наших солдат, застывших в шеренгах, казалось, он сомневался — смогут ли эти ребята в касках выстоять перед страшным напором железного вермахта? Растопырив пальцы, Черчилль изображал букву V (виктория), но русские хотели бы разгадать в этом жесте иной смысл — цифру 2 (второй фронт).
В машине Молотова, встречавшего Черчилля, высокий гость обнаружил, что ее боковые стекла имели толщину не менее двух дюймов. «Это превосходит все известные мне рекорды», — большевистские заправилы очень боялись покушений. Сама же Москва выглядела настороженной, даже мрачноватой, а в среде москвичей часто сравнивали героическую оборону Сталинграда с поспешной капитуляцией Тобрука. Молотов отвез гостя на правительственную дачу № 7 (в Кунцево), где «буфеты были заполнены всякими деликатесами и напитками, какие только может предоставить верховная власть… Кроме того, было много других блюд и вин из Франции и Германии». Черчилль сказал Молотову:
— Я готов встретиться со Сталиным этим же вечером…
Не так-то легко было свалить «глыбу льда» к ногам союзника. Премьер сначала рассыпал похвалы в адрес Красной Армии, но «дядюшка Джо» не поддержал этой восторженной темы:
— Вы моих солдат не захваливайте! Они слишком много земли отдали врагам. Они только учатся воевать и со временем станут хорошими воинами… Пока же, — сказал Сталин, — наши дела на фронте идут плохо. Иногда я даже не понимаю, откуда Гитлер мог собрать столько войск и техники? Надо полагать, что он выкачал все, что мог, из Европы. Там, в Европе, он держит свои потрепанные дивизии неполного состава, а хорошие боевые дивизии полного комплекта направляет в Россию…
Далее Сталин сказал, что Красная Армия начала весну с наступательных операций, и это было оправдано — при условии, что союзники помогут ей высадкой во Франции, но союзники второго фронта не открыли, и наступление, не поддержанное с Запада, обернулось для Красной Армии трагическими осложнениями.
— Нам не удается остановить немцев, — признал Сталин…
Ссылаясь на нехватку десантных судов и прочность немецкой обороны в Ла-Манше, премьер сказал, что вопрос о высадке в Нормандии может быть разрешен только в 1943 году, и просил Гарримана подтвердить это. Американец ответил, что его мнение совпадает с мнением премьера.
Сталин, помрачнев, упрекнул союзников в нарушении прежних обещаний:
— У нас иначе смотрят на войну. Кто не боится рисковать, тот войны и не выиграет, — сказал он. — Для того, чтобы обучить войска, их надо сунуть под огонь и как следует обстрелять. А до этого никто вам не скажет, чего они стоят…
Затем он спокойно заметил, что настаивать на высадке не будет… Черчилль, уязвленный этим пренебрежением, стал оправдывать свою политику подготовкой операции «Торч» («Факел»):
— Высадившись в районах Касабланки и Бизерты мы получим великолепный плацдарм для нанесения бомбовых ударов по Италии. Параллельный нажим от Марокко и со стороны Египта сразу поставит армию Роммеля в безвыходное положение.
— Да, — ответил Сталин, — я читал ваше послание в котором вы писали, что прежде всего вам хочется разбить Роммеля… Я не отрицаю стратегических выгод от операции «Торч»: это нанесет удар с тыла по Роммелю, с которым вы давно хотите расправиться, это отразится и на Италии с ее режимом Муссолини и даже… даже на Испании Франко…
«Очень немногие из живущих людей смогли бы в несколько минут понять соображения, над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев», — отметил Черчилль, никаких симпатий к Сталину не питавший. К вопросу о бомбардировках городов в Германии Сталин тоже отнесся доброжелательно, считая, что они ударят по моральному состоянию немцев. Сталин всегда привык работать с картами, но Черчилль предпочел глобус, вращая который он доказывал преимущества операции «Торч» перед десантами во Франции. Наконец, он увлекся настолько, что специально для Сталина нарисовал ему страшного крокодила:
— Морда его оскалена во Франции, а всеядное брюхо распростерто в южной Европе. Последующей высадкой в Италии через Африку мы вспарываем ему брюхо. Не все ли Москве равно, отчего крокодил подохнет? То ли от удара по башке, то ли потому, что у него вывалятся наружу все кишки…
В разговоре о поставках военного снаряжения, от которого Сталин никогда не отказывался, он сказал Черчиллю, что сейчас грузовики для Красной Армии важнее танков, которые он сам выпускает с конвейера до двух тысяч в месяц. (Но по материалам о войне я, автор, не вижу, чтобы мы тогда обладали достаточным количеством танков — их как раз было очень мало!)
Встреча продолжалась четыре часа.
Только в машине Черчилль и Гарриман вздохнули свободнее. Черчилль сказал:
— Кажется, первый раунд остался за нами.
Гарриман охотно с ним согласился:
— Да. Выкидывать полотенце не пришлось.
— Это была, — признал Черчилль, — самая важная конференция из всех конференций, какие я провел за всю мою жизнь.
Он откинулся на спинку сиденья с видом усталого, но довольного человека. В самом деле, все складывалось хорошо. Под конец беседы Сталин вежливо интересовался деталями операции «Торч».
А где-то далеко полыхала земля Сталинграда…
* * *
На следующий день им пришлось разочароваться. Гарриман в полночь был занят «коктейлем» для гостей, когда Черчилль вызвал его по телефону прямо из Кремля:
— Я уже здесь. Выезжайте немедленно.
— А что еще могло случиться?
— Наше полотенце болтается на канатах…
Сталин вручил им меморандум, в котором разоблачалась криводушная политика союзников.
«Легко понять, — говорилось в меморандуме, — что отказ Правительства Великобритании от создания второго фронта в 1942 году в Европе наносит моральный удар всей советской общественности… осложняет положение Красной Армии на фронте и наносит ущерб планам Советского Командования».
Сталин дополнил меморандум словами:
— Мы видим, что вы оцениваете русский фронт как второстепенный, почему и шлете свои дивизии в дальние места, тогда как наше правительство справедливо считает советско-германский фронт пока единственным фронтом, где перемалываются в больших размерах главные силы нашего общего противника.
Вернувшись из Кремля, Черчилль держал Гарримана у себя до половины четвертого утра, рассуждая о «загадочном» характере «дядюшки Джо». Снова они вчитывались в меморандум.
«Мне и моим коллегам, — писал Сталин, — кажется, что 1942 г. представляет наиболее благоприятные условия для создания второго фронта в Европе, так как почти все силы немецких войск, и притом лучшие силы, отвлечены на восточный фронт, а в Европе оставлено незначительное количество сил, и притом худших сил».
— Можно доказать и обратное, — ворчал Черчилль…
Не лучше складывались и консультации, что велись военными специалистами. С нашей стороны присутствовали К. Е. Ворошилов, Б. М. Шапошников и Н. Н. Воронов. Вот на них-то Алан Брук и обрушил Ниагару слов, доказывая, что русские люди «сухопутные», им никогда не понять всего ужаса, когда солдат отрывается от своего берега, чтобы ступить на берег чужой…
— Против двадцати четырех немецких дивизий, — сказал Брук, — мы способны высадить в Нормандии лишь шесть наших дивизий. Но даже эти шесть дивизий мы не сможем обеспечить как надо…
Маршал авиации Теддер развернул обширную программу стратегических бомбардировок Германии и ее сателлитов. Но больше всего англичан интересовало положение на Кавказе.
— Как командующий войсками в Индии, — настаивал Уэйвелл, — я должен знать полную картину возможностей вашего сопротивления… Каковы ваши силы у Моздока? Каковы резервы?
Ворошилов уклонился от этого вопроса, сославшись на отсутствие полномочий касательно этой темы. Но, забравшись на вершины Кавказа, англичане с них уже и не слезали.
(Нам тогда еще не было известно, что Черчилль заранее оформил секретный «план Велвет» с вторжением союзных войск на Кавказ со стороны Ирана, и сейчас его генералы хлопотали, чтобы занять Кавказ раньше, нежели туда придут немцы.)
— Мы с удовольствием, — заверял Брук, — выделим авиационные силы для прикрытия Баку и Батуми с воздуха. Но советская сторона в этом случае обязана предоставить нам свои аэродромы. Наконец, мы согласны нести даже гарнизонную службу в городах вашего Кавказа…
Во время перерыва Шапошников сказал Воронову:
— Не странно ли, голубчик, что возник одновременный интерес к Кавказу: с севера нажимают танки Клейста, а с юга хотели бы забраться туда Уэйвелл с Теддом…
Н. Н. Воронов писал:
«Нас возмущало неверие английских генералов в силы нашего народа. Нужно было им доказать, что есть еще у нас порох в пороховницах».
Союзников вывезли на подмосковный полигон, где им продемонстрировали работу гвардейских минометов, после залпа которых трава на этом месте не росла. Результаты были потрясающи, а Брук сказал:
— Мы бы тоже хотели иметь такое оружие…
Но в каверзном вопросе «сперва Европа?» или «сперва Африка?» англичане все-таки оставались верны Африке.
— Не о втором фронте они думают, — рассуждал Воронов, — а о третьем. Если же учесть, что Роммель уже держит третий фронт, то Черчилль откровенно добивается открытия фронта четвертого. Конечно, при такой «периферийной» стратегий Гитлер может долго еще отсасывать дивизии из Европы, не опасаясь, что Англия огреет его дубиной прямо по затылку…
15 августа газета «Правда» поместила злую карикатуру на немецкие укрепления вдоль побережья Ла-Манша, сделанные из картона. Намек был понятен всем. Однако ни Сталин, ни Советское правительство не хотели обострять отношений с союзниками. Тем более Черчилль желал видеть в печати бодрое коммюнике:
— Чтобы лишний раз побесить Гитлера и Геббельса!
Но Сталин не соглашался с его радужной краской:
— В коммюнике надо сказать то, что можно исполнить…
Главное было сказано: «Оба правительства полны решимости продолжать эту справедливую войну за свободу со всей их мощью и энергией вплоть до полного разгрома гитлеризма…» По случаю окончания переговоров в Екатерининском зале Кремля был устроен банкет для почетных гостей. Лондонский «костюм сирены» в условиях кремлевского зала выглядел простым комбинезоном танкиста (именно так и поняли его наши генералы, явившиеся на банкет по форме и при всех регалиях). Черчилль вставил в рот длиннейшую сигару, с удовольствием обозревая убранство стола. Выпив лишнее, премьер стал говорить, что он всегда был врагом русской революции:
— Простили вы это мне или нет? — спрашивал он.
— Господь Бог вас простит, — ответил ему Сталин…
И. М. Майский писал в мемуарах, что этот банкет не мог исправить натянутости в переговорах:
«Расставание грозило произойти на ноте острой дисгармоний, если бы в самый последний момент Сталин не вспомнил о любви британского премьера к беседам в частном порядке».
Вечером 15 августа Черчилль навестил Сталина в Кремле, чтобы проститься с ним, между ними возникла беседа. Черчилль спрашивал — могут ли немцы захватить бакинские нефтепромыслы, чтобы развить свой успех и далее — в страны Востока.
— Мы их остановим, — отвечал Сталин. — Правда, ходят слухи, будто в Турции собраны двадцать три дивизии для нападения на нас. Но мы и с ними расправимся…
Черчилль сказал, что Турция, пожалуй, останется в стороне от «большой драки», боясь ссориться с Англией.
Настала минута прощания, и Сталин в некотором замешательстве предложил:
— А почему бы нам не выпить по рюмочке?
Минуя множество коридоров и комнат, они через площадь Кремля, совсем безлюдного, прошли в квартиру Сталина, где рыжая девица (дочь Сталина), расцеловав отца, стала накрывать на стол, а ее папочка с большим усердием открывал бутылки.
— Не позвать ли и Молотова? — предложил он. — Думаю, он тоже от рюмочки не откажется…
За этой «рюмочкой» они и просидели с восьми вечера до глубокой ночи. Провожая гостя, Сталин просил его передать Рузвельту в дар от русского народа икру, балыки и белорыбицу, ну, и, конечно же, армянский коньяк. Черчилль передал заокеанскому союзнику только закуску, а все спиртное уничтожил сам, желая похмелиться после сталинской «рюмочки».
О переговорах в Москве он известил Рузвельта в таких выражениях:
«Теперь им (русским) известно самое худшее , и, выразив свой протест (в меморандуме), они теперь настроены совершенно дружелюбно, и это, несмотря на то, что сейчас они переживают тревожное и тяжелое время».
…Итак, второго фронта не будет, зато для армии Роммеля готовилась западня под Эль-Аламейном. Английский историк Реджинальд Томпсон писал, что решение Гитлера «во что бы то ни стало взять Сталинград спасло англичан от возможной катастрофы в Северной Африке…».
Дуайт Эйзенхауэр выражался еще откровеннее.
— Сопротивление русских обеспечивает нам свободу выбора места, времени и количества сил для наступления. Но будем честны: влияние наших войск в любом из углов Африки, будь то в Марокко или в Киренаике, никак не отразится на делах русского фронта, а если такое влияние и скажется, то результат его будет весьма ничтожен…
Может, потому в Англии и недолюбливали генерала «Айка»?
18. Противостояние
Черчилль еще только собирался в Каноссу, когда Гитлер предупредил Муссолини, что все разговоры о втором фронте в Европе не стоят и пфеннига.
«Считаю второй фронт нелепой затеей, — писал фюрер дуче. — Однако поскольку решения в „демократических“ странах принимаются большинством, а следовательно, диктуются невежеством, необходимо всегда считаться с возможностью того, что безумцы одержат верх и попытаются открыть второй фронт…»
Сталинград был уже недалек, немецкие разведчики иногда выходили к его пригородам и, вернувшись обратно, охотно делились своими миражными впечатлениями;
— Со стороны степи, словно со стороны океана, Сталинград чем-то напоминает Нью-Йорк… на горизонте видны очень высокие здания, не хватает, кажется, только статуи Свободы, возвещающей нас о прибытии в страну демократов!
Начиная с августа 6-ю армию навещали лекторы но национал-социалистическому воспитанию, внушавшие солдатам:
— Если мы проиграем эту войну, в Германию вы уже никогда не вернетесь. Русские загонят вас в Сибирь, где от вас даже могил не останется. Если же кому и повезет, то, вернувшись на родину, он Германии не узнает. Сталин и его союзники, занюханные евреями, превратят нашу страну в конгломерат отдельных княжеств, как это было до Бисмарка, и вместо граждан великой Германии вы все окажетесь бесправными рабами в клетках бывшего Шлезвига, Баварии, Мекленбурга и прочих… Германию раздерут на куски — это уж точно!
Близость цели войны — Сталинграда — воодушевляла солдат Паулюса, их манили мягкие кровати в квартирах города, где, по слухам, было полно фруктов, винограда и рыбы, они мечтали ежедневно купаться в Волге, вспоминая свои недавние «буль-буль» в тех реках, что встречались им на пути, и которые для русских служили последними рубежами их обороны?
— Не забыть, как я блаженствовал вечерами в реке Дон, но уже забыл, как называется эта станица.
— А я, парни, в паршивой речонке Сал утопил все белье со своими вшами. Вода в этой речушке теплая и противная.
— Хуже всего Аксай — вода в нем мутная и стоячая, как в болоте. Черт побери, скоро ли выберемся к Волге?
За годы войны многие немцы шаляй-валяй освоили обиходный русский язык и, бывало, орали в сторону наших окопов:
— Эй, Иван, давай перекурим! Скоро «буль-буль»…
Паулюс устал. Совсем почерневший от солнечного загара, он чувствовал себя неважно. Вечерело. Тихо попискивали степные суслики. В окне штабного «фольксвагена» виднелась знойная степь — бурьян да ковыль. Мимо прошли саперы, и каждый нес по две громадные дыни с бахчей соседнего колхоза. Невдалеке валялся убитый вол. «Молниеносная» девица в коротенькой белой юбочке закинула ногу на ногу, чтобы мужчины оценили ее ажурные чулки, облегавшие сочные колени.
— Я хочу видеть лейтенанта Штрахвица, — сказал Паулюс, отводя глаза. — Будьте любезны вызвать его по связи.
— Это четырнадцатый танковый корпус Виттерсгейма? Сейчас свяжусь с ним, но батальон Штрахвица на месте ли?..
Артур Шмидт, поигрывая своим «чертиком», не сводил вожделенных глаз с пухлых колен девицы.
— Зачем вам эта старина Штрахвиц? — спросил он Паулюса.
— Он тот самый человек, который еще в августе четырнадцатого года выходил со своей кавалерией в предместья Парижа, а теперь Штрахвиц первым в моей армии увидит Волгу…
Наступая, 6-я армия сдавала захваченные территории 8-й итальянской армии, а сама, прикрыв фланги, выдвигалась на новые рубежи, оттесняя русских. Никаких иллюзий относительно боеспособности «макаронников» немцы не испытывали.
— Их можно понять, — говорил Паулюс. — Они тащатся за мной не ради победы, а лишь для того, чтобы их дуче набрал побольше акций для мирной конференции после раздела побежденной России. Сам Итало Гарибольди говорил мне — чем плохо, если Италия получит Крым или порт Батуми?..
От русских мальчишек итальянцы освоили одно русское слово «тикай», вкладывая в него особый смысл. «Тикай!» — это звучало почти паролем для них, вовлеченных в эту бойню, для них не нужную, из которой рано или поздно им предстоит «тикать». Итальянцы равнодушно обеспечивали 6-ю армию на флангах, равнодушно «тикали» по закуткам станиц и хуторов, всегда готовые закончить войну в русском плену… Паулюс, закурив сигарету, прослушал длинную пулеметную очередь, пущенную кем-то наугад — во тьму быстро густеющей русской ночи, давящей и угнетавшей его безысходно
— Почти музыкальное стаккато, — сказал он Шмидту, — и, судя по разрывам в очереди, пулемет итальянский… с перебоями от перекосов ленты. Я устал, Шмидт, и удаляюсь к себе.
Он все чаще уединялся в своем личном автобусе, где был отдельный туалет с душем и зеркалами, а в спальню вела раздвижная дверь, как в купе международных вагонов. Здесь, почти в домашней обстановке, среди гардин и портьер, тихо шелестящих, Паулюс выслушал вечерний доклад квартирмейстера фон Кутновски, который сообщил о пополнении армии из числа резервов, присланных из тылов.
— Безобразно ведут себя те солдаты, что осенью прошлого года были отпущены по домам и теперь вторично мобилизованы. Вояки они хорошие, но с большими амбициями, а медали «за отмороженное мясо» не позволяют наказывать их слишком жестоко…
— Благодарю, — тихо ответил Паулюс. — Меня сейчас волнует даже не усиление моей армии, а ослабление противника. По сводкам абвера, укомплектованность русских дивизий крайне низкая и в скором времени, смею полагать, опустится до критической цифры… из-за невосполнимых потерь!
Паулюс был прав. Еще со времен Сталина наши историки взахлеб писали о небывалом росте технической «мощи» Красной Армии в этот период, но я что-то нигде этого возрастания не обнаружил. Время залихватского вранья прошло, и теперь не надо скрывать, что иные наши дивизии лучше было называть «батальонами». Еременко ведь лучше историков знал положение на фронте и писал-то он честно: наши танковые армии только назывались «танковыми», но состояли из стрелковых дивизий. Отсюда и выводы — для тех, кто будет спрашивать: почему мы отступали? Там, где у нас было от силы 2 — 4 танка, у немцев было от 10 до 30 «панцеров» — сопоставление ужасающее! Если же Паулюс или Гот замечали, что у русских появилось поболее танков, они сразу же вызывали авиацию…
Известны слова Чуйкова об этом времени:
— Если американцы говорят, что «время — деньги», то мы, русские, сейчас говорим иначе: «время — это кровь …»
Пора уж напомнить о чувстве патриотизма, чувстве, не всегда философски осмысленном в нашем простом народе, но зато ставшем традиционным, полученным нами с теми природными генами, что передали нам по наследству наши достославные предки, веками не выпускавшие из рук мечей и луков. Россия волею ее самозванных вождей называлась «страной победившего социализма», но летом 1942 года снова поднялась из-за лесов и болот именно мать-Россия, поруганная и обесчещенная сначала нашими златоустами-подлецами, помешанными на путанице ребус-кроссвордов марксизма-ленинизма, а потом униженная и победами немцев. Никогда мы, русские, еще так не любили свое Отечество…
Примеры? Да сколько угодно! Пожалуйста, вот вам один.
На шинели убитого генерала В. А. Глазкова, которая ныне хранится в музее обороны Сталинграда, вы можете насчитать более 160 пулевых и осколочных пробоин.
Мало вам, что ли? Вот так и воевали…
* * *
Наверное, попадет мне от критиков за эту фразу: мне кажется, я уяснил, что битва на путях к Сталинграду нами была уже проиграна и теперь мы могли выиграть только битву в самом Сталинграде. Это мое авторское убеждение, и скрывать его не желаю.
Впрочем, генерал Еременко, лучше меня знавший обстановку, тоже признавал в своих мемуарах, что в Сталинграде «чувствовалась некоторая растерянность; если откровенно сказать, вполне реальной была и возможность захвата города противником…».
Андрея Ивановича бесило, когда наша печать высокопарно объявляла Сталинград «крепостью», было противно узнавать, что немецкая пропаганда сравнивала Сталинград с неприступным «Верденом», какой предстоит штурмовать.
— Да какой там Верден, какая там крепость! — возмущался Еременко. — Дай-то Бог в траншеях отсидеться, а коли драка на улицах начнется, так бои в городе — это один из сложнейших видов сражения… Чуянов, конечно, мужик толковый, но тут и с семью пядями в нашем бардаке не разберешься!».
Сколько собралось тогда в Сталинграде народу, местных и пришлых, никто не ведал, но кормить людей стало нечем — даже по карточкам не всех отоваривали. Работяги, конечно, догадывались, что фронт уже рядом, люди стали неразговорчивы, их лица поблекли от усталости и недоедания, каждый хранил в сердце тревогу по своим близким, в трамваях судачили:
— Вот едем на завод, а домой-то вечером возвертаться ажно душа замирает — не знаешь, цел ли твой дом?
— Павлуха-то Синяков, слыхали? Вчера от жены клочок ее платья нашел. А домишко — как корова языком слизнула.
— Эвон, у Кумовского, что на СТЗ слесарит, в подвале у кафетерия вся семья погибла… засыпало! Говорил он своей Маруське: не бегай туда, не таскай детишек. Оно и верно: сидела бы дома, может, и живы б остались…
Этим летом завод «Красный Октябрь» был единственным металлургическим заводом на юге страны (других уже не было), а на СТЗ не только ремонтировали танки, вытащенные из грохота боя, из его обширных цехов еще грозно выскакивали новенькие Т-34 и своим ходом сразу спешили на передовую. Город изменился; все школы, техникумы, клубы и общежития давно стали госпиталями, да и тех не хватало, чтобы разместить раненых, днем и ночью поступавших с фронта… Ах, сколько миллионов тонн земли перелопатили наши женщины и подростки! Линия обороны, огибавшая Сталинград, протянулась почти на три тысячи километров, а теперь возникла нужда в новых окопах, снова ездили горожане отрывать траншеи. Попадая под бомбы и под обстрелы, они спасались в ближайших окопах, где держали оборону наши войска.
Вспомнился один случай. Бойцы отстреливались, когда к ним в траншею почти свалилась молодуха с лопатой:
— Ой, братики, не гоните меня. Отсижусь у вас.
Отбив атаку, солдаты потом спрашивали ее — кто такая?
— Сталинградская. Мастер мужского зала.
— Чего, чего, чего?
— Из парикмахерской. Мужиков брила и стригла.
— Так бы и говорила, а то… мастер.
Звали эту женщину — Н. Я. Юдина, она так и осталась с бойцами, стригла их и брила, как в парикмахерской. Нечаянно я подумал: ведь у нас мало кто знает, что множество женщин остались в блиндажах и траншеях, никогда не считая себя военнослужащими, они делали что могли — стирали, варили, штопали гимнастерки, ухаживали за ранеными, мало того — многие и детей от себя не отпускали, а наши бойцы их подкармливали… Смерть? Но сами эти женщины говорили: смерть на всех одна! Вот оно, братство народа с армией — и не показное, а сердечное, самое чистое и сокровенное. Всегда останется насущен вопрос: где кончаются параграфы воинской присяги и где начинается гражданская совесть? Ох, как многого мы еще не знаем…
Вернемся, читатель, в город, для многих далекий, а для меня, автора, ставший родным. Сталинград уже был переполнен беженцами. Неграмотные люди никак не могли произнести слово «эвакуированные», а в их устах они всегда оставались «выковыренными». Местных жителей трудно было «выковырять» из их квартир и халуп — не хотели покидать город, а беженцы из оккупированных краев и рады бы уехать куда глаза глядят, но — только глянь! — что творится на переправах. В ожидании очереди на паромы беженцы ночевали в скверах и под заборами, прямо средь улиц выдаивали бесхозных коз и коров, семейно устраивались под перевернутыми лодками на речном берегу.
Я забыл рассказать раньше одну географическую деталь, которая потом во время битвы в Сталинграде — будет играть большое значение. Вдоль всей набережной Волга раскинулась цепь островов — Сарпинский, Голодный, Зайцевский, Лесной, Крит, Денежный, — напротив города разместился целый архипелаг, венчанный разливом древней Ахтубы, на которой когда-то в незапамятные времена шумела буйная столица Золотой Орды. До войны на этих островах зажиточно проживали хуторяне, скотоводы и огородники, там росло все — от горчицы до винограда, все хутора утопали в садах, пронизанных знойным гудением медвяных пчел-тружениц. А теперь на островах все изменилось: под каждым кустом жили беженцы, инвалиды, бездомные и дети-сироты, и число их каждый день увеличивалось. На острова перебирались из города сами: одни на самодельных плотах, а другие даже… вплавь.
Еременко стучал карандашом по карте города.
— Вот, — говорил он Чуянову, — случись драка в городе, и нам эти острова придется беречь как зеницу ока… Слышал вчера взрывы? Сначала немцы взорвали нашу баржу с боеприпасами, а потом рванули громадный склад боеприпасов в Сарепте.
У секретаря обкома свои беды: полмиллиона голов скота застряло на переправе, некормленные и непоеные:
— А на подходе еще семьсот тысяч голов… Узнал и такое. Немцы-то в нашей и Ростовской областях колхозы не распустили. Там, где уже разобрали колхозное имущество по дворам, немцы потребовали вернуть обратно. В составе тех же бригад, что были в колхозах, гоняют на уборку урожая. Кто отвиливает от работы, тех расстреливают.
— Нас пока бьют… танками , — отвечал Еременко. — Делай что хочешь, но добейся, чтобы на СТЗ работяги гнали для фронта как можно больше «тридцатьчетверок».
Чуянов спросил его:
— Как мост?
— Саперы стараются. У них сроки; к двадцать пятому августа обещали мост навести…
В обкоме Чуянова навестили партийные работники, страдавшие за свои семьи, жившие под бомбами, среди пожаров.
— Долго ли нам еще мучить свои семьи?
Если кое-кто из обкома уже вывез свои семьи, то большинство семей еще сидело на чемоданах.
— Ладно, — сказал Чуянов. — Положение паршивое. Сам понимаю. Так что можете детей и жен выводить.
Дома жена добавила, что дети не виноваты в том, что их папочка — твердолобый партиец и секретарь обкома.
— Ты посмотри на Валеру! — говорила жена, плача. — Ведь от этих бомбежек ребенок уже заикаться стал.
— Не шуми. Всех вывезем. А я останусь. Заартачился дедушка — Ефим Иванович.
— А ну вас всех к лешему! — говорил он. — Мне и здесь хорошо. Никуда я с места не тронусь… пущай убивают, коли у нас такая говенная армия, что стариков защитить не может.
Ох и намучается же еще Чуянов с этим упрямым дедом…
Вспомним! Давно ли товарищ Сталин «своею собственной рукой» разделил оборону Сталинграда на два фронта, разрезая сам город, словно торт, на два куска, — это вот тебе, товарищ Еременко, а это тебе, товарищ Гордов. Именно тогда из этого «торта» и получилась «каша»: части Сталинградского фронта Гордова сражались в полосе фронта Юго-Восточного, которым командовал Еременко, а войска Еременко, отступая, невольно перемешивались с войсками Гордова, тоже отступающими, и по этой причине я недалек от истины, употребив слово «каша »…
Наконец, наверху осознали, что подобная галиматья сталинского мышления (как всегда, «гениального») не только вносит неразбериху в войне и порождает конфликты между Гордовым и Еременко, но она способна самым роковым образом сказаться и на судьбе самого Сталинграда. 13 августа Москва продиктовала Еременко волю Верховного Главнокомандующего, который, наверное, и сам признал собственную глупость.
— Товарищ Сталин, — доложил Василевский, — считает более целесообразным сосредоточить вопросы обороны Сталинграда в одних руках, объединив усилия двух фронтов воедино. Вы остаетесь командующим, а генерал-лейтенант Гордов станет вашим заместителем… Каковы ваши соображения?
Сохранился документальный ответ Андрея Ивановича:
— Мудрее товарища Сталина не скажешь…
Нет, читатель, он не был подхалимом, но таково было его убеждение в гениальности вождя. Впрочем, не спешите радоваться; пройдет несколько дней, и Сталин начнет новую рокировку фронтов, снова станет переставлять людей с места на место, словно играя в шашки. Я бы с удовольствием продолжил развивать эту тему, но тут вторгается одно событие, о котором, мне кажется, пришло время сказать, забежав немного вперед.
…К тому времени наши войска были уже «выдавлены» из большой излучины Дона, и немцы, подсчитывая километры до Волги, маршировали в пыли, радостно возбужденные:
— Волга станет для нас германской Миссисипи!
* * *
Как бы продолжая прерванный диалог с русскими, начатый в Москве, Черчилль решил доказать Сталину, что открытие второго фронта в Европе действительно невозможно. Последовало распоряжение премьера, чтобы диверсионный налет на французский Дьепп был совершен во что бы то ни стало.
Лондон передал в эфир, что высадка в Дьеппе 19 августа будет иметь лишь частный характер. Оповещая об этом своих агентов во Франции, англичане невольно предупредили и немцев: радиоперехватчики генерала Фельгиббеля получили точную информацию. Гитлеровцы заранее усилили гарнизон Дьеппа, расставили на берегу батареи, подтянули танки. Геббельс велел установить в городе скрытые кинокамеры, дабы получить кадры для своей пропагандистской кинохроники.
— Будет захватывающий материал, — радовался он…
На рассвете, когда десантные корабли подходили к берегам Нормандии, в их строй врезалась флотилия германских тральщиков. Немцы устроили такой фейерверк, что в Дьеппе сразу объявили тревогу. В составе десанта была лишь тысяча англичан и полсотни американцев — главную силу отряда составляли канадцы под флагом адмирала Моунтбеттена. После войны Моунтбеттен признался, что корабли тащились через Ла-Манш на поводу «политических причин», когда было уже ясно, что идея второго фронта в Европе похоронена Черчиллем без оркестров…
Канадцы с отчаянной храбростью покидали палубы кораблей. Вломившись в бульвары города, они 9 часов подряд выдерживали атаки. Но 28 танков были затоплены немцами еще в воде, другие — застряли на пляжах — в оползающих осыпях гальки. Улицы, берег и причалы покрылись трупами в серых куртках. Моунтбеттен велел возвращаться на суда. Кто успел прорваться к берегу, того немцы добивали в воде. Кто успел доплыть до корабельного трапа, того добивали на корабельных палубах. Кинохроникеры Геббельса трудились в поте лица… В три часа дня все было кончено! Немцы потеряли лишь 200 — 300 солдат, зато им в плен сдались 2700 человек. Волны прибоя еще долго выкатывали к Дьеппу разбухшие трупы канадцев, а уцелевшие могли о многом задуматься в бараках концлагеря «Офлаг-УП»…
Среди политиков Уайтхолла появились Кассандры:
— Дьепп доказал неприступность немецкой обороны в Европе! Мы не можем допустить, чтобы Ла-Манш покраснел от английской крови, а побережье Нормандии обрело волноломы из трупов…
Черчилль, таким образом, нашел необходимый для него аргумент, чтобы на примере Дьеппа доказать Москве невозможность открытия второго фронта в Европе.
Но его уловки сразу распознал Гитлер, который из Винницы выпустил торжествующую реляцию:
«В ходе этой попытки вторжения, предпринятой вопреки всем положениям военной науки и которая преследовала только политические цели , враг потерпел сокрушительное поражение».
Ганс Фриче разъяснял бестолковым по радио:
— Черчилль решил поиграть на нервах Сталина…
После визита Черчилля в Москву и после разгрома десантов в Дьеппе на позиции наших бойцов под Сталинградом в эти дни хлынул шуршащий и шелестящий ливень вражеских листовок. «Наши союзники всегда с нами, — написано было в них. — А где же ваши союзники? Теперь вы убедились, что вас обманывают не только ваши жидовские комиссары, вы обмануты и плутократами Англии и Америки…»
Американцы тоже были недовольны поведением англичан, союзники сходились трудно. Эйзенхауэру приходилось умерять гнев своих американских офицеров их высылкой в… Америку.
— Я согласен с вами, — не раз говорил «Айк», — что английские генералы большие сволочи. Но я наказываю вас не за то, что вы назвали их сволочью, а за то, что вы называете их английской сволочью… с эпитетами следует быть осторожнее!
Американцы, под стать Эйзенхауэру, к русской армии и русскому флоту относились хорошо. Я это испытал на себе, ибо во время войны на Севере мне не раз приходилось плавать и жить бок о бок с янки, очень похожими на нас, и с англичанами, очень далекими от нас, — сравнение этих союзников было в пользу американцев.
19. Канун
Тихо скрипка играет, А я молча танцую с тобой…Губы Паулюса беззвучно двигались, а его лицо временами искажалось от нервного тика. Кутченбах поманил Адама.
— Нужно поговорить, — сказал барон в чине зондерфюрера СС. — Мне давно не нравится вызывающее и бестактное поведение Артура Шмидта, который держится слишком независимо от мнения командующего… моего тестя. Шмидт с его «чертиком» — это, пожалуй, Мефистофель при нашем Фаусте, а сам Фауст, как видите, сильно сдал за последнее время. Я, живущий при нем, лучше всех в армии извещен, как его угнетают бестактные выходки начальника штаба.
— И вы.. — начал было Вильгельм Адам.
— И я, — подхватил Кутченбах, — просто боюсь, что назойливый диктат Шмидта, усиленный его партийным стажем, заведет нашу армию в такие дебри, из которых нам будет не выбраться. Вы только гляньте на левый фланг — почти четыреста миль отданы итальянцам Гарибольди, а этот римский франт вряд ли сумеет уберечь наши фланговые рубежи. Мы слишком далеко забрались в берлогу русского медведя…
— Короче, барон.
— Короче, — пояснил Кутченбах, — я лишь переводчик при штабе армии и не могу вмешаться, чтобы там, в Виннице, поскорее убрали Шмидта, иначе …
Это «иначе» таило очень многое. Адам сказал, что постарается нажать потаенные педали, дабы избавить армию от Шмидта, который беззастенчиво помыкает генералами и даже Паулюсом.
— Но это я могу сделать не раньше того времени, когда мы возьмем Сталинград, — признался Адам.
— Боюсь, что тогда будет поздно, — отвечал барон. — Только бы о нашей беседе не пронюхал сам Шмидт, который свернет нам шею, чтобы мы смотрели назад — на счастливое прошлое.
— Не проговоритесь сами.
— Нет! В своих опасениях я доверился только генералу Курту фон Зейдлицу, который уже хотел дать Шмидту по морде…
Паулюс застал Шмидта в штабном «фольксвагене», он перебирал громадные листы аэрофотосъемки кварталов Сталинграда.
— Только идиоты, — сказал он, — могли растянуть свой город чуть ли в сотню миль, и теперь не знаешь, где хвост, где голова… куда лучше ударить?
Паулюс сказал, что, очевидно, штурм Сталинграда предстоит вести с двух прежних направлений (он очень надеялся на танки Гота со стороны Сарепты и Бекетовки), а генералам 6-й армии придется вручить отдельные районы Сталинграда.
— Отдельные? Мы растянем свою армию, как презерватив.
— Она, — отвечал Паулюс, — и без того растянута…
Он запросил тыловые службы (вроде наших военкоматов) в Касселе, Ганновере, Вене и Висбадене, откуда шел активный набор для 6-й армии, чтобы выкачали все резервы для пополнения его армии. Но из городов призыва отвечали, что способны прислать только тех солдат, что завалялись в местных госпиталях. Паулюс, обозленный, созвонился со ставкой фюрера под Винницей, разговаривал с Мюллером-Голлебрандтом, начальником организационного отдела (по-нашему — это был бы отдел кадров), которому и кричал:
— У меня в батальонах осталось по сорок человек.
— Мы выгребли все резервы, — отвечали из «Вервольфа».
— Когда же я могу рассчитывать на пополнение?
— Не раньше, чем в январе сорок третьего года…
Паулюс в бешенстве так шмякнул трубкой зеленого телефона, что казалось, он хотел раздавить поганую штабную «лягушку».
— Вот так! — сказал он, от волнения его лицо задергалось. — Стало быть, я вынужден брать Сталинград измотанными дивизиями. Между тем, бои под Калачом уже доказали всем нам, что русские не желают уступать позиции без боя. А я, господа, и в этом никто из вас не сомневается, не имею такой дурной привычки, чтобы недооценивать сопротивление противника… Боюсь, что мой туго натянутый лук скоро переломится. У меня кончились сигареты, — без паузы продолжил он. — Кто угостит меня?
Из-за плеча Паулюса протянулась рука Шмидта, который потряс пачкой очень дорогих «Ревенклу», а вслед за тем возле лица Паулюса, искаженного нервным тиком, выпрыгнул шустрый «чертик» из зажигалки того же Шмидта
— Я понял ваш намек, — пробурчал Шмидт. — Вы хотели сказать, что это я имею свойство недооценивать противника. Но я практик и, когда вижу длинный хлебный батон, я не задумываюсь, с какого конца его пожирать; я беру нож и разрезаю батон на несколько кусков.
— Благодарю, — отвечал Паулюс, прикуривая от зажигалки начальника своего штаба. — Из вас дерьмовый тактик. Но, однако, в одном вы правы; Сталинград будем резать на куски, чтобы проглатывать его… кусками. Еще раз — благодарю!
— Что прикажете? — вмешался услужливый Адам.
— Созвонитесь с генералом Итало Гарибольди, чтобы его «макаронники» не прозевали русских на левом фланге моей армии. Прошу меня хотя бы час-два не беспокоить — я сажусь писать приказ… Приказ о наступлении на Сталинград!
Он затворился в своем личном автобусе, пропитанном благоуханием цветочных одеколонов, продутом сквозняками спасительных ветрогонов, и ему не мешало пение пьяных солдат, вторично мобилизованных в армию. Они пели;
Труба играла нам отбой, А я опять, опять с тобой, Лили Марлен, Лили Марлен…Всего, что написано о последних днях августа, не пересказать, а посему я постараюсь быть краток. Приказ о наступлении Паулюса был зачитан в 6-й армии 19 августа — как раз в тот самый день, когда немцы добивали союзников в Дьеппе…
* * *
— Нюра, — позвал Еременко, — ты скоро закончишь?
Девушка в солдатской гимнастерке выстукивала на клавишах аппарата Бодо очередное сообщение для Москвы.
— Сейчас. А что?
— Работай скорее. Тут у меня новое сообщение — немцы группируют свои силы возле Вертячего… спеши, Нюра!
Наши войска, выдавливаемые из большой излучины Дона, отступали, и часто бывало даже так, что в ротах и батальонах людей становилось больше, нежели было раньше, — за счет тех, что отстали, что отбились от своих частей, а теперь просто «примазались», и это нечаянное пополнение даже радовало наших командиров. Только не думайте, что положение в 6-й армии Паулюса было лучше.
«В этой безотрадной степи мы все передохнем», — вот какие слова все чаще и чаще слышались от немецких солдат, и «я, — писал Вильгельм Адам, — постоянно встречал отставших солдат, которые после тяжелых боев разыскивали свои части».
Вытесняя наши войска из большой излучины Дона, Паулюс был теперь озабочен, как форсировать Дон, чтобы выйти на ближайшие подступы к Сталинграду…
Андрей Иванович Еременко, если и не все знал, то о многом догадывался, а если он и понимал что-либо неправильно, то, на мой взгляд, и другой на его месте понимал бы ничуть не лучше его. Было ясно, что немцы будут давить на город с двух концов — северного и южного, а может, ударят всей массой по центру, чтобы разрезать Сталинград на две части, и этим центром станет овраг Царицы, где и сидит он сейчас в душной штольне, а в голове гудит от стукотни аппарата Бодо.
— Не вижу иного выхода, — сказал он Хрущеву, — кроме одного. Главные усилия надо бросить против армии Паулюса, а с юга, где нажимает танковый Гот, ограничиться обороной, но очень жесткой, чтобы муха не пролетела…
(В капитальной монографии «Великая победа на Волге», которая увидела свет под редакцией К. К. Рокоссовского, сказано:
«Такое решение в целом могло отвечать только требованиям Ставки ВГК, но в сложившейся обстановке оно было невыполнимым, заранее обреченным на неудачу. И в этом заключается грубая ошибка , допущенная генерал-полковником А. И. Еременко».
Хоть убейте меня, а я никак не могу понять, в чем же суть этой ошибки Еременко? Или ему следовало лишь обороняться от Паулюса, а наступать на Гота? Или, может, равномерно разделить свои силы, и без того слабые? Критику в адрес генерала Еременко я понял так: на него нажали из Ставки, чтобы делал, как велят, вот он и делал. А тогда, простите, не Еременко допустил «грубую ошибку», а кое-кто из тех, что протирал штаны кабинетных кресел… Ладно. Поедем дальше!)
Сталин город своего имени вниманием не оставлял, хотя — ради сбережения своего «престола» — продолжал упрямо удерживать возле Москвы главные стратегические резервы, которые именно сейчас так были необходимы под Сталинградом. Верховный, не ко сну будь он помянут, постоянно слал и слал в Сталинград своих поверенных и доверенных представителей Ставки, ревизоров от всех родов войск, различных наркомов и их замов. В Сталинграде околачивался в роли соглядатая и доносчика Г. М. Маленков, постоянно и беспробудно пьяный, так что на ногах не держался, ни зато окруженный могучим кольцом личной охраны. Вся эта «собачья свора» (по выражению Н. С. Хрущева) пользы для фронта на грош не принесла, но хлопот всем доставила выше макушки. В довершение всего сталинские визитеры так загадили туалет на командном пункте, размещенном в штольне, что стало не продыхнуть.
— Вот варяги проклятые! — матерился Никита Сергеевич, слов не выбиравший, — Понаехали тут, все обос…ли и смотались ордена получать, а нам с Еременко… хоть нос зажимай. Тоже мне начальнички — в дырку попасть не могут! И этот Маленков еще тут… наблевал всюду, зараза худая.
Никита Сергеевич вовремя предупредил командующего, чтобы он лишнего при Маленкове не сболтнул, но Андрей Иванович побаивался своего заместителя Филиппа Ивановича Голикова, который уже сдал Воронеж немцам, а ранее, еще в довоенные годы, будучи начальником разведки Генштаба, каждый день врал Сталину, что войны не будет, чем и угодил вождю. Теперь он, отроду пугливый, боялся разворота событий, угрожающих покончить не только со Сталинградом, но и с его житухой, столь приятной для бывшего сталинского фаворита. Вот Гордов, второй заместитель Еременко, тот смирил гордыню и, куда бы его ни послали, ничего не боялся, ехал и командовал, воюя, как умел (и воевал на фронте, пока его не ранили). Но зато Филиппа Ивановича на фронт было и калачом не заманить. Уж столько он пил с Маленковым, чтобы угодить тому, но тот — рожа пьяная! — так и уехал в Москву, не догадавшись взять с собой Филиппа Ивановича… Трусливый человек, Голиков проводил дни в доме отдыха «Горная Поляна», присматривал за переправами, а если кто драпал, он выезжал наблюдать за тем, как они драпают. Один наш генерал после отступления, вспомнив о сталинском приказе № 227, застрелился, а предсмертную записку закончил словами: «Остаюсь верен делу Ленина!» Филипп Иванович завел дело :
— Почему это он верен делу Ленина, если у нас сейчас не Ленин и верным надо быть делу великого и мудрого Сталина?!
Еременко кряхтел — «от боли в ране и переживаний.
— Может, отпустить его ко всем псам, чтобы не вонял тут?
— Куда? — спросил Хрущев. — Такого отпусти, так он тебе завтра же будет в кабинете Хозяина и навоняет еще больше. Да так накапает на нас обоих, что вовек не отмоемся. Такое на нас напортачит, потом не отбрыкаешься… Ведь он сдал немцам Воронеж, а теперь отпусти его — сразу бочку на нас покатит.
После очередной бомбежки Голиков совсем обезумел от страха, убивался, плакал перед Хрущевым, говорил:
— Можно, я на другой берег Волги отъеду? Ведь дураком надо быть, чтобы не понять — завтра нас живьем немец сожрет. А я бы для вас новый командный пункт приготовил… на другом берегу. И фанеры бы достал, чтобы стенки обить.
— Филипп Иваныч, да очумел ты, что ли… За Волгой земли для нас нет и не будет. С нас же голову снимут, если Сталинград оставим. Ты соображаешь сам-то, о чем говоришь…
(«Ни шагу назад!» — гласил сталинский приказ № 227, и, согласно этому приказу, расстреливали отступивших командиров, тысячами гнали рядовых на верную гибель — в штрафбаты, а вот Филипп Иванович после очередной бомбежки драпанул в Москву, и там, как и предвидел Хрущев, стал доносы писать на всех, что в Сталинграде остались, и Сталин Голикову поверил, а честным людям потом еще пришлось оправдываться, — вот такие генералы тоже были в нашей армии… Забудем о них!)
* * * * * *
Валентин Саввич написал эту фразу и поставил точки… Было раннее утро 16 июля 1990 года. Часы показывали 4.30.
Накануне вечером он был на подъеме. Воодушевленно, с восторгом делился ближайшими планами: «Все здорово. Осталось написать о Дьеппе, о Черчилле, в заключение — о 23 августа и… все! Вот только хочу посоветоваться — может, сделать паузу?.. Не терпится написать „Когда корабли были молоды“. И Валентин Саввич почти на одном дыхании рассказал мне свой новый роман о любимом им времени. И передо мной ожили Елизавета Петровна, Фридрих Великий, молодой Ломоносов. „Хотя, и „Сталинград“ в целом готов, — продолжал он, — есть все материалы ко второму тому, я уже знаю, когда и что говорил любой из героев. Вот и «почасовик“ (так Валентин Саввич называл составленный им план — рабочий хронологический календарь событий).
В этот вечер я еще раз убедилась: «Начну с конца» — это не дань моде, не просто оригинальный прием, это не поза — это позиция писателя, начинающего писать произведение, только отчетливо представляя его до самого конца.
Как редки и коротки были эти незабываемые вечера. Я работала днем, он — ночью. О каждом прожитом «дне» (для нас — ночи) он сообщал утренней запиской. Тысячи записок — в них судьба и жизнь, в них муки творчества и радости побед, в них биография автора и героев его произведений.
Последнюю привожу дословно:
«04 ч. 35 мин. Закончил главу. Вылез на 223 стр. Еще 19-ая глава (проходная) и две главы целиком о 23 августа. После чего — „от автора“, и все!
Чувствую себя хорошо.
Настроение бодрое.
5.10 — лягу.
6.10 — встал».
Как говорится, комментарии излишни.
В этот день сердце Валентина Саввича остановилось.
На столе остались десятки книг о Сталинграде с многочисленными закладками и пометками и несколько рукописных листов — материалы к главе о 23 августа.
Как они должны быть скомпонованы и обработаны гением автора? Этого не может теперь сказать никто.
Предлагаю их в той последовательности, как они лежали возле печатной машинки.
Антонина Пикуль.
* * * * * *
Накануне, 23 августа: Переправа. Заслон зениток.
— Мне ваше лицо знакомо, — сказал Паулюс, — но я никак не могу вспомнить, где я вас, капитан, видел.
— Борис Нейдгардт, — назвался капитан. — Я имел честь лететь с вами в одном самолете на фронт, когда после Рейхенау вы приняли 6-ю армию.
— А, вспомнил! Вы, кажется, племянник… чей?
— Премьера Столыпина, сын одесского градоначальника.
* * *
Что же происходило в Сталинграде в этот день?
Тихое солнечное утро, воскресенье. Около 15 тысяч сталинградцев работали на строительстве оборонительных рубежей в городе.
В этот день было совершено более 2000 самолето-вылетов противника.
Город превратился в огромный костер. За всю войну воздушные налеты такой силы не повторялись ни, разу…
* * *
На улице Пушкина произошло прямое попадание бомбы в родильный дом.
Дом обрушился, раздавив и рожениц и младенцев…
Отряды добровольцев искали под обломками камней, вытаскивая тех, кто остался жив…
Спасали матерей без новорожденных, которые никогда не будут знать вкус материнского молока…
* * *
Горел госпиталь. Раненые в обмотках и гипсе добирались с трудом до раскрытых окон и бросались вниз, чтобы не умирать в пламени…
* * *
22 — 23 августа 1942 года враг проявлял особый нажим на Сталинград, поскольку фюреру было обещано, что к 25 августа Сталинград будет взят…
Гот! Ему не удалось продвинуться вдоль полотна железной дороги (от Абганерово), и он переместил свою армию ближе к Волге, нанося удар с юга от Сталинграда через городок Красноармейск.
В полдень 2 августа Гот нанес мощный удар западнее станции Тингута, сжигая на своем пути все подряд, для устрашения русских.
23 августа с утра Гот снова перешел в наступление. Наша артиллерия была не в силах остановить эту армаду, идущую колонна за колонной, и тогда вместо танков были выставлены «катюши». К большому сожалению, их снаряды были бессильны пробить броню, но зато они крошили гусеницы танков…
Гитлер требовал от Гота все новых и новых побед, и Герман Гот тоже желал быть первым, кто войдет в Сталинград, чтобы опередить и отнять лавры Паулюса…
* * *
Многоэтажные дома рушились, и жильцы их, спасавшиеся в подвалах, так и оставались там навсегда, погребенные заживо под руинами своего же дома.
* * *
По улицам, охваченным пламенем, двигались толпы людей — к Волге, к переправам, катили тележки со скарбом, несли на руках больных и детей…
* * *
Бомбежка! В основном удар пришелся по центру города и его северным окраинам. Город пылал, как костер. Ко времени налета у Волжской пристани скопилась громадная толпа беженцев. Немецкие летчики пикировали и с бреющего полета расстреливали женщин и детей. Толпы людей метались по берегу, многие из них бросались в воду…
Но тут произошло страшное… Из разбитых резервуаров хлынула горящая нефть и сгорала вместе с людьми. Вой, треск, грохот, крик. Кромешный ад…
* * *
Еременко рассчитывал, что первым ударит Гот с юга, и был удивлен, что так быстро продвинулся Виттерсгейм с севера.
22 августа на левом берегу Дона враг создал плацдарм протяженностью до 45 км, где и накапливал силы.
23 августа, около 5 часов утра, с этого плацдарма, сметая все подряд на своем пути, ударная группировка врага прорвала нашу оборону, нанеся сильный удар с севера встык 4-й танковой армии (танков не имевшей) и 62-й армии и вышла к Волге в район Рынок и Латошинка. Виттерсгейм рассек фронт надвое, железным клином вонзившись в нашу оборону, а острие этого клина торчало у самого берега Волги…
В результате этого прорыва образовался коридор в 60 км длиной и около 8 км шириной…
* * *
Начиная наступление, Паулюс рассчитывал на дерзость Виттерсгейма, а тот, в свою очередь, уповал на опыт пожилого лейтенанта Штрахвица:
— Не вы ли, Штрахвиц, были тем человеком, который еще в 1914 году со своей кавалерией вышел к Парижу?
— Так точно!
— Теперь, — сказал Виттерсгейм, — вам предстоит нечто большее! Если мой корпус — всего лишь рука, протянутая к Волге, то ваша рота станет пальцем этой руки, которая зачерпнет бутылку волжской воды — в подарок для нашего фюрера, изнывающего от жажды…
— Яволь! Браво, — отвечал пожилой Штрахвиц, еще при кайзере видевший крыши Парижа, а теперь… Да, он был тем, единственным, кому было суждено прорваться к берегу Волги, чтобы оттуда бежать обратно, как в молодости бежал прочь от Парижа…
Когда Паулюс получил известие от Виттерсгейма, что его танки прорвались к Волге, — ему захотелось заплакать.
— Наконец-то! — сказал он. — Мои бессонные ночи, проведенные в кабинетах Цоссена, когда я составлял план «Барбаросса» — все мои усилия ума и нервов наконец-то нашли решение. С большим опозданием, почти на год, но все-таки «Барбаросса» с мечом в руках пришел на Волгу, чтобы победить… и решить войну.
— Может, выпьем по рюмке ликера? — предложил Адам, заметив волнение командующего.
— Коньяк, — ответил Паулюс. — Или лучше русской водки… Нет, сейчас мне нужен глоток русской водки.
Отто Ренольди, присутствующий при разговоре, сказал:
— Завтра же я посажу вас на особый режим питания… Мне не нравится ваша нервозность.
— Я хочу глоток русской водки, — повторил Паулюс, раздумывая о своем. — Бог простит меня, если я скажу, что мои фланги снова не обеспечены прикрытием. Сколько же это может продолжаться…
* * *
Подошел танк, откинулся люк, из него вылез Виттерсгейм в черном коротком кителе, обшитом серебром, он поправил на голове пилотку и решительно спрыгнул на землю.
Виттерсгейм подошел к Паулюсу, вскинул руку к пилотке:
— Приказ выполнен — мои танки на берегу Волги.
— Поздравляю вас, Виттерсгейм.
— Служу великой Германии! Но при этом, — сказал Виттерсгейм, — я хочу сделать вам заявление.
— Я вас слушаю, — любезно кивнул Паулюс.
— Отведите мои танки с Волги и всю шестую армию.
— Куда? — обомлел Паулюс.
— Назад! Ко всем чертям! Хоть обратно в Польшу.
— Вы в своем уме, Виттерсгейм?
— Да. Я вывел танки к Волге, как было вами приказано. Но я больше не вернусь туда…
Паулюс спросил Виттерсгейма:
— Так что же бы вы сделали на моем месте, генерал?
— Я бы плюнул на этот Сталинград, пусть он сгорит на ясном огне, и отвел бы шестую армию назад.
— Вы не верите в успех?
— Как же можно верить в успех, если за оружие взялись все жители города — от мала до велика! Это уже не война, это что-то иное. Нигде и ничего я подобного не видел.
Паулюс подумал и вежливо ответил:
— Вряд ли, генерал, мы сможем служить далее вместе. Не сердитесь, если о ваших сомнениях в успехе я доложу высшему начальству. К этому меня призывает долг…
* * *
Зейдлиц спросил у Паулюса:
— За что пострадал фон Виттерсгейм?
— Он не верит в успех нашего дела. Скорее, у него просто пошаливают нервы, но… Нам лучше было расстаться. Хубе на его месте не имеет сомнений
— Между прочим, — отвечал Зейдлиц, — нервы у меня в порядке, но я, как и Виттерсгейм, начинаю испытывать тревогу. Этот сожженный городишко на Волге, кажется, обойдется всем нам намного дороже, нежели вся Франция
— Ну, Зейдлиц! — улыбнулся Паулюс. — Вы сторонник крайностей…
* * *
Слава генерал-полковника Паулюса достигла апогея… Газеты о нем писали восторженно, как о «верном солдате фюрера», его имя повторялось из уст в уста, да и сам Гитлер относился к нему с доверием и симпатией…
* * *
23 августа в 16 часов 18 минут в Сталинграде была объявлена тревога, и эта тревога не имела отбоя вплоть до того самого дня, когда из подвала универмага на площади Павших Борцов не выбрался фельдмаршал Паулюс и не отбросил в грязный снег свои два пистолета.
* * *
Я мысленно обращаюсь к образу женщины, олицетворяющей наших матерей:
— А вы знаете, какой сегодня день?
Никто не знает, никто не помнит.
Отвыкли мы помнить то, что забывать нельзя.
А кто мало помнит, тот мало и знает.
В этом наша беда!
* * *
23 августа.
Ни Еременко, ни его заместители (Гордов и Голиков), ни Василевский, как представитель Ставки, ни Маленков — никто не ожидал, что немцы окажутся в Сталинграде так неожиданно и так быстро…
Ставка Верховного Главнокомандующего телеграфировала:
«У вас имеется достаточно сил, чтобы уничтожить прорвавшегося противника. Соберите авиацию обеих фронтов и навалитесь на прорвавшегося противника. Мобилизуйте бронепоезда и пустите их по круговой железной дороге Сталинграда… Деритесь с противником не только днем, но и ночью… Самое главное — не поддаваться панике, не бояться нахального врага и сохранить уверенность в нашем успехе».
* * *
В 8 утра Еременко позвонили из штаба 62-й армии:
— Атакуют танки! Все небо в самолетах! Жмут из Вертячего. Плохо слышу… Тут сплошной грохот.
Следующий доклад от летчиков:
— Только что вернулись истребители, бывшие в разведке.
— Идет сильный бой у Малой Россошки, там все горит…
Наблюдали две колонны, в которых не менее чем по сотне танков, за ними грузовики с пехотой…
Не успел Еременко освоить доклад, как новый звонок вернул его к действительности…
С юга от Сталинграда докладывал генерал Г. Ф. Захаров, начальник штаба Юго-Западного фронта (Юго-Восточного. — Прим. ред .)
— У нас тут с утра пораньше такое началось… Танки Гота взяли станцию Тингута, наши войска бьются в полуокружении…
Доклад командующего 62-й армии генерала Лопатина не застал Еременко врасплох:
— Немцы танками смяли один полк и фланги стрелковой дивизии Больше 250 танков.
— Закройте прорыв!
— Чем закрыть? Нечем. Только пальцем… Из кабинета директора СТЗ звонил нарком Малышев:
— Из окна виден бой с танками. Завод обстреливается: немцы пробиваются в сторону Рынка. Завод я велел готовить к взрыву…
— Завод оборонять во что бы то ни стало, — приказал Еременко. Генерал-инженер В. Ф. Шестаков доложил, что наплавной мост через Волгу в районе СТЗ построен.
— Рад доложить, что задание выполнено не за 12 дней, как обещали, а за 10. Длина моста свыше 3 км.
— Выношу благодарность за успешную работу. А теперь, когда мост построен, взрывайте его, чтобы ничего от него не осталось.
Иначе было нельзя: не взорви они мост, танки Виттерсгейма, вырвавшись к СТЗ, могли тотчас же оказаться на левом берегу Волги…
Еременко вызвал начальника гарнизона и командира 10 дивизией НКВД
— Вы отвечаете за оборону города и окраин?
— Да, отвечаю.
— Вот и подкрепите свои слова делом.
— Но моя дивизия растянута на полсотни километров, танков нет, артиллерии нет… Как воевать?
— Согласен, что трудно вам приходится… А кому легко?
Отбить нападение…
И люди стояли насмерть…
Грозно катился в суровой мгле
Сотой атаки вал…
Злой и упрямый, по грудь в земле
Насмерть солдат стоял…
Знал он, что нет дороги назад, —
Он защищал Сталинград…
Примеры мужества и героизма защитников Сталинграда можно приводить бесконечно. Никакой враг не мог поставить на колени защитников города. Растерянности и паники не было. Армия опиралась на поддержку всего населения. Рабочие тоже взялись за оружие.
«На поле битвы лежат убитые рабочие в своей спецодежде, нередко сжимая в окоченевших руках винтовку или пистолет. Люди в рабочей одежде застыли, склонившись над рулем разбитого танка. Ничего подобного мы никогда не видели…»
23 августа… К 9 часам вечера на КП приехали Чуянов и Малышев, у Еременко был уже Хрущев и генералы. В 11 часов вечера Еременко подготовил донесение в Ставку, которое давал ежедневно в 24 часа. Еременко пришлось сказать горькую правду: фронт разрезан, немцы вышли к Волге, СТЗ под обстрелом, две железные дороги, ведущие к Сталинграду с севера и северо-запада, перерезаны, а по Волге движение судов прекращено.
Ровно в полночь Еременко расписался под донесением:
— Узнают в Москве правду — не сносить мне головы. Но не врать же мне, не притворяться… Отправляйте!
Когда после войны Еременко спрашивали о дне 23 августа, он отвечал:
«Это был… тяжелый кошмар!» И далее добавлял, что в этом кошмаре люди выстояли и «это было результатом той глубокой повседневной работы, которую вела Коммунистическая партия с советскими людьми…»
А мне вспоминается иное — тот самый утюг, что остался от былой жизни слесаря Гончарова, который уже лежал мертвым перед цехом СТЗ, сжимая в руках винтовку без единого патрона…
Мы знаем те надписи, которые оставили на стенах рейхстага наши доблестные защитники в победную весну 1945 года, а теперь прочтите и оцените, что написали рабочие на стенах своего родного тракторного завода:
«Немцы! Вы еще проклянете тот день, когда вы пришли сюда. Лучше не лезьте! СТАЛИНГРАД СТАНЕТ ВАШЕЙ МОГИЛОЙ!»
16 июля 1990 года.
Рига.
Note1
в разных источниках фамилия Кутченбах пишется по-разному. — В. П .
(обратно)Note2
21!
(обратно)




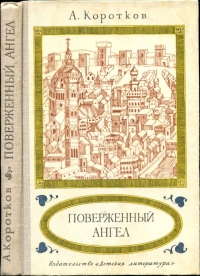
Комментарии к книге «Площадь павших борцов», Валентин Пикуль
Всего 0 комментариев