Валентин Саввич Пикуль Каламбур Николаевич
В последней монографии о военной галерее героев 1812 года помещен любопытный список. В нем перечислены генералы, портреты которых должны украшать галерею нашей славы, но по каким-то причинам они в нее не попали. Среди них значится и князь Сергей Николаевич Долгорукий (1770 — 1829), которого в тогдашнем русском обществе прозвали «Каламбур Николаевич», ибо этот человек обладал жалящим остроумием. К сожалению, я не могу донести до читателя едкую соль его сарказмов, ибо они рождались благодаря блистательному владению французским языком и были понятны современникам, знавшим этот язык во всех тонкостях…
***
1811 год застал героя в Италии, спешащим в Неаполь.
Была поздняя осень. Рим встретил дипломата сухой и жаркой погодой, а за княжеством Понтекорво хлынули мутные дожди. Карета въехала в пределы Неаполитанского королевства — во владения маршала Мюрата; от французских патрулей на дорогах князь узнал, что недавно опять пробудился от спячки Везувий, выбросив в небеса тучи гари и пепла.
— А потому и дожди текут грязнее помоев. Вы, посол, будьте осторожнее: дороги до Неаполя небезопасны… Мало мы перевешали карбонариев! Они теперь озверели и убивают каждого, кто не способен выговорить дикое слово чече.
Конечно, освоить фонетику итальянского языка победители были не в силах. Вечер застал князя на постоялом дворе, хозяин украсил стол, на котором его ожидал ужин, двумя жиденькими свечками. Наверное, не без умысла он выставил перед ним миску с горохом.
— Ваши лошади, синьор, слишком устали. Сейчас вы ляжете отдыхать, а завтра к вечеру достигнете и Неаполя…
Могучий, как молотобоец, князь сел на лавку, и она со скрипом прогнулась под ним.
— Я буду в Неаполе завтра утром, — сказал он.
— Воля ваша! Но у нас по ночам никто не ездит, если не желает умереть без святого причастия… Попробуйте, синьор, наше блюдо! — И хозяин придвинул князю миску с горохом.
— Благодарю. Как это называется по-итальянски?
— Чече.
Долгорукий со вкусом повторил это слово, чему хозяин страшно обрадовался:
— О! Так вы, синьор, не француз! Вы, наверное, из Вены? Или.., поляк?
— Я еду из Петербурга… Русский. Итальянец выразил ему свою симпатию:
— У нас тут много всяких слухов, говорят, Наполеону мало страданий Европы, скоро он начнет войну и с вами…
После ужина Каламбур Николаевич велел запрягать лошадей в карету; прислуга заметила, как небрежно он бросил поверх дивана футляр с дорожными пистолетами. Кожаные ремни, заменявшие рессоры, мягко и плавно укачивали, и князь Долгорукий крепко спал, когда со звоном вылетели из окон стекла, двери кареты распахнулись с двух сторон одновременно. В грудь посла России уперлись дула четырех пистолетов сразу. Слабый свет ночника, горевшего в углу кареты, высветлил из мрака глаза, блестевшие в прорезях масок:
— Если ты не враг, так скажи слово «чече», и тогда твоя жизнь, как и твой кошелек, останутся в целости. Долгорукий не потерял хладнокровия:
— В русском языке, как и в вашем, сколько угодно подобных звучаний. Что там ваше «чече»? Вот вам: чечевица, человек, чудовище, чучело… Вы приняли меня за француза, придворного короля Мюрата? Вот, — показал князь на закрытый футляр с пистолетами, — как видите, я полагался в дороге не на силу оружия, а лишь на благородство патриотов-карбонариев. Да и чего мне, русскому, бояться в Италии, которой Россия никогда не причиняла никакого вреда!
Пистолеты мигом исчезли, маски были сдернуты, обнажив худые, небритые лица карбонариев, которых газеты Европы именовали бандитами. Долгорукий выбрался из кареты, к нему подошел главарь шайки — босой калабриец, галантным жестом приподнявший перед послом простреленную пулями шляпу:
— Мы рады приветствовать русского друга… Для одинокого путника найдется и угощение.
— Я не против! — согласился Долгорукий и поинтересовался:
— Ради чего вы рискуете, зная, что скорее всего примете смерть на эшафоте?
Калабриец сказал, что итальянцам опротивело видеть, как Наполеон, словно портняжка, по собственным выкройкам раскромсал Италию на куски, создавая новые княжества и королевства для своих ближайших родственников и маршалов.
— Даже распутных сестер он сделал владычицами над нами. Имена Каролины Мюрат, Элизы Баччиокки и Полины Боргезе, надеюсь, говорят вам о многом… Наполеону достаточно нахмурить брови в Париже — и его братцы с сестрами сразу пополнят редеющую армию Франции за счет несчастных итальянцев. Мюрат в Неаполе уже провел рекрутский набор для своего зятя, который, если верны слухи, собирается напасть на Россию. Будем же молить пречистую мадонну, чтобы этот злодей, забравшись в русские леса, превратился от холода в звонкую сосульку!
Близился кризис, о котором писал Пушкин: «…гроза двенадцатого года еще спала. Еще Наполеон не испытал великого народа — еще грозил и колебался он…»
***
Пришло время сказать, что именно каламбуры и стали виной тому, что карьера Долгорукому не удалась. Каламбура Николаевича вместе с его опасным красноречием старались держать подальше от двора и столицы. Его посылали в Вену для финансового арбитража, потом долго томили в Гааге, где, кстати, от его остроумия немало пострадала блудливая Гортензия Богарнэ, падчерица Наполеона, силком выданная за короля Людовика Бонапарта, брата того же Наполеона…
Людовик откровенно жаловался Долгорукому:
— Сначала брат навязал мне гадину-жену, потом — голландскую корону, а я хочу одного — писать романы.
Желая дружбы с Россией, я решил поставить в Саардаме памятник Петру Великому; мой проект в Петербурге одобрили, но брат запретил мне ставить памятник. Возомнивший о себе столь много, он безжалостно грабит моих бедных голландцев ради пополнения арсеналов для новых губительных войн… Боюсь, что вся наша семейка в один прекрасный день окажется на виселице!
Вражда с братом и разлад с женою вынудили Людовика отречься от короны и бежать от мести брата, после чего Наполеон приобщил Голландию к своим владениям, а Каламбур Николаевич остался без службы. Но, как тогда говорили, «если не служить, так лучше не родиться». Долгорукого вызвал в Петербург российский канцлер Николай Петрович Румянцев:
— Мы отзываем из Неаполя поверенного Константина Бенкендорфа, а вам, князь, предстоит поспешить в Неаполь… Именно поспешить, ибо нам стало известно, что Меттерних из Вены внезапно назначил посланником в Неаполь графа Миера.
— Смею думать, — отвечал Долгорукий, — что Миера будет вести себя в Неаполе столь же скромно, как его Меттерних ведет себя под императором французов.
— Возможно, — согласился Румянцев. — Но зато в Неаполе могут возникнуть осложнения с Дюраном-Марейлем…
Канцлер предупредил: король Мюрат из вассала своего зятя желает сделаться самостоятельным государем, чтобы избавить себя от наполеоновской ферулы; с этой же целью он готовит армию в сорок тысяч штыков, вполне достаточную для ограждения своего суверенитета.
Наполеон это понял и, дабы припугнуть зятя, отозвал из Неаполя своего посла Обюссона, оставив при Мюрате лишь поверенного в делах. Да, это сознательное унижение… Но Каролина Бонапарт, жена Мюрата, укатила к брату в Париж, а у этой женщины, по словам Талейрана, голова Макиавелли на торсе Венеры. Она, конечно, умоляла брата не оставлять Неаполь без своего посольства, отчего Наполеон, сжалясь над нею, и направил к Мюрату барона Дюрана-Марейля.
— Надеюсь, — заявил Долгорукий, — мое положение в Неаполе не будет ниже положения, занимаемого этим Дюраном.
— Дюрану, — подхватил Румянцев, — Наполеон и не позволит занять высокий пост, чтобы тем самым не возвышать Мюрата, которому, как сыну трактирщика, не пристало заноситься. Но Мюрат уже прислал в Петербург своего посланника Бранцио, и мы это оценили как призыв усилить русское посольство в Неаполе — в противовес влиянию Дюрана…
Долгорукий рассмеялся. Канцлер огорчился:
— Не понимаю, князь, что вас рассмешило? Каламбур Николаевич сказал, что, наверное, будет вернее говорить о корсиканском нашествии на Европу, а совсем не о французском. Наполеон, образуя новые государства для своих домочадцев, поставил дипломатию в ненормальное положение:
— Громадный дипломатический корпус работает только по обслуживанию дворов родственников Наполеона, и мы, дипломаты, заведомо знаем, что аккредитованы состоять при лягушках, квакающих по нотам великого композитора Наполеона.
— Не забывайте о Тильзитском мире, — сухо напомнил Румянцев. — Мы не собираемся его нарушать, но Россия уже заточила штыки, дабы покарать нарушителя спокойствия…
Оказавшись в Неаполе, князь Долгорукий вручил свои верительные грамоты неаполитанскому королю. Мюрат был болтлив, как женщина (а точнее — как истый гасконец); его длинным курчавым локонам до плеч могла бы позавидовать любая красавица.
— Напрасно не оповестили меня о своем приезде заранее, — сказал он. — Я бы выслал навстречу вооруженный эскорт, а мой шталмейстер граф Реми Эксельман дал бы вам лучших лошадей из моих великолепных конюшен…
Мюрат стал королем вместо Иосифа Бонапарта, которого Наполеон пересадил на престол Испании, как пересаживают редиску с одной грядки на другую. Бурбоны в ту пору скрывались в Палермо на Сицилии, их поддерживала английская эскадра, захватившая остров Капри — как раз напротив Неаполя. Мюрат недавно изгнал англичан с Капри, но Сицилия еще оставалась для него недоступна. Вареные раки (как называли в Италии англичан за их красные мундиры) воевали спустя рукава. Лондон уже знал о скорой войне с Россией, и потому британцы сознательно сберегали свои силенки… Кровь будет пролита русская!
***
Иоахим Мюрат, склонный к петушиной пышности и позерству, был колоритной фигурой. Наполеон отзывался о нем с презрением: «Этот жалкий Pantaleone годится лишь для украшения моих триумфов». Долгорукий быстро угадал настроения Мюрата, знакомые ему по общению с Людовиком Бонапартом:
— Наши жены отбились от рук и попали в чужие руки, а дети забыли нас. Мы, славная когорта маршалов Франции, скопили несметные богатства, но не можем наслаждаться роскошью. Император таскает нас за собой, словно мы бездомные цыгане, и порою я радуюсь даже куску колбасы. Что мне перины Бурбонов, если после атаки я готов выспаться в первой же грязной луже… Куда еще потащится мой зять со своими фантазиями? Дал бы пожить спокойно…
Константин Бенкендорф (не граф!) ознакомил Долгорукова с делами в Неаполитанском королевстве:
— Наполеон превратил Неаполь в провинцию Франции, и Мюрат боится, как бы его не постигла участь Голландии. Власть короля призрачна: нищие лаццарони Неаполя — сродни санкюлотам Парижа. Весною генерал Манэ перебил в Калабрии семь тысяч крестьян, дававших партизанам-карбонариям приют и пищу… Бойтесь, Эксельмана! — предупредил Бенкендорф посла. — Этот человек недавно бежал из английского плена, и похоже, что Наполеон приставил его к Мюрату, дабы удобнее шпионить за своим зятем. К сожалению, спесивый Эксельман не дал мне повода проткнуть его шпагой на дуэли…
Случайно в Неаполе оказался еще один русский — барон Григорий Строганов, бывший посол в Мадриде. Он похитил жену у португальского посла и потому не спешил возвращаться в Петербург, где его поджидала законная жена. Человек образованный и умный, Строганов рассуждал:
— Наполеон дал европейцам блага Гражданского кодекса, но за это потребовал слишком большой гонорар, и мы теперь наблюдаем, как текут ниагары крови, возвышаются монбланы пушечного мяса… Испания уже прославила себя бесстрашием партизан-гверильясов, Италия доверила судьбу карбонариям, и смею думать, что наши русские мужики, случись нашествие Наполеона, явят миру примеры античного мужества…
Трое русских, заброшенных на чужбину, отчетливо понимали, что война неизбежна, и потому обстановку в Неаполе воспринимали обостренно. Каламбур Николаевич приступил к своим обязанностям, состоя в дипломатическом ранге полномочного министра и чрезвычайного посланника. Но лучше будем именовать его проще — послом… Впрочем, служба не обременяла посла: охоты в Кордителло чередовались с оперой в театре Сан-Карло, двор Мюрата (без Каролины, но с дамами) выезжал прохлаждаться на Капри или на озеро Аньяно. Из дипломатов Долгорукий сдружился лишь с Тассони, который горько проклинал свою в самом деле незавидную судьбу:
— Каково мне, итальянцу, быть посланником итальянским, представляя персону Эжена Богарнэ в итальянском же Неаполе, но принадлежащем французскому маршалу Мюрату? Не парадокс ли? И когда же мы, итальянцы, станем хозяевами в своем доме?
Венский посланник Миера держался в стороне от русских, но барон Дюран оказался и мил, и любезен.
— Наши императоры большие друзья, — намекнул он.
— Да, — надменно отвечал Долгорукий. — После встречи в Тильзите им ничего другого не оставалось. И мы останемся друзьями до тех пор, пока будем придерживаться XXVIII статьи Тильзитского трактата о равенстве и правах между Россией и той империей, которую создал Наполеон…
Долгорукий намеренно держал себя гордо — даже перед Мюратом, словно предчувствуя, что хотя Мюрат и ершился перед Наполеоном, он покорно поведет французскую армию против русской. До короля, наверное, дошли его слова, неосторожно сказанные в присутствии графа Миера, прихвостня Меттерниха:
— В кавалерийских конюшнях Петербурга немало всяких мюратов, но они не мечтают сделаться королями, как это случилось с зятьком одного корсиканца…
Миера, как и предвидели в Петербурге, отмалчивался, дабы не вызвать грома и молний Парижа. Меттерних уже тогда проводил подлую политику: заискивая перед Россией, он исподтишка толкал Наполеона на войну с Россией, понимая, что, когда русские свернут Наполеону шею, он, Меттерних, станет первой скрипкой в европейском оркестре. Соответственно тайным вожделениям своего венского патрона и вел себя посол Миера, заранее и во всем уступая первенство французам.
— Но я в протоколе не уступлю, — решил Долгорукий… Дипломатический протокол — святая святых этикета, по которому ведутся переговоры между послами и власть предержащими. Иногда незначительный, казалось бы, пустяк в поведении способен поднять или уронить престиж государства… Каламбур Николаевич говорил: «Исполнение протокола почитаю как закон полевой тактики в развитии общей боевой стратегии — политики!» Король Мюрат, рожденный под лавкою сельского трактира, не надеялся на свое знание этикета, доверив ведение протокола маркизу Галло, и, пожалуй, он даже не обратил внимание на то, что Дюран с Миера однажды заняли место впереди русского посла. Но в следующей церемонии Долгорукий прочно занял место по правую руку от короля, всей мощью Добрыни Никитича оттеснив представителей Вены и Парижа. Дюран высказал Долгорукому свое недовольство:
— Где-нибудь в Бразилии или в Китае я охотно уступил бы вам первенство, но только не в Неаполе, где король — зять моего императора, а королева — его родная сестра.
Долгорукий отвечал Дюрану со всей учтивостью:
— Поверьте, у меня нет никаких предубеждений против вас, барон, и быть их не может, я лишь ставлю свою персону на то законное место, которого она заслуживает не по моим личным качествам, а лишь по заслугам моего отечества…
Казалось, конфликт улажен, а Дюран даже подумал, что он может из него извлечь выгоду для своей карьеры. Однако во время завтрака в Кордителло князь был недоволен тем местом, какое ему пришлось занять за общим столом. В своем докладе Румянцеву он писал: «Я отстаивал свои права с горячностью,.. удовлетворившись заявлением маркиза Галло, что король не вмешивался в распределение мест и даже выразил желание, чтобы при этом не соблюдалось никакого порядка».
Затем маркиз Галло сообщил Долгорукому:
— Не знаю, чем это кончится, но в новогодней церемонии мой король Иоахим сначала заговорит с тем послом, который предстанет перед его величеством первым…
Последняя фраза была решающей. Но она же была и провокационной: Мюрат сознательно вызывал дипломатический скандал. Историк Фр. Масон писал: «Допустить, чтобы французский посланник имел преимущество перед другими, значило признать его (то есть Мюрата. — В. Л.) подчинение императору». Потому Мюрат и готовил Дюрану унижение, которое должно быть оплеухой Наполеону. Сам король задеть зятя боялся, но, зная строптивый нрав русского посла, Мюрат понимал, что Долгорукий, конечно же, пожелает быть первым… Дюран в эти дни тоже готовился постоять за честь Наполеона, говоря Эксельману:
— Вот увидите, я буду смеяться последним…
Долгорукий, узнав об этом, сказал Бенкендорфу:
— Чтобы смеяться, надо прежде всего уметь смеяться… Человечество вступало в грозный 1812 год, и, словно предчувствуя его роковые потрясения, в самом конце уходящего года Везувий снова разворчался, осыпав крыши Неаполя горячим и хрустким пеплом. 1 января Мюрат, окруженный свитой, появился в тронном зале. Придворный этикет не был нарушен, зато дипломатический протокол сильно пострадал с того момента, как обер-церемонимейстер объявил о прибытии господ посланников. Фр. Массон пишет, что Долгорукий преднамеренно занял первое место в церемонии, «но в ту же минуту барон Дюран сильно толкнул его сзади со словами:
— Ну уж нет! Этому не бывать…»
При этом, если верить докладу Дюрана, он сказал Долгорукому: «Дипломатия — искусство более письменное, нежели устное, так потрудитесь сочинить письменный протест…»
— С личной печатью! — охотно отозвался Долгорукий, награждая любителя писанины громкой пощечиной…
Цитирую: «Миера, стоявший ближе всех к обоим посланникам, видел, как они волтузили один другого кулаками». Дипломатический протокол общения на кулаках никогда не фиксировал. Но это было как раз то, что и требовалось сейчас Мюрату.
Заметив драку, он отчетливо произнес:
— Господа! Вашу трогательную горячность я приписываю только поспешности, с какой вы стремитесь лицезреть мое королевское величество. Остальное меня не касается.
Затем, обходя придворных дам, он весело шутил с ними о новогоднем извержении Везувия.
Из доклада графа Миера канцлеру Меттерниху: «Князь Долгорукий, конечно, будет утверждать, что он не брался за эфес шпаги, но я видел это своими глазами…» Из письма маркиза Галло князю Долгорукому: «Его величество (Мюрат. — В. П.), никак не мог себе представить, что.., вы забудетесь до того, чтобы взяться за эфес шпаги, угрожая французскому посланнику».
Гофмаршал Периньони подтащил Дюрана к престолу:
— Ваше королевское величество, — сказал он Мюрату, — посол Франции требует, чтобы ему было сделано удовлетворение за нанесение ущерба в его лице императору Наполеону…
Вот тут Мюрат понял, что, играя, он сильно переиграл.
Цитирую из Массона: «Он сам поощрял претензии Долгорукого и был бы готов одобрить его поступок.., с другой стороны, он боялся ссоры с Наполеоном», и, продолжая свою опасную игру, Мюрат решил «передернуть карту»:
«Чтобы выйти из затруднительного положения, он игнорировал оскорбление Дюрану, как представителю французского монарха…»
— При чем здесь Наполеон? — раскричался Мюрат. — Кладя руку на эфес шпаги, русский посол нанес оскорбление не императору Франции, а лично моему королевскому престижу…
Во время следствия один лишь итальянец Тассони назло всем чертям заявил, что он ничего не видел — ни оплеухи, ни касания князем эфеса (за что Тассони и был предан анафеме самим Наполеоном, писавшим: «Он вел себя худо.., ему нельзя было уклоняться от дела, если дело шло о достоинстве моей короны»). Но дипломаты, побитые возле престолов, тоже никому не нужны, и Дюран понял, что карьера его закончилась. Чтобы спасти себя и спасти свою пенсию, он немедля отправил Долгорукому вызов на дуэль:
«Положив руку на эфес шпаги, вы позволили себе угрожающий жест в отношении меня, за который я должен потребовать у вас удовлетворения…»
Каламбур Николаевич рассудил таким образом:
— У нас на Руси принято говорить: «положа руку на сердце», а в Европе лучше беседовать, положа руку на эфес шпаги… Я принимаю вызов. И сегодня же отправлю курьера в Петербург, чтобы Румянцев позволил мне отставку от службы…
Но оплеуха, отпущенная русской дланью посланцу Наполеона, вызвала бурную радость на улицах Неаполя; стоило Долгорукому появиться в публике, как лаццарони кричали: «Чече, чече! Руссия — виват! ..» Движение карбонариев затронуло не только парий общества, но даже аристократию, почему князь и не был удивлен словами итальянского генерала Караскозы:
— Друзья свободы приветствуют вас, и мы будем надеяться, что Россия поддержит наше стремление к единству…
Бенкендорф выложил перед Долгоруким письмо:
— Случилось худшее. Эксельман тоже прислал вам вызов на дуэль. Боюсь, подстроена непристойная ловушка…
Эксельман начинал письмо так: «Как французский генерал и подданный императора Наполеона, я преисполнен понятного негодования.., имею честь немедленно просить у вас удовлетворения за оскорбление, нанесенное моему монарху».
— Да, ловушка, — согласился Долгорукий. — Эксельман надеется добить меня, если это не удастся Дюрану. Константин Бенкендорф быстро что-то писал.
— Кому? Куда? Зачем? — спросил его Долгорукий.
— Ему. Туда. Вызов, — отвечал Бенкендорф. — Вы берете на себя Дюрана, а я обещаю проткнуть графа Эксельуана…
«Смею надеяться, — писал Бенкендорф, — что после дуэли с князем Долгоруким вы дадите мне возможность исполнить священную для меня обязанность…» Пригласили и Строганова.
— Григорий Митрич, — сказал ему Долгорукий. — Дюран будет иметь двух секундантов — барона Форбена и того же Эксельмана, с моей стороны будет Костя Бенкендорф, вас прошу помогать ему в этом благородном занятии.
Строганов согласился, но предупредил:
— Как занимающий посольское место, вы лишены права принимать вызов на дуэль. Или вы уже получили отставку?
— Курьер скачет и будет скакать еще долго… Дуэль была назначена на 5 января в 7 часов утра.
— Где? На берегу Аньяно?
— Нет. Внутри храма Сераписа в Пуццоли.
— Нашли местечко! — буркнул Строганов… Перед поединком Долгорукий сказал Дюрану:
— Еще раз выражаю вам свое личное уважение, напоминая о том, что никакой личной вражды и неприязни к вам не имею.
— Благодарю, князь. Лучше приступим к делу… Долгорукий обнажил клинок, украшенный славянской вязью по стали: «Умри, злодей…» Первый же выпад пришелся в грудь Дюрану. Долгорукий, явно щадя противника, быстро выдернул острие из его тела, а Строганов сразу вмешался:
— Кровь была. Не хватит ли этого?
— Нет. Продолжим, — отказался Дюран… Шпаги снова скрестились очень рискованно для Дюрана, и он, отбросив оружие, кинулся в объятия Долгорукому:
— Благодарю за честь! Я удовлетворен. Мы останемся друзьями… Не так ли, князь?
Тут вовсю разорался секундант Форбен:
— Скорее! Там убивают… Помогите же, вмешайтесь! Оказывается, Бенкендорф с Эксельманом уже яростно бились на церковной паперти. Вот здесь была настоящая бойня…
Раненный в плечо, Бенкендорф искусно пластал воздух клинком, стремясь пронзить Эксельмана. Их пытались разнять, но Бенкендорф нанес еще два удара подряд — в шею и подле уха. Эксельман обливался кровью… Работая шпагой, Бенкендорф сначала вытеснил его с церковной паперти, а потом заставил отступить и далее — прямо на церковные ступени.
— Это было изгнание из храма торгующих и нечестивых, — сказал он друзьям, батистовым платком обтирая лезвие шпаги…
Только сейчас, когда все кончилось, прискакал генерал Караскоза и заявил от имени Мюрата, что он «не допустит дуэлей в пределах его королевства». Долгорукий захохотал:
— Какая дуэль? Здесь собрались добрые друзья… К нему, шатаясь, подошел Реми Эксельман:
— Князь! Отправляя вам вызов, я совсем упустил из виду, что вы, как официальное лицо, не могли принять его, пока не получите обратно верительные грамоты… Прошу извинить меня за оплошность и забыть о сделанном вызове.
Долгорукий пожал ему руку, промокшую от крови.
— Впрочем, — сказал он, — я всегда к вашим услугам и готов скрестить оружие, когда вам будет угодно…
Но скрестить оружие с генералом Наполеона ему пришлось уже на заснеженных полях России!
***
По чину генерал-лейтенант. Каламбур Николаевич в войне с Наполеоном командовал пехотным корпусом, имя его не раз встречается в переписке фельдмаршала Голенищева-Кутузова Смоленского. Патриотизм Долгорукого был настолько высок, что от него долго скрывали известие о пожаре Москвы: думали, он не переживет этого… Но даже на полях сражений князь оставался верен чувству природного юмора, и до нас от тех лет дошли два его каламбура.
Когда сдался в плен генерал Пеллетье, князь сказал, что теперь все французы скорчатся от холода (pelletier по-французски — скорняк, меховщик). Второй каламбур касался Тарутинского лагеря. Долгорукий вложил его в уста Наполеона, якобы сказавшего: «Koutousoff, ta rautinem'a deroute». — «Кутузов, твоя рутина (Тарутино) сбила меня с пути…»
Со своей матушкой-пехотой князь Долгорукий прошагал весь путь изгнания захватчиков с родимой земли, потом участвовал в освобождении народов Европы от наполеоновской тирании, попутно исполняя дипломатические поручения в союзных странах.
Сергей Николаевич был женат на дочери известного финансиста Васильева, но семейная жизнь его бурной натуре не удалась, супруги давно жили врозь, а их дети, сын и дочь, принадлежали уже иному поколению — их можно было встретить в окружении поэта Пушкина…
Каламбур Николаевич не мог служить во времена аракчеевских порядков и после войны удалился в отставку, угаснув на чужбине — одиноким и, наверное, несчастным. О нем редко упоминают и ныне, чаще говорят искусствоведы о его портрете волшебной кисти Д. Г. Левицкого. Увы, мы видим этот портрет далеко от прославленной военной галереи — он незаметно стареет в краеведческом музее тихой подмосковной провинции, почти совсем не публикуется.
После Долгорукого остался написанный им еще в молодости исторический труд «Хроника Российской Императорской армии», изданный в 1799 году. По мнению историков, это драгоценнейший свод сведений о всех полках России, об их мундирах, штандартах и местах расквартирования. Труд тем более ценный для нас, что те материалы, которые автор использовал при его написании, погибли в пламени московского пожара, и нам их уже никогда не вернуть. Честно сознаюсь, я этой книги даже в руках не держал, хотя немало копался в заманчивых дебрях букинистических лавок…



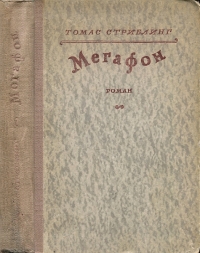


Комментарии к книге «Каламбур Николаевич», Валентин Пикуль
Всего 0 комментариев