Владимир Тан-Богораз Жертвы Дракона. На озере Лоч
Иллюстрации Роман Кашин
Предисловие
Как жили на земле первобытные люди за много тысяч, или десятков тысяч лет назад? Какие у них были обычаи и страсти, семейное устройство и войны, религия и сказки и игры?
Нам остались от них только немногие обломки оружия и утвари: каменные топоры, костяные стрелы, глиняные черепки, бусы, рисунки животных и другие подобные вещи, добытые в раскопках и собранные в музеях. По этим скудным остаткам было бы трудно и почти невозможно восстановить картину древней человеческой жизни, наивной и свежей и пёстрой.
Однако, помимо копий и стрел, на земле уцелели другие обломки ранних веков, живые, облечённые плотью и кровью. Это – осколки весьма первобытных племён, самые дикие из диких, оттеснённые в разные глухие углы земного шара, в дальние горы, в полярные страны, на группы островов, затерянные в океане. Таковы в Азии – чукчи и юкагиры, гиляки и айны, андаманезцы и ведды, в Америке – эскимосы и печереги, в Африке – бушмены и акка, и сотни других.
Они весьма малочисленны и быстро вымирают, однако, ещё не вымерли до конца, как дронт и морская корова. Их утварь и оружие, украшения и рисунки представляют поразительное сходство с остатками пещерной эпохи французской, английской и бельгийской, или времени свайных построек на швейцарских озёрах. По их быту, их страстям, их верованиям можно с большой вероятностью восстановить раннюю жизнь человечества и облечь её красками.
Именно этим методом я руководствовался, подбирая материалы для моих произведений.
Роман «Жертвы Дракона» представляет попытку восстановить то реальное зерно, которое должно заключаться в широко распространённой легенде о девушке, отданной в жертву дракону, и юноше, защитившем её. Образ дракона имеет всемирную известность на востоке и на западе.
Дракон является племенным гербом у различных народов, например, у древних германцев, и государственным гербом у китайцев. Можно предположить с большой вероятностью, что этот фантастический образ представляет стилизованное воспоминание о гигантских драконах-ящерах, в том числе и о летучих, как птеродактили, – действительно существовавших на земле. Ко времени появления человека, во второй половине третичного периода, эти ящеры драконы должны были вымереть, но тем с большей силой должны были действовать немногие уцелевшие чудовища на воображение первобытного, ещё беспомощного человека.
Эти последние животные гиганты для человеческих племён являлись божеством, воплощением стихийных таинственных сил, злых или добрых. Дракон, ставший гербом, это дракон-покровитель. С другой стороны, до сих пор даже в так называемых «высших» религиях дракон или змей с лапами и крыльями является главою и худшим воплощением злых духов, враждебных человеку.
В указанной легенде юный герой обыкновенно побеждает дракона и женится на освобождённой девушке. Но скорее могло случиться обратное. Об этом как будто свидетельствуют подробности легенды, – ужас, внушаемый драконом, производимое им истребление живущих по соседству людей и эти постоянные жертвы, приносимые дракону. Только ужас, внушаемый некогда драконом людям, на своих чёрных крыльях донёс к нам это злое воспоминание от древней эпохи раннего палеолита.
Но легенда, стилизуя прошлое, не могла примириться с поражением и гибелью героя, как было, должно быть, на деле. Ибо легенда – это вера человечества и она из прошедшего всегда устремляется к грядущему. И вера человечества есть вера в конечную победу и конечное торжество над всеми драконами, над всеми злыми силами земли и небес.
Вот почему, в волшебном фонаре расцвеченного вымысла, какой-нибудь слабый борец с его костяным копьём и деревянным луком, съеденный некогда ужасным ящером, воскрес победителем, человеко-богом, Юрием-Победоносцем.
Мой Яррий – это именно реальный прообраз победоносного Юрия. Внуки и правнуки Яррия не желали допустить, что их бесстрашный предок мог погибнуть в пасти чудовища, и в старой зловещей легенде тотчас же переделали конец. Мировая легенда – роман о драконе и юноше с девушкой, как и все мировые романы, кончается победою и счастливым браком. Только остаётся прибавить:
И я там был, мёд-пиво пил, По усам текло, да в рот не попало.Я оставил роман свой как бы неоконченным, ибо я не хотел дать свирепому дракону пожрать благородного Яррия и не мог дать Яррию побить дракона. Пусть же читатели сами кончают, как хотят…
Но худшие драконы – это создания нашего воображения, и тогда драконоборец становится героем-богоборцем, героем-мятежником и революционером. Он борется не только с телесным, физическим чудовищем, но и со зловещими уставами собственной эпохи, собственного племени.
Богоборцем-мятежником, первым революционером древнейшего палеолита, я сделал своего Яррия. И пусть не говорят, что это надуманный образ, ибо от самой седой древности в человеческом сердце, рядом со слепою покорностью самосозданным чудовищам, живёт и неверие, и смелый порыв к отчаянному противоборству. И я сам встречал неоднократно у чукчей, у эскимосов, у тунгусов и юкагиров, таких точно юношей, как Яррий, которые, на зло колдунам и шаманам и сложной сети духов и демонов, заполнивших весь первобытный кругозор от земли и до неба, утверждают себя в неверии и всех духов, и» верхних, и средних, и нижних», вызывают на бой.
Кощунственные речи первобытного атеиста заимствованы мною из действительных речей, слышанных мною где-нибудь у вечернего костра среди необозримой тундры или на берегу морском, перед лицом ревущей бури.
И также из действительной жизни первобытных племён заимствованы мною и другие фигуры и сцены романа.
В охоте на диких оленей мне самому приходилось участвовать, а также и в празднике воскресения зверей, с той разницей, что центральное место, вместо огромного древнего мамонта, занимал такой же огромный кит.
Праздник вытирания огня из дерева существует в разнообразнейших формах, даже у культурных народов.
Эпидемии я видел не менее опустошительные, чем описанная в романе, и видел, как шаманы переодевали обезумевших женщин мужчинами и мужчин женщинами, чтобы обмануть невидимых духов-убийц.
Разделение полов, весенние пляски и брачные оргии тоже являются общим явлением. Первобытная жизнь совсем не является простой. Она проявляет ту степень общественной сложности, какая изображена в романе.
Ибо судьба человека первобытного и судьба человека современного подчинены одним и тем же законам. Из далёкого прошлого в безмерно далёкое будущее устремляется мужество Яррия-богоборца и нежная душа его подруги Ронты, когда они вместе плывут по быстротекущей реке бытия в хрупкой лодке собственного воображения.
Я ничего не сочинял, я только комбинировал. Образы, легенды, рассказы заимствованы у разных племён и северных, и южных. Последняя песнь Ронты – лишь вольный перевод полинезийского предания о затмении солнца. На основе всех преданий, сплетённых мною в цветочный венок повествования, я старался осознать и углубить эту мечту палеолита.
Повесть «На озере Лоч» относится к эпохе свайных построек. Действие её происходит приблизительно на севере Италии, на одном из озёр. Два племени приходят в столкновение. Одно принадлежит к смуглой и темноволосой расе ранних обитателей Европы. Самое имя его «селоны» имеет отношение к группе племенных имён, наиболее древних в Италии: сикулы, сиканы (также валлийские силуры). Имя это было упомянуто в романе «Жертвы Дракона», который относится к более ранней эпохе.
Другое, белокурое племя явилось с востока и принесло с собою бронзу и домашний скот, верховых лошадей и телеги.
Его имя – мидийского корня, подобно многим другим именам восточной Европы, известным из древних эпох.
Для быта приозёрных рыбаков мне служили образцом юкагиры, чукчи и иные туземцы Берингова моря, по личным наблюдениям, также и другие племена по литературным источникам. Для быта скотоводов я старался использовать то, что нам известно о древних германцах и гуннах и скифах и индийских арийцах ведической эпохи.
Воинские игры и пляски, легенды, колдовство и заклинания – всё это заимствовано из действительной жизни различных племён. В частности, рыбьи пляски и насмешливые песни девушек взяты у центральных эскимосов, заклинания Низеи и её галлюцинации и весь ход оживления оглушённого Аслана составляют только вариант шаманских заклинаний, весьма распространённых среди множества племён. Полёт Низеи в загробное царство в порыве шаманского экстаза и битва её с Крылатою Бабой из-за маленькой душки Аслана взяты почти буквально из «Рассказа о безруком шамане», очень известного на крайнем северо-востоке Азии.
Страсти и чувства героев моей повести, несмотря на всю простоту их быта, в общем похожи на наши. Ибо это всё-таки люди, такие же, как мы. Мало того, это люди уже совершившие в прошлом сложную и своеобразную культурную работу. Ибо добывание огня, рыболовство и охота, выделка оружия и платья, постройка жилищ, даже весьма первобытных, всё это предполагает множество изобретений и технических приспособлений, уже известных и испробованных в деле, и требует огромного духовного труда, о котором мы слишком часто забываем в своей городской кичливости.
Если, в виде примера, взять рассказы миссионеров и поверхностных туристов о таких племенах, чей язык будто бы состоит всего из нескольких сотен слов, и которые поэтому не могут разговаривать в темноте без пояснительных жестов, – то эти рассказы почти всегда основаны на недоразумении. При более тщательном изучении сотни слов разрастаются в десятки тысяч.
Нам нечем особенно гордиться перед дикарями. Мы тоже достаточно дики и грубы, хотя и летаем на аэроплане. Все мы, земные люди, более или менее дикие, сделали только несколько первых шагов по дороге прогресса. Но путь перед нами широко открыт и далёк бесконечно.
В. Г. Тан (Богораз)
Жертвы Дракона Роман
Глава 1
Юн Чёрный встал в полночь, когда другие спали. Было тихо, только река Дадана слабо шумела внизу под обрывом. Юн вытер росу со своего нагого тела, слегка потянулся, сдерживая дрожь, потом посмотрел на звёзды. Звёзды были благосклонны. На краю неба уже поднимался Охотник[1] в ярком Поясе из трёх светлых Раковин и протягивал вперёд свой остропламенный Дротик[2]. Дикие Олени[3], которые пасутся на берегах Песчаной Реки[4], не пошевелились, и яркое око Отца[5], вечно недвижное в небе, мигало, как будто говорило: «Ищи».
Юн Чёрный опустил голову вниз и посмотрел на воинов. Их голые тела смутно белели в слабом свете звёзд. Ночь была холодная, но перед крупной охотой или войной Анаки остерегались закапываться в листья или покрываться плащами из шкур. Они спали нагие, на голой земле, как змеи или как камни.
Перед этой охотой даже костров не зажигали. Анаки ждали оленей. Запах дыма мог бы заставить пугливое стадо свернуть в сторону. Уже девять дней Анаки сидели на берегу реки Даданы без огня и почти без пищи. Они даже говорили шёпотом и в разговоре называли оленей уклончивым именем – «Серые Лица», чтобы колдуны оленьего стада не услыхали и не поняли.
Юн Чёрный пытливо смотрел на белые тела. Воины спали или притворялись спящими, ибо никто не должен был видеть, как он уходит. Юн Чёрный был колдун ночной, полусокрытый. В эту ночь он шёл на борьбу с колдунами оленьего племени, и ему не нужно было ни друга, ни помощи.
Воины спали, старые и молодые. Юн узнавал знакомые фигуры. Вот Альф Быстроногий, Мар Красивый и Несс, друзья-соперники, Илл Бородатый, Лиас большой и много других. Они походили на белых тюленей, заснувших на песке.
Отроки спали отдельно от взрослых. Они ещё не приняли обета посвящения и не прошли установленного искуса в роще терновой под хлёсткими прутьями и потому не имели права спать рядом со взрослыми.
Кроме воинов и отроков, в лагере никого не было. Это была мужская орда. Племя Анаков делилось на две половины, мужскую и женскую. Они обитали отдельно весною и летом и сходились вместе только после великих охот на праздник осеннего солнца. Этот праздник был также праздником брачным. Там составлялись новые пары и зачинались новые дети Анакского племени. И через девять месяцев, весною, дети Анаков рождались на свет к новому теплу и изобилию пищи.
Юн Чёрный взял копьё, потом подобрал мешочек с красками и сошёл к реке. Он три раза окунулся в свежие волны, совершая обряд очищения, вытер тело песком, стараясь скрести свою кожу как можно сильнее. Тело его горело. Он поднялся обратно наверх, но не пошёл на становище, а углубился в ивовые заросли, которыми были покрыты берега Даданы. Они сплетались стеной, густой и невысокой. Ему приходилось пробираться почти ползком, как пробирается лисица на охоте.
Постепенно кусты поредели; открылось волнистое взгорье, пересечённое ущельями, поросшее лесами, смутно черневшими во мгле. Перед Юном была тропинка. Она пропадала и снова появлялась, раздвигала кусты и уходила в горы. Это была оленья тропа.
Олени каждую весну собирались стадами и спускались с гор на моховые пастбища у берегов океана. Они шли прямо, с юго-востока на северо-запад, и переплывали по дороге широкие реки. На реке Дадане у них были три битые тропы. Анаки сидели на средней тропе у Лысого Мыса. Они кололи оленей длинными копьями в волнах реки и в удачный год убивали тысячи.
Стада за стадами являлись в разное время. Сперва приходили матки с телятами, потом быки. Анаки находили такое разделение совершенно естественным. Они говорили, что олени живут раздельно и сходятся осенью справлять в дальних горах праздник осеннего солнца, и ставят колесо, и пляшут кругом вперемежку с жёнами, точь-в-точь как люди.
Юн Чёрный добрался до леса и остановился на опушке. Он встал на оленьей тропе, чтобы чарами привлечь запоздавшее стадо.
Прежде всего он решил испытать добрые чары и льстивые слова. Он вынул из мешка щепотку красной охры, смешанной с жиром, размял её между пальцами и стал выводить на груди, животе и на бёдрах красные мирные знаки. Это были кисти рук с загнутыми пальцами, крючки с петлями. Юн повернулся боком так, чтобы эти крючки протягивались вперёд, навстречу предполагаемым оленям.
– Мы ждём вас, серые друзья, – заговорил он самым убедительным тоном. – Придите. Мы снимем ваши шубы, и вы отдохнёте. Мы вас согреем у тёплого огня. Мы вам постелем мягкие шкуры…
Он замолк и остановился, прислушиваясь. Ничего не было слышно. Олени не являлись. Тогда он начал второе заклинание, более сильное, – брачное заклинание весенней охоты.
Ибо охота на маток и тёлок весною считалась, как брак. Это была первая красная свадьба анакских охотников.
Юн говорил:
Жёны оленьи, сдавайтесь. Я внушаю вам страсть. Пусть запах мой вас привлекает, как мускус. Пусть песня моя для вас будет, как ягель. Спешите на пир…Он делал зазывные жесты, кружился и прыгал, изображая брачную пляску Анаков. Эту пляску они плясали перед жёнами без копья и без всякого оружия. Юн Чёрный перед весенней охотой плясал её с копьём в руках.
Серые жёны, сдавайтесь, Мы возьмём вашу плоть…– Пел Юн.
Он снова остановился и прислушался; потом встал на колени и припал ухом к земле. Земля молчала. Ни один звук не говорил о приближении желанного стада.
Чёрный Юн рассердился.
Он быстро стёр со своего тела красные знаки привета, вынул кусок чёрного камня и стал проводить на груди грубые черты, прямые и кривые. Это были знаки войны и вызова. Они изображали открытые пасти, усеянные зигзагами зубов, прямые разящие копья, большие круглые глаза.
– Серые шкуры, – заговорил Юн, – идите биться. Волчья сыть, мы выпьем вашей крови…
Юн долго ждал и слушал, но олени не являлись.
– Мы выпьем вашей крови, – повторил Юн. Брюхо его сжалось от голода. Алчный рот стянулся, как будто от оскомины.
Тогда Чёрный Юн начал молиться богам. В своём полуночном коварстве он с тайным расчётом помолился сперва солнцу, богу дневному и богу чужому и сказал ему так: «Красное Око, посмотри хорошенько, не найдёшь ли ты этого стада. Я дам тебе жиру».
Солнце не отвечало.
Юн стал поминать всех богов и духов, которые ему приходили на ум: Речного Бога, трёхпалого, с одним глазом; Горного Духа с гранитной головой, замурованного в утёс. Он обратился даже к собственному брюху и сказал ему так: «Брюхо, запой, дай знак о приближающейся пище». Но брюхо молчало.
Только тогда Юн обратился к последнему богу, грозному богу Дракону, тому, кто поглощает солнце и извергает его обратно. То был его собственный бог, древний бог, малоизвестный людям, бог полуночи, таинственный, странный, лукавый.
Юн обратился к нему, полный трепета, и сказал ему так:
– О, Дракон, как ты поглощаешь солнце, дай мне поглотить этих оленей… Сделай хоть знак… Я дам тебе жертву.
Юн подождал.
– Тёлку молодую, лучшую из стада…
Бледное лицо луны поднималось с востока. Лицо луны было лицом Дракона. Оно смотрело на Юна и насмешливо улыбалось.
– Белую тёлку… – сказал Юн. Он сам не знал, что обещать больше. Белые тёлки были редки, иногда за всю охоту не попадалось ни одной.
Он замолчал и стоял, ожидая. Бледное лицо в небесах молчало и улыбалось.
Тогда Юн вспомнил о женской орде. Она стояла на реке Дадане, за полдня ходьбы вниз по течению. Там были матери с детьми, девушки, старухи. Обитая отдельно, они получали запасы от промысла мужчин. Во время оленьей охоты на реке Дадане они выезжали в широких ладьях и ловили туши, которые несло по течению. Мужчины брали себе только тех животных, которых прибивало к берегу тут же, на месте охоты.
Юн вспомнил женский лагерь, и сердце его сжалось. В женском лагере жила Юна, жена колдуна. Чёрный Юн сошёлся с ней четыре года назад из-за сходства имён, а также из-за её пушистых светлых кос. С тех пор они встречались каждую осень, не ища и не желая никого другого. В первую весну после их брака Юна принесла ребёнка, мальчика. Юн видел его только по зимам. Он не знал даже его тайного имени, данного старухой-гадалыцицей. В разговоре с Юной и вслух перед другими они называли его Мышонком. Но он думал о своём белом Мышонке в эти голодные вешние дни. И даже колдовством своим он привлекал мелкую добычу, куропаток и зайцев и посылал их в женский лагерь, прямо к сыну.
Но в эту скупую, холодную полночь всё колдовство его было бессильно. Безумный гнев охватил Юна, он заскакал на месте и закружился, как будто ужаленный осою.
Сами собой к устам притекли богохульные слова:
– Божонки, нищие, дать вам нечего. Дух Лесной, и Дух Речной, и Дух Озёрный, идите сюда. Я вас съем…
Раздался треск сучьев. Из-за толстого древесного ствола поднялось что-то большое, тёмное. Юн вздрогнул и смолк. Потом сделал движение, чтобы бежать, но остался на месте. Мохнатая чёрная грива, которая принесла ему прозвище Чёрного Юна, зашевелилась от страха на его голове.
В бледном свете месяца Юн увидел грузную чёрную фигуру. Она встала и выпрямилась. Она показалась ему неслыханно огромной. Вид её был, как вид медведя, вставшего на дыбы. Дух Лесной в образе медвежьем явился на зов и приближался к дерзкому колдуну.
Юн стоял и ждал с тупым отчаянием в душе. Фигура подходила всё ближе. Он слышал хруст веток под её ногами и тяжёлое дыхание.
И вдруг чувство неминуемой опасности выросло и заслонило в нём суеверный ужас. Он не думал, но чувствовал: «Это – медведь, живой медведь».
Живой, настоящий медведь весной, пожалуй, опаснее, чем медвежий призрак. Он только что вышел из зимней берлоги, тощий, злой и растрёпанный. После зимнего поста он голоден, но найти весной еду трудно. Поэтому весной медведь опаснее, чем летом.
«Он сейчас на меня бросится», – чувствовал Юн.
Он выставил вперёд правую ногу, упёр перед нею в землю ясеневое древко своего длинного копья, подставил навстречу медведю костяное остриё и ждал, что будет.
Медведь уже обдавал его своим горячим дыханием. Юн глянул на него, и ему показалось, что, несмотря на близость, чёрное чудовище сделалось как будто меньше.
Страх Юна сменился яростью.
«Твоя погибель или моя», – подумал он, стискивая зубы. – «Медведь ты или дух…»
И вдруг, в самую решительную минуту, когда копьё Юна уже касалось мохнатой груди чудовища, случилось что-то неожиданное, почти невероятное. Тёмная фигура быстро опустилась на землю и мягко, без всякого шума скользнула в сторону. И почти тотчас же налево от тропинки послышались звуки борьбы, странные храп и движения грузных тел.
«Олени», – подумал Юн. Он узнал бы этот храп из тысячи других.
Шум продолжался. Слышался частый стук, как будто кто колотил по дереву палкой. Это умирающий олень трепетал в агонии и бился копытами о молодые стволы. Вместе со стуком раздалось чавканье. Был ли это зверь или дух, но он был голоден и стал пожирать добычу ещё заживо.
Все мысли Юна перепутались.
«Стало быть, это медведь», – подумал он с облегчением. – «И олени пришли. Кто их прислал, какой бог?»
Бледное лицо луны заглянуло ему в глаза и улыбнулось насмешливо.
«Ага, ты…» – подумал Юн. – «Спасибо».
Медведь продолжал чавкать под деревом. Всё существо Юна зажглось от радостного голода и хищной жажды убийства.
Ещё минута, и он двинулся бы к дереву отнимать у медведя горячее, истерзанное мясо.
Внезапно с левой стороны послышалось хорканье, странное, тревожное, похожее на скрип сырого дерева и на плач ребёнка.
«Телёнок плачет…» – подумал Юн. – «Матку зовёт…»
Он весь согнулся, сжал копьё и быстрыми шагами стал пробираться на голос.
Хорканье повторилось левее, потом ещё левее. Телёнок не хотел уходить и описывал широкую дугу вокруг медведя и матери. Юн осторожно крался вперёд. Глаза его горели, как у волка, ноги ступали бесшумно, как будто на пружинах.
Телёнок опять хоркнул, и Юн увидал его. В свете луны он перебежал тропинку. Осторожность Юна была излишняя. Телёнок был маленький, глупый. Он бежал вперёд нетвёрдой рысцой, колеблясь между двумя инстинктами и двумя запахами. Один был знакомый запах матери; другой запах был крепкий и тёмный и внушал ему ужас, хотя он ещё не понимал, что это было.
Юн выждал минуту и твёрдой рукой пустил копьё. Длинное костяное остриё, острое, как шило, вонзилось телёнку в брюхо и вышло наружу с другой стороны.
Телёнок сделал скачок в сторону, задел ногами за древко копья, споткнулся, упал, хотел встать и не мог. Юн в два прыжка перескочил пространство, отделявшее его от добычи. Он придавил телёнка коленом, потом, видя что тот не перестаёт биться, достал из своего поясного мешка острый кремнёвый нож в чехле из дерева, искусно выдолбленном, и перерезал телёнку горло. Он припал к ране воспалёнными губами и стал тянуть сладкую, тёплую кровь, и это освежило его. После того он поднял маленькую тушу и вскинул её себе на плечи.
«Матка с телёнком», – думал он. – «Матки идут».
Оленье тело на его плечах было гибкое, тёплое, как тело ребёнка, и он вспомнил в этой связи своего белого Мышонка, который в это самое время, может быть, умирал с голоду в женском лагере.
Юн подхватил своё копьё и быстрыми шагами направился на запад, слегка отклоняясь вправо к реке. Он не думал о медведе, который остался сзади и пожирал добычу, не думал также о становище своих братьев-охотников. Он направлялся к женскому стойбищу отнести своему голодному сыну первую добычу этой весны.
Глава 2
Женский лагерь помещался в лесистой лощине, доходившей до самого берега. Он не был похож на становище мужчин. В разных концах горели костры перед навесами, сплетёнными из ветвей и поставленными так, чтобы давать защиту от ветра. Малые дети не могли оставаться без огня и без крова.
Женщины вообще работали больше мужчин, и работы их были разнообразнее. Они плели корзины из прутьев, лепили горшки из глины, шили детям платье из шкур и варили для них пищу у огня. Детские зубки нуждались в мягкой пище. Мужчины, напротив, презирали все эти ремёсла и удобства. Пищу свою они жарили на камнях или пекли на угольях. Многие части мяса, хрящи, потроха они потребляли сырыми. Иные воины давали обет есть всю жизнь только сырое. Это считалось признаком мужества и закалённости. Занимались мужчины только войной и охотой. В остальное время они приводили в готовность своё боевое оружие или попросту спали, всё равно – днём или ночью.
Весенний голод был для женского лагеря тяжелее, чем для мужского. Дети вообще были хлипкие, податливые к смерти. Они мёрли, как мухи, зимой от холода, а весной от голода. Женщины, кроме того, умели добывать пищу хуже мужчин. Они собирали съедобные корни и серых червей, ловили куропаток петлями. Но именно в это голодное время корни были жёстки, а куропатки редки.
Женщины выражали голод иначе, чем мужчины. Мужчины терпели молча, жаловаться считалось ниже их достоинства. Женщины кричали и бранились друг с другом и с собственными детьми. Иные пели, другие плакали, третьи вспоминали отсутствующих друзей, хотя это и считалось нарушением приличий. Особенно круто приходилось многодетным, но их было немного. Матери обычно кормили детей до пятилетнего возраста, рождения разделялись большими промежутками, и семьи были немногочисленны.
Всех круче приходилось Майре Глиняной, прозванной так за бескровный цвет лица. У неё была двойня, два шустрых мальчика по пятой зиме. Одного звали Антек, другого Лиас. Отцом Лиаса считался Лиас Большой из мужского лагеря, но он наотрез отказался от другого младенца, и после этого на праздниках любви уже не приближался к Майре. С тех пор Майра жила одна с детьми и не имела мужчины.
У неё уже не хватало молока для обоих младенцев. Она пробовала отлучать их от груди, но пищи тоже не хватало. Её дети были самые голодные и неугомонные во всём стойбище. И теперь они теребили мать за пояс, справа и слева, и неотступно кричали «Дай, дай!..»
– Где я возьму? – кричала несчастная Майра.
– Дай!..
Дети карабкались на колени и тянулись к груди матери.
– Нету! – кричала Майра. – Отстаньте!
– Леший, – прибавляла она с угрозой, – возьми этих мальчиков. Они еду просят.
– Зачем родила двоих? – насмешливо сказала соседка Аса-Без-Зуба.
Она сидела на корточках у своего костра, закутав спину вытертой шкурой оленя. Соседки накануне поссорились из-за деревянного приспособления для вытирания огня. Женщины Анаков отличались в зрелом возрасте вспыльчивым и неукротимым нравом. Никакие бедствия или лишения не смягчали их охоты к ссорам.
Майра молчала. Она сделала вид, что не слышала слов соседки.
– Один от человека, другой от дьявола, – сказала Аса.
Двойни были редки в племени Анаков и, как всё необычное, вызывали враждебное чувство.
– Оставь, – сказала старая Лото, которая сидела у того же огня и грела руки. – Лисица четырёх приносит, и все настоящие…
Лиас залез на колени к матери и добрался-таки до её груди. Он потянул губами сосок, но грудь была пуста, как опорожнённый мешок.
Мальчик в ярости укусил зубами сосок. Майра взвизгнула от боли и одним движением отбросила сына в сторону.
На грязной коже её обвислой груди показалась рубиновая капля, медленно налилась и упала вниз, как кровавая слеза.
– Зарежу! – крикнула Майра. Но мальчик быстро пополз в сторону на четвереньках, как молодой лисёнок. Он остановился на порядочном расстоянии и смотрел на мать тем же блестящим голодным взглядом.
Литта Златогривая сидела поодаль, не разводя огня. Она подостлала под себя свой меховой плащ, а её золотистые волосы рассыпались по голым плечам и грели не хуже плаща.
Она сидела, уткнувшись локтями в колени, и пела монотонным напевом старую песню о золотых яблоках. Это была любимая песня женщин. Молодые девушки часто пели её во время голода. Мужчины во время голода мечтали о мясе, свирепо и молча, как дикие звери. Женщины же охотнее вспоминали о ягодах, орехах и плодах, даже о таких, каких никогда не бывало в соседних лесах.
Золотые яблоки тоже не рождались в стране Анаков. По преданию, эти яблоки росли в счастливой стране Вияр, откуда пришли первые божественные люди, породившие племя Анаков.
Литта качалась, как пьяная, и пела тонким однообразным напевом:
Я была в золотом лесу. Я рвала золотые яблоки. Сочные яблоки… Одно яблоко я взяла себе, Другое отдала своему другу, Сочные яблоки…Винда и Рея-Волчица, две молодые матери-сестры, сидели в стороне вместе со своими младенцами. У них тоже пропало молоко в грудях, и они поили младенцев белым раствором «земляного жира» в воде. Это была съедобная глина, мягкая, белая и жирная на ощупь. В голодные дни дети Анаков поедали её горстями. Они белели от неё, как будто посыпанные пеплом; щёки и грудь покрывались мучнистыми пятнами, глаза мутнели и теряли блеск. Анаки говорили, что дети от «земляного жира» линяют, как тощая рыба.
Но в этой местности был редок даже съедобный жир земли. Его приносили с юга за полдня ходьбы. Там наплывал он белыми пятнами в горном ручье из-под нависшей полуразрушенной скалы.
Девочки-подростки копошились целой стаей у большого костра. Они были заняты важным делом: варили толкушу из древесной заболони. Дело это было медленное и трудное. Им распоряжались три подруги: Яррия, Ронта и Илеиль. Они были однолетки и в ближайшую осень должны были подвергнуться обряду благословения чрева, который для женщин соответствовал мужскому обряду посвящения и составлял признание брачной зрелости.
Впрочем, в настоящее время их фигуры не имели никаких признаков зрелости. У них были тощие плечи, костлявые спины. Они отличались от мальчиков только гривой спутанных длинных волос, висевших по плечам. У Яррии были чёрные волосы, у Илеиль каштановые, у Ронты золотистые, почти такие же, как у Литты златогривой. Все девочки были наги. Они должны были получить меховой плащ только осенью, как первый подарок возлюбленного.
Больше всех хлопотала Яррия. Она отдавала приказания направо и налево:
– Девки, торопитесь… Милка, дров тащи!.. Скорее!..
Милка, совсем маленькая смуглая девочка, топталась у костра и плакала от голода и нетерпения. Но при этом окрике она поспешно утёрла слёзы и побежала в лес.
– Элла где? – спрашивала Яррия вдогонку.
– Сестра? – переспросила Милка. – Под деревом сидит, – прибавила она на бегу. – Злая, страсть. Я её позвала: «Пойдём к девкам», а она схватила полено…
– Девки, торопитесь, – крикнула Милка в свою очередь. – Дров тащите!.. Скорее!..
Она повторила окрик Яррии точно таким же повелительным тоном, потом побежала вприпрыжку по узкой тропинке вниз за своими подругами. Иные из них уже возвращались к огнищу с охапками хвороста. И, несмотря на голод и слёзы, им было весело. Вся эта затея походила на игру, и трудно было разобрать, настоящая она или не настоящая.
Ронта утвердила на земле странный сосуд, до половины налитый водою. Он держался на четырёх палках, крепко врытых в землю и поддетых под его края. В сущности, это был не сосуд, а мешок, сплетённый из корней. Но плетёнка была такая частая и ровная, что вода держалась, и ни капли не вытекало.
С десяток девочек сидели на корточках и скоблили заболонь. Она была двух сортов: тополевая со стволов и ивовая с корней. Тополевая была надрана длинными белыми лентами и лежала на земле, собранная в кучу. Ивовая была разбросана кругом узкими спиральными завитками, похожими на змей или на крупных червей.
Яррия разрыла длинной палкой красные уголья. Под грудой жара лежали круглые камни, которые собственно и служили для варки. Ловко действуя двумя палками, как будто щипцами, Яррия доставала камни из костра и опускала их в котёл. Вода скоро согрелась и задымилась от лёгкого пара. Потом стали выделяться крупные пузырьки, возвещавшие о близком кипении.
Ронта сидела, обхватив руками колени, и смотрела в огонь. Девочки с жадными лицами стояли кругом костра и дожидались, чтобы варево поспело.
Старших мальчиков не было в лагере. Они проводили целый день в лесу, рыскали взад-вперёд, искали добычи.
Только горбатый Дило остался дома. Ноги у него были кривые, и он так ослабел от голода, что не мог бы угнаться за другими товарищами. Но утром, когда они уходили, он тоже ушёл от костра сестры своей Пенны, по прозвищу Левша, и забрался в густой куст ольховника. Там, лёжа на мху, он мало-помалу объедал горькие почки, как заяц.
Однако тёплый смолистый запах толкуши дошёл и до куста, забрался внутрь и стал щекотать ноздри Дило. И скоро он не смог удержаться, вылез из своего убежища и стал понемногу приближаться к костру девочек.
Илеиль в последний раз попробовала древесную похлёбку.
– Готово, – сказала она. – Жрите, шакалки!..
Девочки бросились к плетёному котлу и стали засовывать в горячую воду свои грязные руки. Они обжигались и отскакивали назад, потом опять совали в котёл руки и даже носы. Они, действительно, напоминали шакалов, которые в то время ходили следом за человеческими ордами и при удобном случае готовы были сунуть нос в горшок и даже в огонь. Люди то били их, то относились к ним благодушно и даже бросали им негодные куски.
Дило совсем приблизился к костру. Он тоже походил на больного и хромого шакала. Милка, жадно поедавшая свою порцию, посмотрела на него и вдруг фыркнула от смеха. Она разбрызгала горячую жидкость во все стороны и чуть не подавилась, но потом справилась и промычала с полным ртом: «Мм… лягушонок!»
– Дайте мне тоже, – сказал Дило, протягивая руку.
Милка уже облизывала свои липкие пальцы.
– И девочкам не хватит, – сказала она. – Ты мальчик, иди птиц ловить.
– Чем же я мальчик? – жалобно сказал Горбун. – Я тоже девочка.
– Как девочка?! – хором запротестовала вся девичья гурьба.
– Если я сижу дома, то, значит, я девочка, – сказал Дило в виде аргумента.
– Врёшь, – сказала Милка. – У тебя и нос не такой, – прибавила она со смехом.
– Яррия, – громко позвал Горбун, – дай мне хоть одну стружку!.. Яррия не отвечала. Она скоблила ногтями внутренность плетёного котла. Твёрдые ногти звенели, как железо.
– Яррий кормил меня, – сказал Дило и вдруг заплакал. Плач его был, как кашель. Он прикрывал горстью рот и нос и лаял в ладонь странными звуками, как будто захлёбываясь.
Яррий был брат Яррии. После минувшей зимы он перешёл в мужскую орду вместе с тремя другими отроками и сейчас ожидал посвящения. Он был старше Яррии, но женская зрелость наступала раньше, чем мужская. Брат и сестра должны были пройти очистительные обряды в одно и то же время, после великих охот, перед осенним праздником солнца. Среди подростков Яррий славился охотничьей удачей, и даже имя у него было Яррий Ловец. В самое трудное время он всегда приносил что-нибудь – кролика или сову, связку рыб, пойманных острым шипом уды в водах Даданы, змею, сурка. Яррий Ловец в голодную вешнюю пору кормил Горбуна. В сытные летние дни Дило, несмотря на кривые ноги, не отставал от товарища. Они переходили с поля на поле, от перелеска к другому перелеску в поисках добычи.
Дило, несмотря на своё уродство, был мастер на все руки. Он плёл из крапивы частые сети для ловли золотопёрок в ручьях, делал дудочки из тростника и выманивал, подсвистывая на этой первобытной свирели, робких пищух из нор в песке. Он умел также рассказывать длинные сказки, которые никогда не кончались и переплетались, как кружево: то уходили на небо к Отцу и его звёздному племени, то спускались в подземные пещеры, где таился после ущерба луны страшный бог, Лунный Дракон, или убегали в далёкие степи, туда, где живут странные боги Молокоеды, у которых лица людские, а копыта конские. Они скачут повсюду вслед за стадами скота и, дивное дело, сосут молоко, как телята.
– Яррий кормил меня, – повторил Дило упавшим голосом.
Ронта поспешно вынула изо рта собственную жвачку и сжала её в горсти. Это был её последний глоток.
– Иди, – сказала она мальчику, – во имя Яррия…
Дило быстро подполз, положил ей голову на колени, закрыл глаза и открыл рот. И она вложила ему свой кусок, как матка баклана вкладывает жвачку голодному птенцу. Она отдала ему не только собственную пищу, но соки собственного рта. Мальчик удержал её руку и стал тщательно облизывать ладонь. Он не желал терять ни единой питательной капли, или, быть может, благодарил её, как благодарят ручные звери за ласку.
На другом конце лагеря собрались младшие мальчики, которые были слишком малы для лесного промысла. Но даже эти малыши были настроены более хищно, чем девочки. Они обступили со всех сторон своего товарища Рума.
– Дай! – кричали они сердито и назойливо. В голодные дни этот детский крик раздавался на стойбище с утра до вечера.
– Дай! – кричали мальчики и наступали на Рума.
Рум прижимал к груди желтоватого щеночка шакальей породы. У щеночка была острая мордочка, и чёрные глазки его бегали по сторонам. Он, по-видимому, хорошо сознавал опасность своего положения.
Дети нередко подбирали и выкармливали щенят, лисенят, молодых зайчат, даже воронят и гусенят, но все эти питомцы быстро вырастали и уходили на волю или попадали под нож. Держать взрослых зверей в полуголодном лагере было бы слишком накладно.
Но шакалий щеночек Рума был особенный. Он совсем не рос. Уже два раза он зимовал в лагере и остался таким же, как прежде.
В сущности, это был не щенок, а взрослый шакал-карлик. Он был совсем ручной и никуда не хотел уходить: должно быть, понимал, что слишком мал и беззащитен, чтобы жить на воле. Его могли бы съесть собственные, более крупные братья. Зато Рум очень любил его и называл тоже Румом. Они спали вместе, и мальчик делил с ним последний кусок. И даже в эти голодные дни рёбра младшего Рума-шакала выдавались меньше, чем у его двуногого тёзки.
– Дай! – кричали малыши. – Убьём!..
Они хотели съесть четвероногого Рума. По закону Анаков, в голодные дни никакая живность в лагере или вне его не избавлялась от ножа, даже рогатые змеи, которые в обычное время считались священными и получали жертвы.
Лиас и Антек тоже были здесь. Они бросили мать, от которой ничем нельзя было поживиться, и вместе с другими наступали на обоих Румов.
– Дай! – кричал Лиас.
Он схватил камешек и бросил его в голову Старшему Руму. Но рука Лиаса была ещё не верна. Камень попал в голову Руму Младшему, желтоватому шакалу. Шакал жалобно взвизгнул. Рум старший тоже взвизгнул. Потом глаза его загорелись зелёным светом, как у рыси. Он бросил на землю своего мохнатого друга, схватил из костра головню и кинулся на обидчика.
Зубы его оскалились, спутанные волосы на голове встали дыбом. Озадаченные мальчишки отступили. Рум швырнул головню, подхватил шакала на руки и бросился вон из лагеря по тропинке, ведущей в лес.
Мальчики тотчас же опомнились и бросились было вслед за ним с гиканьем и свистом, но в это время на тропинке показалась новая фигура. Это была высокая девушка, темноволосая, в плаще из волчьей шкуры. Она шла, опираясь на длинное копьё, и несла на плече большую бурую птицу, крылья которой волочились по земле. В руке она держала светло-серого зайца. Это была Высокая Дина, охотница женского лагеря. Она принесла соплеменницам охотничью добычу.
Младшие мальчики обступили охотницу, дёргали её за плащ, хватали за перья орла. Девочки тоже сбежались со всех сторон, как белки.
– У орла отняла, – сказала Илеиль, указывая на зайца. Его левый бок был наполовину истерзан чьими-то глубокими и острыми когтями.
– И орла принесла, – сказала Яррия с явным восхищением. – Этого и Яррий не сможет, – прибавила она, подмигивая Ронте. – Чем ты его убила, Дина?
– Плоским деревом, – сказала охотница, указывая на свой пояс. За поясом было заткнуто изогнутое орудие из лёгкого и твёрдого дерева. Охотники Анаков метали его в воздух, убивая летевших мимо птиц. Но подбить этим куском дерева огромного орла да ещё с добычей, – таким броском мог похвалиться не каждый охотник.
Охотница Дина не была похожа на других женщин племени. Начать с того, что она до сих пор не выбрала себе мужа, хотя уже три осени тому назад женщины благословили её на брак. Она не уклонялась от праздника и плясала вместе со всеми кругом травяного колеса, пела и ела с мужчинами, но ни один не мог похвалиться тем, что осуществил над ней пылкое обещание брачного гимна:
Я сожму твои груди, Как спелые ягоды.Дина была очень красива. Её зрелая красота затмевала младших подруг и рядом с жёнами соблазняла, как невиданный плод. Тело у ней было гладкое, без единой складки. И груди были, как те золотые яблоки, о которых пела старинная песня.
Мужчины сражались за Дину, раздирали друг друга когтями, как дикие звери, но в последнюю минуту она уклонялась и убегала со смехом.
Дина жила по-своему и от мужчин ничего не принимала ни в дар, ни в обмен. Каждую осень ей предлагали лучшие шкуры на плащ, но она отвергала их с презрением, не желая платить любовью. И всё же, противно обычаю, неприступная дева носила пышный плащ новобрачной. Этот плащ не был принят из рук мужчины. Дина добыла его минувшей зимою собственным копьём и содрала собственным ножом с ещё трепетавшего тела матёрого волка.
Такова была охотница Дина, ненавистница мужей.
Она остановилась у первого костра и сбросила на землю свою двойную добычу.
– Ого! – крикнула она звучным голосом. – Малых кормить…
Дина ненавидела мужчин, но очень любила детей. Она свято соблюдала древний обычай, который повелевает в голодные дни отдавать первую добычу малышам, кроме охотничьей доли; вторую – беременным жёнам и матерям с грудными младенцами; третью – подросткам, и только четвёртую – взрослым. Она сама кормила ребятишек и часто отказывалась в их пользу от своей законной охотничьей доли.
– Сюда, сюда, сюда! – кликала Дина. И на этот зов малые дети покидали матерей и шли переваливаясь, ползли на четвереньках и собирались у её ног, как муравьи у муравейника.
– Гули, гули, гули… – ласково звала Дина, как будто ворковала. Дети теснились кругом неё и тоже ворковали, как дикие голуби.
Девочки, не теряя времени, стали теребить орла. Дина схватила зайца и искусной рукой в два-три приёма содрала с него шкуру.
Она прикинула на руке кровавую тушку. Заяц был старый и жирный.
– Сырое мясо, – сказала она весело. Есть сырое мясо считалось мужской привычкой. Женский лагерь варил свою пищу и часто в разговорах даже назывался «лагерем горшка». Но Дина и на этот раз желала переставить установленный обычай.
– Сюда, сюда, сюда, – ласково пела она. – Гули, гули, гули…
Своим острым ножом из редкого прозрачного камня она отрезала мелкие кусочки заячьего мяса, скоблила кости, обдирала жилы. Дети хватали её за руки, жались к её ногам и пищали, как галчата. Она вкладывала крошечные порции в широко разинутые рты. Дети глотали, и жевали, и сосали, кто как умел, и давились от жадности, и подбегали снова.
В самый разгар этой суеты рядом с лагерем, в лощине, раздался свист. Женщины вскочили и прислушались. Свист был резкий, мужской. Он повторился ещё раз с особым переливом, потом ещё раз. Свист этот говорил ясно, как будто словами: «Мясо, свежее мясо».
Воины Анаков часто приносили женщинам куски мяса и целые туши зверей. Но, по обычаю, они должны были оставлять их поодаль и извещать женщин пронзительным свистом о своём приношении.
– Это Юн свищет! – крикнула Юна. – Это его голос.
Подруга Чёрного Юна была высокая, с широкими бёдрами и, несмотря на голод, её нельзя было назвать худой. И молока у неё в грудях было много. Оттого её младенец был гладкий и тяжёлый. Но в эту минуту она не думала о младенце; она сунула его в чьи-то услужливо подставленные руки, и опрометью бросилась из лощины по тропинке, ведущей налево. Она мчалась, как ветер, и через две минуты уже была наверху. Перед нею открылась широкая поляна. С подветренной стороны до неё донёсся запах свежего мяса, и ноздри её раздулись. Но в эту минуту ею овладела другая страсть, более могучая, чем голод. Тёплые лучи весны, заливавшие зелёную землю, показались ей лучами брачной осени; перед её глазами как будто мелькнуло огненное колесо и пляска брачного хоровода.
Телёнок лежал под деревом во мху. Возле него была воткнута ветка с пучком травы, привязанным к верхушке. Но Юна не смотрела на телёнка; она ловила глазами белое пятно, мелькавшее вдали за поляной среди частых стволов кленового и букового леса. Это было всё, что она могла видеть от своего мужа Юна, который быстро убегал, согласно закону Анаков. Юна протянула руки. В ушах её звучал припев брачного гимна: «Солнце, жги!»
Потом она опомнилась и быстро закрыла глаза. Перед началом оленьей охоты даже далёкий женский взгляд мог осквернить охотника и приманить неудачу – маленького серого чертёнка, который любит вертеться вокруг людских становищ, катается серым клубком по охотничьим тропам и попадается по ноги, вырывается из-под самой подошвы камешком или хрустит сучком и спугивает добычу. Думать о нём нельзя. Только подумаешь, а он уже тут, и дразнится, и бегает кругом.
Юна сотворила заклинание и обернулась к оленю. Её первое чувство погасло. Теперь была не осень, а весна – время голода и свежей добычи. Женщины ждут внизу. Они будут есть мясо. Она тоже будет есть по праву, вместе с другими.
Юна тряхнула головой, своими крепкими руками схватила телёнка за ноги и вскинула на спину. Потом твёрдыми шагами стала быстро спускаться обратно в лагерь.
Женщины уже собрались внизу, готовые к разделу добычи.
Здесь были матери, костлявые, как смерть, истощённые двойным бременем: голода и кормления младенцев. Кожа на их животе и боках висела бурыми складками, даже волосы у них стали тусклые и шершавые от голода. Ещё страшнее были беременные жёны. Они должны были родить через месяц и таскали в своём чреве уже зрелых младенцев, и вся сила и сок их тела ушли на детей. Спина и ноги были как будто подпорки из кости, обтянутые замшей, для этого безобразного отвислого мешка.
– Кто будет делить? – спросила Юна, сбрасывая телёнка на землю.
– Лото пусть делит, – заговорили женщины, – старуха пусть делит.
Лото считалась самой справедливой старухой всего племени, и ей надлежало делить первую добычу. Она вынула нож из чёрного камня, широкий, обоюдоострый, сжала его в руке и быстрым взглядом окинула всех участниц дележа. Их было девятнадцать: семь беременных и двенадцать детных. Майра тоже хотела замешаться в их число, но они отогнали её в сторону. Дети у неё были большие, и в эту весну она должна была окончательно отлучить их от груди.
– Оставьте! – строго сказала Лото. – Майра, иди!.. Будет как раз четыре руки.
Анаки вели счёт по пальцам рук. «Четыре руки» означало четыре пятка, то есть двадцать.
Опытным глазом старая Лото прикинула размеры туши.
– Будет всем по куску, – решила она, – а кости в котёл.
Двадцать услужливых рук уже ободрали кожу с телячьей туши. Она лежала на земле, вся красная, с ног до головы. Только копыта и ноздри были чёрные. И белки глаз резко выступали из орбит. Этими белыми глазами красная тушка тускло глядела на окружавших её женщин.
– Посматривает, – хихикнула Исса, другая старуха, за плечами делилыцицы.
Исса была колдунья ночная, подобная Юну, и соседки её боялись. Она была совсем сгорбленная и ходила, опираясь на посох. Женщины удивлялись, как держится дух в этом дряхлом теле. Они говорили, что Исса-колдунья каждый раз откупается от дьявола смерти чужими головами. Два раза её принимались убивать. Но оба раза она успевала вырваться и убежать в лес. Дня через три она возвращалась, как ни в чём не бывало. И племя принимало её без ропота и оставляло в покое. Она была искусница на две стороны: могла приманить дичь и отогнать ее, дать здоровье или скормить его дьяволу смерти, перевести любовь с женщины на женщину и с мужчины на мужчину.
Исса-колдунья тоже часто делила мясо между женщинами, особенно жертвенное. Она стояла сзади Лото и злыми глазами смотрела на телёнка. Её мучила зависть. Запах крови щекотал ей ноздри.
– Смотрит, Драный, – сказала Исса злорадно.
В толпе женщин послышался ропот. С драным оленем была связана зловещая охотничья легенда. Она говорила, что Анаки, много лет тому назад, однажды захватили на реке такое огромное стадо, что насытились убийством и опустили копья; но олени всё шли. Тогда охотники поймали живого оленя, ободрали с него кожу и в таком виде отпустили его на волю.
С тех пор ободранный олень привязался к племени Анаков. Он ходит вслед за ними, является им на стойбище и во время охоты и жаждет мести.
Лото подняла нож вверх и молча показала его Иссе.
На плече у чёрной колдуньи был глубокий шрам от старого, зажившего пореза. Говорили, что этот порез сделан именно чёрным ножом старухи Лото, хотя и не её рукой.
С тех пор прошло много лет, но Исса не забыла. Она отступила и затряслась. Нижняя челюсть её отвисла. Она отвернулась в сторону и забормотала что-то непонятное, как бормочут колдуньи во время гаданий. Не то она бранилась, не то жаловалась неведомо кому.
Винда и Рея-Волчица первые схватили по куску и побежали в сторону. Уже на ходу они торопливо жевали и совали жвачку своим младенцам. Младенцы захлёбывались, и их беззубые рты окрасились розовым соком, и сами они как будто уже порозовели от одного появления спасительной еды.
Лото резала и раздавала и отсчитывала на пальцах. На третьем пальце второй руки у неё засосало под сердцем. Во все эти дни голод мало мучил её жилистое тело, но теперь тёплый пар свежего мяса растравил её. Руки её были в крови по локоть. Но Исса стояла за её спиной, и она мужественно воздерживалась даже от того, чтобы облизать свой нож.
– Берите, – говорила она и совала куски. – Девки, ставьте котёл.
Илеиль и Яррия давно приготовили мясной котёл. Он был сделан иначе, чем первый, сплетён из прутьев и обмазан слоем глины. Этот котёл ставили прямо к огню. С ним следовало быть очень осторожным, ибо глина трескалась и бульон выливался в огонь.
– Берите, – машинально повторяла Лото и резала ножом. Глаза её плохо видели, голова кружилась. Её тошнило от голода.
– Пятый палец четвёртой руки.
Это была Майра, двадцатая. Лото двинула ножом с последней энергией и глубоко порезала собственный палец обратной стороной лезвия.
Она крикнула от неожиданности, и, будто эхо, отозвался злорадный смех Иссы, стоявшей сзади.
– На две стороны, – громко сказала Исса.
Чёрный нож мог резать на две стороны. У всего на свете есть две стороны…
Но Лото не слушала. Она бросила нож в сторону и поднесла палец ко рту. Лизнула, ощутила знакомый сладкий вкус. Но это была её собственная старая кровь, а не оленья, уже застывшая.
В глазах у неё стало красно, будто красная река разлилась перед ней. В ушах зазвенело. Это река звенела о камни. Камни были, как острые ножи. Они резали тело и все были испачканы красным.
Лото, делилыцица мяса, упала без чувств на груду оленьих костей, ни разу не нарушив своего долга перед племенем.
Глава 3
Юн Чёрный вернулся к Лысому Мысу не той дорогой, что прежде. Он спустился на самый берег реки и пробирался вперёд, прячась под нависшими ярами и переползая в траве. Олени могли спуститься в это самое утро, и нужно было удвоить осторожность.
И действительно, когда он добрался до последнего поворота и увидел Лысый Мыс, то различил на его жёлтых откосах большое пятно, тёмное, движущееся. Это были олени. Они построились клином и уже входили в воду. Юну показалось, что в острие клина мелькает белое пятнышко.
«Белая тёлка», – подумал Юн, потом припал к земле и застыл, не шевеля ни одним членом.
Оленье стадо, действительно, спускалось к реке и собиралось плыть через волны Даданы на северный берег. Олени шли не торопясь, только копыта постукивали, задевая друг за друга, да тонкие рога поднимались над берегом саженей на сто в ширь, как сухие сучья. Впереди шли два передовых. Это были самки, молодые, бездетные. Они осторожно ступали, поворачивая во все стороны свою стройную головку и поводя большими чёрными пугливыми глазами. Но ничего опасного не было видно. Лагерь Анаков как будто провалился сквозь землю, даже трава на лужайке не была примята.
Внизу, на изгибе плёса, зеленели тростники, но и там всё казалось безопасным, ибо их гибкие верхушки не шевелились ни от чьих предательских движений.
Передовая самка в последний раз потянула воздух своими тонко вырезанными ноздрями, фыркнула, решительно вошла в воду, сделала шаг, другой и поплыла наперерез течению. Через десять минут всё стадо уже отделилось от берега и колыхалось в зыбких волнах Даданы.
Берег остался сзади, и волны Даданы стали сносить их вниз по течению. Но впереди показался другой берег, низкий и ровный, весь синий и смутный. Он проходил мимо вдали, как будто тихо скользил по воде, в обратную сторону, против течения Даданы.
Внезапно сзади раздались громкие, страшные звуки, гиканье и будто вой и свирепое тявканье. Были ли это серые волки или жёлтые шакалы, или самые страшные из всех, высокие, белые, коварные враги с одним длинным когтем, прилетающим по ветру? Олени не разбирали. Они, не оглядываясь, слепо, изо всей силы перебирали ногами. Глаза у них выкатывались из орбит. Голова по привычке откидывалась назад, как на быстром бегу. Им казалось, будто они мчатся во всю прыть по этой предательской воде, но быстрые волны мешали им и сносили их вниз.
Сзади не было ни волков, ни шакалов, – были только Анаки. Они выскочили из тростников с гиканьем и воем в своих лёгких берестяных челнах и мчались по воде, загребая воду длинными двухлопастными вёслами то слева, то справа. Вёсла гнулись; челноки то зарывались в воду, то почти совсем выскакивали вон, как играющие рыбы. Анаки гребли изо всех сил, нагибаясь вперёд, и дыхание их вырывалось коротко и со свистом.
Здесь были самые лучшие, сильные, смелые охотники. Старики и подростки остались на берегу и бежали по песку, потрясая копьями. Они продолжали выть по-волчьи и лаять по-шакальи, чтобы отогнать оленей от берега и помешать им вернуться обратно.
Шакалы, впрочем, тоже были здесь. Их небольшие фигурки высыпали далеко от людей, почти у того места, где прятался Юн. Они бежали у самой воды вниз по течению, поводя беспокойно острыми мордами и следя глазами за стадом и охотниками. Они рассчитывали расстояние, чтобы встретить каждого беглеца, который рискнул бы вернуться на берег.
Юн Чёрный не стал рассматривать дальше. При первом охотничьем крике, долетевшем от Лысого Мыса, в его душе что-то зажглось и вырвалось наружу. Стиснув зубы, не помня сам себя, он бросился вперёд, направляясь к заветным тростникам. Его челнок был колдовской, с лицом двузубого беса на остром носу, искусно загнутом кверху. Копьё у него было с красными кистями. И оттого их не тронул ни один слишком ретивый охотник из пешего отряда.
Юн толкнул челнок ногой, прыгнул на ходу и погрёб вперёд. Охотники гнались за стадом, он гнался за охотниками.
Люди уже нагоняли. Они развернулись веером, заходя с левой стороны и стараясь отрезать у стада «нижнюю воду». Юн взял ниже всех и очутился на крайнем фланге. Он замыкал дугу развёрнутого веера.
Минуту или две люди и олени плыли параллельно. И вдруг грянула песня, бодрая песня весенней охоты:
Серые жёны, сдавайтесь, Мы возьмём вашу плоть…– Возьмём, возьмём! – гремел оглушительный хор. И под эти оглушительные звуки конец веера загнулся и встал поперёк оленьего пути. Стадо смешалось, остановилось и превратилось в беспорядочную кучу.
Теперь люди и олени стояли друг против друга и смотрели друг на друга. Но люди слегка подгребали своими длинными вёслами против течения. Олени, сидевшие в воде по шею, были беспомощны. Волны Даданы неудержимо сносили их вниз, прямо на охотников.
Юн быстрым взглядом осмотрел товарищей. Тут были все: Альф Быстроногий, Лиас, искусный в метании копья, Санг – Птичий Коготь, Мар Красивый и Несс, друзья-соперники; двое братьев Семов, одного звали Голодным, а другого Сытым; Илл Бородатый, самый рослый человек во всём племени. Лицо у него было красное, борода огненная. Оттого его звали также Илл – Красный Бык. Его челнок сидел в воде глубже других, зато лопасти весла у него были широкие, как в женских ладьях. Охотники были совсем близко к оленям. Они ясно видели их крепкие груди с белым подгривком, точёные головы, изящные рога и тонкие ноздри, часто дышащие от усталости. Олени глядели им в лицо дико и беспомощно.
«Красивые», – подумал Юн. – «И жирные», – прибавил он мысленно. И при этой мысли в его душе и даже во рту как будто что-то растопилось.
«Так растопился их жир от гонки», – подумал Юн. Он всё загребал вперёд и заводил свой конец дуги кругом стада.
Его челнок уже развернулся носом к южному берегу. И вдруг он издал короткое восклицание. От южного берега выплывал ещё челнок. Он плыл легко и стройно, так быстро и прямо, как будто катился по гладкому льду. Он описал вокруг стада такую же широкую дугу, как раньше Юн, и теперь подъезжал с другой стороны.
Охотники насторожились.
«Чужой», – подумал Юн. Но никто чужой не дерзнул бы вмешаться в охоту Анаков. Кроме того, чужих не было вблизи. Стойбища племени Селонов лежали за десять дней пути, на нижней оленьей тропе через реку Дадану.
Это, действительно, не был чужой. Это был Яррий.
«Непосвящённый», – гневно подумал Юн.
Яррий ещё не прошёл обряда посвящения и потому не имел права выплывать на реку и участвовать в охоте.
«Испортит охоту», – сердито подумал Юн.
Яррий, однако, был далёк от того, чтобы испортить охоту. Челнок у него был новый, из жёлтого луба, очень длинный и узкий. Свежий луб поблёскивал на солнце, как золото. И при каждом ударе двойного весла челнок прыгал вперёд, как будто кузнечик. Яррий скоро подъехал, обогнул Юна и стал левее, немного поодаль. Теперь он замыкал дугу веера. Он взял весло в левую руку, а правой стал снимать копьё. Оно было очень длинное, под стать челноку, длиннее, чем у всех охотников племени.
«Ишь какое копьё», – подумал Юн, – «и когда он сделал?..» «Неблагословенное», – припомнил он тотчас же, – «несчастье будет».
Впрочем, теперь не было времени раздумывать. Ещё минута, и стадо могло разделиться на части и рассыпаться во все стороны. Тогда охота была бы труднее и менее успешна.
Альф Быстроногий решительно ударил веслом, протянул копьё и ткнул навесно в бок ближайшего оленя. Олень мотнул головой, отпрыгнул в сторону и стал биться, захлёбываясь. Через минуту он опрокинулся боком и поплыл вниз по течению, как кожаный мешок с мясом, унесённый с берега приливом.
Сердце у Юна ёкнуло. Олень повернулся на левый бок. Это была дурная примета. И вдруг он вспомнил свои вчерашние речи, буйные слова против скупости богов. Ему стало страшно.
«Дракон, не допусти», – помолился он мысленно. Он ободрял себя тем, что Дракон всё-таки прислал оленей Анакам и, стало быть, не отверг предложенной жертвы.
– Не сердись, Дракон, – сказал он опять. – Воздам сторицею.
Илл бородатый выгреб вперёд и заколол одного за другим матку и двух телят. Удары его весла были спокойные, длинные, ровные. И красное лицо его было тоже спокойно. С таким же точно лицом он, бывало, сбивал палкой осенние яблоки с яблонь, растущих в лесах у Кенайских пещер. И с таким же лицом убил ножом клыкастого вепря на узкой тропинке в густых тростниках по речке Калаве.
Мар Красивый подъехал к стаду вплотную и стал поражать оленей без разбора. Другие охотники держались на прежних местах и старались не давать стаду разбиться на части…
Яррий до сих пор держался поодаль. Он опасался ссоры с другими охотниками. Но теперь он поднял копьё и въехал внутрь стада. Олени бились кругом и каждую минуту могли разбить или опрокинуть его челнок, но он смело вогнал нос челнока в самую гущу стада и втиснул его между двух оленей, плывших рядом. Олени раздались как раз настолько, чтобы очистить место охотнику. Дальше отодвинуться им мешали другие. Дерзкий охотник поставил весло поперёк челнока и даже положил его краями на спины оленей в виде баланса. Олени жмурились от ужаса, но не сопротивлялись. Теперь Яррий стал частью оленьего стада и плыл вместе с ним. Главная внутренняя масса стада даже сжалась теснее. Жёлтый челнок как будто служил ей центром и притягивал оленей к себе.
Об этом приёме рассказывали старики, но уже много лет никто из Анакских охотников не отваживался на такую дерзость. Для того чтобы выполнить её, нужно было иметь прежде всего лёгкое и тонкое тело, такое, чтобы челнок шёл по самому верху и поворачивался быстро. Малейшая неловкость означала потопление челна и гибель охотника, ибо даже хорошему пловцу было бы почти невозможно выплыть на волю из этой массы сжатых тел и бьющих по воде копыт.
Зато теперь Яррий в своём челноке был хозяином стада. Он протянул через головы ближайших оленей своё длинное копьё и быстро закалывал одного за другим по большому кругу вокруг своего челнока. Дальние олени не видели его и не знали, откуда приходит смерть. Он щадил ближайших, только обтачивал стадо на длину копья, как будто колесо. Заколотых уносило течение, другие олени приходили на их место. Река наполнилась трупами и окрасилась кровью. Наконец стадо дрогнуло и разбилось, сначала на две части, потом на четыре. Охотники тоже разбились, въехали внутрь, и началась бойня.
Цепочка мёртвых туш плыла посередине реки. В дикой суматохе этой охоты только они одни были спокойны. Живые олени по большей части не думали о защите. Они покорно принимали удар и гибли молча, как гибнут рыбы, окружённые сетью. Матки протягивали голову перед телом телят, закрывали их собственной грудью и гибли вместе с ними. Только иные бычки помоложе давали отпор. Они оборачивались к челноку и бросались навстречу, прыгали на борт копытами и, наклонив голову, старались поразить охотника рогами в грудь. Но длинное весло давало людям слишком большое преимущество. Одним ударом они отгребали в сторону и подставляли нападавшему смертоносное остриё.
Небольшая часть стада, штук в пятьдесят или немного больше, выбилась наружу из гибельного круга и, не зная, что делать, повернула обратно к южному берегу. Люди, бежавшие по берегу, удвоили крики, потом подняли копья и дротики, готовые исполнить свою часть охоты. Иные из них даже забрались в реку и бежали, расплёскивая воду ногами для того, чтобы встретить оленя как можно раньше, пока движения его ещё связаны водой. И все береговые охотники: зрелые мужчины, и отроки, и старики громко повторяли песню, доносившуюся с реки:
Возьмём вашу плоть, Возьмём вашу плоть!..Шакалы тоже вернулись. Они бежали теперь вверх по течению, искоса поглядывая на копья охотников и остерегаясь подходить слишком близко. Ибо даже в лучшем случае двуногие охотники и их четвероногие нахлебники хранили между собой вооружённый мир.
Олени приблизились к берегу, но, при виде охотников, повернули назад. Теперь они плыли вдоль берега вниз, и люди бежали по берегу параллельно с ними.
Место это было намного ниже Лысого Мыса. Здесь река Дадана делала поворот, и течение отбивало к противоположному берегу. Южный берег стал шире и выпустил длинную песчаную отмель далеко в реку, почти поперёк течения. Олени плыли вперёд прямо на конец отмели. Теперь люди были сзади. Они прибавили ходу, но берег стал вязким и илистым.
Первый олень внезапно обмелел и достал ногами до дна. Седобородый старик, бежавший впереди с дротиком в руке, остановился и измерил глазами расстояние. Но олень был слишком далеко. В два прыжка он добрался до берега, перебежал на другую сторону косы, где почва была твёрже, и ринулся вперёд.
Один из шакалов, самый смелый или самый проворный тоже был впереди. Он сделал прыжок, но острое копыто оленя задело его по голове, и он отлетел в сторону. Олень, как буря, умчался вверх по косогору.
Старик посмотрел ему вслед и погрозил дротиком, но другие олени уже доплывали до берега. Они выбегали на землю, друг за другом, тремя серыми струями, и бросались напролом сквозь стену охотников. Люди поражали их дротиками и копьями, набрасывали им арканы на шею, хватали с берега камни и бросали им в голову.
Шакалы успели схватить злосчастного телёнка, отбежавшего в сторону, потом ещё другого. Они облепили их со всех сторон и рвали живьём на части, не думая о другой добыче.
Рул Отрок, товарищ Яррия, впопыхах не захватил ни копья, ни аркана. Не имея под руками оружия и не желая оставаться без добычи, он бросился на оленя, пробегавшего мимо, и крепко схватил его руками за рога. Это была яловая самка, сильная, с ветвистыми рогами. Яловые самки оленьего стада были похожи на быков резвостью и силой. Анаки называли их Ялама мужеподобная.
Мужеподобная самка мотнула головой, но Рул держался крепко. Ялама закинула голову назад и побежала по косогору, увлекая за собою дерзкого охотника. И вслед за ними раздалось, как будто в напутствие:
Возьмём вашу плоть, Возьмём вашу плоть!..Рул попробовал задержаться ногами за землю, потом за дерево, но Ялама оторвала его без усилия и побежала дальше. Тело его волочилось и билось о кочки и о корни деревьев. К счастью, в этом месте деревья росли редко. В лесной чаще он изодрался бы на смерть или отпустил бы добычу.
Он крепко держался руками за рога и изо всех сил старался пригнуть голову Яламы вниз. Но она была сильнее. И, чувствуя, что добыча ускользает из его рук, Рул потянулся всем телом вперёд, продвинул голову вниз под шею Яламы и впился зубами в её напряжённое горло. Ялама мотнула головой и остановилась. Рул висел на её горле, как белый волк, стискивая зубы. Обеими руками он тянул её голову вниз за рога.
Ялама опять мотнула головой и встала на задние ноги. Ноги Рула тоже встали на землю. С минуту они боролись, потом Ялама ударила его передними копытами в грудь и подмяла под себя. Рул ударился головою о корень; в ушах у него зазвенело, искры посыпались из глаз. Но зубы его не разжимались. Их нельзя было бы разжать даже лезвием копья. Ялама зарыла голову вниз и ударила Рула рогами. Верхние отростки прошли над его головой, но нижний левый отросток, прямой и острый, как копьё, вонзился в его плечо, прошёл насквозь и воткнулся в землю.
Рул тихо застонал сквозь сжатые зубы, ударил ногами раз, другой, потом остался недвижим. Он потерял сознание. Ялама ещё раз мотнула головой, как будто хотела вырвать горло и рог, но вместо этого колени её подогнулись, она тяжело грянулась на землю и придавила Рула. Мёртвое тело добычи лежало поверх омертвелого тела охотника. Лицо его ушло в белый мех её подгрудка, но руки соскользнули с рогов и как будто обнимали её шею. Так они лежали, обнимаясь смертным объятием на зелёном мху приречного леса.
Юн Чёрный заколол уже многих, больше, чем по оленю на каждый палец его рук и ног. Его сердце и его копьё напились первой крови. Теперь им было нужно другое. Он глядел по реке вправо и влево, отыскивая белую тёлку.
Сначала он посмотрел среди трупов. Их было много, они проплывали мимо длинными рядами и цепями. Они были, как стадо, и дорога их шла прямо, как будто направлялась куда-то.
– К жёнам, рыба за рыбой, – сказал Юн. Он имел в виду, чтобы ни один олень не застрял на пути, но прошёл до самого женского стана, без всякой задержки, как рыба.
После этого Юн посмотрел между живыми. Они были теперь рассеяны на огромном пространстве, группами и в одиночку. От берега до берега они наполняли всё блестящее лоно широкой Даданы. Охотники шныряли между ними и кололи, кололи без конца.
На левой стороне, ближе к другому берегу, Юн наконец увидал белую тёлку. Она быстро уплывала, и вместе с нею плыла группа оленей, как будто верная свита.
Юн Чёрный изо всех сил погрёб по тому направлению. Олени судорожно сторонились от него, но он не думал о них и не преследовал их. Только одна молодая самка не посторонилась. Быть может, она чересчур устала от бесконечной гонки. Она остановилась как раз на дороге Юна и посмотрела ему в лицо. Две крупные слезы выкатились из её глаз и канули в реку. Юн Чёрный, почти не глядя, ткнул её копьём в брюхо и поехал дальше.
В это самое время Яррий заколол всех оленей по линии круга, до которых могло достать его длинное копьё. Группа, поддерживавшая его челнок, стала разбиваться.
Надо было выбираться на волю. Он схватил весло левой рукой, бесцеремонно упёрся лопастью в голову левого оленя, одного из двух ближайших, дал сильный толчок назад и выскользнул на волю, как рыба из-под камня.
Он не стал убивать этих последних оленей из чувства благодарности, или, быть может, ему надоели простые олени. Он даже не посмотрел на них и, налегая на весло, погрёб к противоположному берегу. Он тоже заметил странную белую тёлку. Она уходила налево, и ему захотелось овладеть этой редкой добычей.
Оба они, Юн и Яррий, мчались к последней группе оленей, как будто взапуск. Но Яррий был ближе. Он первый стал подъезжать к драгоценной добыче и уже положил правую руку на копьё. Олени плыли к берегу, тревожно оглядываясь. Только белая тёлка не оглядывалась. Он видел её голову и начало спины. Она была снежно-белая, как лебедь, и даже рога у неё были белые, со странными розовыми жилками, как будто из мрамора.
– Не смей! – крикнул Юн сзади. – Не твоя!
Молодой охотник обернулся с удивлением и гневом.
«Сам хочешь?» – спросил он мысленно и смерил глазами фигуру колдуна. Сердце его сжалось от злобы и вместе от ревности.
Он скрипнул зубами и повернулся к добыче. Неожиданно от группы оленей отделился один, по рогам – молодой бык, с коричневой шерстью. Он мотнул головой, как будто бросил вызов, и решительно поплыл навстречу охотнику. Плыл он на редкость легко. Плечи его совсем выходили наружу. При каждом ударе сильных ног показывалась впадина спины и широкий круп, гладко-коричневый, блестящий от воды.
Яррий выгреб вперёд и хотел ударить копьём, но олень сделал резкий прыжок в сторону. Всё туловище его вышло из воды наружу, показались четыре ноги, и светлая полоска пространства блеснула под его брюхом. В ярком блеске полудня тело оленя казалось красным, почти кровавым. «Что он, ободранный, что ли?» – подумал Яррий.
Он вспомнил легенду о Драном Олене, но не ощутил ни страха, ни удивления. Впрочем, у него не было времени думать дальше. Его копьё попало в рога и сломалось пополам. Влажные белки сердитых глаз оленя мелькнули перед Яррием; передние ноги оленя упали на нос челнока и пробили его, как две острые секиры. Яррий выпустил весло и упал в воду, нырнул, потом выплыл и, разводя руками, поплыл вперёд, всё-таки к белой тёлке. Обломки челнока и копья плавали на поверхности.
Теперь молодой охотник был в таких же условиях, как и его добыча. Но он плавал нисколько не хуже, чем звери. И, кроме того, он лучше их понимал, как надо держаться наперерез течения. Через минуту он уже заплыл в группу оленей, подплыл к белой тёлке и положил ей руку на шею.
Другие олени ринулись в стороны. Белая тёлка плыла вперёд. Яррий плыл рядом с ней. Он не нанёс ей удара. Вода кругом него окрасилась в розовый цвет, но это вытекала его собственная кровь. Ибо обломок копья в схватке с коричневым быком отскочил назад и ранил его в грудь. У него кружилась голова, ноги его помертвели и повисли бессильно. Но он крепко держался рукою за шею белой тёлки и вместе с нею подвигался к берегу.
Юн Чёрный тоже подъехал сзади, но слишком поздно, чтобы вмешаться в битву. Он мрачно посмотрел на эту странную группу. Белое тело Яррия точно сливалось с шерстью тёлки. Они плыли рядом к берегу, прижимаясь друг к другу, как брачная чета.
Гнев вспыхнул в сердце колдуна.
«Мальчишка», – подумал он, – «хватает чужое».
Он сжал правой рукой копьё и подумал, что было бы хорошо одним сильным ударом пронзить обоих.
– Тебе, Дракон, – произнёс он короткую молитву и двинулся вперёд.
Коричневый олень, победивший Яррия, неожиданно вернулся. Он не обратил внимания на молодого охотника, который теперь плыл в воде со зверями, но челнок и человек с копьём опять вызвали в нём боевое чувство. Он поплыл навстречу Юну Чёрному точно так же, как и в первый раз. И вместо двух белых жертв Юну пришлось сперва принять эту битву с коричневым врагом.
Юн был осторожнее Яррия. Он сделал притворный выпад копьём, и когда олень отпрыгнул в сторону, он снова гребнул и снова ткнул копьём. Но и олень опять повернулся и прыгнул, как дельфин.
Копьё Юна скользнуло в сторону, но всё-таки вонзилось в оленя и попало в кость лопатки. Наконечник хрустнул. Олень прыгнул ещё раз, копьё сломалось. Только небольшой обломок остался в руках у Юна. Конец этого обломка расщепился, как будто кто расколол его ножом.
Юн бросил обломок на дно челнока и подхватил весло, которое уже собиралось свалиться и уплыть. Впрочем, оно было цело, и челнок не повредился в битве.
Юн посмотрел на Яррия и белую тёлку. Они были далеко, почти у берега. Тут Юн рассердился. Этот проклятый олень вырвал у него из рук двойную добычу и даже копьё.
Его честь требовала расправы с этим дерзким врагом, который, противно обычаю своего рода, первым нападал на человека. Он повернул челнок к оленю и стал искать глазами копьё. Оно выскочило из раны и плавало на воде. Юн осторожно подплыл, не спуская глаз с врага, и подобрал копьё. Но оказалось, что оно больше не годилось для охоты. Костяной наконечник был сломан пополам. Теперь это было не копьё, а обломок палки. Юн был безоружен и не мог напасть на оленя. Олень, впрочем, тоже не думал о нападении. Теперь он сидел в воде глубже прежнего и плыл медленнее. Опытный глаз Юна заметил красные струйки в воде у его левой лопатки. Это была кровь, вытекавшая из раны.
Юн стал щупать руками пояс, но не нашёл ни ножа, ни поясного мешка. Он, должно быть, обронил их во время последнего стремительного бега к тростникам, на место засады, под Лысый Мыс. Он на минуту нахмурился, потом немного подумал и достал осторожно со дна челнока первый короткий обломок копейного древка. Он ещё раз внимательно осмотрел его, потом поднёс ко рту и расщепил зубами. Один из расщепов был острый и гладкий, как осколок кости.
Олень уплывал вперёд смирно и грузно.
– Не уйдёшь, – сказал Юн.
С решительным видом он ударил веслом, догнал оленя и подъехал вплотную к его рогатой голове. Олень сделал движение, как будто хотел прыгнуть, но уже не мог.
– Теперь не можешь, – сказал Юн с насмешкой.
Он схватил оленя левой рукой за рога, а правую, вооружённую осколком копейного древка, как будто кинжалом, вытянул вниз, опустил в воду и нащупал то место оленьего тела, где было сердце. Юн двинул рукой, и осколок вошёл. Юн нажимал ладонью, и дерево шло всё глубже и глубже, как будто копьё. Потом Юн сломал осколок и оставил его в ране.
– Тебе, Дракон, – сказал он. – Чёрного за белого. Прими…
Он достал верёвку со дна челнока, накинул на рога, укрепил и повёл тело на буксире к близкому берегу. Ибо это была жертва, а не часть добычи, и её нельзя было отпускать вниз по течению.
Они были уже на два поворота ниже Лысого Мыса и далеко впереди, на виду у всех стали выплывать ладьи, широкие, медленноходные, но зато поднимавшие много груза. Это шли женщины подбирать добычу. Нужно было вернуться, чтобы не встретиться с ними на водяном поле.
Через две минуты Юн догрёб до берега, вытащил оленя на песок. Он перерезал ему горло ножом, чтобы выпустить дух жизни, и положил его на землю головой на полночь. Олени, доплывшие до этого берега, давно исчезли. На перестрел копья лежало не песке белое тело. Это было тело Яррия Ловца. Его рана, омытая водою, перестала сочиться. Он был в сознании, но до того обессилел, что не мог подняться.
Белой тёлки нигде не было видно. Она не стала медлить и убежала вместе с другими.
Глава 4
Ронта шла по тропинке мимо ручья Калава, в густых камышах. Камыши были высокие, прямые, гибкие, как зелёные копья. Их острые верхушки поднимались выше её головы. Тропинка была узкая и глубоко втоптанная в землю. Её проложили кабаны, продираясь сквозь эту чащу. С обоих боков смыкались две плотные, зелёные стены. Даже в глазах становилось черно, если взглянуть сквозь частые стебли налево или направо. Оттого Анаки называли эти камыши чёрными камышами.
Но вверху над камышами сияло ясное небо и яркое солнце. Оно катилось по небу – большое, пламенное. Лето было в разгаре, и солнце было в зените. Ронта шла вперёд упругими шагами. Это была не та весенняя Ронта, а новая, иная. Две луны закатились после весенней охоты. С тех пор у Анаков было вдоволь пищи. В мешках лежал сушёный жир и в ямах под дёрном сырое мясо. На речных островах были птичьи яйца. Зайцы и белки вышли на опушку из леса. Дикие гуси часто попадались под удар «плоского дерева». Много было также пищи волокнистой, растущей из земли. Корни полевой репы наливались вкусным соком, поспели ягоды и земляные орехи. Мелкие дикие яблоки тоже почти созрели в оврагах у ручьёв.
Анаки вышли на эти широкие степи, окружавшие Калаву, совершая свой обычный путь. Здесь они должны были устроить большую охоту на диких лошадей. Мясо лошадей, хотя и уступает оленьему, но зато его больше. Однако, охотиться за ними труднее, ибо лошади зорки и видят далеко, и убегают, как ветер. В крайности они жестоко дерутся.
«Злая лошадь хуже медведя», – говорит пословица.
После охоты Анаки должны были подняться в предгорья к тем пещерам, где они проводили зиму. В пещерах было сухо, не было ветра и снега. Удобнее этого места не было на свете.
За это изобильное время все Анаки отъелись, потолстели и повеселели. У Ронты тоже тело сделалось глаже и крепче. Она только что выкупалась, и влажная кожа её блестела на солнце. Плечи её остались костлявы, и груди чуть распустились. Но старая Исса похвалила её чрево.
– Хорошо будет благословить это чрево, – сказала она с странной усмешкой. Ронте сделалось страшно. Женский обряд посвящения имел тайные подробности, и о нём передавались между подростками невероятные рассказы.
Для подростков и для детей лето было, как нескончаемый праздник. С раннего утра они забирали кусок сушёного мяса и уходили из дома. Они не возвращались в лагерь по два и по три дня, и никто не беспокоился о них. В эту пору под каждым кустом был готов ночлег и ужин. Даже дикие звери не были страшны. Пищи было много и для них, и не было нужды нападать на людей. Почти все они успели узнать, кто самый сильный, и без крайней надобности не решались на враждебные действия.
Ронта шла вперёд по узкой тропинке. Над её головой жужжал и вился толкун мошкары. В ярких лучах полудня мошки мелькали и носились, как золотые пылинки. Эти золотые мошки не жалили и не кусались. Оттого солнце позволяло им летать в полдень. Тем же, которые пили кровь, оно высушивало крылья и заставляло их прятаться в траву и ждать вечерней прохлады. Золотые мошки мелькали кругом, как искры, и толклись, и пели яркому солнцу свою благодарность. Голос у них был тихий и тонкий: – Ззз…
Ронта остановилась и прислушалась, но она не могла разобрать, что поют мошки.
С левой стороны тихо смеялась Калава, пробираясь между древесными корнями.
«Калава темноволосая», – подумала Ронта.
Дно у Калавы было мшистое, тёмное. Она не несла водяных кудрей, её струистые волосы ложились вдоль хребта прямыми полосами.
Тростники тоже пели. Когда порыв ветерка пробегал по верхушкам, они гнулись и гудели. Голос у них был низкий, густой: – Ввв…
Ронта прислушалась. Голос мошек и голос камышей сливались вместе в одну стройную песню. И теперь Ронта разобрала напев и даже слова.
– Солнце, жги! – жужжали мошки и пели камыши.
Это был припев брачного гимна. Юноши и девы, ещё непосвящённые, не имели права петь этот гимн. Но припев повторялся в десятках различных песен, детских и девичьих, весенних и жатвенных, когда жёны Анаков собирали колосья на диких полях у верховьев Калавы. Все Анаки чтили солнце, но каждый певец вкладывал в его хвалу особый смысл.
– Солнце, жги! – пели камыши. И солнце жгло.
Ронта подняла глаза и лицо к небу.
– Солнце – Отец, – сказала она.
Калава опять засмеялась, протекая мимо. И смех у неё был тихий, лукавый. Ронте представилось, будто она прячет лицо под корнями и выглядывает украдкой и, прикрывая рот рукою, смеётся втихомолку.
«Чему ты смеёшься?» – чуть не спросила она.
И, как бы в ответ, сквозь камышовую чащу донёсся новый звук.
То был голос камышовой свирели. Она пела, словно выговаривала:
– Тиу, тиу, тиу… Солнце, жги!
В густых камышах жили Камышовые боги. Они были белые, статные, носили зелёный венок на голове и тростинку в руках, как символ владычества. Ей пришло в голову, что кто-нибудь из них забавляется с тростинкой.
– Посмотреть бы его, – сказала она и пошла вперёд.
Калава сделала внезапный поворот и отошла вправо. Камыши оборвались. Тропинка вышла из чащи на прибрежную поляну. Ронта осмотрелась, но бога нигде не было. Вместо бога на камне у воды сидел Дило Горбун. Он срезал камышинку, сделал из неё свирель и, прижимая её к губам, выпевал протяжно: «Тиу, тиу, тиу…»
– Это ты поёшь? – сказала Ронта с невольным разочарованием.
– Я, я! – пропел Дило.
– Я думала: Камышовый поёт, – сказала Ронта наивно.
– Ага, – сказал Дило:
Русая грива, золотое лицо, Вот мы приносим тебе мяса.Это была молитва Камышовому богу, которую пели дети перед ловлей гольцов в тёмных водах Калавы.
Ронта улыбнулась и кивнула головой.
Дило опять взялся за флейту.
– Это я пою, я, Дило… Фиу, фиу, фиу… А ты знаешь, что я пою?
Ронта покачала головой.
– Как я могу знать, что поют мальчики? – сказала она.
– Не знаешь теперь, узнаешь осенью, – сказал Дило и дерзко улыбнулся.
Ронта вспыхнула и отступила.
Со дня рождения до самого обряда посвящения дети не знали ничего о любви. Они не имели права присутствовать на осеннем празднике, а потом, в зимнее время, об этом не говорилось. Летом взрослые начинали думать об осенней встрече и постепенно разгорались, но дети вместо того думали о связанных с ней обрядах. О них тоже знали не все, и они казались странными и таинственными.
– Я всё знаю, – смеялся Дило, – я видел…
– Не называй запрещённого, – сердито сказала Ронта.
– Тиу, тиу, тиу, – пропел Дило вместо ответа на своей камышинке. – У Дило золотая голова и золотые руки. Посмотри, что я сделал.
Он вынул из-за пояса коротенький кремнёвый резец, молоток без ручки и кусочек белой кости, обточенной в виде звериной фигурки.
– Что это такое? – спросила Ронта, заинтересованная.
– Это Помощник, Мясная Гора, – сказал Дило.
Мамонт Сса – Зверь-Гора, или Мясная Гора – считался помощником Отца в созидании вселенной. Отец утвердил землю и развернул над нею небо, как плащ, а Сса Помощник усыпал его звёздами по широкому полю, прорезал реки, выкопал озёра и моря, раздвинул горы для прохода.
Дило утвердил свою костяную игрушку между пальцами левой руки и, тихо жужжа, принялся обтачивать её своим резцом.
Жужжание его было всё то же: «Тиу, тиу, солнце, жги…»
Ронта присела рядом и стала рассматривать костяную поделку.
– А зачем же у него ноги сведены? – полюбопытствовала она. Все четыре ноги костяного мамонта, действительно, были сведены вместе.
– Этот Сса в беде, – сказал Дило, – в яме.
Ронта нахмурилась.
– Это опять запрещённое, – сказала она.
Анаки, действительно, рыли для мамонтов ямы. Несмотря на всё почтение к этому страшному зверю, помощнику Отца, овладеть им было слишком соблазнительно. Недаром его звали Мясная Гора.
Однако напоминать страшному Сса о его беде было почти кощунством.
– Ничего, – сказал мальчик загадочным тоном, – люди сильнее…
Он продолжал работать над игрушкой лёгкими и точными движениями. И понемногу Ронта придвинулась совсем близко и так засмотрелась, что забыла все запреты. Искусство Дило было велико. Тело мамонта, высокая голова и круглый хобот выходили из-под его резца, как будто живые. Даже маленькие глазки Сса он наметил с обеих сторон своим волшебным резцом.
Потом он отложил в сторону резец и поднёс к лицу Ронты свою костяную игрушку.
– Нравится тебе? – спросил он. – А хочешь, я и тебя сделаю? Есть у меня кость, такая белая… – протянул мальчик, – как твоё тело. – И он ткнул пальцем в стройный бок девушки. – А ты поправилась, отъелась, прибавил он тотчас же. – И груди налились. – Рука его дерзко скользнула на грудь девушки.
Ронта вскрикнула и ударила его по руке. Но Дило не обиделся. Он посмотрел на Ронту блестящими глазами.
– А знаешь, – сказал он, – я, быть может, ещё и пойду в терновую рощу вместе с Яррием.
Ронта посмотрела на него с упрёком.
– Яррий кормил тебя, – напомнила она.
Лицо Дило тотчас же изменило выражение.
– Правда, – сказал он, – и ты тоже кормила. Когда Дило был голоден. Ты моя мама, – прибавил он тотчас же. В его голосе звучала признательность.
Ронта задумалась. Слова Дило привели ей на память отсутствующего друга.
Дило посмотрел на неё, и лицо его оживилось.
– Хочешь видеть его? – спросил он неожиданно.
– Его, – повторила Ронта, как эхо. – Кого его?
– Его, Камышового духа, – лукаво объяснил Дило. – Ты ведь на голос пришла к Камышовому духу.
– А ты видел его? – спросила Ронта недоверчиво.
– Дило всё видел, – сказал Горбун. – Идём со мною. Я покажу тебе.
Они перешли Калаву вброд. Вода доходила им до плеч, и Ронта высоко подняла над головой поясной мешок, чтобы не замочить его. Но у Дило не было мешка. Он завернул свой резец и костяную игрушку в широкий зелёный лист, сунул за пояс и даже не стал оберегать их от воды.
– Небось, они не размокнут, – сказал он.
На другом берегу Калавы был буковый лес. Кабанья тропа пропадала и снова появлялась. Горбун катился впереди на своих кривых ногах ловчее, чем можно было ожидать. В густом кустарнике он падал на руки и полз, как зверь, «на всех четырёх костях», как говорили о нём другие мальчишки. Руки у Дило были крепче, чем ноги. Когда он полз на четвереньках, он был похож на барсука, короткого, приземистого, с горбатой спиной. Они миновали буковый лес и добрались до Сарны. Сарна была дочь Калавы и резво бежала навстречу матери. Они перешли её по камням; она весело смеялась и щекотала им ноги.
На другом берегу Сарны было поле диких колосьев. Эти колосья уже пожелтели. Они срывали их по пути и стряхивали себе в рот. Спелые зёрна хрустели и скрипели под зубами. Нижние, мягкие, сочились белым соком.
Резвая Сарна обежала кругом поля и снова призывала их со смехом на свои гладкие камни. В этом месте её берега стали выше. Сарна подмыла высокий обрыв, и он навис над водой, но ещё держался корнями кустов, которые росли наверху.
– Вот он, – сказал неожиданно Дило, – смотри.
На самом краю обрыва стояла фигура. Она ярко вырезывалась на синем безоблачном небе. Она была высокая, стройная. На голове у неё была русая грива. И лицо было загорелое. Под солнечным лучом оно пылало и казалось золотым.
– Это Камышовый? – спросила Ронта недоверчиво и тотчас же узнала и радостно крикнула: – Яррий!
Яррий быстро обернулся и увидел своих друзей из женского лагеря. Он бесстрашно шагнул на самый край обрыва.
– Ронта! – окликнул он. Одну минуту он хотел даже спрыгнуть вниз, но потом передумал, побежал в левую сторону и исчез из глаз, но скоро опять появился уже внизу, на правом берегу.
– Ронта! – повторил он радостно, подбегая к девушке. Они положили друг другу руки на плечи и потёрлись щека о щёку. Таково было приветствие Анаков при встрече.
Ронта с восхищением смотрела на своего друга. За эти несколько лун он сильно изменился, и недаром она не узнала его сразу. Яррий вырос почти на ладонь человека и раздался в плечах.
«Это мужская удача», – подумала Ронта.
Когда он ушёл по весенней дороге с мужчинами, он был ещё мальчиком. А теперь это был уже не мальчик, а воин. Даже глаза его смотрели иначе. На шее у него появился длинный белый шрам.
– Очень болело? – спросила Ронта, дотрагиваясь до шрама рукою.
– Ничего… – улыбнулся Яррий. – Белая тёлка занозила мне шею. У Рула дольше болело. Спанда сказал…
– А где Рул? – перебил Дило, который тем временем развязал сумку на поясе Яррия и бесцеремонно достал оттуда несколько тёмных кусочков сушёного мяса. В летнее время Горбун был прожорлив, как крыса.
– Рул там… – Яррий сделал неопределённый жест рукой.
– Где там?
– Там, в лесу.
– Мы пойдём посмотрим на него, – сказал Дило.
Яррий покачал головой:
– Не надо трогать его. Он спит.
Дило с любопытством поднял вверх свою подвижную мордочку, но тотчас же вспомнил другое и перешёл на новую тему.
– Скажите, когда вы пойдёте в терновую рощу?..
В терновой роще производился обряд посвящения юношей. Их подвергали предварительному испытанию голодом, бессонницей и жестокому сечению терновыми прутьями. После этого они принимали племенной обет. Обряд заканчивался торжественным заклинанием, которое превращало отрока в мужа и делало его правоспособным к браку.
– Я тоже пошёл бы, – сказал Дило не совсем уверенно.
Яррий нахмурился.
– Я, быть может, не пойду в терновую рощу, – сказал он после короткого колебания.
– Как? – в один голос воскликнули Ронта и Дило.
– Юн отвергает меня, – сказал Яррий.
– За что? – быстро спросила Ронта.
В женском лагере слыхали в общих чертах о приключениях Рула и Яррия, но не знали ничего о недовольстве колдунов.
Яррий покачал головой.
– Спанда говорит, что я слишком много убил оленей.
– Слишком много оленей? – повторила Ронта с недоумением.
– Без посвящения, – объяснил Яррий с угрюмой улыбкой. – Юн грозится: «Зачем же он ходил убивать? Его самого надо убить». А Спанда говорит: «Убить нельзя. Я лечил его и Рула вместе. Их кровь смешалась».
Настало тяжёлое молчание.
– Зачем же ты пошёл? – спросила наконец Ронта. – Не подождал до осени.
Яррий тряхнул головой.
– Меня зовут Ловец, – сказал он просто. – Чего мне ждать? Сердце не стерпело.
Ронта опять положила ему руку на шею. Она заметила, что кроме белого шрама на этой крепкой бронзовой шее не было ничего больше.
– Где твой хранитель? – спросила она.
Анаки носили на шее кожаную ладанку, в которой была зашита маленькая деревянная фигурка, попросту даже раздвоенный сучок. Эта ладанка надевалась младенцу на шею при наречении имени, и сучок считался ангелом-хранителем своего владельца.
– Я потерял его в реке, – сказал Яррий неохотно.
– Худой знак, – сказала Ронта, хватаясь рукой за мешочек на собственной груди.
Яррий в виде ответа только пожал плечами.
– Он маленький, а я большой, – сказал он, помолчав. – Кто же кого охраняет?
– Грех, – сказала Ронта с упрёком. – Духи услышат.
– Где духи? – упрямо возразил Яррий. – Я их не вижу.
– Где духи?.. – Ронта посмотрела на него с новым удивлением. – Везде, кругом. В воде, в камышах, в пространстве. Везде духи и везде боги.
– Пусть же они придут, – сказал Яррий. – Я ходил в лесах и в камышах, днём и ночью, и звал их. Никто не приходил.
Ронта посмотрела на него со страхом и недоумением.
– Старые люди говорят, – начала она снова.
Яррий тряхнул головою и перебил её.
– Да, я знаю, что говорят старые люди: «Надо пресмыкаться перед богами, кланяться в землю. Трепетать и покоряться. Пищу им давать, чтоб самого не съели. Защитников искать». – Пусть они приходят, – повторил он, как прежде. Глаза его сверкали странным блеском. Он закинул голову назад и стал как будто выше.
Дило радостно хихикнул. Дерзкая речь Яррия, видимо, доставляла ему величайшее наслаждение.
– Я ненавижу их обряды, – пылко говорил Яррий. – Розги Спанды коснутся моего тела? Зачем? Не бывать этому! Уйду я от них.
– Куда? – спросила Ронта.
Яррий широко повёл рукою.
– На свете места много. Я один буду жить на вольных полях.
– А мы как? – сказала Ронта огорчённым тоном. – Мы больше тебя не увидим…
– Всё равно и так не много видите, – сказал Яррий. Брачные обычаи племени Анаков, видимо, тоже не удостаивались его одобрения.
Ронта посмотрела кругом. Дило не было видно. Он уполз в сторону в погоне за ящерицей. Она опять положила руку на плечо юноши.
– Яррий, останься!
Её детский голосок звучал просительно и наивно.
– Зачем? – сказал Яррий.
– Я хочу плясать с тобою на празднике солнца, – сказала она.
Яррий молчал.
– Страшно, должно быть, там, – сказала Ронта. – Мужчины с бородами. Мне будет страшно плясать с ними без тебя.
– Да, – подтвердил Яррий. – Илл Бородатый. У него борода огненная. Под ним челнок садится в воду глубже всех. Но на бегу он медлен.
– Я боюсь его, – сказала Ронта.
Яррий загадочно улыбнулся.
– Он не боится тебя. Мужчины с бородами любят девушек помоложе.
– У!.. – Ронта даже головой замотала от страха и отвращения. – Яррий, не уходи, – сказала она почти со слезами и даже схватила его за руку, как будто опасаясь, что он тотчас же исчезнет.
Лицо Яррия смягчилось.
– Если они ничего не скажут, – проворчал он неохотно, – я тоже не стану говорить. – Это было полусогласие на возможный мир с племенем и его обрядами. – Ну, теперь я пойду, – сказал Яррий. – Вечер близко. Рул ждёт меня.
– Зачем тебе Рул? – спросила Ронта и даже брови сдвинула.
– Рул – брат мой, нас соединила кровь, – сказал Яррий.
Он вынул свою руку из пальцев Ронты и ласково провёл ладонью по волосам девушки.
– Я приду, – сказал он. – Теперь не ищи меня. Я сам найду тебя. Где бы ты ни была, в лесу или в лагере, я найду и вызову тебя. Вот так…
Он свистнул тихо и жалобно, подражая призывному крику Шиана, самца пёстрой совы: – Угу!..
Ронта откликнулась ответом маленькой самки Шианы: – Угу!..
– Прощай, я ухожу! – крикнул Яррий.
Он свистнул опять, но уже по-иному, громко, пронзительно, упёрся древком копья в землю, сделал неожиданно огромный прыжок в сторону и побежал вдоль берега. Ронта смотрела ему вслед. Через минуту он исчез за поворотом. Потом раздался плеск воды. Это он наступил резвой Сарне ногой на шею. Высокая фигура его снова показалась вверху над обрывом. Он приветственно махнул копьём Ронте и пропал в чаще.
Час, и другой, и третий Яррий бежал полями и лесами. Он перебегал болота с кочки на кочку, не оступаясь, как молодой олень. Он переползал в густой чаще, как змея или призрак, и сзади его не оставалось следов.
Солнце закатилось, первые смутные тени упали на землю, когда он нашёл своего друга. Это было в последнем лесу перед мужским лагерем. Здесь все деревья были редкими, высокими и тенистыми, а земля под ними была ровная, твёрдая, так что ноги отскакивали упруго на каждом шагу. Рул лежал под деревом, уронив голову на руки. Он как будто спал и не слышал шагов. Яррий окликнул его по имени. Рул поднял голову и мутными глазами посмотрел на товарища.
– Неможется тебе? – спросил Яррий заботливо.
Рул покачал головой.
– Зачем ты столько спишь?
Рул посмотрел на него странным и жалобным взглядом.
– Она заставляет меня.
– Кто заставляет?
– Ты знаешь, кто: она, Мужеподобная…
Он неожиданно вскочил, протянул руки вперёд и запел высоким, чистым, горловым напевом:
У ней четыре ноги и два тела, Одно тело женское, другое мужское. Она кивает мне ножами рогов своих: «Спи, Рул, только во сне я могу посещать тебя!»– Пустое, – сказал Яррий. – Её давно съели Горбун Дило, моя сестра Яррия и другие.
Лицо Рула исказилось от яростного гнева. Он погрозил Яррию кулаком:
– Будьте вы прокляты, если съели её!.. Ах, что она говорит, прибавил он без всякого перехода, подходя к Яррию и кладя ему руку на плечо. – Мне стыдно сказать, – шепнул Рул и положил голову на грудь товарищу, как женщина.
– Тебе кажется, – сказал Яррий, упорствуя в своём неверии.
– Она велит мне: «прими другое тело», – шепнул Рул.
– Как? – переспросил Яррий, не расслышав.
– Новое тело, – повторил Рул.
Он посмотрел на Яррия отчаянными глазами.
– Вот она зовёт, – сказал он, прислушиваясь, и тотчас же хоркнул сам два раза по-оленьему. – Это её голос. Но я не хочу идти за ней. Я борюсь.
Он поискал руками кругом себя, как будто ища, за что бы ухватиться. Лицо его выразило крайнее напряжение. Даже пот проступил мелкими каплями на лбу и на висках. Яррий с некоторым ужасом заметил, что капли эти были красного цвета.
– Что с тобою? – спросил он с тревогой. – Разве твоя рана раскрывается?
– Душа моя раскрывается, – сказал Рул. – Жарко мне до кровавого пота.
Это был кровавый пот начинающих колдунов, когда они противятся велению духов.
– Как я пойду в терновую рощу?! – заговорил Рул снова. – Она велит другое: «Плащ твой собственный брачный прими из чужих рук. Пляши с мужчиной…»
– Мерзость, – сказал Яррий с отвращением. Он понял наконец смысл таинственных велений Мужеподобной Яламы. – Это Юн тебя учит…
Но Рул не слышал.
– «Я сделаю тебя великим колдуном, дам ход подземный и полёт воздушный», – продолжал он перечислять обещания призрака. – «Не то убью. Резала тебя, недорезала. Теперь дорежу».
По повелению духов и старших колдунов, иные из юношей отрекались от своего пола и уподоблялись женщинам. Такие потом получали великий дар волшебства. Именно на этот путь Чёрный Юн и убитая Ялама толкали отрока Рула.
Рул задрожал и опять сел на землю.
– Пойдём домой, – сказал решительно Яррий. – Надо тебе сегодня спать у костра с друзьями.
Рул упирался, но он взял его за руку и повёл с собою сквозь тёмный лес, туда, где среди развешанного мяса горел костёр и сидели колдуны и охотники, – Юн Чёрный и Спанда Мудрый, Илл Бородатый и многие другие…
Месяц был на исходе. Ронта и Яррий встретились ещё раз; мужской лагерь переместился и подвинулся к женскому. Он находился теперь на берегу Калавы пониже устья Сарны. Он был устроен чрезвычайно просто. Большой костёр, на котором охотники жарили пищу, беспорядочная груда сухих сучьев для топлива и в разных местах кучки зелёных ветвей для постелей. Не было даже навесов от дождя, ибо мужчины не строили крова весною и летом.
У костра никого не было. Огонь тлел тихо, объедая две здоровенные колоды, положенные накрест. Только запасное копейное древко, прислонённое к дереву, да длинный аркан, сплетённый из тонких ремней, говорили о том, что это стойбище не было покинуто людьми.
Анаки, впрочем, были близко. Они собрались все вместе внизу у воды и образовали круг. Перед кругом стояли два колдуна, светлый – справа и тёмный – слева, а между ними стоял Яррий. Чёрный Юн исполнил свою угрозу и привлёк дерзкого Ловца к суду племени.
Все охотники держали в руках копья. Даже подсудимый являлся на сход с копьём. Воина можно было лишить жизни, но никак не оружия. Анака, убитого в таком судебном кругу, выносили оттуда с копьём в руке и клали на поле. И Яррий, хотя и непосвящённый, тоже пришёл с копьём. Анаки встретили его угрюмыми взглядами, но не сказали ни слова.
Только Спанда и Юн не имели оружия. Они были вооружены словом своим, которое ранило больнее копья. На лице Чёрного Юна было написано злое ожидание. Спанда был высокий, с седой бородой старик, тот самый, который во время весенней охоты первый встретил оленей, выбегавших на берег. Глаза у него были спокойные, слегка насмешливые.
Сход только что собрался, но все молчали. Молчал и подсудимый.
– Говори, Яррий, – обратился к нему Спанда, впрочем, без суровости.
– Вы сами говорите, – неохотно проворчал Яррий.
– Ты отнял у бога живую добычу, – сказал Юн глухо и с гневом.
Яррий посмотрел на него исподлобья, но не сказал ничего.
– Говори, Яррий, – снова сказал Спанда.
– Если отнял у бога, зато дал Анакам, – сказал Яррий. – Это моё копьё перекололо полстада.
Юн посмотрел на него ядовитым взглядом, потом обратился к племени.
– Если непосвящённые мальчишки будут оленей убивать, – сказал он, то что же останется взрослым?
Яррий ничего не сказал, но щёки его покраснели и глаза вспыхнули.
– Ты отнял у бога живую добычу, – повторил Юн.
– Не у тебя ли отнял? – возразил Яррий дерзко. – У твоего короткого копья?..
– Лжёшь! – вскрикнул Юн запальчиво. – Я видел тебя в воде. Четвероногий олень ехал на твоей спине.
– Рука моя лежала на шее белой телицы. Мы плыли рядом, как муж и жена…
Они стояли лицом к лицу и смотрели друг другу в глаза. Оба они были одного роста, статные и сильные. Только у Юна глаза и волосы были чёрные, а у Яррия глаза были серые, а волосы русые.
– Бродяга, – прошипел Юн, – знаешь ли ты, что такое бог?
Яррий ответил ему презрительным взглядом.
– А ты знаешь? – спросил он неожиданно.
– Постой, – вмешался Спанда. – Мы спрашиваем о боге у тебя, не у Юна. Скажи нам, где твой бог?
Яррий поднял копьё и с силой опустил его на землю.
– Вот мой бог, – сказал он резко.
– Слышите, Анаки! – воскликнул Юн с ужасом. И Анаки отозвались гневным ропотом. Яррий нахмурил брови и крепко опёрся рукою на копьё.
Спанда слегка пожал плечами и сказал спокойно:
– Какой же это бог? Это – древко.
Яррий молчал.
– Или нет на земле иного бога, сильней, чем копьё твоё? – продолжал Спанда. – Зачем ты молчишь? Стыдишься говорить?
– Чего мне стыдиться? – сказал Яррий угрюмо. – Нет на земле иного бога, кроме Анака. Сса – Зверь-Гора и Полосатый Тигр подвластны нам. Горы и долы, леса и поля, всё это наше.
Странно прозвучали эти гордые слова перед лицом враждебного круга воинов. Анаки сердито ворчали. Им нисколько не льстило считаться земными богами во устранение небесных.
– Ещё что? – опять спросил Спанда с явным любопытством.
– Реки поят нас, а дубрава кормит, – продолжал Яррий, – звёзды любуются нами. Ясное солнце светит для нас…
В голосе его звучало волнение.
– Молчи ты, – отозвался тотчас же Спанда. – Про солнце мы сами знаем.
– Я стану говорить, – сказал Юн, – мой бог требует жертвы.
– Какой жертвы? – спросил Спанда так же спокойно.
– Замены, – сказал Юн, – жертвы живой, вон той…
Он указал пальцем на юношу.
Спанда пожал плечами.
– Мы, Анаки, не шакалы, друг друга не едим.
– Мой бог ест, – упрямо повторил Юн. – Бог белый, Месяц.
– Солнце – бог красный, – сказал Спанда. – Твой бог – Луна.
Юн посмотрел на него с ненавистью. Противоположность этих двух слов: Месяц, Луна, выражали всю противоположность двух преданий.
– Лунный бог создал небо и землю, – сказал Юн мрачно.
– Когда это было? – спросил Спанда с насмешкой.
– Солнце было женой ему и Анаки детьми.
– Солнце – отец наш, – сказал Спанда. И все Анаки повторили: – Солнце – Отец.
– Лунная вера – старая вера, – сказал Юн. – Первые люди с вороньей головой, истребители падали, они были детьми Дракона.
– Я старик, – сказал Спанда, – и дед мой был старик. Он всегда говорил, что мы – дети солнца.
– Довольно! – крикнул Юн. – Мой бог требует крови.
– Летнее солнце не любит крови, – сказал Спанда.
– Мой бог пошлёт на вас месть, – с зубами крысьими. Не дайте видеть его белому глазу лицо оскорбителя!..
– Что ты скажешь, Яррий? – спросил Спанда.
Яррий опять посмотрел на Юна.
– Белого бога не вижу, вижу Чёрного Юна. Пусть возьмёт копьё и заступится за своего бога.
Юн бросил ему уничтожающий взгляд.
– Даже ножа обрезального не хочу я поднять на такого, как ты.
– Что скажете, Анаки? – спросил Спанда, обращаясь к племени.
Анаки молчали. Потом Илл, Красный Бык, повернул лицо к юноше и сказал коротко и веско: «Уйди!»
– Правда, – загалдели Анаки. – Уйди от нас. Собственной силой живи. Странствуй один.
– Верно вы рассудили, Анаки, – сказал Спанда. – Летнее солнце – кроткое солнце. Лунный бог – страшный бог. Пусть мстит ему одному без нас. Что ты скажешь, Яррий?
– Я уйду, – сказал Яррий отрывисто.
– Теперь слушай и помни, – сказал Спанда строго, – воды нашей не пей, не грейся у огня, будь нам чужим, другого племени, без нашего бога, без нашего кладбища.
– Уйду! – крикнул Яррий. – А вы, будьте вы…
Он не докончил проклятия, только схватил копьё и погрозил им Анакам. Потом повернулся и быстрыми шагами ушёл влево по берегу Калавы.
Глава 5
В кленовой роще ночью сидели подруги: Ронта, Илеиль и высокая Яррия, и ещё две, Элла Большая и Элла Певучая. Певучая Элла была старшей сестрой черноволосой Милки. Её называли также Элла Сорока. Она была маленькая, круглая, как будто комочек. Волосы у неё были коротенькие, в кудрях. Они стояли над её головой, как запутанное облако.
Эллу звали Певучей за то, что она пела целый день. Что бы на глаза ни попало, как бы оно быстро ни промелькнуло мимо, песня Эллы являлась ещё быстрее и выливалась, как щебет. Элла пела о камне, который подвернулся под ноги, о стаде быков, которое попалось мужчинам, или о драке двух девчонок, которые поссорились из-за цветной раковины. Но если песня ей нравилась, она готова была повторять её с утра до вечера. Оттого её звали также Элла Сорока.
Подруги сидели в кленовой роще у костра и ждали утра. Это была последняя ночь перед обрядом. Они не могли спать: им было жутко. На другом конце рощи были обе старухи, Лото и Исса. Лото должна была исполнить первую часть обряда, белую, дневную. Исса должна была исполнить вторую часть, ночную, тёмную. Лото сидела одна у особого костра и варила в глиняной плошке пахучие травы. Иссы не было видно, она скрывалась в темноте. И всё, что ей было нужно, – травы и притирания, она давно сварила и приготовила, хотя никто не видел, когда и как. Иссы и её притираний боялись подруги.
Согласно обычаю, другие женщины в эту ночь не могли присутствовать в роще… Они должны были явиться утром и принять участие в обряде посвящения. Но вместе с испытуемыми сидела взрослая помощница, Аса-Без-Зуба.
Девочки перестали шептаться, – им стало скучно. Костёр был маленький, в тихом воздухе безветренной ночи огонёк горел тонкою алою струйкою. Илеиль подняла свою русую голову и сказала:
– Спой песню, Элла.
Элла сидела по другую сторону костра; она посмотрела на подругу, и тонкое прыгающее пламя отразилось на минуту в её сверкающих зрачках.
– Песню? Хорошо.
Пять трясогузок, все дуры, сидели под листьями клёна, Нахохлившись, как в дождь. Ястреб сказал: «Я вас замуж возьму, Ощиплю вас до пёрышка…»– Страшно, – вздохнула Ронта и боязливо поглядела в темноту.
– Чего страшно? – спросила Элла задорно из-за костра.
– Иссы страшно и тех… – сказала Ронта и указала глазами в ту сторону, где был мужской лагерь.
– О, тех!.. Об Иссе я не знаю и знать не хочу. Но я знаю, что те сделают с нами…
Пять трясогузок…– Молчи, молчи… – зашикали на неё подруги со всех сторон.
Говорить о мужчинах в связи с тем, что относилось к браку, считалось неприличным даже для взрослых женщин во всю первую половину года, вплоть до осеннего обряда. Если иные и думали о своих друзьях, то они молчали об этом.
– Ушла бы я на край света, – сказала Ронта тихо.
– Куда ты уйдёшь? – сурово возразила высокая Яррия. – Бродяги уходят, но женщин-бродяг не бывает.
– Все уходят, – сказала задумчиво Ронта. – Время проходит, и они уходят и никогда не возвращаются назад…
Девушки замолчали.
– Куда они уходят? – спросила Ронта, склоняя голову.
– К племени своему уходят, – сказала Яррия, – на небо, к Отцу. Там тоже есть племя Анаков.
– Я сказку слыхала, – сказала Илеиль. – В той стороне есть место. У самых ног Отца сделана дыра и вбита затычка, и женщины подходят и выдёргивают, и смотрят вниз; и если какая-нибудь пожалеет и заплачет, то слёзы её к нам падают росою.
Все инстинктивно подняли головы и посмотрели вверх, туда, где наискось к полночи светилось недвижимое Око Отца. В ночном воздухе мелькали какие-то неуловимые влажные искры, и им показалось, что это слёзы тех, небесных, женщин.
– Будет вам, – снова вмешалась неукротимая Элла. – Вы говорите о тех, которые уходят. Я хочу говорить о тех, которые приходят.
– Души детские, – сказала Илеиль и усмехнулась радостно. – Малые детки…
Элла посмотрела на неё лукаво и подмигнула левым глазом.
– Малые и большие… Оттуда и оттуда!..
Она указала кивком головы на небо и тотчас же протянула обе руки к северу, туда, где находился мужской лагерь.
– Я люблю их, – сказала она громко, потом слегка потянулась и свела руки вместе. – Всех люблю.
И было так, как будто она сразу заключила в свои объятия всех мужчин и детей.
– Молчи, – сказала Илеиль, но не совсем уверенно. Элла Сорока знала, как будто, действительно, больше, чем другие подруги.
– Дуры вы, – возразила Элла и рассмеялась. – Пять трясогузок, все дуры…
– Трясогузка Ронта, – сказал неожиданно голос сзади, такой же весёлый, как у Эллы.
Девушки обернулись. Дило Горбун подполз к костру так тихо, что никто его не заметил. Он остановился перед костром, как полз, на четвереньках, и вертел головою, как будто черепаха.
– Уйди, – крикнули девушки, – зачем ты пришёл?
– К вам пришёл, – сказал Дило, – мне одному тоскливо.
– Здесь мальчикам не место, – сказала Илеиль. – Это девичья роща.
– Разве я мальчик, – сказал Дило вкрадчивым тоном. – Если бы я был мальчиком, то был бы с мальчиками.
Девушки засмеялись. Это была обычная присказка Горбуна.
– Я вам сказку расскажу, – соблазнял Дило.
– Уйди, не то палки возьмём.
– Расскажу и уйду. О Рунте-трясогузке… Мне одному темно в этом лесу.
– Ну расскажи, – поколебались девочки.
Их в особенности соблазняла тема рассказа. Имя Ронты с небольшим изменением в Рунта означало: трясогузка. Молодых девушек вообще называли трясогузками за их предполагаемую стыдливость.
Они посмотрели нерешительно на взрослую помощницу. Но круглые глазки Асы тоже горели любопытством, и, ко всеобщему удивлению, она не сказала ни «да», ни «нет».
Пять трясогузок сидели под листьями клёна,– начал Дило нараспев.
– Молчи, дурак, – сказали девушки полусердито.
Дило, по-видимому, хотел начать с присказки и заимствовал её у Эллы.
– Нет, – сказал Дило.
Пять трясогузок сидели под листьями клёна. Пришли пять турухтанов и распустили свои крылья. И сказали: «Спляшем брачный танец. Совьём колесо солнцу, будем плясать брачный пляс. Будьте нам жёнами, будем вам мужьями…»По обыкновению Анакских сказочников, Дило наполовину пел, строфу за строфою.
Лунный Дракон пришёл к красному солнцу И сказал: «Солнце, спляшем брачный танец. Будь мне женою, я тебе буду мужем».– Разве солнце – жена? – спросила Илеиль с удивлением.
– Не перебивай, – сердито сказал Дило. – В то время Солнце было женою.
Солнце сказало: «Я не хочу. У тебя, Дракон, чужое лицо. На твоей шее чешуя стала дыбом. Ты мне не муж, я тебе не жена…» Дракон рассердился и проглотил Солнце. Вместе с Солнцем проглотил все лучи; На земле и на небе стало темно, Турухтанам и трясогузкам стало темно. Темно свивать колесо Солнцу, Темно плясать брачный танец… Рунта молодая сказала подругам: «Я поднимусь на небо, я верну Солнце, Я дам свет, Пойду к Дракону в юные жёны. Пусть я исчезну, вы будете жить»…После этого Дило стал рассказывать прозой:
– Молодая Рунта поднялась на небо и приблизилась к Дракону. Он дремал, раскрыв пасть после сытной еды. Солнце, большое и круглое, тускло сияло в его утробе.
– Я пришла, – сказала Рунта.
– Зачем? – спросил Дракон.
– В жёны к тебе, – сказала Рунта.
– А, хорошо, – сказал Дракон.
– Как берёшь ты жён? – спросила Рунта.
– Пастью беру, – сказал Дракон.
Молодая Рунта вошла в пасть Дракона, из пасти в утробу и отыскала Солнце. Она обвязала его травяной верёвкой и потащила его вон. Вытащила Солнце в горло Дракона, потом вытащила в рот Дракона, потом вытащила на язык Дракона. И лопнула верёвка с таким треском, как падает дерево. Тогда встрепенулся Дракон и тряхнул головою. Круглое Солнце обожгло ему язык и выкатилось вон. Брызнул свет, настало новое утро.
Дило замолчал, девушки тоже молчали.
– А Рунта вернулась? – спросила Илеиль.
Дило лукаво посмотрел на девушек.
– Рунта, вот она, – пошутил он, указывая пальцем на подругу Яррия. Рунта-Ронта.
– Нет, правда!
– Правда, – настаивал Дило. – Вы знаете: предки возвращаются сквозь женское чрево. Так Рунта вернулась…
– Постой, – сказала Элла. – Какую песенку пела молодая Рунта?
– «Пусть я исчезну, вы будете жить…»
– Печальная песня.
Ронта сидела и слушала, не шевелясь и не произнося ни слова.
Но когда Элла повторила печальную песню Рунты-трясогузки, её лицо неожиданно сморщилось, нижняя губа задрожала. Ещё минута, и она разразилась плачем, тихим и жалобным, как огорчённый ребёнок.
Яррия положила подруге руку на шею.
– Глупая, – сказала она. – Ну, не плачь. Это другая погибла, та, молодая Рунта. Ты живёшь.
– Нет, – всхлипывала Ронта, – это мне нравится. Пусть я исчезну, вы будете жить. Это хорошо.
Слёзы её падали без конца. Она уткнулась лицом в землю, и плечи её тряслись от заглушаемых рыданий…
Полночь прошла. На краю неба опять поднимался Охотник, угрожая дротиком диким оленям в Песчаной реке. Все спали, девушки и их помощница. Лишь у Лото поодаль слабо мерцал костёр, и она низко склонилась над ним, как будто творила заклинания. И вдруг на опушке раздался слабый призыв маленькой пёстрой совы Шиана, который ищет в темноте свою подругу: Угу!..
Ронта вздрогнула во сне и подняла голову. Призыв повторился ещё раз. Она посмотрела на соседок. Никто не шевелился. Костёр чуть вспыхивал.
Ещё не совсем проснувшись, Ронта поднялась, как лунатик, и, натыкаясь на деревья, пошла вперёд, куда звал крик совы.
На опушке леса стоял Яррий. Его фигура смутно белела в свете звёзд. Он двинулся Ронте навстречу и быстро подошёл. В руках у него было неизменное копьё. Связка дротиков висела через плечо. Через другое плечо был подвешен большой мешок, как у охотника, уходящего в дальние горы. И весь вид у него был, как у человека, уходящего в дорогу.
Дремота Ронты исчезла.
– Что, Яррий? – спросила она тревожно, даже не успев разглядеть в темноте его лицо.
– Они изгнали меня, – сказал Яррий.
– Изгнали, – откликнулась Ронта жалобно.
– Сказали: «Будь нам чужим, другого племени, не пей нашей воды, не грейся у огня».
– За что? – спросила Ронта беспомощно. Она как будто забыла в эту ночь о весеннем деле Яррия.
– За то самое, – сказал Яррий. – Юн говорит: – «Ты жертву отнял у тёмного бога, белую тёлку. Будь же извергнут».
– Как же обет? – спросила Ронта растерянно.
Яррий коротко засмеялся.
– Стану ли плакать о муках и истязаниях? Нож Юна-врага не коснётся меня. Буду жить непосвящённый, как жил.
Ронта молчала.
– Куда же ты пойдёшь? – спросила она нерешительно.
Яррий повёл рукою.
– Свет широк, и солнце везде светит. Челноки растут в лесах, и реки текут вниз… Попрощаться я пришёл. Где Дило?
– Не знаю, – сказала Ронта, – был тут недавно. Прогнали его… Куда пойдёшь ты?..
– Пойду на край света, – сказал Яррий, – на берег моря. Узнаю людей медвежьих и людей орлиных. Увижу морских великанов с зубами, как у мамонта.
– Как ты будешь жить, Яррий? – твердила Ронта печально.
– Один буду я жить, диким бродягою, рвать добычу когтями буду, как звери рвут.
Он замолчал и долго молчал, и вдруг сказал отрывисто:
– Пойдём со мною, Ронта!..
Ронта не отвечала.
– Лица мужчин не увижу. Глаза женщин не будут смотреть на меня. Когда я умру, шакалы закроют мне глаза… Ронта, пойдём со мною…
Ронта бросила взгляд назад, в глубину рощи. Ничего не было видно. Только угли костра чуть мерцали сквозь тёмную чащу.
– Жалко тебе оставить Иссу колдунью и сварливых жён? – спросил Яррий злым, изменившимся тоном.
– Жалко, – призналась Ронта.
– С Иллом хочешь плясать, красную бороду гладить девичьей ладонью?
– Нет, – с ужасом сказала Ронта. – Я не хочу.
– Ну, так пойдём со мною.
Ронта опять посмотрела назад и тяжело вздохнула.
– Прощайте, сёстры, – шепнула она. – Пусть я исчезну, вы будете жить… Яррий, я иду с тобою.
Они взялись за руки и тихо, как тени, скользнули вдоль опушки. Никто их не видел. Только небесный Охотник смотрел им вслед и грозил дротиком.
За день ходьбы от кленовой рощи лежало мёртвое поле Анаков. Оно было широкое, ровное, занесённое песком. Этот песок в незапамятное время принесла река Салли я своими весенними разливами, но теперь река давно ушла отсюда вправо, почти на половину дневного перехода. Поле осталось, как прежде, серое, унылое, нагое. На нём не росло ни куста, ни травинки. Только местами поднимались какие-то странные серые сучья. Это были бараньи и оленьи рога, воткнутые в песок, принесённые живыми на поминки покойникам. Ибо на это поле с разных концов своей земли приходили умирать Анаки. По древнему поверью считалось, что только с этого поля возможен отход в дальнюю дорогу, в страну предков. Он начинался от низкой песчаной стрелки, перерезавшей мёртвое поле на две половины. Эта стрелка называлась «тропой мертвецов». От стрелки отход продолжался по песчаным рытвинам старого сухого русла, потом по реке Саллии, против её течения, на юг.
По убеждению Анаков, если кто умирал вдали от мёртвого поля, ему приходилось после смерти прежде всего являться сюда. Оттого родные спешили воздвигнуть ему могильник на мёртвом поле. Это был посмертный приют для него. Могильник состоял из каменного овала, выложенного просто на песке, как будто вокруг мёртвого тела. Всё мёртвое поле было усеяно такими овалами. Пустых было меньше, а больше было таких, в которых лежали белые скелеты. Ибо Анаки даже в болезни крепились, как могли, и приходили сюда умирать, чтобы избавить себя от трудного посмертного перехода.
Во многих овалах вместо целого скелета остались только белые рёбра да толстые берцовые кости. Гиены объедали своими крепкими зубами даже головки берцов и оставляли на земле только костяные трубки, пустые внутри. По всему полю валялись черепа, круглые, гладкие, выбеленные солнцем и ветром. Это были как будто большие странные чаши, разложенные на выбор для живых и для мёртвых.
На это поле на другой день после побега Ронты пришла старая Исса. Она была одна, и никто не следовал за ней. Она прошла по «тропе мертвецов», дошла до середины, встала и огляделась кругом. Потом сошла в сторону и вскоре нагнулась и подняла белый череп. Она взяла его с места, которое было украшено не только рогами, но даже пучками перьев и сухих цветов. Это был могильник чёрной колдуньи Мелан-то, которая была старухой, когда Исса была ещё маленькой девчонкой. Покойная Меланто считалась великой чаровницей, и на её могилу до сих пор приносились дары мужчинами и женщинами. Исса вернулась с черепом к тропе мертвецов. Она наполнила череп водой из лужи, которую нашла тут же. Вода эта была солоноватая и пригодная для колдовства. Старая колдунья села на песок, поставила череп на землю между ног и запахнула над ним полы своего мехового плаща. Она снова оглянулась и достала из поясного мешка щепотку серого порошка. Этот порошок она бросила в воду, и вода задымилась. Белый пар клубами повалил из черепа, хотя нигде не было огня, и вода не согрелась. Исса прикрыла череп плащом ещё тщательнее, но пар или дым выходил струями из каждой прорехи её покрывала, у шеи, у плеч и у ног, как будто она вся горела внутри.
Склонившись лицом вниз и сливаясь вместе с черепом, Исса стала творить страшное заклинание. Оно было направлено против бежавшей девушки для того, чтобы отомстить ей за позор и предательство.
– Беглая тварь, – говорила Исса, – обрекаю тебя гневу. Запираю в твоём теле юность и зрелость. Да будут плечи твои остры, и груди плоски, и чрево бесплодно… Неосвящённая и неблагословенная. Будь Яламой, безмужной и безлюбовной. Запираю тебя мёртвой костью. Когда муж твой подойдёт к тебе, пусть взоры его будут, как взоры убийцы. Спасайся, трепещи!..
Исса достала из мешка маленький сучок, раздвоенный с одного конца, обычную замену человеческой фигуры.
– Ялама, – сказала она, обращаясь к сучку, ибо он представлял Ронту-беглянку. Слово «Ялама», означавшее самку оленя, непригодную к браку, относилось также к хилым, бесплодным женщинам.
Она вынула череп из-под плаща и осторожно опустила сучок в череп.
– Ялама, – сказала она снова, – вот тебе собственная вода и собственная лодка. Вода твоя да будет в лодке твоей. Садись и плыви по тропе мертвецов.
Она поставила череп на песчаную стрелку.
– Иди, догоняй, – сказала она ему сурово, – где бы она ни сидела и ни бегала.
Чары были окончены и посланы вдогонку, и Ронта была обречена их всесильному гневу.
Глава 6
День за днём Яррий и Ронта спускались вниз по реке Дадане, направляясь к морю. Яррий сделал челнок ещё на берегах Калавы из жёлтого луба, такой же гибкий и лёгкий, какой он оставил на месте оленьей охоты, вместе с другими челнами племени. Они спустились по Калаве в реку Саллию. Она впадала в Дадану на полдня ходьбы повыше Лысого Мыса и оленьей тропы. Где можно было, они плыли. Где было мелко или слишком много камней, они выходили на берег и вели челнок за собою на верёвке из стеблей крапивы или просто волокли его по мокрой траве, где он скользил легко, как рыба, потом опять спускали его в воду и плыли. Они садились, по обычаю, спина к спине и протягивали ноги в разные стороны. Яррий грёб веслом, а Ронта смотрела на воду и ждала очереди. Их нагие спины крепко опирались друг на друга. И в росистое, свежее утро это одно место было тёплым у обоих. Оно давало им тепло и грело всё их обнажённое тело.
В первую ночь они ночевали на острове, в тополевом лесу, вытерли огонь из сухого дерева, развели большой костёр и потом заснули. Они спали на одном ложе, как брат и сестра, и между ними лежало копьё, как общий защитник.
На другой день они вошли в Дадану и скоро проплыли мимо Лысого Мыса и места весенней охоты… Отсюда начинались места незнакомые. Дадана уходила от Анаков на запад, а куда именно, никто не знал. Все, однако, говорили, что Дадана – река огромная, протекает сквозь многие земли и доходит до дальнего моря. Они не терпели голода. Ибо в это время года на Дадану во множестве спускалась перелётная птица с соседних озёр – утки, крохали, гуси. Яррий был искусный охотник с дротиком и плоским деревом, и копьём. На берегу во время ночлегов они копали также корни, мучнистые и сладкие.
Солнце светило ярко. Было ясно и тихо. Им попадались олени; один бросился в воду и поплыл, но был он слишком далеко, и Яррий не мог достать его копьём. Гигантские шельхи стояли на берегу неподвижно, как будто каменные. Их ветвистые рога выступали на солнце, как обведённые резцом. Они смотрели на челнок равнодушно и презрительно, как будто это было дерево, проплывшее мимо.
– Есть ли здесь другие люди? – сказала Ронта.
– На что нам люди? – возразил Яррий со смехом. – Мы двое – люди. Хорошо нам.
Он широко ударил веслом и громко запел песнь гребца, которую Анакские юноши пели на реке летом во время охотничьих поездок:
Двойным веслом я загребаю воду, Длинное копьё я держу в руке.Он пел и грёб в такт песни и с каждым звуком и взмахом чувствовал, словно входит в него что-то сильное и сладкое. Плечи его широко двигались, как будто с них упало тяжёлое бремя.
– Анаки остались далеко сзади. Во век бы не видеть их…
Он привстал на куске кожи, служившей ему сиденьем.
– Игой! – крикнул он звонко и протяжно, как молодой жеребец, который призывает на вольном лугу и сам не знает кого, – короткогривую подругу свою, или сердитого соперника.
– Иго-го-гой!
Река Дадана текла широко, мощно и спокойно. Её повороты тянулись на добрый людской перебег от плёса до плёса. Берега исчезли из глаз, и дальние мысы чуть всплывали в синем тумане, как марево. Река расстилалась перед глазами широко и прямо, как зеркало.
Потом берега стали выше, а русло уже. Дадана встретила на пути горный хребет и прорезала его насквозь. Она стала глубже, полноводнее и быстрее. Она катилась теперь среди двух высоких стен, и по обе стороны её простирались крутые, дикие скалы.
Челнок быстро плыл мимо. Крутые берега уходили назад и исчезали навсегда.
И на одном повороте совсем неожиданно они увидели женщину. Она сидела на самом краю и смотрела на реку. Была она совершенно нагая, и тело её, особенно груди, были смуглее, чем у Анакских жён. Волосы у неё были длинные, чёрные, как вороново крыло.
Она распустила их на плечи и расчесала белым костяным гребнем.
При виде этих волос и гребня у Яррия странно заныло сердце, ибо жёны Анаков с такой же заботой чесали свои волосы и заплетали косы перед брачным обрядом, и гребень считался брачной принадлежностью.
Челнок проплыл близко к берегу, но женщина не шевелилась. Она чесала волосы и пела песню, – тихую, длинную, тягучую, как нить. И казалось, что над рекою Даданой течёт другая река, тихо-звучная, незримо-струйная.
Челнок проплыл мимо; женщина осталась сзади, и песня её слабела и замерла.
– Кто это? – сказала Ронта с удивлением. – Женщина, ДУХ?..
– Не знаю, – сказал Яррий, потом прибавил невольно: – Нет, это не дух.
Он вспомнил груди женщины. Они были небольшие, как у девочки, но странно удлинённые, даже слегка повисшие книзу. Они показались ему какими-то редкими плодами.
Он повернулся назад и посмотрел в пол-оборота на спутницу. Груди у неё были такие же недоразвитые, бёдра – узкие. Волосы её были короче. Они не были расчёсаны и падали на плечи беспорядочной гривой. Вся фигура Ронты походила на мальчика.
И, отвечая взгляду своего друга, Ронта оживлённо сверкнула глазами и сказала с ребяческим задором:
– Вернёмся посмотрим?
Яррий послушно взмахнул веслом и повернул челнок. Но ехать назад было труднее. Они лепились к берегу, борясь с течением реки, не пропуская ни одного изгиба, и когда, наконец, показался тот же мыс, теперь уже знакомый, женщины не было. Они пристали к берегу и долгое время ходили по взгорью, но ничего не нашли. Даже следов не осталось нигде, как будто эта женщина не ушла, а растаяла.
Яррий посмотрел на спутницу с некоторым смущением, но она улыбалась. Дети Анаков любили играть в прятки в зелёных лесах у Даданы и у Калавы. Ей казалось, будто она ищет и не может найти спрятавшуюся подругу. И, видя смущение юноши, она весело засмеялась и сказала:
– Поедем дальше.
Они отплыли и скоро уже огибали новый плёс вниз по течению.
Ронта как будто тотчас же забыла о таинственной встрече. Она радовалась каждой новой птице и каждому утёсу незнакомых очертаний и спрашивала без умолку:
– Яррий, что это? Яррий, где же мы?
И Яррий большей частью отвечал, как в первый раз:
– Я тоже не знаю.
Они пристали на ночлег под высокой скалой, развели огонь и поужинали, но спать им не хотелось.
Полная луна светила на реку и отражалась внизу второй луной. Длинный серебряный след ложился на воду.
– Это дорога наша лежит, – сказала Ронта.
Она посмотрела в глубь вод, на ту, вторую луну, потом подняла глаза вверх, как будто для сравнения.
– Что это за знаки? – спросила она, разглядывая тёмные пятна на белом, широком лице луны.
Яррий пожал плечами:
– Нос как будто и глаза. Говорят: лицо Дракона.
– Пенна говорила, – сказала Ронта, – что это совсем не глаза. Это Лунные Анаки, мальчик и девочка.
Яррий улыбнулся.
– Как же они попали туда?
– Дракон изловил их арканом лунного луча и поднял к себе, чтобы не было скучно.
– Ты смеёшься, – сказала она обидчиво. – Не веришь мне?
– Я не смеюсь, – сказал Яррий. – Они, как мы, эти лунные Анаки. Я знаю, как их зовут: Яррий и Ронта. И если ты хочешь, мы тоже поднимемся, сами собою, по лучу солнечному, взойдём на солнце и будем жить в сиянии.
Ронта посмотрела на него с лёгким недоверием.
– Разве ты тоже колдун, как Исса и Спанда?
– Если ты захочешь, – повторил Яррий, – я стану колдуном больше, чем Спанда.
Ронта засмеялась.
– Отлично, – сказала она. – А только я спать не хочу. Пойдём лучше, ещё раз походим по горам.
Они погасили огонь, спрятали челнок в расселину утёса и укрепили его камнями, чтобы его не мог снести внезапный порыв налетевшего ветра. Потом Яррий взял копьё и два дротика.
Ронта тоже взяла дротик и пошла вперёд, стройная и лёгкая. Они шли гуськом, друг за другом. Шаги их были неслышны, и тела их блестели в ночном сиянии луны.
Берег реки перешёл в высокую равнину. Местами темнели леса, как чернильные пятна, потом расстилались широкие луга. В свете луны они были пушисто-матовые, как мех.
Там и сям торчали группы скал и камней, странных, обрывистых, поросших снизу мхом и травой, а вверху обнажённых. Их голые верхушки выступали на ночном небе чёткими чёрными зигзагами.
Путники прибавили шагу, потом побежали вприпрыжку, как бегут оленята после водопоя, попали в густую тень ближайшей группы скал, мелькнули быстрыми пятнами по освещённому полю, снова попали в тень.
Яррий внезапно остановился.
– Смотри, – шепнул он, – на левой стороне.
– Где? – спросила Ронта. – Я не вижу.
– Там, вверху, – указал Яррий. – Постой немного.
На верхушке ближайшей скалы мелькнула голова. Она появилась из тени на свет и с минуту оставалась как будто отрезанная. Это была голова козла. Можно было видеть длинную бороду и тонкие рога, отогнутые назад. Голова повернулась влево. Борода закачалась.
«Хм, хм», – донеслось тихое, будто простуженное покашливание. Ещё минута, и голова спряталась. Снова донеслось «хм, хм», уже из темноты, и всё стихло.
– Не спит, сторожит, – сказал Яррий.
– Глупый козёл, – засмеялась Ронта. – Полезем посмотрим.
Они пригнулись и поползли в траве, потом свернули вправо и стали подниматься по узкой лощине вверх. Дальше начинались скалы. Они перелезали от камня к камню неслышно, как змеи, и, наконец, добрались до верху. Наверху была площадка в выемке меж скал. Они посмотрели осторожно из-за широкого камня и увидали группу коз, устроившихся на ночлег. Здесь были маленькие и большие. Они лежали на жидкой траве, положив головы на камни. Все они казались чёрного цвета, но можно было различить, что козлята темнее маток.
Глаза Яррия блеснули. Он поднял дротик и стал метиться в ближайшего козла.
– Постой!
Ронта, в свою очередь, схватила его за руку.
– Смотри вниз!
Далеко внизу, на той самой дороге, по которой они взобрались, мелькнула тень, скрылась, опять мелькнула.
Эта часть подъёма была плохо видна козлу-сторожу. Очевидно, ещё охотник подбирался к добыче.
– Росомаха, – шепнула Ронта.
– Нет, другое, – сказал Яррий, приглядываясь.
– Волк?
– Не волк.
– Бурый?
– Не знаю, – сказал Яррий нерешительно. – Бурый… Кажется, не совсем бурый.
– Бежим, – сказала Ронта.
– Смотри туда, – сказал Яррий вместо ответа. – Дальше, – прибавил он, следуя глазами за взглядом Ронты. – Налево.
На левой стороне, на открытом лугу, между двумя группами деревьев мелькнула новая тень, метнулась через поле и снова исчезла.
– Подождём здесь, – сказал Яррий решительно.
Они припали между камней и глядели на дорогу, сжимая в руках дротики. Та тень, что была ближе, мелькнула снова. Потом между камнями появилась фигура и стала подниматься вверх, пользуясь каждым прикрытием.
Яррий и Ронта с удивлением смотрели на неё. Это была не пантера, не волк и не бурый, хотя по величине и по движениям она немного подходила к последнему.
Она была тёмная, плотная, с крепкими, короткими ногами, но шерсть на её спине была редкая и совсем не походила на пышный медвежий мех. И вместо острого рыла у неё было широкое лицо и большие круглые глаза, которые беспокойно поглядывали по сторонам.
– Вот это дух, – сказала Ронта, скорее с любопытством, чем со страхом.
Яррий нерешительно кивнул головой.
– Лицо, как у человека, – сказал он в виде подтверждения. – Какая походка странная! Посмотри-ка, у него такие же руки, как у нас. Нет, это не дух, – сказал он с внезапным презрением. – Видишь, он ползёт на кулаках, как маленький ребёнок.
Фигура остановилась, соображая. Она, очевидно, подбиралась к козам, но эта дорога ей не понравилась. Она свернула дальше вправо, продолжая, впрочем, слегка подниматься вверх, и скрылась за поворотом.
– Как он убьёт? – сказал Яррий с любопытством.
Прошло несколько минут напряжённого ожидания.
– Где он? – хотела сказать Ронта, но в эту минуту слева раздалось: «хм, хм», громче и тревожнее прежнего. Стадо вскочило на ноги и ринулось вниз.
Странный охотник, видимо, обошёл кругом и зашёл с противоположной стороны, но невовремя попал на глаза чуткому сторожу.
Козы бежали прямо на молодых Анаков. Яррий не выдержал. Он вскочил на ноги и бросил дротик в большого козла, бежавшего последним. Дротик попал под левую лопатку. Козёл сделал огромный прыжок и упал на бок.
Чёрный охотник тотчас же показался сзади. Он бежал быстро, но довольно неуклюже, как прежде, опираясь руками на сжатые кулаки.
Ему, очевидно, не удалось убить ничего. Увидев чужую добычу, он остановился поодаль, рыча.
Яррий выставил вперёд копьё. Этот охотник был опаснее козла, и нельзя было полагаться на дротик.
Чёрный охотник поднялся на ноги и теперь стоял перед ними прямо, как человек, и смотрел на них, скаля зубы в свирепой гримасе. На правой щеке у него был беловатый рубец, видимо, след раны, доходящий до рта и с этой стороны обнажавший ещё выше два крупных белых клыка.
Он яростно фыркнул и погрозил Яррию кулаком.
– Что тебе надо? – невольно спросил Яррий, потрясая копьём.
– Грруар! – ответил выразительно Чёрный, поглядывая на козла.
Яррий двинул копьём.
– Не трогай, – поспешно сказала Ронта. – Это Лесные Анаки.
Анакская легенда говорила, что где-то в тёмных лесах обитают лесные жители. Они не умеют говорить и ловят зверей руками, не зная копий. И замечательно, что легенда, которая за Селонами и за Тосками, ближайшими соседями и врагами Анаков, не признавала даже имени людей и называла их просто «чужими чертями», – в виде контраста называла этих лесных жителей Лесными Анаками, как будто желая подчеркнуть родство своего племени с ними.
– Что тебе надо? – повторил Яррий, растягивая слова для отчётливости.
– Гррм! – проворчал Чёрный уже на другой лад, потом быстро повернулся и побежал в сторону на двух ногах, как человек.
Яррий и Ронта, совершенно забыв о козле, побежали за ним.
Чёрный пробежал несколько шагов, потом, видя, что его преследуют, упал на руки и устремился вниз быстрее и быстрее, кубарем, как им показалось, скользнул по косогору и скрылся из глаз.
Яррий и Ронта тоже сбежали с утёса и помчались через поле.
От первой группы скал, мимо которой они недавно прошли, доносился шум борьбы.
Козы убежали в этом направлении и, должно быть, попались другим охотникам.
– Это был загонщик, – соображали Анаки. – Стало быть, у этих лесных жителей есть свои охотничьи планы, как у настоящих людей.
Первая группа скал была меньше и ниже второй.
Хитрость лесных Анаков в том и заключалась, чтобы направить коз к этому месту, более удобному для преследования.
У подошвы этих скал Яррий и Ронта увидели трёх лесных охотников. Они были счастливее загонщика, ибо им удалось изловить одного козла. Он лежал на земле и дрыгал ногами, а они били его по голове деревянными палицами. Они были так увлечены своим делом, что не обратили внимания на подбежавших молодых людей.
В левой стороне слышался какой-то странный лай или плач. Нельзя было разобрать, – дети это или шакалы. Молодые люди побежали туда и увидели странное зрелище. Здесь был обломок скалы, довольно высокий и совершенно отвесный. Молодой козлёнок бог знает как в темноте с перепугу заскочил на эту скалу. Он стоял на верхушке, и снизу было видно, как тело его дрожит от ужаса и напряжения.
Три тёмные фигуры бегали кругом подножия и лаяли от злости. Они пытались подняться на скалу, но с полдороги срывались вниз. Один из них схватил палицу и бросил в козлёнка, но она не долетела.
Яррий посмотрел и засмеялся. Гримасы и движения ночных охотников были чересчур забавны. Он подошёл к скале, не обращая на них внимания, и стал подниматься вверх, опираясь на копьё. На полуподъёме пришлось и ему остановиться. Но он утвердил на выступе камня правую ногу, выпрямился, крепко опёрся левой рукой на копьё и бросил дротик. Козлёнок подпрыгнул всеми четырьмя ногами и рухнул к подножию скалы.
– Гррм! – заревели единодушно Лесные Жители и подхватили козлёнка, как будто на лету.
Яррий сделал несколько шагов вниз, потом опёрся копьём о скалу и спрыгнул на землю.
Один из лесных людей поднялся к нему навстречу. Это был загонщик. Яррий узнал его по шраму над щекой.
Он сделал шаг по направлению к юноше. В руке у него была палица. Он, должно быть, оставлял её внизу, чтобы легче карабкаться по камням.
Яррий тоже сделал шаг вперёд, не выпуская из рук копья. Чёрный загонщик пристально посмотрел на Яррия, потом быстрым движением отбросил палицу в сторону. Яррий немного подумал.
– Хорошо, – сказал он. Он не стал бросать копья, а передал его подошедшей Ронте.
Чёрный посмотрел на это с видимым одобрением.
– Гррам! – сказал он и мотнул головой.
– Тебя зовут Гррам? – переспросил юноша. – Меня зовут Яррий Анак.
Чёрный сделал ещё шаг вперёд и протянул правую руку к Яррию.
– Аггру!
– Союз? – переспросил юноша, как будто Чёрный говорил на языке совершенно понятном. – Хорошо.
Он тоже шагнул вперёд и протянул свою руку. Они пожали друг другу руки, причём Яррий почувствовал, что у Чёрного ладонь мягкая, почти как ладонь ребёнка.
Потом, преодолевая смутное чувство отчуждения, он приблизил своё лицо к лицу Чёрного и потёрся об его щёку, по обычаю Анаков. Он почувствовал под кожей его лица крепкую челюсть, как у гиены или у льва.
Чёрный неожиданно положил руку ему на голову и искусно захватил и вырвал несколько волосков. Яррий чуть не крикнул от боли и гнева, но Чёрный уже совал ему в руки свою толстую, короткошёрстую голову. С тайным злорадством Яррий захватил своими крепкими пальцами большую щепоть и дёрнул её изо всей силы.
Чёрный не крикнул, а как-то хрюкнул от боли, но тотчас же поднял голову и дружелюбно посмотрел на юношу. По-видимому, ему понравился столь энергичный способ заключения союза.
Ещё один Чёрный подошёл, сначала несмело, потом смелее и ближе. Он тоже мотнул головой и сказал:
– Гррам!..
– Ты тоже Гррам? – спросил Яррий. – Да, конечно.
Второй Гррам был потоньше загонщика, должно быть, моложе. Он заинтересовался Ронтой больше, чем юношей, подошёл к ней и коснулся пальцем её плеча.
Но Яррий, не долго думая, повернулся к нему, оскалив зубы и зарычал: «Груарр!» почти так же выразительно, как Гррам-загонщик над трупом первого козла.
Второй Гррам понял и оставил Ронту в покое. Другие тоже подошли и обступили Анаков. Их было шестеро.
– Гррам! – говорили они.
Это было, должно быть, не только имя племени, но и взаимное приветствие.
Молодые Анаки с удивлением рассматривали это диковинное племя. Ронте всё ещё казалось, что это могут быть духи. Ибо ей было известно, что духи так же охотятся и убивают добычу, как люди. Но ведь духи умеют, кроме того, летать или нырять под землю. Они дышат пламенем, меняют своё тело по произволу на волчье, или птичье, или мушиное. Эти не делали никаких чудесных штук. Они поступали, как обычные люди или звери. Переступали с ноги на ногу, чесали себе спину. Они были слишком неуклюжи для хищных, проворных духов. Все они были страшно похожи один на другого, кроме того, что у загонщика был шрам, а второй товарищ его был тоньше телом.
Груди и плечи и всё их сложение было похоже на людей, только ноги у них были короче, а руки, напротив, длиннее. Большие пальцы на ступнях торчали врозь. У них были толстые губы и крепкие челюсти с могучими зубами. Всё тело их, кроме лица, было покрыто бурою шерстью. На груди и спине шерсть была редкая, но живот и ноги до колен были мохнатые, как у козла.
– Какие они, – сказала Ронта с гримасой, обращаясь к Яррию.
Яррий в ответ улыбнулся.
– На кого они похожи? – сказал он, подыскивая сравнение. – На Илла, докончил он и засмеялся.
Загонщик вопросительно поднял голову, потом тоже оскалился и одобрительно кивнул головой. Ронта и Яррий посмотрели друг на друга и расхохотались.
Действительно, у грузного Илла была такая же грудь и квадратные плечи, и даже массивные челюсти. Только ноги у него были длиннее и волосы реже и другого цвета.
Пришли ещё двое Гррамов. Они тащили первого козла, убитого Яррием. Трое Гррамов взвалили на плечи по козлу и пошли, согнувшись. Двое убежали вперёд. И Яррий снова увидел, что они падают на руки, согнув кулаки, и бегут на четвереньках быстрее, чем на двух ногах. Загонщик пошёл сзади всех, приглашая знаками молодых людей следовать вместе. Идти пришлось довольно долго, но Гррамы шли мерно, таща без особого усилия свою ношу. Они перешли большое поле и вошли в лес. Яррий раздул ноздри и потянул в себя воздух. Из тёплой сырости спящего леса на него пахнула острая струйка сухого, приятного запаха дыма. Они продолжали идти, как вдруг с высоких деревьев навстречу им скатились маленькие, чёрные, косматые зверьки.
– Ам! – кричали они. – Арм!..
Это были дети Гррамов. Они галдели громко и радостно. Подскочили к носильщикам и стали теребить козлов за ноги и за уши.
Передний Гррам протянул руку и погладил ближайшего по голове.
– Ап! – проворчал мальчик, словно челюстями щёлкнул.
В это время дети увидели чужеземцев.
– Яп, яп, яп! – забормотали они испуганно и прыснули обратно на деревья.
Жилище Гррамов помещалось, однако, не в лесу, а в пещере. Огонь горел в глубине, и снаружи его не было видно. Дым выходил в расселину в потолке пещеры. У стен пещеры были набросаны груды листьев и валялись старые кости, сухие, объеденные добела. В отличие от Анаков, мужчины и женщины обитали вместе. Племя было небольшое, человек тридцать вместе с ребятишками, которые не замедлили набиться в пещеру вслед за охотниками.
Женщины Гррамов были такие же чёрные, неуклюжие, но менее мохнатые, чем мужчины. Одна женщина подбросила дров в огонь. В пещере стало светло и немного дымно, ибо весь дым не успевал выходить сквозь расселину. Другие женщины снимали шкуры с козлов. У них были кремнёвые скребки, как у Анаков, но, в отличие от Анакских женщин, они больше работали руками и зубами.
Дети разделились на две группы. Одна следила за мясом, другая за чужестранцами. Эти юные любознательные Гррамы сидели на безопасном расстоянии у стены и старались не пропустить ни одного движения Анаков. Потом они стали смелее и принялись повторять движения и жесты гостей. И когда Яррий вынул нож и стал заскабливать изъян на древке копья, все они схватили по обломку палки и тоже стали скоблить её первым попавшимся сучком.
Яррий с удивлением заметил, что дети хватают сучья не только руками, но также и ногами. И ноги у них были странные, с мягкой подошвой, без пятки. Они как будто имели две пары рук спереди и сзади.
Наконец мясо было разделено на части. Ребятишки оставили чужестранцев и подскочили к женщинам. Самый нетерпеливый, не дожидаясь, схватил кусок и хотел убежать, но женщина поймала его за ухо.
– Мам! – закричал он жалобно и тотчас же закусил похищенный кусок и стал грызть его, ворча и задыхаясь.
Женщина бросила в огонь кусок жиру.
– Ам! – сказала она. На языке Гррамов это означало, по-видимому, «ешь!»
Она даже челюстями задвигала, изображая процесс еды. Это была жертва огню.
Через минуту все Гррамы сидели с кусками козлиного мяса в руках и с остервенением грызли сырые волокна и крепкие хрящи.
Анаки вообще-то ели и сырое мясо, не только варёное. Но в эту минуту, повинуясь безотчётному чувству, Яррий взял свою часть, наткнул её на палку и поставил жариться у огня. Один из маленьких Гррамов тотчас же оторвался от своего куска, поддел его на палку и стал жарить у огня, подражая Яррию.
– Сгорит, – сказал Яррий, видя, что мальчик придвинул мясо слишком близко к огню. Женщина взяла у мальчика кусок и стала поджаривать его на огне с большим вниманием. Другие дети тотчас же побросали свои куски и стали теребить женщин.
– Мам, мам! – кричали они наперерыв.
Скоро весь костёр был заставлен импровизированными вертелами с жарким. В этот вечер Яррий, помимо желания, своим примером увлёк всё племя Гррамов на более высокую кулинарную ступень.
Загонщик Гррам ел медленно и с достоинством. Окончив свою долю, он посмотрел на Яррия, потом взял копьё, прислонённое рядом к стене, и стал внимательно рассматривать кремнёвое лезвие, обвязки из сухожилий, потрогал пальцами грани кремня, даже на язык попробовал, потом одобрительно покачал головой и отставил копьё в сторону.
Молодой Гррам сидел на почтительном расстоянии и, не отрываясь, смотрел на белое лицо Ронты, и в глазах его перебегали отсветы от дымно-багрового костра.
Третий охотник неожиданно схватил палку и бросил её в противоположную стену навесно, как дротик. Он тоже подражал манере Яррия. Палка отскочила назад и ударила в плечо женщину. Она сердито заворчала, потом засмеялась, схватила ветку и бросила в голову охотнику. Они тотчас же схватились и стали возиться, а дети прыгали кругом и весело кричали: «Гррм, Гррм!»
Ронта смотрела на эту возню с удивлением. Анакские нравы не допускали ничего подобного. Но скоро всё прекратилось. Гррамы стали укладываться на ночлег парами и гнёздами: мужчина, женщина и маленькие дети вместе.
Одна из женщин подбросила дров в огонь и села настороже у груды сухих сучьев, приготовленных на ночь. Гррамы слишком ценили свой огонь, чтобы оставить его без наблюдения и пищи даже на время ночного сна. Женщины Гррамов не усыпляли углей под серой золою. Они хранили свой племенной очаг живым и бессонным с утра до вечера и с вечера до утра.
Усталая Ронта тоже свалилась на груду листьев и тотчас же заснула. Яррий улёгся рядом, сжимая копьё, готовый вскочить на ноги при первой тревоге.
Глава 7
Праздник любви должен был совершиться в женском лагере в ближайший тёмный промежуток между двух лун. Женщины целый день ходили по окрестностям, искали место получше. Им нужна была ровная площадь для игрища и для хоровода. Они отыскали её на большом лугу у опушки букового леса. Кругом росли высокие, буйные травы, ещё не поблекшие, только чуть огрубевшие осенней жёсткостью. Местами пестрели последние поздние цветы. Они были большие, синие. Они расцветали позже всех, и женщины любили их и выделяли из общей безымянности. Они называли их – «любовные чаши».
На это место женщины перенесли свои мешки и несложную утварь, зажгли новые костры и стали выравнивать площадку. Они мечтали теперь о мужчинах вслух, не стесняясь друг друга. Одни говорили о своих друзьях минувшего года, называли их по именам, восхваляли их силу и мужество, пели песни о них. Другие, склонные к перемене, перебирали всех, восхваляли то одного, то другого, влюблялись заочно по три раза в день и никак не могли остановиться на ком-либо одном.
Брак был свободен, но разные люди жили по-разному. Иные пары жили в единобрачии от юности до смерти, рождали детей, помогали друг другу, насколько это позволяли обычаи Анаков. Другие, напротив, проявляли крайнее легкомыслие, особенно женщины. Они из года в год меняли супруга и даже на игрище перебегали от одного к другому, хотя это не одобрялось и называлось крысиным обычаем. Анаки считали крысу нечистым животным и приписывали ей самые неблаговидные привычки и свойства.
Уже были столкновения. Аса-Без-Зуба и Пенна Левша назвали одно и то же имя Санга Птичьего Когтя и чуть не исцарапали друг друга собственными когтями. После ущерба луны женщины стали приготовлять отборное угощение для брачного пира. Целое лето они копили жир, сушёные языки, грибы, орехи, сладкие корни и ягоды. Они собирали крупных серых червей и стебли кипрея, которые были ещё слаще ягод, и откладывали их до праздника. Теперь они стали приготовлять разные лакомые блюда, смешивали ягоды с почечным жиром и костный мозг с кислыми листьями степного щавеля. Они выделывали из этих смесей толкуши, пироги и колобки и сушили их на солнце или у огня.
Важнее всего было приготовление Хума, брачного вина. Это было дело трудное и кропотливое. Женщины разбрелись по всем окрестным лугам, отыскивая корень Хум, из которого приготовлялось вино. Он был небольшой, довольно мясистый, толщиной в палец. Цветок у него был маленький. В эту пору Хум давно отцвёл, и его было трудно отыскать в траве. В женских мешках были запасы весеннего Хума, но корни эти были сухие и менее сильные, – их можно было употреблять только пополам со свежими.
Когда пять мешков были наполнены плотными белыми корешками, женщины приступили к работе. Они вынули из большого мешка с посудой две деревянные чаши, одну огромную, другую поменьше. Та, что побольше, назначалась для Хума, та, что поменьше – для воды.
Они уселись в кружок, сотворили благословение и стали жевать Хум. Каждая брала один корешок, превращала его в жвачку и сплёвывала в чашу. Потом набирала глоток воды из водяной чаши, споласкивала рот и выливала поверх жвачки. К этой жидкой серой смеси они добавляли потом мёд диких пчёл, который собирали в прекрасных липовых лесах по берегам речки Сарны.
Время Хума было временем любовных заклинаний. Каждая сплёвывала свою жвачку и при этом тихонько называла желанное имя и этим самым добавляла в Хум своё желание.
Новопосвящённые девушки, которые теперь стали полноправными женщинами, сели, по обыкновению, рядом. Они быстро жевали коренья своими крепкими белыми зубами, но на лице их отражалась нерешительность.
Кого назвать? Они мало что знали о мужчинах и ещё ни разу не видели брачного обряда. А, между тем, желание Хума должно было быть прямым и сильным. Оно не допускало колебаний и смешения имён.
Русоголовая Илеиль сплюнула одну жвачку, потом другую. Тогда ей стало страшно. Неужели она пропустит весь Хум без своего желания?
Она наклонилась направо, к уху своей соседки, Эллы-Певучей, и шепнула чуть слышно тот же мучительный вопрос:
– Кого назвать?
– Илла Огнебородого, – быстро ответила Элла. Она думала о рыжем великане и выговорила его имя почти машинально. – Я назову Илла, поспешно объяснила она во избежание недоразумений.
Хум, Хум, живое питьё. Дай мне Илла!– Нет, Мара Красивого, – прибавила она также поспешно. – Нет, лучше Илла. – Я крыса, крыса, – закончила она почти с отчаянием.
Противоречивые заклинания можно было погасить, только выразив готовность подражать крысиному обычаю. После того можно было начинать сначала, но вторые заклинания были слабее первых.
Смятение Илеиль увеличилось, но она не хотела отказаться от своего намерения. Она нагнулась налево, к другой своей подруге, высокой Яррии, и шепнула тот же вопрос.
Яррия повернула лицо и сурово посмотрела на подругу, потом щёки её зажглись тёмным румянцем. Она думала о том же самом.
– Его назови, – шепнула она коротко.
– Кого? – спросила Илеиль, замирая от стыда.
– Его, – повторила Яррия, – воина, мужа, Анака…
Шёпот её стал тише и мягче, но она не нашла более определённого имени и вдруг сказала сердито и почти вслух:
– Отстань!
Другие женщины смотрели на них и смеялись. Они догадывались, о чём шепчутся девушки.
Илеиль пришла в отчаяние, и глаза её затуманились, и вместо заклинания в чашу с Хумом упала слеза.
Первую наполненную чашу вылили в большой мех, тонкий, выскобленный и сухой, и снова взялись за работу. В эту ночь женщины назвали перед сном имена своих избранников и, ложась, простирали руки к северу, откуда мужчины должны были придти. Они хотели увидеть их во сне.
Три дня жевали женщины Хум и наполнили мех. Потом они положили его у огня и покрыли шкурами. Под этим тёмным и тёплым покровом сонный Хум бродил, бурлил и отцеживался, готовясь к празднику.
После этого женщины стали готовить солнечное колесо и брачное огниво. Солнечное колесо было свито ими из сухой травы. Оно было большое, круглое, со спицами, которые выходили наружу за жгут обода и представляли лучи солнца. Брачное огниво было установлено на столбе из липового дерева. Его выбрали из стоялого сухого леса и укрепили на поляне, поближе к правой стороне. В верхушке этого столба, на вышине человеческого роста, выжгли огнём глубокую круглую дыру. И в эту дыру крепко забили чурбан из красной сосны, сухой и звонкой, как железо. В голове чурбана проходили две длинные жерди, крест-накрест, по выжженным ходам. Эти жерди должны были служить ручками огнива. При помощи их чурбан ходил в своём гнезде туго и со скрипом. Солнечное колесо было укреплено на палке, вставленной в центр чурбана. Оно было прилажено вертикально, на горизонтальной оси.
С этого дня совершилось разделение лагеря на брачных и небрачных, ибо небрачные не имели права не только участвовать, но даже присутствовать при обряде. Небрачными были подростки и дети, а также беременные женщины. Они считались нечистыми и не допускались к обряду. Старухи могли, по желанию, быть вместе с брачными или небрачными.
Небрачная часть лагеря накануне обряда уходила из лагеря и жила отдельно. Они могли вернуться только с новым ущербом луны. Небрачным и непосвящённым присутствовать при брачном обряде было опасно. Брачные мужчины и особенно женщины были свирепы к чужим и могли растерзать постороннего на месте.
Мужская любовь начиналась иначе, чем женская. Молодые люди уже после полнолуния стали смотреть друг на друга косо. Они тоже пели песни и восхваляли подруг, но ещё чаще в песнях своих они осмеивали друг друга. Завязывались ссоры и брачные поединки. Молодые люди внезапно бросали оружие в сторону и убегали в лес. Там они сражались наедине руками и зубами. Ибо, по закону Анаков, древнему и мудрому, брачные поединки происходили без копий и даже без палок. Впрочем, эти поединки были всё-таки ожесточёнными. Соперники возвращались из лесу в шрамах и ранах, с надорванными ушами и вывихнутыми руками. Но на эти раны никто не обращал внимания. К тому же они заживали с необыкновенной быстротой, как будто жажда любви была целительным эликсиром.
Ожесточённее всех сражались Мар и Несс, друзья-соперники. Уже третий праздник они сражались с каким-то слепым ожесточением. И замечательно, что в обычное время они относились друг к другу весьма дружелюбно, и на летних птичьих охотах их челноки постоянно плавали рядом. Но к полнолунию, перед праздником, оба сходили с ума. Ссору начинал Мар, но Несс был сильнее. И на голове Мара была белая плешинка, след прошлогоднего ушиба. Другие юноши сражались за разных женщин, за молодых и даже старых. Мар и Несс сражались только за Охотницу Дину. Оба они преследовали её уже два праздника и оба были рады, что она никому не досталась.
В средний день междулунного промежутка женщины встали с рассветом. Они достали из мешка свои костяные гребни и ушли к ручью; рассыпались порознь и стали разливать и заплетать свои лохматые косы. Это нужно было производить наедине, ибо чесаться на чужих глазах считалось неприличным.
Они вплели в свои косы мелкие раковины и надели на шею ожерелья из косточек вишни, из рыбьих позвонков и маленьких твёрдых жуков, блестящих и чёрно-синих. Они натёрли свои груди жиром и намазали губы ярким соком жучка-листоеда и провели чёрным камнем две черты от углов глаз направо и налево.
Приведя себя в порядок, они стали ждать. Суетливая Элла то и дело убегала на разведку, сперва прямо по лугу, потом направо в лес. В третий раз она воротилась с криком: «Мужчины!» Было это около полудня.
Мужчины были в полном воинском уборе, который одновременно был брачным убором. Волосы у них были тоже расчёсаны и скручены вместе на темени и связаны туго в трубку. Поверх трубки они вставали султаном. Они были украшены орлиными перьями и пучками козьей шерсти, окрашенной в алый цвет.
Грудь мужчин была разрисована чёрными знаками боя, но живот и бёдра имели красные знаки приязни. Они надели на шею крупные бусы из разноцветных камешков неправильной формы. Просверливать такие камни было искусством трудным и медленным. Но каменное ожерелье считалось лучшим украшением брачного мужского наряда.
Мужчины были с копьями и палицами и на плече несли звериные шкуры. Эти шкуры предназначались для брачного подарка женщинам. Каждый мужчина подстилал свою шкуру под ноги избраннице. Потом она уносила её с собою и делала из неё себе плащ. Шкуры были самые отборные – волчьи, рысьи, медвежьи. Приносить оленьи или козлиные шкуры считалось постыдным. Не один охотник носил на своей груди глубокие следы когтей того зверя, шкуру которого он завоевал для брачного подарка. Илл Красный Бык с гордым видом принёс на плече пёструю шкуру огромного барса. Илл задушил его руками в страшном единоборстве, без всякого оружия. Это, конечно, больше всего подобало для брачного дара, и дар Илла был вдвойне ценен и желанен для каждой женщины.
Женская группа теснилась на площадке. Мужчины с важным видом обошли кругом, шагая, как журавли, потом развернулись в линию, подняли копья и с воинским кличем опустили их на землю:
– Игой!..
– Игой! – подхватили женщины своими тонкими голосами. Это был первый брачный хор.
Мужчины тотчас же отошли в сторону и сложили своё оружие, мешки и перевязи. Они покрыли это оружие зелёными ветвями, чтобы оно не видело их брачной пляски.
Два полухора развернулись и встали друг против друга по сторонам площадки.
Красные ягоды созрели,запел женский полухор.
Женские груди налились,ответил мужской полухор.
Красные ягоды соберём,пел женский полухор.
Женские груди сожмём,ответил мужской полухор с новым увлечением.
– Солнце, жги! – подхватили оба хора вместе. Началась брачная пляска, стена против стены. Стена мужчин наступала стремительно, как будто в атаку шла, подходила так близко, что их горячее дыхание обдавало женщин, потом отступала обратно. Женщины плясали на месте, чуть перебирая ногами, и с вызывающей улыбкой посматривали на мужчин.
Первым вышел вперёд для брачного бега Альф Быстроногий. Первый начинающий должен был отличаться особенным проворством.
Женщины тоже выставляли самую быструю, и делом мужской чести было догнать и схватить её как можно быстрее.
Альф сбросил пушистую шкуру на землю и запел, вызывая себе брачную пару:
Я – буйный козёл, Рога мои – копья…Он поднял вверх оба указательные пальца, изображая ими рога:
Я – буйный козёл, Пара, приди! – Не придём, не придём,– пели женщины.
– Дайте невесту,– запел мужской полухор.
– Не дадим, не дадим.– пели женщины.
– Возьмём, возьмём,– пели мужчины.
– Пенну дадим, Пенну, Пенну!..Это была явная насмешка, ибо Пенна Левша была женщина в летах и не могла составить пары для буйного Альфа.
– Не возьмём, не возьмём,– возражали мужчины.
– Асу дадим, Асу, Асу,– лукаво пели женщины. Аса и Пенна были соперницы и стоили друг друга.
– Не возьмём, не возьмём, не возьмём… – Эллу дадим, Эллу, Эллу…И вдруг торопливая Элла выскочила вперёд и быстро пробежала мимо Альфа, проворная, как белка.
Альф бросился за ней, протянул руки и чуть не схватил её, но Элла увернулась и скользнула в сторону. Они обежали площадку по внешнему кругу, и когда Альф снова готов был схватить Эллу, она уже добежала до женской половины.
Женский полухор разбился и построился двумя рядами в виде узкого коридора. В руках у женщин очутились ремни и прутья, до того невидимые.
Элла прыгнула в этот коридор, как мышь в нору. Альф ринулся за ней, как хорёк за мышью.
– Не дадим, не дадим,– пели женщины.
Ремни и прутья в такт пению опускались на обнажённую спину Альфа и оставляли на ней красные следы, но он не обращал внимания на удары. Его глаза были прикованы к белому телу, маленькому и округлому, плотному и проворному, мелькавшему впереди. Он проскочил сквозь женский строй и кинулся за беглянкой.
Второй раз пробежала Элла по кругу и опять увернулась от Альфа и скользнула в коридор. Альфу пришлось пройти сквозь строй вторично.
Его спина вздулась от ярких рубцов. Рисунки на груди стёрлись от жаркого пота. С левого плеча, от какого-то удара, особенно жестокого, брызнула кровь. Но он проскочил сквозь женский строй, как змея сквозь сухие листья, и в три пряжка снова догнал Эллу. Она увернулась, но неудачно, и чуть не упала. Он подхватил её налёту. Поднял вверх и стиснул изо всей мочи. Элла взвизгнула от боли. Объятия Анакских охотников были опасны даже для барсов. Но женщина, пойманная в кругу, была добычей, и с ней следовало поступать так же, как и с подлинным зверем.
– Взял!– крикнули мужчины.
Альф выпустил Эллу и поставил её на брачную шкуру. Она посмотрела на него лукавыми глазами.
Женщины смеялись. В сущности трудно было судить, кто быстрее: Альф или Элла. Это была известная женская уловка: на третьем перебеге уступать желанному, а от нежеланного уходить всеми правдами и неправдами. На перебеге составлялись брачные пары, но редко это случалось против выбора и желания женщин.
– Красные ягоды созрели,– запели снова женщины.
Из мужских рядов одновременно выдвинулись вперёд двое. Мар и Несс. Они остановились в нерешительности, только обменялись горящим, ненавидящим взглядом.
– Кого дадим, кого дадим,– пели женщины лукаво.
Многие смеялись. История Дины и двух влюблённых была хорошо известна всем. Общественное мнение женского лагеря порицало Дину, но только не в эту минуту. Это была минута женского счастья, высшего торжества, свободного выбора и господства над мужчинами.
Мар передёрнул плечами и решительно двинулся вперёд. Несс даже зубами заскрежетал от злости, но посмотрел по сторонам, на лица товарищей, и покорился. Все знали, что Мар быстрее и проворнее. Ему надлежало на этой площадке выступить первому.
– Я – буйный бык,– запел Мар.
– Рога мои – копья. – Дину дадим, Дину, Дину,– пели женщины.
Дина вышла вперёд и стала перед Маром. Лицо её было спокойно, коварно, загадочно. Но все мускулы её тела трепетали. И непроницаемые серые глаза чутко подстерегали каждое движение противника.
В рядах мужчин раздался шёпот и замер. Дина была одета с нарушением всех традиций и даже приличий. Волосы её не были заплетены в косы. Они были собраны на темени в трубку и кончались султаном по-мужски. Но только ни у одного мужчины не было такого пышного, мягкого, ровно расчёсанного султана. Он реял над её головою, как знамя. Волосы Дины были украшены орлиными перьями. Ей пригодился орёл, которого она убила налёту в голодный вешний день.
На плечах её был плащ из шкуры матёрого волка, светло-серого, почти белого. Его огромные зубы скалились за её ухом, уши торчали, как будто у живого. Такой плащ с головой и зубами носили только мужчины. В каждой складке этого плаща и в каждой пряди тёмных волос и во взгляде серых глаз сверкал вызов мужчинам, неукротимый и задорный.
Мар простоял несколько секунд, собираясь с силами. Дина была перед ним, но он знал по опыту, что Мужененавистницу на брачном празднике труднее схватить, чем поймать ужа голыми руками за хвост.
Оба они стояли и следили друг за другом, как волк и куница на травле в старинной сказке Анаков. Наконец, Мар сделал движение, и оба сорвались с места и помчались, как ветер.
Дина бежала мелкими, ровными шагами, но так быстро и плавно, как будто она летела, не касаясь земли. Мар мчался ей вслед большими прыжками. Но когда он прибавлял ходу, Дина тоже ускоряла свой плавный бег, и расстояние между ними не изменялось. Со стороны казалось, будто она ведёт его за собой на невидимой верёвке. Они пробежали по кругу, обогнули мужчин и вернулись назад. И, перебегая вторично через брачную площадку, Дина попутно толкнула ногою брачную шкуру Мара, пышный мех чёрной речной выдры, которую он изловил руками на льду над самой прорубью, благодаря своей ловкости и быстроте. Шкура подскочила вверх и свернулась в комок.
– Го! – крикнули женщины, увлечённые этой новой дерзостью. Несс посмотрел на подбегавшего соперника угрюмым взглядом.
– Это тебе не выдра, – сказал он громко. – Эта проворнее будет.
Дина вскочила на женскую улицу и промчалась наружу. На спину несчастного Мара посыпались палки и плети. Женщины били, не жалея. Он стиснул зубы и вырвался наружу. Три раза обежали они по кругу. Каждый раз пинала Дина брачный дар влюблённого, и снова бичевали его женщины, и когда в третий раз он выскочил из этого живого ущелья, он шатался от боли и от усталости.
– Не взял, не взял,– пели женщины, ликуя.
Мужчины хмурились, но молчали. Это было неоспоримое женское право отвергнуть непроворного.
– Дину дадим, Дину дадим,– запели женщины снова. Они знали, что вслед за Маром на то же состязание выйдет Несс.
И снова встали на брачной площадке Дина и Несс друг против друга. Сильный Несс знал, что не сможет догнать легконогую Дину. И, несмотря на свою силу, он посмотрел на свою избранницу просящими, жалобными глазами. Она ответила тем же коварным и чутким, непроницаемым взглядом. Никогда она не была так красива, как в этот миг. Лицо её разгорелось от бега и ликования. Пышный тёмный султан веял над головой. Вся она была, как степная богиня Амида, которая тешится на перебеге с пугливой антилопой и лёгкой птицелошадью и первая прибегает к меже.
И вот, они сорвались и побежали. Несс бежал тише Мара, и медленнее уходила от него Охотница Дина. На обратном перебеге через брачную площадку она дала ему приблизиться. Руки его уже простирались над её плечами. Но в эту минуту она прыгнула вперёд и нырнула в женское ущелье, как ныряют в воду. На широкую спину Несса посыпались те же удары, какие прежде достались проворному Мару.
Ещё два раза они пробежали по брачному кругу.
– Не взял, не взял,– пели женщины.
Мужчины хмурились. Они были разбиты два раза подряд.
– Кого дадим, кого дадим,– пели женщины.
Вперёд вышел грузный Илл, первый воин племени. Он сдёрнул с плеча широкую барсовую шкуру, взмахнул ею над головой и бросил вниз. Она распрямилась в воздухе и с мягким шорохом легла на землю.
Илл откинул назад голову и запел:
Я – буйный мамонт, Клыки мои – копья. – Литту дадим, Литту дадим,– пели женщины.
Златовласая Литта не выходила сама, и они вытолкнули её почти насильно. Она стояла на площадке и смотрела на Илла широкими, слегка испуганными глазами. Илл был высок и грузен. Его рыжие волосы были коротки, он подрезал их осколками кремня. Борода у него была широкая, огненного цвета. И его красное лицо в этой огненной рамке было, как солнце, окружённое лучами.
Илл тоже смотрел на Литту. Она была без плаща. И волос не заплела по обычаю. Они спускались, как всегда, на её белые плечи длинными, прямыми, светлыми прядями, и её синие глаза выглядывали из-за их покрова, как синие «чаши любви» смотрят из-за густой, уже пожелтевшей травы.
– Возьмём, возьмём, возьмём,– пели мужчины, но Литта не шевелилась. Илл слегка усмехнулся и сделал шаг вперёд. Но в эту минуту неукротимая Элла выскочила не в очередь и скользнула, как горностай, в довольно узкий промежуток между Иллом и Литтой.
– Куда? – ахнули женщины.
Глаза Литты блеснули. Она тряхнула головой, и волосы её отхлынули назад. Она как будто вышла наружу, нагая и белая, как русалка из камыша.
– Я – крыса, крыса, крыса,– дерзко стрекотала Элла. Она сделала круг и подбежала к Иллу с нескрываемым вызовом.
Илл вдруг сорвался с места, в два прыжка догнал Эллу и положил на неё свою огромную руку. Так жёлтый лев прикрыл бы лапой мышь, пробежавшую мимо.
Одною рукою он схватил Эллу и вернулся на площадку. Другою рукою он взял Литту за белое плечо и заставил её ступить вперёд. На барсовой шкуре было довольно места. Он поставил их рядом, – отступил назад и поглядел на обеих с той же спокойной усмешкой. Обе они были разные, но очень красивые, каждая по-своему. Литта была, как зелёное дерево; Элла была, как круглая, юркая мышь.
– Взял, взял,– кричали мужчины с радостным смехом.
Красный Илл возместил двойное поражение двойной победой.
Ещё четыре четы пробежали по брачному кругу. Время шло вперёд. Солнце уже было низко на небе. На этот первый день было довольно ретивой игры.
Ряды смешались. Мужчины и женщины подошли к мешкам, лежавшим в стороне. Здесь были разложены лакомые пироги. Впрочем, пока об еде никто не думал. Это было угощение послебрачное. Но Хума, крепкого вина, нужно было выпить по чаше.
Женщины открыли заветный мех с вином. Тёмный Хум глухо бурлил и постукивал в стенки. Он требовал выпустить его наружу для участия в празднике.
Мужчины и женщины запели песню Хума:
Мы пили Хум, Хум, Живое питьё, Дай нам любовь!Чашей была большая, блестящая, пёстрая раковина. В земле Анаков не было цветных раковин. Они приходили из дальних стран, и Анаки выменивали их у племени Селонов на красильную землю и шкурки оленьих телят, ещё не рождённых, выпоротых у матки из брюха. Эта чаша, впрочем, не была куплена на памяти людей. Она переходила по наследству от поколения к поколению. Она звалась «чаша любви» так же, как синие чаши поздних осенних цветов.
Из своих рук женщины поили Анаков, потом выпили сами. Густое медвяное питьё проникло в пустые желудки и ударило в голову. Жадными глазами мужчины и женщины смотрели друг на друга. Крепкий Хум проснулся в их глазах и засверкал буйным и ярым весельем.
Мужчины и женщины кончали своё пирование быстро и беспорядочно, с одного взгляда, без слов, соединяя свои руки в знак согласия. Зрелые мужчины сходились с юными девушками и юноши со старухами. Хум всех равнял и всех красил.
Новые ссоры завязывались и тотчас же гасли. Вечер был близко. Волны Хума и волны любви мчали их неудержимо вперёд, к брачному таинству.
Красный Илл стоял неподвижно на месте, как столб. Сила Хума была не властна над его головой, крепкой, как дубовая чаша. Только глаза его вспыхнули рыжим огнём. И руки сжались и сами простёрлись вперёд. Элла игриво обежала кругом него, как будто опять повторяя брачные круги. Так лисица делает петли по снегу, подбираясь к куропатке. Илл посмотрел на Эллу, потом отвернулся. Литта стояла перед ним, тоже высокая, стройная, неподвижная, как он сам.
Ярый Хум зажёг красный румянец на её щеках. Или, быть может, это было заходящее солнце? Она была теперь, как белая сопка, покрытая зимним снегом и обожжённая зарёю.
Он стал подходить медленно, шаг за шагом. Литта смотрела ему в глаза, потом зажмурилась, как будто от блеска.
– Солнце, Красный Бык, – сказала она.
Элла сделала ещё один круг и, как ни в чём не бывало, подбежала к Альфу, своему первому избраннику.
– Крыса, прочь! – крикнул Альф бешено.
Но Элла схватила его руками за шею.
– Я кошка, не крыса, – шептала она. – Я задушу тебя.
Они стали бороться грудь в грудь, и крошечная Элла оказалась равной силы с высоким и стройным Альфом, ибо любовь в эти дни всех равняла и всех соединяла. Они упали на землю, но продолжали бороться и на земле, перекатываясь друг через друга и извиваясь, как змеи. Элла укусила Альфа в грудь и запустила свои острые когти в его крепкую, загорелую шею. Он схватил её за волосы и пригнул её голову к земле. Наконец они поднялись, успокоенные, и взялись за руки. Они были теперь четою, готовою к браку.
Мар и Несс подскочили к Охотнице Дине слева и справа и схватили её за руки. Они потянули её в разные стороны, как будто хотели разорвать пополам. Но Дина тряхнула плечами и выдернула руки. Потом с удивлением посмотрела на того и на другого. Насилие над женщиной не допускалось на брачном празднике Анаков даже в самые пьяные и буйные минуты.
Соперники ответили ей взглядом бешеной ненависти.
– Плащ, – шипели они, – от кого плащ?
– А, плащ, – засмеялась Дина. – От мужа моего брачный дар…
– Какой муж? – взвизгнул Мар. – Где он?
– Муж мой покойный, – сказала Дина громко и весело. – Вот его голова. Он головой заплатил вместо брачного дара. Мой серый волк… А вы заплатите?..
– Заплатим, – крикнули оба и оторвали глаза от соблазнительницы и скрестили их, как копья.
– Который из вас?
– О-о!..
Соперники взвыли от злости волчьим голосом, как будто хотели уподобиться тому покойному мужу Охотницы Дины, шкуру с которого она сняла собственными белыми руками.
Руки Мара и Несса соединились. Ещё минута, и они бы стиснули друг друга объятием бешенства. Но на брачной площадке были запрещены всякие иные объятия, кроме любовных. С яростным криком и визгом они оставили Дину и бросились в лес. Они бежали, как братья, держась за руки, но бежали они под сень тёмного леса для нового брачного боя.
Дина посмотрела им вслед и тихо засмеялась. И почти тотчас же обернулась назад на новый призыв.
Перед нею стоял Рул. Он был высокий и тонкий. И, стоя на месте, он качался, как тростинка. Лицо его было бело, и в широко открытых глазах чёрным пламенем горел тяжёлый Хум.
– Ты, – сказал он отрывисто, как будто выдохнул сквозь сжатые зубы.
– Что тебе, мальчик? – сказала Дина с удивлением, но кротко.
– Ты приходила ко мне, – сказал Рул также отрывисто.
– Когда приходила?
– Ты… Она…
– Кто она? – спросила Дина снова с растущим удивлением.
У ней четыре ноги и два тела,запел неожиданно Рул:
Одно тело женское, другое мужское. Велит, говорит: «Возьми себе женское, Оставь мне мужское».– Это Хум говорит, – сказала Дина в виде объяснения. – Слабая твоя голова.
Рул быстро снял с плеча шкуру барсука, скромный брачный дар слабого юноши, и бросил её на землю под ноги Дине. Потом, к её новому удивлению, он сам упал перед нею на землю и простёрся на шкуре у её ног.
– Выбери меня, – сказал он изнемогающим голосом.
– Зачем? – сказала Дина, делая вид, что она не понимает.
– Топчи меня ногами, – шептал Рул. – Брачный дар – шкура моего тела.
По лицу Дины пробежала как будто молния, и глаза её вспыхнули. Потом они погасли, но вместо обычной холодной твёрдости в них засветилась жалость. Она посмотрела на Рула такими глазами, какими смотрела на малых детей в голодное утро на берегу реки Даданы. Рул лежал ничком перед её ногами.
– Мальчик, встань, – сказала Дина кротко.
Он поднял голову и посмотрел на неё, и в глазах его сверкнуло пламя неукротимого голода. Этот голод был страшнее весеннего голода детей.
– Встань, Рул!..
Он обнял её нагие колени и стиснул их изо всех сил, как будто хотел уронить Дину на землю. Потом руки его ослабели и разжались. В углах его рта выступила пена. Он был без чувств.
На лице Дины выразилась жалость. Она нагнулась над ним и подняла его своими сильными руками. Она села на землю, разостлала барсучью шкуру и положила голову Рула к себе на колени, и поглаживала его по щекам, и баюкала его бесчувственное тело, как баюкают ребёнка.
– Рул, мальчик, – шептала она.
У неё было к нему странное, смешанное чувство. Как будто это был не жалкий влюблённый, а сын от её плоти. Любовь его роднила его с её плотью и будила в её непокорном сердце страсть материнства, жаркую, странную, почти плотскую. Ей захотелось его больную голову, пьяную от страшного Хума, приложить к своей груди, как прикладывают младенца; вместо вина любви напоить его молоком материнства. Но грудь её была девственна и не имела молока, и не могла узнать мягких уст сосущего младенца…
Спанда и Исса тоже стояли рядом и смотрели друг на друга. Оба были старые, седые. Длинная борода колдуна была даже седая с зеленью. Впрочем, он был высокий, могучий. Был он похож на старый дуб, сверху поросший древесным зеленоватым мхом. Исса была маленькая, сухая, кожа и кости, несмотря на обильное питание лета. Но глазки у неё были живые. Тёмный Хум зажёг в них хмельное веселье, и они бегали кругом, как будто плясали брачную пляску на утоптанной площадке.
Старая колдунья выпрямила свой сгорбленный стан и с вызывающим видом помахивала посохом.
Спанда посмотрел на неё сверху и погладил рукою зелёную бороду.
– Ну, что ты умеешь? – сказал он, подмигивая. Лицо его, впрочем, сохраняло прежнюю важность.
– Хи! – усмехнулась Исса. – На две стороны умею: убивать, оживлять, дарить, отнимать, чары строить.
– Ну-ка, ну-ка, – поощрял её Спанда, – какие, скажи!
– Хи! – усмехнулась Исса. – Любовные, всякие.
– Ну покажи, – подбодрял её Спанда.
– Сейчас!
Она обежала вокруг Спанды три раза вприскочку. Странно было видеть такие лёгкие движения в этом сухом старческом теле. Она прыгала вокруг старого колдуна, как молодая девочка. Потом она встала против Спанды, закинула голову назад и впилась в его глаза своими вороватыми зелёными глазками.
– Красным червём заползу в твоё чрево, свяжу паутиной, изъем твой покой. Крепкий запах мой войдёт в твои ноздри. Будешь тянуться к моим грудям, как голодный сосун.
Спанда с серьёзным видом разгладил свои усы.
– Сильные чары!
– Ага! – сказала Исса. – Всё на свете бывает на две стороны, как бревно на перевесе. Один конец опустится, другой поднимется. Где твоя сторона?
– Вот моя сторона, – сказал Спанда. Он обернулся лицом к заходящему солнцу. Его большие серые глаза смотрели на солнце, не мигая и не закрываясь. Нос у него был большой, загнутый книзу, и весь он был, как старый орёл, грузный и белоголовый.
– Солнце, жги! – повторял он знакомый припев.
В его старых глазах блеснула жёлтая искра. Даже борода его приняла красноватый оттенок, и весь он стал похож на Красного Илла.
И как будто заражаясь сознанием этого странного сходства, Исса бросилась в сторону и побежала по тропинке.
– Хватай меня! – крикнула она на бегу.
Она проворно катилась вперёд, и движения её были, как движения Эллы Певучей на брачном перебеге. Старый Спанда смотрел ей вслед и не двигался с места…
Два брата Сёма и две сестры, Винда и Рея-Волчица, плясали на месте, схватившись за руки. Сёстры принесли своих младенцев и положили их на траву. Младенцы лежали смирно и не плакали. Быть может, они сознавали, что в эту минуту никто не обратит внимания на их плач.
Юн положил Юне на плечи свои тяжёлые руки.
– Где мой Мышонок? – спросил он низким тоном. Его глаза не отрывались от её глаз, и руки его слегка раскачивали плотное тело жены.
– Там, – показала она головой. – Что ты так смотришь? – тотчас же прибавила она. – Он был во мне. Теперь вышел наружу.
Она была заботливая мать. Но в эту минуту она думала не о ребёнке. Он был слишком велик, и она отдала его Лото и забыла о нём на брачное время… Её голова горела и кружилась. Грудь бессознательно тянулась вперёд. Ей казалось, что тело её стало легче и мягче и тает под праздничным солнцем, как жир у огня.
– Ого! – сказал Юн. – Мой Мышонок! Вырос, должно быть…
Юна покорно вздохнула и подчинилась настроению мужа.
– Да, вырос, – сказала она. – На тебя похож.
Юн неожиданно стиснул жену крепким объятием и поднял вверх. Он приблизил свои губы к её уху, но вместо любовного слова шепнул ей на ухо то же заветное имя:
– Мой Мышонок…
Юна закинула мужу руки на шею и попыталась угнездиться на его широкой груди.
– Поноси меня, – шепнула она, – как носишь ребёночка.
Голос её звучал детскою просьбой. Юн поднял это тяжёлое, плотное тело и понёс к брачному огниву. И ему казалось, что он сжимает общим объятием мать и ребёнка…
Элла Большая была с высоким Лиасом, Пенна Левша схватила за руку Санга и увлекла с собою, бросив попутно Асе-Без-Зуба победоносный взгляд.
Аса не обратила на неё внимания. Она стояла на месте и мутными глазами смотрела в сторону. Потом отошла, покачиваясь, и тихо побрела вправо по направлению к лесу. Никто её не останавливал и даже не посмотрел на неё. Пенна с Сангом исчезли. Аса шла, спотыкаясь. В её голову вошёл Хум, самый чёрный, густой, как дождь. Он вёл её в дубраву, и она не могла противиться.
Потом Аса вошла в лес и повернула налево. Её движения изменились, шаги стали тверже, и глаза сверкнули лукавством. Хум ли вёл Асу в дубраву, или Аса вела Хума, но они поладили друг с другом и продвигались по дороге торопливо, даже вприпрыжку.
Аса говорила своему Хуму:
– Я всех веселее, ищу того, кто всех веселее…
И её красные глазки шныряли по сторонам и искали в листве.
Среди высоких буков никого не было. Аса забралась в орешник, густой, почти непроходимый. И здесь, в круглой ложбине, которая была похожа на хороший зелёный шалаш, она увидела Дило Горбуна. Он стоял на четвереньках по своему обычаю. Она тоже встала на четвереньки и посмотрела на него.
– Видел? – спросила Аса.
– А как же, – ответил хладнокровно Дило. – Я тут как тут.
Оба засмеялись.
– И меня видел? – спросила Аса с кокетливым видом.
Вместо ответа Дило сделал движение плечами, и в этом лёгком движении отразилось всё сладострастие и натиск и томность брачного танца. Аса с лукавым видом погрозила ему пальцем.
– Ты непосвящённый, – сказала она.
– Пустое, – сказал Горбун весело. – Волки живут без посвящения, а прыгают высоко.
– А ты видел? – заинтересовалась Аса.
– Видел, – кивнул головою Дило. – Волка и волчицу.
Глаза Асы сверкнули странным огнём.
– Как они любят? – спросила она.
Дило засмеялся. Аса сделала шаг вперёд и остановилась.
– Я принесла тебе Хум, – сказала она.
– Где? – спросил торопливо Горбун. – Давай.
– Вот здесь.
Она показала пальцем на грудь. Серая пола её мехового плаща была мокрая. Аса вылила сюда лишнюю чашу вина и принесла её Горбуну в виде брачного дара.
Дило быстро подполз к соблазнительнице и жадно стал всасывать хмельное питьё из мокрого меха.
Она схватила его голову и прижала к груди.
– Как любят волки? – шепнула она ему на ухо.
Солнце спустилось ещё ниже. Нужно было исполнить вторую часть брачного обряда. Анаки подошли к колесу и стали у перекладин песта четырьмя рядами. Два ряда было мужских и два ряда женских. То были четыре луча брачного колеса. Они положили руки на деревянные жерди и уже напирали на них грудью и топали ногами о землю, сгорая от нетерпения.
– Солнце, солнце, солнце, – запели они вместе, – дай огня!
Они двинулись вперёд, вращая спицы колеса. Мужчины шли за женщинами и женщины за мужчинами, и вечно вращались и не могли догнать друг друга. Пест медленно и туго ходил в гнезде, обтирая тесные стенки.
– Солнце, жги! – пели Анаки.
И огниво скрипело и тоже пело вместе с ними: «Жжи!..»
– Солнце, солнце, солнце, дай любовь, – пели Анаки. Они двигались всё быстрее, и колесо скрипело громче и пронзительнее.
– Солнце, жги! – уже не пели, а ревели Анаки. А солнце спускалось на землю, большое и красное. Оно было теперь, как огромный костёр, круглый и алый, и Анаки были алы, и им казалось, что они пылают в пламени этого костра.
– Жги! – ревели Анаки. Они бежали теперь, что было мочи, и как будто гнались, мужчины за женщинами и женщины за мужчинами, вечно гнались и не могли догнать друг друга. Лучи колеса вертелись со свистом. Им казалось, что эти лучи несутся сами собой, увлекают их вместе. Ноги их как будто не успевали ступать по земле. Иногда они поднимались и волочились сзади, и переступали в воздухе. Бешеное колесо увлекало Анаков вперёд, как горсть перьев, приклеенных рыбьим клеем к его свистящим лучам.
Солнце спустилось до самой земли и слегка затмилось тонкими вечерними парами.
«Жж!..» – скрипело колесо. Густой клуб дыма хлынул из-под песта и ударил фонтаном вверх.
– Жги! – ревели Анаки в неистовстве. Лучи колеса вертелись с несказанной быстротой. Небо и земля, и солнце, и поля кружились в глазах. Анаки перестали разбирать, где они и где солнце, где мужчины и где женщины.
«Жж!..» – гудело колесо. Первый язык пламени ударил из-под песта, потом другой, третий. Колесо мчалось всё в огне, Анаки мчались вслед за ним. Таинство брака совершилось в дереве. Большое соломенное солнце поравнялось с круглым огненным шаром, спустившимся там, далеко, на край горизонта. И всё заволоклось дымом и вспыхнуло пламенем. В ослеплённых глазах Анаков оба солнца слились и перемешались, и они не знали, которое пылает в тучах, которое в дыму. Соломенное солнце исчезло. Красное солнце стало спускаться за край горизонта. Оно как будто входило внутрь, врубалось в земную твердь своим пламенным, красным и круглым топором. Таинство брака совершилось в природе. Красное солнце слилось с землёй.
Глава 8
Три ночи Яррий и Ронта ночевали у Гррамов. Чёрные люди дружески относились к молодому Анаку. Они заставили его выдрать по клочку шерсти из каждой квадратной головы. Яррий ещё раз ходил с ними на диких козлов, уже не ночью, а днём. Но козлы оказались слишком осторожны, и охотники не смогли подобраться к ним так близко, как надо. Зато на обратном пути он очень удивил Гррамов своим барканом. Это было орудие для охоты на птиц. Оно состояло из шести костяных шариков, привязанных на ремешках. Ремешки были с другого конца связаны вместе в пучок.
Яррий пустил это орудие в стаю уток, пролетевших над его головой. Баркан развернулся налёту, и шарики встали порознь на тонких ремённых лучах. Как будто огромная лапа растопырилась в воздухе и летела на птиц. Утки испугались и потеряли голову. Баркан налетел сбоку. Одна из уток шарахнулась влево, потом вправо, задела крылом баркан.
Тотчас же костяные пули обрушились на её тело, и ремённые лучи захлестнулись. Она грянулась на землю и по дороге неизвестно как задела ещё другую и увлекла с собой.
Гррамы смотрели с удивлением и страхом на этот род охоты, новый и непонятный. Они даже боялись подходить к убитым птицам, и когда Яррий размотал баркан и поднёс младшему охотнику, тот с криком отскочил в сторону, как будто от змеи. Загонщик оказался храбрее. Он осторожно взял баркан пальцами за кончик ремённого пучка, поднял вверх и стал рассматривать на расстоянии, как опасную гадину. Баркан не шевелился. Тогда загонщик понемногу осмелел и стал перебирать пальцами ремённые лучи. Он попробовал даже бросить баркан вверх, но ремешки спутались и не развернулись колесом. Баркан упал вниз почти на его голову. Он сморщил лоб от гнева или от размышления. Потом подобрал несколько маленьких круглых камешков, зажал их в горсть и попробовал метнуть в другую стаю уток, пролетавшую вверху. Камни полетели в разные стороны и упали вниз. И на этот раз один из камней больно задел другого охотника, очень толстого и чёрного. Они чуть не подрались из-за этого.
Мальчишки оказались переимчивее взрослых. Они сделали себе палки по образцу дротика, заострили их на огне и целый день упражнялись в навесном метании, по примеру Яррия. У них был очень верный глаз. И почти сразу они стали попадать в ствол дерева, служивший им мишенью.
Три девчонки, которые были в племени, ходили неотступно за Ронтой. Её белая кожа служила для них предметом неистощимого любопытства. Они дотрагивались до её рук и плеч и даже тёрли их пальцами, как будто хотели стереть светлый налёт и вывести наружу здоровую чёрную кожу. И, наконец, один раз они принесли из костра мелкого угля и пепла и хотели зачернить ими светлое тело Ронты. Оно, очевидно, казалось им некрасивым или неприличным. Ронта даже обиделась, потом рассмеялась. Она пробовала учить их анакским словам, но они не могли выговаривать ясно и путались, и будто давились анакскими звуками. И каждое слово у них выходило гортанно и сбивалось на «груарр».
После Гррамов они плыли шесть дней, останавливаясь только на ночные часы. Река стала широкая, как море. Берега сделались ниже. Вместо высоких Яров и обрывистых скал были пологие склоны. Леса стали иные. Липа и бук заменились осиной и ольхой. Везде тянулись заросли кустов, ореховых и ивовых, густых, непроходимых. Зато отдельные буки, липы и клёны стояли огромные, развесистые, как шатры.
На шестом ночлеге произошла их первая ссора. В тот вечер они пристали к берегу в обычное время и скоро изжарили мясо на ужин. Костёр догорел, они не прибавили дров. Они сидели рядом под липой, широкой, как туча. Звёзды тихо мерцали. И в ветвях липы над их головой защёлкал Бульбуль, серая птичка, у которой в горле поёт живая дудочка. Этой дудочке подражают анакские дети на своих камышовых свирелях. И почти безотчётно Яррий протянул руку и привлёк Ронту к себе на грудь. Она сначала покорилась, и скоро руки Яррия стали смелее. Оба они не отдавали себе ясного отчёта в своих чувствах и действиях. Но через минуту Ронта вырвалась и отодвинулась в сторону.
Яррий не сделал попытки удержать её. Было темно под деревом. Они сидели, на глядя друг на друга.
– Ронта, – наконец окликнул Яррий.
– Я, – отозвалась девушка неохотно и не сразу.
– Отчего ты такая?
– Такая, – повторила девушка уныло и негромко. И в голосе её звучало подтверждение.
Яррий повернул к ней лицо и стал рассматривать её в темноте. В тусклом мерцании звёздного света, проходившего сквозь листву, она показалась ему страшно маленькой, не больше ребёнка.
Руки его только что обнимали её тело и, как будто, ещё ощущали её острые плечи.
– Ты как Милка, – сказал он, наконец, неуверенным тоном.
– Милка – сестра моя, – отозвалась Ронта грустно.
– Как сестра? – спросил Яррий с минутным удивлением.
– Мы все были сёстры, – сказала Ронта грустно.
– Всё равно, – сказал Яррий, – долгие годы пройдут, и Милка не будет ещё сидеть в роще кленовой.
– Я тоже не буду, – сказала Ронта тихо, и голос её прозвучал как будто упрёком. Они больше ничего не сказали, но в эту ночь, противно привычке своей, они спали порознь.
Яррий, впрочем, не спал. Он ходил взад и вперёд с копьём в руках по зелёному берегу, как будто дозором. То смотрел по сторонам, не крадётся ли хищник, то думал и сам не знал, о чём, но ему было грустно. И временами ему казалось, что враг Юн, которого он оставил сзади на столько дней пути, уже тут, близко и крадётся сквозь тьму. И он поворачивался назад и стискивал копьё, готовый нанести удар в немое пространство.
На следующее утро они не отправились в путь. Яррий вытащил челнок выше и стал зарывать в песок, по обычаю пловцов. Ронта сначала ему помогала, а потом спросила:
– Разве мы не поедем сегодня дальше?
Яррий поднял голову и вяло сказал:
– Зачем?
И Ронта сказала:
– Ты обещал мне показать синее море и великанов с клыками, как у мамонта.
И Яррий покачал головой и сказал:
– Я не поеду, я устал.
Ронта немного подождала, потом подошла и положила ему руки на плечи.
– Ты сердишься, Яррий? – спросила она.
И так же просто и грустно Яррий ответил:
– Я не знаю.
Две недели они прожили здесь, не трогаясь с места. Странная это была жизнь. Место было удобное, обильное пищей. В кустах на опушке созрели ягоды, чёрные и красные и ещё другие – жёлтые, крупно-зернистые, пахучие и сладкие. Таких ягод не было в земле Анаков. Они росли по мокрым местам, на низеньких кустиках. И ещё были ягоды, голубые, с лёгким пушком; они висели большими кистями и стлались по земле. И сколько бы их ни есть, нельзя было наесться досыта. Только в ушах начинало шуметь, и светлые искры плясали в глазах, как будто от Хума.
В жёлтых холмах, поодаль от реки, было много кроликов. Рядом с их становищем в Дадану впадал ручей, узкий, почти пересохший от летнего зноя. Но, несмотря на мелководье, в ручье было много рыбы. Она входила из реки и шла вверх, обезумев от жажды нереста. Она была крупная, с блестящей чешуёй. Рыба перепрыгивала с камня на камень, сверкая серебряным боком, иногда выбрасывалась на траву. Её можно было ловить просто руками.
Солнце светило так же ясно и безоблачно, как и на летовьях Анаков по Калаве и по Сарне. Снизу, от речного устья, прилетал ветер, но скоро улетал дальше. Они бродили целый день по окрестным полям не вместе и не совсем отдельно, ибо, если Ронта уходила в холмы и долго не показывалась, Яррий ощущал беспокойство и отправлялся на поиски, часто даже не отдавая себе отчёта. Но стоило ему увидеть вдали её белое плечо, он останавливался и, не подходя ближе, принимался за какое-нибудь дело, большей частью ненужное, – выламывал палку и начинал точить новое древко для дротика, собирал смолу для жевания в трещинах дерева, раскапывал землю в погоне за большими чёрными пауками, которых анакские дети ненавидели и всегда тщательно выкапывали из земли и уничтожали.
Они, впрочем, не ссорились, но и не мирились, как следует. Разговаривали мало. Ронта больше не спрашивала о поездке. Она жила, как живётся, изо дня в день. Спала на куче листьев под ветвистым осокорем, но Яррий больше не спал рядом с ней. Он садился у костра с копьём в руках, как сидят на тропинке хищных зверей или в засаде на красной стезе войны. Так сидя, он чутко дремал до утра, оберегая Ронту.
Лето перегнулось через середину и тихо покатилось на светлую осень. И Яррий видел кругом себя сладкий праздник любви и рождения. Всё живое соединялось парами. Всё торопилось жить, любить и наслаждаться, пока не настали сырость и холод. Он один проводил свои дни уныло и бесцельно. Иногда в знойный полдень, когда птицы щебетали над его головой и гонялись друг за другом, он чувствовал, что пьянеет от этого солнца и щебета, как будто от Хума. Глаза его беспокойно бегали кругом и находили подругу, ноги его подходили сами, и руки тянулись к Ронте. Она смотрела на него с удивлением и тревогой. Была она худенькая, как мальчик, и тонкая, как тростинка. С каждым днём она как будто становилась не старше, а моложе, и возвращалась обратно от пышной осени к незрелой весне.
– Чего ты хочешь? – спрашивала она невинно. И он ничего не отвечал и уходил обратно.
Лебеди и гуси вывели птенцов и учили их плавать. Птица Бульбуль ловила мошек для своих голодных детей. В лисьих норах появились маленькие лисенята. В полдень они выползали из устья норы наружу и щурили свои плохо прорезанные глаза на яркое солнце, потом уползали обратно. Олени и быки, и козы, и степные антилопы соединялись в пары только теперь. Они были похожи на Анаков, ибо их жёны носили детей долго и рождали их весной одновременно с анакскими жёнами. Яррий видел, как молодые красношёрстные олени, которые живут в лесах и не собираются стадами, стучат рогами о древесные стволы, вызывая друг друга на битву, совсем как Мар и Несс, а темношёрстная самка стоит в стороне, ожидая развязки, и делает вид, что щиплет траву и украдкой посматривает на битву.
И при этом зрелище у Яррия напрягались руки и сжимались кулаки. Он свирепо поводил глазами и отыскивал соперника, но соперника не было. Побеждённый олень, весь в крови, с разбитой головой, убегал с храпом. И победитель, гордо потрясая ветвистыми рогами, подходит к завоёванной добыче.
Яррий отыскивал глазами свою подругу. Её белые плечи мелькали вдали, но она плела венок из поздних цветов и зелёных трав и не смотрела на него. В один вечер они сидели у костра на берегу реки. Солнце садилось. За рыбным ручьём тихо гоготали гуси, устраиваясь на ночлег. Яррий был особенно печален. Ронта посмотрела на него и увидела, что его щёки поблекли и под глазами набежали синие круги от бессонных ночей.
– Что мучит тебя? – спросила она тихо.
Яррий не отвечал.
– Я сделаю всё, что ты хочешь, – сказала Ронта, опустив голову.
Яррий неожиданно вскочил, топнул ногой и бешено крикнул:
– Ялама!
Но на другой день с утра он не отходил от подруги. Ронта пошла в поле, он пошёл вслед за ней. Они вошли в лес и дошли до поляны. Поляна была круглая, озарённая солнцем, заросшая травою, как будто озеро. Тихо было в лесу, даже птицы не щебетали. И в этой тишине перед их глазами явилось лесное чудо, одно из тех зрелищ, которые нужно наблюдать, не шевелясь и с затаённым дыханием. На поляну выскочили две кабарги, самец и самка. Они были маленькие, с большими клыками и стройными ножками. И пахло от них брачным мускусом, пьяным и крепким. Они стали бегать по поляне и гоняться друг за другом. Они бросались одна к другой и слегка касались, потом поднимались на задние ноги и клали передние копытца друг другу на плечи, как будто боролись и вместе с тем обнимались.
– Ты видишь, Ронта? – сказал Яррий без слов, одними глазами.
– Вижу, – шепнула Ронта. – Они справляют осенний обряд.
Кабарги как будто услышали и кинулись в сторону, и обе исчезли в чаще.
– Слушай, Ронта, – сказал Яррий. – Если ты хочешь, мы тоже справим осенний обряд.
– Как мы справим? – спросила Ронта неуверенно.
– Сделаем солнце осеннее, – сказал Яррий, – и заставим петь огниво. Ты будешь, как жёны, а я, как мужи. В синей крови ягод найдём свой Хум. И спляшем брачную пляску и будем – племя.
– Хорошо, – сказала Ронта. Лицо её оживилось, и глаза смотрели на юношу с прежней простой и детской радостью.
– Я косы заплету, – сказала она, – и надену венок. Мы будем плясать, и будет весело.
Они не стали медлить и в тот же день принялись за работу.
Они сделали огниво по смутным описаниям, которые всё-таки передавались между детьми. Яррию было много хлопот, чтобы вырубить своим кремнёвым топором и выжечь огнём деревянную ступу и пест. Ронта сплела соломенное солнце, и они укрепили его высоко на спице.
Она надавила сладкого сока из синих гроздьев и приготовила еду.
Яррий собрал свою русую гриву султаном, раскрасил своё тело, взял оружие, повесил на плечо шкуру дикого козла, которую ему дали Гррамы, другого брачного дара у него не было, – и ушёл в лес. Через минуту он явился и мерным шагом прошёл на площадку у брачного огнива.
– Игой! – радостно окликнул он.
– Игой! – ответила Ронта звонким голосом.
Он посмотрел на неё влюблёнными глазами. Она омылась в реке, заплела свои светлые косы и надела на голову венок, сплетённый из колосьев дикого овса и мелких голубых цветочков. Круглых синих чаш любви она не нашла на этих лугах. Вся она была белая и свежая, как ручей или как молодая берёзка с ещё не затвердевшим стволом. Яррию вдруг захотелось бросить всё и схватить её, и унести в лес, и вобрать её всю в себя, чтобы она растворилась в нём, и чтобы даже красное око Солнца больше не могло смотреть на её красоту.
Он удержал этот порыв, но чувства его искали выхода. И, не снимая оружия, он стукнул копьём о землю и откинул голову, и вместо брачного хора запел песню, как певали анакские юноши в предбрачное время.
– Красная ягода Ронта, – пел Яррий, – белая рыбка, солнечный луч, заря розолицая, синяя чаша любви.
Ликуя, он осыпал её всеми ласковыми именами, какие приходили ему в голову. Он бросил ей под ноги свой брачный дар. Он был готов вырвать из груди своё сердце и бросить ей под ноги.
Ронта слушала, лукаво улыбаясь, склонив набок голову. В эту минуту ребёнок готов был стать женщиной, и поздний синий цветок осени готов был, наконец, развернуть свои лепестки и обнажить середину.
– Ронту возьму, – громко выкрикивал Яррий. – Не дам никому! Ронта моя!.. – Выходи, – крикнул он изо всей мочи, и в ближнем лесу отдалось эхо, как будто духи, услужливые и коварные, спешили передать его вызов дальше и привлечь соперника.
И, словно в ответ на этот вызов, из лесу выскочил человек и побежал по тропинке, направляясь к ним. Он был странный и страшный. У него была смуглая кожа, чёрная грива и косматая грудь, почти такая же, как у Гррамов. На нём не было ни пояса, ни дорожного мешка, и в руках у него не было никакого оружия. Но ногти на его пальцах были длинные, твёрдые, как будто кремнёвые.
Не доходя до брачной площадки, он остановился и горящими глазами посмотрел сперва на Ронту, потом на Яррия. Яррий узнал «Полевого Бродягу». В племени Анаков, а также у Селонов и у Тосков бывали такие неуживчивые люди, которые, достигнув зрелых лет, бросали товарищей и уходили в поле, чтобы жить в одиночестве. Они скоро дичали, теряли копьё и палицу и жили, охотясь на кроликов и ланей руками и зубами, как медведи. Анаки называли их Бродягами и относились к ним без гнева. Они иногда попадались анакским охотникам в лесах, но никого не трогали. И Анаки их не трогали. Было поверье, что если кто ранит Бродягу, тот до окончания года получит такую же рану от мстящего духа. Ибо духи, как и люди, имели таких же Бродяг, и эти заступались за своих людских товарищей. Таких же свирепых самцов-бродяг имели все крупные звери – кабаны и олени, волки и мамонты.
Из Анакского племени последний Бродяга ушёл много лет тому назад, когда Яррий был ещё ребёнком. Яррий не помнил его лица и не мог бы сказать, он это или не он. Они отдалились на много дней пути от Анакских охотничьих полей, но Бродяги блуждали повсюду, не считаясь с границами племён. Этот Бродяга был не молод, но очень крепок. В его волосах не было мёртвых шерстинок зимнего цвета. Кожа на его плечах и руках была смуглая и твёрдая, как рог.
Бродяга отвернулся от Яррия и снова посмотрел на Ронту.
– Ж-жа, – вырвалось из его груди с резким вздохом, как будто из полного меха с Хумом, как только его откроют. Все члены его тела пришли в возбуждение. Не теряя времени, он обежал брачное огниво с наружной стороны и бросился на Ронту.
– Ай, – крикнула Ронта в ужасе и отскочила в сторону. Яррий с копьём в руках бросился на защиту и заслонил дорогу пришельцу. Ронта отбежала ещё и встала у дерева, готовая каждую минуту сорваться прочь и мчаться, как испуганная лань.
Брачный обряд неожиданно дополнился. Здесь были два соперника, которые должны были вести борьбу за обладание женщиной.
Бродяга тоже понял это. Он остановился перед Яррием в двух шагах от наконечника его копья, посмотрел ему в лицо, потом заскрежетал зубами и ударил себя кулаком в грудь.
Тогда Яррий вспомнил, что брачные бои Анаков ведутся без копий и палиц. Недолго думая, он отбросил в сторону оружие и встал в такую же позу, как дикий Бродяга. И также заскрежетал зубами и ударил себя кулаком в грудь. Руки у него были безволосые, но такие же крепкие, как у нападавшего. Зубы и челюсти были слабее, чем у звероподобного Бродяги. В его голове, как молния, сверкнула мысль: надо бороться так же, как Илл Бородатый боролся с медведем. Ибо за два года перед тем Илл Красный Бык покрыл себе спину куском конской шкуры и вышел на поиски медведя с ножом в руках. Он охватил медведя своими могучими руками и подпёр ему подбородок своей квадратной головой. Потом нащупал нужное место, ткнул медведя ножом под левую лопатку и угодил прямо в сердце.
Притопывая и приплясывая, боком, решительно и вместе с тем осторожно, они стали сближаться. Соперники походили на турухтанов, когда те собираются в пляске брачного боя вонзить друг другу в тело свои острые шпоры. И вдруг они бросились друг на друга и схватились и сплелись вместе. Яррий нагнул голову вперёд, зарыл её под густую бороду Бродяги и крепко подпёр его толстую челюсть. Потом обхватил его спину руками и сжал, что было мочи. Бродяга пошатнулся от напора. Руки его легли на спину Яррия, но она не была покрыта крепкой кожей коня. И десять когтей впились в его незащищённое тело и разодрали его влево и вправо, как когти тигра разрывают спину оленя.
Он крикнул от боли не своим голосом. Ронта ответила жалобным криком. Сила его как будто удесятерилась от этого крика. Он просунул правую ногу между узловатых ног Бродяги, рванул его в сторону и ударил его о землю, и сам тоже упал, увлекаемый собственным натиском.
Падая, Бродяга ударился с размаха спиной и головой о крепкий обрубок древесного пня, короткий и рогатый, который остался от брачного огнива и валялся тут же. Руки Бродяги разжались, и глаза закатились. Он захрипел и стал бить ногами о землю, как заколотый олень. Потом изо рта его хлынула струя крови и залила Яррию грудь и лицо.
Через минуту Яррий поднялся с места. Он тоже был ошеломлён падением, но теперь он был победителем. Голова его кружилась от напряжения борьбы. Он дико посмотрел кругом и увидел Ронту. Она стояла под деревом и дрожала, как в лихорадке. Белая она была, чистая, как будто пугливая снеговица, русалка зимнего леса, которая прячется в дуплах и вылетает в вихре снежном, при первом звонком ударе кремнёвого топора о мёрзлое дерево.
Глаза его, горящие бешенством борьбы, зажглись другим инстинктом и налились кровью, как у поверженного Бродяги.
Он сделал шаг вперёд и стал медленно приближаться к Ронте. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, как смотрят на призрак. Он был страшен. Брачные краски его тела наполовину стёрлись и смешались с алыми знаками свежих ран. Его растрёпанный султан был красен от крови противника. Он был переполнен звериным брачным желанием.
– Ж-жа! – вырвался у него такой же звук, как у недавнего соперника. Он подходил, не торопясь. Ронта не убегала, но она протянула вперёд тонкие отстраняющие руки.
Он обхватил её плечи и прижал её к себе. Они стали бороться точно так же, как недавно боролись он и Бродяга. И так же он просунул предательскую ногу и повалил Ронту навзничь и упал на неё, но она взвизгнула, как раненая белка, и изо всей силы укусила его в грудь своими острыми зубами.
Миг, и она выскользнула и вскочила на ноги. Яррий тоже поднялся и бросился к ней. Она не стала убегать. Она смело обернулась к нему. Глаза её горели, большие, ненавидящие.
– Прочь, – сказала она ему, – гадина!..
Чёрное проклятие Иссы владело ею. Она смотрела на Яррия, и он казался ей похожим на Красного Илла, а вместе с тем на убитого врага. Яррий молчал.
– Бродяга, изгнанник! – крикнула Ронта вне себя от возбуждения. – Я уйду, я вернусь к племени.
– Иди! – сказал Яррий бешено. – Они зарежут тебя.
Это были его первые слова после борьбы с Бродягой. Но он не сделал новой попытки броситься на девушку.
– Пусть режут, – сказала Ронта, – я поцелую нож, который ударит меня в сердце. К племени, к племени!..
Она повернулась и пустилась бежать вдоль берега Даданы.
Яррий сделал шаг вперёд, как бы собираясь пуститься вдогонку. Но она повернула лицо и бросила уже на бегу:
– Прочь, дикая тварь!..
И эти слова ударили его в лицо, как древко копья. Он, тем не менее, ничего не сказал, только пожал плечами, подобрал копьё и спустился к реке. Раны его болели. Он машинально обмыл их холодной водой, но лица не обмыл. Потом сел тут же на большой камень, опустил голову и стал смотреть в воду. Вода сперва мутилась, потом стала чище и светлее. Он увидел под собою в воде человеческое лицо. Оно было страшное, с дикими глазами, в кровавых пятнах. Он не узнал этого лица, и так же, как Ронте, ему показалось, что это лицо недавно убитого Бродяги. И как недавно, перед поединком, он смотрел на Бродягу, так теперь Бродяга смотрел на него.
– Чего ты смотришь? – спросил он наконец, не будучи в силах выдержать этот горящий взгляд.
Лицо Бродяги в воде тоже зашевелило губами, и ему послышалось из воды тихое: «Встань!»
Он послушно встал, но продолжал смотреть вниз, в воду.
Бродяга тоже встал.
– Ну? – спросил Яррий равнодушным тоном. Он ожидал услышать новое приказание. Но ему было всё равно, что делать сейчас.
– Иди, – сказал Бродяга.
– Куда?
– Иди, иди, – настаивал призрак и кивал головой.
Рябь побежала по воде, и призрак исчез, потом опять появился. Но в это короткое мгновение он успел измениться. Лицо у него стало другое и покрылось лоснящейся шерстью коричневого цвета. Над головой стояли ветвистые рога. Это была теперь голова оленя. Яррий узнал его. Это был тот самый олень, с которым он сражался на весенней охоте за белую тёлку.
– Иди, – сказал олень, потрясая рогами. Вода запенилась. Это была кровавая пена. Тело оленя тоже как будто покрылось кровавою плёнкой. И Яррий узнал его снова. Как и тогда на реке, это был Ободранный Олень. Он был весь красный. Только сверкали белки сердитых глаз, большие, дикие.
– Иди, – сказал олень.
– Куда? – спросил Яррий с каменным равнодушием.
– Верни её, – сказал олень.
– Кого? – спросил Яррий прежним тоном.
– Белую тёлку, – сказал олень.
– Зачем?
– Они зарежут её, – сказал олень. – В замену, в замену!..
Он неожиданно рванулся и прыгнул вверх всеми четырьмя ногами, как будто хотел выпрыгнуть из воды наружу. Яррий вспомнил этот отчаянный прыжок. Он кивнул оленю головой. Ему казалось, что этот олень такой же воин и Анак, как он сам. И лицо его было похоже на лицо Яррия.
– Я пойду, – сказал Яррий.
Он встал с места, поднялся наверх, методически собрал свои вещи и приготовился в путь. Потом бросил беглый взгляд на брачное огниво. Оно стояло нетронутое и молча просило брачного огня.
Он взял головню из костра и поднёс к соломенному солнцу. Оно закурилось и вспыхнуло. Горсть сухого пепла упала вниз на голову огнива. Яррий сурово посмотрел на этот серый пепел, в котором ещё пробегали последние золотые искры. Потом нагнулся, дунул и раздул пепел по ветру.
Он повернулся к реке и лёгким шагом пошёл вдоль берега по той же дороге, по которой убежала Ронта.
Глава 9
Много дней продолжался праздник осеннего солнца. Молодой месяц вынес на небеса свои тонкие рога, и с каждым вечером он становился старше, и рога его становились толще. Потом он повернул к земле своё широкое лицо. Но Анаки не смотрели на него. Они смотрели друг на друга и засыпали, обнявшись. Утром они просыпались и смотрели на солнце. Оно улыбалось в ответ, не уставало смотреть на брачное игрище и не покрывалось туманом. Не уставали и Анаки.
Но в одно утро, проснувшись, они увидели с левой стороны дневное лицо месяца. Он смотрел на них холодными и скучными глазами, как будто с того света, уныло, загадочно и вместе с тем насмешливо. И они разомкнули объятия и посмотрели друг на друга такими же холодными глазами, и все лица были бледны, как лицо месяца.
– Уйти бы, – думали мужчины и мечтали о весне, когда охотники ходят отдельно от женской орды, свободные, как птицы. Теперь же надо было идти на зимние квартиры вместе с женщинами и детьми.
Брачный и небрачный лагерь соединились вместе и уже на другой день тронулись в путь. Женщины несли на плечах грудных детей и мешки со скарбом. Мужчины надели плащи и собрали оружие. Молодые охотники рыскали кругом в поисках добычи и приходили только к вечеру на новую стоянку. Праздничный месяц съел все запасы, и, как обыкновенно, племя ждала холодная и голодная зима.
Мужчины постарше помогали женщинам. Юн Чёрный посадил себе на плечи своего быстроглазого Мышонка и неутомимо шагал вперёд. Юн ничего не говорил и как будто даже не замечал своей ноши. Но она грела его шею, как меховое ожерелье, и он радостно думал, что это тепло будет согревать его тело в долгую зимнюю стужу. Мальчику было весело. Он громко смеялся, болтал ножками и хватался руками за чёрную гриву отца.
Зимняя стоянка Анаков лежала в грядах Кенайских гор, на три дня пути от брачных полей. Эти гряды тянулись белыми террасами; в террасах были пещеры, глубокие и ветвистые, когда-то прорытые водой, а потом высохшие. В этих пещерах и жили зимой Анаки. Они занимали большую пещеру на средней террасе, ставили два шалаша, один у левой стены, другой у правой. Шалаши были сплетены из ивовых прутьев и покрыты сухой травой. Они походили по форме на сундуки, узкие и низкие и очень длинные. В этих шалашах на грудах листьев, покрытых шкурами, спали Анаки. Они согревали своё помещение теплом собственного тела, и им было хорошо спать. Женская орда спала в левом шалаше, а мужская в правом. В промежутке между шалашами разводились костры.
Обе половины племени жили вместе и всё же отдельно. Их чувства спали, усыплённые осенним холодом. Они думали о пище, а не о любви. Кенайские холмы имели ещё другое преимущество. Кроме Анаков, в осеннее время сюда приходили также Мамонты Сса, привлекаемые полями зелёного хвоща, который был для них лакомым кормом. Хвощ был тоненький и рос не очень густо, но именно на этом хвоще быстро отъедались и жирели эти чудовищные звери. В осеннее время Анаки занимались охотой на Мамонтов Сса. Правда, почтение их к Помощнику Отца было сильно, но голод был ещё сильнее и не хотел считаться даже с богами.
Охота на Мамонтов сопровождалась различными церемониями и очистительными обрядами перед страшною жертвой. Кроме того, племя имело право убить только одного Мамонта. Потом следовало немедленно устроить искупительный праздник и принести очистительную жертву духу и телу Сса. Анаки могли убить огромного зверя только одним способом. Их копья и палицы были слишком слабым оружием для его непроницаемой шкуры. Но Мамонты ходили к водопою на речку Урулд, протекавшую мимо пещеры. Их тропы были глубоко вытоптаны в земле тяжеловесными ступнями. Они походили скорее на русло сухого ручья, чем на звериную тропу. На этих тропах Анаки копали глубокие ямы-ловушки. Они приходили всем племенем с жёнами и детьми, осторожно снимали дёрн и верхний слой земли и в один день вырывали огромную воронку с остроконечным дном. В этом дне они укрепляли прямой древесный ствол с острым концом, обожжённый в огне. Потом закрывали яму хворостом, закладывали дёрном, а вынутую землю уносили подальше. Мамонты не отличались особой осторожностью. Сса был царь земли, и ему некого было опасаться.
Он один из всех зверей ещё не научился бояться человека.
Часто в ту же ночь Зверь-Гора извещал трубным звуком окрестные поля, что он в яме. Анаки приходили только утром и с большой осторожностью. Другие Мамонты часто по целым суткам сторожили у ловушки и пытались вытащить товарища своими крепкими хоботами. Но потом они уходили и не возвращались обратно. Они больше не приходили к этой тропе и выбирали себе новый водопой, пониже или повыше. И в ту же ловушку нельзя было поймать двух Мамонтов подряд. Впрочем, после удачной охоты Анаки обычно заваливали яму землёй, чтобы показать Мамонтам, что они непричастны к их беде.
Зверь-Гора был в яме. Он засел в ней плотно всеми четырьмя ногами. Страшный кол пробил ему брюхо и высунул сквозь спину своё обугленное рыло. Теперь оно было уже не чёрное, а красное от крови. Чем дальше, тем Мамонт садился глубже, и кол выходил наружу, как огромный деревянный гвоздь, как будто кто-то забивал его снизу. Страшный могучий Зверь-Гора не мог пошевельнуться. Яма стиснула его своей тупой пастью и как будто силилась проглотить его целиком. Только огромный хобот, весь в круглых кожистых кольцах, был свободен. Зверь-Гора поднимал его вверх, и, несмотря на глубину ямы, хобот пленника доставал до краёв. Мамонт судорожно водил хоботом взад-вперёд, разыскивая, за что бы ухватиться, но ухватиться было не за что.
Племя Анаков было наверху, кругом ямы. Здесь были все – мужчины, женщины, дети, кроме грудных младенцев; неугомонные мальчишки Антек и Лиас, сыновья Майры, прибежали сюда раньше других. Зверя Сса не мог победить отдельный охотник, его побеждало племя. Братья Румы, конечно, не оставались позади. Карлик-шакал теперь был гладок, и шерсть его лоснилась. Он смело бегал среди людей, тявкал и бросался к яме. Он, очевидно, тоже желал принять участие в этой великой охоте.
Женщины в этой охоте были важнее мужчин, ибо победу над Сса давала не грубая сила, а сложное волшебство. Это волшебство было доступно только женщинам. Оно побеждало Сса и потом отстраняло его посмертную месть.
Мужчины, женщины и дети держались за руки и вели кругом ямы огромный хоровод. Старая Лото шла во главе хоровода. У неё был на голове меховой убор странной формы. Спереди свешивалась длинная узкая полоска. Этот убор представлял голову Мамонта с длинным хоботом. Лото изображала тётку Мамонта, Дантру, которая по верованиям Анаков жила в неведомых глубинах земли, но ныне явилась самолично, в помощь Анакам, заклинать племянника. Исса шла рядом с Лото. Она была запевалой хоровода.
Лото держала в руках два камня, ибо у Дантры были каменные копыта. Она сильно ударяла одним камнем о другой.
– Дантра идёт, – запели громко Анаки.
– Дедушка Сса, – затянула Исса своим дребезжащим голосом: – Дантра, тётка твоя, а наша прабабушка, велит говорить тебе: «Не пугай нас, умри!»
– Умри! – подхватили оглушительным хором Анаки. – Умри, умри!..
И как бы в ответ Зверь-Гора вытянул вверх беспокойный кончик своего трубчатого носа и пустил к небу высокий, долгий, пронзительный рёв или вой: Хрнхр…
Сса ревел. И все Анаки ревностно вторили, тонкие детские голоса взвивались к небесам, и тоньше всех поднимался вой четвероногого Рума, плаксивый и вместе с тем ликующий. Это был как будто истинный голос этого лицемерного хора почтительных убийц.
Рёв Мамонта оборвался так же внезапно, как начался; беспокойный кончик его хобота снова забегал по краю ямы.
Теперь Анаки пришли в возбуждение. Лото стучала камнями. Исса шла перед нею и пела:
Стучи, стучи! Ворон крячет, сухое дерево трещит. Дантра, стучи! Носатый ликует, добычу предчувствует.– Умри! – кричали ребятишки и топали ногами.
Неугомонный Лиас выбился из хоровода наружу, потом обежал кругом и проскочил обратно между Лото и Иссой. Теперь он был внутри хоровода. Он ещё раз обежал кругом, размахивая ручонками и визжа от восторга. И вдруг кончик хобота как будто раздвинулся, стал тонок и длинен и вытянулся наружу. Так тянется червяк, выходя из земли и желая ухватиться за далеко стоящую былинку. Лиас с криком отскочил назад, но было уже поздно. Короткий серый палец хобота поймал его за руку. Потом вокруг его тела скользнула как будто серая верёвка или змея. Мальчик крикнул и тотчас же мелькнул в воздухе и исчез в яме. Послышался глухой удар, и крик оборвался. Всё это случилось в одно мгновение. Хоровод ревел по-прежнему: «Умри!» Но в общем рёве прорезался дикий крик Майры, матери Лиаса: «Не тронь!»
Это относилось не к пленному зверю, а к Иссе. Мальчик, в своей неудачной попытке спастись, отскочил к колдунье, и она протянула руки, чтобы схватить его. Но матери показалось, что колдунья толкнула его обратно к яме.
Майра сделала попытку выскочить из цепи хоровода и броситься в яму, но соседи крепко держали её за руки. Хоровод мчался вперёд по своей круговой стезе и увлекал её за собою. Но теперь Анаки кричали: «Возьми, возьми!»
Лёгкая человеческая жертва пленному зверю была прекрасным предзнаменованием, особенно так, как это случилось, – невзначай. И больше всего для этого годился один из близнецов Майры Глиняной.
«Дьявол дал, дьявол взял», – подумали Анаки.
Они приносили человеческие жертвы редко, только в случаях крайних бедствий. Но дух Зверя-Горы, который погибал в яме, конечно, нуждался в примирении. Сса, Помощник Творца, требовал в свою очередь человеческого помощника и провожатого в тот таинственный путь, который ему предстояло совершить после смерти.
Праздник воскресения зверей должен был совершиться тотчас же после разделки Мамонта. По счёту Анаков, этим праздником заканчивалась осень и начиналась зима, сырая и холодная. Четыре времени года у Анаков были отмечены как будто четырьмя вехами. Весна называлась «бродячее время», ибо она начиналась уходом с зимних стоянок. Мужской и женский лагеря разбивались врозь и медленно шли вперёд на расстоянии дня пути, направляясь к реке Дадане и охотничьим полям. Лето называлось «время встречи», ибо оно начиналось после оленьей охоты и оканчивалось встречей с жёнами, праздником брака и осеннего солнца. Осень называлась «время воскресения зверей», ибо она заканчивалась этим праздником. Зима называлась кратко и выразительно: «время смертей».
Зверь-Гора, очевидно, вполне удовлетворился полученной жертвой, ибо тотчас же после того он замолк и больше не подавал признаков жизни. К вечеру женщины, наконец, осмелились спуститься в яму. Сса был мёртв. Но разделывать на части эту огромную тушу в узкой яме было очень трудным делом. Кожа Сса была толстая и крепкая, как дерево. Чтобы сделать хоть что-нибудь, нужно было прежде всего окопать и убрать землю кругом трупа, потом подобраться к животу и подмышкам, где кожа была мягче.
Три долгих дня всё племя кромсало огромную тушу большими кремнями и вытаскивало её наружу кусок за куском. Потом кожу удалось раздвоить и раздвинуть в стороны, как два огромных щита. Женщины добрались до связок и сухожилий и стали с несравненным искусством отделять член от члена и сустав от сустава.
Тело Лиаса отыскалось в земляной стенке ямы. Огромный зверь в своих предсмертных конвульсиях вмял мальчика во влажную глину. Но члены маленького тела не были повреждены. Только шея была надломлена, и русая головка неестественно повисла, как сломанный цветок. Старухи очистили тело от земли, обмыли и положили на шкуре у большого костра внутри пещеры. Оно должно было лежать здесь, как главная жертва Мамонту Сса во время праздника.
В середине четвёртого дня, когда работы у ямы закончились, молодёжь разбрелась по окрестным полям. Нужно было набрать травы Сонт для завтрашнего праздника. Это была высокая, тонкая, шелковистая трава. Она росла капризно, островками и клочками, больше всего по низинкам и по мокрым долочкам. И её трудно было находить на этих сухих известковых грядах в такое позднее осеннее время. Но без травы Сонт нельзя было устроить праздника. Она употреблялась на новые шубы для воскресающих зверей.
Мальчики и девочки сошли к речке Урулд и пошли вниз по течению. Другие перебрались через речку и пошли наперерез луга.
Дило тоже ушёл вслед за другими. Но вместо того, чтобы спуститься вниз, он пошёл по высокой белой террасе, потом повернул на запад и углубился в горы. В сущности, это были не горы, а только холмы, но довольно крутые, часто почти отвесные. Как будто кто-то взрезал твёрдую землю прямыми складками и отвернул пласты, а местами разрубил поперёк, как женщины рубят широким ножом длинную ленту коры или хребтового мяса.
Дило шёл вперёд неслышно и неторопливо, пересекая складки гряд; ловко взбирался наверх, проходил по ярам и ущельям, перебредал через ручьи. Он мало думал о траве Сонт. Вместо этого он рассматривал камешки в ручьях и россыпях и иные прятал в свой поясной мешок, ибо на этот раз Горбун захватил с собой не только мешок, но даже дротик. В одном месте он нашёл пластинку, прозрачную, как лёд, и твёрдую, как лучший кремень. У неё были грани, как у зелёного стручка. Анаки называли такие пластинки ледяными стручками. Он завернул её в вялые листья и спрятал особо. В другом месте он отыскал несколько каменных зёрен неправильной формы и ярко-синего цвета и засмеялся от удовольствия.
Из этих зёрен посредством кремнёвого сверла, песка и воды он собирался высверлить синие бусы для нового ожерелья. Этим ожерельем он хотел украсить собственную шею в знак совершеннолетия. Ибо он чувствовал себя совершеннолетним, хотя и не прошёл сквозь обряд посвящения и не толкал брачного колеса своей искривлённой грудью. Он выглядел теперь много старше и крепче. Щёки его обросли пухом, редким, но довольно грубым; плечи стали шире, а руки вытянулись и завязались крепкими мускулами. Теперь Дило Лягушонок не стал бы просить, чтобы его приняли в девчонки. Он чувствовал себя мужчиной и даже охотником. Именно поэтому он захватил с собою дротик, который достался ему в наследство от Яррия. Впрочем, это был дротик его собственной работы, ибо в минувшие годы его любимым занятием было чинить и выделывать оружие для своего удачливого друга.
Но теперь он думал о собственной добыче. Он шёл вперёд осторожно и неслышно и зорко посматривал по сторонам, не увидит ли козы, или молодого оленя, или мелкой свиньи, какие водились в низких лесах по этим ущельям.
Когда он перерезал четвёртое ущелье, прошёл через лес и взобрался на северный склон, который чаще всего оставался открытым, он увидел дичь крупнее, чем рассчитывал. Это были Буа, бородатые быки, крупные, с большими, широко расставленными рогами. В открытом поле даже медведи и тигры боялись нападать на Буа. Он мог подкинуть противника вверх своим широким квадратным лбом не хуже, чем Сса. Анаки ставили на Буа петли из крепкого ремня на лесных тропинках. Но старые быки часто разрывали самую крепкую петлю или ломали дерево, к которому она была привязана. Конечно, Дило не мог и думать о том, чтобы напасть на этих огромных зверей. Их было четыре – старый бык, две коровы и один небольшой телёнок. Он посмотрел на телёнка и покачал головой. Без больших это была бы подходящая добыча.
И, будто на пущий соблазн новоиспечённому охотнику, телёнок стал отдаляться от больших Буа. Он отыскал полоску рыхлого камня, грязно-белую, зернистую, похожую на грязный снег. Нагнув голову к земле, телёнок усердно лизал этот рассыпчатый камень.
Дило знал этот камень. Анаки называли его горьким камнем. Через много веков потомки назвали его солью. Женщины иногда собирали его в летнее время, превращали в песок и примешивали к тухлому мясу и испорченной рыбе, но мужчины не любили его. Они говорили, что вкус его напоминает пепел.
Дило посмотрел кругом и увидел небольшую пластинку того же камня почти у себя под рукой. Он отломил кусочек и почти машинально сунул его в рот, но тотчас же с отвращением выплюнул. Густая горечь проникла как будто внутрь его нёба.
«Точно жёлчь», – подумал он с отвращением.
Телёнок ещё подвинулся вперёд. Дило посмотрел ему вслед и увидел, что с этого места ущелье становится круче и поднимается вверх. По сторонам его были отвесные дикие скалы. И в глубине выступал массивный навес из серого камня. Под навесом темнело полуприкрытое сверху, широкое устье подземного хода, как будто провал.
Дило узнал это место.
«Это Кандарское устье», – подумал он.
Кандарским устьем открывалась целая сеть пещер и подземных проходов. Иные из них выходили по ту сторону гряды, к верховьям речки Урулд. Другие спускались вглубь земли, неведомо куда.
«Там бы засесть», – подумал Дило, провожая глазами телёнка.
В эту минуту в осыпях серого камня, на полуподъёме к Кандарскому входу, Дило заметил камешек – огненно-алый и круглый. Камень этот сверкал и как будто разгорался ярким и странным светом.
Глаза у Дило тоже разгорелись.
«Это на среднюю подвеску, – подумал он. – Ни у кого не будет такого ожерелья».
Он стал переползать к новой находке, вслед за телёнком, очень осторожно, чтобы не увидели большие, и почти тотчас же увидел другой камень, рядом с первым, не больше, как на пядь. И этот был такой же яркий, багровый, струящийся. Дило даже не по себе стало. Камни сверкали, как угли, и как будто бросали искры. Они смотрели на него, как страшные глаза.
Телёнок был гораздо ближе к этим светящимся камням. Он вёл себя странно. Он перестал лизать свой горький песок. Тело его трепетало. Он промычал чуть слышно, как будто простонал, и сделал шаг вперёд.
И вдруг Горбуну показалось, что спина ущелья встаёт дыбом перед его глазами. Камни полетели во все стороны.
«Земля сердится», – подумал Дило в страхе.
Старые женщины говорили, что бывает время, когда земля сердится и поднимает спину дыбом, швыряет камнями во все стороны, и даже горы плюются пламенем. Тогда убежать невозможно, ибо твёрдые рёбра земли ходят под ногами, как волны. До сих пор Дило этому не очень верил, но теперь это начиналось воочию.
Однако под его ногами земля была спокойна. Но ущелье окончательно встало, выгнулось и приняло форму огромного зверя. Дило смотрел на него с остолбенением. Он никогда не видел такого зверя и даже не слышал о нём. Зверь был так велик, что наполнил собою ущелье. Сса, Зверь-Гора, перед ним был, как новорождённый младенец. У него были низкие лапы и грузное тело. Оно становилось тоньше к заду и переходило в огромный хвост. Хвост этот был похож на древесный корень. И кончик его был тонкий и как будто уходил в груду серых камней. И цвет зверя был такой же грязно-серый, как будто каменный. На спине его были широкие, смутно очерченные пятна, как отпечатки плит.
«Каменный зверь», – подумал Дило с трепетом. Шея у зверя была длинная, голова плоская, и для такого тела не очень большая. Он припал на своих крепких лапах и, протянув шею вперёд, мерно покачивал головой влево и вправо, влево и вправо.
Как алые камни были его глаза. Они сверкали и струили багровые лучи, и поворачивались мерно: влево и вправо.
Тело зверя не шевелилось, но голова и глаза как будто плясали.
«Колдует, должно быть», – подумал Дило, и сердце его замерло.
И, привлекаемый странными чарами этих пляшущих глаз, телёнок сделал ещё шаг вперёд. Голова нагнулась. Страшные зубы впились в тело добычи.
Голова Каменного Зверя схватила и подняла вверх молодого Буа, как серая куница хватает полевую мышь.
Телёнок крикнул, как человек. И ему ответил яростный рёв взрослых Буа внизу. Огромный бык шёл впереди на подмогу питомцу стада. Он опустил голову к земле и выставил рога. И, по обычаю Буа, он останавливался по временам, тряс бородою, рыл землю копытами и грозно ревел для устрашения противника.
Страшный Каменный Зверь бросил телёнка и сердито зашипел, как рассерженный змей, но только гораздо громче. Его алые глаза яростно блеснули. И когда Буа снова поднял голову и увидел этот блеск, ему, должно быть, стало страшно. Он перестал реветь и уже собирался повернуть обратно перед лицом своих рогатых жён, шедших сзади, как боевой резерв. Но в эту минуту Каменный Зверь оттолкнулся хвостом, отделился от своего места и скользнул вниз быстро, как обвал, но так неслышно, как будто его огромное тело было сделано из облака.
Ещё минута, и он схватил быка передними лапами и повалил его на землю, потом схватил его зубами за спину так же легко, как выдра хватает мясистого леща, мягко повернулся всем телом назад и быстро пополз обратно вверх по ущелью. У него были короткие лапы, но он двигался быстро и уверенно, и его огромный гибкий хвост был как будто пятая нога страшной силы и вместе с тем как руль для внезапных поворотов.
Ещё через минуту он исчез под каменным навесом в устье Кандарского прохода. Другие Буа бежали в ужасе. Всё это совершилось так быстро, что Дило опомниться не успел, как уже перед ним никого не было.
«Не приснилось ли мне?» – подумал Дило. Но тело телёнка, всё в крови, лежало на камнях, где бросил его Зверь для новой добычи.
– Он вернётся за ним, – подумал Дило. И при этой мысли ноги его развязались от оцепенения и сами повернули назад. И он помчался по камням не хуже Буа, спеша уйти от страшных глаз и убийственных зубов таинственного зверя.
Только на третьем перевале он остановился, задыхаясь. В бешеном беге у него подвернулась нога, и нужно было волей-неволей перевести дух. Он посмотрел осторожно кругом. Опасности не было видно. Зверь остался сзади, занятый своей добычей.
«Что же это за зверь? – подумал Дило в десятый раз. – Быть может, это дьявол?»
Но до сих пор Дило не верил, что духи и дьяволы существуют отдельно от людей и зверей.
Однако о таком звере не рассказывал ни один анакский охотник. Дило стал думать дальше и вспомнил рассказы о сказочных Реках. По рассказам, Реки были огромные звери, и люди вели против них истребительную войну. В одной сказке страшный Рек напал на целое племя и истребил всех людей, мужчин и женщин. В другой сказке, напротив, люди умертвили Река и бросили его тело около стойбища. И когда не хватило припасов зимою, люди взялись за тушу Река и стали срезать мясо с костей. Но каждую ночь кости снова обрастали мясом, и туша принимала прежний вид. Всю зиму племя питалось неистощимым мясом Река, но весной пришла зараза и унесла всех. Река тоже не стало. Он исчез, отомщённый.
«Быть может, это тоже Рек», – думал Дило. Но сказочные Реки описывались иначе. Они были с рогами на носу, с твёрдой острозубчатой спиной, с чешуйчатой шеей. У многих были перепончатые крылья, как у летучих мышей.
Этот Рек был гладкий, серый, без рогов и без крыльев. Голова и шея у него были, как у гигантского змея, и когти длиннее, чем у медведя, и хвост, как длинная ладья, и глаза, как угли из костра. Дило не знал, куда его причислить.
Горбун вернулся домой к вечеру, перед закатом солнца. День, впрочем, был облачный, и солнца не было. По небу ползли тяжёлые серые тучи, похожие на чудовищ. Мальчик, однако, не думал о небе и о тучах. На нём не было лица, глаза его выкатывались из орбит. Он бежал по старой привычке своей на четвереньках, и дыхание его выходило со свистом от быстрого бега.
Мужчины и женщины побросали свою работу, вскочили с мест и бросились ему навстречу.
– Кто гонится? – кричали они с тревогой. Но он прокатился мимо, как испуганный заяц, вскочил в пещеру и забился в тёмный угол женского шалаша. Ему казалось, что под этой двойною кровлей, каменной и травяной, он будет более безопасен от страшного врага. Мужчины с недоумением смотрели в сторону его прихода, но там ничего не было видно. Женщины и дети столпились у входа пещеры и ждали, чтобы Горбун показался. Но Дило упрямо сидел в спальном шалаше.
– Дило! – наконец окликнула его Аса-Без-Зуба, которая подошла сюда одною из первых.
– Я… – боязливо отозвался голос из тёмной глубины.
– Выходи, Дило!
– Я боюсь!..
– Никого нет. Выходи. Кто напугал тебя?
– Зверь, – сказал Дило тихо.
– Какой зверь? – спрашивали Анаки наперебой. – Никакого зверя не видно.
– Может быть, Пёстрый, – сказала Аса участливым тоном. Под этим именем Анаки подразумевали тигра. Но другие засмеялись. Трудно было предполагать, чтобы пёстрый хищник дал уйти этой неловкой хромой добыче.
– Может быть, крыса, – сказала насмешливым тоном Элла Сорока, которая тоже была тут, впереди всех.
– Зверь, дьявол! – сказал наконец Дило.
– Какой дьявол? – переспросила Аса с недоумением.
– Дьявол, Рек…
– Ты расскажи, что ты видел, – терпеливо сказала Аса. – Какой он был из себя?
– Как гора, – сказал Дило.
Женщины смотрели на него с растущим изумлением.
– Зверь-Гора? – высказала Аса предположение. Она подумала о Мамонте. Дило покачал головой.
– Больше Зверя-Горы, больше утёса… Сдвинулся вниз, и камни посыпались.
– Обвал?.. – сказала Аса опять.
– Не обвал, – сказал Дило с раздражением. – Каменный Рек, живой каменный дьявол.
Мужчины тоже подошли.
– Что же он делал? – спросил Мар с любопытством.
– Ел. Вытянул шею и съел двух Буа. О, какие зубы! Я сам видел…
Он даже зажмурился, как будто отгоняя от себя страшное зрелище.
– А тебя вот не съел, – настаивала Элла по-прежнему насмешливо.
– Если бы был Рек, – вмешалась Илеиль, – дышал бы огнём.
– Дышал огнём, – тотчас же откликнулся Дило. Он не стал спорить против этой новой подробности. Его собственное неверие исчезло без следа. И он готов был поверить во всё сверхъестественное. Теперь ему действительно казалось, что страшный зверь дышал огнём.
Альф Быстроногий пожал плечами и сказал:
– Гора… Дышит огнём… Приснилось ему…
Он полагал, что Дило заснул и видел во сне огнедышащую гору. На восток от Анакской земли была гора Музач, которая дышала огнём. И иногда скитаясь в той стороне, охотники видели в ночные часы тусклое зарево над её вершиной. Но в этой местности не было гор, дышащих пламенем.
– Я не спал, – угрюмо возразил Дило. – И совсем не гора. Зверь – как гора. Спина из плит. В глазах огонь и камень. Лапы и пасть. О, какая пасть! Схватил большого Буа, и кости хрястнули…
Альф посмотрел на него недоверчивым взглядом.
– Это не сказка? – спросил он подозрительно. – Ты мастер на сказки… Где это было?
И Дило отвернулся от него и ещё угрюмее сказал:
– Не знаю, отстань!..
Юн Чёрный, стоявший поодаль, слушал внимательно. Теперь он тоже подошёл и спросил:
– А какое у него было лицо?
– Такое, каменное, – тотчас же ответил Дило.
– Белое?
– Да, серое, – Дило кивнул головой.
– Серебристое, мерцающее?
Мальчик кивнул головой с новой готовностью. Вопросы Юна совпадали с настроением того дикого ущелья и голых камней, грязно белых, ало мерцающих, странных.
Юн немного помолчал и потом сказал:
– Это Месяц.
Спанда тоже приблизился. Два колдуна стояли друг против друга с хмурыми лицами.
– Какой Месяц? – проворчал Спанда. – Я не понимаю.
– Лунный Дракон, – твёрдо сказал Юн.
Племя стояло и ждало разъяснения.
– Вы знаете, – сказал Юн, – что в тёмные дни, после ущерба, Месяц приходит на землю и становится Драконом.
– Что ты говоришь? – сказал с удивлением Спанда. – Месяц вон там, на месте своём.
И, будто в подтверждение, на горизонте разорвались тучи; вышла полная луна и белым глазом своим посмотрела на Анаков.
– Место его на земле и на небе, – сказал Юн упрямо. – Ходит, где хочет.
– Зачем бы ему приходить? – усомнился Спанда снова.
– Мы обещали ему жертву и удержали её, – сказал Юн. – Затем, должно быть, пришёл.
– Ты обещал, – сказал Спанда с ударением.
– За племя обещал, – жёстко возразил Юн. – За весеннюю добычу.
Анаки молчали.
– Теперь надо отдать, – сказал Юн. – Завет переступили.
– Кого отдать? – сурово спросил Спанда.
– Белой телицы замену, – сказал Юн бесповоротно, – чтоб хуже не было.
– Меня отдайте, – вдруг крикнул Дило. – Я переступил завет.
– Молчи ты, – крикнула Аса с испугом. Если бы раскрылся их маленький грешок во время праздника, рассерженные Анаки могли бы побить их камнями по старому обычаю.
– Ты дёшево стоишь, – сказал Юн, – если он сам не захотел взять.
– Постойте, – сказал Спанда. – Вот завтра мы пойдём и посмотрим, какой Дракон и чего он хочет.
– Завтра праздник, – заговорили Анаки.
– Ну, после праздника, – сказал Спанда, – утром. С бубнами пойдём и с дарами. И спросим его. Если он там и хочет, пусть скажет… Мы дадим.
– Мы дадим, – угрюмо подтвердил Юн, – чтоб хуже не было.
Глава 10
Праздник начался на другой день с рассветом. Женщины плотно завесили вход в пещеру и развели огонь. Своды пещеры наполнились дымом, пахучим и едким. В пещере было темно, и искры огня сверкали сквозь дымную завесу, как будто в сумраке ненастного вечера.
Около костра, на видном месте, устроили «гостей». Это были воскресающие звери. Главное место занимал Мамонт Сса. Он был представлен куском собственной шкуры, на которой лежали оба глаза, щепотка шерсти с подгрудка, частицы сердца и печени, крошки мозга, кусочки жира от почек. Мёртвые глаза были круглые, матовые, с жилками пожелтевшей крови. Их повернули к огню зрачками, и дымное пламя слабо отразилось в их тусклом овале.
Рядом с глазами стояла фигурка Мамонта, сделанная из жертвенных трав, истолчённых и смятых в тесто. Это была душа Мамонта, – вторая, съедобная. Анаки съели её вместе с мясом и заменили фигурой. Главная душа, не съедобная, незримо витала тут же. Рядом с душою Мамонта лежало тело мальчика Лиаса. Перед Мамонтом на шкуре лежала новая одежда: два пучка травы, тщательно подобранной, былинка к былинке, и перевязанной корою, и отборная пища – сушёный жир, лесные яблоки, ягоды. Это были дары гостеприимства высокому гостю.
Женщины и мужчины доставали из сумок символы других зверей и раскладывали на шкурах. Олени были представлены куском нижней челюсти с мелкими, недоразвитыми резцами, лошади – жёлтым копытом, волки – шкурой с лапы, медведи – чёрным обрезком кожи от носа. Здесь были также уши зайцев, крылья лебедей и гусей, кости крупных рыб. И хотя от каждой добычи была взята только небольшая частица, все вместе составляло значительную тяжесть. Анаки переносили её на своих плечах вместе со своим несложным скарбом. Весь этот сбор нужно было непременно принести на Праздник Воскресения Зверей, ибо без этого звериная порода должна была иссякнуть и охотничье счастье споткнуться о камень неудачи.
Женщины разложили эти звериные мощи кругом Мамонта Сса, каждую породу особо. Спанда и Юн достали две кожи жертвенных бубнов, размягчили их жиром и натянули на деревянные ободья. Эти два бубна они повесили над гостями. Один назначался для Мамонта Сса, другой для младших гостей. Мужчины и женщины тоже натянули на ободья кожаные плёнки и вооружились звонкими заячьими лапками, засушенными от долгого употребления и чёрными от копоти.
Женщины украсили свои плащи пучками разноцветной шерсти, окрашенной алой корой ольхи и чёрным дымом можжевельника. Старая Лото скрылась в женском шалаше. Она должна была выйти оттуда потом, в середине праздника.
Исса взяла бубен и стала обходить все углы пещеры, расселины, проходы, отверстия наружу. У каждой щели она останавливалась, постукивала в бубен заячьей лапкой и шептала: «Чужие, не входите». Это делалось для того, чтобы обезопасить церемонию от вторжения посторонних духов. Они могли расстроить переговоры с гостями, захватить часть жертвы и вообще нарушить великое празднество Анаков.
Женщины сели на корточки рядом, по левую сторону огня, лицом к звериным символам.
Мужчины встали с бубнами по правую сторону.
По знаку, данному Иссой, женщины завопили неистовым голосом:
– Пришли, пришли, пришли!..
– Привет гостям, – отозвались мужчины и ударили в бубны.
– Вы устали? – спрашивали женщины ласковым тоном. – Разденьтесь. Мы приготовили вам новые плащи. Вы озябли, погрейтесь у огня. Вот пища, питьё. Вот постель, отдохните.
Мужчины изо всей силы колотили в бубны. Тугая кожа звенела. И в глубине пещеры отдавалось смутное эхо.
– Тсс, – сказала Исса предостерегающе, – гости спят.
Бубны и голоса разом смолкли. В пещере стало тихо. Женщины сидели, не шевелясь, и смотрели друг на друга напряжённо-предостерегающим взглядом. Во время сна гостей нельзя было даже шелохнуться. Каждый шорох предвещал неудачу виновнице и оплачивался потом какой-нибудь лёгкой карой. Либо лопнет горшок для варки пищи, либо шакалы утащат плащ, либо ребёнок заболеет. Без возмездия ни за что не обойдётся.
Мужчины тоже стояли неподвижно. Только два колдуна прошли осторожно к месту гостей, сняли два бубна, посвящённые им, и стали тихонько постукивать косточкой пальца в натянутую кожу. И эти скользящие, странные, слегка царапающие звуки успокаивали, как колыбельная музыка, и баюкали усталых гостей: «Дын, дын, дын…»
И даже пламя костра горело ниже и стлалось по земле, как будто убаюканное.
Неожиданно раздался густой и низкий храп: «Хррнх…»
– Гости просыпаются, – сказала Исса.
Этот храп был голос Сса, когда он вечером идёт на водопой и призывает свою жену и семейство:
– Хрнхрр…
Лото вышла из шалаша с задней стороны и неожиданно появилась пред огнём. Она снова надела ту же странную шапку с меховой полоской спереди. Но теперь она должна была изображать уже не прародительницу Дантру, тётку Мамонта, а самого высокого гостя.
Женщины запели громкий, ликующий гимн:
Сса Помощник, он устроил землю. Реки прочертил, выкопал моря.И под эти ликующие звуки Лото, белая колдунья, живое воплощение бога-зверя, торжественным шагом три раза обошла кругом огня, потом остановилась над маленькой фигуркой Мамонта и снова хрюкнула: «Хрнхрр…» с несравненным искусством.
– Проснулись, проснулись, – кричала Исса. Теперь все женщины повскакали с мест и вмешались в пёструю толпу. Они хоркали по-оленьи, ревели по-медвежьи, ржали, как лошади, выли, как волки, кликали, как лебеди, гоготали, как гуси, жалобно взвизгивали, как зайцы, и тявкали, как молодые лисенята.
Гости-звери проснулись и вселились в анакских жён, которые их съели. В данную минуту люди и их добыча сливались в одно.
Мужчины стучали в бубны и потрясали заячьей лапой, как будто дротиком. Они сохранили свою основную роль охотников-истребителей, но теперь они желали просить у зверей прощения.
– Не сердитесь на нас, – говорил Спанда своим низким голосом.
– Нет, нет, нет, – ревели олицетворённые звери.
– Мы вас не убивали, – уверяли мужчины.
– Нет, нет, нет…
– Молния вас убила огненным копьём.
– Да, да.
– Скалы упали вам на голову. Земля проглотила вас.
– Да, да.
– Мы вас ласкали и грели у огня.
– Да, да.
– Придите к нам в другой раз.
– Да, да.
Неистовство женщин достигло крайнего предела. Они топали ногами о землю, прыгали через огонь, бросались на мужчин и царапали их ногтями и покусывали зубами, изображая радостных, шумных, дружественных диких зверей.
Приближался заключительный обряд отпуска зверей, когда нужно было открыть пещеру, выйти вон и выпустить зверей на волю, рыб – в воду, четвероногих – в поле и птиц – в воздух.
Неожиданно Исса подняла руку, давая обычный знак. Всё стихло.
– Слышу чужое, – сказала Исса, и в голосе её звучал непритворный страх. Лицо Иссы было обращено ко входу, и все глаза обратились туда. Но там не было видно ничего постороннего.
– Вижу чужое, – ещё раз сказала Исса и протянула руку к завесе входа. Все ждали, не двигаясь с места, и через минуту один край завесы слегка отодвинулся и в пещеру скользнула маленькая юркая тварь.
В ней не было с виду ничего опасного. Это была обыкновенная крыса-пеструшка, с серой спиной и белым пятном на груди, из тех, которые тысячами снуют по пустыне и служат лакомой добычей лисице, горностаю и всем мелким хищникам полей и лесов.
Анаки тоже, случалось, ловили и ели крыс, но они презирали их и не давали им места на осеннем празднике. Эта крыса явилась незванно и видимо желала принять участие в общем воскресении зверей.
– Прочь, – крикнула Исса и махнула рукой, но крыса как будто не слышала. Она двигалась вперёд какими-то странными, дробными шажками, поравнялась с костром и остановилась. И вдруг, как будто заразившись недавним безумием воскреснувших зверей, стала корчиться, прыгать, бросаться в разные стороны. Обежала вокруг огня, вскочила на ложе Мамонта, разбросала частицы и тотчас же скакнула вперёд и исчезла в тёмной глубине пещеры.
– Что это было? – спрашивали Анаки. – Крыса или тень?
– Не знаю, – сказала Исса. – Забота нежданная.
Ибо, по анакскому поверью, в образе крысы людям являлась забота. Она приходила нежданно и своими острыми зубами грызла покой человека.
– Это Рек послал, – сказал угрюмо Юн, – чтобы вы не забывали о нём.
– Надо гадать, – предложил Спанда, – тогда всё узнаем.
На празднике Зверей совершалось гадание о ближайших судьбах племени, об охотничьей удаче, болезнях, нападениях соседей, кознях злых духов, внутренних ссорах. Оно производилось через посредство главного гостя Сса-помощника. Ему задавались вопросы, и он отвечал на них, как умел, самыми простыми, наглядными знаками.
Для этой цели Спанда установил перед костром небольшое коромысло. Потом завязал в обрывок шкуры смертные останки Сса, лежащие на ложе, и повесил клубок на конец коромысла.
– Кто будет спрашивать? – сказал он.
По обычаю задавать вопросы должна была молодая девочка или девушка из непосвящённых.
– Пусть Милка спрашивает, – сказали женщины.
Но Милка не хотела спрашивать.
– Ой, что вы? – сказала она, отбиваясь от подруг. – Что вы, чертовки? Я не хочу, я боюсь.
Женщины вытолкнули её вперёд.
– Положи руку на этот конец коромысла, – сказал Спанда. – Вот на этот, свободный.
Милка положила руку, хотя и не очень охотно.
– Теперь говори: «Сса, скажи, как будем есть и жить в наступающем году?»
Милка молчала. Ей было страшно задать этот зловещий вопрос, ибо отрицательный ответ на него мог предполагать повальные болезни и голодную смерть.
– Говори: «Как будем жить и есть?» – настаивал Спанда.
Милка повторила фразу.
– Теперь тяни.
Именно в этом состояло гадание. Чем легче поднималось коромысло, тем благоприятнее был ответ. Милка потянула за коромысло, но оно не поднималось. Мамонт не хотел отвечать на вопросы племени. Его символическое тело как будто приклеилось к земле и не хотело отставать.
– Тяни, тяни, – говорил Спанда с оттенком нетерпения.
Милка потянула изо всей силы. Клубок, завёрнутый в шкуру, вдруг подскочил вверх, соскочил с рычага и попал прямо в огонь. Пламя жадно лизнуло наружную обёртку, запачканную жиром. Сса, очевидно, предпочитал сгореть на костре, чем отвечать на вопросы Анаков.
Со стеснённым сердцем Анаки докончили обряд. Они открыли завесу входа и вынесли наружу на растянутых шкурах символы зверей и понесли их на отпуск. Когда они проходили по полю, щуря от солнечного света свои покрасневшие глаза, они увидели другую серую тень. Она скользнула мимо и побежала в сторону. Это была тоже крыса, – та же самая или другая, никто не знал. Мальчик Рум не вытерпел и бросил в неё камнем, но не попал. Тем не менее, крыса упала и вытянула ноги, и когда ребятишки подбежали, она издыхала в конвульсиях. Кровавая пена била у неё изо рта и пачкала белый передник на её груди. Они не знали, что с ней делать. Она, очевидно, решилась купить собственной смертью право на воскрешающий отпуск. И, после некоторого колебания, Анаки решили уступить ей. Женщины положили её тело на шкуру и понесли вместе с другими.
Исса захватила с собою головню из костра. Они отошли от пещеры довольно далеко, натаскали дров и разложили огонь. Он поднялся высоко, желтея на солнечном свете своим проворным языком. Они ссыпали в костёр останки отпускаемых зверей и сожгли их в пламени. В то же пламя они бросили жертвы – жир и тёртые ягоды и даже предметы утвари: миниатюрные циновки, горшочки из сырой глины, деревянные подобия ножей и топоров. Ибо воскресшие звери уходили на далёкую родину и должны были жить там полным хозяйством.
И вслед за фигурой Мамонта Сса Исса бросила в огонь другую фигуру из тех же трав, человеческую по форме. Это был мальчик Лиас, которого она отдавала ему в вечные слуги.
Костёр рассыпался и стал догорать. Исса взяла горсть пепла и пустила по ветру.
– Уходите, – сказала она.
– Да, да, – вторили женщины.
– Потом возвращайтесь.
– Да, да.
Это и был отпуск.
После того они пошли к речке для рыбного отпуска. Но когда они спускались к берегу, случилось новое диво, страшнее предыдущих.
Толстый Несс, который молчал весь день и даже в бубен бил неохотно, вдруг прыгнул вперёд и стал скакать, как будто одержимый. Он выбрасывал в сторону руки и ноги, корчился, сгибаясь почти до земли, потом отскакивал назад, как будто отброшенный невидимой рукой.
Мар подскочил к нему с удивлением и беспокойством:
– Чего ты, Несс?
Праздник любви прошёл, и их дружба возобновилась.
Несс бормотал что-то невнятное. Он посмотрел на своего товарища мутными глазами, как будто они были покрыты пеленою тусклого Хума. Потом он остановился, шатаясь, как пьяный, но лицо у него было не красное, а бледное, как мел.
Ещё через минуту он снова отпрыгнул и крикнул: «прочь!» и сделал движение, как будто палкой ударил. Ему мерещилась крыса. Потом он бросился бежать, споткнулся и упал. Лёжа на земле, он продолжал корчиться. Язык у него вывалился изо рта, распухший, с белым налётом, и изо рта побежала кровавая пена на белую грудь, точь-в-точь как у пеструшки.
Они наскоро докончили обряд, потом подняли Несса и понесли в пещеру. Он был очень тяжёл. По дороге он продолжал корчиться, вырывал у них свои руки и ноги и хрипло кричал невнятные слова. И когда они поднесли его к пещере, он вытянулся и затих. Лицо у него стало страшное, синее, в пятнах.
Они положили его на шкуре перед огнём, там, где недавно лежали воскресшие звери. Он не шевелился и не говорил ни слова, ибо был мёртв. Он лежал у огня, как новое воплощение, незваный таинственный гость, который явился неведомо откуда и требовал у Анаков жертвоприношений важнее тех, которые они давали на отпуск костям Медведя и Мамонта.
Глава 11
Мрачно прошла эта ночь для Анаков. Мертвеца можно было унести в поле только на следующее утро. Но, по обычаю племени, люди не могли ночевать под одной крышей с покойником. Мужчины и женщины ушли из пещеры. Было холодно и сыро. Шёл мелкий дождь. Анаки попрятались в расселинах, каких было много вблизи их главного обиталища, улеглись на холодном камне и чутко дремали в ожидании утра.
Только Спанда и Мар остались в пещере наблюдать за покойником, ибо мертвецы в одиночестве коварны. Оставаясь без свидетелей, труп мог бы очнуться и запрятать в пещере злые чары в наследство живущим.
Мертвец лежал на шкуре у огня. Спанда уселся в головах на широком камне, взял бубен и стал слегка поколачивать пальцем о край обода. Бубен тихо звенел, как будто плакал. Этот звон должен был усыплять мертвеца и смягчать его мысли, горькие и злые, перед отходом в область тихого мрака, в страну загробную.
Мар сидел у ног покойника несколько сбоку и смотрел в лицо своего бывшего соперника. Огонь мелькал и вспыхивал, и по лицу Несса пробегали тени, и казалось, что он шевелит губами и что-то шепчет, и подмигивает, и слегка кивает головой.
И в ответ на эти мелькающие жесты Мар стал говорить с Нессом.
– Сердишься, Несс? – спрашивал он. – За что? За девку? Ну, больше не будем драться. Хочешь, бери её себе…
И Несс кивал головой.
Дети сбились все вместе, в расселине слева, малыши и подростки, мальчишки и девочки. Они жались гурьбой, как белки в древесном дупле в холодное зимнее время. И, несмотря на темноту и жуткую близость неведомых духов, они шептались тихонько между собой.
– Отчего он такой синий, – шептала Милка, – а она серая?
– Я убил её, – сказал Рум старший не без некоторой тайной гордости.
– Ты не попал, – возразила Милка с оттенком прежнего задора.
– Шш… – шипели соседи, – молчите!
Но проходила минута, и Милка снова задавала вопрос:
– А отчего они скакали?
Дило тоже был тут, но поместился поодаль.
Ещё со вчерашнего дня дети сгорали от любопытства и приставали к нему с расспросами во всех промежутках праздника. Но Дило хмурился и отвечал коротко: «Отстаньте». Он прятался от них целый день, но теперь ему было страшно одному.
Он старался заснуть, но не мог.
Глаза его сами открывались и устремлялись в темноту; осенняя ночь была черна, как пещера. Кругом было тихо, дети молчали, но ему начинало казаться, будто что-то маленькое, неуловимое, крадётся за его спиной. Он вздрагивал и оборачивался, но того уже не было сзади. Оно проходило теперь впереди, как серая тень. Оно постоянно меняло форму, съёживалось и расширялось, было, как головка одуванчика и даже как пушинка, потом становилось, как клуб перекати-поля, бегущего по ветру, тотчас же бежало само, на длинных бессчётных ногах, как серый паук, и глаза у него были, как яркие уколы, алые и злые. Оно поднималось на воздух и металось, как нетопырь, проплывало мимо, как серая сова, и задевало его мягким крылом по лицу.
Он вздрагивал и просыпался. Было темно и тихо. Только дождь шумел снаружи. Дождевые струи тянулись прямо, как нити, шуршали дробно и монотонно. А оно опускалось на землю и становилось пушистым, как мех, и шуршало по земле мягкими лапками и двигалось прямо, как нить. Только глаза сверкали, как алые искры.
Голова Дило опускалась ниже, и оно останавливалось и вдруг без всякого усилия меняло размеры и становилось горой. Крутая спина вырастала и вставала, как вал, над тёмным ущельем, алые камни огненных глаз сверкали загадочным блеском, серая голова тянулась вперёд с разинутой пастью. Он делал страшное усилие и просыпался с криком. Всё становилось иным. Вместо ущелья была лощинка за пещерой и вместо серого Река – серая крыса.
И сам он тоже был иной – изменённый, слабый и крохотный, как муха, и серая крыса казалась ему, как прежде, горою. Это был тот же Рек, пламенноокий и страшный. Он глядел на Дило своими страшными глазами и тянулся к нему с той же разинутой пастью.
До самого утра грезил Дило, и только когда поздний рассвет забрезжил на востоке и осветил расселину, он упал на землю и заснул, как мёртвый. И отошли от него и Реки, и крысы, и страшная смерть, витавшая над стойбищем. Но только сон его был тяжёлый и чёрный, как преддверие смерти.
Вместе с рассветом Анаки проснулись и закопошились у пещеры. Но наступившее утро было для них печальнее минувшего вечера, ибо не все поднялись с сырого ночлега. Пенна Левша, старшая сестра Дило, не могла подняться с места. Она осталась под каменным кровом, прижалась к стене, как раненый зверь, и не отвечала на вопросы.
Мар вышел из пещеры, но другие посмотрели на него и отшатнулись в страхе. Он как будто распух и стал толще, и вдруг сделался странно похожим на своего друга-соперника Несса. И лицо у него было такое же синее. Глаза у него были пьяные от Хума неведомой заразы. Он шёл, спотыкаясь и держась за голову руками, потом уселся у скалы и стал покачиваться из стороны в сторону с каким-то странным жужжанием. Не то он пел, не то стонал.
Рея-Волчица нашла у своей груди младенца мёртвым. Её недаром звали в племени Волчицей. Она была вне себя от горя и ярости. Она подбежала к пещере, высоко неся в руках маленький трупик, и сунула его к самому носу Чёрного Юна, ночного колдуна.
– Ты жертву требовал, – крикнула она, – с Реком твоим. Нате, жрите!..
Юн молча принял маленький трупик и внимательно осмотрел его.
На вялой шейке были два маленьких чёрных пятнышка.
– Это знаки Дракона, – сказал Юн, – теперь сами видите.
– Ну пойдём, – сурово напомнил Спанда. – Найдём, узнаем…
Юн хотел что-то ответить, но в это время к пещере подошла его дебелая подруга с Мышонком на руках. Её сытое лицо было встревожено. Мышонок хныкал и держался руками за голову.
Юн схватил своего сына и стал жадно рассматривать его тельце. Никаких знаков не было. Но глаза у него были мутные, и щёки горели неестественным румянцем.
Юн сердито оттолкнул жену, прижал ребёнка к груди и стал бегать по площадке перед пещерой.
– Мышонок, не плачь, – говорил он каким-то сдавленным голосом. – Не надо хворать. Мы в лес пойдём, зайца поймаем. Пусть зайчик хворает.
– Идём к Дракону, – напомнил Спанда.
– Прочь! – крикнул яростно Юн. – Ночью пойдём, в тёмное время… В лес! – крикнул он ещё раз, подхватил одной рукой копьё, другою – бубен, посадил ребёнка на плечи и крупными шагами скрылся в ближайших кустах.
В этот день не было больше умерших, но захворали ещё две женщины, русоволосая Илеиль и Санния, уже пожилая, в волосах у которой были снежные нити.
Женщины внесли больных в пещеру и положили у огня. Только Мар остался снаружи сидеть у скалы, несмотря на холод.
Юн вернулся из лесу, когда смеркалось. Он нёс Мышонка у груди, завёрнутого в плащ. Мышонок спал.
Тучи на небе стали редеть, бледный месяц тихо поднимался с востока.
– Идём, – сказал Спанда, – я тоже бубен возьму.
– Не надо, – сурово возразил Юн и отбросил свой собственный бубен с явным презрением.
– Какие дары? – спросил Спанда.
– Не надо даров, – сердито буркнул Юн. Он постоял с минуту в нерешимости, сжимая в объятиях спящего младенца, потом решился и передал его Юне. И тотчас же с угрозой поднёс к её лицу свой крепкий кулак.
– Если не сбережёшь – убью, – сказал он отрывисто.
Он не взял даже копья и вместо того подхватил кремнёвый топор, тяжёлый, с длинной ручкой, помахал им в воздухе и сунул за пояс.
– Идём, Спанда.
– А Дило где? – спросил старик. – Он должен показать путь.
Они отыскали Дило на прежнем месте, под каменным навесом.
Дило всё ещё спал, и все усилия растолкать его остались безуспешными.
– Хоть место назови, – настаивал Спанда.
Дило подымал голову, мычал что-то и снова падал на землю.
– Болен, – сказал Спанда.
– Боится, притворяется, – сказал Юн с презрением. – Копьём бы его.
Но вместо копья он сердито ткнул Горбуна носком ноги.
– Падаль… Без него найдём.
Они вышли на площадку перед пещерой. Юн бегло взглянул на месяц, потом повернулся по очереди на все четыре стороны света, выбрал направление и твёрдым шагом двинулся в путь. И это было даже не то направление, по которому Горбун вернулся на стойбище. Оно лежало левее. Но точно так же, как Дило, два колдуна пересекли первую гряду, спустились вниз; потом они поднялись на вторую гряду и пошли по гребню. Избранный ими путь был удобнее пути Дило, ибо им не попадались обрывы и густой кустарник. Они шли скоро и безостановочно.
Юн шагал вперёд так уверенно, как будто страшный Рек подавал ему издали беззвучные, но верные сигналы. Время шло. Месяц поднимался к зениту пядь за пядью. А ночь становилась гуще и дремотнее. Они перешли ещё две гряды.
– Где же Дракон? – проворчал Спанда, споткнувшись о камень, и вдруг остановился и застыл на месте, как вкопанный.
На склоне горы, над тёмным ущельем им представилось поразительное зрелище. На твёрдом камне покоилась огромная фигура. Она казалась чёрною на фоне ночного неба и выглядела, как грузная глыба, оторванная от ближней скалы. Но, присмотревшись, они разобрали крутую спину, могучий хвост и плоскую голову на вытянутой шее.
Дракон сидел, нагнув голову к земле. И его алые глаза отсвечивали блеском месяца. Голова его шевелилась вправо и влево. Они припали к земле и со страхом следили за этими однообразными движениями.
Спанда понял странные слова Дило: «Каменный Зверь, Живой Камень». Чудовищный зверь казался каменным даже в своих движениях.
А перед Драконом они увидели новое диво. Ибо весь склон горы был покрыт маленькими движущимися фигурками. Это были пеструшки. Их легко было узнать в свете месяца. Их были тысячи и тысячи, без конца и без счёта, как песчинок в пустыне. Они двигались вперёд и шли прямо на Дракона. И чудовище, пригнув голову книзу, глотало их одну за другой своей глубокой тёмной пастью. Она была такая большая, что пеструшки, кажется, даже не понимали, в чём дело. Быть может, им казалось, что передние колонны проходят в какую-то тёмную арку, сквозь сердце скалы. Они шли, не останавливаясь, и Дракон глотал их мерным движением. И в свете месяца казалось, будто льётся странная, живая, кишащая река, поднимается снизу вверх, вопреки законам тяжести, и вливается в Дракона.
Когда колдуны увидали это странное зрелище, они сдвинулись с места и поползли наискось горы. Они не смели подняться ближе к страшному Реку, но они подобрались почти вплотную к живому потоку. Это были пеструшки-странники, мельче обыкновенных и поразительно однообразного вида. Они шли правильными рядами, как катятся волны по мелкому песку. Но, приглядевшись внимательно, Спанда и Юн увидали, что не все крысы были в одном состоянии. Огромное большинство шло, соблюдая странный порядок, но были и такие, которые выскакивали из рядов, кружились и даже кувыркались. Иные падали и катались на месте, препятствуя движению задних рядов, а затем замирали в неподвижности. Другие поднимались и снова ползли вверх и через силу доползали до этой всепоглощающей пасти.
Время катилось вперёд, пеструшки поднимались вверх, и Дракон их глотал без устали, как бездна. Этому, казалось, не будет конца. Тогда Юн Чёрный выпрямился и сделал шаг вперёд по направлению к Дракону.
– Слушай, бог, – сказал он громко, обращая лицо своё к лицу чудовища.
Рек шевельнулся и будто прислушался. Или, быть может, он, наконец, ощутил сытость в своей огромной утробе.
– Там есть маленький мальчик, – сказал Юн и указал головой в сторону стойбища. – Ты хочешь взять его в жертву. На что он тебе? Возьми другого.
Дракон молчал.
– Десять возьми, – предлагал Юн, – двадцать возьми.
Дракон не шевелился.
– Даю тебе живую часть моего тела! – крикнул Юн. Он выхватил топор, опустился на одно колено, положил левую руку на камень и с размаху ударил топором по мизинцу. Кость хрустнула, и палец повис у нижнего сустава на сплющенных волокнах. Юн вынул нож и быстро перерезал расплющенные ткани. Потом правой рукой бросил палец по направлению к Дракону.
– Вот кровь моя, – прибавил он, махнув левой рукой, и брызнул в сторону Дракона свежей кровью из обрубленного пальца.
Рек поднял голову выше и поглядел на колдуна своими яркими глазами презрительно и высокомерно, потом повернулся и пополз в гору, направляясь к Кандарскому устью.
Он был сыт и даже устал от мясного потока, и ему не было дела до этих ничтожных людских приношений.
Юн ещё постоял, потом опустил руку, вынул из мешка приготовленные листья, обернул ими обрубок пальца и, не говоря ни слова, пустился в обратный путь.
Спанда покачал головой, но тоже не сказал ничего и последовал за Юном.
Они вернулись обратно с рассветом, но лагерь уже не спал. У входа в пещеру горели два костра, и люди растерянно бегали взад и вперёд. Ибо за минувшую ночь страшная сеть неведомой заразы унесла прежние жертвы и опутала новые. Пенна и Илеиль лежали на своих ложах мёртвые. И даже после смерти их лица и тела покрывались синими пятнами и ужасными нарывами. Это дьявол заразы пожирал их трупы, как свою законную добычу.
Ещё один ребёнок умер у груди матери. Мар лежал у скалы снаружи, вытянувшись во весь рост. С этого места он не тронулся со вчерашнего дня. Он ещё дышал, но глаза его были закрыты. Были больные среди детей и подростков, и женщин, и мужчин. Иные из них лежали в пещере или сидели снаружи, изнеможённо прислонясь спиною к скале. Других не было видно. Они уползали в кусты и камни и прятались там, как издыхающие шакалы. Исса исчезла одною из первых. У неё была привычка даже без всякой болезни прятаться во время общественных бедствий. Иные покидали Кенайскую гряду и с посохом в руках, через силу, тащились на север к реке Саллии. Они шли умирать на смертном поле Анаков.
Когда два колдуна стали приближаться к пещере, все здоровые бросились к ним навстречу с криками. Даже больные, кто мог, вскочил с места и смешались с толпой.
– Что, говорите! – кричали Анаки с тоскливым нетерпением.
Спанда пожал плечами и сказал, указывая на Юна:
– Его спросите.
Вместо ответа Юн окинул глазами толпу. Юны не было. Он растолкал руками Анаков и бросился в пещеру. При бледном свете огня, который мешался с неверным дневным светом, он увидел свою супругу. Она сидела на длинном бревне с ребёнком в руках и качалась взад и вперёд, как пьяная. Она подняла навстречу мужу лицо, глаза её были покрыты тусклой дымкой заразы. Он толкнул её в грудь и выхватил ребёнка. Мальчик был мёртв. И даже тело его похолодело. Оно лежало на его руках, вялое, как кожаный лоскут.
Страшный вопль вырвался из его груди. И будто эхо отозвался слабый стон его жены. Но Юн с яростью подскочил к ней опять, изо всей силы ударил её ногой в живот и выбежал наружу.
– Говори! – кричали Анаки ему навстречу.
– О-о! – ответил Юн воплем, ещё пронзительнее первого. – Вот, о-о!.. Рек не хочет замены!..
– Чего он хочет? – кричали Анаки. – Говори!..
– Сам возьмёт! – кричал Юн. – Вот, о-о!..
– Что возьмёт, кого возьмёт? – кричали Анаки.
– Всё племя возьмёт, – крикнул оглушительно Юн и, сжимая в объятиях труп своего сына, бросился в лес по той же дороге, что и вчера.
Анаки проводили ночного колдуна нестройным воплем, потом заметались кругом, как звери перед потопом. Им казалось, будто страшный Рек уже ползёт с горы, чтоб проглотить их. Они дико озирались кругом, ища какой-нибудь защиты. У них ещё оставались Спанда и Лото. И они обступили их с криками:
– Сделайте что-нибудь, спасите, защитите!
Лото закрыла лицо руками, Спанда молчал, и жалкие вопли Анаков стали грозны и яростны. Мужчины и женщины скрежетали зубами и сжимали кулаки. Ещё минута, и они разорвали бы в клочки бессильных колдунов.
На востоке, в густом и сером тумане, всходило солнце. Оно было бледно-жёлтое и словно выщербленное и висело над землёй, как призрак, и куталось в мутный туман, как будто в саван.
– Солнце, ты видишь, – сказал тихо Спанда, обращаясь к дневному светилу.
Но солнце молчало. В сером саване тумана, в прозрачном свете осеннего утра, оно было похоже на унылый месяц.
– Я мог бы изменить ваши лица, – сказал Спанда, – выбрить волосы, расчертить щёки полосами, мужчинам груди привесить, а женщинам бороды и скрыть вас от духов заразы.
Анаки не отвечали. Но было очевидно, что такие жалкие уловки были бы бессильны, чтобы отстранить нападение духов болезни – могучих, крылатых, всеведущих.
– Я мог бы изменить ваши имена, – сказал снова Спанда, – назвать вас волками или дубами лесными, Селонами чужими, и скрыть вас от врагов.
Он замолчал и задумался. Анаки тоже молчали и ждали.
И вдруг Спанда принял решение и снова обратился к племени.
– Слушайте, дети. Чем нам отдавать всё племя тому, – он мотнул головой на запад в сторону Дракона, – лучше дадим одного этому. – Он показал глазами на солнце.
– Дадим! – крикнули анаки. – Кого, скажи!..
Они свирепыми глазами смотрели друг на друга, как будто намечая заранее жертву.
– Такого… маленького… – тянул Спанда. – Детские тело и душа слаще.
Его взгляд упал на шустрого Антека, второго сына Майры, который по обыкновению пролез вперёд и тёрся под ногами старших.
– Дадим! – крикнули Анаки. Двадцать рук протянулись к ребёнку, но Майра с воплем бросилась вперёд и закрыла его своим телом.
Женщины накинулись на неё со всех сторон.
– Отдай, – кричали они, – лишнего чертёнка, семя чужое!
– Лишнего взяли, – вопила Майра не своим голосом. – Это – мой сын!
– Этот чужой, – кричали женщины с насмешкой и яростью. – Оба чужие. Отдай, проклятая!
Они душили её за горло, царапали её тело ногтями и как будто хотели отодрать её по клочкам от обречённой жертвы.
Минута – и Майра отлетела в сторону, ударилась о землю, потом подобралась, села на песке, обхватив колени руками, вся скорчилась, как груда лохмотьев, и застонала долгим, унылым, неторопливым стоном.
Мальчик уже был в руках Спанды. Он был, как в столбняке, от ужаса. Глаза его выкатились. И из полураскрытых губ вырывался такой же жужжащий стон, как у матери.
– Давайте чашу, – сказал Спанда.
Женщины тотчас же достали из мешка огромную чашу осеннего Хума. Спанда вынул из-за пояса длинный костяной кинжал и вонзил в горло жертве. Струя крови брызнула вверх, навстречу дневному светилу.
– Солнце, тебе, – сказал Спанда. Потом повернул мальчика над деревянной чашей. Кровь стала цедиться из детского трупика, как будто из сосуда с узким горлышком.
– Идите сюда, – сказал он Анакам.
Они подошли и стали кругом.
– Это вино кровавое, – сказал Спанда. – Хум жертвы солнцу. Возьмите и творите помазание во имя Солнца Отца.
– Солнце, дай защиту!.. – возопили Анаки.
Они опускали в чащу два пальца, макали их в тёплую кровь, потом проводили на лбу длинную черту и бормотали: «Провожу реку багровую; все духи утонут, враги захлебнутся».
– Пейте от этой крови, – сказал Спанда.
Огромная чаша с чудовищным алым напитком стала переходить из рук в руки. Все нагибали её через край и мочили в ней губы, наблюдая, чтобы осталось другим.
Все Анаки, мужчины и женщины, здоровые и умирающие, даже грудные дети вкусили от жертвенной крови.
Только Майра сидела на земле, уткнул голову в колени, и стонала монотонно, как стонет ночное ненастье.
– Майре помазание, – приказал Спанда, и двадцать рук протянулись к несчастной матери. Они откинули ей голову и провели на лбу ту же кровавую черту, потом поднесли ей к устам ужасную чашу. Майра не сопротивлялась, она послушно нагнула голову и вкусила жертвенной крови от собственного сына, потом отклонилась назад, упала на землю и застыла без движения, как будто кровь в её устах стала могучим ядом, убивающим, как молния.
Глава 12
Юн промчался через площадку и бросился в лес по той же вчерашней дороге. Он нёсся, задевая ногами молодые деревья, и ему казалось, что от его ударов деревья гнулись, как от ударов лося.
Заяц выскочил навстречу и шарахнулся в сторону, точно такой же заяц, какого они вчера поймали и отпустили живьём, чтобы он унёс с собою болезнь Мышонка.
– Зайцы живы, а мой Мышонок умер, – подумал Юн и снова завыл от боли и от гнева. – Подлые, подлые, подлые! – выкрикивал он, и слово это обращалось одинаково и к богам, и к людям-соплеменникам, которые не были взяты мстительным Реком.
– Моего забрал! – сердито крикнул он. – Несытое брюхо!
Он опять задел ногою за дерево и больно ушиб колено и света не взвидел от ярости. Даже сына он положил на мох, и, выхватив из-за пояса каменный топор, быстрыми движениями стал обрубать враждебное дерево кругом ствола.
– Вот тебе, вот! – приговаривал он сквозь стиснутые зубы.
Каменное лезвие отскакивало, крепкая дубовая ручка подозрительно трещала, но Юн удвоил усилия, и, наконец, дерево погнулось, треснуло в разрубе и с шумом упало на землю.
– Что, будешь? – спросил Юн с мстительным торжеством и хотел подобрать трупик, но ему пришла в голову новая мысль. Он отыскал два крепких сухих сучка, быстро сделал прибор для вытирания огня, добыл искру, развёл огонь. Потом отрубил кусок ствола в три локтя длиною и стал выжигать огнём чёрное дупло, как выжигают челнок из толстой осины. Он сделал для своего сына погребальную колоду, чтобы дикие звери не съели его тела. Ибо особенно любимых покойников, в отличие от прочих, Анаки хоронили в колодах и подвешивали на деревьях.
Он выровнял бока колоды своим крепким ножом из лосиного рога, потом стал пригонять крышку из толстых, ровно обрезанных палок. Когда всё было готово, он поднял маленький трупик.
– Прощай, Мышонок, – сказал он раздирающим голосом и приложился лицом к шее своего ребёнка, чтобы втянуть в себя запах сына, как делали Анаки вместо поцелуя. Но знакомого запаха уже не было. Тело Мышонка пахло смрадом, как тухлое мясо из летних запасов. Сердце Юна сжалось, охладело и стало, как труп.
– Прощай, дитя, – повторил он безжизненным голосом. Постлал мху в колоду, опустил туда труп и вбил верхние палки на место. Потом отыскал вблизи высокое дерево, подхватил на плечо тяжёлый гроб и полез по сучьям вверх с ловкостью бурого медведя, который влезает к пчёлам за мёдом.
На половине вершины он укрепил колоду в развилке ветвей и крепко привязал её стеблями лиан. Теперь тело его сына было укрыто от хищников и непогоды.
Он мало думал о том, что ему делать дальше. Хотел было остаться на дереве, у гроба, но что-то будто столкнуло его вниз на землю.
Он, впрочем, не ушёл, сел тут же, под деревом, протянул ноги и сложил руки на груди. До самой ночи он не ел и даже не пил и ни о чём не думал. И ему казалось, что тело его деревенеет и ноги пускают корни в холодную землю, и волосы шуршат, как листья, и весь он обращается в такое же бездушное, безжизненное дерево.
Пришла ночь. Месяц вышел на небо и заглянул в лес. Юн поглядел и увидел, что месяц движется так низко, что даже задевает за вершины деревьев и прыгает между ветвей, как белая жаба. Ещё минута – и месяц спустился на землю и стал подходить к колдуну.
Он был странен с виду. Тело у него было, как тело Дракона, а лицо, как лицо полной луны, и это лицо в то же время было огромным глазом, и его холодный блеск заглядывал в самую душу.
– Дай, что обещал, – сказал Лунный Рек.
– Нету, – коротко отрезал Юн.
Рек говорил, очевидно, о белой телице.
– Ну, племя дай…
– Не дам, – крикнул сердито Юн, – жадная тварь!
Дракон немного подождал и пожевал той странной щелью, которая у него была под светлым диском и заменяла рот.
– Ну, половину дай, – сказал он примирительным тоном.
– Не дам, уйди, – кричал Юн.
– Худшую, больную, – просил Лунный Рек, – что тебе стоит?
Он даже облизнулся и лукаво посмотрел на Юна.
– Уйди, – повторил Юн с угрозой и сжал топор. – Не дам ничего!..
Но в это время с вершины дерева упал слабый голос, как шелест ветра в листьях: «Отдай!..»
И от этого мёртвого голоса, знакомого, любимого и странного, Юн в ужасе сорвался с места и побежал куда глаза глядят. Два дня и две ночи бегал он по лесу, не разбирая дороги, забиваясь в самую глушь и опять выходя на поляны и чистые места. Без сна, без еды он скитался, как олень, обезумевший от мошкары, и не находил места, и временами ему являлся загадочный Рек с круглым лунным лицом, одноглазым и светлым, и настойчиво просил по-прежнему: «Дай половину…» Только на третье утро Юн немного пришёл в себя, напился из ручья, освежил себе лицо водой и направился обратно к пещере.
Два дня и две ночи мрачно прошли для племени Анаков. Солнце Отец не принял жертвы или, быть может, он был бессилен перед гневом Дракона. Ибо страшная болезнь росла с каждым часом и забирала новые жертвы. Прежде всех она забрала Майру и, не дав ей очнуться от красного хмеля, умертвила её как камнем по голове. Потом унесла Яррию и быстроногого Альфа, и маленькую Милку, и ещё других, взрослых и детей. И с раннего утра здоровые выбивались из сил, унося трупы далеко в открытое поле. Ибо законы Анаков не позволяли держать их на стойбище дольше одной ночи, да и страшно было оставлять их дольше, чтобы они следили за живыми своими потускневшими глазами.
Анаки обвязывали их травой и древесными корнями, прилаживая у головы и ног две широкие петли. За эти петли они уносили мёртвое тело, как носят связку сушёного мяса, потом оставляли тело в поле и даже не обкладывали его камнями, как требовал обычай, но тотчас же убегали обратно. И каждый раз, когда одни возвращались, другие снова уходили.
К полудню следующего дня Мар закрыл глаза и больше не открывал. Оба жениха Охотницы Дины были мертвы, но она была здорова. Хум болезни имел над нею не больше силы, чем Хум любви. Но глаза её светились холодным отчаянием, ибо она как будто осиротела без Мара и Несса.
Когда мужчины уносили Несса, она шла сзади. И осталась после того, как все ушли, не опасаясь мертвеца. Ибо она не боялась Несса, ни живого, ни мёртвого. Она собрала камни и обложила ими мёртвое тело и воздвигла в головах своего покойного друга каменный холмик, чтобы люди и звери, проходя мимо, знали, что это был сильный охотник. Потом посмотрела на него в последний раз и вернулась к Мару. Целый день просидела она над Маром и тихо пела ему сладкие напевные слова. Мар по временам поворачивал голову и открывал глаза. Он уже ничего не понимал. Потом он закрыл их в последний раз и больше не открыл.
И тогда Дина встала, завернула мёртвое тело в свой волчий плащ, взвалила его на своё сильное плечо и понесла в поле к другу его Нессу. Она положила его на землю рядом с первым покойником, в тот же каменный круг, и выше нарастила каменный холм в головах, чтобы было довольно на двоих, а сама села поодаль, как будто на страже. Теперь она не пела. Покойники молчали, молчала и Дина.
А над стойбищем Анаков стояли плач и ужас и дикие крики. Спанда и Лото ещё пытались вести неравную борьбу с коварным духом заразы. Отражать его они не дерзали, но теперь они старались укрыть своё племя, чтобы духи заразы его не нашли и прошли мимо.
Спанда осуществил свои мудрые уловки. Он торжественно дал всем мужчинам и женщинам новые имена и каждое из этих имён отыскал, по примеру гадающих старух, при помощи подвешенного камня, в стране предков, отцов и дедов, давно усопших. Ибо предки во всю свою жизнь не знали подобной заразы.
Рум старший бегал взад и вперёд и выкрикивал громко: «Слушайте, духи, я не Рум, я – Лайн! Мой дед, Лайн!.. Старый Лайн вернулся на землю. Я не Рум!..» И Рум Младший, шакал, бегал сзади и жалобно тявкал и будто выкрикивал тоже: «Я не Рум!» Но духи лукаво ловили знакомое имя и узнавали о перемене.
Старая Лото села на краю стойбища в стороне от соплеменников и стала произносить тройное заклинание, самое сильное заклинание анакских колдунов. Она бросала на землю маленький сучок и приговаривала: «Пусть станет непроходимый лес. Грызть вам, не перегрызть!..» Потом она бросала камешек через плечо и говорила: «Пусть станет высокая гора. Лезть вам, не перелезть!» После того чертила пальцем землю сзади себя, не глядя и не оборачиваясь, и говорила: «Пусть станет огненная река. Плыть вам, не переплыть!..» Окончив три заклинания, она опять начинала сначала.
Спанда целый день колотил в бубен без устали и молча, а к вечеру устал и ушёл в пещеру, залез в мужской шалаш и утром уже не вышел. Ибо страшные духи заразы желали взять племя Анаков в полном составе, от младенцев до старых колдунов.
Когда Спанды не стало видно, холодный ужас овладел Анаками. Они смотрели друг на друга дикими глазами, как бараны без вожака. Ещё минута, и племенные узы были бы расторгнуты, и они разбежались бы врозь и навеки, как разбегается стадо оленей от волчьей погони среди открытой пустыни.
В это время на опушке ближайшего леса появился Юн. Он был совершенно наг, ибо его плащ остался в лесу. Волосы его были полны листьев и колючих шишек. И лицо у него было дикое. Анаки со страхом смотрели на него. За эти два дня Чёрный Юн как будто сделался Лесным Бродягой, братом враждебных духов. Он был теперь скорее чужой, чем свой брат Анак.
Однако они бросились с криком ему навстречу.
– Говори, мы дадим! Сколько твой бог возьмёт?
– Я сказал, – отозвался Юн, спокойно и даже безучастно. – Всё племя.
– О-о! – завыли Анаки все сразу, как волки на зимней дороге, не знающей добычи. Они плакали. Из их воспалённых глаз по бурым щекам катились грязные слёзы. И руки ломали они и волосы рвали горстями от безысходной тоски.
Юн смотрел на их горе, и ни один мускул на его лице не пошевелился. Однако он произнёс почти лениво ещё два слова:
– Ну, половину.
– Какую половину? – вопили Анаки. – Ешьте. Мы дадим!
– Худшую половину, – сказал Юн задумчиво, потом остановился и коротко прибавил: – Хворых.
Это было странное, ни с чем несравнимое шествие. Всё племя Анаков двинулось со стойбища, направляясь к ущелью Дракона. Оно было готово отдать Лунному Реку всех запечатлённых его зловещей печатью. Здоровые вели больных под руки, а других тащили за руки и за ноги, как мешки с мясом. Матери несли на руках грудных младенцев. Никто не роптал, никто не жаловался. Духи смерти витали над племенем и могли взять, кого хотели. Когда проходили мимо пещеры, случилось нежданное. Из чёрного устья пещеры вышел Спанда. Он был бледен и шёл, опираясь на посох, на лице его не было синих пятен. Но пышную бороду свою Спанда оставил сзади, в пещере. В одну ночь она вылезла вся без остатка. Без бороды, с мутными глазами и провалившимися щеками, старый Спанда имел странный и жалкий вид. Он не сказал ни слова, замешался в толпу и вместе со всеми пошёл на жертву Дракону, вслед за Юном, вождём.
Когда проходили мимо поля, увидели покойников; они лежали там и сям, обвитые травою. И перед своими друзьями сидела Охотница Дина, недвижная, как камень. Аса окликнула её, проходя, и тогда снова свершилось нежданное. На оклик встала не Дина, – поднялся один из трупов. Это был Мар. Дина подняла голову, посмотрела на Мара, но всё-таки не встала.
С синим лицом и закрытыми глазами, качаясь на ходу, мёртвый Мар пошёл за племенем. Но никто не испугался, ибо всякие другие ужасы бледнели перед ужасом общей гибели. Только Красный Илл вдруг отступил в сторону, пошёл и взял с места труп Несса, тёмный и уже тлеющий, взвалил на плечо и стал догонять племя. И тогда Дина встала и тоже пошла сзади.
Так шли они, здоровые и больные, все обречённые, но желавшие выкупить из двух голов – одну, изо всего – половину. Медленно двигалось шествие. На каждом шагу останавливались. Того или другого схватывали конвульсии, и они извивались, как рыба на сухом берегу, и обдавали кровавой пеной своих поводырей. Другие вырывались и падали на землю и корчились, как черви, и потом лежали неподвижные, но в конце концов вставали снова, как труп Мара, и шли дальше. Как будто чары коварного Река захлестнули каждого незримой петлёй и волочили его вперёд, волей или неволей, живого или мёртвого.
Впереди всех шёл Чёрный Юн, со страшным лицом, похожий на дьявола. Он часто отходил вперёд и оглядывался, поджидая толпу, но он не проявлял нетерпения, как опытный ловец, который тянет по берегу ветхою сетью стаю крупных рыб и знает, что нельзя торопиться.
Но когда они спускались с третьей гряды, он снова остановился, потом зашатался и грохнулся на землю и стал извиваться, как скорпион, прижжённый огнём. Таких конвульсий ещё не видели Анаки даже в ужасах чёрной смерти. Через минуту он вскочил и вновь свалился. Три раза Юн схватывался с духом заразы грудь с грудью, и нельзя было сказать, кто же сильнее. Ибо в третий раз Юн справился с припадком и пошёл вперёд тем же странным, размеренным шагом. Только лицо его почернело с натуги. Но Анаки, шедшие сзади, завыли сперва тихо, потом громче:
– Юн тоже, Юн тоже!..
Сильнее и сильнее раздавался этот унылый вопль, обрекавший в жертву болезни и пасти Дракона, вместе с другими, также злого колдуна, Чёрного Юна.
– Юн тоже!..
И впереди ответил отзвук – такой же глухой, унылый, зловещий:
– Юн тоже!..
Это сам Чёрный Юн дал ответ.
Он ускорил шаг и почти побежал вперёд. Племя тоже бежало, больные вместе со здоровыми. Они были у самого Кандарского ущелья, где жил Дракон.
Он был на месте обычной засады и сливался с окружающей почвой до полного обмана глаз. В первую минуту они не могли разглядеть его, но потом всмотрелись и разобрали крутую спину, могучий хвост и тяжёлое чрево. Всё было грузное, серое, каменное. И алые камни пламенных глаз огромного Река сверкали, как два факела. Они смотрели на пришедших и будто считали добычу.
Юн не стал медлить и побежал вверх, прямо к Дракону, и тогда выдвинулась вперёд серая, злая голова и подхватила колдуна поперёк тела, как луговая кошка хватает ящерицу, и подняла вверх, и посмотрела на Анаков.
При этом неслыханном зрелище внезапный ужас проснулся в сердцах анакского племени. Камни посыпались вниз с боков Дракона прямо на Анаков. И, будто по сигналу, они шарахнулись назад. Матери роняли своих детей и убегали прочь. Юноши и девушки толкали друг друга. Больные убегали, как здоровые. Здоровые, напротив, бросались на землю и лежали, как мёртвые. Иные умирали на месте от страха. Это и были обречённые жертвы Дракона. Он мог взять их и пощадить других.
Анаки мчались назад торопливо и слепо, обгоняли друг друга, задыхались, падали, потом вскакивали и бежали дальше. Миновали одну гряду, другую, третью. Когда они свернули на восток и спускались уже к пещере, они увидели возле неё ещё раз нежданное. На площадке перед входом стояла фигура. Тонкая она была, белая, с длинными светлыми волосами, совершенно нагая, как будто Камышовая Дева, озябнув в болоте, явилась к людям, чтобы погреться у их огня холодной осенью.
– Кто это? – спрашивали Анаки. – Быть может, защита?..
Ибо в минуту гибели каждое новое лицо могло дать только защиту. Так верили Анаки.
Внезапно Аса-Без-Зуба испустила громкий крик. Она узнала эти острые плечи и волнистые волосы. Это была Ронта, беглянка. Она вернулась к племени в самый зловещий и гибельный час.
Глава 13
От устья реки Даданы Ронта бежала обратно в пределы Анаков.
Дни проходили и дни уходили, она двигалась слепо и прямо, как будто во сне. Она всходила на горные склоны, спускалась в ущелья, переходила через болота и сквозь леса, везде находила дорогу. Ей встречались широкие реки. Она приходила на берег и садилась на камень, и сидела над водой час и другой, и ночевала на песке, потом уходила по берегу вверх и шла до переброда и на другом берегу тотчас же возвращалась на прежний путь.
Луна началась и окончилась, лето минуло и осень настала, что дальше, то холоднее. Она не замечала тепла и холода, всё шла и шла, не торопясь, беззаботно и спокойно, то отдыхая, то снова пускаясь в путь. Была она, как Унна, Бескрылая Лебедь из сказки, которая пустилась пешком по осеннему пути догонять своих летучих подруг.
Питалась она кореньями и ягодами, зёрна собирала на полях, драла сочную кору с тополей и грызла, как зайцы, орехи находила в зарослях, подбирала ракушки на отмелях. В это время года много было всякой пищи во всех землях. Только ничего живого не ловила Ронта, не проливала крови, хотя бы птичьей, не разводила огня. При ней не было ни копья, ни ножа, ни огнива, но дикие звери не нападали на неё.
Ей встретился однажды большой серый волк; он бежал по лесной дороге, принюхиваясь к следу оленя, ибо для волка и в осеннем обилии нет другой пищи и сытости, кроме трепещущего мяса. Волк пропустил её мимо, потом остановился и долго смотрел ей вслед. После того он снова повернулся и побежал дальше, но через несколько времени остановился второй раз, потянул носом воздух и шарахнулся в сторону, ибо по следу Ронты так же лениво и прямо шла ещё одна фигура, белая, двуногая, высокая. И у ней было копьё, и от неё пахло смертью.
То был Яррий. Он следовал за Ронтой, как будто за дичью, никогда не отставал, но не подходил ближе. Когда она останавливалась, он тоже останавливался и ложился на ночлег. День и другой проходили, и он не видел её, потом где-нибудь на открытом месте мелькал на минуту её белый силуэт и снова терялся в пространстве. Он знал, куда он идёт, но не знал – зачем, только не мог отстать, даже если бы по дороге на каждом шагу грозила смерть. Иногда в его ушах звучали последние слова оленя-двойника: «зарежут, зарежут!..» Но чаще всего ничто не звучало. Он шёл так же слепо, как Ронта, и мысли его спали.
Они покинули берег Даданы и шли прямиком, перебираясь через горный кряж. В горных ущельях было морозно, и местами лежал снег. Они прошли босыми ногами по оледенелым камням и даже не заметили. Землю Селонов они перерезали от края до края и область пращников Тосков, но никого не встретили, ибо земли были широки, а людей было мало, и кто не искал, мог перейти через горы и долы и не встретить двуногих, – друзей или врагов. Они стали подходить к зимним пределам Анаков. Ронта шла впереди и увидела Кенайскую гряду и перед ней знакомое поле. Потом перешла поле и нашла родную пещеру.
Здесь было зимнее стойбище Анаков. Она остановилась поодаль. Сердце её билось, в голове стало яснее.
– Вот здесь они живут, – думала она. По сотне признаков она узнавала, что племя здесь, никуда не ушло. Об этом говорили свежие следы костров, вытоптанная трава, плоские кучи костей, обрезки дерева. Две шкуры, волчья и конская, были растянуты на кольях для просушки. Обе они были ещё свежие, сырые.
Дверь пещеры была открыта, но людей не было видно.
«Где же они?» – думала Ронта, не решаясь приблизиться.
Анаки не являлись, и всё было пусто и тихо. Только неприбранный детский трупик валялся у скалы. Маленький он был, молчаливый и зловещий, единственный житель безлюдного стойбища. Губы у Ронты дрожали. Ещё немного, и она разразилась бы плачем, как плачут испуганные дети, но в эту минуту на ближнем склоне горы из лесу выкатилась фигура, потом другая, потом ещё и ещё. И почти тотчас же вся толпа с дикими криками бросилась вниз, прямо к ней. Женщины бежали впереди, размахивая руками.
– Беглая, – кричали они, – держите её!
Аса-Без-Зуба добежала первая.
– Шлюха, – крикнула она и угрожающе замахнулась.
– Я не шлюха, – сказала Ронта тихо, но внятно.
– С бродягой жила!..
Они называли Яррия, как изгнанника, бродягой.
– Ни с кем я не жила, – сказала Ронта так же, как прежде.
Её худощавая, незрелая фигура явно подтверждала справедливость её слов, ибо после брака девушки пышно распускались и становились жёнами, и каждая жена носила на себе печать своей зрелости. Но женщины, ослеплённые своей ненавистью, не слушали и не смотрели.
– Лжёшь! – кричали они. – Беглая, убьём…
В руках у Асы очутилась крепкая палка, и она угрожающе замахнулась, но ударить ей не пришлось. Из женских рядов вышла Охотница Дина и встала рядом с беглянкой. На ней не было плаща, и плечи её были в грязи. Она имела усталый вид, но в руке у неё было копьё. В глазах сверкал отблеск прежнего огня.
– Не трогайте её, – сказала Охотница Дина. – Видите, она ничего дурного не сделала.
– Я не сделала, – подтвердила Ронта детским тоном.
– Чёрная корова, – кричали женщины, – побить её камнями.
Но вслед за Диной среди мужчин отозвался Бледный Рул.
– Не трогайте её, – сказал он тоже. – Какая же это корова? Разве вы не видите? Это белая тёлка.
Спанда вышел вперёд и встал перед беглянкой.
– Ронта, скажи… – начал он и запнулся. Даже голос теперь у него был иной – жалкий, дребезжащий, старческий. Он как будто одряхлел за эти страшные дни. Вместе с другими он вернулся назад из злого ущелья, нарушив обещание Анаков. Ибо он был больным и не отдался Дракону. Теперь он был, как призрак, ни живой и ни мёртвый.
Ронта молчала и ждала.
– …Ты не жила с Яррием?
– Ни с кем я не жила, – повторила Ронта угрюмо.
– Где же ты была?
– Там.
Она указала на северо-запад.
– А он где?
– Там.
Она указала в ту же сторону, но жест её был короче, и Спанда понял разницу.
– Близко?
– Да, близко.
– О-о! – завыли снова Анаки оглушительным хором. – За вас погибаем. Злодеи, нечестивцы. Убить вас надо.
Аса-Без-Зуба снова выскочила вперёд.
– Вы всех убили, – крикнула она. – Даже мальчика Дило, и того вы убили.
Руки её сжимались в кулаки, на углах рта выступила белая пена.
Но Спанда отстранил её от Ронты.
– Полно кричать, – сказал он с оттенком прежней строгости. – Я знаю, о чём ты кричишь.
Он посмотрел на Асу острым, загадочным взглядом. Она тотчас же умолкла и попятилась назад.
Рул вышел вперёд и неожиданно упал перед Ронтой на колени.
– Мы погибаем за вас, – повторил он, – спаси нас!
Ронта посмотрела на него с испугом и недоумением, потом повела глазами кругом, отыскивая знакомых, и тихо спросила:
– Где Илеиль?
Рул схватил горсть холодного пепла с огнища, посыпал себе голову, потом указал рукой через плечо, в сторону поля:
– Там.
Пальцы его были сложены вместе и протянуты. Этот жест означал покойника.
Ронта немного помолчала и спросила опять:
– Где Литта?
– Там, – указал Рул в другую сторону, к горе. – К Дракону пошла.
– А где Яррия… Где Элла?
И ещё два раза монотонно сменили друг друга два жеста и два ответа: «Там, в поле…», «К Дракону пошла…»
Тогда Ронта остановилась, подумала и спросила:
– Какой Дракон?..
– Лунный Рек, Дракон, – ответили Анаки. – Духи Заразы… Убивают незримые…
– Хватает жертву так!..
Мужчины и женщины, и дети кричали наперерыв, строили гримасы и показывали жестами, что делает Дракон.
Рум Старший схватил щепку и закусил её зубами с свирепой миной. Он хотел изобразить страшное лицо Лунного Река с Юном в зубах.
Ронта молчала в оцепенении.
– Мы обещали ему белую жертву, – сказал Рул. – Оленную жену. Он злится, требует.
Теперь Ронта начала понимать. Рул говорил о белой телице весенней охоты. Грозное слово Чёрного Юна оказалось правдиво. По вине Яррия Лунный Рек спустился на землю и мстил племени.
– Спаси нас, – снова воскликнул Рул, простирая к ней руки. – Ваша вина, – прибавил он уныло и с упрёком.
– Как я спасу вас? – сказала Ронта негромко.
– Иди к Дракону.
Ронта сделала рукой отклоняющий жест и испуганно отступила назад.
– Мы все ходим, – закричали Анаки. – Теперь ходили. Всё племя требовал, взял половину.
– Зачем я пойду? – спросила Ронта снова. Голос её звучал глухо. В горле у неё пересохло.
– Белой невестой пойди, – сказал Рул, – в белые жёны. Ты – чистая, святая. Уговори его, пусть нас оставит. Уйдите на небо назад. Смерть наша…
Ронта молчала.
– О-о! – заревели Анаки. – Смерть наша незримая. Чего ждать? Куда бежать? Лучше покончить жизнь самим.
И быстрые в своих решениях, воины выхватили ножи и подняли их вверх, готовые нанести самоубийственный удар.
– Спаси нас! – быстро и страстно лопотали женщины. – Спаси племя, маленьких детей, ещё не рождённых!
Старый Спанда упал на колени рядом с Рулом и прошамкал старчески:
– Спаси племя!
– Мы убьём себя! – кричали мужчины.
Всех громче ревел Илл Красный Бык. Голос его раздавался, как рычанье медведя:
– Убьём себя!
Ронта посмотрела кругом растерянным взглядом. Рядом с ней стояла Охотница Дина, опираясь рукой на копьё.
– Что делать, Дина? – спросила Ронта беспомощно.
Дина с минуту молчала. Потом лицо её как будто окаменело.
– Если можешь, иди, – сказала она.
И Ронта тихо заплакала и сказала чуть слышно:
– Я пойду.
– А-а!
Громкий взрыв радостных криков раздался кругом. Он покрыл горы и долы и вызвал эхо в лесах и ущельях:
– А-а-а!..
Возле пещеры Анаков на малое время ходьбы была кленовая роща. Ровная она была и густая, но в этой роще не слышались девичьи шутки и не совершались женские обряды. Холодный ветер сорвал все листья с развесистых вершин, и они стояли под дождём нагие и печальные, как женщины без плаща.
Но в эту ночь под широким деревом недалеко от опушки горел костёр, и у костра сидела Ронта. Она была совсем одна, ибо это был её обряд, её одинокий праздник. Подруги совершили его без неё и заключили брак свой и умерли. И к Дракону, в юные белые жёны, она также должна была идти одна, без подруг. Охотница Дина хотела сидеть в эту ночь вместе с нею, как старшая помощница, но она отослала её. Старая Исса явилась неведомо откуда и собиралась зажечь второй костёр, как полагалось по обычаю.
– Зачем? – сказала Ронта. – Не нужно.
– Я расколдую тебя, – неожиданно предложила Исса. Она употребила бранное слово: «Ялама», то самое, которое Яррий бросил когда-то в лицо своей подруге.
Губы Ронты задрожали. Перед глазами её мелькнуло распалённое лицо, залитое кровью, и она готова была вскочить и бежать без оглядки. Но старуха спохватилась и замолкла и почти тотчас же исчезла. И теперь она, должно быть, сидела где-нибудь в темноте, с черепом между коленями, разрушая прежние чары или сотворяя новые.
Это было ещё в сумерках. Ронта, оставшись одна, подбросила в огонь новую охапку хвороста, села и задумалась, и забыла о старухе.
Она сидела у костра и смотрела в огонь, но не творила никаких обрядов, никаких заклинаний. Только напевала тихонько про себя старую сказку покойника Дило:
Пять трясогузок сидели под листьями клёна…
Эти слова напевала Элла-Сорока. Элла тоже была покойница. Все умерли. Она одна осталась.
Она продолжала напевать строфа за строфою старую загадочную сказку.
– Зачем ты? – спросил Дракон.
– В жёны к тебе, – сказала Рунта.
– Как берёшь ты жён? – спросила Рунта.
– Пастью беру, – сказал Дракон.
Она докончила песню, немного помолчала и потом сказала:
– За племя…
В лесу было тихо и спокойно. Неожиданно с опушки долетел знакомый тихий свист пёстрой совы Шиана, точно так же, как в тот раз, летом.
– Угу!..
Ронта не пошевелилась. Свист повторился и замер. И через минуту хрустнул сучок на тропинке. Высокая фигура обрисовалась в свете костра. Это был Яррий. Ронта не подняла глаз. Она видела его тень, но не видела его лица.
– Зачем ты пришёл? – спросила она после короткого молчания.
– Я твой муж, – отрывисто сказал Яррий.
– Мой муж там, на горе, – сказала Ронта.
– Знаю, – простонал Яррий, – Рул сказал.
И вдруг он упал на землю и стал биться головою о землю.
– Ронта, Ронта, Ронта!..
– Полно, – сказала Ронта. – Сядь здесь.
Яррий поднялся и сел против неё у огня. Теперь она видела его лицо. Оно было, как у безумного. Глаза у него были дикие, заплаканные.
– Не плачь, – мягко сказала Ронта.
– Ронта, зачем? – снова простонал Яррий.
– За племя, – сказала Ронта, – за маленьких детей.
– Из чрева твоего могли бы родиться дети, – заговорил Яррий, несчётное племя, наше собственное. Ты не захотела…
Ронта покачала головой:
– Я не могла.
– Каждый волос твой дороже Анака, – говорил Яррий. – Капли крови твоей, как яркие звёзды. Красное сердце твоё, как красное солнце…
– Полно, Яррий, – сказала Ронта снова.
– Не дам тебя за них, – воскликнул Яррий ещё страстнее. – Кто они? Трусы, убийцы, рабы!..
– Будут другие, – сказала Ронта коротко.
– Другие будут жить, а ты умрёшь. Не дам тебя. Лучше я сам умру! – В глазах его вспыхнула прежняя решимость.
Ронта посмотрела на него с беспокойством.
– Что ты задумал? – спросила она.
Яррий молчал. Лицо его по-прежнему стало сурово.
– Скажи, Яррий?
– Я – воин, у меня есть копьё, – сказал Яррий угрюмо.
– Не надо, – поспешно сказала Ронта. – Он сожрёт тебя.
– Пусть сожрёт! – страстно воскликнул Яррий. – Не боюсь. Ненавижу.
– Он – бог, – сказала Ронта с дрожью в голосе.
– Ненавижу богов! – крикнул Яррий запальчиво. – Не боги – враги. Будь они прокляты!..
– Нас боги создали, – возразила Ронта.
– На гибель создали! – кричал Яррий. – Жить не дают, радость отнимают у нас! Не нужно их!
Он вскочил с места и весь трясся от возбуждения. В эту минуту он верил в богов и ненавидел их, как худших врагов.
– Сядь, Яррий, – сказала Ронта снова.
Яррий тотчас успокоился и сел у огня.
– Слушай, Яррий, – заговорила Ронта, – помнишь реку Дадану и наш челнок?
– Помню, – вздохнул Яррий.
– Мы вместе сидели, – сказала Ронта, – сомкнувшись плечами. Ты вперёд смотрел, а я назад. Волны бежали за нами и гнались, и не могли догнать.
Яррий молчал. У него голова кружилась от этого острого и яркого воспоминания.
– Теперь я смотрю вперёд. Я вижу…
– Что видишь ты? – спросил Яррий.
– Вижу передние волны. Они убегают от нас, – сказала Ронта. Яррий молчал.
– Задние волны, это – минувшие наши, – сказала Ронта, – прадеды, деды, отцы. Они догоняют нас, но не могут догнать. Передние волны, это грядущие наши, дети детей и внуки внуков.
– Не наших с тобою детей, – сказал Яррий.
– Дети Анаков. Мы тоже Анаки. Вижу внуков и правнуков. Они вырастут, как листья. Каждый ребёнок станет народом. Покроют землю.
– Ты не увидишь, умрёшь…
– Вижу теперь, – сказала Ронта спокойно, – а смерти не минуешь.
– Я не отдам тебя смерти, – сказал Яррий твёрдо.
И снова вспыхнул тот же спор.
– Не надо, – твердила Ронта. – Он сожрёт тебя.
– Кто знает? – угрюмо возражал Яррий. – Я ведь не мышь.
– Он как гора, – говорила Ронта.
– Сса тоже Зверь-Гора, – возражал Яррий, – но люди его побеждают.
– Ты погибнешь, погибнешь, – повторяла Ронта с тоскою.
И Яррий вспыхивал снова.
– Пусть я погибну. Или я недостоин погибнуть с тобою?..
В разгаре их спора с опушки послышался резкий свист, и замелькали фигуры и факелы.
– Беги, – воскликнула Ронта. – Анаки проснулись.
Это, действительно, были Анаки. Они вовсе не спали, глаз не могли сомкнуть от крайней тревоги. Они не смели подойти к костру белой невесты, чтобы не нарушить обряда, но сторожили её издали, помня о летнем побеге. И теперь они заметили у костра другую фигуру. Быть может, Рул, после свидания с Яррием в поле, предупредил соплеменников.
– У-у! – завыли Анаки. – Бродяга, осквернитель!
Видно было, как они потрясали копьями, но подойти ближе они не решались. Несколько камней и дротиков, брошенных в темноте, ударились в деревья и зашуршали в листьях.
– Беги! – умоляла Ронта. – Они убьют тебя.
– Хочешь, я унесу тебя, – шепнул Яррий. – Мы убежим в дальние горы. Пусть они погибнут. Мы будем жить.
– Нет, нет, – шептала Ронта. – Иди, живи.
Ещё один дротик, пущенный издали с неистовой силой, пролетел мимо, очень близко от Яррия.
Ронта вскочила на ноги, подскочила к своему другу, обняла его и закрыла своим телом, чтобы защитить его от смерти.
Она оторвалась от него, потом толкнула его от костра. И такая тревога была на лице её, что Яррий схватил своё копьё и бросился в темноту.
– Держи! – ревели Анаки. – Бей, бей!..
В лесу раздался треск, шум торопливых шагов. И всё затихло. Потом на склоне горы высоко над рощей раздался последний пронзительный свист со знакомым переливом. То был свист Яррия.
Ронта уселась у костра. И далеко за полночь, когда Небесный Охотник уже протягивал к зениту свой пламенный Дротик, Ронта, как прежде, сидела над огнём и тихо напевала:
– Как берёшь ты жён? – спросила Рунта.
– Пастью беру, – сказал Дракон.
Глава 14
Солнце только что село, но было светло. Острые зубцы каменной гряды выступали в медном закате, как будто иссечённые кремнёвым резцом небесного мастера Нейра, сына Солнца. Вечернее небо было ясно. Лёгкие тучи собрали свои белые перья все до единого и унесли их на полночь. Но узкие стены Кандарского ущелья стояли тёмные, как будто кого стерегли своими резкими тенями.
Внизу, на подъёме к ущелью, показалась фигура. Она была маленькая, тонкая, нагая; белая она была, как снег, и вся порозовела под ярким отблеском заката. Это была Ронта. Она шла навстречу своему грозному браку.
Сзади на большом расстоянии рассыпались широкой дугой другие фигуры, маленькие и большие, светлые и тёмные. Это были Анаки. Белая жертва шла впереди, и они не дерзали приблизиться. Но они зорко следили глазами за белой фигурой, ибо желали увидеть до конца брачный пир лунного Дракона и жаждали узнать, найдут ли они после кровавого обряда в свирепых глазах жениха прощение и жизнь. Ронта шла, сложа руки на груди, неторопливым шагом. Плечи её сжимались, как будто от холода. Но она не боялась и ни о чём не думала, и только готовилась встретить Дракона вопросом, как Рунта из сказки:
– Как ты жён берёшь, Дракон?..
Уже впереди затемнело широкое устье Кандарского входа. Она стала искать взглядом алые камни глаз Дракона, о которых говорили Анаки, но их не было видно. Лунный Рек, должно быть, скрывался в своём логовище.
В эту минуту наверху каменной стены появилась ещё фигура. Она была такая же чёткая, выпукло-резная, как будто каменная. Но она была живая. Она постояла секунду на гребне, потом стала спускаться вниз, опираясь на копьё.
Анаки завыли от злобы. Ибо это был тот же изгнанник, нечестивый и богохульный Яррий. Он решил довести до конца своё злое дело и пойти наперекор спасению племени. Но сделать они ничего не могли. Яррий был впереди Ронты, в пределах владений Дракона, и даже бросить туда копьё было бы святотатством. Да никто и не дерзнул бы подойти на перелёт копья.
При этих внезапных криках Ронта подняла голову и тоже увидела Яррия. Он прыгал по уступам, с невероятной ловкостью спускаясь в ущелье, наперерез её дороги. Щёки Ронты окрасились лёгким румянцем. Она бросила Яррию взгляд, последний взгляд…
В эту минуту из чёрного ущелья сверкнули две яркие точки, и показалась голова, серая, злая, на вытянутой шее.
Яррий измерил её взглядом холодной ненависти. Это не была голова бога; это была голова огромного зверя. И даже вопреки рассказам Анаков, она не показалась ему чрезмерно огромной.
У Зверь-Горы было такое же темя, только у этого шея была длиннее и зубы иные.
Глаза Дракона светились алым блеском.
– В глаз буду метить, – сказал себе Яррий.
Ронта остановилась. Яррий спрыгнул вниз и сжал копьё.
Голова повернулась и посмотрела на белую жертву и её защитника…
На озере Лоч Повесть
Глава I
Был ход лосося. Уже третий день она шла несчётными стадами из озера Большого по переузьям и затонам и по извилистому руслу реки Юрата, направляясь в озеро Лоч.
Он двигался плотными рядами, как живая стена, и гнал перед собой воду на ленивой реке, обмелевшей от летнего зноя. Мутные волны пополам с рыбой хлынули через плотины и заколы, издавна забитые Селонами в песчаное дно наперерез желанной добыче, и прорвались вперёд.
Селоны, впрочем, не гнались за передовым отрядом. Ивовые верши и широкие мерёжи, искусно связанные из лыка, во всех рыбных плотинах были набиты битком. Одна за другой на Юрате стояли четыре плотины, в каждой плотине было по двадцать ворот, и перед каждыми воротами лежала, разинув широкую пасть, западня. Рыба входила как будто по приказу. Она не искала еды и не боялась препятствий и лезла вперёд, обезумев от жажды нереста[6]. Иногда, если мерёжи оставались слишком долго без высмотра, они наполнялись лососем до самого верхнего обруча, и новые ряды, не зная, куда деваться от напиравшего сзади руна, выметывались из воды, вспрыгивали на верхние жерди и на дерновые закраины и шлёпались в вольную воду по ту сторону плотины вниз головою, как утки. Отдельные отряды заходили в боковые ручьи, ничтожные, почти сухие, перебирались с камня на камень боком, как светлые плитки, скользили брюхом в траве, густой и чуть влажной, и всё-таки лезли, сами не зная куда, на верную гибель.
У Селонов было присловие: «Лосось, как камень с горы, назад не вернётся».
Ход рыбы был для племени Селонов великою страдою. Они покидали огулом «Гнездо», раскидистый улей, висевший на тысячах свай, как остров, среди озера Лоч, над тёмной и сонной водой. Они приходили сюда с грудными детьми и собаками, с жертвенным камнем и круглым широким ножом, сиявшим, как пламя, и никогда не тускневшим, и о котором старухи говорили, что он упал сверху, с самого солнца. Они приносили с собой старого Деда, у которого волосы были белы, как перья у лебедя, и ноги не разгибались уже двадцать зим. Его несли на плечах юноши, сменяя друг друга, поочерёдно. Дед считался отцом и хранителем племени, загонщиком дичи, подателем охотничьего счастья.
Кроме Деда у Селонов был ещё Прадед или Предок. Он был сделан из человеческих костей и обёрнут шкурами. Предок обитал в тёмной закрытой каморке над тремя средними сваями большого помоста и остался стеречь покинутый дом и имение. Вместе с ним остался и Помощник, каменный идол, привязанный сверху у дымовой трубы.
На левом берегу Юраты раскинулся лагерь, широкий и весёлый, засыпанный крупной рыбой. Мужчины подтаскивали к берегу мерёжи, как полные мешки, и вываливали рыбу на песок. Девочки и мальчики длинной вереницей таскали её в корзинах, по двое, на круглую площадь, где женщины, сидя на земле, пластали её круглыми, острыми кремнёвыми ножами. На чёрной сушильне рядами висели тысячи распластанных спин. Повсюду валялись головы, кишки, хвосты, – лакомый корм для собак. Но собаки их не ели. Они убежали вверх по реке и там, забредая в Юрату по брюхо, веди рыбную ловлю на собственный страх просто зубами в воде. Они выедали у пойманной рыбы жирную спинку, а голову с костью бросали на песок. Всё это после должны были подобрать лисицы, и шакалы, и хорьки, которые являлись сюда, как в свой осенний склад. И осенью здесь у Селонов было лучшее место для добычи пушного зверя.
Грудами лежала неубранная рыба. Её попросту сваливали в глубокие ямы и сверху прикрывали дёрном и засыпали землёй. Рыба бродила в земле и обращалась в бурую кашу. Из каши мяли колобки и пекли на горячих углях в скудное зимнее время.
Малт и Низея медленно тянулись в гору, сгибаясь под общею ношей. Их обгоняли мальчишки, которым не хватало корзин. Вместо того, они задевали за жабры по рыбине на каждый палец обеих рук и быстро бежали вверх, отставив кисти, будто два странных чешуйчатых опахала.
– Го-го! – кричали они, пробегая мимо, словно щёлкая бичом на ходу.
– Го! – отзывалось за ними и катилось по всей веренице носильщиков рыбы.
И все торопились ускорить шаги и вползти на крутой косогор в такт этим задорным отрывистым крикам:
– Го-го!..
Корзина качалась на ходу, коромысло гнулось, скользило у Малта из рук и впивалось Низее в её молодое плечо. Малт был приземистый, чёрный, как всё племя Селонов. Щёки его уже опушились первым пухом расцветающей юности. Спина его была покрыта потёртой козьей шкурой, и в волосах был ввязан крошечный коралловый рожок в защиту от духов болезни и заразы. Издали этот рожок походил на крупную ягоду брусники в чёрном засохшем мху.
У Низеи было худое личико и глаза огромные, чёрные, словно озёра. Её волосы вились и стояли над головой, как дымное облако. На ней была рубаха без рукавов, из жёлтой циновки, искусно сплетённой из стеблей травы руками матери её Хаваны. Ноги её были босы, и вокруг лодыжек вытатуированы широкие синие браслеты. На смуглой шее лежала нитка кораллов, таких же красных, рогатых и твёрдых, как красная капля на темени чёрного Малта.
Малт и Низея родились от двух сестёр и тоже могли называть друг друга брат и сестрица, ибо у Селонов родство считалось только по матери. И коралловый рожок юноши был выдернут из того же ожерелья, которое старая Гина, общая бабушка, повесила перед смертью на шею любимой внучке от младшей дочери Хаваны.
– Го-го!..
Когда они проходили мимо старого Деда, Низея споткнулась. Корзина качнулась сильнее, и одна из верхних рыб скользнула в сторону и упала вниз. Малт быстро обернулся, сбросил с плеча коромысло, и рыбья ноша мягко опустилась на землю.
– Устала, Низея, – оказал он заботливо.
Девочка не отвечала. Она стояла на месте, и ноги её тряслись от усталости.
– С дороги! – кричали задние. – Не стойте на дороге!..
– Что, распустили икру? – сказала насмешливо толстая Карна, обходя по тропинке.
Она одна, без посторонней помощи, несла на голове плоскую корзину, наполненную рыбой.
– Брось её, Малт.
– Низея! – позвал старик.
Девочка послушно подошла.
– Сядь здесь.
Он указал ей место на шкуре рядом с собой.
Малт немного подождал, потом перехватил на дороге мальчика Ганка, маленького и совсем голого, бежавшего сзади вприпрыжку, и они потащили вдвоём кое-как рыбную ношу на площадь уборки.
Девочка осталась на месте, возле старого Деда.
– Зачем надрываться, Низея? – ворчал старик.
– Девушки смеются, – сказала угрюмо Низея. – «Есть, – говорят, – ты умеешь, а таскать не умеешь»…
– Брось их, – буркнул старик.
Солнце садилось за рекой Юрата. Его огромное красное око глядело на белого Деда и на его молодую соседку. Дед тоже глядел на солнце, но глаза у него были слепые, белые, как будто затянутые кожей. Он долго смотрел на закат и потом покачал головой.
– Низея, ты видишь? – окликнул он девочку.
– Не вижу, – отозвалась Низея вялым голосом. – В глазах рябит.
Старик пошарил руками перед собой и подал ей большую рыбину, свежую, сейчас из воды. Ребята натаскали старику свежинки.
– На, проясни свои глазки…
Низея привычным жестом поднесла рыбу ко рту и выкусила хрящ головы, вместе с глазами, как чайка выклюнула. Селоны в минуту усталости глотали свежие рыбьи глаза, чтобы прояснить свои собственные.
Она опять подняла лицо и посмотрела на солнце. Оно опустилось ниже, и его блеск стал гуще и темнее и не так больно резал глаза.
– Ты видишь, Низея? – спросил старик.
– Краба вижу, – сказала девочка и вдруг усмехнулась.
В старой легенде Селонов солнце – это яркий щиток огромного светлого краба.
– Ты видишь, Низея? – повторил старик бесстрастно и настойчиво.
– Постой-ка, постой, – отозвалась девочка живее, чем прежде.
Она тряхнула головой, и перед её глазами побежали яркие цветные кружки.
– Солнцевы Люди, – забормотала она быстро и невнятно.
– Какие люди? – так же быстро переспросил старик.
– Идут… люди, – говорила Низея. – Вон, в облаках, в пламени, волосы красные. Много их…
Она встала с места и хотела вернуться на берег.
– Не надо, – сказал старик. – Пусть сами кончают.
– Придут когда-нибудь, – ворчал он про себя, кивая головой. – Так старики говорили.
Он думал о Солнцевых Людях. В этой упрямой седой голове жила неотступная грёза. У Селонов было древнее и странное предание, что с неба должны спуститься на землю Солнцевы Люди, одетые блеском и пламенем. То будут блаженные и кроткие люди. От них прозреют слепые и встанут с постели больные и даже мёртвые. И смерти больше не будет. Старый Дед со слепыми глазами не думал о смерти. Но он желал ещё раз прозреть и увидеть зелёную землю. Ему не на что было надеяться. Он надеялся на Солнцевых Людей.
– Придут, придут, – ворчал он настойчиво и тряс головой.
Низея с минуту постояла, потом повернулась и пошла вдоль берега, направляясь к лесу. Она зашла за мысок, села на камень и задумчиво стала болтать ногой в нагретой воде. Здесь не было людей, но новые рыбьи стада подходили сзади. И за ними летели крылатые хищники: чайки, бакланы и даже вороны и орлы. Чайки поминутно спускались к реке и таскали добычу, как будто из ящика. А чёрный поморник, который не любит мокнуть в воде, бросался на лету и отнимал у чайки добычу. В воздухе носились птичьи крики и клёкот, и писк, и галдёж, шумнее, чем у Селонов на кругу. На берегу было потише, и шагах в десяти от себя Низея увидела новое диво. Крошечная ласка, серый зверёк с подпалинами по брюху, который боится воды хуже, чем соболь, умудрилась как-то ухватить зубами за хвост большую рыбину и тащила её на берег. Лосось не шёл и тянул в воду. Ласка выгнула спину дугой и упёрлась в песок всеми четырьмя лапами. Она боялась замочить в воде даже коготки, но ей крепко не хотелось упустить жирную добычу. И так они боролись и колебались над краем воды, как живые качели.
Сумрак сгущался. Мелькнула летучая мышь.
– Сестричка моя, – вздохнула Низея и кивнула головой.
Лунда, сестричка Низеи, умерла три года тому назад, и все Селоны знали, что мертвые дети вылетают с того света в сумерки, крылатыми мышами, и прилетают к живущим.
Дрёма-Богиня заткала в темноте свою серенькую паутину, и сверчки завели ей в траве тихую вечернюю службу. Они стучали в травяной барабан зубчатой задней голенью и пускали скрипучую трель: «тр… тр… тр»…, будто кололи иглой ореховую скорлупу. Под этот тоненький треск Низея внезапно забылась, уронив голову на руки.
– Сидишь, Низея?
Девочка вздрогнула и проснулась. Чёрный Малт подкрался неслышно, как чёрный кот.
– Всё перетаскали, – молвил Малт, вытягивая свои длинные руки.
Низея ничего не сказала.
– Уже зажигают костры, – возбуждённо продолжал Малт, – плясуны сходятся… Будешь со мной плясать кругом огонька, а, Низея?
– С Карной пляши, – капризно сказала Низея.
– Под Карной трясётся земля, – возразил Малт презрительно, – а ты – как пушинка. Пойдём, потопочем!..
Он положил руку на плечо девочки, но Низея сердито отряхнулась.
– Один топочи, как лошади топочут…
Летучая мышь снова метнулась, сделала в воздухе круг и опять пролетела над Низеей.
– Есть хочешь, – тотчас же сказала Низея, – душка маленькая?.. Я дам тебе крошек.
– Лучше бы я стала вон с теми порхать, – сказала она, откидывая голову, – чем с вами топотать…
Малт замолчал и со страхом смотрел на Низею. Он словно ожидал, что и она вспорхнёт на кожистых крылышках и умчится во мрак.
– Вот это для тебя, – сказал он, наконец, доставая маленький комочек из поясного мешочка.
Он развернул лоскуток, и что-то блеснуло зелёным лучом, повисло на нитке и закачалось в стороны.
– Возьми, Низея, – предложил Малт несмело, – «ночной глаз». Я для тебя поймал…
То был зелёный светящийся жук, какие сверкали в кустах на берегу тихой Юраты. Малт изловил его по дороге и, крепко обвязав кругом тела тоненькой прядкой воловьей жилы, превратил его в живую подвеску.
– Бедный глазок!..
Девочка взяла этот скромный лесной подарок, быстро развязала жильную нить и освободила жука, потом тихонько подняла руку и посадила его на свою голову. Жук блеснул ярче прежнего, будто радуясь свободе, однако, не улетел и остался на том же месте, быть может, запутавшись в тонких завитках волос своей избавительницы.
– Сестричка моя, – шепнул Малт в тихом восторге.
Он не нашёл другого слова, чтобы выразить обуревавшее его чувство. Низея стояла перед ним, как будто живая Девица-Звезда из старой легенды.
– Ступай, братец, – отозвалась Низея ласково.
Но вместо того, чтобы тоже направиться вместе с Малтом обратно к лагерю, она пошла по лесной тропе, уводившей налево, наперерез широкого прибрежного мыса.
Малт сделал шаг в ту же сторону, потом остановился. Она тотчас же исчезла, растаяла в сумраке. Только зелёный «ночной глазок» раз или два сверкнул сквозь чёрные листья, как летучий лесной огонёк. Зелёный жук светил своей новой хозяйке дрожащим факелом и словно манил её куда-то, в лесную глубину, по тёмной и загадочной тропе.
Малт тихонько вздохнул, махнул рукой и вернулся на стойбище.
Глава II
Как только солнце село, работа окончилась. Рыба засыпала в темноте и стояла неподвижными стадами там, где её заставали, падая на воду, тёмные лучи густеющего мрака.
Селоны быстро забросали груды неубранной рыбы зелёными ветвями, в защиту от чаек, и стали разводить костры. Женщины готовили пищу, но юноши и девушки уже взялись за руки и, нетерпеливые, несмотря на усталость, завивали вечерний хоровод. Ловля лосося была для Селонов не только страдою, но праздником и пиром. Правило лова гласило: «Лови до отказа, а ешь до отвала, пляши до упаду. Где упадёшь, там и спи».
На круглой площадке, где только что убирали рыбу, костёр горел выше и ярче всего. Девушки и парни топали ногами по земле и часто попадали на скользкие рыбьи остатки, сами скользили и падали, увлекая за собой других. Но рыбью пляску следовало плясать в самом центре рыбного обилия.
– Го-го!.. – кричали плясуны. – Саун, выходи, Карна, торопись!.. Пойте, пора. Рыбы не услышат.
Саун и Карна вышли на середину хоровода. У Сауна в руках была маленькая камышовая свирель. Он приложил её к губам и извлёк из неё напевную тихую жалобу, которая родилась в вечерней унылости меж ивами лочских берегов, под тихий плеск набегающих волн. Потом он опустил свирель и запел вполголоса:
«Саун ходит у озера Большого С унылым сердцем и смутными очами. В доме у Сауна нет пищи для маленьких братьев… Выйди из озера, Дева-Лосось, Погляди ты на Сауна, помоги ты Сауну»…И Карна вышла вперёд и прошла перед Сауном, потом сделала несколько странных прыжков, изгибая в стороны своё крепкое, упитанное тело. Она была крупным лососем на сухом берегу. Карна запела:
«Вышла из озера Карна-Лосось, Брызнула икрою на мокрый песок. Сколько песчинок, столько икринок, Сколько икринок, столько и рыбы… Что дашь в уплату, Саун?»Они взялись за руки и прыгнули вверх и крикнули сразу:
– Эгой!..
«Плодитесь, рыбы, Большие и малые,– запел хоровод. —
Сколько песчинок, столько икринок, Сколько икринок, столько и рыбы».У другого костра начинались воинские игры. Трое мальчишек, сидя на корточках, усердно подбрасывали в огонь смолистые ветви и шишки, и пламя поднималось высоким столбом, и чёрные деревья выступали отчётливо и резко, как будто на лесном пожаре.
Воин Меза шагнул вперёд и сбросил меховой кафтан. Лицо его было мрачно и всё заросло короткой густой бородой, словно у барсука. Тело его было сухое, как дерево, а руки и ноги – как тонкие твёрдые корни. На смуглом плече белел извилистый шрам. Дети Мезы давно бегали на собственных ногах и таскали рыбу с берега, а Меза всё ещё был самым ловким из всего племени, и ни один молодой стрелок не мог сравниться с ним на состязании.
– Начинай! – кричала толпа.
Хенний, Ясан и Калеб вышли из рядов. У них были короткие луки и стрелы с тупыми концами, которыми глушат мелкого зверя, чтобы не испортить шкурки.
Эти трое юношей дерзали состязаться с угрюмым Мезой, хотя и без особой надежды на победу.
Меза обошёл костёр и встал позади, шагов на тридцать от стрелков, потом повернулся боком, чтобы представить меньшую мишень для выстрелов, чуть-чуть присел, как будто попробовал сгибы своих упругих голеней, насторожился и ждал. В ярком и неверном пламени костра он был похож на крупную птицу, которая к чему-то прислушивается и готовится взлететь.
– Начинай!..
Хенний спустил тетиву.
«Дынг!» – звякнула тонко и жалобно тройная тетива, и стрела запела в воздухе. И в то же самое мгновение Меза сделал огромный прыжок вверх, как будто действительно у него были крылья. Но как только ноги его снова коснулись земли, звякнула вторая тетива. Он прыгнул в сторону и так же счастливо избежал выстрела.
Калеб тоже натянул тетиву и долго приноравливался и метился сквозь мелькающее пламя. Меза присел пониже на своих упругих ногах. Его лицо разгорелось и окрасилось тёмным румянцем, или, быть может, это было зарево костра. И на его тонких губах играла улыбка.
«Дынг!» – зазвенела тетива. Меза прыгнул вперёд и выбросил правую руку, как будто пращу.
– Есть, есть! – заревела толпа.
В его правой руке, высоко поднятой вверх, была зажата стрела, которую он, бог знает как, успел ухватить на лету.
– Аист! Аист! – заревела толпа в неописуемом восторге.
Селоны говорили, что белый аист, охраняя самку, сидящую в гнезде, перехватывает стрелы на лету своим длинным клювом. Впрочем, никто этого не видел на деле, ибо стрелять аистов считалось грехом и оскорблением Белого Гуся, бога перелётных птиц.
Но у Селонов это уменье уклоняться от стрел и от копий и даже от каменных пуль, летящих из пращи, было главным боевым искусством, не наступательным, а, скорее, оборонительным. Соседи, однако, боялись Селонов и их странной ловкости и говорили, что им помогает уклоняться от стрел дьявол – покойник, живущий в их доме над озером.
Меза гикнул и прыгнул опять, взвился не хуже стрелы и перепрыгнул через костёр.
– Мой черёд, – сказал он насмешливо, хватаясь за собственный лук.
Он имел теперь право на три выстрела. У юношей вытянулись лица, и губы сжались плотнее. Тупоносые стрелы могли наносить страшные удары не только куницам и белкам. Меза к тому же стрелял сквозь горящее пламя так же искусно, как прыгал…
Ван и Мел стали состязаться в метании аркана. Это была весёлая и буйная игра. Ван сперва ловил, а Мел увёртывался. Они бегали по всему стойбищу, набегали на костры, опрокидывали котлы с пищей. Их ругали и бросали в них горящими головнями, а они отвечали смехом и пробегали дальше. Потом Мел стал ловить Вана. Проворный Ван, недолго думая, забежал в девичью толпу. Мел бросил аркан и накинул его на Менту Рябую. Мента рассвирепела. Она уцепилась руками за аркан и стала с неженскою силой тянуть и перехватывать его к себе, добираясь до Мела.
Девушки снова сомкнулись огромным кругом и перебрасывались насмешливыми песнями. Тоненькая задирчивая Луния выскочила на середину и запела пискливым голоском:
«Мента, тяжёлая выдра, рябая форель… Мента потёрлась о землю лицом, — Вся земля стала пёстрая».И Мента швырнула отвоёванный аркан и тоже вскочила в круг и быстро ответила:
«Луния, нос, как у дятла, Хохлатая сойка… Луния сидела боком над лужей, Ловила ногтями жуков».В диком восторге хоровод заплясал и затопал вокруг костра.
– Йо! Йо!.. – кричали девушки.
Было поздно. Большая Палатка[7] тихо вращалась вверху кругом высокого небесного Гвоздя[8]. Певицы, одна за другой, отходили и садились у костров. Другие падали тут же на землю и засыпали, как подкошенные.
Глава III
Ход рыбы кончился, как будто оборвался. Селоны вернулись в «Гнездо» на озере Лоч, только сушёная рыба осталась над Юратой на длинных вешалах, тщательно укрытая корою в защиту от чаек и ворон. Женщины унесли с собой, сколько могли, на собственных плечах. Теперь они постоянно ходили от Лоча к рыбному стойбищу и все перетаскивали ноши.
В домашнем обиходе Селонов женщина была вьючным животным, и переноска запасов с места промысла к дому была её главной и трудной работой.
Мужчины блуждали далеко на поисках зверя. Селоны никогда не меняли жилья, ни зимой, ни летом, но в погоне за добычей они уходили, бог знает куда, за реку Адара, которая течёт по равнине на севере и достигает до моря. По берегам Адары стелятся зелёные и пышные луга. Дальше темнеют и белеют высокие горы, куда охотники боятся заходить, ибо в ущельях живут волосатые духи, которые хватают пришельцев и бросают их в пропасть. А на снежных вершинах дремлет огромная птица Раган, чьи перья – облака, чей голос – гром. Горе тому, кто потревожит её покой.
Но до самых предгорий равнина наполнена дичью. Серые козы и жёлтые лошади пасутся вперемежку, и чёрные быки, и сайги, степные антилопы с тонкими точёными рогами. За ними охотятся бурые злые собаки и страшные волки и более страшные хищники – люди, но их не становится меньше.
Все ушли на охоту, Меза и Хенний, Ясан и Калеб и десятки других. Даже мальчишки забрали игрушечные луки и разбрелись по ближайшим лесам. Лук – главное оружие Селона. Он как будто родится с луком и, ложась на отдых, засыпает с рукой на тетиве и с колчаном под локтем.
Девочки рассыпались в зарослях и собирали ягоды. Близилась осень, и все кусты осыпались плодами, красными, янтарными и синими, как будто ожерельями. Старухи ходили с мотыгой по полям и копали коренья.
К югу от озера Лоч лежало ячменное поле. Оно было, пожалуй, не шире домашнего помоста. Каждую весну его вскапывали палкой и в дырочки сажали по зерну. Осенью срывали колосья руками и выбивали зерно. Потом растирали его меж двух плоских камней.
Все жители большого деревянного улья, точно настоящие пчёлы, собирали запасы и сносили их домой на долгую и скудную зиму.
Низея тоже ушла на луга за реку Адара. Два дня они собирали вместе с чёрным Малтом и другими подростками орехи в лесу и ночевали у общего огня. А на третьем ночлеге она потихоньку встала и ушла, пустилась по козьим тропинкам и дошла до Адары. Горсть спелых ягод служила ей обедом, и травяное ложе на пышных лугах было мягче и душистее, чем дома у лесистого Лоча. С тех пор уже семь дней она не встречала лица человеческого. Солнце ярко светило. Она гуляла по лугам и разговаривала со зверями и птицами, и с камнями и с травами, с вещами и с духами, с видимыми и невидимыми. И все они отвечали ей беззвучными, таинственными голосами.
Ей встретился пёстрый желтобрюх, змея, большая и мудрая, и кивнул ей своей треугольной головой.
– Других заманивай, ползун, – сказала Низея презрительно. – Я тебе не змеиная невеста…
Ибо желтобрюхи любят заманивать одиноких девушек в поле и в лесу. Они уводят их в своё подземное жилище и там сбрасывают с себя змеиную одежду. Но и без пёстрой одежды их собственное тело пестреет бледными пятнами.
Поздние бабочки низко летали над осенними цветами.
– Мысли мои, идите ко мне, – позвала Низея.
Ибо бабочки – это мысли, которые люди теряют по дороге, но если громко позвать их, они могут вернуться обратно.
Она поднялась на отлогий пригорок, поросший кочкарником. Табун лошадей пасся поодаль на лугу. Их было немного, пять или шесть. Все они были мелкие, жёлтые, косматые, с коротким хвостом и почти без гривы. Только один конёк был крупнее и темнее, и на шее у него стояла дыбом густая чёрная грива. При одной лошади был жеребёнок, подросток с длинными ногами и очень коротким хвостиком. Он был похож на мальчика в короткой рубашонке. Лошади мирно щипали траву, тёмный конёк стоял настороже. Он раздувал ноздри и поводил во все стороны своими большими глазами, пугливыми и дикими.
Налево от конского стада, поближе к Низее, была небольшая каштановая роща. Два десятка деревьев, не больше, но все тенистые, густые. За листьями что-то мелькнуло, и чуткий конёк уже собирался подать сигнал к всеобщему бегству, как вдруг он остановился, раздул ноздри, поднял голову и вызывающе заржал. Из рощи вышел другой конёк, немного поменьше, но такой же палево-жёлтый, с тёмной стоячей гривой.
Пришлец не ответил на вызов, как будто не слышал. Он продвигался тихонько вперёд, часто останавливался, пощипывал травку. Низея заметила с некоторым удивлением, что он шагает обеими передними ногами вместе, как будто связанный. Новый конёк делал вид, что совсем не замечает табуна, но всё приближался помаленьку к жёлтым лошадям. Хозяин табуна рассердился. Он распустил трубою свой жидкий хвост и с угрожающим видом обскакал по широкой дуге кругом табуна.
Пришелец продвигался вперёд. Глава табуна круто повернулся на месте и с решительным видом поскакал навстречу незваному гостю. Лошади щипали траву, не поднимая головы, как будто всё это их нисколько не касалось. Но Низея смотрела, заинтересованная. Новый конёк, наконец, остановился и повернулся к сопернику. Потом, предупреждая нападение, он поднялся на дыбы и с минуту продержался в странной, неестественной позе, как будто человек. Что-то мелькнуло в воздухе. И набегавший противник вздрогнул, сделал скачок в сторону и рухнул, как подкошенный. Всё это произошло так быстро, что Низея не разобрала в чём дело. Ей показалось, что его укусила змея. Лошади, всё-таки следившие исподтишка за поединком соперников, тоже изумились и, видимо, испугались. Они перестали есть и отбежали в сторону, сгрудившись вместе и не зная, на что решиться. Конёк-победитель стоял перед рощей и ждал. И только слегка царапал землю передним копытом в знак одержанной победы.
В это время передняя лошадь с жеребёнком, самая чуткая изо всех, вздрогнула и подняла голову. Она посмотрела вдаль совсем в другую, в восточную сторону, понюхала воздух и вдруг сорвалась с места и помчалась, как ветер. Весь табун умчался за нею и через две минуты уже превратился в шесть желтоватых точек на зелёном травяном море. Но конёк-победитель выдержал характер и не двинулся с места, стоя над телом побеждённого врага. Он, видимо, ждал, что табун вернётся.
Низея прикрыла глаза рукой и тоже посмотрела вдаль, стараясь разглядеть, что испугало табун. Там, на востоке что-то рождалось и реяло и волновалось в нагретом воздухе, словно песчаная буря.
И в смутном испуге Низея взглянула кругом, отыскивая убежище. Вблизи не было деревьев, только налево кудрявая купа каштанов с загадочным жёлтым конём. И, вспоминая степные уловки, Низея нагнулась к земле и вырвала крупную кочку на склоне пригорка. Потом нарвала охапку травы и связала сноп и надела на голову. После того она уселась в ямку на место кочки. Даже за десять шагов она была совершенно похожа на кочку. Она сидела неподвижно и, раздвинув перед лицом травяные стебли, осторожно смотрела вдаль. Там двигалось что-то большое, как будто табун или стадо. Столб пыли поднялся с земли под копытами стада и плыл вперёд, как облако. И в облаке сверкали порою какие-то искры или яркие полосы.
«Так сверкает вода», – подумала Низея. Но этот блеск был теплее и ярче и гуще.
«Или огонь», – подумала она снова. Но эти яркие искры были желтее и твёрже огня.
«Твёрдое пламя, – подумала Низея с растущим изумлением, – встало, как копья, а блещет, как жёлтое солнце».
Облако пыли выросло и разделилось. И перед глазами Низеи выплыл, как марево, небольшой караван, кочевье или племя в походе…
Но до сих пор она никогда не видала таких людей и такого похода. Живая толпа катилась по ровному полю, как будто река, прямо к пригорку Низеи. И впереди всех степенно шагала огромная лошадь. Она была не жёлтая, как степные коньки, а белая, как лебедь, с длинным хвостом и пушистой расчёсанной гривой. Она шла вместе с людьми, вольная, не раненая, без аркана и без всякой привязи и не уходила ни на шаг. Была как будто начальник похода и вождь племени. И правда, в середине толпы шёл человек, прямой, как дуб, и косматый, как старый медведь, в яркой шапке с белыми крыльями и нёс на шесте белую циновку или кожу. – Низея в первый раз увидала белёную ткань. – И на белом была намалёвана такая же лошадь с огромной веющей гривой, но только красная, как кровь.
За лошадью шёл высокий старик в белом балахоне до пят, с белыми кудрями и бородой до пояса. Низея угадала в нём жреца по кистям на плечах и по круглой трещотке, искусно вырезанной из дубового наплыва, как будто живое лицо.
В толпе были ещё лошади, тоже большие и разных цветов, рыжие и серые и вороные, всё больше по краям каравана.
«Как воины на страже», – подумала Низея, но тотчас же разглядела, что на спинах лошадей сидели люди с копьями в руках. Лошади шли смирно, подчиняясь всадникам.
«Вот это воины», – подумала Низея. Сзади двигались палатки или подвижные шалаши на круглых катках с оглушительным скрипом. – Низея в первый раз увидела телеги. – И новое диво: их тащили большие быки и чёрные буйволы, такие же смирные, как лошади воинов.
«Видно, все колдуны, – подумала Низея со страхом, – приколдовали диких и буйных скотов. Вдохнули им рабскую душу и пользуются, ездят»…
Телеги были наполнены скарбом и кишели детьми. Рядом шли женщины, старые и молодые, весело и вольно, без всякой ноши, ибо ноши были сложены в телегах. Впрочем, старых было немного. Больше шла молодёжь, юноши и девушки, резвые и сильные, не хуже своих лошадей. Как будто это был общий табун, недавно вскормленный и ушедший гурьбой на дальние пастбища, в чужую, неведомую землю.
Эти люди не были похожи на чёрных, приземистых Селонов. Они были крупнее и крепче, с кирпичным румянцем на светлых щеках. Волосы у них были таких же разных мастей, как гривы у коней, жёлтые и рыжие, светлые и русые. Головы воинов были гладко обстрижены, и только на темени был оставлен широкий клок, висевший назад или закрученный за ухо. Этот косматый хохол придавал их лицам какую-то птичью свирепость, как у красного кречета или у белоголового орла. У девушек были длинные светлые косы, заплетённые туго и висевшие сзади.
«А копья какие у них, – подумала Низея, – как будто осколки от солнца»…
Копья у конных и у пеших, действительно, блестели солнечным блеском, ясным и твёрдым, как жертвенный нож, святыня Селонов. У многих были такие же твёрдые яркие шапки, как будто горшки, и тоже с хохлом на темени сверху или с крыльями по сторонам, и даже коробки во всю грудь и спину, будто у черепах, и рубахи из твёрдых лучей, связанных вместе хитрее, чем лочские циновки, с воротом и рукавами.
Сзади погонщики, тоже верхами, гнали стадо коров и коней, неосёдланных и вольных, бежали большие собаки и подгоняли телят, но ни разу не укусили, хотя бы одного.
Впереди отряда, рядом со жрецом, но немного поодаль, ехал всадник, с ног до головы закованный в блеск. Лошадь его была тоже подстать, цветом, как спелая солома. Его грудь и руки и ноги были прикрыты яркой и твёрдой оболочкой, как у Солнечного Краба. Только на голове его не было шапки, и вместо неё по плечам рассыпались яркие нестриженные кудри. А лицо у него было молодое, безбородое, как будто у девушки.
Он ехал вперёд, не глядя на дорогу, и пел громким голосом ликующую песню. А в правой руке у него был странный топорик с десятком лезвий, режущих, звонких, пригнанных вместе под общую рукоять. И в такт песне своей он подбрасывал топорик изо всех сил вверх к сияющему небу и тотчас же ловил на лету, и ехал дальше и пел, и снова кидал, как будто старался забросить топорик на самое солнце.
«Луры идут, Конные и бронные, На дальние, зелёные поля… Идут звеня, Под знаками коня, Дети золотого, круглого бога-огня».Луры шли от великой реки Борион на дальнем востоке. Там в широкой травяной степи паслись несчётные стада, и стоял над рекою рубленный город Велун старого князя Асмерда из рода Ассиев «Светлых». А за Лурами в Горбатых горах гнездились жёлтые карлики, которые плавили медь и ковали из бронзы мечи и давали их Лурам в обмен за овчину.
И размножились Луры. И лурские парни поднялись и взяли у князя младшего сына Аслана, собрали стада свои и двинулись на запад. Жрец Гарт привёл из святых табунов белую лошадь Ишвану, без пятна, без всякого порока. Уде-Со-Знаменем вёл поход от имени юного князя. Ибо Аслан вырос под щитом косматого Уде и первое детское копьё получил из рук степного борионского медведя.
Уде был опытный воин. Его походам не было счёта, и копья врагов начертали на его груди почётный узор, несмываемый и вечный.
Луры шли уже четыре месяца, почти не останавливаясь, проходили высокие горы и узкие ущелья и вышли, наконец, на цветущую Адарскую долину. И по нраву пришлись пастухам тучные пастбища и мирные воды Адары, и теперь они ждали, чтобы белая Ишвана, топнув копытом о землю, указала им место для нового Велуна…
– Луры идут, Луры идут!.. – звенело над полями до самой Адары.
«Солнцевы Люди», – подумала восхищённая Низея. Яркий всадник на золотом коне показался ей богом, сошедшим с неба. Об этом боге она мечтала в долгие летние ночи, глядя на тёмное небо. Белая лошадь была небесная лошадь. Эти люди сошли с неба со своими волшебными стадами, как обещала старая вещая сказка, и пришли на Адару в гости к Селонам, чёрным и бедным и тусклым.
Караван был совсем близок. Низея была готова выскочить из своего прикрытия и бежать навстречу живым богам, сошедшим на землю.
Глава IV
Низея совсем забыла о битве лошадей и о коньке-победителе. Он долго стоял и всё дожидался табуна. Даже ноги у него застыли, как деревянные, и будто не гнулись в суставах. Караван шёл против ветра, и запах относило назад от жёлтого конька. Впрочем, всё-таки было трудно понять, как это он не замечает ни пыли, ни движения и, вместо диких лошадей, подпускает к себе всё ближе и ближе всадников с луками и копьями. Наконец, когда голова подходившего отряда уже поравнялась с пригорком Низеи, конёк взволновался. Он встал на дыбы и резко откинул голову назад, и, о великое чудо, – лошадиная голова отвалилась прочь вместе с кожей и передними копытами, и конь стал человеком. Ноги его ещё оставались затянутыми в конскую шкуру, и сзади болтался смешной, короткий и более не нужный хвост. Но плечи были открыты и даже разрисованы красным охотничьим узором из глины, смешанной с жиром. Он держал в руках короткий лук, какие бывают у Селонов, а за плечами у него висел колчан, наполненный мелкими, почти игрушечными стрелами. То был Меза. Его игрушечные стрелки были намазаны страшным ядом «Девичьего Пальчика», маленького жёлтенького корня, с виду такого невинного, который Селоны копали на болотах за Адарой, и который убивает мгновенно, как молния.
Одна из этих стрел поразила коня в табуне. Другие предназначались его быстроногим подругам. Селоны охотно пускали в дело всякие охотничьи уловки: лук-самострел, и коварную петлю, и яму, и падающие брёвна и не гнушались также отравленных стрел. Кстати же, и мясо зверя, убитого «Девичьим Пальчиком», можно было есть совсем безопасно. Яд исчезал неизвестно куда, и даже в свежей крови не было заметно отравы. Впрочем, в эту минуту коварный Меза сам рисковал стать из охотника дичью. Огромная конская морда, нахлобученная на его голову, как огромная шапка, помешала ему смотреть, как следует. Он видел только добычу, а врага не заметил. А между тем, злые собаки пришельцев, которые гнали стада вместе с пастухами, уже взяли дух и бросились вперёд целой стаей с тихим зловещим визгом.
– Го, го! – гневно закричали пастухи.
Пол стаи вернулось, но штук пять или шесть самых ретивых продолжали мчаться вперёд с горящими глазами и оскаленными мордами.
Меза быстро сбросил с себя остаток своего маскарада и секунду ещё простоял, словно колеблясь, – ему не хотелось бросать прекрасную добычу, поимка которой стоила стольких трудов. Потом он решился и ринулся вперёд и помчался, как олень, который убегает от волков. Ноги у Мезы были такие, что, пожалуй, он мог бы уйти от собак. Но в отряде тоже заметили его. Два всадника отделились от толпы и стали обскакивать новую дичь, чтобы отрезать ей путь на север, к высоким холмам. Лошади вместе с людьми, быстрые копыта в союзе с острыми копьями, – Меза не знал, как бороться с такого рода врагами. Лошади ему показались страшнее собачьих зубов. Он быстро переменил решение и, повернув под острым углом, побежал почти навстречу собакам. Они набегали, вытянувшись в линию, одна за другой…
Меза, покажи свою удаль. Врагов – много, а ты – один. Сможешь ли от всех увернуться?..
Меза внезапно замедлил бег, вскинул лук и рукой, не знающей промаха, спустил стрелку. Передняя собака подпрыгнула вверх и упала мёртвая, так же точно, как недавний конёк. Ещё стрела – и ещё собака упала. Другие замялись, не понимая причин этой внезапной, безмолвной и верной гибели. Но всадники уже наезжали. Меза свернул вправо и помчался к предгорьям. Всадники спутались и тоже замялись. Весь отряд шёл слева направо, и Мезе пришлось бы пробегать почти перед носом белой лошади и седого жреца.
Всадники опять разделились и стали заскакивать – один справа, другой слева, рассчитывая совсем окружить человеческую дичь. Но совершенно неожиданно Меза ещё раз повернул и помчался назад. Его внезапные петли были, как петли лисицы, уже окружённой, но ещё не затравленной.
Он летел, как ветер, прямо в разрыв между своими преследователями. Когда он пробегал мимо левого всадника, свистнуло копьё, но Меза подпрыгнул, как мяч, и избежал удара. Страшная стрелка его запела в ответ, но попала не в человека, а в лошадь. Ибо, в своей простоте, Меза считал её более опасным врагом. Лошадь упала, но всадник вскочил на ноги и взбросил на руку огромный лук, длиннее человеческого роста, который, конечно, посылал стрелы много дальше короткого лука Селонов. Мезе пришлось снова повернуть к наступающему отряду. Ещё один всадник выскочил из рядов и помчался к Мезе. Он потрясал на скаку длинным арканом, свёрнутым в кольца. Петля взвилась. Меза не успел уклониться в сторону. Всадник дёрнул аркан на лету. Но Меза скользнул вперёд и проскользнул сквозь петлю, как рыба сквозь дырявую сеть, и длинный ремень вернулся обратно пустой. Они как будто ловили не человека, а тень, или солнечный луч, и никаким оружием не могли хоть бы задеть его.
Ещё раз мелькнула предательская стрелка и на этот раз попала не в коня, а во всадника. Это была четвёртая жертва проворного Мезы. Но уже целый десяток новых врагов мчался с разных сторон на смену двух первых. Впереди всех скакал юноша с топориком в руке. Он нёсся прямо на Мезу, не думая об его стрелах. Меза ещё раз повернул в сторону, но юный Лур на всём скаку осадил коня, поднял его на задние ноги и повернул им в воздухе, будто волчком. Собака не могла бы повернуться быстрее и легче. Он теперь уже нагонял Мезу и высоко потрясал блестящим топориком, примеривая удар.
Несчастный, затравленный Меза быстро следил за рукою врага, готовый броситься влево или вверх. И топорик полетел, как праща, но совсем не на Мезу, а под углом, куда-то в сторону. В первый раз у Мезы упало сердце. Он не понял удара и не мог разобрать, куда это летит странный клуб блестящих и крепких ножей. Он прыгнул слепо, наудалую, и прямо наткнулся на клуб, ибо злое оружие свернуло с полдороги и бросилось на Мезу, как живое. Топорик впился Мезе в плечо, по старому белому шраму, как связка гадюк. Ещё через минуту Меза лежал на земле, опутанный арканом, в крови, и всадники отгоняли от него собак ударами копейного древка. Другие снимали шкуры с убитых лошадей и в том числе с дикого конька, подстреленного Мезой.
Низея сидела в своей травяной ямке ни живая, ни мёртвая. Она видела травлю, и бег, и выстрелы Мезы, и последний удар. Сам солнечный бог, её солнечный бог, поразил храброго Мезу своим сверкающим клубом. Боги солнца были враждебны бессильным Селонам. Низея боялась шевельнуться и всё ожидала, что очередь дойдёт и до неё.
Собаки забирались на пригорок и пробегали совсем близко. И одна из них внезапно наткнулась на живую кочку и замерла, как будто над птицей или над зайцем. Низея сидела, как зачарованная, и пристально смотрела страшному зверю в жёлтые, злые глаза, где в глубине пробегала кровавая искра. И собака смотрела Низее в глаза. Прошла минута тихая, долгая, глухая, и вдруг собака опустила голову и поджала хвост и стала отходить от Низеи, медленно, как будто нехотя. Взгляд Низеи даже в минуту смертельного ужаса был сильнее, чем тупые глаза враждебной ищейки. Девочка подняла голову и вздохнула свободнее.
А в это время в лесных зарослях по ту сторону Адары мчалась людская фигура. Она продиралась сквозь дикие дебри всё прямиком, не разбирая дороги. Руки её были в крови, лицо исцарапано шипами. Это Хенний уже направлялся на озеро Лоч с вестями о нашествии. Ибо юный стрелок шёл по следам охотника Мезы и тоже выслеживал жёлтый табун. И так же, как Низея, он видел издали и бег, и неравную битву, и падение Мезы. Он слепо ломился вперёд, как перепуганный медведь, и его невидящим взорам мерещились яркие копья, твёрдые панцири и страшный клуб, сверкающий и острый, похожий на звезду, и на ежа, и на связку когтей, и на злое, враждебное солнце.
Глава V
Уже десятый день Луры стояли над берегом озера Лоч, ведя осаду селонского «Гнезда».
Селоны не были застигнуты врасплох. Вслед за Хеннием вернулись домой по тайным коротким тропинкам один за другим охотники и дети и женщины, собиравшие корни. Только двоих не хватало: сурового Мезы и тоненькой юной Низеи. Напрасно Малт три вечера подряд просидел настороже над озером, каждую минуту ожидая, что на лестнице мелькнёт знакомая фигура. Низея не являлась. Должно быть, её тоже затравили собаками чужие белобрысые черти. И на третий вечер Малт утратил надежду и вместо тёмной воды стал смотреть в тёмное небо, не мелькнёт ли крылатая тень, маленькая душка его пропавшей сестрички. Ему вспомнился летний вечер над тихой Юратой и серая тень, мелькнувшая во мгле над Низеей. «Есть хочешь, душка маленькая, – словно прозвучало в воздухе. – Я дам тебе крошек». И Малт горько заплакал и укусил себя до крови за большой палец и принёс страшную клятву вырвать сердце у первого убитого Лура и напоить его свежей кровью крылатую душку Низеи. А на утро Луры добрались до озера и напали на Селонов, словно услышали клятву юноши Малта и желали дать ему случай исполнить её поскорей.
Селоны были готовы. Внутренние кладовые были наполнены запасами, а наружные помосты загромождены каменьями, глиняными пулями для пращников и дровами для костров. Все челноки были спрятаны внутрь за сваи, а лестницы убраны наверх. Свайный улей приготовился к защите. Человеческие пчёлы засели внутрь, готовые жалить насмерть и лучше погибнуть на развалинах родного жилища, чем уступить врагу хоть единую пядь. Каждое утро Луры отважно пускались на приступ то на плотах, связанных из прутьев или из пучков камыша, то сидя верхом на надутых мешках, в которых бабы зимою квасили кобылье молоко, приготовляя камасу, – любимый напиток весёлого Лура. А к вечеру пять или десять из них являлись назад в виде трупов, выброшенных волнами на илистый берег. Ибо страшные стрелы Селонов хоть близко хватали, но несли с собой неизменную смерть. И каждую ночь в лагере Дуров было погребение, и раздавался женский плач и проклятия мужчин. Селоны молча слушали эти дикие вопли и угрюмо усмехались. Своих мертвецов они спускали в воду с камнем на шее прямо под сваи и не говорили о них.
Ночью и днём по всем углам помоста за каждым выступом сидели часовые и чутко прислушивались к звукам, доходившим через озеро от вражеского стойбища. Они слышали утром мычание скота и ржание лошадей у водопоя, и в их уме эти звуки сплетались с мыслью о вольных стадах и о добыче охотников. И было им так, будто полчища диких животных, убитых на промысле, ожили и явились сюда отомстить истребителям. Они слышали скрип телег, передвигаемых мужчинами, и мерное жужжание ручных жерновов, на которых женщины мололи запасы зерна, лай собак и щёлканье длинных пастушеских кнутов, и белые Дуры, которые жили среди такой странной обстановки, казались им особенными существами. Они вышли из земли или упали с солнца. Это были не простые люди, а племя колдунов, или оборотней, или духов…
Низея, однако, не сделалась маленькой душкой. Она не попалась под зубы свирепым собакам. Отряд проехал мимо, потом повернул на Адару. Низея стряхнула с себя травяную одежду и снова стала из кочки девочкой и тихо поползла за отрядом, припадая подолгу за каждым камешком и кустиком, как лисица на охоте. Дуры вышли на берег Адары. Она видела, как всадники въехали в воду, отыскивая брод, и буйволы пялились назад, и рослые женщины толкали их в спину длинными острыми палками. Кобылы с жеребятами входили в воду, повинуясь пастухам. Коровы с телятами грузно плыли, относимые течением вниз. Сзади всех шло стадо мелкого скота, мохнатые козы и кудлатые овцы и маленькие юркие свиньи. Эти свирепые и грязные твари тоже были покорны могущественным Дурам. Телеги также везли крупных серых гусей и синеголовых уток. А у иных всадников сидели на сёдлах коричневые соколы в шапочках и путах. И всё это уживалось в мире и согласии, покорное воле человека. Все твари, живущие в лесу и на поле, на суше и на водах, смирились перед Лурами, служили им и платили им дань. Теперь Луры шли смирять и покорять черноволосых Селонов.
Низея искала глазами сверкающего юношу. Он переехал Адару, потом спешился и вошёл обратно в воду, как был, в своей сверкающей одежде и стал помогать телегам переходить через реку. Сила его была, как сила юного бога. Стоило ему нажать плечом на колесо – и завязшая телега тотчас же вырывалась из песка и двигалась вперёд, как лёгкая щепка.
Под одной из телег, доверху нагруженной малыми ребятами и скарбом, сломалось колесо. Юноша начал хватать и малых и больших и переносить их на берег. Женщины визжали. Здоровый смех катился над Адарой и долетал до деревьев, за которыми пряталась Низея. И сердце её сжалось на минуту чем-то похожим на зависть. Белые боги, сошедшие с неба, жили веселее угрюмых Селонов.
Луры перешли через Адару и направились к Лочу, а Низея всё кралась сзади и не решалась ни отстать, ни обогнать их и вернуться в родное «Гнездо» прямиком через лес. И каждый день она видела своего яркого бога хоть издали, хоть на одно мгновение. Был ли он верхом или пеший, в ясных доспехах или в толстой рубахе, которую Луры носили под панцирем, с копьём в руках или с бичом пастуха, она следила за ним без устали жадными, внимательными, ничего не пропускающими глазами.
Луры добрались до озера Лоч и напали на Селонов. Ещё один день Низея бродила кругом стойбища сверкающих врагов, как будто куропатка, потерявшая птенцов. Когда же наступил вечер, она подобралась поближе и залегла в кустах. Стойбище быстро засыпало, костры угасали, бабы закрывали кибитки и одна за другой уходили внутрь. Пастухи отогнали волов и буйволов на дальние луга и увели за собой собак. Было темно и облачно и сыро. Большая Палатка на небе уже повернулась устьем направо. Низея вышла из своего тайника и стала пробираться вперёд, прямо в середину стойбища.
Что было ей нужно, она не знала сама. Быть может, она направлялась к берегу, чтобы броситься в волны и плыть под водой, как выдра, к свайному дому, родному «Гнезду», осаждённому врагами. Или, напротив, она стремилась быть с Лурами хоть тайно, в ночные часы. Или хотела мстить Лурам за чёрных Селонов, душить в темноте этих суровых воинов, впиться ногтями в здоровую глотку этим белым, полным женщинам. Она скользила неслышно, как серая совка, которая ищет в ночной темноте спящих синичек и пеночек. Ни один сучок не хрустнул под её ногой, не шевельнулся упавший листок.
Самая высокая кибитка стояла у воды. Она была обтянута белым. Среди широких приземистых телег она белела, как аист среди тетеревов.
Недолго думая, Низея дерзко направилась к полузакрытому входу.
– Низея!..
Девочка вздрогнула и застыла на месте. Она вся подобралась, как будто хотела сжаться в комочек и уйти в землю от страха.
– Ты, Низея?..
Это был голос Селона, чуть слышный, осторожный шёпот. Низея повернула голову и увидела направо под деревом смутную фигуру и горящие глаза.
– Это я, Меза…
Это, действительно, был злополучный охотник. Он лежал под деревом, как тёмная куча рухляди. Только глаза его светились, как красные угли, и словно освещали несчастное, тёмное, израненное тело.
Луры не стали добивать раненого Мезу. Напротив того, по знаку Аслана, воины подобрали его и отвезли к отряду. Они положили его на телегу и повезли за собой до самого Лоча. Быть может, они хотели добиться от него указаний для борьбы против Селонов, или просто пожалели его дикую, беззаветную храбрость. Они не стали вязать ему ног. Он и без того не мог бы сдвинуться с места. Но раны его тоже никто не перевязывал. Его бросили под деревом, как ненужную колоду.
Женщины швыряли ему куски не печёного теста. Раз или два старый жрец пытался расспрашивать его на языке знаков, который почти одинаков для всякого народа от моря и до моря. Этот язык известен жрецам и вождям и старым охотникам, но хитрый Меза болезненно щурил глаза и мотал головой, а иногда ещё прибавлял на языке Селонов: «Я не понимаю».
Однако, на деле раненый воин понимал многое.
– Ты откуда, Низея? – спросил Меза с минутным интересом.
Девочка считалась сестрой и прислужницей духов и попала в чужой лагерь в такое необычайное время, конечно, неспроста.
Низея слегка покраснела в темноте.
– Домой я хочу, к Селонам иду, – сказала она.
Меза покачал головой.
– Пропали Селоны. Боги ненавидят Селонов. Небесные боги сошли на землю, чтобы вырезать Селонов…
Низея молчала. Сердце её сжималось тем же зловещим опасением.
– Их бы вырезать, проклятых! – Меза заскрежетал зубами. – Эх, кабы я прежние руки имел…
Низея присмотрелась и увидела, что правая рука охотника была совсем перебита ударом Аслана. Она висела, как ненужный обрывок, и даже в темноте можно было разобрать пятна запёкшейся крови, которою была покрыта у Мезы правая часть тела от плеча до колена.
– Слушай, Низея, – внезапно заговорил Меза. – Ты тоже могла бы… У меня и нож есть.
И он достал левой рукой откуда-то из-под себя длинный нож, который сверкнул в темноте тусклым, лоснящимся блеском. Неизвестно, когда и как этот живой полутруп успел стащить его у лурских жён.
– Возьми, – шепнул он повелительно.
И Низея протянула руку и взяла нож. Это было их оружие, принесённое с солнца, и оно сверкало так же, как его доспехи.
– Он спит тут же, вон в этой кибитке, – шипел Меза змеиным шёпотом. – Убей его.
– Кого? – спросила тихо Низея.
Она хорошо знала, о ком говорил неукротимый Меза.
– Солнцева сына, – сказал Меза. – Это их князь, а они – его люди. Жрец говорил: род его прямо ведётся от солнца.
Род Ассиев, действительно, вёлся от солнца. Луры верили этому так же твёрдо, как Меза и Низея. От солнца до Аслана считалось только двенадцать поколений.
– Если бы он умер, – шептал Меза, – они бы оставили нас.
– А разве боги умирают? – сказала Низея.
– А разве ты не видела? – возразил Меза с оттенком гордости. – Вот эта рука моя, – он указал глазами на свою искалеченную руку, – убила небесного жителя и небесную лошадь. Ты тоже поди и убей.
Низея долго молчала.
– Я не смею, – шепнула тихонько она.
– Не смеешь, да?..
Меза завился на месте, как раненый змей.
– Сгорит наше «Гнездо»!.. И Дед, и внуки, и дом, и помост… Они разобьют младенцев о чёрные сваи!.. Исчезнет корень Селонов, забудется имя, изгладится след!..
Глаза его метали молнии. Он привстал на колени, истерзанные лурскими собаками, и грозным чудом как-то простёр вперёд свою изувеченную руку, словно творя заклинания, потом со стоном упал вниз.
Низея закрыла руками лицо.
– Не проклинай хоть Селонов, – шепнула она. – Я повинуюсь. Пойду, убью…
Как чёрная змея, которая залезла в мышиную норку на поиски добычи, Низея скользнула в кибитку Аслана, лурского князя. Ея смуглое лицо как будто выцвело и стало, как глина. Но она встала твёрдой ногой на ступицу колеса, согнулась и шагнула через мягкий порог. В руке у неё был острый нож. Она была, как дух истребитель, который в полночное время тоже влезает в людские жилища с ножом и сетью в руках на ловлю душ у сонного народа.
В кибитке слабо горела плошка, налитая жиром. Ибо потомки солнца не спали в темноте. Юный князь спал один в палатке, в знак своего высокого сана.
Он лежал на овечьих шкурах совершенно нагой, прикрытый до пояса пёстрой тканью, с каймой и кистями. Его богатырская грудь светилась белизною, как будто резная из кости, и золотые кудри разметались на чёрной, блестящей овчине. Низея смело подошла и подняла нож, потом ещё раз посмотрела на его прекрасное лицо. Он вздохнул, и губы его слегка раскрылись. Они были похожи на крупный пурпурный цветок. И не ударить хотелось Низее, а смотреть без конца на милого бога, насытить навеки глаза его солнечной красой и вместе с богом стать богиней, дочерью солнца, белой лурской девой, счастливой и сильной.
Аслан ещё раз вздохнул и широко усмехнулся.
– Эх, застряла, – сказал он отчётливо.
Он видел во сне реку Адара и брод и застрявшую телегу. Быть может, яркая память Низеи и жадные мысли её навеяли на него призрак этой картины, общей для них обоих.
И вдруг у Низеи не хватило воздуха в груди. Она бросила нож, схватилась рукой за шею и поймала какую-то петлю или змею с холодным чешуйчатым телом. Это была только нитка кораллов, которая завилась неловко и колола ей шею своими неровными зёрнами. Она дёрнула, и кораллы разорвались. Красные зёрна посыпались прямо на Аслана. Два алых зёрнышка задержались на белой груди, как капельки крови.
– Кто тут? – спросил Аслан спросонья и открыл на минуту глаза.
Низея стояла на месте, как будто из камня, и глядела ему в самую душу своим острым и тёмным взглядом. Глаза у Аслана были большие, синие и заволочённые сонной дымкой, как небо заволакивается лёгким белым туманом.
– Засни, засни!..
Всю свою силу она вложила в этот безмолвный приказ.
И глаза Аслана закрылись, голова опять опустилась на тёмную овчину. В руках у Низеи ещё оставалась нитка кораллов, разорванная надвое. Она отделила одну половину, положила её тихонько на овчину рядом с юношей, взяла свой нож и вышла из кибитки.
Через минуту она снова стояла перед Мезой.
– Вот твой нож, – шепнула она. – Я не убила.
Меза лежал на спине и молчал, и смотрел на неё широко открытыми глазами, так же точно, как князь Аслан за минуту перед этим.
– Ты, если хочешь, убей меня, – сказала Низея.
Меза молчал. Низея нагнулась ниже. Его глаза были тоже заволочены дымкой, как у юного Аслана, но то не была лёгкая дымка сна. То была пелена смерти, холодная, как лёд, и серая, как пепел, и прочная, как вечность.
Глава VI
С раннего утра Луры стали собираться на приступ. Они решили во что бы то ни стало сегодня захватить это колючее осиное гнездо. Стрелы Селонов, обмазанные ядом, приводили их в бешенство. Они хотели растоптать их, как змей, своими боевыми сапогами, вырвать у них отравленные зубы и сжечь их приют и пепел развеять по ветру.
На этот раз, наученные прежним опытом, они готовились серьёзнее. Из длинных брёвен они сколотили огромную раму и наполнили её связками тростника, туго сплочёнными вместе. На эту основу Луры поставили щит, высокий и квадратный, в защиту от вражеских стрел и даже устроили лёгкий навес – против выстрелов сверху. Вышла плавучая крепость, Гуляй-Городок, вместо колёс поставленный на плавучие брёвна. Около сотни отборных воинов забрались под навес со страшными длинными луками, с баграми и лестницами, с метательными копьями и факелами для поджогов, намазанными густо смолой. Но бронзовый панцирь Уде-Со-Знаменем снял и оставил в кибитке. Другие сделали то же. Тяжёлые панцири были бы опасны для битвы над водой.
Князь Аслан проснулся ещё на рассвете, но несколько минут оставался на постели с закрытыми глазами. Он силился припомнить сон, странный и прекрасный. Ему снилось, что он переводил телегу вброд через реку Адара, телега застряла, буйволы пятятся и воротят в сторону. «Эх, застряла», – говорит он с шутливой досадой.
«Что было дальше?» – спрашивал он себя. Дальше явилась русалка из тёмной воды, речная богиня, с пышными кудрями, взбитыми, как облако, с огромными чёрными глазами. Эти глаза смотрели ему прямо в душу. А на смуглой груди лежала нитка кораллов, странных, рогатых и алых, как отверделая кровь…
«Что было дальше?..» Юноша невольно вздохнул, открыл глаза и присел на постели. Он больше не мог ничего припомнить. И вдруг под руку ему попалось что-то твёрдое, холодное, нанизанное вместе, как зёрна. То были алые кораллы на крепкой вощёной нитке. Нитка была оборвана, и кораллы рассыпались. Они были странные, рогатые, холодные на ощупь. Юноша схватил их пальцами, дрожащими от жадности. Эти кораллы носила ночная богиня. Она приходила к нему в сонной мечте и оставила ему таинственный залог. Князь Аслан ничуть не удивился. Он верил, что люди могут жить во сне совсем, как наяву, охотиться, сражаться, беседовать с людьми из иных миров, загробных и надзвёздных, и также с духами.
Он весь наполнился бодростью и свежей силой. У него была богиня-защитница из сонного мира, быть может, невеста. Она была у него ночью и оставила ему на память странные чётки из каменной крови, пол-ожерелья с прекрасной груди. Но она явится ещё раз и принесёт другую половину. И князь Аслан поспешно и искусно укрепил кораллы в своих золотых волосах, схватил копьё и побежал на плавучую крепость.
Высокий Гуляй-Город с помостом наверху тихо подвигался к широкому «Гнезду». Луры толкались шестами об дно. Селоны увидели щит и помост и сначала растерялись. Племена по Адаре и озёрам не знали осадных ухищрений восточного народа. Хенний и Калеб бросились внутрь, к святилищу племени, и вдруг отступили назад. Старый Дед сидел, как собака, на корточках перед запертой дверью и плакал беззвучными слезами. Он повернул лицо на шорох шагов, его слепые глаза покраснели от слёз. Им показалось, будто он плачет не слезами, а кровью.
– Что делать, Дед? – спросил неуверенно Хенний. – Они уж подходят…
– Молчи, – отозвался старик, – я знаю и вижу. Видеть хотел, теперь вижу и знаю…
– Селоны боятся, – вымолвил Хенний наивно и просто.
– Красная лошадь, – сказал старик, не слушая, – дом против дома, помост против помоста…
Белоголовый Дед видел духовными очами так же ясно, как они телесными.
– Скорее, – заговорил в свою очередь Калеб, – воины ждут.
– Дом против дома, – твердил старик, – красная лошадь…
И вдруг кивнул головой на чёрную дверь и глухо сказал:
– Покажите её Костяному.
Со стеснённым сердцем они вошли в святилище, взяли дрожащими руками костяного Предка и вынесли, и привязали на шест чудовищной длины и выставили его, как знамя, над соломенной кровлей. Чёрный, лоснящийся череп был обращён к врагам и смотрел пустыми глазами на красную лошадь Луров. И Селоны опять ободрились.
– Дом против дома, – шептали они, как молитву, – помост против помоста, и знамя против знамени…
Увидев этот страшный череп, Луры разразились криками бешенства и отвращения. Сами они сжигали покойников в огне, чтобы не осквернить земли их чёрными костями. Посыпались камни и дротики, но страшный череп на длинном шесте был заколдован против ударов и только скалил в ответ свои гнилые зубы.
Изо всей силы упираясь шестами в песчаное дно, Луры разогнали свою плавучую крепость и стали приближаться к «Гнезду». Запрыгали мелкие стрелки, но они отскакивали от деревянного навеса, столь же бессильные, как маховые перья, которыми воины-чайки обстреливали черепаху из собственных крыльев, – в старинной сказке Селонов.
Раз!., широкий Гуляй-Город пристал с разбегу к наружному помосту, что-то треснуло и с плеском рухнуло в воду. Луры, очевидно, не думали об отступлении и не хотели щадить свой непрочный ковчег. Ещё через минуту они хлынули толпой на крышу навеса и стали перескакивать на плоскую закраину «Гнезда». Теперь стрелять было поздно. Селоны отбросили луки и кинулись навстречу, и завязалась свалка, грудь с грудью, копьё с копьём, кинжал с кинжалом. Луры были сильнее и выше, и их кинжалы и копья были из блистающей меди, а Селоны сражались кремнёвым лезвием и отточенной костью. Но они извивались под ударами, как угри, и не отступали ни на шаг. Огромное «Гнездо» кишело бойцами и гудело, как муравейник. Крупные, рыжие муравьи напали на мелких и чёрных и выбивали их прочь из родного жилища.
Проворный Хенний выскочил с нефритовым ножом, зелёным и гладким, похожим скорее на плод загадочного дерева, счастливо увернулся от медного копья и бросился на Уде. Но Уде вскинул короткий кожаный щит, висевший у него на руке, и перехватил удар. Твёрдый нефрит скользнул по буйволовой коже, попал в бедро Уде и успел провести глубокую борозду в теле великана. Уде рассвирепел. Он обернул копьё древком вперёд и занёс его, как дубину, над головой противника. Хенний опять увернулся и с криком пустился бежать по помосту. И Уде отбросил копьё, как ненужную палку, и погнался за Селоном на своих длинных ногах, и схватил его за шиворот рукой.
– Теперь не увернёшься, – ревел он свирепо и радостно.
Одной рукой он поднял вверх тщедушного врага, как будто котёнка, и вдруг с размаху швырнул его в озеро.
Хлоп… Хенний шлёпнулся в воду, как мокрый мешок, и исчез в глубине; но через минуту он вынырнул далеко внутри между сваями и стал карабкаться вверх, как водяная крыса. Трудно было утопить Селона в родном озере.
Два Лура, один за другим, тоже упали через край помоста, но больше не выплыли. Грудь одного и шея другого были проколоты страшным, иззубренным кремнем. Целая группа вдруг провалилась сквозь западню, искусно устроенную Селонами в самом помосте. Из внутренних входов каждую минуту высыпали новые и новые бойцы, старики, подростки и даже ребятишки, и тоже бросались на Дуров.
Луры держались только на крайней площадке помоста и никак не могли пробраться внутрь «Гнезда». В это время на помощь оттесняемым Лурам явился князь Аслан. Он взлез на помост вместе со всеми, но едва не провалился в опускную ловушку и тотчас же бесстрашно бросился в воду, чтобы помочь утопавшим. Плавать он умел не хуже любого Селона и успел одного вытащить на плот. Другие погибли. Теперь он опять взобрался на закраину «Гнезда», мокрый, весёлый и стройный, как водяной царевич. Он был без панциря, в толстой рубахе, рукава засучил до локтей и, вместо копья, взял боевую секиру. Секира была длинней человеческого роста. Рукоять секиры была из червлёного вяза и для крепости обвита толстой бронзовой проволокой. Лезвие имело четыре пяди в длину и три в ширину и было похоже на длинный щит из кованой меди, отточенный остро по краю.
Секира свистнула и описала круг. Как будто буря промчалась над головами испуганных Селонов.
Раз, раз!.. В сторону летели отрубленные руки, головы, падали трупы, брызгала кровь. Он был, как косец, а они, как живая жатва. От этих ужасных ударов нельзя было уклониться, разве бежать без оглядки в тёмные недра широкого «Гнезда».
С громким криком Луры бросились вслед за бегущими Селонами. Впереди всех был Аслан с секирой в руке. Но сверху раздались ответные крики, и посыпались крупные камни. То женщины взобрались на кровлю над входом и бросали камнями в Луров и пронзительно кричали, возбуждая к борьбе расстроенных Селонов. Тут были все вперемежку: старухи и девушки, тоненькая Луния и Мента, похожая на сваю, и старая Хавана и много других. Но особенно свирепствовала Карна. Её косы растрепались, глаза горели, как у кошки.
– Трусы! – кричала она с пеной у рта. – Бессильные мыши! Печень у вас побелела от страха… Зайцы, сверчки…
Осколок гранита упал прямо на секиру Аслана, звякнул по лезвию. Секира загудела от удара, вырвалась у юноши из рук и упала на землю. Несколько Дуров тоже свалились, сражённые камнями. Один с разбитой головой всё-таки пополз вперёд и добрался до входа, потом переполз через низкий порог, но тотчас же вылетело наружу его кровавое тело, исколотое каменными копьями.
Селоны выскочили снова и напали на Дуров. Это были самые молодые, лёгкие, как пух, вертлявые, как белки. Во главе их был Малт. Он держал в руке бронзовый кинжал только что убитого Дура. Он всех обогнал и должен был первый убить или первый погибнуть.
Князь Аслан быстро нагнулся, чтобы подобрать своё оружие, и его голова бросилась в глаза проворному Селону. Во влажных кудрях, слегка потемневших от воды, сверкала нитка кораллов, рогатых и алых и твёрдых. Юный Дур как будто выловил их в озере после своего отважного прыжка. Но Малт узнал эти кораллы. В его волосах тоже алела твёрдая капля из тех же причудливых чёток. То были кораллы Низеи, застывшая кровь его пропавшей сестрички.
Он взвизгнул от ярости и рванулся вперёд, потрясая ножом.
– Убийца! – ревел он в исступлении. – Отдай мою Низею… Я вырву у тебя сердце!..
Аслан поднял секиру, но не успел размахнуться и только подставил её, как щит, под бешеный натиск врага.
– Пей, душка маленькая! – крикнул Малт, ликуя и всхлипывая и уже предвкушая убийство.
Но он не успел наточить свежей крови из вражеского сердца.
Уде протянул узловатую руку и длинное блестящее копьё и ткнул его сзади, на этот раз удачнее, чем Хенния. Копьё прошло между лопатками и вышло в груди. И свирепый великан сжал древко обеими руками и поднял вверх злополучного Селона, как рыбу на вертеле.
Малт извивался и хрипел. А сверху раздался пронзительный девичий крик:
– Убили, Малта убили!
Это крикнула Карна.
На кровле не было больше камней. Только остался круглый каменный идол, привязанный под дымовой дырой у ног костяного Прадеда. Вне себя от ярости, Карна схватила идола, дёрнула, сорвала и швырнула вниз.
Князь Аслан, избавившись от Малта, только что поднял секиру и хотел размахнуться, как вдруг тяжёлый каменный идол прилетел сверху и ударил его по голове.
Он зашатался и попятился назад и чуть не свалился с помоста. Потом сделал нечеловеческое усилие и укрепился на ногах. Сердито повёл глазами кругом, отыскивая нового врага. Увидел Карну и над нею смеющийся череп и даже зубами скрипнул от злости. Секира взмахнула ещё раз, вырвалась из рук и полетела, как птица, на кровлю «Гнезда», сшибла Карну долой, как яблоко с ветви, и ударила лезвием прямо под корень шеста. Шест треснул и сломался, как тростинка. Страшный костяной Прадед качнулся назад, странно взмахнул длинными руками, обмотанными шкурой, и рухнулся в озеро. И князь Луров – Аслан тоже качнулся назад, взмахнул руками и рухнулся в озеро.
Два стоголосых вопля вырвались сразу у Селонов и у Луров. Оба племени утратили святыню: Луры – живую, а Селоны – мёртвую. Предок людей и потомок богов вместе рухнули в тёмную воду.
Глава VII
Как лисица, которая бродит кругом заячьего логова, так Низея бродила целое утро кругом стойбища Луров и озера Лоч. Два раза она огибала лурский стан лесною тропинкой и выходила на берег то слева, то справа, но не видела ни битвы, ни Луров, ни Селонов, ибо свайное гнездо было видимо только от лурского стана. Чёрная вода тихо колыхалась перед Низеей, и слабо шумел густой островерхий камыш. Утки взлетели, закрякали и сели. И Низея топнула ногой от нетерпения и пригнулась к земле и стала пробираться вдоль берега от дерева к дереву, так же, как прошлою ночью, направляясь к стойбищу Луров.
Каждый пригорок, каждый выступ берега были ей знакомы, как свои пять пальцев. Она обогнула Барсучий Мысок, потом поползла по густому орешнику к круглому мысу, «Затылку». Под самым «Затылком», в орешнике, у края воды что-то белело, как будто берёзовый ствол. Но подобравшись поближе, Низея увидела, что то было мёртвое тело. Ибо мирное озеро Лоч не хотело хранить мертвецов и выносило их на берег в подарок убийце-земле. То был один из лурских воинов, погибший в недавние дни. Он был совсем молодой, красивый и статный. Голова его была гладко обрита по лурскому обычаю, и длинный светлый чуб закручен за ухо. Со стеснённым сердцем Низея смотрела на его окровавленный лоб и бледные щёки. Глаза его были закрыты, но юное лицо было странно похоже на лицо Аслана. Такая же гладкая кожа, как будто у девушки, крепкий нос, красивые и тонкие брови.
Низея оторвалась от трупа, обогнула гранитный «Затылок» и вся затрепетала. Орешник сменился опять тростником, и в тростнике лежало ещё одно тело, ноги его были в воде, а грудь на земле. Пышные кудри упали на плечи, как золото. Низея подбежала, схватила тело за плечи и повернула его кверху. То был её собственный бог, молодой князь беловолосых Луров. Он лежал перед ней навзничь, так же, как в минувшую полночь. Но глаза его были закрыты, и уста не улыбались и не шептали бессвязных слов. Умер солнечный бог, убит чёрным Селоном над чёрным озером Лоч…
В светлых волосах краснела нитка кораллов. Низея вспыхнула от гордости и боли и схватилась руками за сердце. То было её ожерелье, брошенный ночью залог. А рядом с каменной кровью были полузастывшие капли другой крови, во стократ более драгоценной. И Низея склонилась лицом на пышные кудри своего безжизненного друга и заплакала жалобно и горько.
Она плакала недолго и через минуту оторвалась от него, присела на землю и, достав из-за пояса бронзовый нож Мезы, стала пробовать рукой лезвие. Брови её нахмурились, и губы сжались в строгую складку. Она не хотела остаться одна на этой земле, без милого бога, и собиралась на поиск в загробное царство по его свежим кровавым следам. И вдруг совершилось неслыханное чудо. Мёртвый князь слабо простонал и слегка шевельнулся на песке. Низея вздрогнула и жадно схватила белую безжизненную руку. Рука была холодная, но быть может, это был только свежий холод лочской волны. Она разорвала рубаху Аслана и припала ухом к широкой груди и долго слушала, затаив дух и замирая от волнения. Но её собственное сердце стучало неровно и мешало слушать. И то, что стучало в груди Аслана, казалось ей эхом.
Ещё слабый стон, будто задушенный могильной землёй. Она оторвалась, схватила тело юноши и с неженской силой вытащила его совсем из воды и положила на гладкий песок. Вся она будто преобразилась. Каждая жилка в ней напряглась и трепетала новой силой и решимостью бороться до конца за эту дорогую жизнь. Она заботливо осмотрела тело Аслана с ног до головы. На теле не было ран. На темени была широкая рваная рана, но камень соскользнул, и кость осталась цела. Она оторвала кусок от толстой рубахи Аслана и стала растирать грубой тканью руки и плечи юноши. Тёрла усердно и долго. Вся порозовела и согрелась от работы, но Аслан не просыпался и всё оставался таким же холодным и вялым, как прежде.
И тогда она села и стала думать. И думала так: «Искра жизни, плотской и грубой, таится и дремлет в теле Аслана и не хочет погаснуть. Но где же душа Аслана? Она ушла и не может вернуться назад. Душа Аслана в плену у богов – хранителей племени Селонов, у предков лочского племени, ушедших в загробное царство».
Сердце Низеи наполнилось жутким восторгом, и грудь её расширилась могуществом, таинственным и странным. Она собиралась пуститься в загробное царство на битву с родными богами за пленную душу пришлого бога, златого Аслана.
Она стала собирать волшебные травы: «змеиную росу», и красный горлец, и дурман, и «вечерний корешок». Потом оторвала ветку чёрной омелы – дерева смерти – и ветку белого ясеня – дерева жизни. Из тонкой омелы она согнула обод, а из ясеня сделала трещотку, потом развязала на своём теле под травяной туникой туго стянутый пояс из замши, широкий и мягкий. Пояс был как бы частью её собственной кожи.
Она натянула гибкую кожу на обод и сделала бубен. Деревом жизни она стала стучать в тонкую кожу, растянутую на дереве смерти, и запела и стала взывать.
Она взывала к солнцу и говорила так: «Солнце-отец, верни душу твоему светлому сыну». Но солнце не отвечало. Она взывала к владычице подземной, которая крепкими бивнями роет утробу земли и заставляет трястись скалы: «Подземная владычица, верни душу из черного плена». Но владычица не отвечала. Она призывала духов востока и духов заката, молилась звёздам и ветрам, утренней заре и вечерней, но никто не отзывался.
Тогда она призвала собственных духов, покорных её воле. Эти не смели не откликнуться и явились один за другим. Пёстрый желтобрюх приполз и зашипел в кустах, пролетела крылатая мышь-нетопырь. И серая ласка мелькнула у чёрной воды и стала тащить на берег зубами большого лосося. Но все они были боязливы и бессильны, и мелькнули на минуту, и рассеялись, и исчезли, как дым.
Низея вздрогнула и пришла в себя. Аслан лежал перед ней на песке, бледный и вялый, как прежде, ни живой и ни мёртвый. Она снова стала растирать ему грудь и плечи и спину. В ноздри ему она положила пахучую иру, коснулась опущенных век пушистой и едкой «оживкой» и натёрла виски крапивой. Аслан не просыпался.
Сильный воин, он лежал перед ней, как малый ребёнок. Она трудилась над ним, как мать над младенцем. Всем напряжением тела и духа она стремилась родить его снова для нашего мира. Светлый бог, он был в её руках, как глина в руках горшечницы. Она хотела вылепить его снова, придать ему новую форму, способную к жизни.
И Низея вся загорелась тёмным и жутким пламенем и запела громче прежнего и застучала трещоткой в бубен. И вот бубен словно расширился и сделался круглой крылатой ладьёй. Лес закружился и поплыл. Тело Низеи сделалось тоньше и легче. Сидя в волшебной ладье, несомая песней, Низея вспорхнула к небесам и помчалась в загробное царство.
Она поднималась вверх, как жёлтый листок на крыльях летучего вихря, и скоро долетела до твердого синего неба. Солнце-пастух пасло в небесах меднорогих быков. И каждая кочка на дальнем болоте горела, как медный костёр. Она кивнула солнцу головой и помчалась дальше. В царстве месяца всё было бело и мягко и нежно. Месяц сидел на лебяжьей постели, одетый туманной шубой. Лунные дети играли и катали по белому берестяному полю серебряный жёлудь. Она бросила им большой одуванчик, и сама полетела дальше.
Она побывала у Утренней Зари и у Вечерней, взбиралась на Гору Рассвета, спускалась в Лощину Заката, видела тысячу царств и миров, верхних и нижних, подземных и надземных, пересчитывала травки в полях и камни в реках, песчинку за песчинкой в неведомых морях, пересматривала мушек и жучков, и бабочек, и земляных червей. Пленной души молодого Аслана не было нигде.
Устала Низея и вздрогнула и очнулась. Она сидела на песке по-прежнему с бубном в руках. И тело Аслана лежало пред ней неподвижное, как камень.
И Низея стиснула зубы и снова рванулась и вдруг раздвоилась. Одна половина осталась внизу на земле пред Асланом, как труп перед трупом. Другая вспыхнула, как искра, и взлетела и помчалась на запад.
И она прилетела на крайний предел всемирного круга, в последнее дальнее царство. Там было темно и страшно. В траурном небе мерцало угрюмое пламя, и мёртвые люди играли в мяч головою медведя. Она разевала пасть на лёту, и грозно ревела, и старалась каждому прыгнуть в лицо, как живая, и впивалась зубами. Кровь лилась, мёртвые люди смеялись. Тут было много народу. Она увидала и старую бабушку Гину, и тётку Манессу, и маленькую Лунию, и множество других. Они сидели молча и грустно. Но когда она пролетала мимо, они узнали её и печально улыбнулись.
В дальнем царстве стояла гора из черного камня. В этой горе обитала Крылатая Баба, злая богиня Селонского народа.
Крылатой Бабы не было дома. Она улетела на землю с мешком за плечами за детскими душками. В чёрной горе была спрятана душа молодого Аслана. Она лежала в углу, затиснута в мешок, вместе с обрезками шкуры и прочим домашним хламом. Была она, как будто мышонок, маленький, голый, съёжилась вся, как вялый лепесточек. Каждый член её был перевязан ниткой, и даже язык её был перевязан особо.
Низея бросилась, как коршун на добычу, схватила пленную душу и умчалась обратно. Она летела, обгоняя северный ветер, а Крылатая Баба мчалась за ней в погоню. Её крылья застилали полнеба. Голос её был, как голос грома: «Отдай мою душку, воровка!» – «Уйди!» – сказала Низея. Крылатая Баба яростно затрепыхала крыльями, небо всколебалось, как будто палатка от вихря. Вихрь подхватил Низею вместе с добычей и завертел их, как пушинку.
«Отдай мою душку, воровка!» – Но Низея простёрла правую руку и пошевелила пальцем. Из пальца вышел огонь и опалил все перья злой и огромной богини. Крылья её загорелись, потом отвалились, как красные угли. Крылатая Баба упала на землю, но встала на ноги. Ноги у неё были, как толстые корни, с крепкими кривыми когтями на орлиных лапах.
«Отдай мою душку, воровка!» – «Не дам», – сказала Низея. Крылатая Баба стала грести лапами землю. Она вырывала скалы и целые горы и бросала их вверх. Небо раскололось от ударов и растрескалось звёздами. Тяжёлые обломки сыпались на голову Низеи. «Отдай мою душку, воровка!..» Но Низея простёрла левую руку и пошевелила пальцем, и из пальца вышел огонь и попалил Крылатую Бабу всю без остатка. Всё её тело превратилось в уголь.
Низея спустилась на землю у озера Лоч, под Каменным «Затылком». Тело Аслана по-прежнему лежало на песке, вялое и сонное, ни живое, ни мёртвое. Она села напротив и метнула в него принесённой душой. Но душа пробила тело насквозь, как раскалённая стрела, и вышла наружу, и вонзилась глубоко в песок. Тело было холодно и вяло, а душа пылала, как головня. Тогда Низея позвала своих служебных духов, нетопыря и желтобрюха, и серую ласку с лососем, и дала им подержать раскалённую душу. Они держали её дубовыми клещами, как держат раскалённые камни при выварке жира.
Низея стала расти и выросла до неба и стала гигантской совой. Она сделала тело Аслана мелким и тонким, подстать принесённой душе, и вдруг проглотила его целиком, как совы глотают мышей. В собственных недрах она претворила его и сделала свежим и сильным, полным жизни и крови, и выбросила вон. Щёки Аслана сияли румянцем, губы как будто дрожали улыбкой. И она снова швырнула раскалённой душой в новое тело Аслана. Душа вошла и прильнула к телу, и осталась на месте.
Низея очнулась. И села на песке, по-прежнему с бубном в руках. И тотчас же и Аслан вздрогнул и очнулся и тоже сел на песке.
– Где я? – спросил он по-лурски. – Болит голова, – прибавил он, хватаясь за темя.
Низея молчала.
– Как я сюда попал? – продолжал Аслан. – Выплыл на берег?.. Или вынесли меня?.. Не помню я…
Он повернулся и в трёх шагах от себя увидел Низею. Лицо его загорелось радостью и страхом.
– Богиня моя, – шепнул он неуверенно, – ты вынесла меня?
Низея догадалась по жестам и по взглядам и кивнула головой.
Они сидели друг против друга и вели разговор. Аслан говорил наречием Луров. А Низея наречием Селонов. Ибо они были, как дети, и не знали языка знаков. Но они не нуждались в условленных знаках.
– Ты солнечный бог, – говорила Низея.
– Ты речная богиня, – вторил Аслан.
– Ты с неба спустился, – говорила Низея.
– Ты вышла из синей Адары, – вторил Аслан.
Они не понимали ни единого слова, но сердца их бились согласно и дружно.
– Люблю тебя, – сказал Аслан наречием Дуров.
– Люблю тебя, – шепнула Низея наречием Селонов.
Они взглянули друг другу в лицо и поняли друг друга. Эта двойная фраза была первым началом их общего лексикона, лурско-селонского.
Они взялись за руки, склонились друг к другу и обменялись первым поцелуем.
Заря расцвела на безоблачном небе стыдливо и пышно и нежно. Первые ранние птицы защебетали в ветвях. Вместе с зарёй Луры опять собрались на берег и чинили свой плот. Лица их были мрачны. Они потеряли залог своего счастья. Без вождя не будет и города, и новый Велун не встанет на чуждых полях. Одни говорили о том, что надо вернуться домой и привести нового вождя из племени Ассиев, но другие кричали и требовали мести. И они чинили свою плавучую крепость, чтобы снова пуститься к «Гнезду».
Уде-Со-Знаменем вышел на берег вместе с другими. Его лицо почернело от горя и распухло от слёз. Но даже сквозь слёзы его глаза горели, как у волка. Он сам забивал новые стойки под верхний навес, связывал жерди и укреплял закраины. Когда всё было окончено, Уде вернулся в стан и отыскал жреца.
– Иди с нами, Гарт, – сказал он сурово. – Нам нужно живую святыню.
Уде и Гарт взошли на плот последними. Но следом за ними явилась другая чета, помоложе. То были Аслан и Низея… Луры смотрели на них с радостным ужасом, но не сказали ни слова. Они не знали, живой ли это князь или только призрак.
– Мир, – сказал Аслан коротко, и Луры повторили послушно:
– Мир, мир!..
Аслан и Низея взобрались на крышу навеса. Плот отчалил и направился к «Гнезду» Селонов.
Селоны стояли на помосте, готовые к отпору, но когда они увидели молодую чету на навесе и узнали Низею и лурского князя, убитого в битве вчера, они отложили луки и стали ждать в молчании.
Плот причалил к помосту. И трое перешли на помост от Дуров к Селонам, от плавучих к недвижным. Двое были князь и Низея, и третьим они привели старого Гарта-жреца.
Селоны стояли и ждали развёрнутым кругом. В средине круга, на шкурах, намощённых высоко, сидел белоголовый Дед, верный друг и защитник Низеи. И Низея с Асланом подвели к нему старого Гарта и соединили вместе две десницы обоих жрецов.
– Мир, – сказали Аслан и Низея наречием Дуров и Селонов.
Это было второе общее слово их лексикона.
И на следующее утро мудрая лошадь Ишвана топнула правым копытом о тучную лочскую землю и выбрала место для нового Велуна. И старый Гарт запряг Ишвану в вязовый плуг и обвёл бороздой пригорок, удобный для храма и башни и общих жилищ, охраняемых тыном.
На месте лурского стана, напротив «Гнезда», вырос сперва городок, а потом и настоящий город с каменной крепкой оградой. В городе жило смешанное племя из Дуров и Селонов. По преданию, оно вело свой род от солнечного бога Аслана и русалки Низеи, богини текучих вод, живущей в Адаре-реке, прекрасной и бессмертной. Город звался не Новый Велун, а Низея – по имени богини. Впрочем, в ограде, на самом холме, меж храмом и княжеским домом стояла гробница. Эта гробница тоже звалась гробница Низеи. Гробница Низеи, прекрасной и бессмертной… Она была искусно сложена из неотёсанных камней, ничем не связанных. Это была первая постройка из камня на лочской прекрасной земле.
Примечания
1
Орион.
(обратно)2
Альдебаран.
(обратно)3
Кассиопея.
(обратно)4
Млечный Путь.
(обратно)5
Полярная звезда.
(обратно)6
Нерест – метание икры.
(обратно)7
Большая Медведица.
(обратно)8
Полярная Звезда.
(обратно)


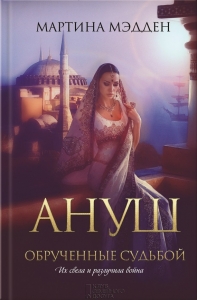
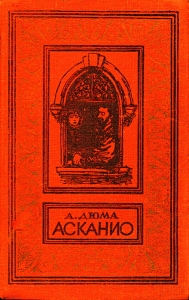


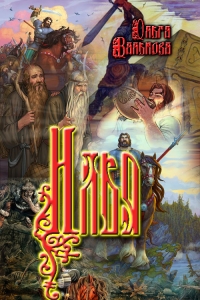


Комментарии к книге «Жертвы дракона. На озере Лоч», Владимир Германович Тан-Богораз
Всего 0 комментариев