Вершина Столетова
РАССКАЗЫ
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Если спать, то время идет быстрее, но и спать уже надоело, а до станции, где Максиму Прилукину вылезать, еще далеко.
Пока ехал Максим в эшелоне с однополчанами чешской да польской землей, разговоры шли еще не столько о мире, сколько о войне. Теперь, среди родных русских полей, война казалась уже чем-то далеким-далеким и все мысли Максима были там, куда он ехал, — в родной деревне, в родном доме.
Вот только на соседей Максиму не повезло, даже поговорить не с кем. Напротив, уткнувшись в книжку, лежит большеносая рыжая девчонка, на нижней полке — сердитая баба с таким же надутым, неулыбающимся ребенком, под Максимовой полкой — ветхозаветный старичок с котомкой и какой-то неразговорчивый субъект в очках, в смешной, с ушами, кепке.
Снизу потянулась сизая струя крепкого махорочного дыма. Ни старик, ни смешная кепка не курили, и Максим, свесив голову, с любопытством заглянул под полку. Старых пассажиров там уже не было, вместо них сидел добродушный на вид пожилой человек в расстегнутом ватнике. Заложив ногу за ногу и откинувшись, он щурил глаза и, глубоко затягиваясь, курил.
Вдруг новый пассажир резко привстал на лавке и пристально поглядел в окно:
— Ай-я-яй. Ну разве это дело? Хотя бы сошники-то подняли, так нет, бросили средь поля и — на тебе. Эх!..
Перед окном проплывал длинный загон с сеялкой посередине.
И хотя новенький говорил, ни к кому не обращаясь, Максим почему-то принял его слова за своего рода приглашение к разговору и, обрадованный, спустился вниз.
Разговорились легко, быстро. Оказались земляками; новый пассажир только двух станций не доезжал до той, где надо было слезать Максиму. Назвался он механиком по машинам и ехал из областного города, где хлопотал насчет запасных частей.
— С севом было трудновато, — пожаловался сосед. — В тягле большая нехватка: трактора за войну поистрепались, лошадей мало, да и тех приходится кормить больше кнутом, чем овсом… С людьми тоже не густо: сам знаешь, только еще начинают с войны по домам растекаться. Трудно. А весна в этом году ранняя, дружная, тут только давай да давай…
И таким родным и близким повеяло от этого разговора на Максима! На какое-то мгновение он представил себе поля, сквозные в своей весенней наготе, кое-где изрезанные оврагами и перехлестнутые дорогами, тракторы, ползающие по ним черными урчащими жуками, лошадей, идущих парами по длинным, блестящим от влаги бороздам, а надо всем этим — высокое-высокое небо… И будто чья-то рука схватила сердце и сжала его…
— Э, где наша не пропадала… Хороший ты, я вижу, мужик! — Максим встал, поддернул со своей полки вещевой мешок и вытащил из него светло-зеленую пол-литровую бутылку. — Заветная. До дому было берег, да, видно, уж судьба ее не такая…
Небольшим, отделанным белой костью ножом, с множеством различных приспособлений, Максим ловко и быстро открыл консервную банку, сбил сургуч с горлышка бутылки и, достав из мешка маленькую алюминиевую кружку, налил ее.
— Тяни, друг. Разбередил ты мою душу. Ух как разбередил…
— Ну что ж, с возвращением, — поднял кружку сосед. Пил он медленно, как пьют холодную воду, боясь застудить зубы.
Расправив пышные, соломенного цвета, усы, Максим опрокинул свою кружку одним махом. Так выпивают положенную дозу спирта на фронте.
Закусив, выпили еще по одной. В голове приятно зашумело, и все кругом стало выглядеть куда веселее и интереснее, чем раньше. Даже поезд, казалось, пошел быстрее.
— Постой-ка, спрячь свой самосад, — скомандовал Максим, увидев, что сосед вытаскивает кисет с табаком. — Я тебя иностранными угощу, — и широким жестом достал из кармана красивый, насквозь просвечивающий портсигар.
— Что ж, для интересу закурю. Только, поди, слабоваты, — проговорил сосед, беря длинную, с золотым ободком и такой же золотой надписью, сигарету.
— Зато аромат что твои духи.
Максим наблюдал, какое впечатление произвела на соседа золотистая роспись сигареты и каким концом он возьмет ее в рот. Но тот, совсем равнодушно покрутив в руках заграничное изделие, так же равнодушно смял сигарету в толстых, крючковатых пальцах и высыпал в закопченную, обгоревшую трубку. Максим недовольно крякнул.
Раскурив трубку, земляк начал расспрашивать, как живут за границей и вообще что интересного видел Максиме чужих землях.
— Всего повидал, всего нагляделся. И узнал, брат, за эти четыре года столько, сколько в своем колхозе, наверное, и за сорок не узнал бы. Шутишь: пол-Европы пешком исходил. Я так сейчас на себя смотрю, словно, как это сказать… университет окончил, высшее образование получил… Дай-ка мне теперь до своего колхоза добраться, какие я там дела заверну!..
Начав рассказывать про войну, про заграницу, Максим, сам того не замечая, опять перевел разговор на колхоз, на деревню.
Поезд сбавил ход, застучал по стыкам рельсов, запыхтел.
— Ну, счастливо, — поднялся сосед. — Я приехал.
— Неужели? — удивился Максим. — Скажи на милость, как быстро, даже как следует и покалякать не пришлось. Этак, выходит, и мне пора становиться на боевой взвод.
Проводив земляка, он начал укладывать вещи, и за этим незаметно прошло время, которое оставалось ему ехать до своей станции.
Ни письма, ни телеграммы о своем приезде Максим не посылал, и поэтому, выйдя из вагона, он направился прямо на привокзальную площадь, где обычно стояли подводы.
Смеркалось. Когда выехали за станцию, в поле начало темнеть. Серыми силуэтами проплыли с одной стороны длинное здание эмтеэсовского гаража, с другой — башня ветряной мельницы.
Старик извозчик Максиму не понравился. Против его ожидания, он не проявил к нему никакого интереса, ни о чем не расспрашивал, а только и знал, что покрикивал на свою худенькую лошаденку или молчал. Да и оказался он — как узнал Максим — из дальнего села и о его родной деревне толком ничего не знал. Но Максим еще не успел выговориться в вагоне, и ему захотелось хоть как-то расшевелить своего возницу.
— А знаешь, старик, кого ты везешь? — небрежно откидываясь на чемодан, стоявший в задке, спросил Максим.
— С войны? — кратко и невозмутимо, вопросом на вопрос ответил старик.
— С войны.
— Чай, поди, ерой какой-нибудь.
— Ерой, — передразнил Максим. — Небось живых-то героев аза-в-глаза не видал, а…
— Э, мила-ай, — протянул старик. — Сколько их на этой войне обозначилось — примелькались уже. А ты: не видал.
— Ишь ты, примелькались, — не найдя, что еще сказать, пробормотал Максим. — Скажи пожалуйста!
А старик, вдруг становясь все более словоохотливым, сам начал спрашивать:
— Из Берлину?
— Что из Берлина? — не понял Максим.
— Катишь-то, я говорю, прямо из ерманской столицы, из Берлину, али как?
Максиму не понравился этот вопрос.
— Ну, это не обязательно, чтобы из Берлина, есть и другие города за границей не хуже…
— Знамо дело, есть, — миролюбиво согласился старик. — Только оно из Берлину-то вроде как-то чести побольше и… Вот тут недавно один оттудова ехал. Так он на вид… Н-но, родимая…
— Ну, что он на вид-то, такой же небось, как и все? — не дождавшись, когда старик перестанет понукать лошадь и снова заговорит, спросил Максим.
— Да нет… поважней тебя будет, поосанистей. И ростом, пожалуй что, выше, и грудь вся в крестах…
— Поосанистей… Грудь в крестах… А что бы ты понимал в этих крестах, медалишки, наверное, какие-нибудь…
Нет, Максиму окончательно перестал нравиться и старик, и его разговор. Бестолковый какой-то старикашка, не смыслит ни в чем, а туда же лезет, в разные рассуждения… Хотя бы дом скорей!
Начались поля, где Максиму еще с детства был знаком каждый кустик полыни, каждая ложбинка. Вот сейчас справа, в долине, будет озерцо, в котором он мальчишкой ловил карасей, чуть дальше по левую руку — березовая роща, где он собирал грибы и в жаркие полдни пил ледяную воду из замшелого, с полусгнившим срубом, родника.
Вот уже колеса застучали по маленькому мостику через овраг, и бричка покатила в гору. А вот и показались огни родной деревни…
Максим вспомнил, как сотню раз во сне и наяву — в своих мыслях — видел он эти огни, как светили они ему сквозь дымные, трудные годы войны.
А кругом стоял тоже знакомый с детства густой, волнующий запах земли, молодой зелени…
Сначала Максим думал подкатить на бричке прямо к дому, через всю улицу, но теперь вдруг переменил свое решение и отпустил извозчика, еще не доехав до деревни.
Забросив мешок за спину и взяв в руки чемодан, он зашагал задами прямо на свой сад, безошибочно угадывая дорогу в темноте.
Вот он, его сад. Сам того не замечая, Максим все убыстрял шаг и в одном месте, запнувшись за что-то, то ли за кочку, то ли за корень какой, упал плашмя на землю — еще не холодную, еще хранившую дневное солнечное тепло. Сгоряча он сразу же хотел подняться, но раскинутые руки его сами собой, еще до того, как он успел что-то сообразить, остались недвижными. А в следующее мгновение сердце захлестнуло острое и сладкое до слез ощущение, что лежит он на родной земле, в нескольких шагах от отчего дома, что обнимает ту самую землю, по которой сделал свои первые шаги…
В боковом окошке виден свет. Значит, жена еще не спит.
Без стука, стараясь не шуметь, Максим шагнул в сени и, пройдя их, отворил дверь в избу. В нос ударил забытый, но так хорошо знакомый запах родного жилья.
Первое, что он увидел, была его жена, Наталья. Она стояла почти прямо перед порогом, нагнувшись над корытом, наполненным мыльной водой, и стирала. Была она без кофты, и в глаза Максиму прежде всего бросились ее чуть испуганное лицо, голые по самые плечи руки и наполовину видные из глубокого выреза рубашки сильные, широко расставленные груди.
— Ох, Макси-им! — даже и не радостно, а с какой-то болью вскрикнули, почти простонала она и, выпрямившись над корытом, замерла, не двигаясь с места.
Максим переступил порог, бросил чемодан и, еще не снимая мешка, шагнул к жене.
— Максим! — повторяла та, словно забыла все другие слова. — Максимушка!
Максим все плотнее и плотнее прижимал к себе жену, будто боялся, что она может ускользнуть из его рук, и то целовал ее, то гладил по голове. От запаха ли разгоряченного работой женского тела или еще от чего у него закружилась голова, и, чтобы подавить свое волнение, он грубовато бормотал, все еще не выпуская из объятий Наталью:
— Ну а плакать-то к чему? Ай не наплакалась за четыре-то года? Ну, перестань, перестань, дуреха…
Сняв мешок, Максим оглядел комнату и нашел в ней тот же самый порядок, какой был при нем, до войны. Только прибавилась рамочка с фотографиями, которые он присылал с фронта.
— Что же ты не прописал ничего? — сияющими от слез глазами глядя на него, говорила Наталья. — Разве так бы тебя встречать-то надо?
— Ну, велика важность, — отмахнулся Максим. — А Костик спит? Пойду взгляну.
Он прошел в горницу и зажег висячую лампу-«молнию».
В небольшой кроватке под перекрученным, сбившимся к одной стороне одеялом спал сын. Максим постоял над кроватью, всматриваясь в такое знакомое и уже чем-то новое, повзрослевшее лицо, потом наклонился и поцеловал полуоткрытые губы. Сын наморщил нос, заерзал головой по подушке, точно хотел увернуться от чего-то, и открыл глаза.
Во взгляде его, сначала сонном, безразличном, Максим увидел все возрастающую тревогу и даже страх.
— Что, не узнаешь? — улыбнулся Максим.
Сын все так же тревожно, со страхом продолжал смотреть на него и молчал.
— Родного отца не признаешь, разбойник? — переспросил Максим.
Тогда только сын вскочил с постели и с криком бросился к Максиму на шею. Но, очутившись на руках, он снова уставился внимательным взглядом на Максима.
— А это… Ведь у тебя не было…
— Чего не было?
— Да вот этих, — Костик осторожно потрогал пышные Максимовы усы.
— А-а, — рассмеялся Максим, — вон тут в чем дело… Так гвардейцам же без усов нельзя. Им усы по штату положены.
— А ты разве гвардеец?
— Ну а как же? Вот и значок, читай.
— Гвар-дия, — по слогам прочитал Костик и опять посмотрел на отца, посмотрел таким взглядом, точно еще только впервые теперь разглядел его.
— А пойдем-ка, брат, покажу, что я привез!
Спустив с рук сына, Максим вернулся с ним в переднюю. Там Наталья уже успела убрать в угол корыто и белье, вытерла пол и, надев белую кофточку, закалывала на затылке распустившиеся волосы.
— Я, брат, вам с мамкой такие штучки сейчас покажу, что закачаешься, — говорил Максим, подходя к чемодану и открывая его.
Сыну он достал блестящий лаком заводной автомобиль, а жене — кофейного тона, с дырочками и кожаными цветочками туфли.
— В самом шикарном магазине в Праге купил.
— Да ты что, Максим, — принимая подарок, смущенно проговорила Наталья. — Где же я их такие-то носить буду? Уж больно нарядны…
Наталья уложила туфли в коробку, закрыла ее и поставила на полочку, рядом с тарелками и чайной посудой.
— Ой, Максим, — вдруг спохватилась она, — ты же небось есть хочешь. Сразу-то не сообразила от радости.
Сели ужинать. Щи уже поостыли, да не так и голоден был Максим, а все равно ел с большим удовольствием. Про кашу и говорить нечего: где еще отведаешь такой разварной, такой душистой каши, кроме как дома! Один хлеб разве был нехорош: темный и сырой, как глина, откусишь — все зубы видно.
— Ну, кто тут бригадирит сейчас за меня? — спросил Максим, поднимаясь из-за стола. — Как Иван Ильич артельные дела ворочает?
— Хоть и не шибко, а дела идут. — Наталья собрала посуду и отнесла к печке. — Иван Ильич мужик хозяйственный, экономный…
— Ничего! Вот наш брат фронтовик съедется — завернем дела…
Когда ложились спать и жена, забравшись под одеяло, положила свою голову, как это и всегда раньше делала, на большую, сильную руку Максима, он снова испытал то самое ощущение, которое охватило его, когда он с горы увидел мигающие огоньки своей деревни: что-то старое, давно забытое и переживаемое сейчас с новой силой…
Проснулся Максим на другой день от какого-то щекотливого прикосновения к лицу. Открыв глаза, он увидел Костика, так же как и вчера, осторожно трогающего рукой его гвардейские усы.
— Ах ты, шельмец! Ишь игрушку нашел.
Жены на постели не было.
— Мамка сказала, что к обеду будет. Ну, я пошел.
Повесив через плечо противогазовую сумку с тетрадками, Костик важно зашагал к выходу.
Встав с постели, Максим, по солдатской привычке, начал было заправлять ее, но, вспомнив, что он дома и что теперь есть кому убирать кровать, рассмеялся сам над собой, накинул сверху одеяло и пошел умываться, по дороге еще раз снова оглядывая комнату, как бы убеждаясь, что все на своем месте.
Умывшись, он достал из чемодана еще почти совсем новенькую шерстяную гимнастерку и, звеня орденами и медалями, навешанными по обеим сторонам груди, надел ее. Времени было немного, и он решил пока сходить в колхозное правление, повидать однодеревенцев, показаться самому.
На улице было малолюдно. Разве что ребятишки выбегали чуть не из каждого двора, чтобы поглазеть на его ордена и послушать, как красиво перезваниваются они на ходу. Некоторые, пропустив Максима, но еще как следует не наглядевшись на его награды и лихие усы, снова забегали вперед, обгоняя его.
В правлении тоже, кроме счетовода да девчонки-учетчицы, никого не было.
Максим пошел на околицу, где располагались дворы и всякие колхозные службы, — там уж наверняка народ должен быть.
На фермах, у складов и впрямь было людно, оживленно. Стучали веялки, из свинарника доносился хрюк и визг, в кузнице звонко, весело пела наковальня.
Везде, это сразу бросилось в глаза Максиму, везде — и на дворах, и около веялок, и даже на конюшне — работали бабы. Подновляли, обмазывали стены телятника — тоже бабы. Даже подтесывала что-то там, не то дверной косяк, не то притолоку, молодая девчонка. Трактор стоял около кузни — в моторе его копалась тоже девчонка. Разве что в самой кузне работал все тот же дед Сергей да с ключами по складу ходил вернувшийся по ранению около года назад сосед Прилукиных — Федор Хорев. Ну, еще троих или четверых мужиков, не считая молодых, допризывного возраста, ребят, встретил Максим.
От дворов видны ближние поля. И на них работали — похоже, пололи — тоже бабы: их платки четко белели на зелени всходов.
Ну, полотье не такая уж и тяжелая и вообще куда больше женская, чем мужская, работа. Ладно. А косить, а стога метать, а хлеб убирать, пятипудовые мешки на телегу взваливать да в амбар таскать — это-то чья, это-то разве женская работа?!
И ведь знал — и по письмам, и по рассказам однополчан, — хорошо знал Максим, что всю эту работу вот уже столько лет делали женщины. Но, выходит, знать — одно, а видеть своими глазами — другое… Женщины у веялок чему-то смеялись, и девчонка, неумело тюкавшая топором, улыбнулась Максиму, когда он проходил мимо. И те, что обмазывали телятник, с руками по локти в глине, отпустили какую-то шутку насчет его гвардейских усов. А Максиму было горько. Он, конечно, улыбнулся милой девчонке и на шутку ответил. А на сердце было тяжело. Тяжело и на кого-то обидно.
А еще больно резанула Максима лезущая на глаза бедность в одежде однодеревенцев. Она и прежде-то была немудрящей, рабочая одежка сельского человека. Теперь же и на ребятах и на бабах все было выцветшее, выгоревшее, латаное. На многих колхозницах были старенькие солдатские гимнастерки и солдатские же кирзовые сапоги с завернутыми голенищами.
В складе, за сусеком, две похожие друг на друга девушки («Уж не Заботины ли сестры?») ели круто посоленный хлеб. Хлеб был темный — именно не черный, каким бывает настоящий ржаной, а темный и даже на вид тяжелый, сырой. Значит, не просто не удались вчера хлебы у Натальи — вся деревня печет их пополам с картошкой.
На фронте всяко бывало. И в легкой шинелишке приходилось на морозе ночь коротать, и два дня одним сухарем питаться. Но уж если был хлеб, так то был настоящий хлеб, а не такая вот глина. А кроме хлеба был еще и приварок, мясо, колбаса. И гимнастерки с сапогами выдавались в положенный срок, и новенькие полушубки с валенками. И так все это выглядело само собой разумеющимся, словно иначе и быть не могло. А ведь накормить, одеть и обуть надо было не тысячу солдат, и даже не сто тысяч, а миллионы…
За амбарами ударили в рельс: обеденный перерыв.
Полольщицы, прогнав постать, вышли на дорогу, и среди них Максим узнал Наталью. («Не могла уж день дома посидеть — не обошлось бы без тебя!») Вот она показала на что-то рукой, и колхозницы, свалив в кучу наполотую траву, пошли в деревню.
Ивана Ильича Максим нашел за амбарами. Тот сидел на бревне и что-то записывал в замусоленную тетрадку.
— Ого! Видать, толково воевал, — здороваясь и с откровенным интересом разглядывая сиявшие на груди у Максима ордена и медали, сказал Иван Ильич. — Молодец!
Максим сел рядом. Закурили. Иван Ильич рассказывал про колхозные дела, про то, какой особенно трудной была эта весна — четвертая военная весна.
— Прямо даже и самому удивительно, как управляемся. Недаром про баб говорят: двужильные. Верно. Возьми бригадиров — хоть Татьяну Фокину, хоть твою Наталью…
«Бригадиры! Что-то не помню, чтобы она писала об этом…»
И опять новость обрадовала Максима («Ай да Натаха! Молодец!») и чем-то задела. Вместе с гордостью за жену ощутил он и какое-то смутное уязвление собственного самолюбия, собственной гордости.
И когда они с Натальей шли деревенской улицей домой, все еще никак не мог отделаться Максим от этого противоречивого — и радостного, и чем-то вроде бы слишком уж неожиданного для него — чувства.
Он разбил врага и освободил пол-Европы. Он вернулся в родную деревню победителем и вправе гордиться тем, что сделал свое дело как надо. Но если его ратный подвиг уже измерен и не раз еще будет измерен историей, то как, какой мерой измерить незаметный подвиг тех, кто оставался здесь и все эти четыре года, недоедая и недосыпая, работал на ту же победу?!
В волнении Максим машинально вытащил из кармана свой великолепный портсигар и закурил. Однако после первых же двух затяжек бросил сигарету и раздраженно сплюнул:
— Тьфу! И черт знает что за табак — ни крепости, ни вкуса, солома соломой… Ты мне, Наташа, самосадику расстарайся, а то осточертела вся эта иностранщина…
А когда пришли домой, Максим снял новую гимнастерку, свернул и положил в чемодан, снова надев старенькую, уже не раз стиранную, побелевшую на лопатках от солдатского пота.
— Это ты зачем? — удивленно спросила Наталья.
— Да так… В той жарко как-то и вообще… а эта полегче и попроще…
Он вышел из избы и неспешно, по-хозяйски, ко всему приглядываясь, прошагал за двор. Перед ним снова открылись поля — яркие, блещущие под солнцем вблизи и притуманенные, как бы подернутые голубой дымкой вдалеке. Полевой простор обнимал со всех сторон, вливался в грудь и манил, звал в свою немыслимую голубую даль.
Вот где-то здесь, не у этой ли кочки, вчера вечером Максим обнимал родную землю. Сейчас ему хотелось обнять все эти поля, хотелось самолично, своими сильными, соскучившимися по плугу руками, вспахать и засеять их, чтобы потом глядеть и не наглядеться на золотой хлебный разлив, на милый сердцу лик родной земли, не изуродованный шрамами окопов, не оглашаемый воем бомб и снарядов…
Здравствуй, вовеки мир на земле!
1948—1962
КУЗЬМИНСКИЕ САДЫ
Моей матери
Я привык вставать рано и люблю перед уроками пройтись по школьному саду, подышать утренней росной свежестью.
Но нынче я сворачиваю со знакомой тропы в сторону и иду туда, где по отлогому взгорью, сбочь села, стоят недвижно, чуть не до земли уронив свои ветви, плакучие березы. Каждый раз в этот день я прихожу под те березы.
Могила успела затравенеть. И крест на ней уже ничем не отличается от соседних — потемнел, чуть-чуть покосился…
1
Немцев в нашем селе Кузьминском не было. Даже их самолеты сюда ни разу не долетали. И все-таки, когда я поднялся на последнюю горку и увидел перед собой родное село, я его не узнал. Помнил его потонувшим в густых садах, таких густых, что за садами почти не видно было самого села, и дома издали походили на потемневшие от времени, самодельные игрушки, разбросанные — где рядами, где как попало — в темной зелени.
Сейчас передо мной, в знакомой с детства долине, лежало незнакомое, чужое село. Сады исчезли. Улицы, дома с дворами, погребами, банями — все было видно как на ладони. Село казалось раздетым донага; от некогда богатой, нарядной одежды остались только жалкие лоскутья одиноких ветел да белоствольных берез. И они лишь подчеркивали летнюю нищету села.
Я отыскал глазами домик, в котором родился и провел все детство. Обнаженный сзади, он показался мне жалким, словно общипанным и каким-то сиротски-грустным. Грустно стало и у меня на душе.
Дома я не был пять лет. Еще до войны ушел служить, потом воевал. И за все эти пять лет не было дня, наверное, чтобы не вспомнилось мне родное село, чтобы мысленно не увидел я его, и каждый раз представлялось оно мне славящимся на весь район своими садами, богатым селом. И вот никакого богатства нет. И ведь, наверное, не только за эти сады любил я его, а сейчас думалось почему-то, что именно за них. Я чувствовал себя так, точно кто-то неожиданно, исподтишка обокрал меня.
Придя домой, я узнал от матери, что сады высохли летом сорок второго года. Высохли сразу, чуть не по всей округе. Она даже писала мне об этом, да письмо, видно, не дошло.
Я оглядел избу, постоял в сенях и вышел в сад, вернее, на двор, на то место, где когда-то он был. Сейчас здесь, от погреба до бани, тянулась пустынная лужайка с рядами неровно спиленных пней. В дальних углах лужайки, у самой бани, курчавились серо-зеленые кусты смородины с одинокой тоненькой березкой посредине — все, что осталось от сада.
Я смотрел на пеньки и припоминал: вот здесь, на месте этого пня, была скороспелка — желтые некрупные яблоки ее созревали всех раньше; рядом — налив, анис, а дальше влево — две огромные яблони апорта, который висел чуть ли не до самого ноября; а еще дальше — боровинка, с нее я еще совсем маленьким как-то упал и вывихнул ногу. Здесь росли вишни, там — сливы…
Я так ясно представил себе живым весь сад, что даже ощутил на какое-то время вкус и запах яблок каждой яблони, видел матово-красные, будто подернутые инеем, сливы и янтарные подтеки клея на вишнях.
Трава была скошена и сложена в небольшую копну: зачем даром пропадать, нет сада, пусть будет хоть сенокос…
Я вернулся в избу. Сели обедать. Мать то и дело смахивала концом головного платка набегавшие слезы и все повторяла:
— Ах ты, радость-то какая! Живой, здоровый!.. А!.. Да ты ешь, ешь, заморился, чай, в дороге-то.
А когда я сказал, что приехал всего лишь на несколько дней, мать так и ахнула, чуть не выронив на пол чугунок с кашей.
— Ну вот, дождалась… Как же это ты, сынок? Разве так можно? Что же это ты?..
Она стояла у печки, не двигаясь с места, и уже не вытирала снова покатившихся слез. Одна — крупная, тяжелая — упала на край чугунка и оставила за собой черный, блестящий след.
Мне тяжело стало смотреть на мать, на ее старческие, со вздувшимися венами, дрожащие руки, и я, сказав, что скоро вернусь, вышел. Мне захотелось пройтись по улице, посмотреть, какой она теперь стала.
Сходя с крыльца, я встретил племянника Мишку, не сразу признав в рослом, давно не стриженном — отчего он казался старше своих четырнадцати лет — пареньке того самого Мишку, которого когда-то держал на руках и забавлял разными нехитрыми фокусами из спичек, мыльных пузырей и цветной бумаги.
Мишка, тоже, видимо, не узнавший меня, сначала было посторонился, уступая дорогу, потом посмотрел исподлобья, рванулся навстречу, но на полпути остановился и, как взрослый, запросто протянул темную от загара и пыли руку. Пожатие у него было крепкое, мужское.
Пошли вдоль порядка вместе.
Улица — раньше вытоптанная, пыльная — густо поросла травой, но это почему-то совсем не радовало. Была она какая-то оголенная, сквозная. Посреди нее раньше стояли амбары, кладовые, обсаженные ветлами, высились штабеля бревен, а сейчас и амбаров стало меньше, и ветел осталось только две. На месте некоторых домов я видел пустыри, буйно заросшие высокой — в человеческий рост — крапивой и огромными зонтами лопухов.
— Дерновы. Сгорели позапрошлым летом, — пояснил мне Мишка, — живут у Юдиных — все равно изба пустует, с войны никто не пришел, одна тетка Пелагея с Ванькой остались.
— Петровых двор. Дядю Петю убили, тетка Маша дом продала, уехала с дочерьми к брату, в Горький.
— А это Вашаня Рогачев окна заколотил. Жена у него умерла, сам пришел с фронта на одной ноге. Живет на том конце у свояка…
Улица была пустынной; не только взрослых — ребятишек мало видно было. Встретили мы бабку Анисью, которая меня не узнала, да двух белобрысых девчонок, выгонявших из огорода теленка, — этих я не узнал.
— Сереги Буракова, — кивнул Мишка на девчонок, — сам пропал без вести…
От нежилого вида улицы, от Мишкиных пояснений мне опять стало грустно, как и на горке перед селом. А я-то, чудак, все думал: село от фронта далеко, война его не задела, приеду — все будет по-прежнему…
Мне захотелось спросить у Мишки, остался ли тут такой дом, где ничего не изменилось за войну, но, вспомнив, что и Мишкин отец — мой старший брат — тоже погиб еще в самом начале войны, я раздумал.
На конце улица загибала в сторону; ее потеснила река, подступавшая здесь прямо к огородам. Когда-то в этой реке я ловил огольцов, купался. Однажды даже чуть не утонул. А сейчас она пересохла, и только по самому дну ее еле сочилась узенькая полоска воды. Тальник по берегам был зелено-серый, как следует не промытый после полой воды, а илистые плесы и яры потрескались от жары так, что корка квадратиков и кружочков загнулась по краям, как береста.
В воздухе стоял тяжелый, удушливый зной. Мутно-голубая кромка леса на горизонте переливалась непрерывно бегущими куда-то, дрожащими волнами и будто таяла в жарком мареве.
Вышли за околицу. Здесь когда-то был луг. Назывался он Петровым долом, хотя никакого дола тут не было: место высокое, и трава, еле успев подняться, выгорала на солнце. В весенние праздники, когда в селе было еще сыро и грязно, здесь собиралась молодежь и играла в лапту, водила хороводы. Потом гулять стали в другом месте — посреди села, около церкви, и Петров дол распахали. Я сам его и распахивал. Теперь здесь росло просо, наполовину забитое лебедой и молочаем.
«Может, зря я подымал этот луг, — думалось мне сейчас. — Все равно польза невелика от такого урожая. Хоть гулять было где…» Но тут же усмехнулся: гулять! Работать, поди, некому, не только гулять…
И действительно: когда-то бурлившее по ночам — даже в самое страдное время — балалайками, гармошками и девичьими припевками село спало в этот вечер мертвым сном. Только собаки гавкали то в одном, то в другом конце его да в положенное время устраивали перекличку петухи.
В избе было душно, и я лег в сенях. В знакомый еще с детства, выпавший сучок в доске был виден кружок ночного неба, с одиноким тощим серпом месяца, зацепившимся одним рогом за продолговатое облачко. Мать долго сидела около меня и, расспрашивая про мою жизнь на войне, ласково гладила шершавой от вечной работы рукой мои волосы. Я уже давно зачесывал их назад, а мать, как в детстве, водила по ним рукой сверху вниз.
Потом она ушла, а я все еще не мог заснуть. Мешала соседская собачонка: она размеренно, как заводная игрушка, лаяла тонким голосом, делала небольшую передышку и начинала снова. Гулкая тишина пустынной улицы возвращала эхо ее лая в виде одного и того же вопроса: кто такой? кто такой? Постепенно мой слух свыкся, и я стал засыпать, а собака все еще продолжала меня допрашивать: кто такой? кто такой?..
Дни я просиживал над учебниками: надо было готовиться к вступительным экзаменам. А по вечерам мать приходила ко мне в сени, и мы с ней подолгу разговаривали, вспоминали прежнюю жизнь, — теперь, после страшной войны, та жизнь виделась нам безоблачно-счастливой, как сладкий сон.
Уже накануне моего отъезда мать, не удержавшись, опять тихо пожаловалась:
— Тот не пришел, и ты уходишь… Тяжело мне одной-то…
Она вздохнула и умолкла.
Уж лучше бы она в чем укоряла меня, уговаривала остаться! Тоскливая безысходность ее слов сжала грудь, в горле сделалось горячо, словно там что-то закипело. «А не махнуть ли на все рукой и не остаться ли, в самом деле, дома? Ну, не ты, со временем, приедешь учительствовать в Кузьминское, пришлют другого — велика ли беда?» Но стоило мне сказать об этом матери, она же и стала меня отговаривать:
— Что ты! Что ты, сынок! Сам же говоришь, тебе, как фронтовику, льгота, — и такой момент упустить. Ты разве забыл, что отец перед смертью говорил?
Отцу с матерью в свое время пришлось учиться очень мало: отец ходил в школу «две зимы», а мать и того меньше. И была у них давняя мечта: дать образование своим детям. Отцу хотелось, чтобы кто-то из нас обязательно учительствовал потом в кузьминской школе. «И чтобы образование у тебя ли, Иван, у тебя ли, Симка, — добавлял при этом отец, — было полное. Не какой-то там педтехникум или училище, а полный университет! Пусть в нашем селе будет хоть один учитель с полным образованием, и пусть у этого учителя будет наша фамилия!..»
С появлением на селе тракторов и комбайнов Ивана потянуло к машинам, и он выучился на механика. А в сорок первом ушел на фронт и не вернулся. Так и по сей день нет в Кузьминском ни одного учителя с «полным образованием» и с нашей фамилией…
Разбудила меня мать рано: надо было успеть к поезду, который уходил утром.
Я не знаю, ложилась ли мать: картошка уже дымилась на столе, когда я, умывшись, вошел в избу.
Стали прощаться. Я не люблю всяких прощаний, не знаю, что надо говорить при этом, и чувствую себя беспомощно и глупо.
У матери дрогнули и жалко запрыгали губы, застелились слезами глаза. Она обхватила меня за шею, припала к плечу и словно обмерла. Надо бы уже идти — ну что растравлять себя понапрасну, — но мать не опускала рук. Она, наверное, чувствовала, понимала — матери ведь всегда и все понимают, — что пора идти, что надо разжать руки, и не могла, не в силах была этого сделать… Прямо перед моими глазами были ее седые растрепавшиеся волосы, маленький, в старческих морщинах, лоб. И вся она была маленькая, сухонькая, беззащитная… Я понял, что еще минута, может быть, полминуты и я не выдержу, сброшу заплечный мешок и останусь дома. Останусь насовсем. Я легонько взял ее горячие руки и так же легонько, почти незаметно разжал. Мать не противилась, она лишь еще раз судорожно изо всей силы прижалась ко мне, точно хотела вложить в это последнее объятье и всю свою материнскую нежность, и всю свою боль, а потом уже руки ее сами собой сползли с моих плеч. Так она мне и запомнилась: стоит, потерянно уронив вдоль тела темные жилистые руки, и скорбно, немо глядит, как я все дальше и дальше ухожу от родного порога…
Когда я вышел задами за село, светлая полоса на востоке — узкая, белесая полчаса назад — расступилась почти на полнеба, и ее залили снизу желто-багровые разводья. С каждой минутой они становились гуще и гуще, будто небо, соприкасаясь с горизонтом, постепенно пропитывалось, намокало темной кровью. Скоро должно было показаться солнце.
На взгорье я остановился передохнуть и оглянулся на село. Незнакомое, чужое село.
— Никак, ты, Симка? — послышалось откуда-то слева.
Из вершины овражка на дорогу выходил старик в рваном полушубке, подпоясанном льняной веревкой, и такой же ободранной высокой шапке. Не сразу признал я в нем деда Ганьку — знаменитого когда-то колхозного пасечника.
— Н-да-а… Неприглядное село наше стало, неуютное, — словно читая мои мысли, проговорил дед. Он подошел ближе и остановился, опершись обеими руками на палку. — Как на порубке живем: был лес — остались одни пеньки… А какие сады красовались, какие сады!..
Должно быть, только сейчас Ганька заметил за моей спиной мешок, потому что, прищурив на меня свои не по годам молодые глаза, спросил:
— А ты что же, милок, не успел прийти и уж скорей бежать из села? Ай не понравилось? А?
Меня больно задели слова старика. Я почувствовал себя вроде дезертира или солдата, который уходит из своей части, попавшей в тяжелое положение, во второй эшелон.
Я сказал, почему и куда ухожу, но хитрый дед Ганька сделал вид, что не расслышал, а может, и в самом деле не расслышал меня, потому что, глядя куда-то в поля, проговорил безучастно:
— Что ж, счастливой дороги. А на лето приезжай. Как ни что, а места-то родные…
2
Меня приняли в институт, дали общежитие. И я, обрадованный и довольный, по вечерам, перед сном сочинял матери пространные, хорошие письма.
Я писал ей о том, что все у меня идет как надо, так что ей не о чем беспокоиться. И пусть она не думает, что я забыл про нее: нет у меня на свете человека ближе и роднее. Если я никогда не говорил ей нежных слов — значит ли, что я не люблю ее?! Люблю, очень люблю. И не надо горевать — мы скоро увидимся. Кончится полугодие, у нас будут каникулы, и я приеду, а летом, как сдам экзамены, приеду опять. На целых два месяца! Мы обо всем успеем тогда наговориться. И у нее будет отпуск на эти два месяца — первый в жизни. Я ничего не дам ей делать, все, решительно все буду делать сам. А она будет отдыхать, отдыхать — и все…
Такие или примерно такие письма мысленно сочинял я в постели, перед сном, и каждый раз давал зарок на другой же день написать. Но и месяц прошел, и второй пролетел незаметно, а письмо все еще оставалось ненаписанным. Все как-то было недосуг.
Нормально учиться мне пришлось только семь лет. Старших классов в нашем Кузьминском нет, а село, где они есть, — за девять километров, каждый день не находишься. Можно бы, конечно, к кому-нибудь на квартиру стать, но это значит уйти из дому насовсем. А надо было помогать матери по хозяйству. Брат работал в МТС, отца к тому времени мы уже похоронили. Учился я долгими зимними вечерами дома и сдавал экстерном. За три класса сдал в два года. Меня хвалили: молодец, здорово, и я тоже тогда казался себе молодцом, а только от того скоростного ученья в голове осталось немного. За войну же и то немногое изрядно подзабылось, кроме разве тригонометрии, с помощью которой я вычислял углы прицела и траектории падения снарядов. Так что теперь надо было наверстывать.
Конечно, если говорить откровенно, полчаса или час выкроить, наверное бы, можно. Ведь нашел же я время, чтобы написать двум друзьям-однополчанам, написал и знакомой, тоже еще по фронту, девушке. А письмо матери все как-то откладывал и откладывал. То ли потому, что никакой срочности в нем не было, то ли потому, что вообще-то коротенькое, в пять строчек, письмо я послал в Кузьминское еще в тот же день, как увидел себя в списке принятых в институт.
Потом пришло письмо от матери, в котором она писала, что картошка в этом году уродилась добрая и что они с Мишкой, слава богу, посуху, до дождей выкопали ее и убрали в погреб, что топлива на зиму хоть и маловато, да, бог даст, как-нибудь протянут.
«И это хорошо, что ты поступил на ученье, я понимаю, тебе это надо. Только больно уж я соскучиваюсь. И знаю, что все как надо и как тебе хотелось, и рада я за тебя, а сердце все равно болит, ничего с ним поделать не могу…»
В тот же день, прямо на лекциях, я написал ответ. Написал те же пять дежурных строчек, но быстрота ответа как бы оправдывала его краткость. Словом, перед собой я оправдался вполне, а большое письмо опять так и осталось ненаписанным.
И хорошо, что осталось ненаписанным!
Студентам, отлично сдавшим зимнюю сессию — а я оказался в их числе, — институт предоставил бесплатную поездку в Ленинград. Конечно, можно было и не ездить туда, а поехать в Кузьминское. Но уж очень хотелось поглядеть на Смольный, побывать в Эрмитаже, в Русском музее. Когда еще представится такая счастливая возможность!
Я написал об этой поездке матери. Она ответила, что в последнее время что-то начала прихварывать, но это, наверное, пройдет. А ехать мне или не ехать — «Что я тебе на это скажу? Делай, как тебе надо…».
Мне стало стыдно за свой глупый вопрос. Ведь если честно признаться, задавая его, я заранее был уверен в ответе: насколько я себя помнил, мать всегда делала так, как мне, а не ей было надо… Скверно было еще и потому, что я всю осень собирался написать письмо, для которого приготовил так много хороших, душевных слов. А вот дошло до дела, и ничего не стоящими оказались те хорошие слова.
Я озлился на себя и пошел к директору. Пусть меня вычеркнут из списка и поставят кого-нибудь другого: я не поеду в Ленинград. Директора я не застал, была суббота, и он ушел из института рано. Декан сказал, что вычеркнуть меня может, но билет, чтобы не пропал, придется сдать в кассу, потому что нового студента в этот список он дописать не властен, а уезжать надо завтра вечером.
— А вообще-то не советую, — сказал декан в заключение разговора. — В родном селе еще набываешься, а в Ленинград наш институт едет в первый раз, и неизвестно, когда второй выпадет. Мать? Ну что ж, у меня у самого мать живет в деревне. Навещаю каждое лето. И ты сдашь весеннюю сессию и кати на все лето в родные палестины.
Я опять заколебался. После разумных и убедительных (мне так хотелось думать) доводов стороннего человека я уже не казался себе таким черствым и эгоистичным. Сжимая в кармане картонный прямоугольник билета, я боялся признаться себе, что сдавать его очень не хочется.
Я не стал сдавать билет.
Так же скоро и незаметно пролетела и вторая половина учебного года.
В Кузьминское, однако, мне пришлось ехать раньше, чем я собирался.
Я готовился к сдаче последнего экзамена, когда принесли телеграмму, смысл которой дошел до меня, кажется, раньше, чем я ее прочитал. Буквы телеграфного бланка поплыли перед глазами, и вдруг отчетливо, будто при ударе молнии, я увидел мать: стоит, потерянно уронив темные сухонькие руки, и, словно бы чуя сердцем, что видит меня в последний раз, с тоской глядит мне вслед. А еще вспомнилось в ту секунду, как снимал я со своих плеч ее руки — горячие и покорные… И мне стало страшно. Страшно от мысли, что уже ничего нельзя ни переделать, ни поправить.
Непостижимо, непонятно устроен человек! То он хорошо видит и точно соотносит в своем уме большое и малое, важное и несущественное, то вдруг эти понятия смещаются, и он даже и не замечает этого…
То ли потому, что несчастье оглушило меня и я еще не мог, не в силах был постичь всей его глубины, то ли потому, что это давно сидело занозой в сердце, но, когда хоронили мать, больше всего мучился я тем, что так и не написал ей того большого письма, что так и не успел сказать ей ни одного слова переполнявшей теперь меня горячей любви и нежности. Будто это имело какое-то значение и могло что-то изменить!
Ударились первые комья о крышку гроба, и я вздрогнул, будто ударились они о мое сердце, будто вся эта черными ручьями потекшая со всех сторон в могилу земля начала придавливать, засыпать и меня самого. Я почувствовал, что мне не хватает воздуха, что вот-вот задохнусь, и сошел с края могилы.
Чистое, без единого облачка небо сияло над миром. Солнечный свет, процеживаясь сквозь листву плакучих берез, густыми желтыми пятнами лежал на темной кладбищенской зелени — на траве, на кустах крыжовника. Так же щедро испятнаны были солнцем почерневшие от времени могильные кресты. И тишина кругом стояла, такая тишина, что от нее звенело в ушах. Живой свет солнца и могильная тишина…
Кроме непосредственной, что ли, прямой связи человека с жизнью связан, соединен он с ней, наверное, еще и через близких ему людей, и, когда умирает один из них, вместе с ним умирает и какая-то часть самого человека, та сторона, та грань жизни, с какой он через умершего соприкасался.
Я родился после революции, но во мне словно бы изначально жила романтика гражданской войны, романтика беззаветного мужества и бескорыстного служения революции — живым воплощением ее был мой отец. С его смертью все это постепенно уходило из моей жизни, оставаясь лишь в учебниках, в книгах.
Я не знаю точно, что уходило теперь с матерью, знаю только: что-то большое и очень для меня нужное. Мать всегда, с тех самых пор, как я себя помню, была как бы частью меня самого. Все детство — это не только я, это и мать. Вспомню ли зимние метельные вечера и себя на теплой печи — тут же увижу и мать: она нам в эти долгие вечера рассказывала чудесные сказки. Вспомню ли жаркое лето, себя увижу в саду — обязательно и мать увижу рядом: вон она срывает мне самые спелые, аж черные вишни, самые сладкие яблоки. Первый свой шаг по земле сделал — мать за руку вела; в школу пошел — мать провожала; в ночное поехал — мать одевала, никогда не забывая сунуть за пазуху вкуснейшую вещь — круто посоленную и завернутую в тряпицу краюху хлеба. Радость какая — к матери бежишь, с ней первой делишься; палец порезал, ногу на гвоздь напорол — к кому же, как не к матери, идешь, хоть тебе и давно не пять, а десять или даже пусть пятнадцать лет…
Вместе с матерью уходила из жизни и часть меня самого — часть моего детства и моей юности.
3
Мне бы лучше было, наверное, уехать в Москву, а не оставаться дома, где все на каждом шагу напоминало о матери, где каждый новый день заново бередил еще не утихшую боль.
И все-таки я остался на лето в Кузьминском.
Как-то утром, умываясь у крыльца, я увидел в конце улицы людей с косами. Подымавшееся солнце тускло поблескивало на осветленных лезвиях и издали делало косцов похожими на отделение солдат, несущих на плечах винтовки с примкнутыми к ним плоскими штыками. Но, когда косари подошли поближе, я понял, что сравнение не годится: это шли бабы, и ни в их походке, ни в одежде ничего воинственного, ничего солдатского не было.
И хотя я слышал раньше, знал по письмам, что вовремя войны нужда научила женщин делать нашу мужскую работу, мне было непривычно видеть такую картину. Я вырос в деревне, но ни разу не видел с косой в руке женщину. И тяжела эта работа, и просто у нас так не было принято.
Перед полднем, выйдя за двор, я снова увидел косцов. Они косили на ближнем поле зеленую вику с овсом, и я залюбовался их работой.
Бабы широко, по-мужски взмахивали косами и привычно легко, с густым шумом подрезали сочную зелень.
Вот одна из них остановилась точить косу. Я сам когда-то косил и знаю в этом толк: на точке можно проверить любого косца. Баба с размаху воткнула косье в землю, взяла его под мышку и, вытащив из-за пояса брусок, начала лихо, с перезвоном — под стать самому заправскому косцу — шаркать им с той и другой стороны лезвия, даже и не глядя на него.
Я вернулся во двор, снял с переводины косу, примерил насадку и прямо огородами подошел к колхозницам. Они как раз начинали новый заход и молча пропустили меня передним.
Поначалу дело шло плохо: коса моя то забирала слишком широко, то пролетала почти вхолостую, и тогда я едва сохранял равновесие. А может, еще и потому так получалось, что косил я со злостью, с каким-то ожесточением, словно шел на врага с винтовкой наперевес.
Прошел одно окосево, другое и постепенно приноровился, шаг мой стал ровным и твердым. Я почувствовал, как ожесточение уходит, уходит куда-то, будто растворяется вот в этих мерных взмахах руки, в сочном шелесте подрезанных стеблей, в синем, объемлющем меня со всех сторон полевом просторе. Мысли перестали ходить по замкнутому кругу. Здесь, в поле, все было просто и ясно. Вот коса, вот трава, а вот твои руки. Наточи косу, замахнись пошире и, наваливаясь всей тяжестью плеча, резко и ровно проведи по зеленой стене. Переступи, сделай шаг вперед, снова замахнись и снова ударь со всего замаха. Раз — два! Шу-у — вжу!
А потом и об этом перестаешь думать: руки сами делают то, что нужно, ноги сами несут тебя все вперед и вперед, ты только видишь расступающуюся перед тобой зеленую стену и слышишь, как ритмично поет коса: шу-у — вжу! Работа завладела твоими мускулами, твоим телом, и оно живет как бы само по себе, по своим издревле мудрым законам.
Ноет спина, тяжелеет плечо, по всем жилам разливается усталость, но это та здоровая усталость, которая приносит с собой счастливое удовлетворение не зря прожитым днем — а что есть на свете выше и дороже этого?!
Ты придешь потом домой, уснешь крепким сном, и никакие кошмары, никакие видения не будут мучить тебя. Если что и увидишь или услышишь во сне — это будет все та же, медленно расступающаяся перед тобой зеленая стена и короткая, энергичная песня косы: шу-у — вжу! Шу-у — вжу!
Я и на другой день вышел в поле с косой, и на третий…
Тяжелая красивая работа!
И будто не было никакой войны, не сидел я год за партой — не было ничего: я все тот же молодой зеленый парень, иду себе лугами и, играючи, помахиваю да помахиваю тяжелой косой. Влажно блещет коса, горит роса на цветах, жаворонки хрустальными колокольчиками звенят в высоком небе, и словно бы капельками радости падает тот хрустальный звон с небесной вышины в мое сердце, и оно раскрывается навстречу красоте этого солнечного зеленого мира.
Вот только вечером, когда я возвращаюсь домой, мне не с кем поделиться своей радостью…
Подошло время жатвы.
Год выдался урожайный: зерно было крупным, наливным, тяжелым.
— Золото! — говорили колхозницы, вышелушивая из колосьев и любовно пересыпая в ладонях хлебные зерна.
И это старое, уже потускневшее от частого употребления слово приобретало как бы новый смысл.
Чтобы не дать хлебам осыпаться, их убирали и комбайном, и жатками, и косами. Снопы возили на ток и молотили.
Когда-то я считался неплохим задавальщиком, и вот опять, разыскав на чердаке тяжелые, обшитые кожей очки, стал я к барабану молотилки.
От скирды до моего столика выстроилась цепочка людей, и по этой живой цепочке непрерывно текут, текут в барабан тяжелые снопы. Кто-то отвозит солому, кто-то оттаскивает на веялки и в вороха намолоченное зерно. И все — и машины, и люди, и лошади, — все живет и движется в одном ровном точном ритме, который невольно захватывает и подчиняет себе каждого.
Утробно ревет барабан, жестко и часто стучат решета очисток, гулко плещут передаточные ремни. В воздухе вместе с пылью висит сладковатый сытный запах молодого жита. Вкусно пахнет молодой хлеб!
И опять, как и на косьбе, все недавнее будто отодвинулось в сторону. Смешным и далеким казалось теперь волнение перед экзаменами, шумная суета городской жизни. Я опять будто вернулся в молодость и, незаметно для себя, начал выкрикивать уже забытые, но такие привычные слова:
— Дава-ай!.. Давай-давай!..
Как-то пришлось мне быть на току еще перед началом уборки.
Добрую половину людей, работавших на расчистке тока и около полуразобранных веялок, — а тут была в основном молодежь, — я узнавал с трудом. Я лишь догадывался: это вон, наверно, сын Федора Дорохина, тот — Матрены Кудрявцевой, а рослая, с выгоревшими волосами девчонка — дочка Филиппа Юдина. Но я их всех помнил десяти- или двенадцатилетними пацанами. А передо мной были взрослые, сильные ребята, легко перетаскивающие веялки с места на место, и узнать в них босоногих сорванцов было не так-то и просто. Чувствовал я себя от этого несвободно, даже как бы отчужденно, и старался держаться около людей пожилых, которые за эти шесть лет хотя и состарились немножко, но измениться почти не изменились.
Сейчас вокруг меня опять работали люди, больше половины которых я не узнавал, однако же никакой неловкости я не испытывал. Так ли уж важно, что кого-то я здесь знаю по имени и отчеству, а кого-то нет. Не важнее ли то, что я вместе с теми и другими делаю одно общее дело и в этих ворохах крестьянского золота есть доля и моего труда. И это хорошо, что так людно на току!
Село уже не казалось теперь таким тихим и безжизненным, как год назад. Прибавилось в Кузьминском фронтовиков, кое-кто приехал из городов на побывку.
Молодежь по воскресеньям, как и до войны, устраивала посередь села, у церкви, гулянья, пела под гармошку, танцевала. Раза два или три из района привозили кино и показывали прямо на улице, повесив экран на стену колхозного клуба. На кино собирались и стар и мал, и видеть это многолюдье было особенно радостно.
Сколько миллионов человеческих жизней унесла война! Редкий двор в селе обошла смерть, а в некоторых семьях погибли на фронте вместе с отцами и сыновья. Но наперекор всему вечное древо жизни по-прежнему зеленеет.
Как-то, возвращаясь от церкви, я проходил по мосту через нашу речку Кузьминку. Вдруг мне показалось, что в прохладном ночном воздухе запахло черемухой. Я остановился, и сразу вспомнилось время, когда по отлогим склонам берегов цвели сады, а у самого моста, как невесты в подвенечных платьях, белели две высокие черемухи. Возвращаясь домой, я любил останавливаться здесь, подолгу дышал густым воздухом майской ночи, настоянном на нежном, чуть горьковатом запахе черемухи, и слушал сонное бормотание спящего села. Сады посохли, но черемухи уцелели. Даже обросли за это время молодыми кустами. Только сейчас был август, а в августе черемуха ничем не пахнет. Мне, наверное, просто почудилось.
Внизу тихо, осторожно, точно боясь нарушить тишину, журчала вода, а выше по течению, в небольшой заводи купался месяц, оставляя за собой узенькую серебряную дорожку, по которой он сошел сюда сверху. Вода отливала синим таинственным светом и была такой стеклянно-неподвижной, что непонятно было, течет река или застыла в своих берегах.
— Природу наблюдаешь? — услышал я за спиной и обернулся.
Рядом стоял опять словно из-под земли выросший дед Ганька.
— Да вот, гляжу на Кузьминку. Прошлым летом все дно было наружу, а нынче опять река как река, — сказал я первое попавшее.
Старик прислонил к перилам свою вязовую палку, достал кисет и неспешно начал сворачивать козью ножку.
— Для нас тут диковинного ничего нет. Это вон проезжие дивятся. Пересохнет в жару — они ее и рекой перестают считать, а поедут на другое лето — глянь, а вода с берегами опять. Проезжие не знают, что родники-то, от которых Кузьминка идет, даже в самую что ни на есть сушь не сякнут, а год от года бьют сильнее. Такая уж она у нас… Крути.
Ганька протянул мне кисет и начал высекать огонь, медленно и высоко замахиваясь рукой, точно топором рубил.
Закурили.
— Бессонница, — пожаловался Ганька. — Из избы в сени ушел, и там все вроде душно кажется. На свой питомник в шалашик иду зоревать. Бывай…
Старик ушел, а я еще долго стоял на мосту, слушал, как спит село, как тихо журчит внизу Кузьминка.
Незаметно подошло время уезжать.
Собрав накануне свои книги и тетрадки, я, как и год назад, с восходом солнца был за околицей. Только на этот раз меня уже никто не провожал.
На заре прошел дождь, пыль стала грязью, и я решил, сделав небольшой крюк, выйти на большак оврагами — теми самыми оврагами, в вершинах которых били ключи, питавшие Кузьминку.
Я опять встретил здесь деда Ганьку. Старик копался недалеко от шалаша в мелком частом кустарнике.
Пологие овражные склоны были засажены ровными рядами маленьких яблонь. А то, что издали похоже было на кустарник, вблизи оказалось садовым питомником.
— Это — яблоньки, — объяснял дед Ганька, — это — вишенник, а это — сливки. То будет колхозный сад, — Ганька повел рукой по овражным склонам, — а это осенью раздадим по дворам. Сажай и выращивай на здоровье, закрывай село белым цветом да зеленым листом. И не знаю, я доживу ли, а сады в нашем селе будут. Такие сады… — дед помедлил, подыскивая нужное выражение, — словом, прежние кузьминские сады!
4
Школа стоит сбоку села и несколько на отлете. Тихое, все в зелени место. Особенно хорошо здесь в утреннюю рань, когда солнце еще только поднялось и тени от него сумеречно густы и четки, когда тишина объемлет окрестные луга и поля.
Я привык вставать рано и люблю перед уроками пройтись по молодому школьному саду, подышать утренней свежестью.
Но нынче я сворачиваю со знакомой тропы и иду туда, где по отлогому взгорью, тоже сбочь села, стоят в печальной неподвижности вековые березы. Каждый раз в этот день я прихожу под те березы.
Могила успела затравенеть. И крест на ней уже ничем не отличается от соседних — потемнел, чуть-чуть покосился.
Мать до конца своей жизни верила в бога и просила похоронить ее «как следует», «по всем правилам», придавая этому исключительно важное значение.
Отношения с богом у нее были своеобразные и вполне определенные. Жизнь не баловала мать, но я ни разу не слышал, чтобы она в своих молитвах хоть раз пожаловалась богу или что-нибудь попросила у него для себя. Просила она или за больного отца, чтобы бог дал ему здоровья, или за нас, за детей, хотя знала, что мы неверующие. Смерть Ивана она считала божьим наказанием — для себя же: видно, где-то и что-то не так она делала, если бог разгневался на нее. Так же твердо мать была уверена, что уцелел я на войне только потому, что ее горячая молитва дошла до всевышнего.
Я не знаю, о чем думала, о чем просила мать бога в свои последние минуты. Но вряд ли о том, чтобы он защитил ее. Всего скорее она просила, чтобы бог не оставил своим попечением ее неверующего сына. Ведь это была последняя молитва. А просить сразу за двоих — слишком много: жизнь убедила ее, что милосердный боже в общем-то не такой уж и щедрый на милосердие. Самое большее, о чем она могла бы попросить у него для себя, — это разве недельной отсрочки, чтобы еще раз увидеть сына…
Мало, очень мало пришлось нам с ней пробыть вместе после такой долгой и тревожной разлуки! И вот я «сделал, как мне надо», достиг того, к чему стремился, чего хотели в своих думах обо мне отец с матерью. Но каждый раз, когда прихожу на эту могилу, я спрашиваю себя: а так ли, а правильно ли я поступил, когда уехал от матери, когда оставил ее одну?! И до сих пор не могу, не знаю, что ответить. Знаю только, что после бывает очень тоскливо на сердце…
Школьный сад занимает просторную луговину, спускающуюся уступами к реке.
Недавно только по листьям можно было гадать, какие плоды со временем появятся на той или другой яблоньке. Теперь я вижу эти плоды. Я вижу круглый полосатый апорт, темно-красный, почти бордовый и твердый, как камень, анис, зелено-желтую, чуть просвечивающую антоновку, круглую боровинку. И когда я надкусываю яблоко апорта и захлебываюсь туго брызнувшим ароматным соком, мне сразу вспоминается детство, наш глухой старый сад: мать стоит простоволосая под яблоней, а я сверху кидаю ей в платок самые спелые, самые красные яблоки…
Я иду длинным школьным коридором, и мои шаги гулко отдают в тишине. Светло сияют промытые окна, празднично блестят покрашенные и еще никем не заслеженные полы.
Захожу в классы. В том, куда придут сегодня самые маленькие и сядут за парту в первый раз в жизни, я задерживаюсь подольше. Сам сажусь за парту. Трудно вспомнить, но, кажется, именно за эту парту когда-то я сел в самый первый раз. Сколько лет назад это было?! Многое я узнал с тех пор, о многом прочитал, многому меня научили, а тот день помню, помню, как самый главный.
Кто нынче сядет за эту парту? Может, те два стриженых, как новобранцы, паренька, которых я вчера видел в школьном саду? Или те две чинные девочки с бантиками в косичках, которые спрашивали меня про учебники? Запомнится ли и им нынешний день? Какие слова я должен сказать, чтобы они врезались в их память на долгие и долгие годы?
И этих ребятишек, и этих девчушек я буду учить грамоте. Но только ли одной грамоте я должен их научить? Что ждет их в будущем? Легче или труднее нашей будет их жизнь? Нам хочется надеяться, что легче. Но вот уже сколько лет прошло со дня нашей победы, а того мира, о котором мы мечтали и за который так дорого заплатили, все еще нет на земле. Слова «война» и «бомба» не сходят с газетных столбцов. И даже мои семилетние сельчане, которые нынче впервые сядут за эти парты, еще по-детски наивно, своим еще неискушенным умишком уже понимают, что в мире неладно, неспокойно. Я слышал вчера, как девочка объясняла своей подружке:
— Это не те, это другие немцы… Есть фашистские немцы и есть наши.
— Какие наши?
— Ну, наши… русские немцы. Они не хотят войны, они за нас, а фашистские хотят…
Как хорошо было бы, если бы эти милые девочки так никогда и не узнали войны!
Мне хочется, чтобы мои ученики думали не о войне, а о жизни и прожили ее интересно и красиво. Чтобы была у них одна забота — любить родную землю и своим трудом умножать ее красу. А еще, чтобы каждый из них любил и всегда помнил свою мать, и если он соберется в дальнюю дорогу, то пусть не торопится снимать со своих плеч материнские руки — как знать, может, эти руки обнимают его в последний, в самый остатний раз…
Звенит колокольчик. Пора начинать урок.
1949—1962
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
1
Он лежал напротив меня на верхней полке и, уткнув подбородок в ладони, безотрывно глядел в окно. Впрочем, это только казалось, что Федор смотрит в окно, что ему необыкновенно интересны поля и села, мимо которых мы проезжали. Взгляд его был невидящим: глаза открыты, а смотрит человек куда-то в себя, то ли во вчерашний, то ли в завтрашний свой день глядит. Иногда только он как бы стряхивал с себя забытье, глаза под густыми, низко навешенными бровями оживали, но и тогда смотрели они куда-то поверх полей, поверх лесов, за ту волнистую линию горизонта, которая все приближалась и никак не могла приблизиться.
В дороге знакомишься быстро. Но вот уже и час, и два еду я с Федором, а узнал о нем еще очень немного: был в Сибири, теперь возвращается в родные края. И все.
Тем неожиданнее для меня было, когда мой спутник, продолжая все так же глядеть в вагонное окно, вдруг спросил:
— Ты веришь в судьбу?
Я пожал плечами.
— От судьбы, мол, не уйдешь, и все такое, — как бы в пояснение сказанного добавил Федор и то ли усмехнулся, то ли просто вздохнул. — Смешно, конечно… А все же…
Он помолчал, а потом уже другим, более ровным голосом продолжал:
— Сколько лет я прожил в родном селе, куда сейчас еду! С девчонками хороводился, песни с ними под гармошку пел, провожал. И многие нравились, так нравились, что впору бы жениться. А не женился, однако… Завербовался, уехал в Сибирь. И опять: подумать только, сколь народищу за это время повидал! В Сибири сейчас людно: с кем только не повстречаешься, даже с земляками из соседних сел приходилось сталкиваться. Глянулась Сибирь — просторный край… А вот и оттуда один еду, ни с какой сибирской красавицей моя стежка не перехлестнулась. Еду и всю дорогу про ту думаю, которую и знал-то каких-нибудь два дня… Ну, еще три письма написал… Эх, жаль, не слышно, а ведь сейчас небось там, — Федор кивнул за окно, в пролетающие мимо нас весенние поля, — жаворонки поют…
Черные, набухшие снеговой влагой, а теперь просыхающие поля исходили паром, дальний лес дрожал в струйчатом мареве, словно плыл куда-то. В лужах, в дорожных колеях сверкало обильное, горячее солнце, летевшее через поля и леса вместе с нашим поездом.
Федор приподнялся на месте, сунул руку в грудной карман пиджака и вытащил оттуда небольшую фотографию. На фотографии молодая женщина в платье цветочками, с пушистыми волосами, собранными в большой пучок. Рядом с ней — такая же пушистоволосая девочка лет четырех-пяти.
— Дочка, — пояснил Федор.
Кто-то, должно быть по ошибке, открыл дверь, и солнце на мгновение ворвалось в купе, сверкнуло по стенам, потолку и, снова отгороженное дверью, погасло.
— А ведь мне скоро слазить, — сказал Федор. — Вон, солнце уже на закат пошло, значит, скоро…
И вот станция, где Федору выходить.
Поезд сбавляет ход. Мы выходим в тамбур. Федор весь напрягся, натянулся, рука со спичкой, от которой он прикуривает, мелко дрожит.
— Чудак ты, Федор, — говорю я ему. — Дрожишь весь, словно тебе семнадцать и ты на первое свидание идешь.
— Эх, паря! — глубоко вздыхает Федор. — Еще на какое свидание-то!
Поезд идет все медленнее, останавливается совсем. Маленькая станция, малолюдная, тихая.
Федор впереди меня выпрыгивает на перрон и быстро озирается в одну сторону, в другую. Он торопится увидеть ее, пока перрон еще пуст, пока его не заполнили, не забили вылезающие из вагонов пижамы и халаты. На перроне стоит полная дама с подполковником и грудой чемоданов, мужичок в шапке, старушка, два парня с рюкзаками… Где же она?
Это Федор взглядом спрашивает у меня, и столько тревоги и недоумения в его глазах, что я отвожу свои в сторону. И тогда-то я вижу ее, эту женщину, которую мы ищем. Она идет с девочкой откуда-то со стороны, идет, все ускоряя шаг, прямо на нас. Она не видит, не замечает попадающихся на ее пути пассажиров, она видит только Федора. Одного Федора. И, словно почувствовав ее взгляд, тот резко оборачивается.
Женщина уже совсем близко. Но чем ближе она подходит к Федору, тем тише, труднее становится ее шаг. Еще тише, еще…
— Здравствуй, Федя, — тихо, стараясь скрыть свое волнение, говорит женщина.
— Здравствуй, Вера, — Федор переводит глаза на девочку, нагибается к ней: — Здравствуй, Танюша.
Девочка смущается, робеет и закрывает тылом ладони лицо.
Что же говорить дальше? Они не знают и молчат.
— Я тебя сразу узнала.
— Я тебя тоже.
Вера и похожа и не похожа на ту женщину, которую я видел на фотографии. То же платье цветочками, те же густые пушистые волосы, собранные на затылке в тяжелый узел, маленький нос на широком лице, мягкие полные губы. И все-таки что-то новое, незнакомое проглядывает в этом лице. Может, вот это ровное сияние глубоких ясных глаз, которое конечно же нельзя передать с помощью хоть какого аппарата?
Поезд трогается, и я долго еще гляжу с площадки вагона, как они все трое идут мимо станционных построек и выходят на полевую дорогу. Закатное солнце неохотно гаснет за дальним перелеском, и в его последних лучах четко видны три знакомых силуэта, уходящих все дальше и дальше.
Я не сразу понял, отчего вдруг так защемило сердце, будто ему сразу стало тесно и неприютно в груди. Хорошо, когда тебя кто-то ждет! Меня нигде и никто не ждал. Меня ждали лишь мои дела: в дальнем районе какая-то незнакомая мне женщина (а может, и знакомая — дальний район был моей родиной) выращивала прекрасную конопель — об этом надлежало написать в нашу областную газету очерк…
2
Это, наверное, часто так бывает: пока человек рядом, ты как-то не торопишься узнать о нем то или это. А вот разошелся, разъехался с ним в разные стороны и сразу почувствовал вдруг обострившийся интерес к его жизни, понял, что самое-то важное в нем ты, в общем, так и не узнал.
Что за человек Федор? И кто эта встретившая его женщина с девочкой? Почему он уехал от них, а теперь вот снова вернулся? Никто уже не мог ответить на эти вопросы, и потому, может быть, они так настойчиво, снова и снова лезли в голову. Хотелось знать, как сложится дальнейшая судьба этого хмуроватого, замкнутого человека. Тем более, что с нынешнего дня, вот с этой встречи у поезда, в жизни Федора начиналась новая полоса…
Бывает, возьмешься читать чем-то захватившую тебя с первых же страниц книгу, дойдешь, что называется, до самого интересного места, и как раз на том месте, по какой-то неотложной причине, тебя прервут, а то и вовсе книгу заберут. Немного подосадуешь, а потом начинаешь думать-гадать: как там да что будет дальше с героями книги.
Книгу своей жизни Федор лишь чуть-чуть приоткрыл передо мной, но получилось так, что открыл на самых важных, самых интересных страницах. Хотелось заглянуть в продолжение, хотелось знать, что будет дальше, чем будут заполнены новые страницы.
Но как и что будет дальше — этого пока не знал и сам Федор. Потому, надо думать, он и ехал в таком тревожном напряжении, потому и говорил мало, говорил, не договаривая…
У какого-то французского писателя приходилось читать: как плохо, что мы не знаем, что будет с нами через месяц, через год, через десять лет… Как хорошо, что мы этого не знаем!
Месяца через два, если не больше, уже на переломе лета, опять случилось мне быть почти в тех же местах, где сошел Федор с поезда.
Колеся проселками, я как-то к вечеру попал в один колхоз.
И вот, сидя в правлении этого колхоза и слушая, как председатель разговаривал по телефону с каким-то Федором, а повесив трубку, еще и ругнул его «чертом косоруким» за то, что тот требовал чего-то такого, что заставило председателя и раз и два поскрести лысину, я вспомнил о дорожном знакомстве и спросил, а что это за человек Федор.
— Что за человек? — Председатель опять почесал затылок, потом взял со стола резное деревянное пресс-папье, покрутил его в руках, подумал. — Столяр он. И как работник — дай бог. Это так я его косоруким, между прочим, руки у него золотые… А как человек… — еще подумал, подыскивая нужное слово, — человек, как бы сказать, с чудинкой. Непохожий какой-то. Строгает, строгает, а потом вдруг, ни с того ни с сего возьмет стружину посмолистее и начнет ее на свет разглядывать, нос в нее воткнет, нюхает. И думает о чем-то, будто и он и не он это делает…
«Не мой ли знакомый?» — подумал я. А председатель менаду тем продолжал:
— В больничку нашу, где его жена работает… — тут он на секунду запнулся, — да, теперь, считай, уже жена, недавно расписались. Так вот в больничку для ребятишек, которым там тоже бывать случается, всяких стульчиков, полочек, игрушек понаделал. Да все так здорово. Я говорю, выписывай счет, оплатим, не такой уж бедный колхоз. А он рассмеялся, будто я неумное что сказал. «Чудак, — говорит, — ты, Бородин…» И все. Значит, не он, а я — чудак…
«Нет, пожалуй, это не тот Федор, какого я знаю…»
— А то как-то раз, — председатель, должно быть вспомнив что-то, добродушно усмехнулся, — за дворами дело было, он там рамы у коровника чинил — гляжу, стоит и куда-то в поле смотрит. Да так-то пристально, ну будто дело делает. Подхожу, стал рядом, гляжу — за полями, над лесом радуга горит. Неужто на нее воззрился мужик? На нее! А меня заметил еще и пригласил: гляди-ка, мол, какая красота, будто и он и я эту красоту в первый раз увидели…
Председателя вызвали по какому-то срочному делу, и он заторопился.
— В другой раз доскажу. А то так, если интересно, сам сгуляй в соседнее село, в Чистую Поляну — он там живет, Федор-то. После объединения это вторая бригада колхоза. Как войдешь — не то седьмой, не то восьмой дом на левой руке. Да там спросишь…
Я, конечно, «сгулял» до Чистой Поляны. Было туда каких-нибудь два километра, и через полчаса я уже входил в раскинувшееся на берегу реки зеленое, очень уютное село. Школу на околице окружали высокие тополя; еще какое-то большое белое здание, должно быть больница, тоже все было в зелени; позади домов тянулись густые сады.
Вот и седьмой дом на левой руке.
Я открыл калитку, спросил у сидевшей в глубине двора на крыльце старухи, здесь ли живет столяр Федор. Старуха внимательно посмотрела на меня из-под кустистых сердитых бровей:
— А тебе по какому делу он надобен?
По бровям этим, по другим чертам хмуроватого лица в старухе угадывалась мать Федора, и я, осмелев, подошел поближе. Только как объяснить ей, зачем и почему я пришел? Я сказал, что нужен мне ее сын не по делу, а просто так: нам с ним как-то приходилось встречаться.
— А откуда тебе известно, что я — мать? — все так же строго спросила старая женщина. — Мы-то с тобой первый раз видимся… Да ты присядь. Он, должно, скоро заявится, разве что в больницу за Верой зашел.
Я не очень связно начал объяснять, как и чем Федор похож на мать, про строгость, про хмурость что-то сказал.
— Строгай, говоришь? Сердитай? — Старуха тихонько усмехнулась. — Да ты, видно, парень, или совсем не знаешь Федора, или с кем-то путаешь. Строгай! — еще раз повторила она, нажимая на «а». — Если бы строг! Это только с виду. Стеснительный до края, дите малое, для всех доброе. А строгостью это он только закрывается.
Я уже начал сомневаться: и в самом деле, не померещилось ли мне сходство, тот ли Федор, которого я знаю, живет в этом доме?
— Если хочешь знать, строгости-то ему и не хватает. — Женщина тяжело вздохнула. — И это ладно, баба такая попалась, что доброту его в свою пользу не оборачивает… Ничего не скажу: согласно живут. Правда, чудно как-то, непонятно. Другой раз усядутся вечером здесь, на крыльце, и сидят молчком, ровно не женатые, на реку да друг на дружку глядят. А то в лес как-то пошли, цельный день прошатались, а ни грибов, ни ягод, так, самую малость. И ладно бы лето не грибное…
Старуха недоговорила.
В улице, за домом, послышался смех, детский крик. А вот замелькала за частоколом голубая рубашка, а за ней — чуть пониже — беленькое платьице. Калитка рывком открылась, в нее вбежал Федор — я его узнал сразу же — и, не замечая нас, круто свернул к саду, затаился за кустом сирени. Следом же вбежала Танюшка, тоже юркнула за куст, налетела на Федора и повалила его на траву.
— А-а, попался! — Танюшка торжествующе уселась верхом на Федора. — Смерти или живота?
— Ой, живота! — тяжело дыша то ли от бега, то ли от смеха, взмолился Федор. — Ой, больше не буду…
Первой меня заметила теперь только вошедшая во двор Вера.
— Хватит вам дурачиться-то! — строго-ласково сказала она. — К нам вон гости…
Танюшка перестала тузить Федора, тот приподнялся с травы, поглядел из-за ее плеча на крыльцо, вскочил и быстро пошел — что там пошел! — побежал ко мне. И такой-то радостью весь засветился — ну, родного брата встретил, с которым десять лет не виделся. Перед самым крыльцом — похоже, застеснялся своей радости — пошел потише.
— Ну, это здорово, что ты приехал! — Федор с размаху хлопнул ладонью по моей, крепко стиснул. — Молодец! Ай, какой молодец!.. Это, мама, мой… — Федор чуть не сказал: друг, — мой знакомый товарищ. А ты, Вера, и ты, Танюха, небось помните…
Танюшка спряталась за Федора, а Вера сказала:
— Ну как же, конечно… Да хватит тебе тормошить-то его. Приглашай в дом. Человек с дороги.
— И верно. Пошли.
В доме — чисто, уютно и, если так можно сказать, весело. На спинках стульев цветут подсолнухи; веселой хитроумной резьбой украшены книжная полка, комод. Вот Колобок катится от волка к медведю, вот на возу дров едет Емеля «по щучьему велению, по своему хотению». А вот двое маленьких глядят на большую радугу над лесом… На полке рядом с Пушкиным и Некрасовым — книги о травах, о птицах, об охоте.
Вера занялась ужином, а мы с Федором умылись и на том же крылечке сели покурить. Танюшка не отходила от Федора ни на шаг. Поначалу она дичилась меня, пряталась за Федора, выглядывая то из-за плеча, то из-под руки.
— Да не бойсь, не съест он тебя, — смеялся Федор, зажимая под мышкой Танюшкину голову. — Ну разве что нос или ухо откусит — так новые вырастут…
— Да-а, — с недоверием, но на полном серьезе тянула Танюшка, — вы-ырастут!..
Но вот она по какому-то своему делу убежала в сад, и я, улучив момент, спросил Федора про Веру. В сущности, знал я про нее еще очень мало. Почти ничего.
— Когда в Сибирь завербовался, первый-то раз ее увидел, — Федор сказал это тихо, раздумчиво, словно хотел опять в своих мыслях увидеть Веру в самый первый раз. — Спускаюсь с райисполкомовского крыльца — навстречу женщина. «Вы, говорят, из Чистой Поляны. Нельзя ли с вами доехать?» — «Пожалуйста, говорю, места не жалко». У оградки девочка на чемоданах, дочка. Поехали. Тары-бары. Медицинская сестра. Была замужем, разошлась. Едет работать в нашу больничку. Привез ее в село, а председатель: «Куда-то надо определять гражданку на жительство. Может, к себе возьмешь — все равно уезжаешь, изба пустая». — «Не знаю, говорю, покажется ли ей с матерью — старуха с характером, а так почему же не взять». Словом, поселилась у нас, а на другой день я уехал. Уехал и — хоть бы что. Ни синь пороха. Потом уж только там, в Сибири, нет-нет да и начало думаться-вспоминаться… Еще когда сюда ехали, где-то уже перед Чистой Поляной оглянулся я как-то на свою медсестру, а у нее в глазах слезы. Затревожился: уж не обидел ли, думаю, каким словом? Или горькое что вспомнила? А она улыбнулась тихонечко так: от радости, говорит, это я — землей пахнет, жаворонки поют. Уж сколько лет не видела, не слышала, забывать стала… Так вот интересно: не что другое, а именно это вот «землей пахнет, жаворонки поют» там, в Сибири, мне чаще всего на ум приходило. Будто нет-нет да кто и шепнет на ушко: жаворонки поют… И сразу же и жаворонков тех услышу, и ее увижу: улыбается, а в глазах слезы дрожат. И так-то все ясно, так резко все увижу, что у самого что-то там внутри дрогнет…
Сначала запел тихонько, а потом густо зашумел, забулькотил самовар.
— Стоп! А знаешь что, — вдруг осенило Федора. — Вот что. Не будем ужина дожидаться! Попьем чайку — самовар вон уже готов… Так вот, побалуемся чайком, и все. А ужинать… ты давно рыбацкой ухи не отведывал? По глазам вижу, что давно. Так вот, зальемся-ка мы с тобой на рыбалку с ночевой — нынче суббота — и такую уху сочиним, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Идея Федора мне понравилась, и мы, не теряя времени, сели за самовар.
Танюшка и за столом вилась около Федора: лезла на руки, просила подуть на «кусучий чай», кокалась «носик в носик» яйцом — чье крепче.
— Танька, да оставь ты его хоть на минуту в покое! — вроде бы строго выговаривала дочке Вера. — Дай поесть по-человечески.
— А она мне не мешает, — весело отвечал Федор, и Танюшка жалась к нему еще плотней.
Среди незнакомых людей я обычно чувствую себя стесненно. А в этом доме мне было хорошо, свободно. Радостно было глядеть на эту согласную семью. Всему в доме был задан какой-то очень сердечный, очень чистый и ясный тон.
Лишь одно оставалось для меня загадкой: как и чем полюбилась Федору Вера? Смотрел я на нее и старался смотреть самыми хорошими глазами, а про себя думал: прошел бы мимо и не заметил. И не в том дело, что не красавица Вера, что и нос у нее мелковат и вообще лицо не очень-то приметное. Бывает и у некрасивых людей — то ли в выражении лица, то ли в стати, может быть, даже просто в походке — какая-то своя особинка, или, как еще говорят, изюминка. Такой изюминки у Веры я не находил. Где и в чем она?
Хозяйкой за столом была Вера. Похоже, такая роль невестки чем-то и нравилась матери Федора, а чем-то и нет. По всему видно, старуха считала, что потчевать гостя, то есть меня, надо бы поусерднее, а не просто: «Вам еще стаканчик?» И Танюшку Вера одергивала скорее всего потому, что знала: мать боится, как бы ее сын из-за девочки не остался голодным. И конечно, не по сердцу было старухе, что сидит сын за столом если не гостем, то и не хозяином, как бы хотелось.
На это самое сетовала она, когда мы, после чая, сидели с ней на крыльце, пока Федор готовил снасти и вместе с Танюшкой копал червей.
— Ну, видал, какой он строгай да сердитай? То-то же… Вера — баба хорошая, ничего не скажу. Себя блюдет и девчонку зря не попускает, не балует. Только уж Федор с ней лишку мягок. Воск и воск. Как не мужчина вовсе…
— Барабанщик — от барабана. А громко — от грома? — это спрашивает в углу двора Танюшка у Федора. — Червяки живут в земле, а что они едят?..
Огромное солнце тонуло в заречных далях. На лугу, на садах лежал тихий малиновый отсвет, и все вокруг — и далекие, замирающие поля, и недвижная, будто остекленевшая река, и наш двор с глухим, медленно погружающимся в сумерки садом и невнятным детским лепетом, — все дышало таким безмятежным покоем, такая тихая, некричащая, неброская и оттого еще более впечатляющая красота обнимала со всех сторон, что хотелось думать только о чем-то большом, отрешенном от этой вот пролетевшей и уже безвозвратно канувшей в вечность минуты. Все мелкое, повседневное теряло свое значение и свой смысл. Думалось, что кроме твоей собственной жизни, с ее радостями и горестями, есть другая, большая, всеобъемлющая жизнь и та жизнь — вечна, та жизнь была, есть и всегда будет. Она была, когда ты еще на свет не появлялся, она не изменит своего вечного хода и когда тебя уже не будет на земле. От этих мыслей было немножко грустно, но в них было и что-то утешающее, примиряющее тебя с мудрым порядком постоянно обновляющейся и потому вечно молодой жизни.
Подошел Федор с банкой червей, вымыл в кадке руки.
— Готово!
Мы облачились в ватники, взяли снасти, ведерко с картошкой для ухи и пошли.
— По дороге не забыть луку с укропчиком сорвать, — сам себе наказал Федор.
3
Огородами мы спустились к реке и пошли ее берегом. Легкий туманец стлался над водой, то исчезая, то откуда-то, должно быть с лугов, наплывая вновь. В заводях плескала рыба, и после каждого всплеска долго и далеко бежали по речной глади круги.
Одну такую укромную, наглухо укрытую прибрежным ивняком заводь мы и облюбовали.
Федор был искусный рыбак. Я еще только-только успел разобрать лесу и закинуть свою удочку, а он уже тащил большого красноперого окуня. Следом же за первым повис над водой, отчаянно забил хвостом, затрепыхался второй.
Часа не прошло, а у нас уже потрескивал костер и над ним висело распространяющее вокруг себя ароматное благоухание ведерко.
Вечерняя заря потухла. Небо в том месте, где село солнце, стало совсем темным. Только высоко-высоко, почти в зените, еще горели отблески невидимого, светившего где-то там, за краем земли, солнца, и река тоже слабо, сумеречно теплилась этим повторно отраженным с неба светом.
— Хорошо! — откидываясь на траву, проговорил Федор. — Люблю ночью в поле!
В траве вокруг нас происходило еле внятное шевеление, позванивали кузнечики, в реке время от времени глухо плескала рыба, но тишина ночи, растворяя в себе эти звуки, становилась все полнее, весомее, ощутимее. Тишина слушалась, как музыка.
— Помню, как-то в Сибири, в Саянах, вот так же у реки пришлось ночевать. И что-то я возился долго, никак не мог угнездиться. А старик хакас мне: «Не мешай!» «Что не мешай?» — не понял я. «Не мешай слушать». Уж не зверя ли какого, думаю, зачуял старик. «Не мешай ночь слушать…» Вроде бы смешно. А подумаешь — мудро…
Бывает, что, чем больше узнаешь человека, тем меньше он становится интересен тебе. С Федором же мне было интересно и разговаривать, и даже просто вот так лежать на траве и слушать ночь. Правда, я еще не много знал о нем. Вот про ту же Сибирь. Как он туда попал?
— Как попал? — Федор задумался.
Мы уже поели ухи и теперь курили. Потрескивал при затяжках самосад в цигарках, потрескивал костер.
— Видишь ли, любопытный я до всего, много мне знать хочется. И вот жил, жил в селе, а все думка была: как оно там, за селом, да за полем, да за лесом, да еще подальше, за Уральским хребтом? Интересно взглянуть на землю. Ну, это одно. А второе то, что каждый человек счастья в жизни хочет найти. А в своем селе я вроде бы все закоулки обшарил, а жар-птицу так и не повстречал.
Федор помолчал немного.
— И вот поехал я в Сибирь. Определился на одну стройку, с нее переехал на другую. И будто за чем гонюсь. Думалось-то — за счастьем своим, за жар-птицей. А только догнать никак не могу. На Ангаре остановился. Дай, думаю, немного на одном месте побуду, на самого себя оглянусь… Работу выбираю потяжелей, поопасней, не в какой-нибудь столярной мастерской, а опалубщиком, на морозе да на ветру. Вот и пальцы тогда поморозил, — Федор пошевелил искривленными пальцами левой руки. — Ну да не об этом речь… Думаю я, думаю о себе, о своей жизни и начинаю понимать, что хоть и мерещится нам жар-птица обязательно в дальней дали, за горами да за лесами, а только это и так и не так. Чем больше я ездил, чем больше всякой красоты видел, тем чаще и чаще приходили мне на память родные, вот эти наши, в общем-то не такие уж и ах красивые, места. И вот эти поля, и вот эта речка. А ведь я видел Енисей, Ангару — что еще может быть красивей! И вот еще какая штука. Не побывай я в Сибири — ни той бы красоты не знал, ни этой, выходит, как следует не оценил. И как бы у нас с Верой вышло — тоже неизвестно…
Костер начал гаснуть. Я подбросил сучьев, они зашипели, обволоклись дымом, а потом разом вспыхнули. Заплясало, заструилось, затрепетало веселое, живое, все время разное, то растущее, то падающее и снова взвивающееся пламя.
Федор глядел на костер, и по лицу его блуждала едва заветная, как бы затаенная улыбка. Я вспомнил, как он обрадовался, когда увидел меня, и подумал, что это, наверное оттого, что в первый раз, в вагоне, мы виделись в смутное для него время. Теперь ему захотелось, чтобы и я понял его тогдашнего и увидел таким, каков он был сейчас. Потому он так и словоохотлив нынче.
— Говорят: суженая. Значит, вроде бы предназначенная судьбой. А что такое судьба? Помнишь, я тебя спрашивал? Это я вот в каком смысле. Никакой судьбы нет и все такое. Человек проникает в тайны бытия и все прочее. Ладно. Хорошо. Согласен. А все ж таки, как это объяснить, что вон где я только не бывал, какие тыщи людей не видал, а почему-то к Вере вернулся. Что я, лучше, красивей ее женщин не видал? Видал. Так в чем тут дело? Ну, вот ты грамотный, учений — объясни!
Что я мог объяснить Федору?
Мне вспомнилась курносая семнадцатилетняя девчонка Надя. Девчонка как девчонка, как многие другие. Но однажды она вдруг стала для меня не «как другие», а особенной, Стала вдруг всех красивей и всех умней. Я пытался сейчас вспомнить, за что я полюбил Надю, и не мог. И не потому, что с тех пор уже много лет миновало. Я просто не задумывался тогда над этим «за что». И нынче зря я, пожалуй, отыскивал что-то такое в Вере, чем бы она, по моему разумению, могла понравиться Федору… Я вспомнил: за столом Вера как-то подняла на Федора глаза и — словно осветилось, засияло непонятным светом все ее лицо, и я забыл в ту минуту, велик или мал у нее нос, красив или не красив рот. Конечно, одного такого взгляда мало, чтобы полюбить человека. Это может быть разве лишь искоркой, от которой загорается костер. А может, той искоркою было «жаворонки поют», сказанное Верой так, что Федор и сам словно бы впервые в жизни услыхал тех жаворонков… Искорки могут быть разные. Остальное же зависит, наверное, уже от самого любящего, от того, насколько сильно его чувство, насколько богат он сердцем. Если богат — костер будет гореть и ярко и долго.
Надю — теперь уже Надежду — я видел два месяца назад. По случайному совпадению она именно и оказалась той женщиной, о которой мне надо было писать очерк. Надежда вышла замуж в соседнее село, и у нее теперь другая фамилия. Живет хорошо, муж любит ее. Любит по-настоящему. А ведь она осталась все той же, какой я ее знавал когда-то, разве что постарше стала. Так почему же, почему те искорки у меня погасли, а у другого человека разгорелись ясным огнем?!
Сотни, тысячи книг написано о том, как возникает «вдруг» между юношей и девушкой, между мужчиной и женщиной то таинственное чувство, которое все мы называем любовью. Тысячи книг! Но и до сих никто так и не знает, как, все же, и почему, оно возникает. Плохо это? Да как сказать. Может, и плохо, а может, хорошо. Скорее все-таки, хорошо. Как только мы это узнаем и точно сформулируем, как только сия великая тайна перестанет быть тайной, — сразу поскучнеет, померкнет весь окружающий человека мир…
— Нет, много еще тайн на свете, — после паузы снова заговорил Федор. — Возьми Танюшку — тоже ведь тайна. Она лепечет-лепечет что-то, и не такое уж важное и интересное, да что там важное — обыкновенные пустяки, вздор, — а я слушаю, и у меня сердце радуется. И я готов слушать этот вздор, всякие там «отчего» да «почему» хоть целый день с утра до вечера. А почему так — опять не объяснишь…
Все меньше звуков в ночи, все тише они. И поля молчат, и село уснуло, и все вокруг заглохло. Ночь как бы постепенно наливалась тишиной и вот уже налилась дополна, до самых краев.
— А на природу, на все, что вокруг нас, глаз кинь, — продолжал Федор, — сколько тут всяких тайн, сколько чудесного и удивительного! Вот только с годами мы перестаем замечать эти чудеса… Танюшка как-то схватила меня за руку, потащила в сад, в уголок: «Гляди-ка, какое чудо!» Я не сразу понял, о чем это она. «Да вот же», — и показывает на цветок. И не какой-то там редкостный, необыкновенный, нет — скромный цветок, мимо которых мы, взрослые, проходим, что называется, чувств никаких не изведав: подумаешь, какая-то там наперстянка — и не такое видывали! И считаем при этом, что дети — они еще маленькие, глупые, а мы — мы умные. Нам все известно; мы знаем, что вот это пестик, а это тычинка — и чему же тут, собственно, удивляться?.. Вот мы с тобой закатом любовались. А скажи другому — так он тебя еще и на смех подымет: что я, закат не видал? А ведь сколько их ни смотри, они же все разные, и каждый раз ты, считай, видишь их в первый раз… И не в том дело, что обязательно ахнуть надо: ах как красиво! Не глазами — сердцем надо удивляться…
Федор опять помолчал.
— Ты мне тогда, помнишь, про первое свидание сказал? Когда в тамбуре с тобой стояли. Так вот я уже не знаю, как тут выразиться, а только теперь ко мне словно бы опять детство вернулось. Опять я каждое утро словно бы на первое свидание со всем, что вокруг меня, выхожу. Все-то мне внове, и все-то мне приметно — и облачко в небе, и малая травинка на земле — словно бы зрения у меня прибавилось. И жить от этого интересно!..
Костер наш потух совсем. Синий сумрак сомкнулся над землей и как бы отделил ее от неба. Теперь стало видно, как там, вверху, медленно делалось что-то, происходили какие-то неуловимые для глаза изменения. Слабый, едва различимый, заревой свет, переместившийся под Большую Медведицу и погасший там, теперь снова возник, только восточнее, а весь остальной небосвод еще глубже потемнел, и звезды разгорались все ярче, будто росли, ширились, приближались к земле.
Все кругом лежало в полном безмолвии и неподвижности. Мы были одни в этом огромном подзвездном мире. И я подумал о том далеком пращуре, о том человеке, который первым пришел сюда, на эти тогда еще дикие, покрытые сплошным непроходимым и нехоженым лесом берега реки, облюбовал и очистил поляну и засеял ее хлебными зернами. А в реке он ставил переметы или сплетенные вот из такого же лозняка вентери. И в том, что окружало того человека, было много удивительного и таинственного. Вот только что светило солнце, а вот уже и нет солнца, его закрыли тучи, а потом в темных тучах засверкали белые змеи, и небо раскололось со страшным, ужасающим грохотом, словно обвалилось на землю. Полились нескончаемые потоки воды. Но вот небо снова очистилось, и в нем, над далекой речной излучиной, встала чудесная цветная дуга. Откуда взяться в пустом небе такой необыкновенной дуге, кто воздвигнул ее там? Кто гремит и сверкает в небе? Кто по ночам кричит страшным голосом в лесу?.. Пращур по-своему пытался объяснить себе все эти чудеса, но они для него так и оставались чудесами… Мы знаем и почему гремит гром, и откуда возникает вдруг в небе радуга. Мы знаем все. И это, конечно, хорошо. Плохо, что, зная все это — ты прав, Федор! — мы перестаем дивиться тому чудесному и удивительному, чем полон мир.
Мы решили не ложиться: боялись проспать самый клев — утреннюю зорьку. Да теперь, наверное, и недолго было до нее.
Заметно посвежело. Легкий туман лег на реку, на обступивший ее ивняк.
Но вот еще ближе к востоку передвинулся далекий, исходящий из-за края земли свет, туман слегка порозовел и вроде бы стал разрежаться. На наших глазах начало совершаться великое таинство. Из тумана, из ночи, из небытия постепенно, незаметно проступили кусты, обозначилась река, тот берег и еще что-то неясное за ним. И все пока еще слабо различимо, расплывчато, неопределенно, как бы готовое принять и такую и такую форму, готовое окраситься и в тот и в другой цвет. Будто мир вокруг нас сотворялся заново, в самый первый раз. Сотворялся вот сейчас, на наших глазах, и нам предстояла первая от века встреча, первое свидание с ним.
1957—1962
ПОВЕСТИ
ТРУДНОЕ ЛЕТО
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
За окном густо валит снег. Крупные мохнатые хлопья плавно опускаются на землю, будто кисейная занавесь непрерывно плывет сверху вниз. Редкие деревья по ту сторону улицы еле проступают сквозь снежную кисею и кажутся ненастоящими, а фигуры прохожих, бесформенными пятнами возникающие и тут же бесследно пропадающие, еще более усиливают это впечатление.
Ольга смотрит на падающий снег, и мысли у нее текут так же медленно, не прерываясь, но и не задерживаясь подолгу на чем-нибудь одном. И все, над чем она думает, остается смутным, неясным, будто просматривается сквозь вот эту снежную завесу.
Снег все гуще, все непроглядней. Такой чуть влажный, мягкий снег обычно пахнет спелым арбузом, и сладко вдыхать этот запах — от него слегка кружится голова и распирает грудь. Хорошо ступать по такому снегу, ощущать его на лице, вслушиваться в тот тихий шорох, с каким он падает на землю. Но сквозь двойные рамы с улицы не проникает ни запахов, ни звуков, и Ольга, постояв у окна, отходит и снова садится к столу.
Часы за стеной отсчитали двенадцать медленных ударов. Почти следом же, как и всегда, раздался глухой деревянный стук — секретарша Зинаида Саввишна накрыла футляром свою машинку: перерыв на обед.
Значит, прошло уже четыре часа, как Ольга села за свои бумаги, а работа не подвинулась ни на шаг.
День сегодня, что ли, такой незадачливый — с самого утра ничто в руки не идет. Да еще и снег этот, уж лучше бы перестал! А то, хочешь не хочешь, вспоминается другой такой же снежный непроглядный день, и путаются мысли, уводят далеко в сторону от того, над чем только что думала. В тот день, в такой же вот густой снегопад, пришло известие о Василии… Да, тогда был такой же тихий и обильный снегопад. И хоть прошло с тех пор… сейчас пятьдесят третий… да, прошло уже ни много ни мало шесть лет, а помнится тот день, как вчерашний.
Василий очень любил теплые безветренные дни со снегом. Это он уверял, что молодой снег пахнет спелым арбузом, и любил подставлять ладонь под летящие снежинки — крупные, мохнатые… Они осторожно ложились на его широкую ладонь и медленно, нехотя таяли…
Ольга встряхивает головой и резко выпрямляется.
«Нет, об этом сейчас не надо, сейчас о деле… Попробуем разобраться еще раз».
Она расправляет загнувшиеся углы плана Березовской оросительной системы, пододвигает к себе листки с цифрами и — уже в который раз! — начинает перечитывать их.
Водоем на реке Березовке может орошать до двух тысяч гектаров — это первое, и это ясно. Однако в новоберезовском колхозе орошаемой площади около пятисот гектаров, в староберезовском, находящемся ниже по течению реки, — только сто тридцать, в ключевском, который еще ниже, еще дальше от плотины, — и того меньше: шестьдесят. Это уже не совсем ясно. Почему не прибавляются поливные площади, почему вода мертвым капиталом качается в запруде? Уж не потому ли, что урожай на поливных полях новоберезовского колхоза — вот они таблицы! — год от года становится ниже и ниже: здесь он сравнялся с урожаем на богарных, неполивных землях, а здесь опустился даже еще ниже… Впрочем, дело не в таблицах: Ольга сама родилась в Ключевском, о плохих урожаях на поливных полях знала и раньше, безо всяких таблиц. Но почему, почему это так? И что же тогда будет с ее планом, который она составляла так долго и тщательно?
В досаде Ольга подняла руки с чертежа, и его края медленно сошлись в трубочку, захватив с собой и листки с цифрами.
С левой стороны стола открылась лежавшая под чертежом старенькая, с оборванными углами, топографическая карта района. Карта эта Ольге определенно не нравилась — неживая какая-то: ни сел, ни деревень на ней нет. На целый район лишь один небольшой лесок. Реки текут так, словно хотят поскорее убежать из района. Да и маловато рек, все ручейки какие-то…
Ольга взяла с другой стороны стола свою новую карту и положила ее поверх старой.
Вот каким должен быть район!
Новая карта-план была нарисована тушью и, в нарушение всех правил, раскрашена яркими акварельными красками. Реки на ней были обозначены жирнее, на одной из них выросла новая плотина.
Наверное, вот таким видел в своих мечтах район и Василий.
Василий любил говорить о будущем и как-то очень ясно, почти зримо представлял его. Он даже слегка прищуривал глаза во время таких разговоров, будто хотел повнимательнее всмотреться в то, что перед ним открывалось. Черные смородиновые глаза его светлели, как светлеют они у Юрки, когда тот смеется… Да, глаза у Юрки вылитые отцовские…
Еще в техникуме начала думать Ольга над своим планом. И вдруг все зашло в какой-то тупик.
На выпускном вечере Ольге и ее товарищам было сказано в напутствие немало хороших, теплых слов. Говорилось тогда и о трудностях, с которыми новые агрономы-мелиораторы могут встретиться в работе, однако Ольге и в голову не приходило, что трудности могут быть вот такого именно рода.
«Агроному работать в родном районе и легко и приятно, — сказал Ольге сосед по вагонному купе, когда она возвращалась домой. — Тут тебе и обстановка ясная, и люди знакомые…»
Ольга усмехнулась проницательности своего дорожного спутника и, резко отодвинув лежавшие перед ней карты, взялась за телефонную трубку.
Новая Березовка, узнав, откуда звонят, ответила, что у них «вышел со строя телефон» и они «абсолютно ничего не слышат». Ольга несколько растерялась и на всякий случай переспросила:
— Так вы меня не слышите?
— Абсолютно! — подтвердила довольно чистым голосом Новая Березовка.
— Странно. А я вас так даже очень хорошо слышу.
— Так уж. Нас слышат, а мы нет. Все хорошо, хорошо, а потом вдруг… мембрана, что ли, западает.
Некоторое время в трубке переговаривались два мужских голоса, а потом один из них все так же чисто и ясно сказал:
— Вы передайте товарищу Васюнину, пусть он не сомневается — подготовку к севу мы уже начали. К нужному сроку у нас будет не хуже, чем у людей. Наш «Вперед» сзади всех не останется. И сводку, насчет которой вы звоните, завтра же представим по полной форме…
Не дослушав, Ольга повесила трубку: совсем не сводка ей была нужна! Она встала, прошлась по комнате и остановилась перед картиной, висевшей в простенке. Это была небольшая репродукция, оправленная узенькой рамкой. Случайно наткнувшись на нее в антикварном магазине еще во время учебы, Ольга привезла ее с собой и повесила здесь, в своей рабочей комнате.
На картине был изображен старик, погруженный в глубокое раздумье. Он сидел на каменных ступенях, уронив в ладони узловатых натруженных рук седую голову. Можно подумать, что старик спит — так неподвижен он, в такое глубокое раздумье погружен. Это мираб, человек, распределяющий воду. Солнце палит почти отвесно, ничто не дает тени. При таком солнце земля не может родить без воды. Вода — источник жизни и земного богатства. Каждый хочет получить ее как можно больше, и это очень трудно — дать всем поровну и никого не обидеть. Очень трудно!
Да, какое это благодеяние — вода! Мудрым должен быть человек, которому она доверена. Земля изнывает от жары, ждет воды, и вот она потекла по арыкам, все оживляя вокруг… Однако вместо среднеазиатских полей Ольге представились поля Новой Березовки — тоже иссушенные, ждущие воды. Но только вода для них не благодеяние…
В дверь постучали.
Слегка пригнувшись под притолокой, вошел высокий человек, одетый по-городскому легко — в кожаный реглан, кепку и ботинки. Высота двери была достаточной, чтобы пройти в нее, не нагибаясь, и, видно, человек сделал это просто по привычке.
Ольга узнала в пришедшем дорожного знакомого Илью Гаранина. Как выяснилось еще в вагоне, он оказался из числа тех, кого теперь направляли работать в деревню.
Поздоровавшись еще от порога, Гаранин, заметно и как бы с удовольствием округляя «о», объявил, коротко улыбнувшись:
— Безо всякого дела. На правах старого знакомого. Если некогда, зайду в другой раз.
Ольга предложила стул гостю, а пока придумывала, с чего начать разговор, Гаранин сказал, как бы продолжая старый:
— Знакомлюсь с обстановкой. Был у Васюнина… Ничего, если закурю?
Он расстегнул реглан, достал трубку.
— Говорят, Васюнин раньше райсельхозом ведал? То-то он так сведущ во всем. И вообще впечатление производит солидное. Так что работать с таким начальством… Что? Зря завидую?
Прямой вопрос Гаранина и особенно его открытый пристальный взгляд, с которым Ольга на секунду встретилась, несколько смутили ее.
— Как вам сказать…
— Да нет, это я так, к слову, — улыбнулся Гаранин и принялся раскуривать трубку.
В движениях Гаранина была та медлительность, которая бывает присуща не столь людям неповоротливым, флегматичным, сколь тем, кто убежденно считает всякую суетливость не только никчемной, но и вредной для дела. Черты лица Гаранина были твердыми, хотя и не резкими, правильными, но не холодными. Из-под прямых и по-девичьи тонких бровей смотрели очень спокойные карие, с желтинкой около зрачков, глаза. Они глядели на все так внимательно, точно старались прощупать предмет, проникнуть в его сущность.
— Что за карта? Разрешите?
Ольга не успела ничего ответить, как старенькая карта района очутилась в руках Гаранина. «Хорошо еще, что не новая», — облегченно подумала она и переложила на противоположный край стола трубку ватмана со своим планом.
— Бедновато, — сказал Гаранин, рассматривая карту. — Я говорю, бедновато отпущено природных благ на район. Степь да степь… Ну, а как работается? Небось уже освоились? А я, представьте, все еще нетвердо по здешней земле хожу, то и дело дорогу ощупываю… А главное — не знаю, с чего начать, с какой стороны приступиться.
Ольге понравилась откровенность гостя. Но сама она, боясь лишних расспросов, ответила уклончиво: осваивается, привыкает.
— А сегодня в райкоме, — продолжал Гаранин, — такой разговор вышел. Тут корреспондент из областной газеты приехал, очерк о колхозной парторганизации писать. И райком… как вы думаете, на кого указал райком?
Ольга промолчала.
— На Новую Березовку. Да, да! Я говорю, как же так: партийная организация хорошая, а колхоз слабый, отстающий? Непонятно, говорю. «Войдешь в курс дела, — отвечают, — поймешь: колхоз был отстающим, а сейчас на поправку пошел». И вообще, мол, так прямолинейно судить нельзя… Вот тут и разберись!
Гаранин начал расспрашивать: давно ли упал новоберезовский колхоз, какие урожаи снимает, какой уклон имеет хозяйство.
Так проговорили они около часа, а потом Гаранин вспомнил, что ему сегодня надо побывать еще в ремонтных мастерских, и начал прощаться.
Ольга сказала, что ей тоже надо в главную эмтеэсовскую контору и, значит, — по пути.
Контора станции, раньше теснившаяся в небольшом доме на краю села, теперь занимала два помещения. Главный агроном Васюнин с Ольгой и зоотехник с плановиком размещались в здании бывшего райсельхоза.
Снег перестал. Небо было еще мглистым, но в воздухе — ни единой снежинки. Белизна только что выпавшего снега была почти сплошной, больно смотреть. И необыкновенная тишина стояла кругом, точно снег засыпал, заглушил все звуки.
Ольга сунула руки в карманы своей коротенькой шубейки и так глубоко вдохнула чистый воздух, что ощутила покалывание в груди. И откуда только она взяла, что сегодня плохой день?!
На перекрестке они разошлись. Ольга свернула к конторе, Гаранин пошел дальше.
2
Илья Гаранин шел в мастерские, чтобы узнать, как подвигается зимний ремонт тракторов.
Улицы после снегопада — белые, чистые, точно прибранные к какому-то празднику. Ни одной резкой линии, все смягчено, приглушено снегом, все стало ниже ростом: дома, деревья, заборы.
Почти бесшумно проехала подвода, в обгон ее, оставляя на нетронутом снегу четкий, до последнего рубчика видный след, промчалась автомашина. В конце улицы к колодцу шли с ведрами две женщины. И все это: машина, лошадь, люди — так отчетливо выделялось на белом, что казалось темнее, резче, чем обычно.
Улица кончилась. Дальше дорога шла в объезд двух глубоких оврагов, за которыми и находились ремонтные мастерские.
Илья свернул на тропинку, ведущую напрямик. Собственно, тропинки никакой не было, она лишь угадывалась под слоем пухлого снега и как бы заново была прочерчена следом лыж.
По склонам оврагов катались ребятишки. В одном месте крутой овражный склон был пересечен впадиной. Лыжи, с маху попадая в нее, а затем тут же выскальзывая, взвивались в воздух, как с трамплина, и уж потом только гулко падали на дно оврага. Ребятишки повзрослев задорно ухали, попадая в яму и вылетая из нее; те, что поменьше, взвизгивали от страха и восторга. Неудачники зарывались носом в мягкий снег и беспощадно освистывались.
Не каждый осмеливался на такой полет. По сторонам главной лыжни жались, нацеливаясь вот-вот ринуться вниз и никак не решаясь, несколько малышей. Внимание Ильи привлек один — большеглазый, в шапке с торчащими вверх наушниками. Парнишка делал отчаянное лицо, набирал полную грудь воздуха, начинал усиленно двигать лыжами — еще секунда, и полетит стрелой, засвистит ветер в ушах! Но именно в эту последнюю секунду мужество покидало его.
— Что, боязно? — подойдя к пареньку, спросил Илья и серьезно посоветовал: — А ты не жмурься — и весь страх пройдет. Да и бояться тут нечего — разве это гора?!
После такого внушения малыш, больше не раздумывая, тронул лыжи, поехал и… тут же затормозил.
— Не так. Вот как надо! — Илья начал показывать, но мальчуган, видимо, понял его по-своему и протянул лыжи.
Илья растерялся: не кататься же, в самом деле, с горы вместе с этой сопливой детворой! И в то же время его так подмывало стать на лыжи, что он не утерпел.
Парнишка был в валенках, и ремни оказались Илье в самую пору. Чтобы прыжок получился больше, он не просто тронулся с места, а взял некоторый разгон.
Десятки глаз, удивленных, сочувствующих, насмешливых, устремились на Илью. В овраге стало тихо.
— Х-ха! — как один человек, выдохнули ребята, когда лыжи, пролетев несколько метров по воздуху, коснулись дна оврага.
Во время прыжка у Ильи слетела фуражка. За ней кинулись сразу семеро и чуть не изорвали, оспаривая честь поднести ее хозяину самолично. Затем наперебой было предложено семь пар лыж, а те, на которых Илья сделал прыжок, осматривали, как осматривают новобранцы побывавшее в славном бою оружие.
Владелец лыж, польщенный всеобщим вниманием, видимо, посчитал невозможным всякие дальнейшие колебания. Сдержанно, по-мужски кашлянув для храбрости, он ринулся вниз. Кажется, он все-таки зажмурился.
Мальчишка благополучно достиг впадины и вылетел из нее на воздух, затем… затем раздался сухой треск и взметнулось облако снега. Когда снег осел, все увидели, как смельчак, глотая слезы, пытается составить переломившуюся лыжу.
На душе у Ильи сразу стало нехорошо: дернул же черт ввязаться не в свое дело!
— Не плачь. Не надо, — хмуро проговорил он, не зная, что делать, как помочь парнишке.
— Да-а, не плачь, — протянул мальчик, — а что я маме скажу-у? Она мне, когда покупала…
— Подожди. А где она тебе их купила? — сам не зная, зачем ему это, спросил Илья. Скорее всего, чтобы не слышать жалобного хныканья парнишки.
— В магазине, на Ленинской.
— И давно?
— На той неделе, — не понимая, зачем нужны все эти подробности, отвечал мальчик, постепенно утихая.
— А как тебя зовут? — только теперь догадался спросить Илья.
— Юрой. А вас?
— Юрой? Хорошо. Так вот, Юра, забирай палки и все остальное и пойдем со мной… А меня зовут Ильей.
— Дядя Илья?
— Ну да, выходит, что так.
К счастью, лыжи в магазине еще были, и Илья купил Юре точно такие же, какие тот поломал.
…На этот раз в мастерские Илья пошел по дороге, в обход оврагов. Этот путь оказался более коротким.
3
Проснулся Михаил Брагин поздно.
Пробившись сквозь льдистые окна, неясный свет зимнего дня растекся по комнате. Только углы оставались по-утреннему сумеречными. Из висевшего над головой репродуктора лилась маршевая музыка.
Шла уже вторая неделя отпуска, а Михаил все еще не мог привыкнуть к своему новому положению совершенно свободного, бездельного человека. Разве что разучился рано вставать. Да и то делал это не без умысла: не знал, куда девать время, чем занять себя. А встанешь попозже — глядишь, и день получается покороче.
— Миша, проснулся? — негромко спросила мать, хлопотавшая у печки, за перегородкой. — Иди завтракать.
Михаил, уже не в первый раз, подивился, как это мать всегда безошибочно угадывает, когда он просыпается, и начал одеваться.
Вода в умывальнике была обжигающе холодной, и от нее по рукам, по лицу побежал приятный колючий озноб.
Причесываясь, Михаил остановился перед стареньким, помутневшим от времени зеркалом. Оттуда на него глянули серые хмуроватые глаза из-под надвинутых, козырьком бровей. Светлые, с рыжеватинкой волосы выскальзывали из-под расчески и, снова рассыпаясь, свешивались на широкий, с двумя морщинами лоб. На крупных твердых губах виднелись следы зубного порошка.
Мать собрала завтракать.
— Ну вот, слава богу, ты и поправляться начал, посвежел хоть немножко, — говорила она за столом. — Вот что оно значит домашняя-то спокойная жизнь, без суеты…
А Михаил слушал мать и думал: да, жизнь хорошая, а вот что я сейчас делать буду, куда время до вечера девать — не знаю.
Поднявшись из-за стола, он закурил, некоторое время послонялся по кухне, поиграл с котом и вернулся к себе за переборку.
«Чем бы все-таки заняться?»
Подойдя к этажерке, Михаил открыл нижний ящик. В ящике, среди других вещей, он нашел небольшую пачку писем, перевязанную ниткой. Это были его фронтовые письма, квадратные, треугольные, в конвертах и без конвертов. Бо́льшая часть написана карандашом, криво, наспех. Вместе с письмами лежали вырезки из довоенных газет. Вот на одной из них он снят на крыле своего трактора. «Сниматься за рулем банально, — сказал тогда газетный репортер. — И улыбаться не надо — это тоже трафарет… Просто сиди на крыле и всем своим видом утверждай, что ты полновластный хозяин этой машины, что она послушна в твоих руках, как игрушка». И вот он сидит на крыле и «утверждает» то, что велел репортер, а по сути дела, сощурив глаза от солнца, смотрит на носок правого сапога.
Ниже ноги цифра «13» — номер машины. Под снимком подпись: «Лучший тракторист Ставровской МТС, систематически перевыполняющий…» и так далее. Из-за другого крыла машины видна голова сменщика Алимова. Его туда поставил фотограф для того, чтобы «создать деловую обстановку», — Алимов для вида копается в отстойнике, но в то же время, чтобы «не отвлекать и не дробить внимания», фотограф поставил Алимова спиной, и на снимке видна только его шея и наклоненная голова. А здесь, около плуга, вспомнил Брагин, «для фона» стояло еще двое ребят: один мерил хорошо известную ему глубину борозды, другой, сидя на корточках, с застывшим выражением глубокого размышления на лице смотрел в борозду. «Перенимают опыт работы» — так тогда формулировал их задачу бойкий репортер, хотя ребята на снимке и не получились: что-то не рассчитал фотограф, и они остались за рамками объектива, заснята только половина плуга.
…Давненько все это было! Алимов сейчас реммастерской в МТС заведует. А поработать с ним больше не довелось…
«Если хочешь пожить еще на этом свете, с работой не торопись, дай рубцам зарасти, — вспомнились наставления госпитального доктора. — И если потом и пойдешь, работу выбирай легкую, сидячую, чтобы поменьше движения, побольше спокойствия. Всякая другая тебе противопоказана».
Выбирай! Будто это так просто: захотел — стал скрипачом, не понравилось — стал счетоводом. Будто человеку все равно, где работать. Чудаки эти доктора!..
С тяжелым осколочным ранением в бок и ногу Михаил провалялся по госпиталям больше года. Вернувшись домой, некоторое время долечивался в районной больнице, а потом, по совету докторов, начал подыскивать подходящую работу. Это оказалось очень трудным делом. Куда хотелось, не позволяло здоровье; где было можно, работа не приходилась по душе. Перебрав три или четыре места, Михаил в конце концов определился в контору «Заготзерно»: и ходить близко, и работа не тяжелая. С одной стороны, выбор оказался удачным — здоровье Михаила стало намного лучше, крепче. С другой — уж больно тихое это было учреждение, только месяц-два в году, когда поспевали хлеба, там и ощущалась настоящая жизнь.
Михаил уже стал подумывать о том, чтобы вернуться к старой профессии, однако отпускать его не торопились. Решения сентябрьского, «деревенского» Пленума пришлись как нельзя кстати. Если уж из городов сюда людей посылают, пусть попробуют теперь задержать его в конторе!
Михаил аккуратно сложил газетные вырезки в ящик, оделся. «Схожу-ка, старых друзей проведаю…»
На улице было тепло, мягко: только что выпавший снег смягчил и воздух и все кругом. Дышалось легко, полной грудью.
Когда Михаил вошел в мастерские, его после устоявшейся домашней тишины оглушило железным шумом и грохотом. Монотонно, как большие шмели, гудели токарные и шлифовальные станки; то пронзительно и сердито, то густо и добродушно шуршал наждак; гремели тали, на которых, раскачиваясь, плыл из одного конца мастерской в другой мотор гусеничного трактора, и, как бы пересыпая весь этот непрерывный шум, раздавались в разных углах мастерской то звонкие, то глухие удары молотков и гулкие всплески трансмиссий.
Потом он начал различать человеческие голоса. Люди кричали, чтобы услышать друг друга.
— Шестерню, шестерню сначала совмести…
— Ставлю в крайнее верхнее…
— Шплинтуй!
— Эй, Горланов, хватит курить, снимай баки…
Воздух в мастерской был круто настоян на смешанных, хорошо знакомых Михаилу запахах керосина, бензина и отработанного масла… Даже казалось, что человеческие голоса тонут не столько в шуме станков, сколько в этих постоянных густых запахах.
— Миша? Привет! — услышал Брагин над самым ухом.
В комбинезоне поверх телогрейки, с масляными пятнами на щеке и подбородке, подле него вырос Сергей Алимов.
Алимов крепко стиснул его руку, оставив четкий маслянистый отпечаток большого пальца на тыльной стороне ладони.
Человек пять или шесть окружили Михаила, начали изо всех сил трясти руку, так что под конец она — Брагин это отметил с удовольствием — почти не стала отличаться от рук товарищей.
Посыпались вопросы: как здоровье, почему долго не заходил, начал забывать, как вместе «небо коптили», или еще помнит?
В груди постепенно разливалась радостная, размягчающая теплота. Дымная и шумная мастерская казалась по-особенному уютной, все тут было близкое, свое. Хотелось долго стоять около токарного станка и смотреть, как он снимает одну спиральную нитку за другой, хотелось потрогать разобранные масляно поблескивавшие детали машин… Где-то здесь стоит и его трактор, на котором он в свое время проработал не один сезон.
Алимов пригласил Михаила зайти в его «кабинет», как он называл фанерную комнатку в углу мастерской, покурить, поговорить.
Проходя мимо полуразобранного колесного трактора, Михаил незаметно, как бы между прочим, провел рукой по смятому крылу, точно смахивая с него пыль. Номер стерся, от него осталась лишь одна ничего не говорящая запятая.
— Смотришь, не «Чертова ли дюжина»? — догадался Алимов. — Не она. Но жива еще старушка. Вон в том углу ее лечат, чтобы борозды не портила…
Обстановка «кабинета» была более чем скромной. Недалеко от печки, в углу, стоял шкаф, посредине — стол с ножками крест-накрест, две табуретки. Стол был покрыт ступенчато оборванной по краям и закапанной маслом газетой. На столе — старый поршень с торчащим из него огромным окурком.
Не успели друзья выкурить папироску, зазвонил телефон. Разговор был деловым, длинным: о подшипниках, торцовых ключах, заказе на шлифовальный станок, выполнении графика ремонта. Михаил поймал себя на том, что слушает не только с интересом, но и с удовольствием.
— Директор, Андрианов, — сказал Алимов, вешая трубку.
— Чую, — отозвался Михаил. — Откуда звонил-то? Из конторы или…
— Из конторы. А что?
Михаил ткнул в поршень недокуренную папиросу, поднялся.
— На серьезный разговор к нему собираюсь…
— Что ж, дело, друг, — Алимов, как и при встрече, крепко стиснул руку Михаила.
— Пока, Серега. Теперь, думаю, будем видеться чаще.
Михаил вышел из мастерских и, слегка опираясь на клюшку, зашагал в село.
Как-то Андрианов примет его? Давненько уж Михаил не наведывался в МТС — нехорошо! Конечно, Андрианов и виду не подаст, — он человек тонкий, а все равно нехорошо…
Вспомнился случай, который произошел еще давно, до войны, когда директорами МТС нередко назначались люди, мало сведущие в технике.
Андрианов проезжал ключевским полем. Увидев стоящий в борозде трактор, он сказал шоферу, чтобы тот свернул на пахоту и подъехал к остановившейся машине. Ни за рулем, ни около трактора с дороги никого не было видно, и только теперь Андрианов заметил копавшегося около заднего колеса тракториста. Лицо у него было явно заспанное, хотя он и старался показать, что очень занят каким-то важным делом.
— Что случилось? — спросил Андрианов.
— Да вот, авария небольшая, товарищ директор, — бойко отвечал тракторист. — Понимаете: радиатор засосало в карбюратор, а шестеренки коробки скоростей вылетели в выхлопную трубу.
— Засосало, говоришь? Ай-я-яй! Нехорошо.
— Чего хорошего! Без механика не обойдешься! Вот жду.
— Да, да… — подтвердил директор, — без механика тут ничего не сделаешь. — И вдруг спросил: — А у тебя напарник есть?
— Есть. Вон на заправочном, около фургона дрыхнет.
— И жена есть?
Не видя прямой связи между первым и вторым вопросом, тракторист немного опешил, но, не замечая пока со стороны директора никакого подвоха, ответил:
— Есть.
— А блины любишь?
Парень совсем растерялся; все же, во избежание всяких неприятностей с начальством, решил до конца поддерживать этот забавный разговор.
— Конечно, люблю. Кто же их не любит!
— Так вот, зови своего напарника, а сам ступай к жене — она тебя, наверное, ждет и уже блинов напекла. Да, да.
Оборвав так неожиданно эту, казалось, совсем дружескую беседу, Андрианов взял заводную ручку, запустил мотор, сел за руль и, к вящему удивлению тракториста, повел трактор по борозде.
С тех пор ребята стали побаиваться директорского «да, да» и за глаза говорили об Андрианове: «Мягко стелет».
Едва успел Михаил ступить на крыльцо эмтеэсовской конторы, как дверь стремительно распахнулась и так ударила по клюшке, что та вылетела из рук.
— О-о, черт! — зло выругался Михаил.
Поправляя на ходу платок, на крыльцо выбежала женщина в короткой шубейке.
— Извините, — виновато проговорила она и кинулась подымать палку.
— Извиняю, — все еще сердито пробормотал Михаил, принимая из ее рук палку, а про себя подумал: «Испугалась-то, будто не клюшку, а ногу перешибла. Глаза даже потемнели… А глаза, кажется, красивые — чистые, глубокие…»
В кабинете у директора, как всегда, накурено. По стенам — схемы, планы, поперечные разрезы машин. На столике, у окна, стало больше разных втулок, поршневых пальцев, подшипников, клапанов. Над столом ржаные, пшеничные колосья, два початка кукурузы. А так все как было. Вот только разве еще кресло, в которое Андрианов усадил Михаила, обшарпалось на подлокотниках дохуда. Последний раз сидел Михаил в этом кресле десять лет назад, поздней осенью сорок третьего, перед уходом на фронт.
— Та-ак… — потирая руки, с удовольствием протянул Андрианов. — Нашего полку прибыло. Хорошо!
Он расспросил про здоровье Михаила, про работу в конторе.
— Ну, а теперь о деле… Тебя я, Михаил Денисыч, знаю и безо всяких-яких могу доверить любую бригаду. Только, — Андрианов хитро прищурился, и седоватые усы его слегка встопорщились под крупным носом, — только у меня, видишь ли, такой порядок: вас, старых кадровиков, — уж не обессудь! — ставить, где потрудней.
— Ну и правильно.
— Правильно, говоришь? — переспросил Андрианов и испытующе посмотрел на Михаила. — Тогда ближе к делу… Вот тебе на выбор три бригады: ключевская и две березовских. Ключевская будет посильней, староберезовская уступает ей, однако же покрепче новоберезовской… Закуривай и думай.
— Что ж, — закурив из коробки Андрианова, медленно проговорил Михаил. — Можете считать, что выбрал.
— Слушаю, — усы у Андрианова опять встопорщились, а густые брови полузакрыли глаза.
— Выбрал я, Алексей Иваныч, новоберезовскую.
Андрианов опять испытующе поглядел на Михаила.
— А может, еще подумаешь и другую возьмешь?
— Ну вот! То нам, кадровикам, не пристало, где полегче, то…
— Поймал! На слове поймал! — Андрианов густо, раскатисто рассмеялся, и усы его зашевелились, а брови поползли на лоб. — Значит, по рукам?
Выходя из конторы, Михаил вспомнил о женщине в короткой шубейке и теперь только подумал, что где-то уже видел ее раньше.
«Да ведь это новая агрономша, и мы почти соседи! — наконец-то осенило его. — На одной улице живем… А я-то: «извиняю»… Эх!»
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Когда Илья Гаранин первый раз вошел в свой кабинет — небольшую продолговатую комнату, — на него пахну́ло холодом и запустением.
У окна стоял обычный канцелярский стол, загроможденный поршнями, втулками, шатунами — точно как у директора, с той лишь разницей, что Андрианов держал все это на небольшом специальном столике. А здесь даже чернильница стояла не в приборе, а в шестеренке.
Илья прошел за стол и сел в старенькое кресло. Ножки у кресла была наращены. Предшественник Ильи был человеком низкорослым, и, наверное, за всякими поршнями и втулками его было просто не видно.
Илья перенес на просторный подоконник все детали, в том числе и шестеренку, водрузил чернильницу на ее исконное место, затем очистил ящики стола, в которых среди прочих бумаг больше всего было проектов самых различных резолюций. Рядом со столом, в углу, стояла этажерка с запыленными книгами. Илья перебрал и протер их, побрызгал из графина и подмел пол. После того как с уборкой было покончено, он раздобыл дров и затопил печку. На растопку пошли проекты резолюций. От одного вида весело потрескивающей, гудящей печки в комнате сделалось теплей и уютней.
Илья разделся и сел к столу, сел уже не примеряясь, а основательно, считая, что с этой минуты вступил в должность секретаря парторганизации Ставровской МТС. Сейчас к нему придут посетители, и он, как это и положено ему по чину, будет принимать, решать различные дела. Правда, сперва, наверное, не на все вопросы он сможет дать определенный ответ, не каждое дело решит, может быть, придется обратиться и к главному инженеру и к Андрианову, но это уже не так важно. Важно, что он начал работу.
В коридоре послышались шаги. Вот они слегка замедлились. У Ильи уже готово было сорваться с языка приветливое «войдите», но ожидаемый посетитель постучался не к нему, а в соседнюю дверь, к Андрианову.
«Что ж, видно, у него дело такое, с которым нужно не к партийному секретарю, а к директору. Подождем «своего»…»
Илья развернул тоненькую зеленую папку, в которой всех бумаг было пока что два коротких, в одну страничку, протокола: один — об избрании его секретарем, другой — о первом заседании бюро нового состава.
По коридору прошел еще кто-то, еще… А вот половицы загремели сразу под добрым десятком мерзлых сапог, коридор наполнился гулом голосов. Однако все шли или к Андрианову, или к главному инженеру, кабинет которого находился напротив. Перед дверью Ильи никто даже и не останавливался. Людская волна будто не докатывалась, не дохлестывала сюда. Илья даже подосадовал на такое расположение комнат, хотя понимал, что досадовать было глупо.
«Неужели я опять не с того конца захожу?» — подумал он, машинально пробегая глазами протокол.
Свою работу в МТС Илья решил начинать без обычной на новом месте раскачки и приглядки. Говорят, в любом деле важен зачин, первый шаг, — он дает направление, он задает тон. Значит, надо сразу же брать быка за рога, завернуть дело покруче, и тогда все пойдет с большим размахом и большим толком.
— Правильно мыслишь, — поддержал его секретарь райкома по зоне МТС Тростенёв. — Сегодня же, не откладывая, собери людей, побеседуй с ними по душам. Сам сразу же в курс дела войдешь, и им себя, так сказать, покажешь. У меня, правда, сегодня отчетное в Старой Березовке, и я быть не смогу, но это, пожалуй, даже к лучшему — стеснять вас не буду.
Вчера вечером в кабинете Андрианова Илья собрал членов бюро, актив.
— У меня-то оно и просторнее и теплее, — сказал Андрианов, но от участия в заседании тоже отказался: — Посидел бы с удовольствием, да срочную сводку с инженером надо составлять. Так что ты тут хозяйничай, а я пойду к нему.
Илья начал «хозяйничать». Он сказал, что определенной повестки дня у него нет, а хотелось бы поговорить попросту, по душам.
Такое вступление явно разочаровало присутствующих — это Илья видел по откровенному выражению многих лиц.
— О чем? — раздалось несколько голосов.
— Так… — замялся Илья. — Вообще… обо всем.
Ответ этот, как потом он понял, окончательно решил исход собрания.
От него, специально посланного сюда из города, ждали, что он скажет что-то интересное, умное, значительное. Все постарались прийти точно вовремя, некоторые едва успели умыться и переодеться… Стоило же торопиться!
Наступило тягостное молчание.
Илья пытался «расшевелить» коммунистов, пытался ставить вопросы, но делал это неуверенно, будто шел ощупью. Это хорошо чувствовали собравшиеся, и каждый новый случайный вопрос только увеличивал настороженное отчуждение. Видно было, что отвечают ему из вежливости, чтобы не обидеть приезжего человека, отвечают односложно, готовыми штампами: да, это надо оживить, то — поднять на должную высоту, а это — изжить… Душевный разговор!
Первый шаг был сделан неверно — это ясно.
Илье вспомнилось, как в самом начале войны ушел он из восьмого класса на завод учеником, как потом поступил в техникум и по окончании его снова вернулся на завод. И хотя вернулся он в тот же цех, начинать было трудно. Пять лет проработал Илья технологом, и только на шестой его выбрали секретарем цехового партийного бюро. За пять лет он достаточно узнал каждого рабочего цеха, знал, с кем и как нужно разговаривать, на кого и в чем можно положиться, кому и что поручить, — и все-таки начало было трудным…
Не всегда легко разговориться даже с товарищами, среди которых давно живешь и работаешь. Здесь же он не пять лет, а всего пять дней и решительно никого не знает. Его тоже не знают, к нему еще только присматриваются.
Может, и ему тоже начать приглядываться? Но вот беда: прошел уже и час и два, а ни одна живая душа в кабинет к нему не заявляется. Хотя бы кто-нибудь по ошибке заглянул в дверь. Нет!
«Ну что ж, если гора не идет к Магомету…» И Илья пошел к Андрианову.
В кабинете директора было шумно, людно. Одни просили, другие требовали, третьи грозили, и все необычайно много курили. Можно было подумать, что приходившие сюда трактористы и бригадиры перед этим полдня воздерживались от курения и здесь возмещали упущенное. От табачного дыма в кабинете стоял синеватый полумрак.
Чтобы не стеснять своим праздным видом Андрианова, Илья попросил папку последних приказов по МТС и, усевшись в сторонке, начал не спеша листать их. Приказы были обыкновенные: того-то считать в отпуску, того-то вернувшимся из отпуска, сторожу такому-то объявить благодарность, механику такому-то выговор. Ничего интересного. Гораздо интереснее было слушать разговор Андрианова с теми, кому объявлялись выговоры и благодарности.
С приходом Гаранина в кабинете стало потише: требования и угрозы выражались в более умеренной форме, Андрианов, время от времени скашивая глаза в его сторону, тоже старался подбирать слова не столь резкие, сколь убедительные. Даже курить стали вроде не так азартно. Присутствие нового человека, естественно, стесняло. Но постепенно натянутость исчезла и все вошло в прежнюю колею. Андрианов или просто махнул рукой, или привык к молчаливому секретарю, как привыкают к новой мебели.
До обеда шли все больше трактористы, ремонтники. Как бы заключая этот поток, пришел заведующий мастерскими Алимов и главный инженер Оданец. Оданец был с одного завода с Ильей, и они пожали руки, как старые друзья, хотя до этого знали друг друга мало.
Пока Алимов давал на подпись директору наряды и еще какие-то бумаги, Оданец подсел к Илье:
— Ну, как оно, земляк? Акклиматизируешься?
Было Оданцу немногим больше тридцати, но выглядел он еще моложе. Молодило его свежее, без морщин, округлое лицо с живыми глазами. И не только лицо — весь он выглядел каким-то круглым и прочно сшитым, как кожаный мяч. Илье казалось даже, что у товарища и фамилия какая-то круглая: Оданец.
Назначение в одну МТС невольно сблизило их, и Оданец, приехавший сюда месяцем раньше Ильи, при первой же встрече предложил держаться дружнее, плечом к плечу. «А иначе нам и нельзя, — сказал он. — Потому что, сам понимаешь, с одного завода мы сюда приехали, а это значит: хорошее дело ты сделал — и меня заодно с тобой похвалят, я промахнулся — и тебе заодно попадет. Так ведь?» Илья согласился, и сейчас от одного только присутствия товарища почувствовал себя как-то увереннее, крепче.
— Опять хочу спросить, Алексей Иванович, — сказал Оданец, пересаживаясь ближе к Андрианову. — Когда придут трактора из этих самых Березовок и станут на ремонт?
— Председатели просят еще недельку-другую повременить, — смущенно кашлянув, ответил Андрианов. — Говорят, не на чем корма подвозить.
— Им-то, председателям, что! Им и дела нет, что у нас график срывается, но ведь вы-то это хорошо знаете. Сами этот график утверждали.
Андрианов озабоченно навесил на самые глаза мохнатые брови, закурил.
— Когда я ввел на ремонте заводской порядок, — продолжал главный инженер, — это вам понравилось. Еще бы! Так зачем же мы теперь будем к старинке возвращаться? Или опять хотите, как и в прошлые годы, растянуть ремонт до самого сева? Опять хотите сидеть в сводках на последних строчках?
— На последних-то строчках нам сидеть не привыкать, — глухо сказал Андрианов, и в голосе его Илья почуял боль человека, вложившего не один и не два года своей жизни в дело, которое все еще не принесло ему радости успеха.
— Ну, нет, Алексей Иванович, — Оданец стукнул ребром ладони по столу. — Не за тем мы сюда приехали. Не за тем я оставил в городе квартиру с ванной, а теперь живу в комнатенке с одним окошечком и в бане вот уже две недели помыться никак не удосужусь. Будем вытягивать станцию на первую строчку.
— Дай-то бог нашему теляти волка поимати, — невесело усмехнулся Андрианов. — Но ведь сам говоришь, частей не хватает.
— Да, черт возьми, с частями неважно, — подтвердил Оданец и сердито добавил: — И каким только местом они там думают! — видимо, под «они» разумея свое областное начальство. — Сроки спрашивают, а самого необходимого не дают.
Втроем они начали обсуждать, как выйти из затруднительного положения. Оданец расхаживал по кабинету, напряженно морщил гладкий округлый лоб и, играя желваками, жевал потухшую папиросу: не так-то просто было найти этот выход!
А Илья смотрел на товарища, на его сосредоточенно нахмуренное лицо и откровенно завидовал ему в эту минуту. Вот оно, совершенно конкретное дело у человека, строго определенный круг обязанностей. Илья хорошо видел и понимал, сколь сложны эти обязанности, но Оданец точно знал, что ему делать. А где, в каком руководстве, в какой инструкции определено, что делать, чем заниматься ему, Илье Гаранину? Обсуждать вместе с начальством ход ремонта тракторов, делая вид, что ты во всем этом хорошо разбираешься? Выступить перед рабочими, спросить, почему они не укладываются в график, и получить ответ: «Потому что не хватает запасных частей»? Можно еще этот же вопрос обсудить на партбюро, честь честью составить протокол и отослать копию в райком: смотрите, мол, обсуждаем, принимаем соответствующие решения…
— Вот что, — остановившись у стола и опираясь на него крепко сжатыми кулаками, сказал Оданец. — Скатаюсь-ка я в город, с начальством поругаюсь, а заодно и на своем заводе побываю, может, там кое-чем разживусь.
— От разговоров с начальством большого проку ждать, конечно, не приходится, — ответил Андрианов. — А вот насчет завода-то — хорошо бы, больно бы хорошо, Дмитрий Павлыч. Поезжай.
На том и порешили.
Сразу же после обеда к Андрианову заявились председатели ключевского и новоберезовского колхозов.
Председатель ключевского колхоза Татьяна Васильевна Орешина, пожилая, полная, с властным лицом женщина, степенно уселась в кресло, огляделась и строго спросила Андрианова:
— Доколе это будет продолжаться, Алексей Иваныч?
Андрианов почти весело, как показалось Илье, усмехнулся и спокойно начал закуривать. Видимо, он хорошо знал характер Орешиной, знал, что рано или поздно она объяснит, зачем пришла, и пока не торопился расспрашивать об этом.
— Я спрашиваю, доколе будет продолжаться эта бедность? — Татьяна Васильевна окинула критически оценивающим взглядом своего соседа из Новой Березовки и, будто он не к Андрианову пришел, а к ней лично, разрешила: — Садись, товарищ Тузов, чего топчешься. В ногах правды нет.
Тузов — неопределенных лет, темно-рыжий, точно опаленный, мужик среднего роста, с беспокойными, бегающими глазами — действительно топтался около своего стула и никак не мог решиться сесть на него. Насколько Орешина держала себя по-хозяйски смело, настолько тот — робко и неуверенно.
— И в прошлом году, — продолжала Татьяна Васильевна, — они на наш счет прокатились, когда с хлебопоставками затор получился, и в этом мы их выручали.
Андрианов по-прежнему молчал, делая неспешные затяжки.
— Теперь новое дело: те культуры, которые у них плохо идут, к нам передвинули, будто мы живем не поле в поле, а один от другого за тридевять земель и будто земля у нас не одинаковая… Ты меня, Алексей Иваныч, не окуривай, а скажи: долго так будет? Долго они за нашу спину прятаться будут?
— Да ведь мы бы и рады… Конечно… и вообще… — невнятно, проглатывая слова, басом вставил Тузов, — а только, если наш колхоз отстающий, а ваш передовой…
— Вот-вот, — подхватила Татьяна Васильевна. — Вы так привыкли к этому, что скоро, наверное, гордиться будете… Я безо всяких шуток, скоро кулаком в грудь бить будете: не замай нас, мы бедные, мы отстающие!
Когда шел разговор о ремонте, Илья не вмешивался, потому что не все в этом разговоре ему, человеку новому, было понятно: коренные подшипники, сроки. Сейчас, как ему казалось, речь шла о вещах более простых и понятных, и он рискнул спросить Орешину:
— А вы не пробовали по-соседски помогать?
Татьяна Васильевна с нарочитым вниманием обернулась к Гаранину, как следует разглядела его и ответила не без едкости:
— Вы, конечно, человек новый и наших дел не знаете… Разве я только-только не о помощи говорила? И так настоящими иждивенцами стали: и ссуды им даем, и все такое. Или, может быть, за них еще и в поле работать? А они только хлеб получали бы — вот здорово! Не возражал бы, Яким Силантьевич? А?
— Нет, я не про такую помощь, — попробовал было пояснить Илья. — Я про деловую. Чтобы научить их хорошо хозяйство вести. Ну… как, например, вы ведете.
Пряча довольную улыбку, Татьяна Васильевна спросила:
— А откуда ты, мил человек, знаешь, как я хозяйствую? — И прибавила уже серьезно: — Не такое простое дело этому научиться. Это не таблицу умножения заучить: дважды два — четыре, пятью пять — двадцать пять… Да и не об этом сейчас разговор, а о том, что севооборот нам поломали, кое-где хлеб по хлебу сеять придется. Жди урожая! Чтобы уродило, навозцу надо, да поболе, а у вас вон под навоз трактора не допросишься. Уже который месяц поилки на фермах установить не можете.
Андрианов перестал курить, посерьезнел и, явно заминая разговор, сказал:
— Все, что в наших силах, Татьяна Васильевна, — сделаем.
Орешина встала.
— Хоть по весне-то, ввиду такого положенья, и тракторы и бригадира посылай в Ключевское получше, понадежней.
«Вон она зачем приходила!» — подумал Илья.
— Учтем, Татьяна Васильевна, — пообещал Андрианов. — Не обидим.
Председатели ушли.
Когда дверь за ними закрылась, Илья откровенно признался:
— А зачем приходил Тузов, я так и не понял.
— Как зачем? С Орешиной… Ах, да! Ты ведь не знаешь всей подоплеки этого дела.
Андрианов посмотрел в окно на отъезжавших от конторы председателей и пояснил:
— Видишь ли, Орешина — баба прижимистая, скупая. А соседи у них бедные — то помогать, то вообще отдуваться за них приходится. Ну, ясное дело, ей это не по нутру. И вот каждый раз, как новоберезовцы за их спину спрячутся, она, если едет в район, старается и председателя ихнего с собой привезти: пусть, мол, хоть на людях постыдится, может, лучше работать станет.
— Помогает?
— Откровенно говоря, плохо.
В кабинет вошел агроном Николай Илларионович Крутинский, закрепленный как раз за ключевским, а также, по недостатку специалистов, и новоберезовским колхозом.
Это был сухой, аккуратный старичок в старомодном пенсне в золотой оправе. Кустики бровей над пенсне, усы и острую бородку агронома лишь слегка посеребрила седина, на висках же волосы были совершенно белыми. От лба и до самого затылка шла сквозная широкая пролысина. Походка у Крутинского была мелкой, но довольно бодрой для его возраста и почти бесшумной. Илья не слышал, как он вошел в кабинет.
— Небось ругаться приходила? — поздоровавшись, спросил агроном, кивая на окно, в которое только что смотрел Андрианов.
— Ругаться.
— Ничего. Колхоз богатый, а сама она женщина с головой, вывернутся.
— И вы, как агроном, считаете правильно это? — спросил Илья.
— Простите, — подчеркнуто вежливо обернулся к нему агроном. — С кем имею честь?
— Новый секретарь партбюро, — сказал Андрианов.
— Очень приятно, — Крутинский протянул сухую узкую ладонь и, невольно покривившись от рукопожатия Ильи, проговорил: — Видите ли, формально ключевский колхоз не обязан выручать новоберезовцев. Но в результате получится та же, для вас, может, и новая, а для всех нас старая картина: новоберезовцы не справятся, и во время хлебозаготовок ключевскому же колхозу и придется за них расплачиваться…
Видимо считая такой ответ достаточным, Николай Илларионович вынул из кармана вельветовой толстовки портсигар, достал сигарету и, укрепив ее в мундштуке, закурил.
«Вот и пойми: прав старик или не прав», — подумал Илья.
От большого числа посетителей, от разговоров о самых разных вещах в голове Ильи все перемешалось. Мало-мальски узнать за день удалось разве что самого Андрианова: рассудителен, осторожен, ни в чем не любит пороть горячку. Запомнился разговор о ремонте, два председателя-соседа — вот, пожалуй, и все.
«Что ж, не будем распыляться. Попробуем закрепиться хотя бы на достигнутых рубежах…»
Назавтра, прямо с утра, Илья направился в мастерские.
Главный сборочный зал, заставленный станками и полуразобранными машинами, чем-то напомнил ему цех родного завода. Знакомым казался и этот ритмичный рабочий гул, и дымный синеватый воздух, и даже торцовый, залитый маслом пол. И, шагая узкими проходами, минуя завалы колес и поржавевших траков, Илья чувствовал себя как-то очень спокойно, уверенно, куда увереннее, чем на том злополучном собрании.
Ремонт шел по узлам: в одном углу мастерской ремонтировались моторы, в другом — задние мосты, в третьем — ходовая часть.
Илье понравился такой порядок работы. Получалось нечто вроде потока: один узел зависел от другого и подгонял третий.
— Может, немножко и похуже, чем у вас на заводе, — сказал кто-то из ремонтников, — однако похоже. Вот если бы еще частей вдоволь!..
В обеденный перерыв Илья завел разговор о своем заводе. Ему задали много вопросов, и это Илье понравилось. Правда, когда трактористы расходились по своим местам, один сказал товарищу: «А ничего новый-то секретарь», на что товарищ нехотя ответил: «Ну, тот тоже про политику поговорить был спец…»
А на следующий день Илья разыскал у конторы МТС попутную подводу и поехал в Новую Березовку.
Лошадь потрухивала легкой рысцой, отбрасывая в передок плотные комья прикатанного снега. Завернувшись в тулуп, Илья полулежал в углу саней и слушал плавную однообразную песню полозьев, сопровождаемую короткими, барабанными ударами снега по гулкому передку. Из-за высокого ворота тулупа видны были бегущие навстречу белые поля и клочок бледно-голубого неба. Мягкая черта между белым и голубым то падала, то поднималась, иногда ее заслоняли синеватые перелески и постоянно перерезали прямые черные телеграфные столбы.
Неохватный простор, бесконечная огромность этого зимнего мира, его неяркая, но такая близкая и понятная сердцу русская красота — все это было ново, непривычно, доселе неведомо Илье, и волновало его своей неизведанностью.
Тузова он нашел в правлении. Тот сидел у печки, приложив к ней завязанную красным, под цвет волос, платком припухшую щеку. Узнав, зачем приехал Илья, Тузов, показывая на щеку, промычал что-то нечленораздельное, а затем ткнул пальцем в окно. Счетовод перевел: у председателя разболелись зубы и лучше обратиться к секретарю партийной организации, он работает продавцом в сельпо — это прямо через дорогу.
Разговора с секретарем тоже не получилось. Секретарь доложил, сколько, где и когда было проведено читок и бесед, но на вопрос Ильи, почему колхоз отстает, ответил коротко и туманно:
— Когда колхоз упадет, подымать его трудно. Вот и отстаем. Но потихоньку выправляемся…
Илья попытался разговориться с колхозниками. Румяная, бойкая бабенка похвалила Тузова, сказала, что он всем сочувствует и «дает жить», а пожилой бородач при этих словах сердито, выразительно сплюнул. Вот тут и пойми: хорош или плох Тузов.
Из Березовки Илья пешком добрался до Ключевского.
В правлении здешнего колхоза в глаза ему бросилась чистота, малолюдье и спокойная деловая тишина, нарушаемая лишь щелканьем костяшек. Рядом с Татьяной Васильевной, у стола, сидел стриженный ежиком парень лет двадцати, да за перегородкой шуршали бумагами счетовод с помощником — больше никого.
— А все на работе, — улыбаясь, развела руками Татьяна Васильевна. — Чего здесь толкаться-то, разве что накуривать? — И, обращаясь к парню, добавила: — Принимай гостя, Митя. К тебе. Знакомьтесь: товарищ Гаранин… Наш колхозный партейный секретарь Хлынов.
«Эге! Видать, из молодых, да ранний!» — подумал Илья, а вслух сказал, что он, собственно, не столько к парторгу, сколько к председателю: хотелось бы получше узнать насчет поилок и того трактора, что МТС не дает колхозу.
— Хитер! — Татьяна Васильевна лукаво прищурилась на Илью и покачала головой. — Будто только за этим сюда и ехал?! Что ж, садись. Не торопишься?.. Вот и хорошо. Уж больно не люблю я, когда начальство спешит: приедет, по всем статьям обругает, а тебя выслушать времени-то и не остается…
Илья уселся в кресло около печки, вынул трубку.
— Так вот, начну я с дальнего конца, — продолжала Орешина. — Поехали мы как-то в город, с картошкой. Ну, приехали на рынок, заняли прилавок, продаем. И вот подходит одна барыня… Что за барыня, говоришь? Обыкновенная, накрашенная, намазанная, в шляпе с пером и с прислугой, то бишь с домработницей, на пристежке. Сама с сумочкой да зонтиком, а домработница с авоськами в обеих руках, — чем не барыня?.. Так вот, подходит она к нам, тыкает в меня пальчиком в кисейной перчатке: «У этой тетки возьмем, Маша». Насыпаем. А дама эта недовольно, брезгливо этак говорит: «Картошка крупная, но почему она у вас вся в земле?» — «Потому, сударыня, — отвечаю, — что в земле растет». — «Ну это меня не касается — в земле или на дереве, а надо учиться торговать культурно, чисто!» Кинула на весы деньги, словно милостыню подала, и пошла. Долго еще видно ее было — шляпа высоченная, как самоварная труба… А теперь ты спросишь, к чему все это я рассказываю? Рассказываю к тому, что если бы барыня эта и всерьез сказала, что булки на кустах растут, — с нее спрос невелик. Директору же и главному инженеру МТС хорошо известно, где и как хлеб растет, однако рассуждают они…
Татьяна Васильевна сердито отодвинула от себя бумаги, спустила шерстяной платок на плечи.
— Ты вот удивился, что народ у нас весь на работе. Как, мол, так, ведь колхозники только по летам работают, а зимой на печи лежат?.. Не угадала? Ну, не обижайся. А только ваш главный инженер думает близко к этому. Я у него трактор прошу: навозу много у дворов накопилось, а лошадей вывезти — не хватает. Прошу специалистов автопоилки установить: еще по осени купила, ржавеют без дела. А он мне: «Раньше весны не могу: сейчас трактора в ремонте, а потом на лето беречь надо: на сев, на уборку. Специалисты тоже на ремонте заняты…» Видишь, как получается? Не когда колхозу надо, а когда хотим, когда нам удобнее, тогда и дадим. На первый-то взгляд вроде даже дальновидно получается: про уборку человек думает. А какая ж тут дальновидность, если урожай-то сейчас, зимой, надо готовить, а то и убирать-то нечего будет…
Зазвонил телефон. Хлынов, сидевший к нему всех ближе, снял трубку.
— Алло!.. Да, я, Захар Петрович… На Белой Гриве щиты повалило?
— Поставить! — коротко кинула Татьяна Васильевна.
— Надо снова поставить. Да, да, она сказала… Ну, уж это, Захар Петрович, ты и сам знаешь…
Хлынов повесил трубку.
— Да, товарищ Гаранин, — видимо, уже выговорившись, не так горячо, хотя по-прежнему сердито, продолжала Татьяна Васильевна. — И зимой на печи не лежим, работаем. Корма скотине возим, зерно готовим, снег задерживаем… Вон, щиты второй раз валит… И рабочий цех наш не под стеклянной крышей, а под открытым небом, ни от мороза, ни от пурги никуда не спрячешься. И жара, и дождь, и всякая непогодь — все наше, все хлебаем полной мерой.
Татьяна Васильевна улыбнулась, глаза ее подобрели, и все лицо стало светлее, моложе.
— Вот видишь, и тебе под горячую руку попало… По совести говоря, потому это я так расходилась, что в последние годы мало и внимания и уважения стало к нашему крестьянскому труду. Пленум-то недаром этот вопрос на свою повестку поставил.
Татьяна Васильевна взглянула на ходики, встала.
— Ну, мне пора на фермы. Если что плохо объяснила, Митя за меня тут доскажет… Да, все забываю спросить у тебя, Дмитрий: колеса-то шинуете?
— Шинуем, Татьяна Васильевна, — ответил Хлынов. — Четыре стана уже готовы.
— То-то, не откладывайте. Как говорится, готовь сани летом, а телегу зимой… Ну, я пошла.
Илья сказал, что ему тоже хотелось бы побывать на фермах, а с парторгом он и потом может поговорить.
— Э, да я вижу, ты и впрямь не торопишься! — опять, как и в начале разговора, хитро прищурилась Татьяна Васильевна. — Что ж, пойдем за компанию…
Только к вечеру, уже затемно, вернулся Илья в контору МТС и сразу же прошел в кабинет Оданца.
— Дело есть, Дмитрий Павлыч.
Оданец отогнул рукав, посмотрел на часы.
— А может, до завтра отложим? И так уж седьмой час, рабочий день давно кончился… Не терпится? Ну, давай выкладывай. Да! Чтобы не забыть: завтра утром в город еду, ничего наказывать не будешь? Ну, ну…
Оданец выслушал Илью с видом человека, которому известно все до последнего слова. А вместо ответа вытащил из папки небольшую бумажку и положил на стол: читай.
В бумажке строго напоминалось, что использование тракторного парка на всяких подсобных работах допускается лишь в исключительных случаях и под личную ответственность директоров и главных инженеров. На сев все машины должны выйти, как новые.
— Ясно?
— Не совсем. Все-таки допускается?
— Это-то ты запомнил, — Оданец усмехнулся, — а что два раза упомянуто «под личную ответственность», пропустил, А что это такое «под личную ответственность»? Да это и есть фактическое запрещение. Попробуйте, мол, дайте трактор колхозу сейчас, а потом он на севе станет, тогда держитесь и никакой пощады не ждите: предупреждали…
— Ну, а если те дать, которые еще не прошли ремонт?
— Да ты уж чего не наобещал ли Орешиной? — настораживаясь, спросил инженер. — Нет?.. Ну, смотри! А то ведь это называется на чужом горбу в рай ехать…
Оданец опять усмехнулся и, раскинув руки, взялся ими за углы стола.
— Хочешь обижайся, Илья, хочешь нет, но рассуждаешь ты несерьезно. В любом деле много значит зачин, запевка. Ты ведь и сам небось думаешь не о том, чтобы через год чего-то добиться, а уже сейчас, с первых же шагов доказать, что не просто так сюда приехал. Ведь верно? А я разве не хочу? И мой зачин — ремонт. В прошлые зимы помогали колхозам? Нет, не помогали и, однако же, ремонт вели до самой весны. А что получится, если завтра мы распустим тракторы по колхозам? Погонимся за двумя зайцами — наверняка ни одного не убьем, только ремонт растянем на всю зиму, как это бывало и до нас. Стоило ли для этого ехать нам с тобой сюда? Как ты не понимаешь, я хочу ремонт побыстрее закончить, чтобы уверенность у людей появилась: можем работать не хуже других!
Оданец положил бумажку в папку, завязал тесемки и опять посмотрел на часы.
Илья сидел потерянный, убитый. Каким простым и ясным все казалось ему, пока он был в Ключевском! Он вместе с Татьяной Васильевной возмущался, поддакивал ей, а когда увидел ржавеющие без дела поилки, готов был взять главного инженера за воротник и ткнуть лбом в эти поилки.
На деле все оказывается куда более сложным и запутанным. Татьяна Васильевна по-своему права, но и Оданец тоже прав. Чья же, чья правда больше?
— Эх, Илья, да разве мне самому не хочется помочь колхозам, той же Орешиной? Но, как говорится, и рад бы в рай, да грехи не пускают. Колхозы и так обойдутся, нам же от этой работы ни чести, ни славы, только машины угробим. Судить о нас будут по севу, по уборке. Здесь мы должны показать себя. К этому и будем готовиться… Может, вместе вечер скоротаем? Устал, говоришь? Ну, гляди…
Они вышли из конторы и разошлись в разные стороны.
Как-то разом навалилась усталость, и Илья с трудом передвигал ноги. До тошноты хотелось есть.
Холодное темное небо густо вызвездило. Молодой морозец набирал силу, снег тягуче поскрипывал под ногами.
2
Позвонил из райкома Тростенев.
— Ну, тебя, товарищ Гаранин, днем с фонарем приходится искать. Вчера и звонил и заходил — пропал, да и только! По-моему, в крайности ударяешься. Тем более что поездки по колхозам совсем и не входят в твои прямые обязанности… Нет, нет, я сам не люблю кабинетчиков, но, как говорится, всему мера. Партбюро на замке держать тоже нельзя. Вдруг с тобой человек захотел поговорить по душам — не у токарного же ставка разговаривать?..
«Ох, уж эти мне «душевные» разговоры!» — подумал Илья со вздохом.
— А звоню я вот насчет чего: хотел напомнить про совещание. Готовишься?.. Давай, давай. Так, минут на двадцать — двадцать пять. Договорились.
Совещание механизаторов с колхозным активом, о котором напоминал Тростенев, было назначено на конец недели. Готовясь к нему, Илья листал годовые отчеты колхозов, просматривал бумаги.
Пришла почта. Вместе с газетами принесли письмо. С первого взгляда Илья догадался, что письмо от Тони. Однако не успел он разорвать конверт, как в дверь постучали.
«Ни раньше ни позже кого-то нелегкая несет!»
В отворившуюся рывком дверь быстро, тоже как-то рывком, вошел парень лет двадцати двух — двадцати трех, в шинели и несколько щеголеватой военной фуражке.
«Да ведь это, никак, мой первый долгожданный посетитель, а я ругаюсь!» И хотя чтение письма пришлось отложить — все равно Илья был по-настоящему рад гостю.
А тот по-военному, даже слегка прищелкнув каблуками начищенных сапог, поздоровался и улыбнулся. Улыбался он по-особенному. Улыбка медленно проступала на его лице: сначала верхняя губа обнажала широкие плотные зубы, затем смешно расплывался нос, загорались глаза, а потом уже и все лицо — от подбородка до темных и густых, не вмещающихся под фуражку волос — начинало светиться весельем.
Широкая улыбка парня была явно беспричинной — просто так, от полноты жизни — и такой заразительной, что Илья не удержался и тоже улыбнулся в ответ.
Все же, наученный опытом, он спросил на всякий случай:
— Может быть, товарищу нужен директор МТС или главный инженер, тогда это соседняя дверь и — напротив через коридор.
— Никак нет, — почти по-уставному ответил гость. — Мне нужны именно вы.
— Прошу садиться, — Илья указал на давно приготовленный стул. — На партийный учет?
— Пока еще комсомолец и совсем по другому делу… Я новый бригадир тракторной бригады, фамилия моя Галышев, Андрей Галышев. Только что демобилизовался и… А впрочем, для первого знакомства и этого достаточно.
Галышев помолчал.
— Вообще-то отдых мне месячный положен, однако если уж такое дело пошло, если вы из города на подмогу приехали, нам, сельским, и подавно отдыхать не приходится… Только одно тут мне непонятно. После Пленума все лицом к деревне вроде бы, к колхозам повернулись. Это так. А наша МТС? МТС, по всему видно, собирается разве что с будущей весны, с лета поворачиваться. Непонятно? А я объясню. Колхозы просят у вас тракторы под навоз, под корма, минеральные удобрения возить. Даете вы? Нет. Даже последние из Березовок забираете. А известно ли главному инженеру, что в нашей Березовке всего семнадцать лошадей, да и те, того и гляди, ноги протянут. Вот и выходит, что спиной стоите.
— Но как же тогда быть с ремонтом? — напомнил Илья.
— А об этом не мешало бы у самих ремонтников спросить, — очень просто сказал Галышев. — Разве нельзя столько-то машин сейчас отремонтировать, а остальные позже, перед севом?
— Если бы частей было в достатке!
— А может, и с частями что-нибудь придумаем. Как говорится: одна голова хорошо, а десять лучше… Словом, не мешало бы вам поинтересоваться всем этим.
Галышев опять перевел дух.
— А теперь личный вопрос. Был я у Андрианова. Получил назначение в ключевский колхоз «Победа». Колхоз, говорят, хороший, передовой. Андрианов даже так сказал, что этим назначением как бы честь мне делает и вообще…
Еще не понимая, к чему ведет бригадир, Илья подтвердил, что директор при нем обещал председателю направить в Ключевское надежного человека.
— Все это, конечно, хорошо, но… — Галышев замялся и неожиданно помрачнел. — Одним словом, не хотелось бы мне в этом Ключевском работать. Директору же говорить об этом неудобно, если он за честь считает. Вот я и прошу помочь мне.
— Да в чем помочь-то? — Илья был сбит с толку. — Ты хоть для начала скажи, почему тебе в Ключевское не хочется?
— Во-первых, Ключевское — село, мне мало знакомое. Мне, к примеру, нужно хорошо знать поля, каждый овраг и каждую долинку, чтобы холостых переездов поменьше делать…
«Эге! А Андрианов-то, похоже, не ошибся, — отметил про себя Илья. — По всему, этот Галышев — парень с головой».
— И если в своей Новой Березовке я и по полям с закрытыми глазами могу пройти, ни в одну промоину не оступлюсь и всех колхозников, от малого до старого, знаю наперечет, то Ключевское для меня темный лес.
— Так в Новую Березовку уже назначен бригадир. Может, слышал, Брагин?
— В чем и дело-то! Потому к вам и пришел. Ему-то, Брагину, все равно. Почему же не поменяться?
Илья знал от Андрианова, как Брагин сам напросился на старые машины, и подумал, что теперь он их просто из принципа никому не уступит.
— Не пойдет он на это, — сказал Илья.
— Да почему же не пойдет? Ведь машины в Ключевской бригаде поновей?
— Вот поэтому и не пойдет.
— Ну и дурак! — Галышев разозлился.
Илья коротко объяснил, почему Брагин не согласится, и спросил:
— Ну, а еще какие причины не ехать тебе в «Победу»?
Галышев сидел вполоборота к Илье и, разговаривая, смотрел не в лицо ему, а куда-то на угол печки. Один раз только они встретились взглядом, и бригадир тут же смущенно отвел глаза, будто боялся, что Илья увидит в них что-то такое, о чем говорить не хотелось.
— Какие причины? Хватит и той, про которую говорю… А мало — вот еще: если я в Новой Березовке работать буду, мне ни о квартире беспокоиться не надо, ни о чем другом. Мать и обед мне приготовит, и гимнастерку постирает. А это тоже кое-что значит. Сами знаете, работа наша не больно чистая…
— Да, конечно, — поддакнул Илья и в упор посмотрел на бригадира. Но тот по-прежнему прятал глаза или старался смотреть на угол печки. И тогда Илья твердо решил, что бригадир чего-то недоговаривает.
— Прямо и не знаю, что сказать тебе. И рад бы помочь…
Бригадир поднялся со стула и, застегивая шинель, сухо заключил:
— Что ж, на нет и суда нет.
И, не оборачиваясь, пошел из кабинета.
«Нескладно вышло. Первый мой гость долгожданный, к тому же парень вроде неплохой, а разговора не получилось».
Как ни внимательно слушал Илья Галышева, а письмо от Тони все это время не выходило из головы. Оно отвлекало, мешало сосредоточиться… Потому, наверное, он и не смог по-настоящему разговориться с бригадиром. И как только дверь за ним закрылась, Илья нетерпеливо вытащил из кармана синий конверт.
«…Словно что-то оборвалось у меня с твоим отъездом, Илюшка, и теперь болит, болит неотступно, — быстро пробегая глазами строки, читал Илья. — Ты уехал, и мне теперь не с кем поделиться ни своим горем, ни своей радостью. Может быть, ты в мыслях уже считаешь меня чужим человеком, а мне и подумать об этом страшно…»
Илья пробежал еще несколько строк ровного знакомого почерка, перевернул страницу и стал читать медленнее.
«…И чего тебе вздумалось куда-то ехать? Ведь как хорошо жили! Легко, очень легко ты все решил, Илюшка. Была у нас семья и вот — нет ее. И как дальше все будет, я не знаю. Я сейчас ничего не знаю и живу как потерянная. Одно не выходит из головы: нет рядом тебя — самого близкого, самого необходимого человека на свете. Потому-то мне и приходится жаловаться на тебя тебе же самому…
Знаю я эти глупые поговорки, что цену чему-нибудь узнаешь, когда с ним расстанешься, знаю. Может, это даже и не глупо, а умно сказано. Но мне-то от всего этого не легче. Я уже привыкла и горевать и радоваться с тобой вместе, Илюшка, и у одной у меня ничего не получается: радость не в радость, горе — так вдвое. Что мне делать, не знаю. Ты большой, сильный, умный — научи».
Илья бросил письмо на стол и, зачем-то перечитывая адрес, машинально начал ощупывать свои карманы. Трубка! Ну, конечно, именно ее и не хватало. И он принялся очень энергично, будто делал большое и важное дело, набивать ее.
Трубка набита и закурена. Теперь все в порядке. Теперь можно письмо отодвинуть и заняться делом.
Илья взял чистый лист бумаги и начал набрасывать план своего выступления. Однако дело подвигалось плохо. То одна, то другая фраза из письма вставала перед глазами и сбивала, путала мысли, направляла их в совершенно другую сторону. Тогда Илья решил еще раз перечитать письмо, чтобы потом окончательно отложить.
Перечитал, отложил в сторону и опять пододвинул чистый лист бумаги. Но уже через минуту убедился, что это была игра в прятки с самим собой…
Илья оделся и вышел.
На улице было малолюдно, тихо. Где-то за поворотом фыркала машина, пожарник на каланче мерно отбивал часы, но эти звуки не нарушали, а скорее подчеркивали зимнюю тишину села. Илья долго не мог свыкнуться с этой тишиной, после немолчного разноголосого шума города она казалась ему гнетущей, неживой. Шагая сейчас широкой заснеженной улицей и глубоко вдыхая ядреный воздух, он впервые, может быть, ощутил благостность этого разлитого в зимней природе спокойствия.
«Выходит, понемногу привыкаю к новой жизни. Акклиматизируюсь…»
3
Оформляя расчет в «Заготзерне», Михаил замешкался и опоздал на совещание.
Пришел он лишь к перерыву. Ничего не оставалось, как вместе со всеми закурить и поискать друзей-товарищей. Прохаживаясь по фойе, Михаил заметил чуть в стороне, у окна свою соседку, с которой он несколько дней назад столкнулся на крыльце эмтеэсовской конторы. Она стояла между Ильей Гараниным и новым бригадиром Галышевым.
— Очень хорошо ты выступила, Оля, — говорил Галышев. — Молодец!
«Знаком он с нею, что ли, давно или так, по смелости характера запросто подошел?» — почему-то с некоторой завистью подумал Михаил, прислушиваясь к разговору и жалея, что опоздал и не слышал выступления Ольги.
Ему тоже хотелось бы подойти к Ольге и разговориться. Неважно, о чем именно. Важно просто показаться перед ней не беспомощным человеком, у которого выбили клюшку, а вполне самостоятельным, независимым. Но он не знал, как это сделать.
Перерыв кончился. Чтобы не толкаться у дверей, Михаил помедлил. Ольга, проходя мимо, оглянулась в его сторону и, улыбнувшись, поздоровалась.
— Здравствуйте, — ответил Михаил. Ответил, как ему показалось, слишком поспешно. Уж очень неожиданно это получилось. У него даже голос, кажется, слегка дрогнул от волнения.
— Вы… тоже здесь? — видимо считая неудобным сразу же уйти и в то же время не зная, что сказать, спросила Ольга.
— Да, — подтвердил Михаил то, что не требовало подтверждения, и еще больше разозлился на себя за это.
— Ну, что ж, пойдемте. Начинают.
Михаил бросил окурок и за Ольгой вошел в зал.
Давненько не приходилось ему бывать на таком оживленном, шумном совещании. Председательствующий не стучал по графину, не взывал к порядку; шум никому не мешал. Это был совсем не тот мерный, как осенний дождь, непроницаемый шум, который обычно устанавливается во время дежурных речей записных ораторов. Здесь внимательно слушали, но у всех было такое состояние, что трудно было удержаться, чтобы не кинуть реплику, не обменяться тут же мнением со своим соседом.
Если кто из выступающих пытался читать свою речь по бумажке, ему дружно советовали: да отложи ты ее в сторону, руби смелей, не оглядывайся. Трактористы говорили без всяких конспектов, коротко, по-деловому, будто общение с машиной приучило их ценить время и выражаться ясно и точно.
А может, Михаилу только казалось, что трактористы говорят хорошо. Может, потому он слушал их с особым вниманием, что каждое выступление было понятно ему до последнего слова и как бы приобщало к тем интересам, которыми его товарищи по профессии жили и которые теперь снова стали ему близкими и дорогими.
Михаилу тоже хотелось выступить. Надо бы сказать об одном дурном, укоренившемся порядке: когда приходят в МТС новые тракторы, их отдают передовым трактористам, а старые машины у них забираются и передаются в отстающие бригады. Но разве такое уж хитрое дело быть передовиком на новой машине?! И вот гнилой этот порядок кое-где удержался и до сих пор. В седьмой бригаде, например, которую взял Михаил, потому скопились одни «гробы», что считалась она отстающей и в нее помалу списывали старые машины из других бригад… Однако говорить обо всем этом было не совсем удобно: ну, вот, скажут, сам же напросился, а теперь сам же и плачет… И еще почему-то смущало присутствие в зале Ольги.
Как ни внимательно слушал Михаил, о чем говорилось на совещании, он ни на минуту не забывал, что где-то здесь, рядом сидит Ольга. И раз и два он как бы невзначай даже оглянулся в ее сторону… Выступить он так и не решился.
Кончилось совещание затемно. И опять как-то так получилось, что по выходе из клуба Михаил оказался рядом с Ольгой.
— А ведь нам, кажется, по пути, — с деланным равнодушием сказал он, и таким тоном, будто эта мысль вот только что, сию минуту, осенила его.
— Разве? Что ж, это хорошо, — просто ответила Ольга.
Вечер был тихий, теплый. Михаил шел рядом с Ольгой, стараясь не очень заметно опираться на клюшку.
Ольга сказала, что живет здесь недавно, потому и не знает всех своих соседей, а до этого жила в Ключевском. Михаил хотел было расспросить ее пообстоятельнее, но, пока собирался, разговор незаметно перешел на совещание, и спрашивать о том, что его интересовало, было уж совсем некстати. Вот и его дом! Секунду Михаил колебался: не пройтись ли с Ольгой дальше, но тут же отбросил эту мысль: получится самое настоящее провожание, неудобно.
— Чуете? — останавливаясь, сказала Ольга. — Весной пахнет.
— А мне — сюда, — невпопад ответил Михаил. — До свидания…
— Ну, и я почти что дома. До свидания. Будет время — по-соседски заходите…
Михаил пообещал зайти и, провожая Ольгу взглядом, глубоко вдохнул чистый воздух. «Да, кажется, и в самом деле пахнет весной».
Он дошел до своего крыльца, некоторое время постоял около него и повернул обратно. Домой идти не хотелось. Уж слишком хорошим был вечер. Хотелось еще побыть одному.
Сбив на затылок шапку, Михаил медленно пошел вниз по улице.
У Ольги уже горел свет, но за окнами, подернутыми ледяной корочкой, ничего не было видно.
Падал тихий, медленный снежок. Из громкоговорителя на площади доносилась тоже медленная, плавная мелодия вальса.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Среди других непонятных вещей, которые, что ни день, открывались перед Ильей, встало теперь орошение.
Когда он в Ключевском услышал от Татьяны Васильевны, что с увеличением поливного поля прибавятся одни хлопоты, а не урожай, он не придал тогда этому значения.
Но вот на совещании Ольга горячо и убежденно высказалась за резкое увеличение поливных площадей, а председатели Старой Березовки и Ключевского не только не поддержали ее, но, пожалуй, не менее убежденно выступили против. Теперь уж Илья не мог остаться в стороне, хотя и понимал, что мелиорация тоже вряд ли имеет отношение к его прямым обязанностям.
Для начала он решил «просветиться» у главного агронома.
Когда Илья вошел в кабинет, Виктор Давыдович сидел, углубленный в бумаги, обложенный отчетными формами, циркулярами и предписаниями. Его черные, расчесанные на пробор волосы, черный костюм и такого же цвета галстук подчеркивали ослепительную белизну воротничка и удивительно белое для агронома, совершенно не тронутое загаром лицо.
— Ужасно! — кивая на бумаги, проговорил Васюнин. — Семьдесят девять граф, семьдесят девять вопросов, и на каждый надо ответить, и не с потолка, а точными цифровыми данными. В глазах рябит от цифири!
Он снял массивные роговые очки, положил их на стол, нацелив стеклами на Илью, вплотную к дужкам подкатил красный карандаш, перпендикулярно карандашу положил спичечную коробку и, лишь закончив это хитроумное построение, осведомился:
— Чем могу быть полезен?
Илья сказал.
— Вы зашли кстати, — Виктор Давыдович закурил и положил спички на прежнее место. — Мы с мелиоратором как раз занимаемся сейчас этим вопросом.
Вошла Ольга.
— Товарищ Гаранин интересуется вопросами орошения, — объяснил ей главный агроном. — Говорит, что ему тут не все понятно… Чертежи положите сюда… Садитесь! Мне тоже, для начала, хотелось бы выяснить одну вещь.
Виктор Давыдович напомнил Ольге про ее выступление на совещании, где она предложила в этом же году вдвое расширить поливные площади Березовской системы и начать новую запруду на реке Вязовке, затем спросил:
— Вам, конечно, известно, какие урожаи собираются на поливных землях в Новой Березовке?
Ольга ответила, что известно: урожаи собираются низкие, иногда ниже, чем на обычных, неполивных. «Вон тут в чем дело!» — отметил про себя Илья.
— Хорошо, мы удвоим поливные площади. Но не получится ли так, что печальную судьбу Новой Березовки разделят и ее соседи? Где ручательство? Не правильнее ли взяться пока за одну Березовку, а с соседями повременить? И уж, конечно, не торопиться с новой плотиной на Вязовке.
— А я думаю, — сказала Ольга, — что если мы сами в это дело верить не будем, то как же заставим поверить колхозников?
«Горяча, — опять отметил Илья, — но, кажется, говорит правильно».
— Уж очень легко и просто вы все решаете. — Васюнин улыбнулся, как улыбаются взрослые детям. — Вам, молодежи, прямо-таки не терпится поскорее зачислить себя в новаторы, а нас, пожилых, упрятать в консерваторы. А ведь в жизни-то сложней… Не так ли, товарищ Гаранин?
Илья подтвердил, что жизнь действительно штука сложная, но доводы главного агронома казались ему не совсем убедительными.
— Ну, мы отвлеклись, — продолжал Васюнин, обращаясь к Ольге. — Ближе к делу. Допустим, староберезовский и ключевский колхозы пойдут на некоторые прибавления поливной площади. Какие поля вы намечаете пустить под полив?
Ольга показала свой план. Васюнин вооружился очками и внимательно изучил его.
— Ну, это, конечно, план-максимум — не на год и не на два, но составлен с толком… Только вот это поле я бы пустил под полив самым первым, оно всех ближе к магистральному каналу.
Ольга согласилась с этим.
Сделав еще несколько замечаний, Васюнин снял очки и положил на стол, считая разговор оконченным.
— Все. Что касается сооружения новой плотины, попытайтесь представить свои соображения в область. Интересно, что еще оттуда ответят.
Ольга на это ничего не сказала, свернула свои карты и ушла.
— Посмотреть со стороны, — опять закуривая и медленно, глубоким выдохом выпуская дым, сказал Васюнин, — посмотреть со стороны — и впрямь меня надо причислить к лику консерваторов, зажимщиков молодой инициативы и тому подобное. Я гляжу назад, а она вперед и так далее. А если не со стороны? Подвигайтесь-ка поближе…
Илья передвинулся и сел рядом с Васюниным.
— Основные массивы поливных площадей — видите? — находятся в Новой Березовке, — показал главный агроном. — Казалось бы, золотое дно колхоза. А колхоз чуть ли не самый отсталый в районе, разве что в последнее время, при Тузове, начал выправляться… Парадокс? Да, парадокс. Но тем не менее — факт. Дальше…
— Но почему? — нетерпеливо перебил Илья. — Почему?
Васюнин улыбнулся нетерпению Ильи, как бы давая понять этим, что заранее предвидел его вопрос.
— Вот-вот, я как раз об этом… Вы только что слышали, что прибавку урожая поливные поля дают самую незначительную, а в последние два года и совсем никакой. А ведь полив — дело хлопотное, трудодней нагоняет много и, значит… только уменьшает их вес. Так вот. А теперь главный вопрос: почему, почему это так происходит?
Васюнин откинулся на спинку и постукал кончиками пальцев одной руки по пальцам другой.
Зазвонил телефон.
— Что? Опаздываю? Разве?.. Ну, хорошо, хорошо. Иду.
Положив трубку, Васюнин как-то смущенно улыбнулся и объяснил Илье:
— Домашнее начальство. Говорит, обедать опаздываю… Так на чем мы остановились?.. А впрочем, может, составите мне компанию, а за обедом и договорим? Право!
Илья начал было отказываться, но Васюнин сложил бумаги и уже взялся за пальто.
— Обедать каждый день не мешает даже партийным работникам, — балагурил он, обматывая шею теплым шарфом.
Жил Васюнин недалеко. Его дородная жена Полина Поликарповна встретила Илью очень радушно, выговорив мужу за то, что не предупредил ее о приходе гостя.
— Я совсем по-домашнему, — потуже запахивая халат на своей мощной груди, говорила Полина Поликарповна. — Вы уж извиняйте.
«Извинять-то нечего, — усмехнулся про себя Илья. — На тебя же, матушка, поди, никакое платье не налезет…»
А Полина Поликарповна, как бы оправдывая в глазах гостя свою чрезмерную полноту, начала рассказывать про многочисленные болезни, которые довели ее до нынешнего состояния.
Сели за стол. Обед у Васюниных был вкусным и обильным: пахучий, сдобренный специями борщ, баранина с жареной румяной картошкой, компот. Такого обеда Илья не едал, наверное, с тех самых пор, как уехал из дому.
А Полина Поликарповна все норовила подложить еще кусочек и приговаривала:
— Уж вы не обессудьте. У нас по-простому, по-деревенски…
Отобедав, Илья с хозяином прошли в горницу, закурили.
Горница представляла собой нечто среднее между кабинетом и спальней. У одной стены, чем-то похожая на хозяйку, белой горой громоздилась кровать, у другой стоял диван и перед ним стол. Правый от дивана угол занимал книжный шкаф, слева стояла этажерка с подшивками журналов и газет. На подоконниках красовались розовые бальзамины; сверху фрамуги свисали нежно-зеленые «бабьи сплетни».
— Вы, конечно, читаете газеты, — продолжая неоконченный разговор, сказал Васюнин, — и небось обратили внимание, что летом, сразу же после пуска Волго-Дона, к донским казакам вдруг зачастили гости из Средней Азии — узбеки, туркмены. С чего бы? А с того, что канал — это тысячи га поливных земель, но если в Средней Азии орошение насчитывает тысячелетнюю давность, то в низовьях Дона о нем знали разве что понаслышке… Может, я слишком популярно? Ничего?.. Так вот. Я говорил, что орошение — хлопотливое, трудоемкое дело. Это так. Но орошение еще и дело тонкое, хитроумное. Вам ясно, конечно, что узбеки ехали в такую даль не только за тем, чтобы попить с казаками чайку, они приезжали учить их поливу, учить обращаться с водой.
Чем дальше слушал Илья, тем трудней ему становилось не соглашаться с Васюниным, хотя и соглашаться тоже не хотелось.
— Ну, а теперь, после этого отступления, можно вернуться и к Березовке. И ответ на ваш вопрос очень короткий: мало у нас специалистов поливного дела, мало знающих людей. И как бы убежденно ни говорила Ольга Орешина о том, что нужно удвоить поливные площади, — скажу откровенно, мне импонирует ее убежденность, — от одного этого ни завтра, ни послезавтра еще не появятся умелые поливщики… Ну, хорошо, ну, удвоим, затратим огромный труд, а получим столько же. Вы что думаете, председатели по осени спасибо нам скажут?.. Ну, а теперь вам со стороны легче рассудить, кто из нас смотрит вперед, а кто по молодости просто горячится…
Ушел Илья от Васюниных смятенным, сбитым с толку.
Он терпеть не мог людей, о которых в народе метко говорят: «И нашим и вашим, как вы споете, так мы и спляшем». В любом деле, в любом споре имей собственное суждение и становись если не на ту, так на другую сторону, но не крутись посерединке — это было его твердым жизненным принципом. Не просто, ой как не просто иногда бывает выбрать сторону, но все равно выбирать надо. Обязательно!
Сейчас ему тоже надо было выбрать. Ни Ольга, ни главный агроном от него этого вовсе не требовали. Выбрать нужно было для самого себя.
Васюнин говорил о председателях, о том, что они по осени не скажут спасибо. А Илья подумал еще и про Ольгу: а что будет с ней, если работу свою она начнет с просчета, с ошибки?..
2
У калитки Ольгу встретил Юрка.
Сколько раз просила его не встречать, не дожидаться — нет же, торчит, мерзнет, глупый мальчишка!
— А к нам тетя Соня пришла, — сообщил Юрка. — Тебя дожидается.
— Какая тетя Соня? — Ольга приподняла сына, поцеловала в холодную щеку.
— Ну вот еще! — делая серьезное лицо, хотя это ему плохо удавалось, проговорил Юрка. — Ключевская тетя Соня.
— А-а, ключевская! — Ольга опустила Юрку на землю, заторопилась. — Ну, пойдем. Замерз совсем.
Жила Ольга в большом пятистенном доме. Одну половину его занимали хозяева, другую, меньшую, отдали Ольге. Кроме Юрки с ней жила еще младшая сестренка Лена. Когда Ольга училась, Юрка находился в Ключевском, у матери. Нянчиться с внуком самой ей было некогда, нянчилась с Юркой Лена. За три года они так привыкли друг к другу, что когда Ольга приехала сюда, то вместе с Юркой забрала из Ключевского и сестру. Лена ходила в школу во вторую смену, и это было очень удобно: Юрка почти не оставался один.
Ольга вбежала на крыльцо, обмахнула с валенок снег. Юрка для вида тоже шаркнул веником по своим сапогам.
Соня Ярцева, давняя подруга Ольги, сидела на скамейке у печки и листала какую-то книжку.
Ольга разделась, присела на табуретку рядом с Соней, обняла ее.
— Сейчас чай поставлю.
— Не задабривай, все равно на тебя сердита. И мать тоже. Ну, что это за дело: один раз на глаза показалась — и все! А ведь Ключевское тебе не что-нибудь, а родное село.
Пожурив Ольгу еще немного, Соня начала рассказывать ключевские новости: Фроська Лобанова выходит замуж за киномеханика; на колхозную хату-лабораторию, которой заведовала Соня, прислано пять килограммов нового засухоустойчивого сорта пшеницы; Любу Жукову — да, ту самую Любу, которая бегала еще в коротких платьицах, когда они уже были невестами, — так вот, Любу Жукову назначили бригадиром второй бригады; ее, Соню, тоже собираются ставить на бригаду, но она пока не соглашается.
— А ты слышала, бригадиром трактористов кого к вам направляют? — спросила Ольга. — Галышева! Андрея!
— Да?! — Соня не удивилась и не обрадовалась. — Интересно, совпало так или сам напросился?
— Нет, не просился. Говорит, просто так вышло.
— Что ж, на здоровье.
Соня встала, прошлась по комнате.
Она была все такой же красивой и статной, как и три и пять лет назад. Разве что глаза еще больше потемнели и стали серьезней да две морщинки врезались в переносье.
За чаем Соня продолжала рассказывать о том о сем, а Ольга слушала, и ей все хотелось спросить подругу: «Ну, ладно, Фроська выходит замуж и пусть ее. А ты? А ты, Соня, как же? Нашла ты того, о ком еще тогда, еще давно мечтала, или…»
Ольга и Соня были почти ровесницами.
«Но для женщины, — думала Ольга, — двадцать пять — не так много, а для девушки все-таки уже многовато».
Должно быть, Соня сама догадалась, о чем ее хочет спросить Ольга. Черные горячие глаза ее сразу потухли и затосковали. И Ольга без слов поняла все. Она вышла из-за стола и села на огромный хозяйский сундук, стоявший недалеко от печки. Соня уже не могла дальше сдерживаться. Оглянувшись на дверь, за которой Юрка грохал не то лыжами, не то санками, она кинулась к Ольге и, крепко обхватив ее за шею, заплакала.
— Что ты? Что ты? — начала успокаивать ее Ольга, чувствуя, как у самой подступают слезы.
— Верно, года уходят, — всхлипывая, говорила Соня. — А только все равно… все равно не хочу за кого-нибудь. Хочу, чтобы по сердцу был, чтобы я его-о-о-о…
— Перестань, глупая. У тебя же все еще впереди… Вот у меня… — Ольга недоговорила, горький комок подкатил к горлу и сдавил его.
Начало темнеть.
— Ну, не дура ли? Ни с того ни с сего разревелась, — как-то сразу успокоившись, сказала Соня. — А ведь я к тебе по делу.
Ольга встала с сундука, чтобы зажечь лампу, но раздумала.
— Посумерничаем, Соня?
— Конечно. Без света даже еще лучше… А у тебя я вот что спросить хотела. На совещании я не была, а про выступление твое слышала. Хочешь, чтобы в нашем колхозе не только огороды, а и поля поливными были?
— Да. И с тобой насчет этого посоветоваться хотела. Завтра же с утра в Ключевское собиралась. Так что это очень здорово, что ты зашла!
— Так я ж в мелиорации не больно много понимаю. Тебя ждала, читала тут одну книжонку, а поняла из нее не больше половины.
— Не беда, — сказала Ольга, — и не в этом суть. Тут главное — дельный человек из самих колхозников нужен, такой человек, который бы с душой взялся!
Соня начала перебирать наиболее подходящие, как ей казалось, кандидатуры: Петька Голованов, Федор Боков, та же Люба Жукова.
Ольга отрицательно покачала головой.
— Нет, Соня. Все это люди, конечно, неплохие, но у меня есть на примете кандидатура получше.
— Кто же? — удивилась и даже несколько обиделась Соня. — Неужели лучше меня знаешь ключевцев?
— Да ты же сама и есть.
— Шутишь, Оля. Во-первых, я хатой-лабораторией ведаю, а во-вторых, я тебе уже сказала, мало смыслю в орошении.
— От хаты-лаборатории освободить, понятно, не могу, да это тебе и не помешает — одно с другим связано. А знания — знания дело наживное. Ну?
— Что ну? Что ты на меня напираешь? К тебе приди как к человеку, а ты… — Соня махала на Ольгу руками, а сама улыбалась.
— Соглашайся, соглашайся. Все время же вместе, одно дело делали, так неужели теперь по-другому будет? Помнишь, как мы еще в седьмом классе?..
Ольга припомнила один случай их неразлучной дружбы, Соня, не дав договорить ей, — другой, и воспоминаниям этим не было конца.
— Ну вот, наплакались и наговорились, — сказала Соня, поднимаясь с сундука. — Я думала, поумнели мы, а выходит, не очень. Чего плакали, спрашивается, и сами не знаем. Прямо смешно…
Ольга оставляла подругу ночевать, но та ехала по делам своей лаборатории в соседний район.
— На обратном пути опять загляну! — пообещала она на прощание.
Едва закрылась за Соней дверь и смолкли ее шаги по сенцам, Ольга почувствовала себя такой одинокой, что у нее больно сжалось сердце.
Она села, подобрала ноги, подвинулась поближе к теплой печке. Многое вспомнили они сегодня. А об одном — нет, не вспоминали. И не любила Ольга вспоминать об этом с кем-нибудь, даже со своей лучшей подругой. Об этом Ольга любила вспоминать одна.
…Жаркий майский полдень.
Они вместе с Соней набирают в бутылки и фляги студеную ключевую воду. Ключ маленький, вместо сруба плетенка из прутьев, но вода в нем такая прозрачная, что виден каждый камешек на дне, видны даже белые бисерные пузырьки на этих камешках.
Овраг, в самой вершине которого находится ключ, глубоко вдался в поля. По левую сторону оврага работает трактор, от колодчика слышно его звенящее урчание.
Они уже собрались было уходить в бригаду, как вдруг услышали сверху спокойный мужской голос:
— Постойте, красавицы! Напоите добра молодца.
По склону оврага размашисто спускался парень в украинской вышитой рубахе, холщовых брюках, в парусиновых полуботинках. На белом резко выделялось его загорелое лицо.
Ольга с Соней узнали нового, недавно присланного в МТС участкового агронома.
Ольга подосадовала, что на ней смешное ситцевое платьице, из которого она давно выросла. Вон Сонька хоть и не богаче ее одета, а куда интереснее, потому парень так долго и не мог отвести от нее глаз…
Ловкая Сонька первой подала агроному бутылку. Тот высоко запрокинул голову и начал громко, с удовольствием пить. Ольга зачем-то смотрела, как вода пузырится в бутылке. Одна струйка, пробежав по щеке, оставила темноватый блестящий след. А парень, продолжая пить, вдруг скосил глаза в ее сторону, и она, не успев отвести своих, почувствовала, как неудержимо краснеет.
Поблагодарив, агроном той же размашистой походкой ушел в сторону тракторной бригады.
— Вот это парень! — мечтательно проговорила Соня и даже подняла глаза к небу, хотя небо было пустое и ничего интересного в нем не было.
— Парень как парень. Ничего особенного, — хмуро отозвалась Ольга. — И нечего тут вздыхать и закатывать глаза. Пойдем!
— Ничего ты не понимаешь, Олюня, — все с той же мечтательностью в голосе продолжала подруга. — Да и парень этот не по тебе! А уж парень!.. Ты заметила, как он мне улыбнулся? Когда бутылку отдавал?
— Заметила, заметила, — разозлилась Ольга. — Нас небось заждались, а мы тут прохлаждаемся…
Вечером парень пришел на гулянье. Девчонки «страдали» под гармошку. Ольга сидела чуть в сторонке на бревнах, сложенных вдоль церковной ограды. В круг выходили пара за парой, а если кому не терпелось дождаться своей очереди, начинали припевать наперебой, прямо с бревен. Получалось неразборчиво, но зато шумно и весело. Сонька, как всегда, была в середине круга. Голос у нее самый звонкий на селе: попробуй кто-нибудь перепой ее!
По по-ло-ви-це я иду, Другая вы-гибается, Нельзя на милого взглянуть — Сейчас и догадается, —выводила она, завидев подходившего агронома.
Агроном подошел к Ольге и, здороваясь, протянул руку, Ольге понравилось, что парень знает этот смешной сельский обычай: днем здороваться за руку только с пожилыми мужчинами, а вечером — и с ребятами и с девушками, даже если бы и виделся с ними за день хоть десять раз. Парень собрался было заговорить с Ольгой, но Сонька — вот она, тут как тут! Ольге ничего не оставалось, как сказать с напускной радостью:
— А вот и Соня!
Сонька подошла с таким видом, точно знакома была с агрономом, по крайней мере, целый месяц, и легко, свободно заговорила. Умела Сонька разговаривать с парнями — чего уж там, — умела! А вот она, Ольга, нет, не умела. Как-то не могла научиться! И как же она завидовала Соньке, вот этому ее умению обо всем болтать легко и интересно!
Ольге захотелось уйти сразу же: она видела, что здесь лишняя. Но и уйти было как-то неудобно. Пришлось сидеть до тех пор, пока подруги не начали расходиться. А Сонька так и сыпала, так и сыпала, точно неделю перед этим молчала, а вот сейчас ее прорвало.
Агроном, конечно, вызвался проводить их, и до самого дома пришлось идти опять втроем. Когда пришли, Сонька сказала:
— Ты, Олюша, ложись. Я скоро приду. — Сказала это так, будто уже не впервой ей, Соньке, оставаться с этим парнем, а Ольге идти спать. Очень не понравились тогда Ольге эти нахальные Сонькины слова. Но Сонька была ее самая близкая, неразлучная подруга, и сказать ей об этом она бы никогда не сказала…
Агроном пришел на гулянье и на другой и на следующий день. Но Ольга уже не сидела третьей лишней, а под разными предлогами уходила к другим подругам и оставляла их вдвоем. А потом приходила Сонька и долго мешала ей спать.
— Ох же, и парень этот Вася! — шептала Сонька. — Что наши сельские по сравнению с ним — мышое́дина… Сильный такой, ловкий, с ним не пропадешь!
Ольга слушала подругу и уже представляла, как Вася носит ее на руках, — иначе откуда бы знать Соньке об его силе! — или держит на коленях и гладит своей широкой ладонью ее руку. Ольге становилось очень грустно, и она не могла заснуть еще дольше Соньки.
А потом она как-то спросила:
— А о чем он говорит с тобой, когда вдвоем остаетесь?
— Да так, обо всем, — уже без прежнего пыла, неопределенно ответила подруга, и Ольга в ту ночь заснула без обычных вздохов в подушку, и приснился ей какой-то хороший сон.
Еще через неделю Сонька пришла чем-то недовольная и, молча повозившись в постели, сказала:
— Хороший он парень, Оля. Только уж больно молчальник какой-то.
— Ну, что ты! Он всегда такой разговорчивый, — вступилась за агронома Ольга.
— Это на людях. А как останемся вдвоем, словно в рот воды набирает. А еще городской!
Ольга слушала, затаив дыхание: боялась прослушать что-нибудь важное.
— Или скажет: послушай, Соня, тишина-то какая! А что мне ее слушать, эту тишину, может, я люблю, чтобы шумно… А то про какого-то суслика, которого он из норы выманил, начнет рассказывать или про соловьиное гнездо, что на опушке нашей Ольховки отыскал. А на кой мне его суслик сдался? Может, я про любовь хочу послушать…
Про суслика Сонька сказала уже совсем сердито, и это понравилось Ольге, хотя она и понимала, что радоваться ей сейчас как-то немного нечестно.
— А нынче мялся, мялся, — продолжала Сонька. — Я уж думала — объясниться хочет, сама к нему голову на плечо положила. А он даже поцеловать не решился.
Последние слова обрадовали Ольгу вдвойне: понравилось, и что до этого еще у них с Сонькой не дошло, и что Вася оказался таким нерешительным. И в эту ночь она заснула уже совсем веселой, хотя никаких снов не видела.
Агроном несколько дней не появлялся, и Соня, как-то собираясь на гулянье, сказала:
— Ты, Оля, останься. В случае чего встретишь тут моего зазнобу, а я пойду. Хватит, я за ним походила, теперь пусть он за мной погоняется.
Ольга знала, что недавно в село приехал студент и что Сонька уже на него заглядывается, и дело тут вовсе не в том, что она много за Василием «походила». Но она с легким сердцем простила подруге эту неправду.
И надо же было так случиться, что в этот именно вечер Вася пришел. А она даже переодеться не успела и осталась в том же простеньком платье, в каком днем в поле работала.
— Соня ушла к церкви, — сказала она, как только пришел Василий. Сказала и замерла.
— Вот и хорошо, — просто ответил он, сел рядом и начал закуривать.
Прикурив, он некоторое время не гасил спичку, задумчиво глядя на ее неяркий огонь. Потом повернулся к ней.
— А это, никак, то самое платье на тебе, в котором я тебя у ключа встретил? — вдруг спросил Василий, и Ольге стало так радостно, что он сказал не «вас», а «тебя». — Хорошее платье! Правда, длинноногая ты в нем какая-то, но это ничего. Значит, растешь…
Говорил Василий неторопливо и как-то уж очень просто, так просто, что Ольге минутами казалось, что знакомы они уже целый год и что не с Сонькой, а с ней просиживал он эти недавние вечера.
Время летело быстро, совсем незаметно. Уже дважды пропели петухи. Ольге показалось, что пропели они почти подряд. «С ума они, что ли, сегодня сошли? Торопятся как на пожар!» — недовольно подумала она.
— Пойдем пройдемся, — предложил Василий. — А то, чего доброго, Соня придет, все испортит.
— Теперь уж не испортит, — тихо сказала Ольга.
— Это верно, теперь не испортит, — согласился он. — Несмелая ты уж очень. Давно бы так надо.
— Откуда же я знала? Сонька у нас на селе первая девка, — теперь Ольга была готова хоть до небес превознести свою подругу.
— Ну, так что ж, что первая? — все так же просто спросил он. — Разве в этом дело?
Они вышли за село. Уже начинало светать.
У маленькой заболоченной мочажины Василий посмотрел на Ольгины сандалии, затем на свои хромовые сапоги и, ни слова не говоря, подхватил ее на руки. Ольга даже не успела опомниться, как он уже перенес ее через мочажину. И только когда Василий опустил ее на землю, успела подумать: «А Сонька была права — он очень сильный…»
— Какая легкая ты, однако, — проговорил Василий, — совсем ничего не весишь.
— Легче Соньки? — неожиданно вырвалось у нее, и она, как и в начале вечера, замерла, ожидая, что он ответит.
— Наверное, легче, — видно, поняв ее, уклончиво ответил он и засмеялся.
На востоке уже затуманился нижний край неба. И Ольга подумала, что ведь стыдно, наверное, будет засветло возвращаться домой. А он стоял перед ней на лугу и, держа ее холодные пальцы и своих широких теплых ладонях, смотрел в ее глаза и улыбался. Стоял и улыбался… Да, конечно, стыдно приходить домой утром, но и как уйдешь от такого! Ведь такое бывает у человека, наверное, только один раз в жизни…
Они поженились. А через какой-нибудь месяц Василия призвали на военную службу. Весной следующего года родился Юрка, а поздней осенью у далеких Курильских островов, на краю земли, Василий погиб. Погиб, когда никакой войны уже не было, когда люди начали понемногу забывать про нее, и, может, потому его смерть казалась особенно нелепой и обидной. Трудно, трудно и по сей день мириться с мыслью, что Василия нет, что он уже никогда не вернется.
Сегодня она пожалела Соню, у которой действительно-таки все впереди, у которой есть будущее. Жалеть надо было себя, это у нее, у Ольги, нет будущего, у нее есть только прошлое. А жить только прошлым, жить без будущего трудно. Очень трудно!..
Стукнула наружная дверь, в сенях затопали, загремели.
Ольга встала с сундука, чтобы зажечь свет.
Пришла Лена с Юркой. Юрка посинел от холода и шумно шмыгал носом.
Лена начала жаловаться: это безобразие — так гулять, уж темно, уже закоченел весь, а если бы она не шла из школы, и до сих пор торчал бы на улице. Что ей, только и заботы, что его силой с гулянья домой затаскивать? Большой уж, сам должен понимать!
Юрка оправдывался, пытаясь расстегнуть закоченевшими пальцами пуговицы пальтишка: вышел он совсем недавно — это и мама подтвердит — и ни крошечки не замерз, вот ни на столечко.
Ольга слушала Юрку, смотрела на его торчащий вихор, оттопыренные уши, на влажные, смородиновые глаза, и сердце ее постепенно теплело, будто оттаивало.
«Вот оно, мое прошлое и будущее. Не знаю, много это или мало, знаю только, что все тут. Все: и горе мое и радость моя…»
— Мама, ты что? — Юрка подошел к Ольге и приложился холодным ухом к ее руке выше локтя.
— Ничего, сынок, — Ольга провела рукой по вихру, но он тут же снова встопорщился.
— Мама, не надо так. — Юрка потер ее переносье, разглаживая собравшиеся складки на нем. — Во-от! Вот всегда такая и будь…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Никогда еще Михаил не ждал наступления весны с таким нетерпением.
Словно поддразнивая его, на улице то теплело, то снова холодало. Вот уже по-настоящему запахло весной, вот-вот должны тронуться снега, однако окончательно повернуть на весну погода все еще не решалась. Дни тянулись медленно и, как казалось Михаилу, совершенно бесцельно.
«А ведь мне придется работать в Новой Березовке, — как-то подумал он, — а там много поливных земель. Интересно, чем отличается их обработка? Хорошо бы спросить об этом Ольгу… Тем более что сама приглашала заходить. Приглашала-то, конечно, из вежливости, но все же ничего страшного нет, если зайду. Заодно и про орошение спрошу. То есть как «заодно»? Заодно с чем?..»
Так и не ответив на этот вопрос, Михаил начал одеваться.
По дороге он старательно обдумывал, как бы благовиднее оправдать перед Ольгой свое неожиданное посещение. Но дорога была недалекой, и ничего нового, кроме агрономической консультации, придумать Михаил так и не смог.
Вот и дом, в котором живет Ольга. Может, она уже видит его в окно и… Да нет, на окнах ледяная корочка, и через нее вряд ли что можно увидеть. А если бы и не было этой корочки — все равно! Будто у Ольги и дела другого нет, как в окно смотреть!
Михаил решительно отворил калитку, поднялся на низкое, в три ступеньки, крыльцо, шагнул в сени. «Здравствуйте, — скажу, — вот интересуюсь орошением, в смысле тракторной обработки поливных земель и вообще…» А то возьму да и просто: «Решил, мол, зайти по-соседски, уж не обессудьте…»
Однако получилось так, что ни одно из приготовленных вступлений Михаилу не пригодилось. Когда он вошел в комнату, в ней, кроме сидевшего на полу ушастого мальчишки, никого не было.
Мальчишка поднял на Михаила смородиновые глаза, как бы спрашивая, зачем дядя пожаловал. Михаил неловко поздоровался с мальчуганом, выигрывая время, чтобы сообразить, чей он и откуда и кем приходится Ольге. Наконец, решив, что перед ним не кто иной, как сын Ольги, Михаил спросил, где его мама.
— Мама на работе.
Михаил взглянул на часы. Ну, конечно, всего четыре часа! Занятый мыслями о том, что сказать Ольге при встрече, он совсем забыл, что в это время она еще на работе.
Михаил огляделся еще раз, словно по вещам хотел что-то узнать о хозяйке дома. Этажерка с книгами, на столе ваза, в простенке большой портрет смеющегося парня, с точно такими же, как у мальчишки, оттопыренными ушами и темными глазами…
— Ну, что же, давай знакомиться, — сказал наконец Михаил, присаживаясь около мальчика на низенькую скамейку.
Познакомились.
«К следующему разу надо какого-нибудь гостинца купить. Парень он вроде ничего, да и вообще надо с ним подружиться. Или конфет, или игрушку какую куплю. Лучше игрушку, конфеты — это если бы девчонка… Только какую бы ему поинтересней выбрать, что́ этот народ больше всего занимает в таком возрасте?»
Собственный жизненный опыт у Михаила на этот счет был слишком скудным. У него во все детские годы была одна игрушка — огромный деревянный конь, вырезанный отцом из березового чурбака. Очень прочный конь! Правда, хвост прожил недолго, потом пооббились уши, стерлись глаза, пришлось сменить оси колес, на которые был поставлен конь, но зато все остальное не знало износа. Может быть, где-нибудь на чердаке этот конь валяется и по сей день, покрытый слоем пыли, но все такой же крепкий…
«А что, если и мальчишке большого красивого коня подарить?»
Но едва Михаил принял такое решение, как увидел под лавкой, за спиной мальчика, коня с рыжим хвостом и серебряной гривой. Правда, конек был и мал и тщедушен, но все же конь, и второго покупать не было смысла.
На полу валялось много других игрушек. Тут были и старые, уже вконец изломанные, и новые, еще совсем целые. Но, видимо, и те и другие, успев изрядно наскучить мальчику, сами по себе уже мало интересовали его, а лишь служили чем-то вроде строительного материала.
Понаблюдав некоторое время за созидательной работой мальчишки, Михаил сделал попытку помочь ему. Из этого ничего не вышло: дом с треском развалился от прикосновения слишком больших и неумелых рук. Малыш ничего не сказал, а только с сожалением посмотрел на Михаила и укоризненно вздохнул:
— Э-эх!
Чтобы замять неловкость, Михаил предложил Юрке поиграть в домино. Тот охотно согласился, и игра началась. Однако после первого же проигрыша мальчишка стал жульничать: обменивал «очкастые» фишки прямо под носом Михаила, беззастенчиво подсматривал. Михаил делал вид, что не замечает этих воровских махинаций, и великодушно проигрывал, но малыш в конце концов, должно быть, понял это, и у него сразу же пропал интерес к игре.
В это время раздались шаги в сенях, и Михаил почувствовал, как у него разом ослабли руки и стало жарко лицу.
Вошла девочка лет десяти и, раздеваясь, спросила:
— Вы к Оле? Она скоро придет.
Неодолимая робость опять охватила Михаила, и, посидев еще немного, он собрался уходить. Удивленно подняв тонкие бровки, девочка спросила, почему он не хочет дождаться Ольги.
— Зайду как-нибудь в другой раз, — неопределенно ответил Михаил.
На улице еще по-зимнему холодно и крыши под белыми снежными шапками. Но небо уже не зимнее — потемневшее, как будто немного отсыревшее. И снег, даже на глаз, стал плотнее, осел, не топырится белым пухом, а лежит весомо, тяжело, приметно маслянится под полозьями.
Все-таки скоро весна!
Выйдя из калитки, Михаил увидел шагающего неторопливым, но спорым шагом Гаранина. Поравнявшись, Гаранин поздоровался и, лишь вскользь взглянув на Михаила, перевел глаза на дом, из которого тот только что вышел.
— Дядя Илья! — услышал Михаил обрадованный голос Юрки, выбежавшего следом за ним на улицу. — Почему к нам не заходите?
— Некогда, Юра, — хмуро улыбаясь, ответил Гаранин. — Как-нибудь в другой раз.
«Эге! — озадаченно подумал Михаил. — А они, похоже, хорошие знакомые, чуть ли не друзья».
2
Гаранин шел из ремонтных мастерских. Был он не в духе: фуражка надвинута на самые брови, а руки засунуты глубоко в карманы и сжаты в кулаки, словно он собирался с кем-то драться.
Утром в кабинете Андрианова произошел такой разговор. Приехавший из города Оданец сказал, что ездил он напрасно: на заводе ничего подходящего не нашлось, а в областном управлении приняли его довольно холодно и дальше посулов дело не пошло.
— Тем более что из графика мы выбились, — продолжал Оданец, — а у них, как я понял, такой порядок: снабжать в первую очередь не отстающие, а передовые станции. А то, мол, и отстающих не вытянем, и передовиков растеряем… Как быть? Может, так сделаем: у нас наберется с дюжину машин, которые из ремонта, можно считать, вышли, но им не хватает какого-нибудь пустяка: шестеренки, валика, подшипника. Я думаю, ничего страшного, если мы покажем в сводке эти машины как готовые. Тогда у нас сразу скачок вверх, к передовикам, и… и все вытекающие отсюда блага!
В кабинете наступило молчание. Андрианов нахмурился, спрятав глаза под мохнатые брови, и до тех пор разминал папиросу, пока вся она не высыпалась на дорожку. Видимо, предложение главного инженера поставило его в тупик. Оно ему не нравилось — это ясно. Но ведь Оданец специально присланный дипломированный инженер, и ему лучше знать, как вести дело.
— Коренной подшипник не пустяк, Дмитрий Павлыч, — наконец проговорил Андрианов.
— Допустим, но ведь на его установку надо не больше часа, от силы — двух часов. Лишь бы скорее их присылали, а поставить мы их все в один день поставим.
— Если они сейчас с посылкой частей не спешат, — продолжал Андрианов, — когда дадим сведения, что трактора на ходу, тем более ничего не дождешься. Да и, как бы это сказать… на очковтирательство это смахивает.
— Ах, даже вон куда! — явно задетый, воскликнул Оданец. — Так, так… А ты, Илья, что скажешь?
Илье вдруг вспомнился разговор со своим первым посетителем Андреем Галышевым, и он подумал: а нет ли тут ответа на вопрос инженера «как быть?».
— Думаешь? — по-своему понял молчание Ильи Оданец.
— Думаю, — машинально ответил Илья, поднялся и вышел из кабинета.
Придя в мастерские, он долго, обстоятельно разговаривал с Галышевым, с другими трактористами, и чем дальше, тем больше сердился на себя за то, что в делах да суете чуть не забыл просьбу бригадира.
А еще, может, и потому Илья был не в духе, что после разговора в мастерской положение его — уже в который раз! — необычайно затруднилось. Похоже, что Галышев прав, но твердой уверенности у Ильи не было. А время не ждет, опять надо выбирать, опять надо решаться…
Чтобы немного собраться с мыслями, Илья, не заходя в контору МТС, направился прямо домой.
Жил он пока в Доме колхозника, занимая отдельную комнатку на втором этаже. Комнатка была небольшой, но оттого, что в ней, кроме железной койки, стола и стула, никакой другой мебели не было, казалась излишне просторной. Топили в Доме колхозника экономно, и всегда было свежо, по утрам особенно.
Илья вымыл руки, напился чаю и с удовольствием вытянулся поверх одеяла на койке, укрывшись регланом. Во всем теле чувствовалось страшное утомление, хотя и непонятно было, откуда оно.
Снизу, из чайной, доносилась нестройная двухголосая песня о том, как в глухой степи замерзал ямщик. Тенор запевал, бас подхватывал, но подхватывал не когда это было нужно, а когда вздумается, и так усердствовал, что заглушал товарища.
А жене скажи слово прощальное, —грудным, рыдающим голосом выводил запевала. Голос подымался все выше и выше, казалось, вот-вот он сорвется и перейдет на плач, но вступал бас, и безысходная тоска запевалы, постепенно смягчаясь, утихала…
Однажды они с Тоней катались на лодке в городском парке. По радио передавали эту же самую песню. Но то ли день был праздничный, то ли у них было веселое настроение, но они слушали грустную песню и улыбались друг другу. Сейчас это казалось удивительным: слушать такую тоскливую, хватающую за сердце песню и — улыбаться.
Не лежалось. Илья встал, прошелся по комнате, сел у стола.
Было холодно. Окна, сплошь покрытые белыми пальмовыми листьями, плохо пропускали свет.
«А все-таки здесь очень неуютно. И порядок во всем и чисто — подметают каждый день, — а все равно как-то не по-жилому».
Илья вспомнил свою городскую квартиру, тоже когда-то по-холостяцки запущенную, вспомнил, какой уютной сделала ее Тоня, и вся их короткая семейная жизнь показалась сейчас счастливым сном.
Когда-то они теперь снова будут вместе? И будут ли?
Вызываясь ехать на работу в деревню, Илья думал, что Тоню обрадует такое решение: она училась в сельскохозяйственном техникуме, перешла на последний курс, и, значит, так или иначе ей предстояло уезжать из города.
Но Тоня повела себя как-то странно. Она сказала, что не хочет, чтобы Илья уезжал, и вообще, прежде чем давать согласие, надо было посоветоваться. «Ну если не сейчас, так через год все равно и тебе ехать: агроному в городе делать нечего», — ответил озадаченный Илья. «Что ломать голову над тем, что будет через год, — надо этот год прожить! А так вдруг — и ты уедешь. Как же я тут одна без тебя останусь?» Тоня заплакала, и он тогда подумал, что и в самом деле не поторопился ли? Но похоже было: Тоня чего-то недоговаривала, что-то хотела и боялась сказать Илье… А может, это ему только так казалось? Может, и договаривать было нечего? Ведь Тоня, в сущности, еще очень молода, а много ли можно спросить с двадцатилетней девчонки, которая еще плохо знает не только жизнь, но даже самое себя?
Совсем стемнело. Внизу петь перестали, но от этого стало еще тоскливее.
«А не сходить ли к кому-нибудь из знакомых? — подумал Илья. — Хотя бы к Ольге. Правда, она меня вроде не очень жалует, но, может быть, что-нибудь присоветует…»
Как-то, тоже вечером, он заходил к ней, но попал некстати. Ольга только что приехала из колхоза и готовила обед. Разговор у них не клеился, Илья поиграл немного с Юркой и ушел.
Сегодня он пришел, кажется, удачнее. Лена сидела за столом и решала задачи, Ольга с Юркой на диване читали какую-то сказку.
— …Всю ночь она ткала и выткала ковер, — читала Ольга. — На нем все царство расписано, с городами и деревнями, лесами и нивами, и птицы в небе, и звери на горах, в рыбы в морях; кругом луна и солнце ходят…
— Вот это ковер! — Илья разделся и сел на стул рядом с диваном.
Весело потрескивала печурка, в комнате было так тепло, что Илья расстегнул ворот рубашки. Ольга стеснялась уже меньше, чем в первый раз, и разговор шел проще, непринужденней, а если иногда и прерывался, все равно это не казалось неудобным.
Потом Ольга отлучилась куда-то по дому, и Илья с Юркой начали играть в фантики. На диване было тесно, пришлось перейти на пол. Юрка играл не всегда честно, за ним надо было глядеть да глядеть. Вот он щелкнул по фантику и, видя, что тот не долетел, незаметно подвинул его.
— Ну, брат, это знаешь как называется? — строго спросил Илья. — Это жульничество. Я тогда с тобой и играть не стану.
— Дядя Илья, я больше не буду, — клялся Юрка, но, как только дело начинало клониться к проигрышу, снова забывал о своей клятве.
После фантиков они играли в загадки, собирали из кубиков гусей, зайцев, собак, и Илья чувствовал, как тепло этой комнаты, тепло вот этих черных, немного плутоватых мальчишечьих глаз проникает в его сердце и все размягчает в нем.
Он так и ушел, не поговорив с Ольгой о своих делах. Да и вряд ли она могла что посоветовать.
3
Алексею Ивановичу Андрианову новый секретарь при первом знакомстве понравился: немногословен, самостоятелен, в делах несуетлив. Должно быть, потому Алексей Иванович обратил внимание на эти именно качества Гаранина, что больше всего не любил болтливых и без толку суетящихся людей. Гаранин же все делал основательно и, если за что брался, обязательно доводил до конца.
Как-то произошел такой случай. К секретарю партбюро пришел по делу один из ремонтников. Гаранин предложил ему раздеться (для этого он специально прибил у порога вешалку), а затем уже проходить к столу для разговора. Парень замялся: «Уж больно грязная роба там у меня», — наконец объяснил он свое замешательство. «Что же это ты, брат, в такой ходишь, что раздеться стыдно? — спросил Гаранин. — Что рабочий человек ты и руки у тебя в мозолях да в масле, этого стыдиться нечего, этим гордиться можно, потому что такими вот рабочими руками все на земле сделано. А что ходишь в такой робе, что стыдно в ней показаться, — это уж плохо», «С умывальником у нас неустроенность, — пожаловался парень. — Стоит он чуть ли не на улице, по-летнему, умыться негде». — «Ну, я думаю, умывальник мы наладим».
Андрианову об этом разговоре Гаранин ничего не сказал, тот случайно узнал о нем от самого ремонтника. Андрианов вызвал заведующего мастерскими Алимова и сказал, чтобы тот немедленно же перенес умывальник. Алимов улыбнулся в ответ: умывальник уже перенесен, а кроме него рядом с кузницей устроен горячий душ. Действует со вчерашнего дня.
До этого случая Андрианов не только не заставлял раздеваться посетителей, а и сам частенько принимал в пальто и шапке. Теперь он сидел в кабинете в аккуратно выглаженном полувоенном френче и дал наказ секретарше, чтобы та никого в верхней одежде к нему не пускала. Немножко досадно было, что сам он не смог додуматься до таких простых вещей, как горячий душ для ремонтников или вот этот обычный во всяком учреждении порядок. А порядок этот Андрианов оценил сразу же. Никто уже не вваливался в кабинет, начиная ругаться еще от порога, разговоры шли спокойней и деловитей, даже курить стали, кажется, меньше и уж, во всяком случае, не сыпали пепел и не бросали окурки где придется. Правда, кое-кто на прием теперь не попадал: один председатель не стал раздеваться, а сказал, что зайдет в другой раз; двое трактористов вчера тоже повернули обратно. Но это ничего, пусть привыкают.
Однако не все в поведении нового секретаря было понятно Андрианову. Зачем-то вдруг поехал в колхозы, а потом ругался с главным инженером, что тот не дает тракторов на вывозку навоза. Зачем-то дотошно расспрашивал Васюнина об орошении. Ведь ни то, ни другое его совсем не касается. Или хочет показать себя этаким всем интересующимся и все знающим руководителем?
А вчера вдруг среди разговора встал и ушел из кабинета. Сказал, «подумаю». Любопытно, что надумает? Хоть разговор-то этот к нему тоже прямого отношения не имеет, но все же интересно.
День выдался тихий. Уже добрый час Андрианов сидел у себя в кабинете, а пока еще никто не шел. Позвонили из райкома, сам Андрианов позвонил в староберезовский колхоз. Во время разговора со Старой Березовкой вошел хмурый, но, как всегда, аккуратно побритый, в нарядном галстуке Оданец.
Главный инженер работал в МТС уже больше двух месяцев, но — странное дело! — о нем Андрианов и до сих пор еще не составил более или менее определенного мнения. Оданец отлично знал технику, уверенной рукой навел порядок в мастерских. Он быстро сработался с подчиненными и для многих механиков и бригадиров уже был своим человеком. Разве что слабовато разбирался в колхозной экономике, но это для главного инженера грех не великий: на то есть агрономы. Во всем же остальном показывал себя Оданец с самой хорошей стороны.
И все-таки Андрианов как-то не видел, не чувствовал, что двигало этим человеком, когда он ехал сюда, ради чего он оставил город с удобной квартирой, завод, где, судя по характеристикам, его ценили и уважали.
Оданец стал у окна и сосредоточенно, будто за этим только и шел сюда, рассматривал эмтеэсовский двор. Пальцы его сцепленных за спиной рук напряженно шевелились, точно хотели и не могли расцепиться.
— Зря обижаешься, Дмитрий Павлыч, — имея в виду вчерашний разговор, примирительно сказал Андрианов.
— Или вы меня дурно поняли, Алексей Иванович, или действительно привыкли на последних строчках сидеть, а вперед вырваться смелости не наберетесь, — не оборачиваясь, ответил Оданец.
— Если бы за одной смелостью дело…
— Так что ж теперь, сдаваться? Ну, нет, я не отступлю. Съезжу еще раз в город и уж если не у нашего начальства, так на заводе чего-нибудь добьюсь. Добьюсь!.. Только ведь опять же: легче было бы добиваться, если бы товарищи мои видели, что я здесь не зря государственные деньги проедаю, что станция наша к верхним строчкам тянется.
Андрианову не хотелось продолжать этот разговор, и, чтобы кончить его, он сказал:
— Через эту, как ты говоришь, последнюю строчку у нас сейчас и денег-то нет ни шиша, только с нового квартала будут.
— А-а, что там деньги! — Оданец досадливо махнул рукой. — Лишь бы достать, что надо, — деньги я и свои могу заложить. Правда, жене хотел послать, да ничего, обойдется.
— Нет, нет, Дмитрий Павлыч. Неудобно.
— Удобно, неудобно. Мне вот в глаза товарищам по заводу глядеть неудобно. А жена меня поймет.
— Кстати, можешь сказать ей, чтобы готовилась к переезду. Через две-три недели дом будет готов. Тебе — отдельная квартира из двух комнат.
Оданец отрицательно покачал головой:
— А куда мы поселим молодоженов?
Он говорил про двух инженеров — мужа и жену, приехавших в МТС осенью по окончании института: один работал контролером в мастерской, другая ведала механизацией животноводческих ферм.
— Потерпят до лета.
— Ну, нет. Какие из них работники будут с таким настроением? Уж лучше я сам потерплю, а они пусть занимают эту самую квартиру из двух комнат — и никаких!
В МТС что ни месяц прибывали новые работники, и нужда в жилье была самая острая. Но Андрианов по собственному опыту знал, как трудно жить порознь с семьей, и его тронули последние слова инженера. «А может, вот оно то, чего я в нем не видел, не замечал? Правильно говорится, пуд соли надо съесть с человеком…»
Пришел Гаранин.
— Ну, что надумал, Илья? — спросил его Оданец.
— Это ты насчет чего? — Гаранин, недоумевая, посмотрел на главного инженера. — Ах, насчет сводки… Нет, Дмитрий Павлович, над этим я и не думал. Тут и думать нечего — на заводе, сам знаешь, за такие вещи не хвалили.
— То завод.
— Вот тебя и пойми: то будем к заводской культуре приобщаться, то — здесь не завод… Думал я над другим.
— Над чем же, интересно знать? — в голосе Оданца послышались обиженные нотки.
— Над тем, как нам дальше ремонт вести.
— Так, так. И что же надумал?
— Если неотложных дел нет, хорошо бы нам всем дойти до мастерской, — неожиданно предложил Гаранин. — На месте-то оно видней.
Андрианов согласился не раздумывая, Оданец сначала отнекивался: сто́ит ли, дела есть, но все же пошел и он.
Вскоре они сидели в «кабинете» заведующего мастерской, за дощатым замасленным столом, в окружении ремонтников.
В углу гудела и переливалась темным малиновым цветом печка, сделанная из бензинной бочки, и от нее исходил сухой, как в русской бане, размаривающий жар. Сквозь пыльные стекла окна пробивались оранжевые лучи солнца и неверными робкими бликами ложились на лица ремонтников, вырывая из синеватого сумрака блестящие от масла скулы, подбородки, загорелые лбы.
Андрианову вспомнилось, как в годы войны, когда мастерскую с худыми окнами и дырявой крышей нечем было топить, это помещение было единственным, где трактористы спасались от стужи, а бывало, что здесь же и подгоняли мелкие детали, требующие особой точности. Трудное было время! Трудное, но и чем-то неповторимо хорошее. Какая-то собранность, горение было в людях. И он тоже стоял как-то ближе к ним, делил с ними все пополам. Сейчас — черт его знает почему! — приходится специально приходить в мастерскую, чтобы узнать, что думают трактористы о ремонте.
Разговор поначалу не налаживался, люди словно боялись, что скажут не то, чего от них ожидает начальство.
Но вот из угла, от печки поднялся старый опытный тракторист Филипп Житков.
— Если уж вы нас слушать пришли — слушайте. Кто как, а я буду говорить прямо.
— Только так, — ободрил его Гаранин.
— Было время, когда мы ремонтировали побригадно, — сказал Житков. — Каждый единоличным порядком радел о своей машине, тащил у товарища запасные части, а тот в свою очередь норовил стянуть у другого. Производительность от этого была, конечно, низкая. В этом году, с приходом нового инженера, ремонт ведем новым, узловым способом, и дело подвигается куда быстрее. Однако если ремонт у нас идет по-новому, то все остальное остается, как и было.
— То есть? — спросил Оданец.
— Да ведь машины-то мы готовим по-прежнему к весне, к лету. А что, если колхозам сейчас наша помощь нужна? Или это нас не касается? Но ведь я так понимаю: не колхозы для МТС существуют, а наоборот.
— Какая-то сермяжная правда в этом, может, и есть, — обгрызая ноготь на большом пальце, проговорил главный инженер. — Однако частей не хватает даже на то, чтобы, как ты говоришь, к весне подготовиться, — где уж тут о зиме думать?
— Выходит, все упирается в запчасти? — спросил Галышев.
— Да, увы, даже самое умное слово вместо подшипника не поставишь, — усмехнулся Оданец.
— А в этом и нет нужды. — Галышев широко улыбнулся. — Частей хватит. Если их экономно расходовать.
— Это уже интересно, — поднял голову Оданец.
— А очень просто. Ведь нельзя же сказать, что частей нам совсем не дают. Дают! Мы выбираем лимит, и стоп машина! Куда же уходит лимит? А вот куда: восьмому трактору, как я узнал, двадцатого октября сменили поршневую группу. Поршни, гильзы, кольца — словом, все честь честью. А двадцать седьмого ударили заморозки, и трактор стал на зимний ремонт. Сколько часов положено работать поршневой группе, это инженеру знать лучше, но проработала она пустяк. И что же? А то, что в дефектной ведомости значится: трактору номер восемь полностью заменить поршневую группу. Еще бы! Машина должна выйти на сев в полном ажуре…
— Это плохо? — спросил инженер.
— Нет, не плохо. Но ведь на этом тракторе можно бы всю зиму навоз, корма возить и только перед самым севом заменить части. И государство от этого было бы в выгоде, и трактористы не в накладе. Потому что, когда тракторист сидит за рулем на машине, он зарабатывает если не в пять, так в десять раз больше, чем когда лежит под ней, чинит.
— А что бы вы написали в сводке, которую мы подаем в область? — спросил Оданец. — Мол, часть тракторов ремонтировать раздумали?
Галышев развел руками:
— Насчет сводок не приходилось, не знаю… Что же касается машин, то из своей бригады хоть завтра же этот восьмой трактор готов отправить в ключевский колхоз на вывозку навоза. Пусть себе работает на здоровье!
— Не торопись. Ни одна машина без моего разрешения за ворота мастерской не выйдет. — Оданец наморщил гладкий лоб, постучал полусогнутым пальцем по столу. — А впрочем, тут надо подумать…
Воспользовавшись паузой, ремонтники дружно закурили, и сизый дым волнами заколыхался над столом.
— Ладно уж, скажу и про сводку, если на то пошло, — опять поднялся Галышев. — Вот сейчас по всем газетам трезвон идет: досрочно завершим зимний ремонт. И в пример ставят те МТС, которые закончили его еще по осени, еще чуть ли не в октябре. И правильно, конечно, ставят — пора нам всем научиться ремонт вести быстро и хорошо. Но вот что делают трактора в тех, примерных, МТС с осени до весны — об этом у нас почему-то писать не принято. А ведь получается, что трактора только полгода работают, а полгода стоят на приколе — чем же тут хвастать-то? Или, может, им, как и комбайнам, работы зимой нет? А лес, а цемент на строительство возить, минеральные удобрения — автомашинами же зимой не проедешь. А не возят опять же через ту сводку: жалко ее портить. И я понимаю, конечно, — Галышев обернулся к главному инженеру, — начальство с вас со всей строгостью требует…
— Мы сейчас не про сводки, а про части толкуем, — напомнил инженер.
— А если глубже разобраться — через те сводки и с частями затор получается, — все больше горячась, продолжал Галышев. — Все ремонтируют в одно время, а заводы-то, которые части выпускают, не могут десять месяцев стоять, а потом за два месяца всю годовую продукцию выдать. И вот вместо того чтобы шуметь нам о всяких досрочных ремонтах, взять бы да подумать, а нельзя ли тут по-другому, умнее повести. И начать хотя бы с того, что ремонт делать и осенью, по окончании работ, и весной, перед выездом на сев. Тогда бы и частей не намного больше шло, и затору с ними не было. А главное — машины работали бы круглый год. А то даже неловко как-то получается: все начали решения Пленума в жизнь проводить, колхозы подымать сразу же, с сентября, а мы, МТС, как будто собираемся только с апреля.
Галышев сел. Его с Житковым поддержало еще несколько человек. Остальные отмалчивались или поддакивали инженеру.
— Все это слишком общо, товарищ Галышев, — как бы заключая разговор, сказал Оданец. — Надо бы поконкретнее. А то ведь это называется растекаться мыслью по древу.
— Ты сам-то спорь конкретнее, убедительней, — заметил Гаранин.
Оданцу замечание это, видимо, пришлось не по нутру.
— А я совсем и не собираюсь спорить, — по-начальнически сухо сказал он. — Перед нами стоит задача: быстро и качественно отремонтировать машины. Начали мы хорошо. В том же духе и продолжать будем. И это будет самым лучшим выполнением решений Пленума… У вас нет ничего, Алексей Иванович?.. Тогда что ж, вы свободны, товарищи.
Ремонтники, несколько обескураженные таким крутым окончанием разговора, один за другим вышли из «кабинета».
— Поговорили, называется, — угрюмо буркнул кто-то в дверях.
Гаранин сидел, низко наклонившись над столом и усиленно дымя трубкой. Лицо его было напряженным, на щеках выступил неровный, пятнами, румянец. Последние слова инженера имели вполне определенный смысл: да, товарищ секретарь, вы тут можете поговорить, я могу послушать, но решать все-таки предоставьте мне…
Неловко чувствовал себя и Андрианов.
— Зачем же так-то, Дмитрий Павлыч? — спросил он Оданца.
— Считаете, я не прав? Считаете, ремонт опять надо растянуть до самой весны? И получать нахлобучки и выговоры на бюро райкома и от областного управления?
Андрианова, практика, не имеющего и среднетехнического образования, райком в свое время предупредил: теперь в технику сам лезь поменьше, предоставь свободу действий новому инженеру — человек и с образованием, и с большим заводским опытом. И он не знал сейчас, что ответить, как повести себя с инженером.
Дать тракторы колхозам и затянуть ремонт, который впервые за много лет начался так организованно и хорошо? Правильно ли это будет? Но и соглашаться с инженером тоже не хотелось. Прав или не прав Гаранин, но этот спор разбудил в людях то горение, тот огонек, которого Оданец не видит и который своим неосторожным начальническим окриком может загасить совсем.
— Ты не сердись, Илья, — видимо, понимая все-таки, что переборщил, сказал после паузы Оданец. — Погорячился я немного.
— А чего мне сердиться? — сдержанно ответил Гаранин. — Ты не со мной, с ними объясняйся. А объясниться, Дмитрий Павлович, так или иначе придется. Соберем-ка мы завтра партийное собрание и послушаем, как ты там всякие начальнические команды и установки давать будешь.
Оданец встревоженно посмотрел на Гаранина:
— Завтра? Нет… Завтра я уезжаю в город. Давай отложим… А может, и вообще не стоит? Все-таки вопрос не политический, а чисто технический.
— Так думаешь? Зря. — Гаранин говорил по-прежнему ровно, но уже постепенно переходил в наступление. — Может, не собрание отложим, а ты — свою поездку?
— Нет. Мы и с Алексеем Ивановичем уже условились.
Андрианов утвердительно кивнул и, видя, что Гаранин все еще не хочет уступить, положил ладонь на его руку с зажатой трубкой, как бы говоря: «Запал, Илья Михайлович, побереги до собрания, а раньше времени по пустякам не растрачивай». Гаранин понял этот жест и в конце концов согласился провести собрание после возвращения инженера.
4
Утро было сумрачное, мглистое, но потом показалось солнце, и, хотя светило оно еще по-зимнему неярко и косые, бьющие вскользь лучи его давали мало тепла, все кругом просияло, вспыхнуло белым, режущим глаз огнем. Покрытые инеем березы заискрились, засверкали, словно сами солнечные лучи, пробиваясь сквозь их кружевные ветви, дробились на мельчайшие части и застревали там. Синеватый сумрак утра попрятался в тень строений и заборов, еще резче подчеркнув сияющую белизну сугробов.
Илья посмотрел вокруг, прищуривая глаза от избытка света, отер вспотевший лоб и снова взялся за колун. Ощущая в руках его живую, рвущуюся из рук тяжесть, он широко размахивал им и со всей силой обрушивал на березовые, разлетавшиеся с сухим морозным треском кругляши. Гора поленьев росла, ширилась, оползая к ногам, к полуотворенной двери сарая, заваливая проход.
Солнце подымалось все выше, укорачивая, сжимая синеватую тень от сарая. А Илья все махал и махал колуном, то распрямляясь во весь рост, то резко сгибаясь и придыхая на ударе. Со звоном отлетали поленья, шумно шелестела береста, пахло сырым деревом, горьковатым запахом леса. Илья не чувствовал усталости, веселая хмельная сила играла в его проснувшихся мускулах и искала выхода. Р-раз! Раз! Раз!
— Да вы что, Илья Михайлович? Сдельно или поденно взялись?
Илья выпрямился.
По тропинке к сараю шла Ольга в накинутом на голову пуховом платке, в шубейке нараспашку.
— Как же я теперь в сарай-то попаду? — спросила она. — Хватит, хватит! Просили побаловаться, а сами вон что натворили. Теперь мне на полдня убирать.
Илья улыбался. Понимала ли Ольга, что он совсем не устал, что ему доставляет такое же удовольствие тратить большой и ненужный запас силы, с каким застоявшийся рысак делает небольшую пробежку?
Кое-как Ольга все же пробралась в сарай. Илья кидал ей туда поленья, а она укладывала. Но и эта работа кончилась, как показалось Илье, очень быстро.
— А теперь пойдемте чай пить, — закрывая сарай, сказала Ольга и улыбнулась. — Вы его определенно заработали.
Илья уже готов был согласиться, как вдруг ему пришло в голову, что если он пойдет, то получится и в самом деле какая-то поденщина: поработал — пообедал, попил чайку… И к недоуменному удивлению Ольги, он отказался, сославшись на дела.
— Сегодня же воскресенье, — напомнила Ольга.
«И зачем только надо врать?» — спросил себя Илья, но было уже поздно, и ничего не оставалось, как попрощаться.
Он вышел за калитку и медленно, нехотя поплелся в контору МТС.
«Глупо, конечно. Выдумал какую-то чертовщину. Зачем?..»
Но он еще не успел остыть от работы, и то безмятежно-радостное настроение, которое только что владело им, мало-помалу вернулось.
В конторе делать, конечно, нечего. Разве что взять книгу из стола, вчера забыл.
Илья открыл дверь своего кабинета, прошел за стол, выдвинул ящик.
Книга лежала поверх протокола вчерашнего собрания. Из-под нижнего обреза видны последние строчки решения, и Илья с удовольствием перечитал их.
Облокотившись на стол, он закрыл на минуту глаза, и перед ним картина за картиной встало все собрание.
Выступает главный инженер. Поездка его была успешной, и держится он очень уверенно. А Илья и рад и не рад, что Оданец вернулся с запасными частями: части эти позарез нужны, но ведь они же такой козырь в руках инженера!
С козыря и заходит Оданец.
— Как-то чудно получается, — говорит он. — Главный инженер чуть ли не на собственные деньги раздобывает запасные части, а партбюро в это время решает и постановляет, куда и как употребить эти части. Это называется делить шкуру медведя, которого кто-то еще только пошел убивать. Товарищи, да предоставьте это нам, инженерам, механикам, занимайтесь своим прямым делом, занимайтесь политико-воспитательной работой: она же крайне запущена! На мой взгляд, слабо работает и наш агитколлектив, и дисциплина, даже среди самих коммунистов, оставляет желать лучшего…
— Не туда поехали, товарищ главный, — подал кто-то голос. — Мы про Фому, а вы про Ерему.
Это сбило Оданца с тона, и закончил он свое выступление уже не так уверенно.
— За части — большое вам спасибо, Дмитрий Павлыч, — сказал прямо с места Филипп Житков. — Спасибо рабочим, которые по-братски помогли нам. Однако же зря вы всех нас за таких уж темных, непонимающих посчитали. И сами вы будто не понимаете, что разговор идет не о частях, не о дележке их, а о том, чтобы работать по-новому, не сезонно, а круглый год, потому что урожай готовится — пусть это вам будет известно! — не с весны, а с зимы, даже с осени… Об этом коммунисты говорят, и зря вы тут нас по-начальнически журите: не лезьте, мол, не в свое дело, занимайтесь читками и беседами. На этом собрании нет ни начальников, ни подчиненных. И нам до всего дело…
И вот все это собрание, все его страсти и треволнения уместились в несколько слов, коротких и властных, как приказ. И вчера же вечером семь машин ушли в колхозы.
Илья сунул книгу под мышку и задвинул ящик. Уже выходя из кабинета, увидел в углу, около вешалки, лыжи. На них пришел вчера Галышев на собрание из Березовки, а обратно уехал на тракторе. Лыжи забыл.
«Книжку я и вечером почитаю, — передумал Илья и взялся за лыжи. — Палки, конечно, коротки, да и крепления надо прибавить дырочки на две-три, но покататься в общем можно».
Чтобы не привлекать к себе внимания, Илья напрямки, огородами, выбрался за село и заскользил к вершине того самого оврага, в котором он встретился с Юркой.
В полях было торжественно-тихо, кроме поскрипывания лыж, не слышалось ни единого звука. Серебристой чешуей горел и переливался снежный наст, местами уже прихваченный солнцем и заледеневший. По тончайшей, едва уловимой игре света и тени глаз, привыкая, начинал различать в полевом просторе ложбины и возвышения. Низкое зимнее небо придвинуло горизонт, и он казался заманчиво близким — рукой подать.
Илья поднялся на гребень, повернул лыжи и взял разгон. Тонко запел под лыжами снег, засвистел ветер в ушах, а тело как бы начало утрачивать свою весомость, словно за спиной вырастали крылья. Илья правил по одному из склонов оврага, полого, наискось срезая его, и с каждым метром, с каждой секундой нарастала бешеная скорость, росла волнующая радость движения. Он снова почувствовал тот избыток сил, который, начиная бродить по мускулам, всегда немножко пьянит и зовет что-то сделать: раззудись, плечо, размахнись, рука!..
А ветер уже не свистел, а гудел в ушах, как огнем, обдавал лицо и все сильнее и выше подхватывал Илью на свои могучие крылья. Лыжи едва касались наста, и чудилось, стоит захотеть — и полетишь по воздуху.
Но коротки, ох как коротки эти счастливые мгновения! Спуск кончился, лыжи замедляют ход, останавливаются совсем. Надо снова подниматься на гребень.
Выбираясь из оврага, Илья подумал, что радостное ощущение первой его маленькой победы, которым он жил нынешний день, наверное, очень похоже вот на эти короткие мгновения. Завтра снова подъем — трудный, крутой подъем.
И час и два петлял Гаранин по полям, то натыкаясь на собственную лыжню, то забредая в незнакомые места. Он с интересом разглядывал следы птиц и всяких зверушек на снегу: этой ложбинкой проскакал заяц, там вокруг кустика полыни наставила крестиков ворона, здесь, под кочкой, прострочила ровную, как на машинке, строчку мышь…
Неожиданно повстречался Андрианов. Цигейковая короткая шуба и цигейковая же шапка делали его похожим на медведя. Он и шел на своих широких охотничьих лыжах медленно, враскачку. За плечо была закинута заиндевелая двустволка, у пояса, головой вниз, болтался голенастый русак.
Илья откровенно позавидовал удаче охотника.
— Ну, какая там удача! — нарочито равнодушно усмехнулся Андрианов. — Так, зазевался один зайчишка — вот я его и…
Пошли вместе.
— Денек нынче! — снимая шапку и утираясь ее подкладкой, сказал Андрианов. А потом, без всякого перехода, вдруг прибавил: — Признаюсь, не думал я, грешным делом, что ты, такой тихий да спокойный, еще и таким упорным можешь себя оказать. Выходит, только запрягаешь долго, а ездишь быстро…
— Какой же русский не любит быстрой езды! — отшутился Илья.
Они еще некоторое время шагали рядом, потом Андрианов повернул к селу, а Илья остался. Ему хотелось еще раз скатиться знакомым склоном оврага.
Он так же вышел на гребень, так же взял разгон. Но где-то на середине пути одна лыжа вдруг замерла на месте, словно приклеенная. Илья полетел в сугроб, набрав снега в рукава и за ворот.
— Что за черт! — вслух выругался он и оглянулся.
Метрах в пяти чернела узенькая полоска оттаявшей на припеке земли, и от нее исходило чуть заметное струйчатое испарение.
Илья подошел, опустился на колено и потрогал полоску рукой. Земля была холодная, оттаявшая на какой-нибудь сантиметр. И еще не раз, надо думать, ее скует морозом, запорошит снегом, прежде чем она отойдет совсем.
И все-таки это весна! Как всякое дело часто начинается с чего-то малого, так и весна, пожалуй, начинается с такой вот пока едва приметной проталинки…
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Яким Силантьевич Тузов, бывая в районных учреждениях, держался подчеркнуто скромно, почти уничижительно. У себя дома, в правлении, Тузов неузнаваемо преображался. Он восседал в массивном, с высокой дубовой спинкой, кресле за широким двухтумбовым столом. На столе красовался неизвестно как сюда попавший старинный чернильный прибор с двумя бронзовыми подсвечниками по краям.
Под стать кабинету старался важно выглядеть и хозяин. Но Ольга заметила, что, разговаривая с посетителем, Тузов не смотрит ему в лицо, а смотрит или в стол, или на подсвечники. И разговаривает коротко, торопливо, словно боится быть долго с человеком с глазу на глаз, боится, чтобы кто-нибудь не пригляделся к нему.
Ольга сказала, что, по указанию главного агронома, нужно взять на учет всех поливальщиков колхоза и организовать из них специальную бригаду. А также хорошо бы с сегодняшнего же дня начать с поливальщиками занятия.
— Мы это мигом, — взглянув на подсвечники, ответил председатель и заторопился, заерзал на сиденье. — Евсей! — Голос у него был зычный и очень шел к круглому одутловатому лицу с носом-картофелиной.
На зов явился старик в драной шапке, с палкой в руке.
— Мигом собери всех поливщиков: Варвару Садовникову, Настасью Фокину, Шурку Воронкову, Шурку Гусеву, Виктора Полякова…
Председатель долго еще перечислял фамилии, а Евсей, повернув к нему волосатое ухо, после каждой понимающе кивал головой.
Ольга сказала, что особой срочности нет, может быть, люди на работе, зачем же их отрывать, можно подождать до вечера.
Заправив под шапку прядь жестких рыжих волос и сделав важное и в то же время почтительное лицо, председатель ответил, что указания вышестоящих руководителей он привык исполнять без проволочек.
Евсей на слова Ольги ответил и проще и короче:
— Э, милаша! Да дай-то бог хоть к вечеру всех собрать.
— Не болтай, Евсей, а дело делай, — потирая руки, видимо довольный тем, что так скоро спровадил Ольгу, крикнул председатель им вслед. — Мигом! Одна нога там, другая здесь.
Продолжая ворчать: «Какое уж там мигом, вон какая прорва людей!» — Евсей двинулся по селу. Ольга пошла в колхозный клуб, где было назначено занятие.
В клубе было нетоплено, неприютно.
Начали собираться по одному, по двое — женщины, девушки, парни. С некоторыми Ольга была знакома, некоторых видела впервые.
Она заговорила про работу на поливе, но разговор этот поддерживали вяло, неохотно. На Ольгу смотрели с явным или плохо скрываемым недоверием. И на ее вопрос, почему же такой низкий урожай дают поливные земли, пожилая темнолицая колхозница ответила сердито, почти зло:
— Какой уж там урожай — бурьяном заросли поля.
— Да и засолить уже кое-где успели землю, — добавил еще кто-то.
Но как случилось, что поля заросли сорняками и оказались вдруг засолоненными, объяснить толком никто не мог.
Пришла Варвара Садовникова, послушала некоторое время и сказала:
— Вот что. Разговор для нашего колхоза важный, а здесь холодно, пронзительно. Пойдемте-ка ко мне: изба большая, все уберемся.
Так и сделали.
Варвара усадила Ольгу в передний угол, за стол:
— Начинай!
— С чего же начинать-то? — вслух подумала Ольга. — Давайте хоть про то же засоленье поговорим, коли речь зашла.
Ольга стала объяснять: скоро растает снег на полях, земля набухнет водой, наберет ее сколько можно про запас. Такие воды называются почвенными водами. К ним относятся, понятное дело, и дожди и полив — одним словом, вся влага, которую земля получает и впитывает сверху. А есть еще так называемые грунтовые воды. Они залегают глубоко под землей. Однако глубина эта бывает разная. В Астраханской и Сталинградской областях, например, которые являются сравнительно недавним дном Каспийского моря, грунтовые воды залегают совсем близко. У нас, в нашей области, грунтовые воды также находятся на небольшой глубине. Спрашивается, зачем все это я вам рассказываю? А вот зачем. Бывают случаи, когда почвенные и грунтовые воды смыкаются и между ними по тончайшим трубочкам-волоскам начинается передача воды снизу вверх.
Ольга пододвинула стоявший на столе стакан с блюдечком, взяла еще одно блюдечко из-под второго стакана и накрыла им первый: блюдца — почвенные и грунтовые воды, стакан — расстояние между ними.
— Так вот, — продолжала Ольга, — начинается передача воды снизу вверх.
— Хорошо! — не вытерпев, воскликнул сидевший у окна конопатый широколицый парень. — В любую засуху растение влагой будет обеспечено.
— Хорошо? — переспросила Ольга. — Нет, плохо. Очень плохо. Пропащее дело!
В избе стало очень тихо. Слышно было только потрескивание лампы-«молнии».
— Плохо, — повторила Ольга, — и вот почему. Грунтовые воды богаты солями. Вместе с водой по трубочкам в растворенном виде будут подыматься и соли. Вода, дойдя до поверхности, испарится. А соли? Соли останутся. Постепенно их накапливается столько, что прекрасная плодородная земля превращается в солончак.
Парень смутился. Темнолицая женщина поглядела на него с осуждением.
Внимание, с каким ее слушали, ободряло Ольгу.
— Остается выяснить, — продолжала она, — когда же происходит это злополучное смыкание грунтовых и почвенных вод? Не может ли произойти оно при неумелом поливе? Да, может, если полив делается по обычаю: лей побольше — землю промочишь понадежней, и вода стоит на участке сплошным озером. Постепенно проникая в почву, она опускается все глубже и глубже и в конце концов смыкается с солеными грунтовыми водами. Так начинается процесс засоления. Солнце завершает его…
Ольга обвела взглядом своих слушателей.
— Теперь я и хочу вас спросить: не приходилось ли вам видеть такие озера около водосбросного канала? Жалко, мол, воду зря с поля сбрасывать, пусть ее земля-матушка впитывает! А?
Наступило неловкое молчание.
— Чего уж там — было, — за всех ответила Варвара.
— Да ведь шут ее знал, что там, в земле, творится, — виновато проговорила ее соседка, кивая на стакан с блюдцами. — Кто же знал, что там такие движения получаются.
— Сами не знали, а научить было некому.
— Воду на поля провели, а чтобы правильно обращаться с нею…
Было уже поздно, когда разошлись, условившись о дне следующего занятия.
Ночевать Ольгу Варвара оставила у себя.
— Одна я. Муж с войны не пришел, дети разбрелись, кто куда. Так что ты завсегда можешь у меня оставаться…
Поужинали пустой перепревшей похлебкой и легли спать.
Домой Ольга вернулась на другой день к вечеру. Юрки не было, и она никак не могла дождаться его с улицы. Пыталась заняться по дому, но все валилось из рук, она то и дело настораживалась, прислушиваясь, не скрипнет ли наружная дверь.
За время, какое Ольга жила вместе с сыном, она так привыкла постоянно видеть его около себя, кормить, одевать, просто касаться его рук, волос, лица, что теперь ей казалось почти непостижимым, как это она могла почти три года жить вдали от сына, знать, что он есть, и не видеть его. И, как бы вознаграждая себя на эту долгую разлуку, Ольга привязывалась к Юрке все горячей.
Пришел Юрка вместе с Леной. И сразу словно все ожило, преобразилось, даже вещи в комнате будто другой порядок приняли.
— Давай-ка сюда свои уши, — говорила Ольга, прижимая к себе голову сына и оттирая его зазябшие красные уши.
Юрка посматривал смородиновыми глазами из-под Ольгиной руки и счастливо сопел.
— А грязен-то ты, боже мой! Это зима сейчас, а что же летом будет? — Ольга умыла Юрку, огляделась. — Э, да у нас и пол-то умыться просит. Аврал! Ты, Лена, иди пока на диван, а ты, — обратилась она к Юрке, — собери свои коробки.
Ольга сбросила валенки, надела калоши и, прибрав с полу вещи, окатила его прямо из ведра. Василий писал в одном из писем, что так моют пол матросы. Оттуда же запомнилось и словечко «аврал».
За каких-нибудь полчаса Ольга успела вымыть пол, протереть шкаф, затопить плиту и уже помогала Лене чистить картошку.
Громко зашкворчала на сковородке картошка, как бы в лад ей глухо и мерно гудела печка, и от этого в комнате стало еще уютней.
В сенях заскрипели половицы, кто-то пошарил дверную скобу.
«Уж не Гаранин ли опять?»
Вошла мать. Юрка от радости запрыгал на диване.
— Ну вот, как раз впору угадала: и прибрано и обед варится, — по своему обыкновению, еще от порога заговорила мать. — А то день-деньской находишься по начальству, речей умных наслушаешься — аппетит разыгрывается.
Она разделась, сняла у порога валенки, села к Юрке на диван.
— На-ка вот, гостинца тебе привезла и тебе, дочка, — мать разломила пополам кусок пирога и отдала детям.
Лена сидела рядом с матерью, Юрка по-хозяйски устроился на коленях. Гостинец он ел с таким наслаждением, точно это был не обыкновенный пирог с капустой, а невесть какое лакомство.
— А ты, внучек, что-то хилой стал. Или мать тебя плохо кормит, или гуляешь мало? Много, говоришь? Так что же такой зеленый? Вот потеплей будет — ко мне приедешь, я тебя молочком отпою.
— Скорей бы тепло! — подхватил Юрка. — Зима уж надоела.
— Сама-то не думаешь в Ключевское перебираться?
Ольга ответила, что пока нет, но наведываться будет часто.
— И то хорошо.
В этот вечер Юрка улегся в постель без обычных уговоров: торопился услышать от бабки одну из своих любимых сказок.
2
По совету Васюнина, Ольга разговаривала с агрономом Крутинским. Однако из разговора она узнала мало нового.
— Вы человек образованный, — сказал Николай Илларионович, — и должны знать, что эффективность мелиоративных мероприятий оросительного характера на различных почвах различна. На некоторых она высока, на некоторых близка к нулю, а при неумелом пользовании водой орошение может дать и отрицательные результаты. Что касается почв Ключевского и обеих Березовок, то они, на мой взгляд, лишь в ограниченной мере благоприятны для широкой мелиорации. Это наглядно подтверждает печальный опыт новоберезовского колхоза…
Тут Николай Илларионович сделал паузу, как бы давая возможность Ольге оспорить сказанное. Но Ольге не хотелось залезать в дебри ученого спора, и она промолчала. Николай Илларионович продолжал:
— Может показаться удивительным, что орошение непопулярно среди некоторой части председателей колхозов. Однако, если вдуматься в дело поглубже, ничего удивительного в этом нет. Председатели — в первую очередь практики и на все смотрят с практической стороны.
— Но ведь вы должны знать, что Новая Березовка в первые годы снимала на орошаемых площадях прекрасные урожаи, — напомнила Ольга.
— Вот именно, Ольга Сергеевна: в первые годы! То есть пока почва не успела заплыть, засолиться, пока она была еще не такой выпаханной.
Ольга поняла, что ни продолжать разговор, ни спорить с Крутинским нет смысла. Он говорил такие вещи, против которых возразить можно было только делом. Делом же она пока никому ничего доказать не могла.
Начинать Ольга решила с Новой Березовки. Своим бесхозяйственным отношением к воде здешний колхоз опорочил орошение в глазах соседей, и надо было добиться резкого перелома именно здесь.
После Новой Березовки она побывала в Старой. Принял ее председатель хорошо. Даже мужа ее, Василия, как-то к слову вспомнил: «Ах, какой человек был!» Но когда Ольга заикнулась о расширении поливных площадей, председатель сразу потух и начал этак смущенно покашливать: «С той, которая есть, еле управляемся, до прибавки ли… Да и урожай-то, что с поливного, что с простого поля — не очень разнится. Не очень-то наша земля воду принимает…» Так ни до чего определенного Ольга на этот раз и не смогла договориться.
Теперь очередь была за Ключевским.
Приехала туда Ольга под вечер и в колхозное правление не пошла, решив дождаться мать дома.
Она вошла в избу, разделась и залезла на печку. С холода приятно размаривало, пальцы ног горели.
Как близко и знакомо все кругом! И этот памятный каждой половицей, слегка покатый пол, по которому просторно было ползать, а потом играть в мячик; и эти окна с широкими подоконниками, на них — было время — Ольга свободно умещалась вместе со своими куклами; и этот дубовый, от века служивший стол, за которым Ольга обедала, читала букварь, решала задачи, шила, писала письма отцу на фронт. За ним, в окружении друзей, они сидели с Василием в свадебный вечер, за ним же последний раз, на дорогу, они сидели перед уходом Василия на военную службу… А вот в простенке висит зеркало, до которого Ольга сначала не доставала, и надо было становиться на скамеечку, а потом и без скамейки оно стало не только впору, но еще и приходилось чуть приседать, чтобы увидеть, хорошо ли уложены косы. В другом простенке тикают часы — это они отсчитывали время, которое Ольга прожила здесь, в этих стенах. А прожила она здесь много. И сначала дом этот был слишком просторен, потом стал как раз, а еще через несколько лет показался уже тесноватым…
Должно быть, Ольга задремала и не слышала, как пришла мать. Очнулась она, когда мать уже гремела в печи ухватом, доставая ужин.
— Чай, соскучилась по печке-то? А? — Мать подошла, погладила Ольгу по волосам. — Да, поди, и иззябла вся, одежонка-то легкая, городская.
— Ну, что ты, мама, — весна!
— Какая там весна, еще ручьи не проклюнулись. Слезай, есть будем. Не знала, что придешь, хоть блинков бы поставила.
Сели за стол. Мать, оживленная, помолодевшая, рассказывала сельские новости и спросила Ольгу, долго ли еще она собирается оставаться вдовой? Напомнила и про Юрку с Леной — на лето пусть приезжают сюда, здесь им будет лучше.
— А я, мама, хотела, с тобой еще и про дело поговорить, — сказала Ольга.
— По делу? — У матери сдвинулись брови, и лицо стало строгое. — Ну, что ж, давай. Слушаю.
Ольга сказала, что весна все же не за горами и не мешало бы заблаговременно решить вопрос о расширении поливных площадей в колхозе.
— Был у нас с Соней разговор.
— Знаю. И знаю, что ты против.
— Не то чтобы против… — Мать помолчала, продолжая хмуриться. — Эх, Оля! Что я, такой уж маломыслящий человек и не понимаю, что значит вода в наших засушливых местах?! Очень даже понимаю. А только что, если мы воду проведем, вложим в это большие сотни трудодней, а урожаи такие же, как в Новой Березовке, снимать будем? Вот тут и подумаешь. Разве ж я не хочу, чтобы у нас кроме огородов еще и полей гектаров с двести поливных было? Вот как хочу, и сердце радуется, когда замыслишь такое, а только как проеду новоберезовскими полями, так вся радость и пропадает.
— В Новой Березовке засолили землю — вот и урожаи у них не лучше вашего, а если по-хорошему…
— В том все и дело-то, что засолили. А почему засолили? Да потому, что плохо принимает наша земля воду. Ты видела, она вон после полива как сырое тесто делается, — как тут растению жить на ней?.. И зря ты горячишься: это тебе не только я — любой скажет. Уж на что Николай Илларионович человек ученый и опыт у него — не твоему чета, а тоже может подтвердить.
Ссылка на Николая Илларионовича многое объяснила Ольге. Недостаточную «эффективность мелиоративных мероприятий на некоторых почвах» и прочие ученые слова агронома и председатель староберезовского колхоза и мать перевели на более простые и понятные: наша земля воду не принимает. И попробуй теперь переубеди их! Они тоже на слово не поверят, а если и поверят, то, уж конечно, скорее всеми уважаемому многоопытному Николаю Илларионовичу, а не ей, вчерашней колхознице-звеньевой. Для матери она к тому же вообще никакой не агроном, а просто дочь, дочь, которую она знала маленьким беспомощным существом, которую сама же вырастила, научила жить. Она и разговаривала с Ольгой покровительственно, как взрослая с ребенком.
— Что ж, мама, все ясно, — сказала Ольга, убедившись в бесполезности дальнейшего разговора. — Послушать ты меня, видно, не послушаешь, но только смотри, как бы потом тебе же самой…
— Ну, ну, не грозись! Мала еще грозиться-то, — мать сказала это уже не покровительственно, а скорее сердито, как говорит равный равному.
— А я и не грожусь, а только говорю, что, если мне так вот, на первом же шагу отступать, не́чего тогда было на три года и уезжать отсюда, без тебя да без Юрки одной горе мыкать, — голос у Ольги задрожал, и она, пряча лицо, низко наклонилась над тарелкой.
— Да что ты так близко к сердцу-то все принимаешь? — уже примирительно проговорила мать. — Чай, я ничего обидного тебе не сказала. Надо с людьми поговорить, посоветоваться, а там виднее будет. Если дельное что, кто же будет против своей пользы идти?.. А теперь давай спать, и хватит разговаривать со мной как с председателем.
Легли на печи. Сверчок, будто только их и ждавший, запел свою убаюкивающую песенку.
— Эх, дочка, дочка, — прошептала в темноте мать, — если с тобой мы будем ругаться, с кем же мне тогда остается и радоваться-то…
Утром, за завтраком, мать как бы между прочим сказала:
— Для опыта, конечно, можно попробовать. Поговорю нынче на правлении. Но, понятное дело, не больше одного поля.
Ольга промолчала. Она с аппетитом ела свою любимую картошку свару.
3
Двор машинно-тракторной станции, по летам зарастающий лопухами и лебедой, сейчас густо забит тракторами. Сырой снег перемешан с землей, и весь двор истыкан шпорами, рубчато исполосован гусеницами. Идет опробование машин перед дорогой.
В воздухе висит сплошной немолчный гул моторов, железный грохот, лязг. Тракторы фыркают, гудят, чихают, заводятся, снова глохнут и все страшно дымят. Дым густой, желтовато-белый. На некоторое время он плотно окутывает машины, и они пропадают из глаз, слышен только оглушительный треск выхлопов да крики людей пополам с крепкой руганью.
Андрей Галышев шагал двором и с удовольствием слушал не позабытую за время службы, такую знакомую музыку моторов. Многое пробуждал в его сердце этот мощный рокот машин, и оно наполнялось радостным и тоже могучим ощущением застоялой, рвущейся наружу силы.
— Эй, сторонись! Затопчу!
Из дымного облака вырвался и протрещал мимо отпрянувшего в сторону Андрея старенький, латаный СТЗ. У штурвала почему-то не сидел, а стоял чумазый, как и все здесь, рыжий парень. Андрею приходилось видеть его на ремонте. Горланов, кажется.
Свою бригаду Андрей нашел около кузницы. Рядом принимал машины его сосед — бригадир новоберезовской бригады Михаил Брагин.
Тракторист Брагин был опытный и принимал машины просто. Он сел за руль сначала одного трактора и, меняя скорости, проехался по двору, затем то же самое проделал с остальными.
Подошел Гаранин:
— Ну, как машины?
— Что ж, сами себя возят, и то хорошо, — ответил Брагин. — А ремонт скажется там, в поле, в борозде. Там и настоящая проверка будет.
Гаранин расстегнул реглан и достал трубку. Висевшая на ниточке пуговица оторвалась и закатилась под колесо трактора. Брагин поднял ее и, отдавая Гаранину, сказал:
— А ты бы, секретарь, чем в Доме колхозника прозябать, переходил к нам. Я уеду, мать одна останется. Старуха она у меня разговорчивая, не скучно будет. Ну, конечно, и обед сготовит, и пуговицу пришьет.
Андрей вспомнил свой разговор с Гараниным и улыбнулся: интересно, что ответит секретарь.
Гаранин, тоже улыбаясь, посмотрел на Андрея и сказал, что принимает предложение. Поговорив еще некоторое время с трактористами, он ушел в другой угол двора.
Андрей попросил, чтобы Брагин вместе с ним посмотрел и его машины. Тот охотно согласился.
— У тебя помоложе, — сказал в заключение осмотра Брагин. — На твоих можно кое-кому еще и нос утереть. Ну — успеха!
Ключевский колхоз был одним из самых дальних, и Андрей выезжал сегодня же. У Брагина не было всех трактористов, и он собирался ехать на другой день. Они попрощались, и Андрей со своей бригадой тронулся со двора.
Одна за другой машины прошли широкие, открытые настежь ворота, миновали село и выехали в поле.
Часа через три вдали показалась Новая Березовка. Вот бы где хотелось ему работать, а не в Ключевском!
С пригорка село было видно все, до последнего дома, до последней яблони в садах. Виден был Андрею и тополь, посаженный им еще в детстве и теперь ставший большим, высоким деревом.
Как тут все близко и знакомо! Знаком каждый поворот улицы, каждый переулок, речка с крутыми берегами, школа. Здесь Андрей рос, учился, ловил огольцов в речке, а зимой катался по ее берегам на санках, здесь испытал первые в жизни радости и горести…
Ехать в Ключевское Андрею не хотелось, конечно, не только потому, что оно было чужим для него селом.
Год назад он приезжал с товарищем-сослуживцем в отпуск. Товарищ родом был из Ключевского и, когда Андрей как-то пришел к нему в гости, познакомил его с одной девушкой. Девушка Андрею понравилась. Думал, что и он ей понравился. Однако Соня за целый год так и не удосужилась ответить на его письмо. А сейчас у нее, говорят, уже другой есть. Очень бы не хотелось все это заново ворошить. А работая в Ключевском, так или иначе встречаться с ней придется…
Черные машины ползли с увала на увал, оставляя четкий глубокий след на дороге. Своим мощным ревом они будили безмолвствующие, пока еще спящие поля, спугивали с телеграфных столбов неуклюжих ворон.
Встретили трактористов в Ключевском хорошо. Поместили в просторном, вымытом к их приезду и прибранном доме на краю села, угостили сытным обедом. Трое из них — уже пожилой Илья Ефимович Груздев со своей женой Дарьей и еще совсем молодой парень Женя Мошкин — были из самого Ключевского и сразу же после обеда разошлись по домам. Остальные, вместе с учетчиком, начали обживаться на новом месте: один раскладывал вещи и вздыхал над помятой рубахой, в которой собирался показаться ключевским девушкам, другой вколачивал в стены гвозди и развешивал рабочие комбинезоны, а Иван Лохов, вчерашний солдат, еще не разучившийся обживаться на новом месте в два огляда и по-солдатски умеющий ценить отдых про запас, встав из-за стола, направился прямо к койке и завалился спать.
Андрей пошел в колхозное правление. Он сказал председателю, что хорошо бы заранее установить маршрут движения тракторов с участка на участок, с поля на поле.
— Это решай с бригадиром Соней Ярцевой, — ответила Татьяна Васильевна. — Она у нас в этих делах человек наторелый — ей и карты в руки.
«Вот, считай, и встретились — в первый же день!» — с досадой подумал Андрей.
Соню он нашел в колхозном клубе. Она сидела в читальне и вместе с Женей Мошкиным просматривала заметки в стенгазету.
Узнав, зачем он пришел, Соня сказала, что сейчас освободится, и попросила подождать.
Андрей отошел к окну, распахнул его и сел на подоконник.
Из палисадника густой струей хлынул в комнату пахучий весенний воздух. Пахло и мокрым деревом, и оттаявшей землей, и прошлогодним листом. А сильнее всего — тонким, чуть горьковатым запахом набухающих почек. Время от времени раздавалось тихое, похожее на шорох потрескивание — почки лопались. У некоторых уже начинали проглядывать будущие листочки — пока еще не зеленые, а темно-красные, еле-еле видные.
— Ну, давай, что еще у тебя там осталось, — недовольным тоном проговорила Соня. — Зайдешь на минуту, а просидишь битый час.
— Вот тут стихи, — неуверенно ответил Женя и пояснил: — В художественный отдел.
— Понятно, что не в передовую. Небось опять твоя работа?
Женя промолчал.
— Так, так. «И глаза ее с тех пор не дают покоя мне». Гм!.. «Даже вижу их во сне». Эх, Женя, Женя! Комсомолец, тракторист — так нет же, дай еще буду и стихи сочинять. И ладно бы получалось как следует, а то ведь…
— Так это ж лирические стихи, — начал защищать свое творчество Женя. — Весенние лирические стихи.
— Ну и что же, что лирические? А зачем в них туману напускать? И вообще, взял бы да написал простую заметочку о своей подготовке к севу, обязательство бы в ней взял — как бы хорошо было! А такой стишок разве что тебе самому читать интересно. Очень уж тут все туманно, не сразу и поймешь, что к чему. Вот, к примеру, ты про глаза пишешь, а какие у нее глаза — не указано.
— Какие? — Женя посмотрел на Соню, на секунду встретился с ее черными глазами и ответил: — Черные. А что?
— Да нет, ничего, — уже не так сердито сказала несколько смущенная Соня. — Я просто к примеру… Но смотри, что у тебя дальше? Дальше у тебя даже жаворонки про ее глаза поют. Это к чему? Это же смешно. Жаворонки про солнце поют, весне радуются, если ты хочешь знать… Вот к карикатурам ты подписи в стихах делаешь — это у тебя здорово получается, это я люблю, а здесь… Дай почитать другим членам редколлегии, а я лично не советовала бы… Все! Об «отделе юмора», приду вечером, договоримся, сейчас некогда, видишь, человек ждет…
Андрей сорвал с протянувшейся к самому окну веточки клейкую прохладную почку и начал осторожно растирать ее в пальцах.
«А он ей не пара. Парень он, может, и хороший, но не тот… Или она просто так, от скуки с ним? В кошки-мышки играет, как и со мной в прошлую зиму?..»
Мошкин собрался уходить, а Соня взяла чистый лист бумаги и, пересев на ближний к окну край стола, начала набрасывать по памяти план севооборотных полей колхоза.
Чувствовал себя Андрей напряженно, словно шел по жердочке через бурную реку. Соня говорила что-то насчет того, что одно поле низменное и земля поспевает на нем не скоро, другое — на возвышенности, и там, наоборот, гляди да гляди, а то придется сеять совсем посуху; в одном поле культура, любящая ранний сев, в другом — чем позже, тем лучше. Пусть бригадир все это сразу имеет в виду и потом не ругается, что придется делать холостые перегоны: мало лишь бы посеять, надо посеять вовремя, хорошо…
Андрей старался слушать Соню с подчеркнутой деловитостью, однако слова будто застревали где-то в ушах, а до сознания не доходили. В голову лезло черт знает что, очень далекое от сути разговора. «Год не видел, а будто вчера расстались: каждая черточка, каждая прожилка в памяти… и глаза эти, и волосы… зря, зря, парень, согласился ехать в Ключевское…»
А Соня между тем с таким увлечением рассказывала про всякую стадийность, структуру и капиллярность, держала себя так непринужденно, словно никогда они и не были знакомы.
Андрей не заметил, как маршрут оказался уже вычерченным.
Когда вышли из клуба, Соня шумно вдохнула настоянный на весенних запахах воздух, взглянула на уже невысокое, но все еще яркое, лучистое солнце и зажмурилась.
— И люблю я эту пору, и… — Она недоговорила. — Понимаете, Андрей Петрович, неспокойно как-то на душе в это время. Куда-то тянет, чего-то хочется, а чего — и сама не знаешь. Точь-в-точь как у Женьки в стихах. У вас так ее бывает?
Андрей отшутился: в детстве, кажется, бывало и у него.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Земля, шершавая, взъерошенная, только что освободившаяся от снега, лежала широкими темными и серыми полосами от села до самого горизонта и ждала человеческих рук. Полосы полей взбегали на взгорья, пропадали в низинах, снова поднимались гребнем и текли все дальше, на восток, до еле видного перелеска. Высоко в небе ходили кругами и заливались, радуясь наступившей весне, невидимые жаворонки.
А низом по земле плыл, нарастая и распространяясь все шире и шире, могучий гул тракторных моторов. Бригада Михаила Брагина выехала в поле. Машины разбудили тихие, безмолвные поля и начали их ежегодное преображение. За тракторами потянулись в степь сеялки, бороны, заскрипели по едва просохшим дорогам груженные зерном подводы.
Михаил глубоко вдыхал запах мокрой земли, слушал густой и чистый, словно отлежавшийся за зиму, голос машин, и сердце его будто росло, ширилось, и ему становилось тесно в груди. Хотелось работать, опережая время, хотелось скорее видеть эти поля зазеленевшими из края в край.
А весна, как назло, выдалась ранняя, но сырая. Вот, кажется, уже и просохло — на взгорьях пахать, сеять можно, и вдруг на целый день закроет небо хмарью, начнет брызгать дождик, и опять земля отсырела, опять тракторы тонут по самые ступицы.
Пришлось вести сев выборочно. Тракторы разбрелись по всему полю.
Минувшей ночью дальний трактор часа два простоял, и, как только рассвело, Михаил направился к нему.
Полнолицый, черноволосый татарин Зинят Ихматуллин, работавший на этом тракторе, сказал, что ему вовремя не подвезли горючее.
Михаил чуть не выругался: только этого и недоставало!
— Такие случаи здесь не редкость. — Зинят работал в Новой Березовке по второму году. — Колхоз бедный, не хватает ни людей, ни лошадей.
Михаил спросил, а как относится к трактористам колхозное начальство.
— Хорошо, — ответил Зинят не очень уверенно. — Я так думаю, что хорошо.
— Уж лучше бы они относились к нам хуже, только бы машины зазря не простаивали, — проворчал Михаил и ушел на стан, чтобы успеть к утренней смене.
Бригадный стан был раскинут на небольшой луговине между участками двух ближних к селу тракторов. Когда Михаил пришел туда, прозрачный весенний рассвет давно уже сменился утром. Из-за серо-зеленой стены леска встало чистое, нестерпимо-яркое солнце. Но беловатые облака наверху будто только этого и ждали. Завидев солнце, они угрожающе потянулись к нему густой, длинной грядой, готовые вот-вот наброситься и потушить его буйную весеннюю радость.
— Не к добру это. — Филипп Житков смотрит на жирно блестящую борозду, потом на небо и снова на землю. — Выхлестнет этот Илья-пророк всю влагу, когда она совсем ни к чему, а потом сушь образуется, на корню хлеб гореть почнет…
Продолжая ворчать, он нагибается над плугом и начинает отчищать лемеха. Под вылинявшей гимнастеркой взад-вперед ходят могучие лопатки.
Сменщица Житкова — Маша Рябинкина, очень подвижная, смешливая девушка, заправляет трактор керосином. Волосы у Маши светлые-светлые и брови какие-то совсем бесцветные, а глаза — темные, блестящие, как вот этот чернозем в борозде.
— Тебе бы, дяденька Филипп, не здесь, а на метеостанции работать, — смеется Маша. — Цены бы не было такому работнику.
— Что мне на станции делать? Я не железнодорожник. Я здесь на своем месте… Откуда ты знаешь, может, я тракторист по признанию.
— Говорят, не «по признанию», а «по призванию».
— Говорят, говорят, — начинает сердиться Филипп. — Ты вот воронку-то держи как следует. Или не видишь — мимо бежит? Разиня по приз…ванию!
Филипп подходит к трактору, не спеша скручивает цигарку, с наслаждением выпускает облако синеватого дыма. Черные жесткие волосы его на голове и в самой середине бороды чуть тронула седина: кажется, струйки дыма запутались в волосах, да так и остались там навсегда.
Филипп — бывалый, опытный тракторист, в этом Михаил убедился в первый же день работы. Но уж слишком медлителен он в своих движениях, слишком неповоротлив. Он и ходит, будто полные, с краями, ведра несет, расплескать боится.
К заправочному порожняком лихо подкатывает второй трактор. Сделав полукруг около бочек с керосином и маслом, тракторист с полного хода останавливает машину и со страшным треском и грохотом глушит мотор.
— Хаю-дую-ду, Машенька, — сдернув фуражку и размахивая ею над головой, кричит он, еще не дав остановиться мотору, и, как будто только сейчас заметив Житкова, снисходительно кивает в его сторону: — Привет, старина!
Это Горланов. Его, как и Житкова, Михаил запомнил еще с зимнего ремонта.
— Хаю… дую… — тихо ворчит Житков, осматривая шатунные подшипники. — Вздуть бы тебя как следует, чтобы зря не гонял машину!
Житков прав: Горланов и его напарник Федор Пантюхин обращаются с машиной, пожалуй, с излишней шоферской лихостью. Михаил уже заметил это. Но что поделаешь? Как однажды запаленной лошади не может потом помочь никакой уход, так и этим машинам уже ничем не вернешь былую мощь. Остается одно: взять от них то, что они еще имеют, выжать последнюю силу.
Солнце поднялось уже высоко. От земли пошел пряный влажный аромат, и даже крепкие запахи керосина и отработанного газа не могли забить его. Земля дымилась, словно дышала после долгого зимнего сна.
— Долгонько копаешься, Житков! — сказал Михаил. — Что ты ходишь вокруг него, как поп вокруг аналоя? Видишь, солнце-то где?
— Спешить — можно курей насмешить, — недовольно пробормотал Житков и дернул заводную ручку. Мотор зарокотал сердито и нетерпеливо.
Выпустив в борозду и вторую машину, Михаил направился в село.
Тучи по-прежнему косяком шли с запада на восток. Но они промахнулись, целясь на солнце. За это время оно успело не только подняться, но и уйти к югу, и беловатая гряда, задев его своим краем, только на несколько минут отделила солнце от земли, и оно, вырвавшись из-за прикрытия, стало еще радостнее и щедрее разбрызгивать свое золото на окрестные озерки и лужи, на дымящиеся поля.
На повороте, где дорога пересекала оросительный магистральный канал, показалась девушка. Она была без платка, в сереньком костюме и белой с отложным воротничком кофточке. Ноги у Михаила разом отяжелели, а сердце застучало сильно и часто, будто с привязи сорвалось: «Ольга!» Грузно опираясь на палку и стараясь смотреть только под ноги, Михаил поравнялся с девушкой, но не выдержал, поднял глаза. Черт возьми! Это была не Ольга. Даже ничего похожего на Ольгу не было в этой курносой, веснушчатой девчонке. Разве что заплетенные в косички и аккуратно уложенные волосы да вот этот серенький пиджачок. Михаил однажды видел ее возле школы — кажется, учительница.
Встретившись с ним взглядом, девушка, видимо, посчитала неудобным пройти молча, смущенно поздоровалась и спросила, прямее ли тут будет на Старую Березовку.
— Да, прямее, — отрезал Михаил и, громко стуча палкой, зашагал по дощатому мостику, перекинутому в этом месте через канал.
«А мостик-то изрядно прогнил, — чтобы поскорее забыть про свою досадную оплошность, начал деловито размышлять Михаил. — Когда будем переезжать на поливное поле, придется через канал перебираться в другом месте…»
Ольгу Михаил видел несколько дней назад. Она пришла прямо в бригаду, в поле, и заговорила с ним, как со старым знакомым.
— У меня к тебе, Миша, большая просьба.
Михаил сидел на приступке полевого вагончика и шабрил подшипник. Для вида он еще некоторое время покрутил в руках подшипник, а потом только заговорил с Ольгой.
Она тоже присела на скамеечку, рядом с вагончиком. Лицо от ходьбы у нее раскраснелось, грудь неровно поднималась и опускалась.
Ольга говорила, что в Новой Березовке поливные участки, как правило, обрабатывались в последнюю очередь. Рассуждали так: зачем спешить с севом на поливном поле — там, когда ни посей, все равно взойдет и созреет, на то оно и поливное. Глупое рассуждение! Ведь зерну, чтобы оно вовремя проклюнулось и дало хороший, здоровый росток, нужен определенный режим света, тепла и влаги, нужно именно апрельское солнце, а не какое-нибудь майское или июньское.
Михаил слушал Ольгу и щурился на трепетавший на стене вагончика солнечный зайчик, отраженный ведром с водой. «Как хорошо все получилось, — думал он. — И сама пришла, и то, что меня как раз интересовало, рассказывает».
Поливные участки, говорила Ольга, нет нужды засевать первыми: они просыхают позже. Однако сроки сева для них так же важны, как и для неполивных. Вот поэтому она и пришла к трактористам, ведь от них зависит — уложится колхоз в короткие сроки сева на тех и других землях или нет, сумеет в этом же году добиться резкого повышения урожайности на поливном поле или нет.
Михаил слушал с очень внимательным видом, по временам кивая головой: мол, да, понимаю, а как же! На самом же деле понимал он далеко не все. Однако это его совсем не огорчало. Разве главное было в этом разговоре о каких-то режимах! Ольга сидела рядом, он видел ее глаза, слышал ее негромкий мягкий голос — вот главное! От того, что Ольга была рядом, и солнце грело щедрее, и дышалось легче, и поля виделись ярче, дальше. Будто света прибавилось от ее присутствия или зрение стало острее.
— Постараемся, — ответил Михаил на просьбу Ольги.
Ольга облегченно вздохнула и улыбнулась.
Тогда он посчитал, что одного «постараемся» мало, и решительно добавил:
— Дадим короткие сроки!
Пообещал Михаил легко, словно это целиком зависело только от его желания. Однако весна складывалась затяжная, несуразная. И хотя Михаил испытывал необыкновенный прилив сил, готов был работать за двоих, за троих, готов был хоть гору своротить, погода не давала развернуться бригаде как следует, и приходилось сидеть сложа руки и глядеть на небо: не проглянет ли солнышко? Трактористы день и ночь проводили в поле, но работа подвигалась медленно.
Показались крайние дома Новой Березовки.
Когда Михаил вошел в кабинет председателя колхоза, тот что-то быстро писал на листке бумаги. Выглянув из-за подсвечника и заметив Михаила, Тузов отложил ручку и прикрыл ладонью написанное.
— Слышал я нынче, товарищ Тузов, похвальные слова про тебя, — сказал Михаил, опускаясь на стул. — Говорят, хорошо к нашему брату, трактористам, относишься, во всем им навстречу идешь. Правда это?
Тузов подозрительно покосился на Михаила: уж не подвох ли какой, но тут же оправился и, солидно кашлянув, забасил:
— Зря не скажут. Колхоз наш, конечное дело, не из богатых, и в смысле питания, к примеру, мясом вас на каждый день обеспечить пока не можем, — чем богаты, тем и рады! Но во всем другом — не только навстречу, а даже и с полным нашим удовольствием…
— Мясо оставим пока в стороне. А вот как насчет сроков сева?
— А что? — Тузов слегка перепугался. — От Андрианова нахлобучка?
— При чем тут Андрианов? — в свою очередь спросил Михаил.
— Тогда, может, ребята-сеяльщики что-нибудь набедокурили? Да мы их…
— И ребята ни при чем. Я говорю, что сроки не резиновые. Сроки нам с тобой даны жесткие, железные, и в них — хочешь не хочешь — надо уложиться.
— Что верно, то верно, — поддакнул Тузов, но поддакнул осторожно, ожидая, что скажет Михаил дальше.
— Вот я тебя и хочу спросить: с какой такой радости сегодня ночью ихматуллинский трактор два часа из-за горючего простоял?
— Фу-у! — откидываясь на спинку кресла, облегченно вздохнул Тузов. — Я уж думал, что серьезное… Давай закурим. А то целое утро мыкота, покурить по-человечески некогда.
Брагина охватило острое желание взять председателя за лацканы пиджака и как следует встряхнуть, но он сдержался.
— Может, ты сначала все же мне скажешь, а потом уж и «по-человечески» свою ножку крутить будешь?
— Да ты, бригадир, не кипятись, — добродушно проговорил Тузов. — Не из-за чего кипятиться-то. Нам с тобой целый год вместе работать — зачем же сразу, из-за какого-то часа, отношения портить?
— Из часов дни складываются. А весенний день, как сам знаешь, год кормит.
— Эх, мил человек! Да будь у меня людей побольше, — к каждому трактору бы тебе и возчика и заправщика приставил. Разве не видишь — на части рвусь. Вот и глядишь, как бы возчика и вам дать и в свободную минуту на другой работе использовать.
— Хочешь — рвись, товарищ Тузов, хочешь — нет, это уж твое дело, — жестко сказал Михаил, — а так дальше не пойдет. Не только часа, минуты простаивать машины не должны. Так давай сразу уж и договоримся.
— Ну зачем же такие строгости? Разве я не понимаю, что…
— Видно, не понимаешь, — оборвал Тузова Михаил. — Не понимаешь, что, если тракторист стоит и дожидается возчика, вместе с ним стоят без дела тридцать, а то и пятьдесят лошадиных сил. Если бы понимал, сам бы впрягся, а возчика из бригады не забрал.
— Только и остается: самому впрячься. — Тузов улыбнулся, делая вид, что последние слова Михаила принял за шутку.
— Хороший характер у тебя, товарищ Тузов, крепкий. Аж завидно! Я хочу поскорее посеять, чтобы как можно больше весенней влаги в земле удержать, из-за этого и в сырость пашу, машины мучаю, — хочу поливное поле в лучшие сроки обработать, а тебя, председателя колхоза, это вроде и касается и не касается.
— Перегибаешь, товарищ бригадир! — Тузов сделал обиженное лицо, нахохлился. — Тебе бы мои заботы! Сто дел переделаешь, а больше того остается. Так весь день и бегаешь, язык на плечо. А к тому же и ночью настоящего покою нет — сам знаешь, как дед Максим наш по ночам усердствует… До чего же, я тебе скажу, вредоносный старик! Как зарядит в свою колотушку и вот колотит, колотит! А попробуй скажи, еще обидится, потому считает, что этаким манером бдительность свою проявляет…
Михаилу приходилось слышать, что у Тузова однажды произошла какая-то стычка с ночным сельским сторожем и тот с тех пор с особым усердием стучал под его окнами. Но что это была за стычка и по какому поводу, Михаил толком не знал, да это его особенно и не интересовало: при чем тут дед Максим, когда разговор идет о сроках сева?
В кабинет быстро вошел, почти влетел инструктор райкома Сосницкий. Это был молодой, чернявый, быстрый в движениях человек. На крупном красивом лице его выделялись черные, острые глаза под густыми дугами бровей. Одет он был в защитный, полувоенного покроя костюм.
Перекинув на ходу портфель из правой подмышки в левую, Сосницкий деловито сунул руку сначала Тузову, затем Михаилу и, не присаживаясь, сказал:
— Я всего на пару минут. Спешу в Ключевское. Как с севом, товарищ Тузов? Сколько га имеем на сегодняшний день? В целом и по культурам?.. На какой площади произведено боронование озимых? — Сосницкий, положив портфель на стол, вытащил из него объемистый блокнот и начал записывать цифры, которые ему называл Тузов.
Михаил был поражен деловитостью Сосницкого. Вот человек, умеющий ценить время! Этот не станет рассуждать по-тузовски.
Задав еще с десяток различных вопросов, Сосницкий окинул оценивающим взглядом свои записи и, складывая блокнот в портфель, сказал:
— Не выдерживаете сроки, товарищ Тузов. Если не хотите попасть на бюро райкома — учтите. А пока — до свидания. Через пару дней опять заскочу, так что не успокаивайся. Потребую сводку по полной форме.
Сосницкий распрощался и, опять перекинув на ходу портфель из одной руки в другую, исчез.
Тузов наконец раскурил самокрутку и с наслаждением, смакуя, делал одну затяжку за другой. На лице его было написано: ну, слава богу, пронесло.
— Слыхал? — спросил его Михаил. — Я говорю, слыхал, что инструктор про сроки, про сводку говорил?
Тузов посмотрел на Михаила, и лицо его вдруг прояснилось. Он будто только сейчас понял, о чем ему Михаил толковал уже добрых полчаса.
— Так ты насчет сводки? — почти обрадованно спросил он. — Ха! Так бы сразу и сказал, чудак-человек. Стоило из-за этого шум подымать! Да это мы в два счета! И такую сводочку, что комар носа не подточит. У вас в МТС как: подекадно или понедельно? Кажется, понедельно. Ну, вот, приходи в субботу, послезавтра, и все сделаем. Николай Илларионович, агроном, тоже подпишет, мы с ним общий язык всегда находим…
Михаил еще не совсем понимал, о чем говорит Тузов, но почувствовал в его словах что-то настораживающее.
— Постой, — перебил он наконец Тузова. — Ты насчет каких это понедельных сводок, и при чем тут общий язык с Николаем Илларионовичем?
— Ну, вот, опять будем в кошки-мышки играть. — Тузов усмехнулся и шутливо погрозил пальцем. — Все насчет тех же самых сводок, которые с вас эмтеэсовское начальство требует.
— Дальше.
— А дальше — ничего, — простодушно ответил Тузов. — Составляй бумагу по всей форме, пиши в ней все, что ты должен был сделать к такому-то числу, — и конец! Сам подпишешь, я подпишу, агроном подпишет, — чем не документ?
У Михаила перехватило горло, и он срывающимся голосом спросил:
— То есть как это «должен был»? А если я еще не сделал?
— Сделаешь, — невозмутимо ответил Тузов. — Днем раньше, днем позже, все равно сделаешь.
Больше всего Михаила злила вот эта невозмутимость Тузова.
— Может, ты и Сосницкому к послезавтра такую бумагу приготовишь? А?
— Если нужно будет в интересах дела…
— В интересах дела! Да это же очковтирательство самое настоящее!
— Ну, уж ты скажешь! Вот у тебя привычка, я заметил: все увеличивать. Очковтирательство там, где только показано, а не сделано и не будет сделано. А у нас с тобой, что бы мы ни показали в сводке, все до последнего гектара делать придется, и никому другому, а самим же. Вся разница в одном-двух днях, а пока сводка до области дойдет, мы и больше показанного сделать успеем.
— Хватит! Ясно! — Михаил поднялся. — Сам такие сводки сочиняй, если тебе нравится, а я не писал и писать не буду.
— Ну, вот опять зашумел. Будто его кто принуждает! Не хочешь — не надо, дело хозяйское. Тебе как лучше, а ты…
— На деле, а не в сводках будем за короткие сроки бороться. Пока. Будь здоров. А насчет простоев мы, кажется, договорились: этого больше не повторится.
— Да ладно, ладно. — Тузов тоже поднялся с кресла, чтобы потушить в пепельнице окурок. — Все будет сделано. Кому-кому, а вам, трактористам, всегда и во всем не только навстречу…
Михаил хлопнул дверью.
— …а и с полным нашим удовольствием, — донеслось ему вдогонку.
2
В правлении Ключевского колхоза никого, кроме счетовода, Сосницкий не застал.
— Что, начали? — спросил он еще от порога.
— Нынче после обеда собираются начать, — ответил счетовод.
— Всё еще собираются! Так. Где все? В поле?
Не задерживаясь в правлении, Сосницкий поехал в поле, на стан тракторной бригады. Здесь он нашел парторга колхоза Дмитрия Хлынова и Андрея Галышева.
— Что, все еще сидите у моря и ждете погоды? — спрыгивая с тарантаса, спросил он, забыв поздороваться.
— Мне бы к машинам надо, — сказал Галышев и, оставив Сосницкого с Хлыновым, отошел к тракторам.
…Два дня назад Сосницкий по телефону спросил: начался ли сев в Ключевском? Татьяна Васильевна ответила, что пока еще нет, сыро.
— Сыро? — переспросил Сосницкий так, что было слышно даже Андрею, сидевшему по другую сторону председательского стола. — А телефонограмму главного агронома получили?.. А если получили, так к чему эти отсталые разговоры?.. Вот что, товарищ председатель: я сейчас же выезжаю на место, и чтобы к моему приезду все было на ходу.
— Как быть, Митя? — вешая трубку, спросила Татьяна Васильевна у Хлынова — По времени-то не только денек, а и целых два не мешало бы обождать. Но ведь райком!
— Я тоже думаю, что надо повременить.
— А что же мы товарищу Сосницкому скажем?
— То же и скажем. Сило́м в поле выезжать не заставит. А я пока еще разок коммунистов соберу, посоветуемся.
Хлынов собрал короткое собрание, на которое пригласил и Галышева.
— Все дело в вас, трактористах. Можно и день и два обождать — все равно в сроки уложимся, если только вы не подведете.
Андрей обещал не подвести, и от выезда в поле решено было пока воздержаться.
Часа через два Сосницкий бурей ворвался в правление и еще от порога начал спрашивать:
— Это как понимать? Игнорирование указаний райкома? Самовольство? Отсебятина? Хотите в сводке с первых мест слететь на последние? Хотите…
— Хотим положить зерно не в абы какую, а в структурную почву, — спокойно перебил Сосницкого Хлынов. — Хотим сеять не для сводки, а для урожая.
— Громкие фразы! «Для урожая!» А главный агроном, райком, по-вашему, дают указания с потолка?
— Но ведь из райкомовского окошка наше поле хуже видно, чем нам самим, — осторожно вставила Татьяна Васильевна.
— Да что мы, кабинетные работники, что ли? А разве не я бываю в вашем колхозе, как и в обеих Березовках, на неделе по два раза?
— На это жаловаться не приходится. На минутку, а заскочите, указание дадите, — подтвердила Татьяна Васильевна. — Только ведь я о другом…
— Не будем о другом! Давайте о севе. Почему до сих пор не выехали?
— Решили немного повременить, — ответил за председателя Хлынов. — Сыро.
— Сыро? Так. В Березовке сеют, там не сыро, а у вас сыро? Решили! А вам не кажется, товарищ Хлынов, что этим своим решением вы, хотите того или нет, противопоставляете себя райкому?
— Во-первых, вы — это еще не райком. Во-вторых, райком может нас обязать качественно посеять, уложиться в короткие сроки. Но указывать, чтобы мы выезжали такого-то числа во столько-то часов, — это же не входит в обязанности районного комитета. У вас других дел по горло, я думаю, и дел более важных.
— Вы мне зубы не заговаривайте, — вконец рассердился Сосницкий, — отвечайте: кто решил?
— Правление и партийная организация.
— Ах, вон как! Успел уже и других «сырыми» настроениями заразить! Хорошо. Тогда поговорим об этом в райкоме. В самое же ближайшее время. Посмотрим, как вы там запоете.
Настращав Хлынова всякими карами, Сосницкий уехал.
А сегодня вот пожаловал снова.
Андрей проверил у одного трактора карбюратор, у другого клапаны, еще раз осмотрел плуги, сеялки.
— …если и сегодня не начнете, пеняйте на себя! — Сосницкий угрожающе потряс портфелем, перекинул его с руки на руку и зашагал к тарантасу.
— Что, опять стращал? — спросил Андрей у подошедшего Хлынова.
— Опять, — невесело усмехнувшись, ответил Хлынов. — Вообще-то нехорошо получается. Если и вправду на бюро райкома потянут… представляешь, сколько шуму он там наделает? Не хотелось бы.
— Ничего. Лишь бы посеять в срок. Тогда пусть шумит.
Хлынов посмотрел на стоявшее в зените солнце, взял горсть земли, сжал ее и бросил. Земля поспевала с каждым часом.
Перед первой бороздой Андрей собрал трактористов и прицепщиков.
— Вот что, ребята… — сказал он.
Илья Ефимович пощупал свои усы, словно удостоверяясь — на месте ли они, посмотрел на дородную жену Дарью и выразительно крякнул.
Андрей улыбнулся:
— Ты, Илья Ефимович, не обижайся, поговорка у меня такая. Так вот…
— Это, наверно, насчет того, что, мол, сев в короткий срок проделать, — не дождавшись, пока бригадир возьмет разгон, высказал свое предположение Тихон Поздняков. Он стоял около машины и сосредоточенно очищал налипшую на траки грязь.
— А хотя бы и насчет этого, — ответил за Галышева Илья Ефимович. — Что сев, что уборка — срочность одинакова. Весенний день — год кормит.
— Это нам, Илья Ефимович, известно.
— Да, все это вы знаете не хуже меня, — согласился Андрей. — Я о другом. Сегодня — первый день нашей работы. И я просто хотел сказать: пусть он будет хорошим днем!
Трактористы переглянулись: видимо, они не ждали, что речь бригадира будет такой короткой.
— И еще… — взглянув на маленький флажок, зажатый в руке, добавил Андрей. — Сколько кто вспахал, посеял, каждый будет знать сразу же, к концу своей смены. Кто больше всех — об этом тоже бригада будет знать, на той машине сегодня же вечером я установлю этот флажок. Он маленький, но его видно издалека. Его будете видеть и вы и все колхозники… Ну, в час добрый!
Флажок вечером получил Тихон Поздняков. Он вспахал полторы нормы.
— Ай да мы! Ай да Тиша! — увидев флажок на радиаторе своего трактора, воскликнул сменщик Позднякова Иван Лохов. — Выходит и впрямь — т и ш а едешь, дальше будешь.
Лохов — весельчак и балагур. Глаза у него хитроватые, с прищуром, с постоянным усмешливым огоньком в глубине. Любит позубоскалить над товарищами, над всем, что случается в жизни, даже над своим маленьким ростом и кривыми ногами не прочь посмеяться под веселую руку. Больше всех доставалось от него Позднякову. При первой же встрече он сказал сменщику:
— А тебя, друг, не иначе еще в детстве чем-то обделили.
И действительно, стоит взглянуть на Тихона, и сразу видно: не живет человек, а неприятную повинность отбывает на земле. И сердит он постоянно, словно не с той ноги каждое утро встает, и чем-то недоволен всегда. С товарищами неуживчив, вечно ворчит. Даже смотрит на всех как-то подозрительно, точно только и ждет какой-нибудь пакости от окружающих. Переносье у него немного вдавлено, отчего нос встопорщился, а запавшие глаза осторожно выглядывают из-под широко нависшего лба, оканчивающегося почти прямой полосой густых бровей. Тихон любит поесть, но, прежде чем приниматься за еду, обязательно поведет носом и фыркнет недовольно, хотя уничтожает все, что ему подают, с удивительной, почти непостижимой быстротой.
— Ну, Тиша, за столом ты работничек! — не раз восхищался Лохов. — На что уж я на маршах привык на ходу пищу заглатывать, а за тобой и мне не угнаться.
А сегодня Поздняков отличился и в поле.
Почувствовав себя героем дня, он несколько подобрел, почти приветливо встретил своего сменщика и даже попытался улыбнуться.
— Кто как, а я не люблю языком зря трепать. Мне подавай дело.
— И побольше каши, — в тон ему, серьезно добавил Лохов.
К месту заправки подъехал Женя Мошкин. По-девичьи мягкое красивое лицо его и выбившиеся из-под кепки густые волосы были забрызганы грязью.
Тот же Лохов как-то сказал Жене:
— Не понимаю, как ты попал в трактористы. Такая, можно сказать, поэтическая личность и вдруг… Тебе бы в симфоническом оркестре на дудке любовные арии насвистывать!
Но сегодня Мошкину было не до шуток. Он хмурился и молчал.
Оказалось, что Женя завяз со своим СТЗ в одной еще не успевшей высохнуть промоине и потерял целых три часа. Просил взять на буксир работавшего рядом Позднякова, но тот посоветовал или выбираться самому, или подождать, пока он закончит один участок и будет переезжать на другой.
Андрей отлучался с поля и ничего этого не знал.
— Что же это ты, Поздняков? — спросил он у Тихона.
— А ничего, — ответил тот. — Не считай ворон, гляди под ноги. Мне что было сказано нынче утром? Паши больше, горючего жги меньше. К чему же я на дядю и время и горючее буду тратить? Пора горячая, каждому до себя.
Таким многословным и важным Тихона еще никто до сих пор не видел. Красный флажок на радиаторе придал ему солидность, неизвестно откуда взялось и красноречие.
Мягко выкладывая дорогу гусеницами, подъехал третий трактор.
— Глуши, Илья Ефимович, — махнул рукой в сторону Груздева Андрей. — И все идите сюда.
Трактористы сгрудились около поздняковского трактора.
— Бригада сегодня работала в общем хорошо, — сказал Андрей. — Но… но Тихон Поздняков совершил неприглядный поступок. Он поступил по поговорке «моя хата с краю», которая давным-давно устарела…
— Бытие же определяет сознательность, а Тихон с утра ничего не ел, — вставил Лохов.
Никто не засмеялся.
— Я тоже так думаю, что Поздняков сделал это по несознательности, — снова заговорил Андрей. — Будем считать, что в первый и последний раз. Пусть никто из нас никогда не скажет, что ему дела только до себя. Так говорят там, — Андрей показал пальцем куда-то за плечо, — а мы должны держаться друг за друга. На этом мы стоим, этим мы и сильней их.
Флажок у Позднякова Андрей отобрал. А тот после этого случая помрачнел еще больше, перестал разговаривать и даже за обедом забывал выражать свое недовольство, а поедал все в гробовом молчании. Да еще, как нарочно, в тот же злополучный день наглотался Тихон керосина, продувая трубку, и долго ходил потом, отплевывался. Пробовал есть и селедку и лук — никакого толка: отдает керосином, да и все тут!
Если кто закуривал в присутствии Позднякова, Лохов предупреждал:
— Отойди подальше, не то — долго ли до беды? — Тиша взорваться может!
Бригада работала день ото дня лучше. Флажок переходил с одного трактора на другой. Потом чаще и чаще стал появляться на груздевской «семейной» машине. Илья Ефимович торжественно подъезжал к заправочному, глушил мотор и многозначительно откашливался. Когда кто-нибудь заговаривал с ним про флажок, он небрежно, как бы между прочим, бросал:
— Да, опять помалу наковырял две нормы.
Говорил он это так точно оправдывался: я, мол, не виноват, так уж получается, не обессудьте. Если рядом была жена Дарья, Илья Ефимович прибавлял:
— Мы с Дашей еще сызмальства к технике наклонение имеем. А в нашем деле, брат, техника — главное дело.
Замолкал на секунду и договаривал:
— А техника это тебе не что-нибудь, а… техника!
Говорил так Илья Ефимович не в собственную похвальбу: хвастаться он не любил. Дело было в том, что жена его, Дарья, проработавшая на тракторе всю войну, действительно хорошо — куда лучше мужа! — знала машину. Не раз ей предлагали пост бригадира, да сама не захотела. И положение у Ильи Ефимовича было затруднительное. Потому он часто и говорил «мы с Дашей», потому так неопределенно упоминал о технике: хотелось и жену похвалить, и собственное достоинство в глазах товарищей не уронить. Дарья при этом только улыбалась, не выдавая мужа, трактористы тоже делали вид, что считают Илью Ефимовича на́большим, хотя подоплека их семейно-деловых отношений была всем хорошо известна. Разве что злоязычный Иван Лохов не упустил случая и окрестил Илью Ефимовича «Мы с Дашей».
Редко появлялся флажок на тракторе Жени Мошкина. Трактор у него был самый старый в бригаде, давно отработавший свой срок, да к тому же колесный, а на колесном в такую сырую весну работать плохо: того и гляди застрянешь в какой-нибудь низине.
И вдруг учетчик как-то доложил Андрею: Женя на своем СТЗ засеял за ночь чуть не две нормы.
Мошкин пытался скрыть радость, но это ему плохо удавалось. Даже старенький СТЗ и то, будто сознавая свою значительность, подошел к заправочному как-то необыкновенно солидно, почти вразвалку.
Лохов внимательно оглядел трактор Жени и остановился около радиатора.
— Ты что? — спросил Женя.
— Да вот смотрю, куда ты будешь ставить наше переходящее? Нет никаких приспособлениев, прямо хоть на трубу вешай!
— А что, можно и на трубу. Даже видней, — согласился Женя.
— Нет, на трубу не годится, — отсоветовал Лохов. — Не прочно.
Но флажок Женя так и не получил.
На полевом стане неожиданно появилась Соня Ярцева с полеводом.
— Что же это вы, милые, — почти ласково начала Соня, и по одному этому ласковому тону Андрей почувствовал что-то неладное. — Или вы тут все темные по части агротехники, или вам лишь бы норму выполнить? А? Разве та́к нужно обрабатывать землю? Да еще поливную, — Соня сделала ударение на последнем слове, — поливную, на которой мы собираемся не меньше как двухсотпудовый урожай вырастить? Так, что ли, Максим Харитонович?
Полевод кивнул и пояснил, что на одном конце участка поливные валики оказались слишком массивными.
Когда пришли на участок, Андрей увидел, что это действительно так.
— А что в том плохого? — спросил Женя. — Ты же сама говорила, что без валиков поливать нельзя. А что они повыше нормальных, так еще лучше — вода рвать их не будет.
— То есть как что плохого? — с возмущением спросила Соня. — Да знаешь ли ты, что в валики сдвигается не просто пахотный слой, но самая верхняя, самая питательная его часть? Да знаешь ли ты, что своей вот такой работой ты из структурной почвы сделал на этом конце поля ни то ни се? Да знаешь ли ты…
Подошла Татьяна Васильевна, не вступая в разговор, послушала, как Соня распекала Мошкина, и осталась довольна.
Наконец Орешина с Соней и полеводом ушли своей дорогой. Трактористы вернулись на бригадный стан.
— Пропащее твое дело теперь, Женя, — сострадательным вздохом встретил Мошкина Иван Лохов. — Не видать тебе Соньки, как собственных ушей. Не с того конца повел атаку на девичье сердце. Тут надо ласковым словом, про луну что-нибудь али про соловья, а ты на тракторе с красным флажком захотел въехать. Промахнулся!
Женя молчал. Он подозревал, что вездесущий Лохов еще утром проведал о его промахе, иначе зачем бы ему ходить вокруг трактора и так внимательно высматривать место для флажка?
— Одного сеяльщика заставь специально глядеть за этими чертовыми валиками, — угрюмо сказал он своему сменщику, сдавая трактор.
Андрей видел, что Мошкин расстроен, потерялся, почувствовал себя одиноким среди этих веселых, сильных людей и готов замкнуться. Но что сказать трактористу? Хвалить его не за что, надо ругать, а руганью можно только обозлить еще хуже.
Андрей подошел к трактору, проверил клапаны, заглянул через люки в подшипники и как бы между прочим сказал:
— Признаться, я тоже думал, что высокие валики понадежней. А оказывается…
Мошкин стоял у крыла машины, ковырял ногтем лупившуюся краску и, слушая Андрея, все ниже и ниже наклонял голову. Светлые волосы его свесились на лицо, и легкий ветерок играл ими.
— А хорошо ли ты знаешь, Женя, почему верхний слой почвы богаче питанием, чем нижний? — вдруг спросил Андрей. — И знаешь ли ты, что такое земля структурная и бесструктурная?
— Вообще-то на курсах кое-что слыхал, а чтобы в тонкостях, зачем это мне? — ответил Мошкин и, отбросив с лица волосы, поднял на бригадира удивленные глаза. — Я не агроном.
— Кто знает?
Все молчали. Только Илья Ефимович неопределенно крякнул, как бы давая этим понять, что хотя ему кое-что и известно о структуре почвы, но он, не желая выхваляться перед женой, лучше об этом промолчит.
Андрей обвел глазами притихшую бригаду, дольше других задержался на повеселевшем Мошкине и заключил:
— Да, Женя, мы не агрономы. Мы трактористы. Но нелишне нам и самим знать, что к чему, пора знать о земле, на которой работаем, хотя бы половину того, что знают агрономы…
Теплый весенний ветерок носился над пашней, то убегая куда-то, то возвращаясь вновь. Овеваемые им, обласканные солнцем поля простирались далеко-далеко, до самого горизонта. По одну сторону бригадного стана они лежали черные и будто расчесанные огромным редким гребнем — уже засеянные, по другую — по-прежнему шершавые, серые — еще невозделанные.
Перебивая друг друга, затрещали, загудели моторы. Тракторы вышли в борозду.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
В самых верховьях Березовской плотины прятались в густых зарослях тальника и осоки небольшие заводи. Михаил заприметил их, проходя как-то вдоль русла Березовки, у того места, где она, постепенно расширяясь, переходила в водоем.
«А ведь тут могут быть утки, — сначала предположительно подумал он. Еще раз оглядел заводи оценивающим взглядом и заключил уже более решительно: — Должны быть!»
Перед наступлением темноты Михаил одну за другой обошел машины. Еще утром он заметил, что на горлановском тракторе начали слабнуть поршневые пальцы. Михаил знал по опыту, что с пальцами шутки плохи. Но уж очень обидно было останавливать трактор в такое горячее время. И он решил обождать. День прошел, а пальцы вели себя по-старому.
«Дотянут!» — заключил осмотр Михаил и, предупредив тракториста, чтобы не перегружал мотор и лишнего не газовал, вернулся на бригадный стан.
Стемнело. В вагончике было тихо. Дневная смена давно спала.
Стараясь не шуметь, Михаил снял со стенки раздобытое еще днем старенькое ружьишко и медленно пошел к верховьям плотины.
Спешить было некуда. На вечернюю тягу он уже опоздал, а до утренней еще далеко. Да и темень была такая, что дорогу нет-нет да и приходилось нащупывать палкой.
Густая тьма была одинаково черна у земли и в небе. Ни одной звезды, ни малейшего просвета вверху различить было невозможно.
Ориентировался Михаил главным образом по звукам. Справа работал трактор Филиппа Житкова, слева — Горланова, а еще левее и дальше — Ихматуллина. По временам раздавался скрип повозки, голоса людей, но все это скоро стихало, словно поглощалось непроглядной темнотой, и опять оставались слышными одни машины.
Сначала тихо, а потом все явственнее закрякали утки — значит, скоро заводи.
Утки крякали громко, точно боялись не услышать друг друга в этой темноте и потеряться.
Зайдя с подветренной стороны, Михаил выбрал затишок и присел. Можно бы дожидаться утра в шалашике, который он видел днем, в тот же раз, но его не хотелось искать. К тому же и до зари теперь оставалось, наверное, недолго.
Утки крякали то редко, как бы поочередно, то разом, наперебой, будто спорили о чем-то и никак не могли договориться.
Михаил прилег на локоть, поднял воротник пальто и втянул голову в плечи. Сразу стало очень тепло и уютно. Сначала думалось о всякой всячине, потом все чаще и больше — об Ольге, о том, что завтра — теперь уж и не завтра даже, а, считай, сегодня, — бригада переедет на поливные участки, и сев пойдет еще быстрей. Лишь бы дотянули машины — все будет сделано точно в срок, пусть Ольга не тревожится…
От мыслей об Ольге было беспокойно. Михаил будто с глазу на глаз, один на один разговаривал с Ольгой в эту темную ночь; они никого не видели, и их никто не видел, никто им не мешал.
Медленно, постепенно начинало светать. На темном небе образовались прорехи, и через них на землю сеялся жидкий белесоватый свет. Его хватило лишь на то, чтобы обозначить контуры предметов, наметить их общие очертания. Показались теперь никому не нужные, тоже какие-то белесые звезды. На земле все было неясно, затушевано, в небе — резче, но от этого неприглядней. Грязно-серыми космами лохматились тучи, надвигаясь одна на другую и становясь еще более огромными и неуклюжими.
Михаил выбрал небольшую продолговатую заводь и занял удобное место для наблюдения.
Утки переговаривались уже не так громко. То слева, то справа время от времени раздавался характерный свистящий звук — начался перелет.
Из-за осоки вынырнула стайка уток с двумя нарядными селезнями впереди и поплыла на середину заводи. Михаил прицелился. Сдерживаемое дыхание мешало взять твердую, без всякой дрожи и качаний, мушку. Наконец он выстрелил.
Почти одновременно, с мгновенным, может быть, опозданием, откуда-то слева раздался еще один выстрел.
— О, черт! — в сердцах выругался Михаил. — Ни дальше ни ближе еще кто-то место выбрал! А может, это эхо? Может, я просто ослышался?
Какое там эхо! Из шалашика вылезал долговязый человек в кожанке, ствол его ружья тоже дымился.
Быстро, насколько позволяла нога, Михаил пошел к заводи. Выстрел был удачным: оба селезня остались на месте. Каково же было его удивление, когда он увидел, что и охотник в кожанке спешит к этой же облюбованной им заводи. У Михаила даже в горле запершило от досады.
— Здо́рово! — сказал незнакомец.
— Ничего здорового, — проворчал Михаил. — Что, ты другого места не мог выбрать?
— А ты? — спросил охотник в кожанке и неожиданно рассмеялся.
— И в самом деле! — Михаил тоже громко расхохотался.
Человек в кожанке подошел совсем близко, и Михаил резко оборвал смех: перед ним стоял Гаранин.
— Ну, здравствуй, — продолжая улыбаться, Гаранин крепко стиснул руку Михаила. — Или, как говорят охотники: хорошего поля!
Михаил пробормотал в ответ что-то невнятное и в замешательстве начал тереть рукавом ложу ружья.
— А поле-то у нас началось и впрямь неплохо. — Гаранин кивнул на двух селезней, оставшихся в заводи. — Коллективная работа, выходит, и на охоте себя оправдывает.
Гаранин был в резиновых сапогах, и с помощью шеста, который принес Михаил от шалашика, убитых селезней удалось без особого труда подогнать к берегу.
Решили, что разделят убитую дичь после, а сейчас, не теряя времени, надо еще попытать счастья.
Разошлись в разные стороны. Но теперь охота у Михаила шла плохо. Он то раньше времени спугивал, то мазал и вернулся к шалашику с пустыми руками.
Над прудом стлался белый туман, закрывая воду. Небо стало просторнее, в нем и туч поубавилось, и свету стало больше. Очищая небесный купол, тучи оседали над горизонтом и образовали нечто вроде огромного свинцового обруча. Солнце еще не показывалось.
Пришел Гаранин — усталый, перемазанный грязью и счастливый. Ему повезло: он набил еще пяток здоровенных селезней.
— Этих двух — одним выстрелом, — рассказывал он, открыто хвастаясь. — Этого влет, а вот за этим — веришь или нет — добрых полкилометра пришлось на пузе ползти…
Михаил привык видеть Гаранина уравновешенным, спокойным и даже немножко суховатым. И вот перед ним сидел совсем другой человек. Он рассказывал, как полз, как целился, и глаза у него при этом азартно блестели.
— А есть-то я как хочу! — Гаранин хлопнул себя по карманам и, достав две лепешки, протянул одну Михаилу. — Держи… Держи, да чего там! Твоя же мать пекла! Для такого случая не мешало бы и по стопочке от сырости…
После лепешек, вознаграждая себя за долгое воздержание, с удовольствием закурили.
Зашел разговор о севе.
— Трудновато на старых-то машинах? — спросил Гаранин.
— Трудно, — откровенно признался Михаил.
— А пашешь, говорят, глубже нормы? Надорвешь своих старушек, а потом, на уборке, стоять будешь…
Михаил насторожился.
Достаточной по району считалась глубина пахоты в двадцать сантиметров. Однако Ольга просила те из поливных участков, которые были засолены, пахать не мельче, чем на двадцать пять — тридцать. Михаил сам толком не знал, зачем это, и ему сейчас не хотелось ничего объяснять Гаранину. К тому же он подозревал, что Гаранин говорит о глубокой вспашке со слов главного инженера, который был позавчера в бригаде и остался очень недоволен. Инженеру, конечно, положено такими вещами интересоваться: он отвечает за машины, секретарь же ввязывается в это дело, пожалуй, зря. Михаил так и сказал Гаранину:
— Ты не обижайся, а только, если нашего дела как следует быть не знаешь да с чужих слов судишь, лучше оставим этот разговор. Ты бы вот председателем здешним поинтересовался — это да, это по твоей части.
Гаранин спросил, чем же именно интересен председатель.
— Многим, — ответил Михаил. — Всего сразу и не скажешь. Пока скажу одно: фигура такая, что стоит заняться. Только смотри, чтобы он и тебя, как райком, на сводках вокруг пальца не обкрутил… Ну, мне пора в бригаду.
— Тогда уж и добычу забирай, — сказал Гаранин. — Чего я со всем этим добром таскаться буду? Разве что вот эту пару отложи, матери отвезу, а остальных забирай! В бригадный котел!.. Без разговору. А в Березовке я побываю. Сегодня вряд ли успею, сегодня у меня других дел много, а завтра наведаюсь.
Перекинув реглан через руку, Гаранин зашагал вниз по Березовке, на плотину.
Солнце в конце концов прорвало свинцовый обруч хмари и разом брызнуло на поля. И все мгновенно преобразилось: все стало резче, ярче, красивее. И вода заблестела, как серебряная, и трава заискрилась росяным жемчугом, и поля зачернели необыкновенно глубокой бархатной чернотой.
«Хорошо, хорошо, черт побери!» — хотелось крикнуть Михаилу.
Трактор Горланова продолжал работать. Значит, с пальцами по-прежнему все благополучно. Ну, а теперь осталось и совсем немного. Теперь выдержат!
И все-таки поршневые пальцы на тракторе Горланова не выдержали.
Около полудня, когда на богарном участке всего и оставалось каких-нибудь два заезда, палец третьего поршня выскочил из втулки и задрал цилиндр. Поломка была серьезной, трактор выходил из строя, по крайней мере, на полдня.
«Эх, как это все некстати!» — Михаил злился и на старые, недостаточно хорошо отремонтированные зимой машины, и на трактористов, которые из-за своей беспечности не смогли предупредить аварию. А понимая, что главным виновником поломки был он сам, — злился еще больше: «Вот и дал короткие сроки».
Не полагаясь на расторопность трактористов, Михаил сам залез под трактор, снял картер и вытащил поршень. Горланов с Пантюхиным еле успевали выполнять его команды: подай то, принеси это.
К счастью, запасная рубашка цилиндра оказалась здесь же под рукой, в полевом вагончике, и ждать, пока за ней ходили, пришлось недолго.
В самый разгар работы приехал главный инженер в сопровождении Сосницкого и Николая Илларионовича.
— Ну что, допрыгался, бригадир, — сказал инженер, рассматривая задранный цилиндр. — Говорили же: не перегружай машины, и так еле живы, так нет — сам все знаю, сам с усам… Я для тебя не авторитет, так Николай Илларионович может подтвердить.
«Стоило для одного этого старика тревожить!» — усмехнулся Михаил, но промолчал.
Николай Илларионович откашлялся, протер пенсне и сказал:
— Да, по нашим почвам глубину вспашки в двадцать сантиметров следует считать вполне достаточной. Несколько мельче можно, а глубже не имеет смысла.
— И те участки, что засолены, тоже глубже не имеет смысла? — спросил Михаил.
— Видите ли, агротехника орошаемого земледелия, в том числе и предпосевная обработка почвы, не имеют существенных отличий от агротехники обычных богарных земель, — уклончиво ответил агроном.
— Одним словом, на рожон лезешь зря, — заключил инженер. — Сегодня ты запорол цилиндр, завтра — подшипник. Кто же тебе частей напасется? Имей в виду: больше нормы не дам. И за перерасход горючего расплачиваться собственным карманом не стану, расплачивайся сам.
— Ладно, буду иметь в виду, — угрюмо ответил Михаил и хотел было снова приняться за работу, но теперь за него взялся все это время молча писавший что-то в своем блокноте Сосницкий: а чье это указание — пахать глубже нормы, а с кем оно согласовано?
Михаил ответил, что указание агронома Орешиной.
— Но, позвольте, — возмутился Сосницкий, — Орешина — это же не инстанция!
В этом Михаил согласился с Сосницким: да, конечно, Орешина не инстанция.
— Нет, я в том смысле, что Орешина не может давать какие-то указания, не согласовав их предварительно с кем следует.
— А я-то, грешным делом, думал, что в земле, в агрономии лучше понимать должны не инстанции, а агрономы.
— Э-э, парень, — криво усмехнулся Сосницкий. — А ты, оказывается, с гонорком. Я тебя было в пример другим ставил, а ты вон какой. Хорошо. Учтем…
Сосницкий сделал еще какую-то последнюю пометку в блокноте, сунул его в портфель и, по обыкновению, заторопился:
— Поехали, товарищи. Мне сегодня еще в Ключевское успеть надо.
Захватив зачем-то аварийный поршень, начальство наконец уехало.
Не успел Михаил разделаться с горлановским трактором, пришел Филипп Житков и сказал, что его машину надо ставить на перетяжку подшипников.
— Не может быть! Вчера я их только проверял, что же они, за одну ночь ослабли?
Житков ничего не ответил. Он, не без основания, считал себя достаточно опытным для того, чтобы определить, нужна или не нужна трактору перетяжка, и спорить о таких вещах даже и не собирался.
Все же Михаил решил убедиться в необходимости перетяжки собственноручно. Уж очень несуразно все выходило: хотел как побыстрее, а получается наоборот. Прямо как нарочно.
Пришли на участок Житкова.
Михаил осмотрел мотор: да, подшипники люфтуют так, что дальше работать нельзя.
Горланов с Пантюхиным имели самый неполный, самый бедный набор инструментов в бригаде. После аварии с пальцем половину ключей пришлось позаимствовать у Житкова. Михаил сам посылал за ними. Из-за этого сейчас замедлялась разборка мотора.
Про недостачу инструмента на горлановском тракторе Михаил знал и раньше, но как-то мирился. Сейчас и это обернулось против него.
«Ну, ничего, я за вас возьмусь». Михаил снова начал злиться на Горланова и Пантюхина за их лихаческое отношение к машине: работают так лихо, что на уход за машиной и времени не остается, даже инструментом обзавестись некогда. И опять, может быть, потому злился, что чувствовал и свою вину в этом. Кто же, как не он сам, потакал им?
К счастью, перетяжки требовали лишь два подшипника и времени на это ушло не так много. Может быть, бригада все же не затянет сроки сева на поливных землях.
«А интересно, как в Ключевском, у Галышева? — подумалось Михаилу. — Стой! А ведь Ольга сегодня в Ключевском. При мне Варвара Садовникова с ней из правления по телефону разговаривала…»
И его вдруг так властно, неудержимо потянуло к Ольге, так остро захотелось видеть ее, что он, как от быстрого бега, даже задохнулся.
Лошадь, выделенная колхозом в распоряжение бригады, как раз стояла запряженной. Сказав возчику, что вернется через два часа, Михаил сел в перемазанную автолом бричку и тронулся.
Он опять, как и зимой, смутно представлял, зачем едет к Ольге, о чем с ней будет разговаривать. Но теперь это его уже не смущало: «Не в словах дело. А может быть, и без всяких слов поймет, зачем и почему я к ней приехал?»
Лошадь шла тихо, время тянулось бесконечно.
Любил Михаил не в первый раз. В трудные военные годы началась и кончилась его первая любовь. Девушка, которой он почти два года писал с фронта, писал из самых страшных, смертельно опасных мест, и потому каждый раз так много вкладывал в письма, — эта девушка однажды ответила ему, что вряд ли они сойдутся характерами, вряд ли у них получится счастливая жизнь, ведь у Михаила такой тяжелый нрав, если уж говорить начистоту. Как-то так совпало, что письмо пришло в ответ на то, в котором Михаил писал, что ранен и лежит в госпитале. С тех пор к женщинам он стал относиться настороженно и, хоть изредка знакомился и сходился, ни одну полюбить не смог. В конце концов он решил, что любовь его прошла и больше не вернется. Надо найти женщину, которой бы он нравился и которую сам уважал, и жениться. Пора! Не век бобылем жить! И вот он встретил Ольгу. Куда пропала всякая настороженность! Он словно забыл, что его когда-то обманули, забыл, что ему уже тридцать, а не восемнадцать. Его так сильно тянуло к Ольге, он постоянно испытывал такое неодолимое желание видеть ее, быть с ней рядом, какого, может быть, не испытывал в пору первой своей любви.
Одно было огорчительным для Михаила: как-то нескладно все у него получалось с Ольгой. Только успел познакомиться — и вот, на тебе, дернул черт зачем-то пойти к ней на дом, а потом, при встречах, и сказать об этом было неудобно, и замалчивать свой приход еще неудобнее. К тому же очень уж глупо вел он себя при этих встречах. Нет, не терялся — Михаил был не робкого десятка, — а именно как-то глупел в присутствии Ольги. На него будто блаженное забытье вдруг находило. Очень легко пообещал он ей и короткие сроки сева, и глубокую вспашку поливного поля. Но его старые машины и при обыкновенной пахоте едва-едва укладываются в норму горючего. Теперь на поливном что ни смена — пережог. А бригада и так перерасходовала керосин в первые дни сева, когда было еще грязно и машины часто вязли. Сколько же набежит всего с Михаила за время сева? Хватит ли заработка, чтобы покрыть пережог?..
Начались поля Ключевского колхоза. Слева, через лощину, мерно урча, ползал дизельный трактор, чуть впереди справа, у края ровно разделанного поля, виднелся широкий сцеп сеялок. Около сеялок копошились люди. Вот двое, парень и девушка, отделились от остальных и зашагали в направлении села. Девушка, показывая на поле, что-то сказала парню и рассмеялась.
Михаил вздрогнул от неожиданности: Ольга! Ее голос он мог бы узнать в любой толпе. В нем все как бы оборвалось, на сердце стало тоскливо и пусто. Больше не оглядываясь на Ольгу с Гараниным — это был, конечно, он, по фуражке видно! — Михаил поднял воротник пальто и, резко хлестнув лошадь, свернул в лощину.
«Вон какие другие дела у тебя, товарищ секретарь!»
2
Ольга с Гараниным шли с полевого стана тракторной бригады в Ключевское.
Недавно просохшие, укатанные телегами и машинами дорожные колеи глянцевито лоснились на солнце, и идти по ним было легко и мягко, как по нагретому асфальту. В высоком небе неутомимый жаворонок взахлеб распевал свои песни. Пахло влажной землей, и был этот запах густым, сытным, от него слегка кружилась голова.
Говорили о хорошо перезимовавших зеленях, о севе, о том, что весна выдалась сырая и вдвое прибавила хлопот.
Гаранин время от времени замедлял шаг и, оглядывая поля, тихонько вздыхал. Оживленный, разговорчивый полчаса назад, сейчас он был какой-то притихший, сосредоточенный. Глаза глядели на дорогу, на поля, а видели что-то совсем другое. Вдруг без всякой видимой связи он сказал:
— А ведь в городе сейчас тоже весна! — и светло, отрешенно улыбнулся.
— Скучаешь, Илья Михайлович?
— Признаться, да.
Ольга сказала, что весна в городе неинтересная, незаметная.
Гаранин опять улыбнулся.
— Это, наверное, для непривычного глаза, а в городе, если хочешь знать, весна намного раньше здешней начинается. Здесь еще сугробы кругом, а в городе уже и ручьи забурлили, и мостовая задымилась. Здесь солнце по полям рассеивается, а там все на людей светит, людей греет… Эх, сидишь в такой день в цехе и крановщице нашей, Зине, завидуешь. Крыша у цеха стеклянная, а она под самой крышей, и оттуда двор наш заводской видно, видно, как тает на нем, и солнышко к ней в будку нет-нет да и заглянет…
Гаранин теми же отсутствующими глазами опять посмотрел на дорогу, на поля по обеим сторонам ее.
— А потом скверы, парки начинают зеленеть, и зелень эта сначала вроде тумана сизого вокруг деревьев, и травка пробивается какая-то серенькая. А день прошел — глядишь, на липах листочки выметнулись, трава уже зеленая-зеленая, а на каждом углу фиалки, ландыши… Верно, весна там не такая заметная, как здесь. Но это для того, кто не замечает, а я вот прошлую весну… — Гаранин вдруг осекся и некоторое время шел молча. — Я хотел сказать, мне прошлую весну на воздухе много бывать приходилось, так, знаешь, мы видели… я видел даже, как листья на деревьях каждый день подрастали.
— А кто она у тебя? — неожиданно для себя самой спросила Ольга. — Не та крановщица?
— Нет, — Гаранин перестал улыбаться. — Она, представь, тоже агроном.
— Агроном?
— Да. Только, как бы это тебе сказать, — агроном в перспективе.
Гаранин замолчал, и Ольга больше его не спрашивала.
Слева, по взгорью, тянулся небольшой лесок. Деревья только-только начинали распускаться и казались издали подернутыми тем самым сизым туманом, о котором говорил Гаранин. Из леса доносился птичий гомон и редкое, смягченное расстоянием постукивание дятла.
— А скажи, Оля: зачем нужно глубоко пахать поливные поля?
— Не везде, — ответила Ольга, — а только которые засолить успели. И глубокая пахота нужна, чтобы ту мертвую землю опять живой, плодородной сделать.
— Вот так так! — Гаранин хлопнул себя ладонью по лбу. — А я, дубовая голова, Брагину еще выговаривал за это… Ай, нехорошо!..
Дорога пошла вдоль оврага.
Памятный с детства овраг! Сюда Ольга ходила с подругами за клубникой; на поле, по ту сторону, был участок ее звена. А вот и вершина оврага с родником-плетенкой, из которого они с Соней часто набирали воду. Здесь, у этого родника, она впервые и встретила Василия…
Все настоящее вдруг отодвинулось и стало каким-то маленьким, несущественным по сравнению с тем прошлым, которое встало сейчас у Ольги перед глазами. Сырая весна, сроки сева… Ну, и что из того, что и Михаил и Галышев засеют поливные поля вовремя? Разве все это так уж важно?! Все равно Василия нет и не будет… Вот этим склоном, этой тропинкой шагал он тогда, веселый, улыбающийся, здесь пил воду и разговаривал с ней и Соней. Все это было. Было, но никогда больше уже не будет, — это для нее самое важное, важней в жизни ничего не бывает…
— Похоже, колодчик, Оля, — словно издалека услышала Ольга голос Гаранина. — Попьем?
Она отказалась, а Гаранин проговорил что-то еще и пошел по склону овражка к роднику. Ольга поглядела ему вслед, поглядела, как он, став на колени, припал к выбегавшему из плетенки ручейку, и перед глазами у нее начало расплываться.
Ольга знала: пройдет какое-то время, немного отляжет от сердца, и не таким уж беспросветным будет казаться будущее. Она знала это потому, что уже не раз вот так сильно и властно прошлое брало ее в свои тяжелые объятия и все же, рано или поздно, отпускало, уступая настоящему: жизнь, сегодняшняя жизнь — пусть часто горькая и трудная — все же одерживала верх над воспоминаниями, пересиливала их. Но оттого, что Ольга знала все это, сейчас ей не было легче.
— Ай, вода! Сроду такой не пил! — Гаранин вылез из овражка, отерся и, взглянув на Ольгу, участливо спросил: — Да ты, Оля, никак, нездорова сегодня — на тебе лица нет.
Ольга сглотнула подступившие к горлу слезы и как можно ровнее сказала:
— Ничего, Илья Михайлович. Это пройдет. Ничего…
3
Тузов, к которому Ольге приходилось обращаться чаще, чем к другим председателям, вел себя как-то непонятно. Он еще ни разу ни в чем не отказал Ольге, ни в чем не перечил ей. Особенно аккуратно выполнял Тузов те ее указания, которые она давала с ведома Васюнина. Однако он ни в чем и не помогал. Ольга просила собрать поливальщиков — он собирал, как-то предложила заблаговременно приступить к ремонту поливного инвентаря — он вызвал кузнеца и тут же при Ольге дал ему задание. Но чтобы предложить что-то самому, чтобы проверить, как идет ремонт того же инвентаря и вообще идет ли он, ничего этого Тузов не делал.
В разговорах, касающихся орошения, Тузов, как и другие председатели, почти слово в слово повторял то, что Ольге уже приходилось слышать от Николая Илларионовича. Разница была разве лишь в том, что Тузов говорил не так складно, как агроном, хотя ничуть не менее, а может быть, даже более убежденно.
Обращалась Ольга за помощью в партийную организацию колхоза, но это ничего не дало.
У райкома здешняя организация была на хорошем счету. В колхозе аккуратно выходила стенная газета, читались лекции, проводились собрания. Словом, все шло как надо.
Ольга плохо разбиралась в партийной работе. И все же ей казалось непонятным, почему в колхозе читаются лекции о жизни на Марсе — есть она там или нет — и о снах, в свете материалистического толкования их, а вот об орошении, к примеру, никто ни разу не читал и читать не собирался. Из агрономических лекций за этот год была всего одна, да и та о выращивании капусты за Полярным кругом или что-то в этом роде. На собраниях тоже редко обсуждались будничные дела колхоза, а говорилось больше о международной и внутренней обстановке, о том, чтобы провести такую-то кампанию в точно указанный райкомом срок, и тому подобное.
Коммунистов в Березовке, не считая Тузова, было семеро: продавец сельпо — парторг, два конюха и четыре бывших председателя. Один из бывших работал начальником пожарной охраны, другой ведал мельницей, двое остальных совсем не работали в колхозе. Все они дружно заявили, что в орошении мало смыслят и трудно сказать, чем могут помочь Ольге.
Парторг был человеком по натуре тихим, безобидным. О председателе колхоза он, например, сказал, что Тузов — руководитель не без недостатков, но очень плохо принимает критику и поэтому, мол, воздействовать на него не так просто. Однажды он, парторг, как-то раскритиковал Тузова на общем собрании. И что же? На другой день, под благовидным предлогом, Тузов не дал ему лошади ехать за товаром: знай, мол, кого критиковать и где; на партийном собрании — пожалуйста, а на общем ни к чему, только авторитет меж колхозников подрываешь. Рассказал об этом случае инструктору райкома Сосницкому. Тот ответил, что и в самом деле не стоит, мол, особенно увлекаться критикой председателя на колхозном собрании, уместнее это делать на партийном, иначе от критики будет не столько пользы, сколько вреда.
По-прежнему главная надежда у Ольги оставалась на трактористов и на колхозников поливной бригады.
Выходя из правления, Ольга встретилась с Михаилом Брагиным. Тот стоял и разговаривал с правленческим сторожем Евсеем и еще двумя незнакомыми Ольге колхозниками.
— …Доберемся, если палки в колеса будет ставить, — говорил Михаил, сжимая кулак и как бы взвешивая его. — Еще как доберемся! Колеса у наших машин железные — любые палки переломаем.
Что-то знакомое почудилось Ольге в широкой, свободной позе Михаила, вот в этом уверенном жесте, в прищуре глаз, и эта схожесть с Василием сладкой болью отозвалась в сердце.
— Добраться-то непросто, — глухо проговорил один из колхозников. — С районным начальством ладить уж больно мастак, не ущипнешь и не подкопаешься. Хоть с райкомом возьми, хоть с теми же агрономами.
— Ну, с агрономами-то не со всеми… — Михаил увидел Ольгу и смешался. — Ладно, Кузьма, в другой раз договорим. — Он пошел ей навстречу, напряженно всматриваясь в лицо, точно по его выражению хотел узнать что-то для себя важное.
Они поздоровались и, не уговариваясь, пошли улицей села.
Михаил, будто своему прямому начальству, начал обстоятельно докладывать Ольге: сев на поливном поле подходит к концу, осталось там-то столько-то, засоленные участки перепаханы на должную глубину.
По обстоятельности этой Ольга поняла, что Михаил просто-напросто боится кончить деловой разговор, не зная, о чем же еще можно говорить с ней. Он вытащил папиросы и хотел закурить, но переложил пачку из одного кармана в другой, достал платок, отерся, а закурить так и не закурил. Случайно встретившись взглядом с Ольгой, Михаил осекся на полуслове и опять полез в карман за душеспасительной папироской. На этот раз он ее достал и начал старательно, как трубку, раскуривать.
Время было обеденное. Из правления Ольга хотела зайти к Варваре Садовниковой, рассчитывая застать ее дома. Сейчас они с Михаилом стояли около Варвариной избы. Разговор разом иссяк, а стоять молча друг перед другом, да еще на виду у всей улицы, было неудобно, и Ольга пригласила Михаила с собой: откажется — хорошо, согласится — втроем неловкость пройдет.
Но Варвара, как нарочно, еще не приходила на обед. Ольга, частенько бывавшая у нее, открыла нехитрый сенной запор и пропустила Михаила вперед.
В полутемных сенцах Ольга за что-то запнулась, чуть не упала и вдруг почувствовала себя в сильных мужских объятьях. Жесткие, обветренные губы защекотали ухо. На какую-то секунду все тело разом ослабло, обмякло, голова пошла кругом. Но она все же пересилила себя и, вырываясь из железных рук Михаила, зашептала:
— Что ты, Миша? Что ты?.. Не надо… Не надо…
Как бы раздумывая, Михаил подержал ее еще какое-то время в кольце своих рук, а потом разом отпустил.
Вошли в избу и долго не глядели друг на друга.
Изба была просторной. Ольга, как хозяйка, села у стола, в переднем углу, Михаил — у окна, ближе к порогу.
Слово по слову, начался разговор. Говорили ни о чем: время — обед, а Варвара еще не пришла почему-то; день сегодня солнечный, ясный — самый хороший день для сева; сеялки не забиваются и к сошникам не липнет; на плотине вода перестала прибывать.
Ольга мельком взглянула на Михаила и опять нашла какое-то неуловимое сходство с Василием. Михаил перехватил этот взгляд, и они, как и на улице, встретились глазами. Ольга не отвела своих; она как бы хотела сказать этим прямым и открытым взглядом: да, ты сегодня чем-то похож на него, и поэтому мне хорошо, поэтому я и улыбаюсь… Вряд ли Михаил понял ее, но что-то, видимо, все же понял, потому что, помолчав некоторое время, он тяжело поднялся с лавки и, сославшись на дела, ушел.
Ольга облокотилась на стол и обхватила голову руками…
Через два двора от нее живет семья. В ней всего три человека, но во всей улице нет, наверное, более шумного дома. Днем там еще ничего, спокойно: муж на работе — он монтер; жена, портниха, шьет на машинке; семилетняя дочка гуляет. Но вот приходит с работы муж, семья собирается вместе, и начинается скандал.
А говорят, когда-то это был тихий, счастливый дом.
В один год у Николая Копрова умерли жена и мать. Он остался с четырехлетней девочкой. Полтора года прожили они вдвоем. Но, как говорится, без хозяйки — дом сирота, и Николай решил привести новую хозяйку. Мужчина он видный, и долго искать ему не пришлось. Так пришла в дом Александра — молодая красивая женщина с умелыми руками и тихим характером.
Николай полюбил новую жену, радовался, что вместе с ней вернулось в дом прежнее счастье. Дочери он сказал: «Ну, тебе нравится новая мама? Люби ее, и она тебя тоже будет любить…» Но дочке не понравилась новая мать. Поначалу это сердило Николая: «Глупая, ничего не понимаешь…» Но девочка по-прежнему относилась к мачехе неприязненно. Мало-помалу невзлюбила ее и Александра. А пожалуй, что невзлюбила она девочку еще с самого же первого дня, только не показывала этого. Тихий характер у нее вдруг разом изменился, она стала злой, сварливой, за всякий пустяк награждала падчерицу или сердитым, сквозь зубы, выговором, или подзатыльником. Отец терпел-терпел и не выдержал: как-то пришел домой пьяный, избил Александру, а потом лег грудью на стол и плакал, размазывая кулаком пьяные слезы.
С того вечера кончилась тихая жизнь в этом доме…
Варвару Ольга так и не дождалась. Съев ломоть круто посоленного хлеба с молоком, она снова заперла сени, прямо огородами вышла на зады и медленно зашагала в поля.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
После первого приезда в Новой Березовке Илье приходилось еще бывать раза два, но мельком, недолго, и о здешнем колхозе у него по-прежнему оставалось смутное представление.
На этот раз Илья зашел в правление и попросил счетовода показать ему документы, касающиеся отношений артели с МТС.
Приемочные акты, разные входящие и исходящие — все было в полном порядке. В протоколах общих собраний правление никто не ругал. Не нашлось ничего худого о нынешнем руководстве и в актах ревизионной комиссии, которые тоже удалось просмотреть Илье. День прошел зря.
Ночевать Илью Тузов пригласил к себе.
— Не думал я, что припозднишься — устроил бы в другом месте, а теперь уж не хочется людей булгачить…
Идти к Тузову не хотелось.
— Гляди. А только если стеснить боишься, так зря: постель найдется, жена накормит… Ну, так как же? А то уж и спать пора — подыматься-то вместе с солнышком…
В конце концов Илья согласился.
Дом у председателя был добротный, под железом, с тесовыми сенями и просторным, видимо, только что перебранным двором.
Встретила их рослая и дебелая хозяйка, почти по-городскому принаряженная. На ней было зеленое платье с фестонами и еще какими-то модными штуками, которым Илья даже не знал названия. В переднем углу на лавке возились двое ребят — девочка лет десяти и мальчик лет четырех. Отец молча кивнул им на занавеску, и девочка поспешно утащила за нее брата.
Пахло чем-то вкусным, и у Ильи, не евшего с утра, даже слегка закружилась голова и начало подташнивать.
Хозяйка налила в рукомойник воды, а пока они умывались, накрыла на стол. Теперь Илья понял, чем так аппетитно пахло в горнице: на столе, застланном чистой клеенкой, благоухала жареная, с подрумяненными боками, курица. Вокруг нее стояли тарелки с солеными огурцами, капустой, картошкой с салом и горкой пшеничного хлеба.
Илья знал, как бедно живут в Новой Березовке, и ему стало неудобно, что Тузов приготовил для него угощение. А когда он увидел, что хозяин, запустив руку под лавку, достал оттуда еще и бутылку, стало совсем неловко. «Эх, зря согласился!» Но что теперь было делать? Врать, что он по горло сыт? И Илья сел за стол.
Тузов налил две довольно вместительные стопки. Жена стояла поодаль, у занавески, и за стол не садилась. Илья выпил, отставил стопку, чтобы хозяин ему больше не наливал, и принялся за курицу. Поджарена она была со знанием дела: в меру посолена, в меру протомлена и подрумянена. Ножки и крылышки, облитые янтарным жирком, прямо-таки таяли во рту.
— А может, все же и под другую ногу? — спросил Тузов, кивая на отставленную Ильей стопку. — Не помешает. Закуски хватит.
Илья отказался. Тогда Тузов, как бы что-то решив про себя, не стал наливать и в свой стакан.
— Признаться, я и сам не охотник до этого добра, — показал он глазами на бутылку. — Разве что с устатку другой раз причастишься. Работенка-то собачья, мыкаешься целый день как оглашенный, ноги под собой чуять перестаешь…
Тузов стал жаловаться на трудности председательской работы.
— С одной стороны, вышестоящие инстанции на нашего брата жмут: райком, МТС. Все сделай так, а не иначе, и все подай к определенному сроку. С другой же стороны, колхозной массой надо руководить. А колхозная масса… э-э, — Тузов поднял куриную ножку, — это надо знать, что это за штука, это в двух словах не объяснишь. Хочешь ты, к примеру, тихо со всеми, по-хорошему поступать. Ладно. А что из этого получается? А то и получается, что люди садятся тебе на шею и еще ноги свешивают. Тогда и начальство тебя за мягкое место берет — почему в срок не успеваешь? — и сами колхозники недовольствуют: председатель дисциплину не может навести. Хорошо. Начинаешь наводить дисциплину. Недовольных вдвое, а особенно среди лодырей: работаем много, получаем мало, где справедливость? Вправишь мозги такому горлопану, прижмешь его, как должно, он в район, начальству капать пошел: председатель у нас такой, председатель у нас сякой: он и пьяница, и растратчик, он и хозяйство ведет не так…
В голове у Ильи чуть шумело. Он слушал Тузова, но вникнуть в смысл его слов как следует не мог, хотя и понимал, что между щедрым угощением и жалобами хозяина есть какая-то связь.
Где-то в конце улицы застучала, постепенно приближаясь, колотушка.
— А еще и тем плохо, что у нас это тебе не в городе, — у нас все на виду, — продолжал Тузов. — Каждый твой шаг всем виден, и видится он всякому по-своему… Мы вот, к примеру, закусили с тобой, а Максим с колотушкой пройдет, и ему поглянется, что мы не цыпленка, а целого барана съели и по литре на брата выпили. А завтра, глядишь, от колодца к колодцу слушок пополз: Тузов с секретарем пил, Тузов секретаря подпаивал…
Илья отодвинул тарелку и вышел из-за стола. Стало вдруг очень жарко. Он вытащил трубку, закурил и попросил указать ему постель.
— Хорошо бы в сенях. В избе жарко.
Тузов посмотрел на него так, будто Илья в чем обманул его, и нехотя ответил:
— Можно и в сенях. Устрой гостя, жена, — и, как бы заканчивая разговор, добавил: — Такая-то наша работа.
Колотушка теперь била совсем рядом. В сенях она была слышна еще отчетливее, и Илья долго не мог заснуть. За дверью о чем-то переговаривались Тузов с женой, на дворе жевала жвачку корова.
Едва Илья заснул, колотушка его снова разбудила. И так несколько раз. «Это тебе не в городе, — вспомнились слова Тузова. — Здесь и спать особую привычку надо иметь…»
Вскоре Илья снова наведался в Березовку.
Первую половину дня он пробыл в тракторной бригаде и в село попал перед вечером.
По дороге Илья решил зайти на колхозные дворы.
Только кузницу да кирпичные, еще довоенной постройки, склады Илья нашел крепкими. Остальные службы давно пришли в ветхость и держались, главным образом, на столбах и различных хитроумных подпорках. Темными провалами зияли в стенах и крышах покосившихся дворов огромные дыры. От крыши свинофермы остались лишь стропила да несколько переметин с клочками гнилой соломы. Свиньи с выводками поросят плавали в жидкой грязи. Не лучше был и конный двор: неубранные стойла, поломанные загороды. Несколько лошадей так обессилели от весенней бескормицы, что не стояли на ногах, и их держали в стойлах как бы подвешенными на продетых под брюхо вожжах.
Пробыл Илья допоздна и опять заночевал в Березовке. На этот раз его взял к себе пожилой крестьянин Кузьма Горшков: изба просторная, а живут они только вдвоем со старухой.
Почти половину избы занимала русская печь с кухней, в переднем углу виднелся маленький, покрытый густым слоем пыли образок, на стене, как и во всех крестьянских избах, висели фотографии. На одной из карточек сняты были двое лобастых, похожих друг на друга и на Кузьму парней: один, постарше, чинно и очень деловито сидел на стуле, второй почтительно, как эскорт, стоял у него за спиной.
— Сыновья. — Кузьма глубоко вздохнул. — Оба там остались. Не пришли. — И повторил еще раз: — Одни со старухой живем.
Больше о погибших сыновьях он ничего не говорил. Видно было, что это большое, но уже отболевшее горе и лучше его не трогать.
Сели ужинать. Хозяйка подала сухую, без масла, картошку и чашку огурцов.
— Уж не обессудь, — хмуро объяснил Кузьма, — и рады бы чем другим угостить, да нечем. Бедновато живем. То война, а то…
— Война войной, — вставила от печки хозяйка.
— Оно, конечно, если поглубже разобраться, — дело не только в войне, — сказал Кузьма. — Народ наш дюжий, любое лихо ему по́ кости… Дело тут в наших колхозных руководителях. Уж который год не те люди на начальнические стулья садятся.
Если бы видел секретарь, каким был новоберезовский колхоз до войны. Миллионер! А сейчас?.. И наступили эти черные для колхоза дни с уходом на фронт замечательного председателя Петра Макаровича Костина. После него председатели начали меняться каждый год, а то и чаще. Ну, какое тут может быть руководство?! Вот колхоз и упал, всю свою силу растерял, ослаб, и колхозники дошли до такой бедности, какой и при единоличном хозяйстве не было. Нынешний председатель Тузов задержался дольше других — вот уже полтора года председательствует, — да только и при нем лучше колхоз не стал и не станет. Поняли это колхозники еще осенью, и уже тогда следовало бы убрать Тузова. И убрали бы, конечно, но очень ловко дело ведет, не подкопаешься ни с какой стороны. Окружил себя разными субчиками, они ему всякие там бумаги оформляют, а начальство приедет, на те бумаги в первую голову смотрит и видит, что все в порядке. Колхоз выполнил хлебопоставки — начальство районное довольно: молодец, Тузов! А того начальство не знает, что Тузов все амбары под метелку очистил и колхозникам на трудодень, кроме вот этой картошки, ничего не дал. До этого у товарища Сосницкого мало заботы, ему лишь бы сводку вовремя представить.
— Вот так оно и идет: начальство Тузовым довольно, а мы хоть и больно недовольны, а сделать ничего не можем, потому что так ловко окружил себя Тузов своими людьми, что и справа и слева от милых дружков ему полная поддержка. Попробуй укажи ему на какую-нибудь хозяйственную неурядицу — куда там! Тебя же и обругает. «Умники, — скажет, — какие выискались! А того не понимаете, что подо мной вон вас сколько и всеми руководить надо. Мозгов не хватит…»
Жаловались, конечно. Два раза из района приезжали комиссии с проверками, кое-что о колхозных делах известно и прокурору. Но Тузов с завхозом люди бывалые: одной комиссии они втерли очки, другую умилостивили подачками, сунули три мешка муки и следователю, посланному прокурором. Сам Горшков как-то пытался дойти до районного исполкома, да только секретарь, узнав, по какому он делу, не допустил его до начальства, сказал, что оно занято, и просил изложить все письменно и подать ему. А дела в колхозе такие, что их и на бумагу-то выписывать тошно. Да и как напишешь, когда тут надо живому человеку, в глаза глядя, все обсказывать. А бумага что — бумага дело мертвое… До того дошло, что народ из колхоза стал бежать. Потому заколдованное кольцо получается, все концы в воде, и ни за один не ухватиться, чтобы клубок размотать…
Кузьма рассказывал долго, подробно. И такая боль, такая обида звучали в голосе старика, что Илье по временам становилось немножко не по себе, будто и он сам был повинен во всем том, что творилось в колхозе.
— Я думаю, клубок этот мы все же распутаем, — сказал Илья, когда Горшков кончил свой рассказ. — Если, конечно, вы, колхозники, поможете. А в районе поддержки не будет — до обкома дойдем.
— Значит, не ошибся я. — Горшков тепло взглянул на Илью. — Что ж, спасибо, сынок, что нашим хлебом-солью, а лучше сказать — картошкой нашей не побрезговал. А то ведь Тузов тебя разве так бы накормил! Последней курице голову бы отрубил…
Стали укладываться спать. Перед сном Илья с хозяином вышли на крыльцо покурить. Было уже поздно, и где-то недалеко раздавался стук колотушки. Колотушка била неторопливо и мерно, как заводной механизм.
— Ну, похоже, опять Тузову не спать, — затягиваясь самокруткой, проговорил Кузьма и объяснил: — Может, слышал, а может, и нет: между нашим ночным сторожем и Тузовым конфликт вышел. Кто бы из районного начальства у Тузова на дому ни побывал, с кем бы Тузов ни выпил, на другое утро всем колхозникам известно. Ну, Тузов не дурак, понял, что это сторож, дед Максим, информацию дает, потому что его дело такое — ночь не спать, кто и что делает, смотреть. Решил его Тузов припугнуть. Как-то перед севом, на собрании, возьми да и скажи: «Плохо сторожишь, Максим, бдительность потерял, колотушки не слышно, ровно под окнами подглядываешь, боишься себя выдать». Старик Тузову ничего не ответил, а слова те запомнил. Ну, и с тех пор пошло…
Кузьма тихонько засмеялся.
— Только Тузов домой, только поужинает, спать соберется, а Максим тут как тут, на дороге, напротив его окошек станет и в свою стукалку бить начинает. Постучит-постучит — отойдет: поворочайся, мол, с боку на бок, может, задремлешь. Однако только-только председатель задремывать начнет, под окошком опять: стук-стук-стук! Да так всю ночь, до самого утра. Жена, бывает, не выдерживает и с детишками к своей матери, через три двора, уходит. А Тузов и так и сяк, а поделать ничего не может. И снять его из сторожей не волен, потому что не он ставил. Так и до сих пор дело идет: работает Тузов на поле, на фермах день проведет — Максим даст ему поспать; в правленье просидит или, того хуже, с каким дружком бутылочку раздавит — держись, Тузов, до утра стукалка под окном стучать будет…
На некоторое время колотушка уходила в конец улицы, а теперь снова возвращалась. С каждой минутой удары ее становились громче и чаще. Теперь Илья разглядел и самого сторожа — он ходил за небольшим овражком, перед домом Тузова, стоявшим на другом порядке.
Вдруг дверь председательских сеней с грохотом распахнулась, и из нее босой, в одном исподнем, выскочил Тузов.
— Что ты делаешь? — заорал он на сторожа и, чтобы как-то выразить кипевшее в нем возмущение, добавил трехэтажное словцо.
— Сторожу, — спокойно ответил тот. — Бдительность проявляю.
— Так что ж ты на этом месте ее так усердно проявляешь, старый хрен?
— А это уж ты мне не закажешь, хоть ты и председатель, — все так же спокойно отвечал Максим. — Председатель — днем главный, а ночью главней меня никого нет, и будь ты хоть семь раз председатель, мне не указ: где хочу, там и проявляю. Может, здесь у меня самый подозрительный участок.
С последними словами сторож поднял стукалку и пошел по улице.
— Ты же спать своей боталой не даешь, — закричал ему вдогонку Тузов, — не понимаешь, что ли?!
— Ничего, добрым людям моя стукалка не мешает, а не спится тем, у кого совесть нечиста! — И в знак окончания разговора Максим застучал мерно, без перерыва.
Тузов потоптался на месте, погрозил вслед сторожу кулаком и — больше ничего не оставалось! — вернулся в дом. В соседних избах уже начали открываться окна, и из них высовывались любопытные бабьи головы.
— Ну вот, и бесплатный спектакль заодно посмотрели, — Кузьма затушил окурок и зевнул. — Теперь давай-ка спать…
Колотушка то приближалась, то снова уходила. Мерное постукивание ее, смягченное расстоянием, убаюкивало Илью, и он в эту ночь уснул скоро.
Наутро Илья, не заходя в правление, пошел прямо в полеводческие бригады.
В разговорах с колхозниками не только подтвердилось сказанное накануне Горшковым, но и всплыло кое-что новое. Оказалось, что те самые приемочные акты, которые он принимал за документы, на деле были филькиными грамотами. Между бывшим бригадиром тракторного отряда, работавшим в Новой Березовке, и Тузовым установился неписаный закон: ты — мне, я — тебе. Председатель просил, например, ввиду нехватки лошадей подвезти ему трактором лесу на двор. А горючее, мол, которое будет израсходовано на перевоз, спишем, найдем, куда списать. И действительно, находил. Какому-то полю положена культивация, но агроном считает, что можно обойтись и боронованием. Бригада боронует. Однако приемочный акт составляется на культивацию. А горючего на боронование идет раза в полтора меньше, чем при культивации, — вот лес и покрыт, даже еще с лихвой. И председатель доволен, и бригадир радуется. Конечно, акт подписывает еще и агроном, но с ним Тузов тоже умеет ладить.
На попутной ключевской машине Илья выехал в райцентр.
Прежде чем идти к Андрианову, он решил поговорить с главным агрономом.
Виктор Давыдович сидел в своем кабинете и писал. Приходу Ильи он не то чтобы обрадовался, но и не особенно огорчился.
Илья спросил, что думает главный агроном о председателе новоберезовского колхоза.
— Тузов для такого запущенного хозяйства председатель далеко не идеальный, — ответил Васюнин. — Хорошо бы туда направить такого человека, который бы и хорошим хозяйственником был, и в агрономии смыслил. Но где взять такого?! Приходится мириться с Тузовым. Тем более что при нем колхоз свои обязательства перед МТС и государством стал выполнять не хуже, а лучше, чем при его предшественниках.
Илья рассказал Васюнину кое-что из того, что ему удалось узнать в Новой Березовке от колхозников. Однако Васюнина это, кажется, не удивило, не обеспокоило.
— Это, как вы говорите, факты, — все так же ровно продолжал Васюнин. — Но ведь и я в оценке Тузова опираюсь не на собственные эмоции, а на факты, причем на факты более существенные. Вы согласитесь, что личное недовольство того или другого колхозника председателем гораздо менее значимо при оценке его деловых качеств, чем, скажем, выполнение им обязательств перед государством… Или вот вы говорите о фиктивных актах, подписанных кроме Тузова еще и агрономом. Но Николая Илларионовича я знаю давно, больше десяти лет, и у меня нет никаких оснований не доверять его агрономической порядочности. Все это еще надо проверять и проверять, прежде чем вот так сплеча судить и рядить.
«Та-ак. Все ясно, — подумал Илья, слушая Васюнина. — Что ж, будем драться…»
— Посмотрим, что покажет осень, — сказал в заключение Васюнин. — А может, к тому времени и более подходящая кандидатура объявится. Тогда, конечно, заменим.
Андрианову Илья рассказал о положении дел в новоберезовском колхозе подробно, обстоятельно. Тот слушал внимательно, молча, без вопросов. Только под конец уже, когда Илья признался, что надоумил его заняться колхозом Михаил Брагин, Андрианов, усмехнувшись, сказал:
— Ну вот, а вы с главным еще наваливались на него. Брагин — мыслящий бригадир. И если он пахал глубже нормы, так ведь не личный же здесь интерес. Об этом ты подумал?
Теперь Илье было ясно, что поддержал он Оданца зря.
— И то ладно, что признаешься. Трусов не люблю… А что разворошил все это дело — ну что тут тебе сказать, — молодец! Колхоз этот у всей нашей зоны давно уж как бельмо на глазу.
Илья сказал, что надо поставить в известность райком и снимать Тузова, — дело ясное.
— А вот горячиться не будем. Тростеневу, конечно, скажем. Однако руки умывать еще рановато. Может, самое-то трудное еще впереди. Непонятно? Сейчас поймешь.
Андрианов прищурился и спросил:
— Ты уверен, что в райкоме согласятся с тобой? А разве ты не знаешь, что для некоторых работников райкома и райисполкома Тузов — растущий председатель? Хоть того же Сосницкого возьми. Ты уверен, что Сосницкий не встанет за честь своего мундира? У тебя, к примеру, есть показания Егора Суслова, что приемочные акты фиктивны. Хорошо. А если потребуют доказать это документально? Как ты докажешь? И так во многом другом. Чего доброго, еще скажут, поклеп возводишь на честного человека.
Андрианов коротко хохотнул и хлопнул Илью по плечу.
— Ну, я вижу, совсем запугал тебя. А говорю все это вот к чему. Снимать Тузова, конечно, надо, и, чем скорее, тем лучше. Однако калач он, по всему видно, тертый, и голыми руками его не возьмешь. Надо вести дело с умом. Согласен?
Андрианов закурил, прошелся по кабинету.
— Зональный секретарь наш слабоват — вот в чем беда. Он до этого в городе директором то ли мукомольного, то ли хлебопекарного треста был, ну, и трудновато ему, конечно, в курс здешних дел по-настоящему войти, хотя и второй год в районе. К тому же директорские замашки сказываются: все больше на то смотрит, хорошо ли его слушаются, скоро ли его указания выполняют. Для директора-то это, может, и хорошо, а для секретаря райкома не годится.
В заключение разговора Андрианов пообещал на днях побывать в Новой Березовке сам.
2
Жил теперь Илья у матери Брагина, Натальи Яковлевны. Это была женщина невысокая, крупная в кости и неистощимая в разговорах. У нее всегда была в запасе уйма жизненных историй самой различной давности, семейных преданий и просто новостей дня. Илье только оставалось удивляться, откуда Наталье Яковлевне все районные дела известны лучше, чем ему самому.
Выработавшаяся с годами привычка всегда что-то рассказывать, видимо, превратилась у Натальи Яковлевны в такую же жизненную потребность, как есть, пить, спать. Причем Наталья Яковлевна редко рассказывала о чем-нибудь специально, сидя за столом, безо всякого дела. Она сыпала историю за историей к слову, хлопоча у печки, одновременно радуясь удавшимся хлебам и огорчаясь над выкипевшим, пересоленным супом. И если во время рассказа надо было выйти к коровам или курам, Наталья Яковлевна обрывала его на полуфразе и досказывала уже после того, как возвращалась в избу.
Сначала неиссякаемая разговорчивость хозяйки утомляла Илью: он старался не только выслушать Наталью Яковлевну, но и вникнуть в то, о чем она рассказывала, чтобы при удобном случае что-то сказать по поводу услышанного. Однако удобные случаи выпадали не часто, и Илья стал слушать уже не так напряженно, а спустя еще некоторое время понял, что для Натальи Яковлевны вообще не так уж и важно — слушают ее или нет: слушаешь — хорошо, но если у тебя есть свое дело, занимайся им, не стесняйся, ведь я-то вот тоже рассказывать рассказываю, но сложа руки не сижу. Так постепенно все и наладилось: Илья приучился и слушать Наталью Яковлевну, и заниматься своим делом.
После двухдневного отсутствия на Илью, естественно, свалилась и двойная порция самых разных новостей, начиная с той, что секретарь райкома, ездивший в областной центр, за что-то получил там нахлобучку, и кончая новой болезнью жены Васюнина.
Наталья Яковлевна поставила на стол тарелку с дымящимися щами, нарезала хлеб.
— Ну, садись, голодающий, — сказала она Илье своим мягким, певучим голосом. — Небось с утра ни маковой росинки. Да и вчера-то с пято на десято… Да чего уж там, «накормили»! Рассказывай, будто я не знаю, что́ едят в той Березовке. Хорошо, если картошка есть… И как только мой Миша на таких харчах перебивается?.. Видел его?.. Ну, что? Поди, худой стал, как щепка? Нет? Врешь, меня успокаиваешь… Ешь, ешь, еще налью.
Под окном просигналила машина.
Илья выглянул.
Прямо у завалинки стоял «Москвич» главного инженера. Оданец не стал вылезать из машины, а только открыл дверцу.
— В город. Хочешь за компанию?
«Выходит, нынче уже суббота?!»
Квартиры главный инженер все еще не получил и, имея собственную машину, теперь, как установились дороги, каждую субботу ездил на выходной к семье.
— Поехали! Давно ведь собираешься!
Илья поколебался еще секунду, а потом, решительно отодвинув недопитый стакан, встал:
— Поехали!
Наталья Яковлевна засуетилась, стала собирать в дорогу, Илья улыбнулся:
— Домой же еду…
Оданец предложил место рядом, и Илья, сложившись пополам, с трудом влез в машину. Колени почти подпирали подбородок.
— Длинен ты, однако, — покачал головой Оданец, выводя машину на дорогу. — По твоему росту ЗИМ нужен, никак не меньше… Помнишь, на заводе фэзеошники тебя «дядей Степой» звали?
— Помню.
Они ехали в родной город, и ожидание близкой встречи настраивало их на воспоминания.
На заводе Оданец работал начальником планового бюро механосборочного цеха, а Илья парторгом соседнего прессового, и встречаться им приходилось не часто: на совещаниях у директора, в парткоме (Оданец был членом парткома), на торжественных вечерах в клубе. Тем старательнее они сейчас вспоминали каждую такую встречу и все, что с ней было связано, вспоминали товарищей, с которыми недавно вместе работали.
— А помнишь, Илья, мы с тобой уговорились, чтобы и здесь вместе, плечом к плечу? — Оставив одну руку на руле, другой Оданец достал папиросу, прикурил. — Что-то не получается…
Илья согласился:
— Не получается.
— Жалко… То ли тебе померещилось, Илья, то ли еще что, но ты меня почему-то сразу не за товарища, а чуть ли за какого-то принципиального противника посчитал. Да, да, не спорь… А как на самом-то деле было? С ремонтом я тебе уступил, трактора на вывозку навоза дал, даже — будь они неладны! — поилки в Ключевском и те давно поставили…
— Да разве ты мне уступил, чудак-человек?
— Ну, пусть не тебе, не в этом дело. А дело в том, что можно бы, наверное, нам с тобой обо всем этом и по-другому договориться, не обязательно на общем собрании. А ты хоть раз ко мне дружески подошел?
Проселок кончился, машина вышла на укатанную грейдерную дорогу. Перестало трясти, и уже не надо было каждую минуту опасаться за целость затылка, которым Илья почти касался верха кабины.
— И уж если на то пошло, — продолжал Оданец, — тебе я уступил, твой авторитет не хотел меж коммунистов ронять. За машины отвечаю я, и никакое собрание ничего предписать мне не может. К примеру, через этот навоз и всякие поилки ремонт мы затянули и с нижних строчек только-только до середины добрались — кому за это баня была? Не тебе, не партбюро, даже не директору, а мне.
— Строчки ничего не решают. Колхозам помогли, ремонт надежный сделали — это главное. Машины хорошо работают.
— Не везде. Вон Брагин цилиндр запорол, полдня простоял… Я про другое, Илья. Повел ты себя поначалу как-то некрасиво, не по-товарищески. Только-только я на ремонте порядка добился, ты приехал и — все насмарку. Небось бы и самому не понравилось такое.
— Конечно, нет, — выколачивая трубку о наружное ребро дверцы, спокойно сказал Илья.
Оданец осекся на полуслове и скосил удивленные глаза в сторону Ильи:
— Я тебя не понимаю.
— Да кому же такое понравится! Но ничего другого ведь не оставалось… В этом году мы сделаем умнее. Сразу же, по осени, рассортируем машины: которые износились, в ремонт поставим, которые еще потянут, пусть до весны в колхозах работают.
— В два потока? С этим я согласен.
— А зимой мы сделали правильно…
— Э, не будем все это ворошить заново, — не дал ему договорить Оданец. — Важно, что хоть теперь-то поняли друг друга. Я рад… А что было, то было. Я лично сердца на тебя не держу. В работе оно всякое бывает…
Илье не совсем понятной была причина такого умиротворенного, всепрощающего настроения товарища, но, хотя он и не со всем был согласен, спорить сейчас ему тоже не хотелось. Он сказал только, слегка усмехаясь:
— Какие же противники: вон Брагина за глубокую пахоту ты ругал, а я тебя поддержал.
— И правильно!
— Ладно бы правильно. А что за интерес человеку горючее себе же в убыток пережигать — об этом мы подумали?
— Да ты что, Илья, слепой, что ли, не видишь: к Орешиной он, к нашей агрономше, неровно дышит. Ей для каких-то опытов глубокая вспашка нужна, а он и рад стараться.
— Какие там опыты! Засолили землю, мертвой сделали, надо снова в живую превращать — все опыты.
— Ну, опять заспорили… Давай о чем-нибудь другом поговорим. Расскажи-ка лучше, что ты там про Тузова узнал.
Третий раз уже за день приходилось Илье рассказывать о том, что он увидел и узнал в Березовке. Но даже и в третий раз говорить об этом спокойно он не мог.
— Да что ты так переживаешь-то? — сочувственно усмехнулся Оданец. — Наладится! — Поправился: — Наладим!
Больше всего понравилась и запомнилась ему история с колотушкой. Даже захотелось по приезде рассказать ее жене.
3
При въезде в город Илья попросил Оданца остановиться.
Сразу же за дорогой начиналось опытное поле техникума, а еще дальше, вдоль реки, тянулся вековой липовый парк. В этом парке Илья иногда поджидал Тоню с занятий, там была у них своя условленная скамейка.
Время — вечер, и вряд ли Тоню застать в техникуме, но, чтобы знать наверняка, он решил попутно заглянуть туда.
Парк только-только начинал оперяться новой молодой листвой. Вблизи темные стволы и сучья виднелись еще довольно четко, но чем дальше, тем плотней их покрывала нежно-зеленая сетка. Внизу набирала силу острая молодая травка, постепенно забивая грязно-желтую, прошлогоднюю, протыкаясь своими шильцами сквозь плотный слой палого листа.
По дорожкам парка изредка проходили юноши и девушки, которым Илья и раньше, бывая здесь, и вот теперь немножко завидовал. Завидовал и их еще не растраченной зеленой молодости, и их будущей профессии. Профессия агронома, преобразователя природы, казалась Илье такой же благородной и смелой, какими считаются профессии каких-нибудь первооткрывателей или полярников.
Сам того не замечая, Илья шел быстро, будто боялся куда-то опоздать. Вон уже показались сквозь деревья белые колонны здания техникума. А вот, в сторонке, виднеется и та заветная скамейка. Кажется, на ней сейчас сидит какая-то старуха и вяжет… Нет, не на ней, на соседней, их скамейка свободна.
Чтобы немного отдышаться, Илья решил на минутку присесть. Он свернул в сторону, сел посредине скамьи, как бы давая понять, что она занята вся, и достал трубку.
Год назад, ранней весной, пришел он первый раз с Тоней в этот парк.
Группа студентов техникума явилась на завод сельскохозяйственного машиностроения, где работал Илья, на экскурсию. Показать завод экскурсантам поручили Илье. Он долго водил их из цеха в цех, объяснял, где, что и как делается. Под конец Тоня с подругой замешкались в одном из цехов и отбились от товарищей. Илья проводил их до проходной, а потом чуть дальше, еще дальше… День был теплый, солнечный, по мостовой бежали ручьи, и весело было шлепать по лужам, ощущать на лице, на руках ласковое солнечное тепло… Так, незаметно они и дошли до этого парка…
— Дяденька, двадцать копеек не хватает, — где-то совсем рядом услышал Илья и обернулся.
Сбоку скамейки, не рискуя подходить близко, стоял мальчуган лет восьми в изрядно заношенном спортивном костюмчике и большой, не по росту, кепке. Кепка оттопыривала уши, и козырек, чтобы не падать на глаза, был лихо, почти торчмя, заломлен. Где-то Илье уже приходилось встречать эту чумазую плутоватую мордочку под лихим козырьком.
— Куда ж это тебе не хватает столь значительной суммы? — нарочно мудрено и строго спросил он, продолжая разглядывать паренька. А тот, соображая, поглядел влево за кусты, где стоял в выжидательной позе, видимо, такой же неимущий дружок, перевел глаза на лоток с мороженым и ответил не очень уверенно:
— На билет… в кино.
Теперь Илья вспомнил, где встречал этого юного любителя кинематографа. Встречал здесь же, в этом парке, год назад. Он так же вот вырос, точно из-под земли, и с такой же просьбой, когда Илья только-только собрался поцеловать Тоню. Раздосадованный, он сердито цыкнул на мальчишку, и тот поспешно убежал, а Тоня рассмеялась и сама поцеловала Илью…
Илья сделал вид, что роется в карманах, затем встал, подошел к мальчишке и схватил его за руку:
— А ну-ка, приятель, пойдем со мной.
Мальчик струхнул, хотел вырваться, но, убедившись, что держат его крепко, понуро поплелся с Ильей. В некотором отдалении, с опаской поглядывая по сторонам, следовал дружок.
Когда поравнялись с мороженщицей, Илья все так же сердито и строго сказал:
— Вот что, тетя, дай-ка нам по две порции мороженого. — И, уже обращаясь к мальчишке, спросил: — Ты какое любишь? Шоколадное? И дружок твой тоже? Вот и хорошо!
Илья отдал мальчишке все четыре брикета и сдачу:
— Это на билет, — нахлобучил по самый подбородок фуражку. — До новой встречи, — и, не оглядываясь, пошел к техникуму.
В одной из аудиторий он нашел Тонину подругу, но самой Тони в техникуме не было.
Илья сел в трамвай и, с удовольствием глазея по дороге на давно не виденные улицы и скверы, доехал до дому.
Тоня стирала. Она открыла дверь и прямо мокрыми руками обхватила Илью за шею. Он почувствовал через рубашку упругое касание ее груди, а на губах солоноватый привкус слез. Он слышал, как бьется ее сердце: неровно, толчками.
— Что ж ты не сообщил? — тихо спросила Тоня. — Я бы неделю радовалась — нынешний день ожидала… А то видишь — стираю, ничего не приготовлено.
На лице ее было написано такое неподдельное огорчение, что Илья рассмеялся.
— Ну, пока иди в комнату, а я сейчас все уберу… Подожди, — она еще раз прижалась к нему. — Даже и не верится, что ты дома… Четыре месяца — легко сказать…
Илья вошел в комнату и одним коротким взглядом охватил все вещи в ней. Все было так, как и четыре месяца назад, даже календарь, по совпадению, показывал то же число, в какое Илья уехал. Разве что на столике прибавилась его карточка. Ее раньше не было.
Илья ходил по комнате, перебирал книги, словно хотел убедиться, что и они те же самые. Потом пришел со смены отец, и они с ним мылись в ванной.
За это время Тоня сбегала в магазин, приготовила ужин.
Приятно разморенные, они полулежали с отцом на диване и курили.
— Ну, как нравится на новом месте? — спросил отец.
— Да ничего, пока нравится: простору много, люди хорошие.
Отец улыбнулся.
— Кровь, Илюха, в тебе заговорила. Крестьянская кровь. Я вот, считай, чуть не тридцать лет из деревни, а и до сих пор она мне во снах снится и нет-нет да и потянет, позовет к себе… Давай обживайся. Может, и я к тебе приеду, все равно скоро на пенсию…
Накрывая на стол, Тоня зачем-то вышла в кухню.
— Не знаю я ваших дел, — кивая на дверь, в которую вышла Тоня, сказал отец, — но мне, признаться, жалко ее. Скучает. Больно скучает… Ну, давай подвигаться ближе к столу.
Тоня вернулась, и сели ужинать. Отец налил Тоне вина, а себе с Ильей водки.
— Что же, со встречей. Теперь не часто видеться приходится…
Он посидел еще некоторое время, потом ушел к себе спать.
Илья потушил верхний свет и оставил одну настольную лампу. Комната от этого стала меньше и уютней. Тоня села с ногами на диван и, облокотившись на подушку, покрутила ручку приемника.
Плавная, чуть грустная музыка заполнила комнату, заплескалась звучными волнами, то затихая, то снова нарастая. Слышалось в ней что-то очень близкое, знакомое, рождались на время исчезнувшие из памяти, но дорогие сердцу картины.
Илья налил еще. Вино искрилось в гранях рюмок, отливало темным янтарным цветом.
— За что? — поднимая рюмку, спросила Тоня.
— За то, чтобы мы всегда были вместе, — ответил Илья и поднял свою.
Тоня слегка запрокинула голову, и, когда допивала вино, подбородок, с ямочкой посредине, оказался перед самыми глазами Ильи. Илья поцеловал эту ямочку. Тоня опять обхватила его за шею, и ее мягкие волосы защекотали лицо.
По радио лился вальс из «Щелкунчика» с его узорными вариациями и тонкими, неуловимыми переходами.
— А помнишь, Илюшка, в парке мы на лодке катались — его передавали?
Да, Илья хорошо помнил все, что у них было с Тоней. Но в эти воспоминания врывались вдруг Новая Березовка, разговор с Оданцом, каждодневные дела МТС. Он старался не думать обо всем этом, а в сознании сами по себе возникали вспаханные и засеянные поля, образы людей — его новых товарищей… Видимо, новое постепенно начинало входить в его жизнь и пускать крепкие корни…
За окном затихал ночной город.
Проснулся Илья поздно. Тоня успела прибрать в комнате, выгладить белье, вскипятить чай.
Илья посмотрел на часы: без пяти одиннадцать.
— Похоже, тебе и спать там не дают, — сказала Тоня. — Отец пождал-пождал, ушел на смену.
После завтрака пошли погулять по городу, потом смотрели кино. Вернулись домой уже к вечеру.
— Вот и день прошел, — вздыхая, сказала Тоня, когда они опять очутились в своей комнате. — А завтра ты уедешь…
Она как-то разом притихла, поскучнела и, забившись в угол дивана, смотрела оттуда на Илью влажными грустными глазами. Илья курил, сидя у окна. За день между ними не произошло никакой, даже самой пустяковой размолвки, все было хорошо, а вот сейчас почему-то чувствовалось, что вчерашней близости уже нет. Такое состояние часто и подтвердить совершенно нечем, но оно всегда чувствуется.
— Да, я утром уеду, — сказал Илья. — А когда приедешь ты?
Тоня насторожилась.
— Не знаю, Илюша.
Ответ ее имел какой-то двойной смысл. «Опять недоговариваешь, Тонька!»
— Надо знать, — сказал Илья жестко.
Тоня долго молчала, и где-то в глубине ее глаз таился испуг.
— Что ж, скажу. Рано или поздно… Может, еще и тогда бы надо, да все думала: побудешь там месяца три, ну с полгодика, и вернешься…
Она горячо, со слезами заговорила, упрекая Илью в том, что он своим скорым согласием все спутал и усложнил. Отец Тони, работник областного управления сельского хозяйства, сразу же после окончания техникума, оказывается, прочил ее в свой аппарат. Уже и место ей было приготовлено: через несколько месяцев уходит на пенсию один старый агроном.
Обгоревшая спичка хрустнула в пальцах Ильи и сломалась.
— Хорошо, это отец так говорит. А ты?
— Что я?.. Как мы из города поедем, когда у нас тут и квартира хорошая и все! Захотели мы — в кино сходили, захотели — в театр. А в деревне… Нет, я не смогу и не хочу жить в деревне.
Илья, может, впервые усомнился в правоте своего решения и не знал, что сказать Тоне. Уцепился за последнее:
— А если пошлют?
— Не пошлют. Папа все устроит. И ничего нечестного, как тебе кажется, тут нет. Разве я от чего-нибудь уклоняюсь? Я же буду работать.
Они долго сидели молча.
После окончания техникума отец сказал ему: «Ну, Илюха, ты совсем большой стал. Начинай самостоятельную жизнь. Трудно будет — помогу. Но дорогу пробивай сам. Директор завода — мой старый друг. Это ты знаешь. И нашел бы он тебе самое видное место. Однако просить его об этом я не буду. Где поставят, тут и работай, потому что тебе у народа авторитет надо зарабатывать, а не у директора…»
Тоня выросла в другой семье. Она была единственной дочерью у родителей, и они ее баловали и оберегали от всяких жизненных невзгод. Окончив десятилетку, Тоня, чтобы зря не рисковать, подала не в институт, а в техникум, куда ее приняли без приемных испытаний. Училась она средне, не ленилась, но и большой охоты к учению не проявляла. Папа с мамой считали ее своевольной и настойчивой, не замечая, однако, что настойчивость эта не шла дальше детских капризов, когда надо было во что бы то ни стало поставить на своем. На деле же Тоня была мягкой, слабохарактерной.
Прежде чем все это стало известно Илье, он уже успел полюбить Тоню. А когда любишь, не смотришь в зачетную книжку, не справляешься — троек там больше или пятерок. Илья прощал Тоне и ее детские капризы, и жизненную неприспособленность. Можно ли винить человека за его воспитание? Не очень огорчала Илью и безвольность ее характера: им вполне хватит на двоих сильной, получившей добротную закалку воли самого Ильи. И вот теперь только они оказались в таком положении, когда каждая вещь называлась собственным именем. В том, что Тоня пошла учиться на агронома, уже нельзя было видеть ничего смелого и благородного. Та же когда-то милая, невинная безвольность могла привести теперь к разрыву.
— Так как же мы будем?
— Ну, поработаешь годик и… — Тоня смотрела на Илью виноватыми, просящими глазами, и этот взгляд обезоруживал его. — Неужто не найдется на это неженатых или таких, что вчера из деревни?
— А неужто все счастье в жизни — это жить с удобствами?
— Каждый понимает счастье по-своему. Для одних оно в том, чтобы ехать куда-то в степь и строить завод, осваивать новые земли, а для меня другое. Ну и пусть те едут, а я не хочу… И вообще я не понимаю. Говорят, что все у нас делается для счастья человека. Но если человек нашел свое счастье, как-то устроил свою жизнь, зачем же его срывать с места и посылать куда-то? Ведь это жертва получается, а если жертва, никому от этого никакой пользы…
Тоня говорила сбивчиво, торопливо, словно бежала с крутой горы.
— Ну, поеду я с тобой. И буду говорить: ах, какая тишина, ах, какой чистый воздух, а думать буду: не нуждаюсь я в этом воздухе, люблю, когда трамваи звенят, и не темную ночь, а чтобы огни кругом горели… Так зачем же я буду врать перед тобой и собой? Я же тебе через месяц осточертею, и ты же первый скажешь, что жертвы тебе не нужны. Да и не умею я притворяться… С милым рай в шалаше, говорят. Верно, конечно. Но если есть дом, зачем же переселяться в шалаш? Разве дома хуже? И разве так уж зазорно хотеть жить красиво, с удобствами?
— Не путай, Тоня. Не зазорно, а естественно и законно. Но ведь человек живет не для того только, чтобы сытно есть, вдоволь спать, смотреть кино и футбол, а на ночь принимать ванну!
— Да кто же говорит, что в удобной квартире все счастье? — дрогнувшим голосом крикнула Тоня и посмотрела на Илью невидящими, полными слез глазами. — Зачем мне эта квартира, если в ней нет тебя… А ехать я туда боюсь, потому что здесь я человек сам по себе, а там я буду только при тебе, ради тебя, потому что агроном из меня никакой… Долго ли ты такую любить будешь?
— Узенькое какое-то счастье у тебя, аршинное, не больше.
— Может быть. А другого не хочу… — Выговорившись, Тоня опять сидела нахохленная, поскучневшая.
Странная вещь! Сколько они прожили вместе, сколько раз было сказано слово «счастье», и сейчас только узналось, что понимали они его по-разному.
— Когда экзамены начинаются? — спросил Илья, сам не зная зачем, — наверное, просто, чтобы не молчать.
— Через месяц.
— А потом практика?
— Потом практика.
Часы пробили двенадцать.
— Ну, будем спать.
— Будем спать.
Тоня легла к стенке и долго ворочалась, приглушенно вздыхая. Должно быть, ей хотелось приласкаться; изредка как бы невзначай она робко касалась рукой плеча Ильи.
В мыслях он все еще спорил с Тоней, не соглашался и сердился, а в сердце эти робкие прикосновения рождали острую жалость к ней, такую же ответную нежность, и в конце концов Илья не выдержал, резко повернулся и обнял Тоню, начал целовать ее лицо, плечи, грудь…
Зря он, наверное, так резок, так крут с ней. Он опять забывает, что Тоня еще очень молода, еще совсем девчонка и выросла в другой семье. Да много ли и сам он сделал, чтобы раздвинуть ее понятие человеческого счастья?! И пусть она не права, а он прав, но ведь они по-прежнему любят друг друга. Так как же быть дальше?..
На рассвете заехал Оданец.
Тоня на прощание молча прижалась к Илье и долго не отпускала. И опять он ощутил на губах солоноватый привкус от ее поцелуя. Тоня не рыдала, не всхлипывала, она жалко, виновато улыбалась.
Уж лучше бы она плакала…
Дорога не близкая, и Илье не раз вспомнился вчерашний разговор с Тоней. И чем подробней и обстоятельней, слово за словом, вспоминалось вчерашнее, тем — странное дело! — ясности становилось все меньше и меньше.
«И пусть она не права, а он прав…» А кто, собственно, сказал, что это именно так?! Кто сказал, что она не права, а он прав? Кто это и откуда взял?.. «Аршинное счастье»… А у тебя какое — метровое, что ли? И давно ли счастье стали мерять на аршины и метры?
Ну, да не в этих обмолвках, не в этих словах дело. Прав ли он в главном, прав ли он в своем решении — вот в чем вопрос! Раньше этот вопрос как-то не возникал, а вот теперь он, как кочка на дороге, — нет-нет да и споткнешься.
Плавно неслись навстречу машине весенние поля, и не было им ни конца ни края. Такой же нескончаемой чередой, сменяя одна другую, проносились мысли в голове Ильи.
Так ли, так ли уж он прав?.. Отец еще тогда, зимой, сказал: «Что ж, посылают — надо ехать. Дисциплина… Однако же не очень-то я верю, что ты, Илюха, поднимешь сельское хозяйство…»
— Ты что такой смурый? — закуривая сигарету, спросил Оданец. — Или не выспался?
— Не выспался, — тоже доставая трубку, ответил Илья.
Навстречу машине все так же нескончаемо неслись и неслись то черные, то уже зазеленевшие весенние поля.
Было время, на машине ли, поездом ли, проезжая вот так полями, видел их Илья как бы отстраненно: поля и поля; а вон речка луговиной бежит, а за речкой лес синеет… Сейчас он глядел окрест уже другими глазами: сейчас поля ему виделись живыми и близкими. А скоро начнутся угодья уж и вовсе «своих», березовских колхозов…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Виктор Давыдович не подал вида, что рассказ Гаранина о новоберезовском колхозе заинтересовал и встревожил его.
С тех пор как председателем в Новой Березовке заступил Тузов, колхоз перестал плестись в самом хвосте района и, судя по сводкам, начал подтягиваться к середнячкам. В прошлом году колхоз выполнил в срок все поставки, полностью засыпал семена, поднял зябь почти под весь яровой клин. «Видно, не так уж плох этот Тузов, если в самом отсталом колхозе сумел навести порядок», — начал думать Виктор Давыдович. Такое же мнение о новоберезовском колхозе как хозяйстве, идущем в гору, стало складываться и у инструктора райкома Сосницкого.
И вот Гаранин рассказывает о Тузове такое, что его впору гнать из председателей. Надо было принимать какое-то решение. «Продолжать поддерживать Тузова? Но если подтвердится все рассказанное Гараниным, даже часть рассказанного, Тузов непременно полетит. А про меня скажут, что я и раньше благоволил Тузову, поддерживал его, — да мало ли чего могут наплести! И уж обязательно, конечно, вспомнят про корову…»
Как-то, с год назад, Виктор Давыдович, вернувшись домой, увидел у себя в передней Тузова. Тот сказал, что пришел по делу, но боялся не застать Виктора Давыдовича в райсельхозе и потому заявился на дом. За время, пока гость дожидался, Полина Поликарповна не преминула поведать ему о своих многочисленных болезнях. Тузов сочувственно выслушал и сказал, что самым радикальным средством от всех перечисленных ею болезней является парное молоко и сливки. Полина Поликарповна пожаловалась на свою корову: мало дает, и молоко как вода, — какие уж тут сливки! Тузов сказал, что корову надо заменить и в этом он может помочь: за колхозом числятся недоимки мясопоставок, так он как-нибудь поведет корову на «Заготскот» и по дороге заведет к Полине Поликарповне для обмена. Колхозу все равно, лишь бы живого веса было побольше. Через три дня на дворе у Виктора Давыдовича уже стояла симменталка, а Полина Поликарповна вдоволь пила парного молока. Ну, что тут было делать? Вести корову обратно в Новую Березовку? Такая щепетильность могла бы вызвать только лишние разговоры. И Виктор Давыдович молчаливо согласился на мену.
«Конечно, корова не подарок Тузова, тем более не взятка. И все же будет неприятно, если эта история всплывет. Начнут судачить, привирать, как это бывает в таких случаях, неприятно!..
Может, сразу занять сторону Гаранина? Но вдруг райком с ним не согласится? Сосницкий с Гараниным, кажется, не в ладах. Да и не так легко райкому будет признаться в своем заблуждении относительно Тузова».
Виктор Давыдович решил позвонить Сосницкому. Намеками, сразу не упоминая имени Гаранина, он рассказал ему только что услышанное. Сосницкий сразу же насторожился, но по его «да, да», «так, так», «это, знаете ли, новость» трудно было понять, как он относился к рассказанному. Когда же Сосницкий узнал, что сообщил это всего-навсего Гаранин (он так и сказал: «всего-навсего»), настороженность его прошла.
— Ну, это еще надо посмотреть, — с облегчением сказал Сосницкий. — Гаранин все-таки человек пришлый, и его больше заботит, как бы кого покритиковать, под кого подкопаться, чтобы на этом себя показать. А что хорошие председатели колхозов на дорогу не валяются, что их приходится терпеливо выращивать, об этом он не думает…
У Виктора Давыдовича немножко отлегло.
Чтобы окончательно успокоиться, он полистал кое-какие учетные книги, неопровержимо подтверждающие сдвиг новоберезовского колхоза в лучшую сторону. Однако и после этого работалось плохо. Выкурив еще одну папиросу, Виктор Давыдович запер стол и ушел домой.
В состоянии здоровья жены за последнее время произошло некоторое улучшение, и в доме все было прибрано, вымыто, начищено. Старый буфет будто помолодел, краски на картинах стали ярче. Самовар сиял посреди стола, как солнце, и отбрасывал блики на стены и потолок.
Виктор Давыдович снял ботинки и с удовольствием прошелся по свежевымытым полам, отыскивая домашние туфли.
Сели пить чай.
— А ты, мать моя, прекрасно выглядишь, — сказал Виктор Давыдович. — Видно, воя последняя-то болезнь, этот двойной-то… как его… ряди… ради…
— Радикулит, — подсказала Полина Поликарповна. — И не двойной, а двусторонний.
— Ну, это все равно. А я говорю, что он тебе вроде как бы на пользу пошел, все остальные болезни приглушил.
— Парное молочко да сметана помогают!
«Ох, это парное молочко! — опять вспомнил Виктор Давыдович. — Как бы оно боком не вышло».
— Однако ж в журнале говорится, — продолжала Полина Поликарповна, — что при этой болезни бывают временные улучшения. Как бы потом еще хуже не было.
Должно быть, для того чтобы лучше разбираться во всех изнуряющих ее тело мудреных болезнях, Полина Поликарповна выписала специальный медицинский журнал и в свободное время, — а такого времени у нее было более чем достаточно, — усердно читала его. Виктор Давыдович этот журнал не читал, едва успевая следить за своими, агрономическими.
— Ну, я, конечно, не знаю всех этих медицинских тонкостей, — сказал он, — но выглядишь ты хорошо, свежо и молодо. Подольше бы это временное улучшение затянулось!
Пришел Николай Илларионович.
— Полина Поликарповна, — с шутливой серьезностью сказал Николай Илларионович, вешая фуражку, — а я ведь к вам специально на чай. Я не виноват, что более вкусного чая мне не приходится пивать ни в каком другом доме. Так что не обессудьте.
— Вы все шутите, Николай Илларионович, — ответила польщенная хозяйка и даже слегка раскраснелась, хотя трудно было понять — от похвалы или от чая. Она утицей проплыла к буфету, достала третий прибор и так же плавно, раскачивая бедрами, вернулась на место.
— За день так избегаешься, что аж гореть внутри начинает, — принимая налитую чашку, говорил Николай Илларионович. — За председателем смотри, нужной ли кондиции семена дает; за трактористом смотри, на ту ли глубину он эти семена заделывает; за бригадирами тоже смотреть надо. Веселая должность!
Виктор Давыдович хотел сразу же спросить, известны ли Николаю Илларионовичу гаранинские «открытия» в Новой Березовке, но, подумав, решил завести этот разговор попозже.
После чая сели за шахматы. Полина Поликарповна начала мыть и убирать посуду.
— А что вы думаете, Николай Илларионович, о Тузове? — как бы между прочим спросил Виктор Давыдович, когда фигуры были расставлены и сделано по первому ходу.
— А теперь мы и конницу пустим в ход… Что я думаю о Тузове? Да ведь все очень просто. Тузов — птица, конечно, невысокого полета, но… на нашем бесптичье и это соловей. Где их наберешься, чтобы и с агрономическим образованием, и…
— Ну, а насчет честности, насчет всякого там корыстолюбия?
— А насчет этого уж я не знаю. Да и какое мне до всего этого дело? Это компетенция соответствующих органов, а не моя… Выставим пехотный заслон…
— Так-то так… А что вы скажете вот на это. — И Виктор Давыдович коротко повторил рассказ Гаранина.
Однако на Николая Илларионовича это, кажется, не произвело особого впечатления.
— Сбили вы меня, батенька, — сказал он, сосредоточенно изучая положение фигур на доске, и, только когда переставлял с одной клетки на другую коня, рука его слегка дрогнула. — Какой прекрасный ход у меня был придуман и вот забыл, не вспомню… И про меня он что-нибудь рассказывал?
— Да, кое-что и про вас.
— Ах какой остроумный ход я упустил!.. И все вот эти деловые разговоры. Сколько раз уславливались не заводить их за игрой.
— Что ж, давайте оставим… Хожу ладьей.
— Теперь уж чего, все равно!
— А ну, попробуем пробраться в тыл.
— Эге, смело… И что же такого он про меня говорил?
— Да ничего особенного. Насчет якобы неправильного оформления приемочных актов и еще что-то в этом роде.
— Только и всего?! — в голосе Николая Илларионовича прозвучало плохо скрываемое радостное облегчение. — Иду на размен… Посмотрим, как Гаранину удастся доказать это. Доказать не на словах, а документально.
— Я ему то же самое сказал… А все-таки не миновать вам ловушки, Николай Илларионович. Не слишком ли рискованно скачете на своем коньке?.. Кстати уж. А что за человек Гаранин, как вы думаете?
— Да что вы мне сегодня, коллега, вопрос за вопросом подбрасываете? Так положительно нельзя играть… Видите, я опять проворонил пешку… Хожу ладьей.
— Слоном.
— Но, если это вас интересует, скажу. С Гараниным надо держать ухо востро — вот что это за человек.
— А я, представьте, и до сих пор о нем хорошего мнения. Не глуп, рассудителен, в решениях осторожен.
— Э-э, батенька! — протянул Николай Илларионович. — Да разве суть в том, как решения принимаются? Нет. Суть в том, какие решения и против чего и кого они принимаются… Шах!
— Закроемся пешкой… Так как же все-таки быть с этим Тузовым? Какую сторону тут держать?
— А это уж в зависимости от обстановки, которая будет складываться, — не задумываясь, ответил Николай Илларионович. — Ясным должен быть главный пункт: из-за какого-то Тузова ломать собственную шею нет ни смысла, ни расчета… Еще шах!.. К слову пришлось. Это и ваш плюс и ваш недостаток, Виктор Давыдович: заранее все продумать и, уже несмотря ни на что, во исполнение обдуманного действовать. А ведь часто бывает, что обстановка изменилась и действовать надо уже не по первоначальному плану, а учитывая именно эту изменившуюся обстановку… Вот вы на этом фланге еще в самом начале наметили прорыв, а и до сих пор не сделали, потому что обстановка давно изменилась и вам бы тоже надо давно отказаться от своего плана и разработать другой. Еще шах! Он же и мат!
Николай Илларионович в этот вечер был явно в ударе. Он выиграл у Васюнина две партии подряд и только в третьей согласился на ничью.
2
Колхозная хата-лаборатория находилась на краю села. От домика веером разбегались небольшие участки земли. На одном из участков Андрей еще издали увидел склоненную фигуру Сони и направился к ней. Соня подняла голову, тыльной стороной ладони откинула на ухо выбившуюся из-под косынки прядь, отерла мокрый лоб и как бы невзначай из-под руки взглянула на Андрея. Черные, блестящие глаза смотрели смело, почти вызывающе, а тонкие брови над ними чуть вздрагивали. Одета Соня была в короткую, закрывающую только до колен босые ноги юбку и легкую кофточку-безрукавку. И юбка и кофточка так плотно облегали ее стройный стан, словно и не сшиты были, а отлиты по ее фигуре.
— А ты кстати, Андрей Петрович, — сказала Соня и улыбнулась. — Я все хотела спросить у тебя…
— А я, между прочим, не на свидание, а по делу, — холодно проговорил Андрей. «Рубить — так уж сразу. А на всякие там улыбочки не поддаваться…» — И тоже хотел спросить: долго ли будут простаивать без дела трактора?
Соня отступила даже, и трудно понять, что подействовало на нее сильнее: то, что́ было сказано, или то, ка́к было сказано.
— Где, почему простаивают? — отрывисто, изменившимся голосом спросила она.
«Так-то тебя!..»
— На паровом поле, за Белой Гривой. А стоит трактор потому, что твоя бригада не удосужилась раскидать навоз по участку… Я, конечно, человек не мелочный, по пустякам шума подымать не люблю, однако ж, как говорится, будем взаимно вежливы. Баш на баш! — Андрей посмотрел на Соню, убедился, что она поняла намек, и вынул из карманчика брюк часы: — Засекаю время, и, если через час Жене Мошкину пахать будет все еще нечего, пеняй на себя.
Соня заторопилась. Она сложила на межу грабли, отряхивая налипшую землю, хлопнула в ладоши, одернула и без того хорошо сидящую кофточку.
Андрей, наслаждаясь ее замешательством, круто повернулся и пошел прочь.
После того как Соня осрамила трактористов в присутствии полевода и председателя, Андрей дал себе слово не только держаться с ней строго официально, но и при первом же удобном случае отплатить. Сегодня этот случай представился, и жалеть приходится разве только о том, что разговор произошел не на людях. Да, теперь ему терять все равно нечего…
Андрей дивился, что чувство оскорбленного самолюбия пришло к нему не раньше, а именно после случая на поливном поле. И хотя где-то в глубине по временам ныло, как ноет к непогоде давнишняя рана, чувствовал себя теперь он легче, свободней, точно сбросил, наконец, отягчавший его груз. Ему нравилось новое состояние, нравилось, что он уже ничуть не робел перед Соней, а сейчас вот даже сумел привести ее в полное замешательство.
Улицу пересекал сквозной, выходивший в поля проулок. Андрей свернул в него. Солнце поднималось все выше, начинало припекать. Земля на огородах дымилась после вчерашнего дождя. Скворцы вместе с курами деловито расхаживали среди грядок, высматривая червей, воробьи косыми стаями с шумом перелетывали с места на место, показывая на солнце то одну, то другую сторону своего невзрачного оперения. И только одни голуби праздно разгуливали по саду, о чем-то нежно переговариваясь между собой, да петухи время от времени отрывали кур от работы и пели хвалу солнцу.
«А может, я уж через край хватил? — вдруг подумалось Андрею. — Насчет свиданья-то, пожалуй, совсем грубо вышло… Да и интересно как-никак, что это такое она хотела спросить у меня. Сначала бы выслушать, дураку, а уж потом… Нет! Все правильно. Правильно! А как дальше будет — посмотрим…»
Подняв с дороги небольшой камень, Андрей нацелился в ствол молодой березки: «Попаду или не попаду?» Попал. Не промахнулся.
На село опускался вечер. По улицам, около амбаров, с блеянием бродили пригнанные из стада и еще не привыкшие находить дорогу к дому овцы и козы. Вернувшиеся с поля женщины гремели ведрами на колодцах. Дым из труб поднимался прямыми беловатыми столбами. Прошли солидной, тяжелой походкой трое мальчишек-прицепщиков, кончивших свою смену. Где-то на другом конце села запиликала гармонь.
В правлении колхоза, куда пришел Андрей, сидели Дмитрий Хлынов и Захар Русаков, бригадир второй бригады. Хлынов что-то рассказывал Русакову. Ежик волос придавал лицу Дмитрия мальчишеский вид, а в глубоко посаженных глазах, всегда внимательно и открыто смотревших на собеседника, светилась спокойная уверенность и ум взрослого, знающего жизнь человека.
В правление вошли Ольга с Соней, еще несколько колхозников.
Ольга села рядом с Андреем, Соня — поодаль.
— Татьяна Васильевна сейчас будет, — сказала Соня.
Хлынов кивнул: хорошо, подождем.
Когда Татьяна Васильевна в чем-нибудь расходилась с Хлыновым, он переносил такой разговор на партийное собрание и приглашал председателя колхоза. Та обычно отнекивалась: «Беспартийная ведь я, много чести; может, правление проведем, а вы, коммунисты, придете на него», — но в конце концов соглашалась.
На сегодняшнее собрание кроме коммунистов явилось человек десять беспартийных.
Вошла Татьяна Васильевна и хотела было, по обыкновению, пройти на свое председательское место, но, увидев рядом со своим креслом Хлынова, подумала-подумала и села сбоку от стола.
— Что ж, начнем.
Хлынов открыл собрание, объявил повестку.
Первый вопрос был большой, и обсуждали его долго. Говорили о благоустройстве села, о доделке уже почти готового клуба. Татьяна Васильевна достройку клуба предлагала перенести на осень: сейчас не до него, лето — пора горячая. Хлынов настаивал: надо закончить клуб сейчас, чтобы к уборке открыть. Парторга дружно поддержали, особенно молодежь, и Татьяне Васильевне пришлось уступить.
— Сразу же договоримся и насчет другого, — продолжал Хлынов. — Не пустым же стоять новому клубу. Хорошо бы, скажем, иметь в нем радиоузел, обзавестись пианино…
— Радио — это, конечно, вещь необходимая, — сказала Татьяна Васильевна. — А вот насчет пианины… Может, пока без нее обойдемся? Ведь это денег стоит, и немалых, а где их наберешься? — Татьяна Васильевна даже вздохнула.
Андрей уже знал об этой ее слабости: когда заходила речь о деньгах, Татьяна Васильевна начинала горестно вздыхать над каждым рублем и, прежде чем подписать расходный ордер, долго и подозрительно разглядывала его. И это делалось независимо от суммы и цели расхода, для Татьяны Васильевны важно было одно: деньги уходили из колхозной кассы, колхозная касса беднела.
Когда вопрос с покупкой пианино был решен, Андрей сказал:
— Не мешало бы мосты привести в порядок, а то ни пройти ни проехать. Вчера вон трактор чуть в реку не свалился.
Татьяна Васильевна насторожилась: вот, мол, еще нашелся указчик, однако с предложением согласилась.
— Теперь поговорим о прибавке поливного поля, — перешел дальше Хлынов.
Он сказал, что надо принять предложение Ольги и к той поливной площади, которая засеяна под ярь, этим же летом добавить еще не меньше двухсот гектаров.
Как только Хлынов заговорил об орошении, Татьяна Васильевна озабоченно нахмурилась. Словно готовясь к спору, она спустила на шею платок и расстегнула просторный, должно быть с мужа, пиджак.
Выслушав Хлынова, Ольгу, еще кое-кого из коммунистов, она твердо сказала:
— Я не согласная. Вон она, Новая-то Березовка, поле в поле живем, а что там на поливных землях растет?
Татьяну Васильевну долго убеждали, Андрей обещал помочь в нарезке оросительной сети, — здесь она осталась при своем: той сотни га, которая ушла под ярь, вполне достаточно, и так риск немалый, а перед колхозниками потом ей, председателю, а не кому-нибудь отвечать.
На этом собрание и кончилось.
За весь вечер Соня только раз, когда Андрей предлагал свою помощь, посмотрела в его сторону. Но по одному взгляду можно было понять, что она все время помнила о его присутствии. Помнила и только делала вид, что не замечает его.
У выхода из правления, под тополем, стояла кучка молодежи. Кто-то отделился от этой толпы и пошел навстречу выходившим. Андрей скорее чутьем, сердцем, чем глазами, узнал Женю Мошкина. Ольга с Хлыновым прошли вперед, а с Соней как-то так получилось, что она оказалась между Андреем и Женей. Всем троим стало неловко.
— Я это… я хотел спросить… сказать, Андрей Петрович, как бы Лохову горючего на ночь хватило, — запинаясь на каждом слове, проговорил Женя.
Андрей перед вечером был на тракторе Лохова и видел, что керосина у него хватит не только на всю ночь, но и завтра до обеда. Ясно, что дело было не в горючем, и Андрей не знал, что ответить Жене.
А Соня постояла, да и ушла с подвернувшимся Русаковым.
— Пойдем хоть с тобой, дядя Захар, а то, я вижу, кавалеров не дождешься — у них все дела: и днем и вечером. Очень занятые люди!
— Ладно, Женя, проверю, — ответил наконец Андрей. — Гуляй.
Он выждал некоторое время, чтобы знать, пойдет ли Мошкин за Соней или останется здесь. Женя медленно, неохотно отошел к кучке молодежи. Андрей тоже медленно зашагал улицей села.
Было уже около полуночи.
За селом, то приближаемый, то удаляемый ветром, вскипал и падал шум тракторов. По временам он был слышен настолько отчетливо, что различался треск выхлопа. Над притихшими улицами изредка, как всплески на воде, рождались голоса, выкрики и, проплыв в воздухе, гасли. И только стрекотание кузнечиков в траве было неумолчным, надоедливым до звона в ушах.
3
Уже слегка зазеленевшее, празднично украшенное село проснулось в это майское утро позже, чем обычно, но, едва проснувшись, разом забурлило людскими голосами, гармошками, огласилось рокотом мотоциклов, гудками автомашин. Казалось, даже петухи голосили громче, чем всегда. Из труб дружно тянулись в безоблачное небо синеватые дымки, вкусно пахло пирогами.
Впервые после многих лет Ольга вместе со всеми шла на праздник, и общее радостное волнение постепенно захватывало и ее.
С центральной площади доносились медленные и густые, как бы плывущие вдоль улицы звуки духового оркестра; где-то около школы призывно протрубил горн, затрещал пионерский барабан, а вслед за ними взметнулись высокие ребячьи голоса и зазвенела в ясной синеве утра быстрая песня. С другого конца села, с эмтеэсовской усадьбы, ей откликнулась другая. И каждое слово песни, каждый вздох трубы были так чисто, отчетливо слышны, такой немедленный отзвук рождали в груди, что сам воздух казался напоенным радостными, праздничными звуками. Ольге приходили на память такие же вот дни юности, дни, от которых ждешь всегда чего-то большого и необычного.
А может, еще и потому так хорошо было на сердце у Ольги, что впервые шла она на праздник вместе с сыном. Она держала его руку в своей руке, видела, каким возбужденным блеском горят широко раскрытые глаза Юрки, и мир ей виделся шире и ярче, будто смотрела она на него глазами сына.
С домов свешивались в улицу полыхавшие на ветру флаги, в простенках и прямо по окнам рядами стояли портреты. На всем протяжении улицы шли празднично одетые, улыбающиеся друг другу люди. Все как будто уже виденное, и все каждый раз новое.
Какой-то мальчишка, чуть больше Юрки, залез на дворовую пристройку, открыл чердачную дверцу, и из нее снежными комочками вылетела стая голубей. Голуби сделали разворот над улицей и взмыли вверх. Они долго, круг за кругом, набирали высоту, будто уходили в небо по невидимой спирали. Вот почти и незаметно их стало, разве изредка что-то блеснет на солнце. А через какую-то минуту они уже снова были над улицей и снова уходили в манящую синеву неба.
Ольга глядела на голубей, и от ощущения той сияющей высоты, на которую они подымались, у нее замирало сердце и прерывалось дыхание.
Чем дальше они шли, тем гуще становился людской поток.
— А там, мама, сцену такую из досок вчера строили, — показывая в сторону площади, куда они шли, сказал Юрка. — Зачем это?
Ольга объяснила: наверное, выступать на ней будут, песни петь.
— А плясать будут? Я люблю, когда пляшут.
Ольга сказала, что, возможно, будут и плясать, ведь сегодня праздник.
Когда они пришли на площадь, там уже было полно народу. Молодежь танцевала, пела, пожилые и дети толпились около ларьков и буфетов. Было шумно, весело.
Потом оркестр перестал играть и начался митинг. Больше всего Юрке понравилось выступление девочки-первоклассницы. Она очень волновалась, глотала слова, но Юрку прямо-таки поразило, что девчонка отважилась выступать перед такой массой народа.
А когда митинг кончился, эта девочка декламировала стихи, и опять ей много хлопали. Потом выступал хор ребят-школьников, а потом они еще раз увидели уже знакомую первоклассницу в лихом, стремительном гопаке.
Когда началась пляска, народ подался ближе к сцене, столпился, и маленьких танцоров стало плохо видно.
— Папа, не вижу! — раздалось совсем рядом.
Ольга обернулась и увидела мальчишку Юркиных лет, повиснувшего на рукаве у рослого мужчины с тремя рядами орденских колодок над кармашком пиджака. Об руку с мужчиной стояла полная женщина. Увлеченный зрелищем, отец то ли не понял, то ли не услышал, о чем его просит сын. Тогда женщина подхватила мальчишку и усадила отцу на плечо. Юрка завистливым взглядом проводил его и, прикусив губу, отвернулся, продолжая изо всех сил приподниматься на цыпочках. Ольга видела все это, и первым движением ее было тоже поднять своего сына над столпившимся народом. Она уже и руки было протянула к Юрке, но зачем-то еще раз обернулась, посмотрела на мужчину с сынишкой на плече, и словно надломилось в ней что-то. Руки бессильно повисли, а к горлу подступил горький комок. Все кругом разом померкло.
— Мама, ты что? — тихо спросил Юрка.
Ольга попыталась скрыть от него свое состояние, пыталась смотреть на сцену, где все еще гремел гопак, но смотрела и ничего не видела, в глазах все расплывалось. Она моргнула, выжимая слезы, и одна капелька упала Юрке на руку.
— Мама, может, пойдем домой? — все так же тихо сказал Юрка.
— Пойдем, я что-то устала. — И Ольга, еще крепче сжав руку сына, вышла из праздничной толпы.
— Я тоже устал, — говорил по дороге Юрка. — И я совсем не люблю пляску…
Ольга плохо помнила, как дошла до дому. Она брела будто сквозь горячий туман: все кругом было неясно, ни на что не хотелось глядеть.
— Если хочешь, иди погуляй немного, — открывая калитку, сказала Ольга сыну, забыв, что все его товарищи сейчас на той самой площади, откуда они только что ушли.
— Ладно, мама, я погуляю.
Ольга вошла в дом и, не раздеваясь, бросилась на кровать, зарылась лицом в подушку.
«Почему, почему так случилось? Почему Юрка остался без отца? Разве он в чем-нибудь виноват? Зачем ему уже в такие годы знать горе, разве я его для этого родила?»
Когда родился Юрка, Ольга так жалела, что нет рядом Василия и некому посмотреть на сына. Жалела она, что не видел Василий и когда первый раз улыбнулся сынишка, и когда у нею явственно обозначился отцовский цвет глаз. Она все думала — вернется Василий, и она ему будет долго рассказывать про сына: как нетерпеливо и требовательно он просил грудь, как начал брать своими цепкими ручонками игрушки, как впервые сказал «папа». И тогда только будет полная радость, потому что без Василия Ольга всему радовалась лишь вполовину. Но в то самое время, как она, запечатлевая в материнском сердце малейшие подробности первых месяцев жизни сына, собиралась потом рассказать о них мужу, его уже не было в живых. И никакой полной радости уже не будет. Не будет ничего…
Ольга почувствовала на своей влажной щеке маленькую шершавую руку. Она не слышала, как вошел Юрка, не знала, гулял ли он или уже давно был дома. А Юрка стоял у кровати и, уткнувшись лицом ей в под мышку, гладил своей жесткой, ласковой ладошкой по волосам и по щеке.
— Не надо, мама, — шепотом говорил он. — Не надо.
И оттого, что сын жалел ее, было еще горше.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Из Новой Березовки Михаил выехал за полдень.
Солнце жарко припекало. Размаривало. Ни о чем не хотелось думать. Хорошо было просто смотреть вокруг и слушать мягкое постукивание колес да скрип упряжи.
Дорога шла засеянными и уже кое-где зазеленевшими полями. Черными и черно-зелеными широкими лентами поля уходили далеко к горизонту, и, глядя на них, Михаила охватывало уже давно не испытываемое чувство глубокого удовлетворения: земля эта возделана и засеяна машинами его бригады!
В стороне, за поливным полем, медленно сходились, расходились и снова сходились два трактора. Это Житков и Горланов подымали ранний пар. Шум тракторов издали походил на тонкое осиное жужжание. Ястреб, распластав крылья, парил над ближним концом пашни, высматривая добычу.
Дорога вышла на большак. Отсюда, с пригорка, стал виден гребень плотинной запруды и сквозная, соединяющая Новую и Старую Березовку, черта магистрального оросительного канала. От него в полях, похожие на щупальца, шли большие и малые картовые оросители.
Михаилу еще ни разу не приходилось видеть полива на больших площадях, и представлялся он ему чем-то вроде бурного, кратковременного половодья. Ольга открывает главный шлюз, вода устремляется в каналы, затопляет их, перехлестывает через края, и хлеба пьют вдосталь живительную влагу. Ольга закрывает шлюз — полив окончен. Теперь, после весеннего сева, Михаил хорошо знал, что такое поливные валики и выводные борозды, и все-таки представление о поливе у него осталось прежним, может быть, потому, что воображаемая картина полюбилась, а может быть, и потому, что хотелось видеть Ольгу вот такой сильной, почти всемогущей.
Солнце начинало склоняться к западу, но жара еще держалась. Временами наплывал ветерок, но был он слабым, немощным, точно сам изнемогал от жары.
Когда Михаил въехал на эмтеэсовский двор, там уже стояли распряженные подводы, запыленные мотоциклы и велосипеды. В тени конторы, перекидываясь словцом и отвечая дружным хохотом на шутки записных остряков, которые находятся в любой компании, густо дымили самокрутками трактористы, бригадиры, учетчики. Многих из них Михаил видел впервые, но и те по укоренившемуся сельскому обычаю, здоровались с ним запросто, как со старым знакомым. Вспомнился зимний приход в мастерские, и опять большое и сильное чувство товарищества охватило Брагина.
За каких-нибудь пять минут Михаил узнал все последние новости: кто уже отсеялся, кто кончает сегодня-завтра, кто отстает. Только две бригады опередили его: пятая и десятая. В пятой из четырех машин три были новые, работавшие первый сезон, и ей сам бог велел. Но вот как ухитрился на целый день раньше отсеяться Галышев, это для Михаила было и удивительно и даже немножко обидно. Всю первую половину сева Михаил шел впереди Галышева, первым переехал на поливные земли. И вот — на тебе!
— Андрею Петровичу! Победителю, — вставая и шутливо раскланиваясь перед подходившим Галышевым, крикнул бригадир из Старой Березовки.
Галышев присел на траву рядом с Михаилом, отер платком лоб.
— Это все шутки, а вот ты, — он легонько хлопнул Михаила по плечу, — ты молодец! На таких самоварах и…
Михаил смешался от неожиданности и, с нарочитым тщанием притушивая папироску, пробормотал в ответ:
— Что тут такого особенного?
— Ну нет, не скажи, — возразил Галышев. — Это не так просто. Говорят, в последние пять лет Новая Березовка из отстающих не вылезала. На севе с такими машинами не работа — слезы…
Из конторы вышел Илья Гаранин и попросил всех, кто приехал на партийное собрание, заходить.
На повестке дня стоял один вопрос: итоги весеннего сева. Докладчиком был Сосницкий.
Когда Михаил поближе узнал этого юркого, чернявого человека, он ему перестал нравиться: уж очень занятой он имел вид и разговаривал таким поучающим тоном, от которого все кругом становилось серым и скучным. Самого Сосницкого это ничуть не смущало. Напротив, заметив кислую мину собеседника, он еще больше воодушевлялся. Видимо, он был глубоко убежден, что его устами глаголет истина, и, раз так, истина эта обязательно должна достигнуть ушей слушающего и — хочет он того или нет — проникнуть в его сознание. Потому, должно быть, он вызвался быть докладчиком и на сегодняшнем собрании: собрание важное, а секретарь — человек новый, ненадежный, как бы не наломал дров.
Говорил Сосницкий длинно, с явным удовольствием.
— Сроки сева — вещь немаловажная, а у нас они, скажем прямо, имеют решающее значение. И многие бригады глубоко осознали это и закончили сев буквально в считанные дни.
Сосницкий перечислил передовые бригады, с которых «мы должны, — как он выразился, — всячески брать пример».
Михаила задело, что его бригады в списке лучших не оказалось. Не попала в этот список и десятая — галышевская.
Воздав должное передовикам, Сосницкий перешел к отстающим. Тут его красноречие достигло особенного блеска. О перерасходе горючего, нарушениях агротехники и простоях тракторов он говорил с таким пафосом, что многие морщились, как при зубной боли. Даже главный инженер, со слов которого, видимо, все это и знал Сосницкий, слушал со скучающим видом и смотрел на докладчика, как смотрит учитель на перестаравшегося ученика.
Про бригадиров отстающих бригад Сосницкий говорил, что «мы должны их серьезно поправить». Этот полюбившийся оборот он употребил несколько раз. Вдруг в числе тех, кого следовало «серьезно поправить», Михаил услышал и свою фамилию. Это уже совсем сбило его с толку, даже рассердило.
А Сосницкий, мимоходом признав все же, что седьмая бригада закончила сев одной из первых в МТС, начал подробно перечислять ее грехи: низкая трудовая дисциплина и как результат ее — авария с поршневым пальцем; слабое знание бригадиром агротехники поливных земель, а отсюда чрезмерное сгребание пахотного слоя в поливные валики…
Михаил удивлялся, откуда известны Сосницкому все эти подробности, — ведь был он у него в бригаде всего один раз, да и то мельком, походя? И от кого он узнал про те же валики?
Сосницкий не жалел ни слов, ни красок.
«А что, если он и в самом деле прав? — вдруг подумал Михаил и только сейчас, может быть, по-настоящему пожалел, что не знает всяких там световых режимов растения, не знает, почему поливная земля должна обрабатываться тоже не когда придется, а в наилучшие сроки. — Сесть еще бы зимой за всю эту науку, как следует подучить, сейчас всякие не шпыняли бы, как мальчишку. Поделом дураку!»
В заключение докладчик пытался анализировать ненормальности в работе отстающих бригад, но из этого как-то ничего не вышло. К уже слышанному «мы должны их серьезно поправить» Сосницкий ничего добавить не смог.
Михаил вспомнил, как удовлетворенно оглядывал поля Новой Березовки, и ему стало немножко не по себе. Он был почти убежден, когда ехал на собрание, что его похвалят, что, во всяком случае, его есть за что похвалить. «Похвалили!.. Ладно бы хоть другие-то не наваливались…»
Однако выступавшие про Михаила лично говорили мало. Больше — о том, какой способ проведения нынешнего сева оказался наилучшим: тот, которым работала седьмая, или же тот, которым сеяли другие бригады, например десятая — галышевская.
Видя, что прения пошли не по тому направлению, какое он пытался дать своим докладом, Сосницкий озабоченно хмурился и то и дело напоминал о регламенте. Гаранин наклонился к Андрианову и что-то сказал ему. Тот кивнул, подвигая на его край стола исписанный листок. Сосницкий внушительно откашлялся, затем, хотя нужды в этом никакой не было, постучал карандашом по краю пепельницы и предоставил слово секретарю партийной организации.
— Вопрос, как теперь для всех ясно, — сказал Гаранин, — стоит намного шире, и мне кажется, зря тут его — совсем зря! — инструктор райкома пытался свести к обычному нагоняю одним и раздаче лавровых венков другим. Начинать весенние полевые работы выборочно, то есть по мере просыхания отдельных участков, — установка довольно давняя и правильная, конечно, потому что в дружную весну ждать просыхания больших массивов — наверняка упустить половину весенней влаги: тогда получается, что земля просыхает в одно время, а за один день все поле не посеешь. Однако же если, например, седьмая, новоберезовская, бригада начала сев в грязь, то десятая, ключевская, и некоторые другие поступили иначе: они выждали два-три дня и потом только выехали в поле. Нам надо решить: кто, ну, скажем, выгадал, а кто прогадал. Вопрос серьезный, так что давайте разберемся в нем хорошенько. В этом, на мой взгляд, и главная цель нашего собрания.
Сосницкий недовольно нахмурился и зачем-то опять постучал карандашом по краю пепельницы.
— Я считаю, — продолжал Гаранин, отложив в сторону свои пометки и листок Андрианова, — что седьмая бригада поступила в общем правильно, решив трудную и очень важную задачу сбережения весенней влаги. Это большой плюс, особенно если учесть ту «великую сушь», на которой — вот уже несколько дней — замер барометр.
В рядах трактористов произошло движение: кто-то одобрительно гмыкнул, кто-то недоверчиво покачал головой.
— И все же — все же Галышев и его, так сказать, единомышленники поступили, безусловно, правильней.
— Да вы что, товарищ Гаранин, в пику райкому, что ли, подымаете на щит таких ухарей, как Галышев? — строго спросил Сосницкий. — Вы ясно представляете, на какой риск шли они с Хлыновым?
— Представляю. И не хуже нас с вами, мне думается, представляли это и Галышев с Хлыновым. И однако ж их риск был не бесшабашным, а вполне оправданным, так как исходил из учета конкретных обстоятельств, а именно — из учета сырой, затяжной весны… Брагин задаче сохранения влаги подчинил все остальное и в результате надорвал тракторы и самые ранние участки обработал грубо, то есть ущемил и технику и агротехнику. Галышев же подошел не формально, а творчески. Переждав дожди, он и влагу не упустил, и машины сохранил. А главное — положил семена не в лишь бы сырую, а в структурную почву. Вот и выходит: умей не просто правильно использовать технику, а умей еще и сочетать умелое использование техники с агротехникой, с наукой. Об этом, как я понимаю, и шел спор здесь. Очень нужный и очень важный спор, и мне совсем непонятно, почему вы его хотели в регламентные рамочки упрятать.
Гаранин холодно посмотрел на Сосницкого и сел.
«По всему видно, мужик он неглупый, — подумал Михаил, — но что интересного нашла в нем Ольга, чем таким он ей понравился — непонятно. Разве что ростом вышел…» Михаил понимал, что задел его Гаранин справедливо, а не просто для того, чтобы придраться. Но обидно было, что секретарь ни словом не обмолвился о том, какие старые машины в его бригаде.
Некоторое время Сосницкий поглядывал то на Гаранина, то на Андрианова, словно бы соображая, как вести собрание дальше.
— Что же, если желающих выступать больше нет, можно перейти к предложениям, — выручил его наконец Андрианов. — Да нет, резолюцию свою уж лучше припрячьте, она небось, пока собрание шло, устарела…
После собрания Андрианов пригласил Михаила к себе в кабинет.
— Кое-какие части из дефицитных вчера получили. Зайдешь на склад, выпишешь.
Андрианов прошелся по кабинету, бросил в пепельницу окурок.
— Небось задело, что секретарь там в твой адрес проехался? Обиделся? А?..
Андрианов слегка приподнял густые седоватые брови, но глубоко спрятанные глаза, как и всегда, оставались хитро прищуренными. Он мог хмуриться, удивляться, брови то нависали над глазными впадинами, то вместе с кожей лба уходили вверх, а глаза оставались одинаково спокойными, и чуть заметное лукавство светилось в их зеленоватой глубине.
— Ничего, близко к сердцу не принимай! Работал ты хорошо. Скажу по совести, дело прошлое: зимой не больно ты мне понравился, когда вот здесь, — Андрианов кивнул на кресло, — с легким сердцем сам на трудное напросился, — не ожидал я, что сладишь с такими машинами.
Эти слова Андрианова тронули Михаила больше, чем обещание дать запасные части, хоть части эти и были в бригаде нужны, что называется, позарез. Горький осадок, оставшийся от собрания, постепенно начал рассасываться: все же нашелся человек, который оценил по достоинству его работу, работу его бригады!
2
Жара сошла. Солнце висело невысоко над горизонтом, и косые длинные тени пересекали улицу.
Михаил направился домой. Шел он не спеша, бездельно оглядываясь по сторонам, с наслаждением вдыхая запрохладневший воздух.
«А что, если зайти сейчас к Ольге? — вдруг мелькнуло у него. — Зайти и все сразу решить…»
Больше не раздумывая, он свернул к дому Ольги и отворил калитку. Но Ольгу Михаил опять не застал. Дома были одни дети. Юрка сидел на полу с разбитым носом и орал. Лена, присев на корточки, озабоченно мазала ему нос йодом. На полу лежали ее книги и тетради: она, видимо, только что вернулась из школы и, не успев положить их на место, занялась Юркой.
— Не ори. Так надо, — наставительно говорила Лена. — А то заражение крови будет и весь нос могут отрезать.
То ли оттого, что ему начало щипать нос, то ли из страха, что его могут и совсем отрезать, Юрка закричал еще громче. Однако, услышав, что в комнату кто-то вошел, он стих и только время от времени поскуливал. Отставив в сторону пузырек, Лена сосредоточенно дула ему на нос, трубочкой вытягивая губы.
— Хватит, дядя Илья пришел, — сказал Юрка и хотел встать с пола, но, увидев Михаила, с нескрываемым разочарованием вздохнул и снова сел.
Михаил опустился на низенькую скамеечку рядом с Юркой. Тот громко, на всю комнату, сопел, и от него пахло аптекой.
Михаил начал было расспрашивать, где он сумел так здорово расквасить нос, но Юрка вместо ответа достал из своего ящика два старых, высветленных шарикоподшипника и с выражением злорадства сунул их к лицу Михаила:
— Вот! Дядя Илья принес!
Михаил почувствовал, как краска заливает лицо. Как-то, встретив его на улице, Юрка попросил принести шариковый подшипник. Михаил пообещал, но было очень некогда, и за делами он совсем забыл о своем обещании. И вот Гаранин опередил его.
«А ведь сколько этих подшипников в полевом вагончике валяется — ну, что бы стоило с собой захватить? Еще коня хотел подарить, — вспомнил Михаил свой зимний приход сюда. — Подарил…»
А Юрка, как нарочно, вертел подшипники перед глазами и расписывал, какую прекрасную каталку он из них со временем сделает. А пока что ими можно и так играть: посмотри, как здорово получается! И начал катать подшипники от одной стенки до другой. Михаилу пришлось самому занять место у одной из стенок.
В самый разгар этой нехитрой игры вошла Ольга. Была она в легком платье, перехваченном узким поясом, и казалась более обычного тоненькой и молодой. Темные волосы ее, собранные жгутом, слегка рассыпались, и две-три пряди упали на раскрасневшееся от ходьбы, немного усталое лицо.
Ольга переступила порог, увидела Михаила на полу о подшипником в руках, медленно, тихо улыбнулась, да так и осталась стоять, прислонившись к косяку.
— Ну вот и пришел, — едва слышно, будто самой себе, сказала она.
Михаил вскочил с пола, подошел к Ольге и взглянул ей прямо в глаза, словно хотел прочитать там ответ на мучивший его вопрос. Но оттого, что они встретились взглядами, обоим стало неловко, а вопрос так и остался без ответа. Тогда Михаил открыто, без обиняков спросил:
— Так как же дальше-то будем?
Ольга даже слегка отшатнулась:
— Это ты о чем, Миша?
Михаил молчал: как объяснить, о чем он? Пусть уж сама догадывается.
— Не знаю, Михаил, — наконец проговорила Ольга и огляделась кругом, точно искала себе хорошего советчика.
Он по-прежнему молчал, теперь уж не отрывая глаз от лица Ольги. И чем дольше смотрел, тем родней и дороже становилась каждая его черточка. Не выдержав и позабыв все на свете, Михаил потянулся к Ольге. Ему захотелось обязательно коснуться ее, погладить по волосам, взять за руку. Но едва он дотронулся до плеча Ольги, как с полу громко раздалось:
— Мама!
Юрка крикнул это предостерегающе и требовательно: что ты делаешь, мама?! Или ты совсем забыла обо мне?
С матери Юрка перевел глаза на Михаила, и тот увидел в них холодную враждебность: зачем ты здесь? Нам и без тебя хорошо!
Михаил оторопел. Он же с самого начала знал, что у Ольги есть ребенок, знал, что, если Ольга и полюбит его, ребенок будет осложнять и их сближение, и семейную жизнь. Михаил хорошо понимал, что с Юркой нельзя не считаться. Но он никогда не думал, что Юрка может заявить о себе вот так резко и требовательно.
— Я понимаю, Оля, — сказал Михаил, кивая в сторону Юрки. — Я все понимаю. Но ты не беспокойся, он нам не помешает…
Михаил недоговорил. Чувство сына будто передалось Ольге, и лицо ее, еще секунду назад такое близкое, милое, стало вдруг холодным, чужим. И вся она точно отгородилась невидимой стеной, сжалась в комок.
Юрка подошел к матери и, как бы защищая, крепко обхватил ее колени. В его смотревших исподлобья глазах светилась непримиримая враждебность.
— Нет, ничего ты не понимаешь, — глубоко, прерывисто вздыхая, проговорила Ольга и провела рукой по Юркиным вихрам. — Не помешает!.. Эх, Миша. Да ведь это не вещь какая, которую, если помешала, и в сторону отодвинуть можно… Человек ведь! И если он тебя… ну, если он не захочет, что я могу?
Последний луч заходящего солнца лег оранжевой полосой на подоконник, на пол, где валялись брошенные Юркой игрушки, коротко блеснул на подшипнике и погас. В комнате сразу стало темнее. Ольга сидела спиной к окну, и лицо ее тоже стало темным.
Переминаясь с ноги на ногу и одергивая и без того аккуратно заправленную рубашку, Михаил некоторое время ждал, что еще ответит Ольга.
«Другого любишь — так и скажи!» — хотелось крикнуть ему зло и грубо.
Ольга сидела тихая, грустно-спокойная и молчала.
— Что ж… — широко шагнув к двери, Михаил резко отворил ее и, не оборачиваясь, вышел.
Только сейчас он почувствовал, что рубашка на спине прилипла, а воротник давит шею. Михаил рванул пуговицу и глубоко, как после ныряния, вздохнул.
Над самым ухом тонко прозвенел комар. На южном крае совсем еще светлого неба одиноко торчала круглая, никому не нужная луна.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
Посреди бледного, словно полинявшего и потерявшего свой обычный цвет неба пылало солнце. Глянцевито отливали под слабым порывистым ветерком луга, а тонкая извилистая полоска речки Березовки горела белым огнем. Пахло травами, и запах этот, всегда немножко влажный, освежающий, сейчас дурманил голову.
Перед плотиной, огибая небольшое взгорье, Березовка делала плавное полукольцо. Дорога срезала это полукольцо и вела прямо через озими, четко рассекая их зеленый ковер.
Ольга поднялась на пригорок и остановилась, чтобы перевести дух. В лицо освежающе пахнуло прохладой. Это ветерок принес ее с Березовского водохранилища. С пригорка оно видно было все, от верховьев до самой запруды, и казалось плоским, без глубины, — будто огромное белое стекло, небрежно вправленное в низкие зеленые берега. Ленивый ветерок не рябил и не морщил воду. Одно солнце властвовало над прудом, обливая его своим жгучим светом.
Ольга спустилась с пригорка и вскоре вышла на земляную насыпь плотины. Из-под щитка головного шлюза сочилась вода; головка винта у подъемника была отломана, и весь он покрылся толстым слоем ржавчины; насыпь местами обвалилась, подмытая весенними паводками; один край плотины не был закончен еще при постройке, таким он оставался и по сей день.
В последние годы за состоянием плотины и оросительных каналов не велось даже обыкновенного надзора. Тузов рассудил, что открывать и закрывать воду дело не такое уж хитрое, — это по совместительству и правленческий сторож Евсей за те же трудодни делать может. Евсею передали ключи от головного шлюза, и в дни полива он утром открывал, а вечером закрывал его.
Лишь этой весной, сразу же после сева, бригада Варвары Садовниковой начала ремонт оросительной сети.
С бригадой Варвары Ольга встретилась у пятого отводного. Мужчины чинили прогнивший переезд через магистральный канал и делали новые шлюзы, женщины подправляли и выкладывали дерном осыпавшиеся стенки канала.
— Не успеваю, Олюша, — пожаловалась Варвара. — Если бы только это, — она кивнула на канал, — а то ведь с бригадирством уйма всяких других дел!
Ольга уже не первый раз слышала жалобы Варвары.
— И не специалист я к тому же. Видишь, крысы — чтоб им издохнуть! — всю стенку проточили, а как ее лучше заделать, не придумаю.
В том месте, где магистральный канал для перевода воды в боковой, отводный, перекрывается шлюзом, одна стенка была источена водяными крысами, а земля, прилегающая в этом месте к каналу, была покрыта кочкарником, поросшим осокой и хвощом.
Ольга знала, откуда взялись эти хвощ и осока здесь, на поле. Во время полива вода, просачиваясь через крысиные норы, стоит сплошным непересыхающим озером, и земля рядом с каналом постепенно заболачивается.
— Травить их чем-нибудь боязно, они потом хлеб нам отравят, — продолжала Варвара, — а просто норы засыпать толку мало, долго ли им снова прогрызть?
Они подошли к работающим, присели на обочину канала.
— А кого ты знаешь из опытных поливальщиков? — спросила Ольга.
— Да ведь кого? — Варвара пожала плечами. — Вроде нет таких. Много народу в город подалось…
— А Никита Федорович? — подсказала одна колхозница. — Не хуже любого на курсах ученого полив знает.
— Знать-то знает, — ответила Варвара, — да вряд ли пойдет. Обидели его. Да и со здоровьем у него плохо.
Про Никиту Думчева Ольге приходилось слышать и раньше. Одно время он ведал орошением в колхозе, но потом тяжело заболел и вернулся из больницы почти нетрудоспособным.
Подошло время обеденного перерыва. Колхозницы, рассаживаясь на траве вокруг Варвары и Ольги, поправляли сбившиеся платки, причесывались, развертывали узелки с небогатой едой. Только у двух женщин Ольга заметила в узелках бутылки с молоком, остальные запивали водой темный, пополам с картошкой, хлеб.
— Похоже, год опять сухим будет, — говорили меж собой колхозницы. — Начало мая, а солнце уже июльское.
— Да, озимя вон, где пониже, подолинистей, там еще держатся, бодрятся, а повыше, на взлобках, уже и голову повесили, не успели расправиться — желтеть начали, жухнуть…
— Опять, кроме аванса, ничего не получим…
— Мало мышей — крыс в полях развели…
Около насыпи Ольга видела грейдер, и у нее сейчас мелькнула мысль, нельзя ли использовать его при заделке крысиных нор.
— А что ж, пожалуй, — сказала на это Варвара. — Снутри-то канала им, конечно, нельзя, а снаружи пойдет. Он и срезать будет это решето, — она кивнула на дырявую стенку канала, — и норы тем же разом заделывать. Дело за трактором.
Ольге и хотелось и не хотелось встречаться с Михаилом, и она сказала Варваре:
— Давай так сделаем: ты сама к трактористам сходишь, а я тем временем с Никитой Федоровичем поговорю.
На том и порешили.
Никиту Думчева Ольга нашла за двором, на огороде. Огород его был не похож на соседние, занятые картофелем приусадебные участки. Весь он был разбит на небольшие делянки и засеян хлебами.
Никита, стоя на коленях, копался в одной из грядок.
— Что скажешь, дочка? Зачем пожаловала? — Он поднялся, отряхивая с колен землю. Голос у него был приветливый, и это ободрило Ольгу. И глаза, глубоко запрятанные под мохнатые брови, тоже были совсем не сердитые, как представлялось Ольге, а просто умные и ласковые.
Ольга назвала себя и сказала, что пришла поговорить по одному делу.
— Что ж, давай поговорим, — ответил Никита. — Только пойдем с жары.
Ольга придумывала по дороге, с чего бы это начать разговор, чтобы не сразу, а исподволь подойти к главному.
— А это что у вас здесь посеяно? — так ничего и не придумав, спросила она у Никиты, показывая на одну из крайних делянок. Всходы на ней были всех гуще и выше.
— Обыкновенная рожь, — ответил Никита, — «саратовка». Может, слышала? Только я ей осенью, под зябь, дал полив да вот недавно, весной, еще разок помочил. Боюсь лишку: тучным налив будет — поляжет…
Пришли в избу. Жена Никиты поставила перед Ольгой кринку холодного молока.
— К слову пришлось — вы, Никита Федорович, поливом и в колхозе когда-то ведали? — спросила Ольга.
— Когда-то было, — медленно проговорил Никита, накручивая на палец прядь широкой полуседой бороды.
— А что ж теперь?
— Хвораю все, дочка. Силенок нет. Вот только и хватает меня, что на огороде копаться.
— А к тому же и отблагодарили его за работу в колхозе так, что… — начала было жена, но Никита не дал ей договорить:
— Не надо, мать, об этом! Не стоит! Да и знает она небось всю эту историю…
Чтобы вызвать Думчева на разговор, Ольга сказала, что ничего не знает.
— Им ведь что́ нужно? — с середины, как про что-то наболевшее, начал Никита, и Ольга поняла, что «они» — это часто меняющиеся здесь председатели. — Им нужен огород. И все. Они овощами спекулируют и даже так ухитряются, что районное начальство им хлебопоставки каким-то образом овощами заменяет. Только я уж не знаю, куда те овощи идут — государству или тому начальству.
Лицо у Никиты помрачнело, глаза из-под бровей поблескивали холодно, резко.
— Тот же полив возьми. Евсей ведь как делает? Пустил воду и идет спать в тенёк. Ему и горя мало, что воду нужно давать в норму, что с водой осторожно, уважительно надо обращаться. Воду надо чувствовать, как если бы сам вместе с ней шел по магистралу. А тут она и борта у оросителей рвет, и через шлюзы хлещет, поливщики не справляются — она впустую, мертвая, на поля и выбрасывается, не столько пользы, сколько вреда земле делает.
Никита говорил сердито, будто спорил, и все чаще теребил бороду.
— Почему, спрашивается, урожай на поливных землях год от году хужей становится? Да потому, что обработки настоящей земля не получает и полив ведется лишь бы номер отбыть… Вот… — Никита достал с полки клеенчатую тетрадь, полистав ее, нашел нужное место. — Вот как он, полив, у нас ведется. В позапрошлом году дали два полива, в прошлом тоже два, но считай, что один, потому что второй был не вовремя. Ведь полив — дело тонкое: растению влага потребна не когда придется, а как человеку, в нужное время…
Ольга незаметно улыбнулась: ей, агроному-мелиоратору, рассказывают такие вещи!
— Вот я и пришла от поливной бригады просить вас, — сказала она, — не согласитесь ли помочь нам?
— Да ведь я же говорю, что хвораю все. То лучше станет, то опять плохо. В ногах никакой силы нет, другой раз совсем отнимаются. — Сказал это Никита прежним ровным голосом, но рука, теребившая бороду, дрогнула, а глаза не по-стариковски вспыхнули и сделались влажными.
Ольга добавила, что нынешний председатель ей тоже не нравится, но, однако, ни в чем пока поперек дороги не становился. Надо думать, согласится он и на то, чтобы Никита стал «главным мелиоратором» колхоза.
— Не знаю, что тебе и ответить, — после долгого молчания проговорил Никита. — Прямо не придумаю. Уж больно ослаб я и…
— Да чего уж, иди, — сказала жена Никиты, — а то хуже зачахнешь на одном своем огороде. Все равно никакого спокоя нет тебе без этого полива: и зимой и летом о нем думаешь, по ночам во сне видишь…
— Ну, ну, поехала. — Никита светло, добродушно усмехнулся. — И зимой, и летом, и во сне… Как ты все хорошо знаешь!
— Как озимя начнут подыматься, — не обращая внимания на мужа, продолжала старуха, — так он, поверите, часами глядит на них и все вздыхает: хлеба-то, хлеба-то сколько, если его в трудное время водицей поддержать!
Ушла Ольга от Думчевых уже перед вечером. Никита дал согласие помогать поливной бригаде и словом и, насколько это будет в его силах, делом. С готовностью согласился он помочь и самой Ольге в составлении графика полива.
Солнце светило вдоль улицы, и она, без теней от домов и редких палисадников, казалась шире, просторнее. Ольга шла по дороге, которая вела из Новой Березовки в Старую, и еще издали, с дороги, увидела около пятого отводного попыхивающий синеньким дымком трактор. На прицепе у трактора громоздился грейдер, около него возились тракторист и Михаил.
Ольга хотела свернуть к каналу и не свернула, прошла мимо. Необъяснимая слабость охватила все тело. И трактор, и люди около него, и дорога — все застлалось туманной пеленой.
При возникновении какого-нибудь препятствия на своем пути Ольга вся собиралась, напружинивалась и на время забывала обо всем, кроме своего дела, чувствовала себя, как солдат на посту. Но вот из трудного положения находился выход, препятствие оставалось позади, и напряжение сменялось размягченностью, а вместе с удовлетворением, которое приносит окончание всякого дела, часто приходило горькое чувство маловажности сделанного. «Ну, сделала, ну и что?»
Ольге не раз приходилось и слышать и читать в книгах о том великом счастье, которое приносит человеку труд, любимое дело. Это казалось и верным и неверным. Если считать само собой разумеющимся, что кроме любимого дела у человека есть еще и верный друг жизни, есть большая настоящая любовь, то, конечно, верно. А если этого друга нет — тогда как же? Ведь ничто, никакая самая хорошая, самая желанная работа не может заменить обыкновенной человеческой любви…
Некоторое время дорога шла вдоль оросительного канала, затем круто забирала в сторону и двумя пологими петлями спускалась в село.
В Старой Березовке Ольга встретила эмтеэсовскую полуторку и уехала на ней домой.
Машина везла в ремонт моторный блок, и Ольга слезла на развилке, у оврагов, за которыми находились мастерские.
Узкая тропинка вела через сады и огороды. Сад Николая Копрова отделяла от соседних небольшая луговина. Этой луговиной дорожка и выходила в село.
Из раскрытых окон копровского дома доносился детский плач и пронзительный женский голос вперемежку с мужской бранью. Кажется, там опять скандалили.
На минуту стало тихо, а потом раздался дикий визг, и в сад выбежала растрепанная, с разорванной на груди кофтой Александра. За ней, со скалкой в руке, гнался Николай. Вот он замахнулся на жену… Ольга зажмурилась, будто это над ней была занесена скалка. Но Николай не ударил, рука, как сломанная, безвольно опустилась, и скалка с глухим стуком покатилась в траву.
— На, бей! Бей! — надрывно кричала Александра, раздирая еще дальше ворот кофты.
— За что ты ее? За что? — хрипло, о болью в голосе, проговорил, почти простонал Николай. — Что она тебе, как кость, поперек горла?
Лицо у Николая было все в пятнах, густые черные волосы спутанными кольцами прилипли к мокрому лбу, дико округленные глаза смотрели на жену с ненавистью и невыразимым страданием.
— А пусть не своевольничает, — с вызовом, уже переходя в наступление, отрезала Александра. — Сопли утирать — так я, а слушаться — не хочу… Да перестань скулить-то, чай, не перешибли тебя!
Только сейчас сквозь негустую зелень сада Ольга заметила прижавшуюся к ноге Николая девочку. Та тихонько всхлипывала, и исподлобья, с испугом глядела на мачеху, словно и знала, что отец не даст ее в обиду, и все-таки боялась.
Ольге стало стыдно, что она увидела людей в такую минуту, стыдно и больно. Она свернула с тропинки и, минуя Копровых, прямо огородами пошла к своему дому.
«А ведь, наверное, любили, а может, и теперь еще любят друг друга…»
2
Вечером, довольно поздно, на дом к Гаранину пришел курьер и сказал, чтобы он явился в райком, к секретарю.
В бытность свою третьим секретарем Григорий Степанович Тростенев имел в райкоме свой кабинет. Теперь же, после сентябрьского Пленума, когда секретарей закрепили по зонам МТС и стали звать зональными, ему бы следовало перебраться в здание эмтеэсовской конторы. Но в конторе и так было тесновато, и он остался в своем прежнем кабинете.
В приемной Илья столкнулся с Андриановым.
— Небось догадываешься, зачем? — улыбаясь, сказал Андрианов, без стука открывая обитую клеенкой дверь в кабинет секретаря.
Тростенев встретил их почти радушно, даже извинился за поздний вызов.
— Поздновато, конечно, — говорил он, подавая руку и чуть усмехаясь. — Да ведь наш рабочий день — все двадцать четыре часа…
Тростенев был мужчина не так чтобы рослый, но видный, упитанный, с довольно заметным брюшком. Лицо у него тоже полное, одутловатое, с множеством прожилок на скулах, голова так чисто выбрита, что почти не заметна лысина.
— Ну, я без вступлений, напрямки, — сказал секретарь, когда Илья с Андриановым уселись напротив него. — Скажите толком, чем это вам так не понравился новоберезовский председатель?
В кабинете горела только настольная лампа, и лишь теперь Илья заметил на диване, у стены, Сосницкого.
— Колхоз только-только начал подыматься, и уж больно бы не хотелось опять менять руководство. Небось знаете, сколько председателей уже перебывало в Березовке? Народ отчаяться может: райком хорошего председателя никак не подберет. Так вот я за этим и вызвал вас: попробуем выяснить свои точки зрения, и, может, все мирно обойдется, — Тростенев шумно высморкался и, закуривая, откинулся на спинку стула.
Сосницкий пересел с дивана к столу и достал объемистый блокнот.
Андрианов сказал, что мирное решение вопроса исключено, и коротко объяснил почему.
Секретарь задал несколько вопросов: откуда известно, что приемочные акты — фиктивные, как доказать, что Тузов подкупал комиссии из района.
Сосницкий что-то писал, время от времени значительно переглядываясь с Тростеневым.
— Ты, Алексей Иваныч, сам понимаешь, что в таких случаях в первую очередь ссылаются на документы, а не на показания какого-нибудь Петра Петровича, — сказал Тростенев. — А какими документами ты располагаешь? Никакими?
Илья сказал, что если бы у них была папка с документами, которые можно просто подшить к делу прежде, чем его начинать, то в райком можно было бы и не обращаться, для этого есть другие органы.
Сосницкий усмехнулся, а Тростенев внимательно и несколько удивленно посмотрел на Илью: эге, мол, а ты ершистый!
— Хорошо, — проводя ладонью со лба до затылка и обратно, сказал Тростенев. — На минутку поверим на слово Петру Петровичу и будем считать, что Тузов не обеспечивает руководства колхозом. Но как тогда согласовать это с тем, что колхоз при Тузове стал аккуратно выполнять свои обязательства перед государством?
Сосницкий полистал свой блокнот.
— Впервые за последние пять лет Новая Березовка не только полностью выполнила план хлебозаготовок, но и сдала две тонны семь центнеров сверх плана. Поголовье скота не уменьшилось при Тузове, а на семнадцать свиней и шесть коров увеличилось. Можно привести и другие цифры…
— Я думаю, не стоит, — остановил инструктора Андрианов. — По-вашему, обеспечивает, а по-нашему, Тузов просто-напросто и нам, МТС, и вам, райкому, ловко втирает очки. Получилось так, что при Тузове колхоз, как медаль, заимел две стороны: лицевую и оборотную. С лица — колхоз как будто идет в гору, председатель молодец! С изнанки же — Новая Березовка по-прежнему хиреет, и председатель не пользуется у колхозников никаким авторитетом.
— Авторитет — понятие относительное. — Тростенев невесело улыбнулся. — Колхозники — это не безликая масса: у одних пользуется, у других нет. И это понятно, потому что вытягивать отсталый колхоз — дело не легкое, кое-кого приходится приструнивать, кое-кому на хвост наступать. Лодырям и горлопанам в первую очередь.
— А втереть очки председатель может лишь при кабинетном руководстве, — дополнил Тростенева Сосницкий. — Если же я бываю в той Березовке через три дня на четвертый…
— Да, наезжаете вы часто, — не выдержал Илья. — И все цифры у вас в блокноте зафиксированы: столько-то тонн, столько-то центнеров. А вот сколько граммов получили колхозники на свой трудовой день — этого у вас нигде не записано? Наверное, не записано: ну, что могут значить какие-то граммы, когда счет ведется на тонны и центнеры?! А получили колхозники всего по двести двадцать граммов, да и то в порядке аванса… Общественное стадо прибавилось на шесть коров. Хорошо. Но ровно на столько же и убавилось коров в личном пользовании колхозников. Почему об этом помалкиваете? Или у вас это тоже не записано? Напрасно. Во всей Березовке осталось только пять дворов с коровами: завхоз, кладовщик, сам Тузов, два тракториста… словом, на все село пять коров. Не много!
Илья говорил зло, резко. И все же Тростенев сделал еще одну попытку кончить дело миром.
— Тебе, Алексей Иваныч, как члену бюро райкома, я не могу не доверять, — сказал он. — Но в то же время у меня нет никаких оснований не доверять и моему инструктору, который специально сидит на этом. С документальной же стороной дело обстоит явно неблагополучно. Сами же говорите, что никаких уличающих Тузова документов у вас нет… Я дал указание ревизовать колхоз еще раз, однако тревожных сигналов пока не слышно. Может, мы так решим: если вы сумеете доказать факт нарушения договорных отношений с МТС со стороны колхоза, доказывайте, и райком вас поддержит, даст хорошую баню председателю. Остальное же пока подымать не будем. Неизвестно еще — может, новый председатель будет не лучше Тузова. Да и не время сейчас менять правление — горячая пора.
— Нет, Григорий Степанович, — ответил Андрианов. — На полдороге останавливаться давайте уж не будем. Или — или! Чего нам бояться: проведем собрание, послушаем, что народ скажет. Надо думать, не одни горлопаны выступать на нем будут.
— Тогда, может, лучше в закрытом порядке проработать Тузова, на бюро? Тоже не согласен? Говоришь, или — или?
Тростенев задумался и снова провел ладонью по лысине. Сосницкий сидел, обиженно поджав губы, не вступая в разговор.
— Да, или — или! — повторил Андрианов.
— Вам, Григорий Степанович, конечно, виднее, — пряча блокнот, разомкнул наконец свои тонкие губы Сосницкий. — Но идти на поводу у колхозников…
— Нет, конечно, райкому идти на поводу ни у кого не пристало, — сказал Илья. — Но прислушиваться к колхозникам, к народу — не мешает.
Тростенев еще подумал, еще погладил бритую голову, и его вдруг будто осенило.
— Правильно, товарищ Гаранин, — в первый раз за весь разговор обратился он к Илье. — Совершенно верно. Партийному руководству отрываться от массы нельзя. Однако ж… однако ж, если на собрании все ваши карты окажутся битыми, пеняйте на себя, товарищи.
— А на собрании, — с многозначительным видом вставил Сосницкий, — могут и такое спросить: как так, товарищ Гаранин с Тузовым пил? Пил. Почему же теперь против выступает?
Илья от неожиданности потерял дар речи. А впрочем, что ему было говорить?! Объяснять, что они выпили с Тузовым только по одной стопке, а не всю бутылку?
Андрианов обескураженно смотрел на Илью и молчал. Сосницкий силился скрыть торжество, но это ему плохо удавалось.
— Я однажды ночевал у Тузова, — выдавил наконец Илья. — Ужинал. Только и всего.
— Но ведь ужин-то был с выпивкой? — Сосницкий опять торжествующе улыбнулся, и опять Илья не знал, что отвечать.
— Лично мне этот факт стал известен только недавно, и я, не разобравшись, не хочу делать скоропалительных выводов, — отечески внушительно сказал Тростенев. — Однако имейте в виду, что, если вы затрудняетесь дать объяснение здесь, на собрании это сделать будет во сто раз труднее. Словом, заранее снимаю с себя всякую ответственность. Тебе, Алексей Иваныч, как члену бюро, придется за все отвечать самому.
— Что ж, волков бояться, говорят, и в лес не ходить! — Считая разговор оконченным, Андрианов поднялся. — Пошли, Илья Михайлович.
Пока выходили из райкома, Илья коротко рассказал Андрианову о своей злополучной ночевке у Тузова.
— Теперь-то ясно, — ответил Андрианов. — Только как бы эта история боком нам не вышла. Видел, как он тебя поддел? То-то…
Село, погруженное в темноту, уже спало. Только у Тростенева да в одном из отделов райисполкома горел свет.
— Ох, любит ночные бдения, — кивая на окна тростеневского кабинета, сказал Андрианов. — Особенно любит председателей исповедовать по ночам. Лучше, говорит, впечатляет. Прояснишь, говорит, ему мозги в том или другом вопросе, а он, пока до дому доберется, все это наедине с собой хорошо обдумает, никто не помешает… А председатель-то с зари на ногах, и с зарей ему снова подниматься надо, и еще, сидя в кабинете, о другом думать начинает: удастся ему в эту ночь поспать или не удастся?
Из репродуктора на площади послышались гудки автомобилей, приглушенный гул засыпающего города, затем медленно начали бить куранты…
В тишине села бой Кремлевских курантов звучал по-особенному отчетливо и торжественно.
3
Ольга вышла из здания бывшего райсельхоза и тихой, пустынной в этот обеденный час улицей направилась домой. Попадались лишь редкие, разомлевшие от жары прохожие, да лениво копались в горячей придорожной пыли куры. Собаки врастяжку валялись в тени заборов и, высунув розовые языки, смотрели на все с совершенным безучастием. В такую жару лень было даже лаять.
На повороте показался фанерный домик на колесах — походная мастерская МТС. Из нее вылез загоревший, пропыленный Гаранин, в рубашке с закатанными рукавами, в широких светлых брюках.
Машина тронулась дальше, на усадьбу МТС, а Гаранин спорым своим шагом пошел наперерез Ольге, видимо тоже направляясь домой.
— Из Новой Березовки, — сказал он, здороваясь. — А ты домой? Значит, по пути. С дороги надо хоть умыться… Фу! Ну, и жара! Язык к нёбу присыхает…
Гаранин начал рассказывать, что видел, что слышал в Березовке.
— А там, между прочим, тебя ждут сегодня. Не забыла?
Ольга сказала, что не забыла, сейчас пообедает и поедет. До вечера, надо думать, успеет.
Продолжая разговаривать, они остановились около дома Ольги.
Из калитки выбежал Юрка и повис на ремне у Гаранина.
— Дядя Илья, опять поломалась, — огорченно сказал Юрка. — И так пробовал и так — не идет!
Юрка говорил об одной хитроумной машине, которую как-то смастерил для него Гаранин. Машина — по своему виду нечто среднее между автомобилем и трактором — заводилась торцовым ключом и некоторое время могла самостоятельно двигаться по кругу и даже подавать сигналы. Игрушка нравилась Юрке, но часто ломалась, и с ней было много хлопот.
— Что ж, давай тащи свой перпетуум. — Гаранин с виснувшим на нем Юркой прошел в калитку и опустился на траву. — Сделаем профилактический ремонт… А ты, Оля, занимайся своими делами, на нас не обращай внимания.
Юрка притащил из избы машину и разный инструмент — молоток, клещи, напильник. Работа закипела.
— Ну, как же она будет действовать, если у тебя самая главная шестеренка на холостом ходу крутится, а другую не задевает, — через открытые окна слышала Ольга. — Ах, какой же ты недогадливый — прямо беда. Ну, вот видишь же, что отошла она от другой, ось у нее покривилась. Соображать надо, большой уж.
— Я буду соображать, — серьезно обещал Юрка.
— Пора!.. Держи за это колесо, да крепче. Вот так…
Ольга переобулась, причесала волосы и занялась обедом. Из окна была видна склонившаяся над машиной голова Гаранина и сосредоточенное, счастливое лицо Юрки, обеими руками державшего колесо. И сейчас эта уже не раз виденная картина отозвалась в сердце Ольги болью.
С некоторых пор простые и ясные понятия окружающего мира для Юрки начали вдруг осложняться. Недавно еще один-единственный мир этот стал как бы делиться на детский и взрослый. И если в первом для Юрки по-прежнему все было ясно, во втором происходили какие-то не совсем понятные вещи.
Солнце вставало каждое утро из-за речного луга, чтобы Юрка мог загорать и купаться, играть с товарищами, делать еще много других столь же интересных и важных дел. А когда, набегавшись и наигравшись, он уставал и хотел спать, солнце, чтобы не мешать ему, пряталось за ветряную мельницу на бугре и, пока он спал, тоже, должно быть, отдыхало.
Для того чтобы босым ногам было мягко, на улице росла густая трава, а дорога была покрыта пушистым слоем теплой пыли…
Но в конце концов даже по ласковой, шелковистой траве-мураве бегать надоедало, надоедало изо дня в день калиться на солнце, хотелось кататься на лыжах, на коньках, лепить снежных баб и ловить силками краснопузых снегирей. И тогда на смену лету приходила зима с ее морозами и метелями. Зиму снова сменяла весна с веселой капелью, со звонкими, говорливыми ручьями и сосульками, которые можно сосать, как леденцы. А потом опять приходило жаркое лето…
Хорошо это было устроено! Все шло так, чтобы ему, Юрке, было удобно и интересно жить на свете.
А еще были игрушки, книжки с картинками, были друзья-товарищи, была бабушка с ее чудесными сказками и, самое главное, была мама. Но вот как раз с мамой в последнее время и начало твориться что-то непонятное.
Так же, как солнце каждый день появлялось на небе, мама каждое утро встречала Юрку доброй своей улыбкой. Мама была нераздельной частью большого и радостного мира — может быть, самой важной и необходимой его частью. И как все вокруг существовало для того, чтобы Юрке было хорошо, мама тоже, конечно, жила для него. Недаром же, когда ему было хорошо, и ей было хорошо, когда ему что-нибудь не нравилось, и ей это не могло нравиться. Стоило Юрке засмеяться, маме тоже становилось весело, а как-то он руку распорол о стекло, она завязывала и плакала, — значит, ей тоже больно, наверное, даже больней, чем ему, потому что сам он старался не плакать…
И вот, оказывается, все это и так и не так.
Пришел дядя Илья — Юрка прыгает от радости, и мама хорошо видит это, а сама, не поймешь, то ли рада, то ли нет. Прыгать ей, конечно, не надо — не маленькая, но как она может не радоваться — непонятно: ведь не кто-нибудь — дядя Илья пришел! А вот дядя Миша недавно заходил — обрадовалась, смеяться начала, хотя у Юрки драло расквашенный нос и ничего смешного в этом не было. Потом-то она поняла, конечно, что дядя Миша ни в какое сравнение с дядей Ильей идти не может: посмеялась-посмеялась, а когда ушел, плакать начала. Но все равно непонятными оставались для Юрки и ее радость, и ее слезы…
Дядя Илья сделал Юрке машину. Машина была на зависть всем мальчишкам, жаль только, часто ломалась. Вот если бы научиться быстро чинить ее, как это получается у дяди Ильи! Только Юрка успел сбегать за молотком, только подержал за одно колесо, за другое, а работа уже кончена. Дядя Илья уже взялся за ключ и начинает заводить машину.
Пружина глухо позванивает от каждого оборота ключа, и звон этот сладкой музыкой отдается в Юркиной груди: машина сейчас пойдет… Где же мама? Хотя бы в окошко выглянула, что ли, — так нет же, не догадается. Эх, мамка, мамка, большая, а непонятливая…
Ольга была немало удивлена, столкнувшись в правления новоберезовского колхоза с Васюниным. А когда услышала, что он делает выговор Тузову за то, что тот не укладывается в сроки с ремонтом оросительной сети, удивилась еще больше.
До сих пор главный агроном вел себя как-то непонятно. Он всегда был готов внимательно выслушать Ольгу, даже поддержать. Но это — у себя в кабинете, на словах. Дальше слов дело не шло: бывая в колхозах, Васюнин почти не интересовался орошением. Да и не баловал Виктор Давыдович колхозы частыми посещениями. Правда, он не раз говаривал, что сидение в кабинете ему осточертело и что он куда больше любит работать непосредственно в массах, но как-то получалось, что «непосредственно в массах» Виктору Давыдовичу приходилось бывать редко.
Тузов оправдывался, но Васюнин и слышать ничего не хотел: график колхозом был получен? Был. Сроки в нем указаны? Указаны. Что еще надо, спрашивается?! Или председатель ждет, чтобы главный агроном сам приехал выполнять собственное же указание?!
«Чего бы это он вдруг взялся? — подумала Ольга в полном замешательстве. — Ты смотри-ка, смотри, как напускается. И на кого? На Тузова! Раньше-то он к нему вроде благоволил…»
Ольге надо было поговорить с Тузовым, но тому сейчас было явно не до нее, он и без того потел, как в бане.
На стене правления большущее объявление гласило, что нынче в здешнем клубе главным агрономом МТС будет прочитана лекция: «Буржуазная теория убывающего плодородия».
Ольга тихонько пошла улицей к клубу.
«Здорово навострились мы разделываться со всякими-разными буржуазными теориями, — думала она по дороге. — Р-раз — и изничтожили… Вот и Васюнину что стоит разделать под орех это самое убывающее плодородие! Куда сложней объяснить, почему так медленно прибывает плодородие наших полей. Об этом бы — о том, почему у нас низки урожаи даже на поливных землях, — об этом бы главному агроному поговорить с колхозниками…»
Приближался вечер, но было все еще жарко. И воздух, и все кругом так накалилось за день, что и с заходом солнца прохлады не наступало.
Неожиданно за селом в чистое небо поднялся огромный темный столб. Вершина столба начала расползаться и превратилась сначала в мохнатую шапку, затем в крутящуюся воронку. Постепенно столб растворился, и на его месте осталось серое, загрязнившее почти полнеба бесформенное пятно.
Шедшая к колодцу за водой женщина в стареньком платье и выгоревшем добела платке остановилась рядом с Ольгой и тоже глядела на пыльный смерч.
— К суховею, — тихо сказала женщина.
И долго еще край неба, где растворился смерч, оставался пепельно-мутным, как после большого пожара.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Жаркая, сухая погода, установившаяся вслед за весенним севом, продолжала прочно удерживаться.
Обрадованное теплом первых ясных дней, сменивших непогодь сырой затяжной весны, все разом ожило, буйно зазеленело, распустилось, ходко пошло в рост. Но один теплый день сменялся другим, еще более ясным и жарким, за первой погожей неделей пришел знойный, без единого дождя, месяц. И благо стало бедствием.
От зноя преждевременно блекли травы, жухли листья на деревьях, словно обожженные, покрывались желтизной и поникали выходившие в трубку хлеба. В безветренные дни вся природа замирала в немом оцепенении, даже птицы, словно испуганные общим безмолвием, переставали кричать. Густая пыль на дорогах поднималась прямым столбом, некоторое время неподвижно висела в воздухе и оседала медленно-медленно, точно не хотела возвращаться на сухую землю.
Полдень.
Полевой вагончик, возле которого устроился Михаил, почти не дает тени, в тени только голова, а ноги и кусок брезента с разобранным магнето на солнце.
Все три бригадные машины стоят на текущем ремонте. Трактористы работают в одних трусах и майках. Только Филипп Житков да его сменщица Маша Рябинкина в комбинезонах.
Маша берет головку шатунного подшипника и, как горячий уголь, перекидывая ее с руки на руку, подает Житкову:
— Жжет-то как!
Филипп лежит под картером. Рукава комбинезона засучены, обнажая темные жилистые руки. Масляная капля растеклась по потному лбу, другая застряла в бороде. Филипп сегодня хмур и неразговорчив.
— Жжет! — тихо повторяет он и ворчливо объясняет: — Чай, железо. До земли и то дотронуться нельзя… Прокладки-то, прокладки ровней держи, не перекашивай…
— Вам бы, Машенька, китайский зонтик заиметь, — подает от соседней машины нахально-вкрадчивый голос Горланов. Он стоит, облокотившись обеими руками на моторный блок, и с напускной отеческой заботой смотрит на Машу. Рыжие волосы его выгорели и стали светлее загорелого лба, нос облупился.
— Это к чему же он мне, твой зонтик?
— Солнце портит ваш нежный цвет лица. И вообще тень, прохлада… руки бы не жгло, а то вон как ты деликатно за ключ берешься…
Маша суживает глаза в черные щелки и, в упор глядя на Горланова, медленно выговаривает:
— За меня, Жора, не волнуйся. Побольше за собой гляди…
Горланов некоторое время смотрит на тракторы, как бы сопоставляя уже почти готовый филипповский и еще только наполовину собранный свой, не находит подходящего ответа и напускается на своего напарника Пантюхина:
— Больше жизни, Федюня! Не на пляже разлегся. Что ты с одним подшипником два часа возишься?
Пантюхин, как и Житков, лежит под брюхом трактора. Движения его медлительны и как-то по-особому сдержанны, словно он боится неосторожным поворотом могучего плеча опрокинуть или поломать трактор. На оклик Горланова он невозмутимо, в лад с поворотом торцового ключа отзывается:
— Не на пляже… Н-да… Оно бы не мешало… часок…
Горланов несколько минут с ожесточением действует коловоротом, притирая клапан к гнезду, затем бросает это занятие и начинает регулировку вентилятора.
«Верхогляд этот Горланов все-таки, и, пожалуй, зря я его на весеннем севе за высокую выработку в пример другим ставил. — Михаил берет второе магнето и, на ощупь разбирая его, наблюдает за порывистыми, но зачастую бестолковыми движениями тракториста. — И машина у них с Пантюхиным работает тоже как-то рывками: то ходит ровно, без единой остановки, то останавливается через каждый час. Сменные нормы они, правда, выполняют. Простоят час, два, а к концу смены — кровь из носу! — нагонят. Но разве все дело в выполнении нормы? А машина? Надолго ли ее хватит при такой нервозной, рывковой работе? На утренних проверках посмотришь: у Житкова трактор будто только один круг обошел, у Горланова по крайней мере сутки без роздыха в борозде пробыл и до заправочного еле-еле дотащился».
Работал Житков ровно, посмотреть со стороны — даже тихо. Но в этой кажущейся неторопливости было что-то от заводской строгости и точности: любой час смены давал у него одинаковую выработку. Горланов говорил на это, что ни Филипп Житков, ни тем более Маша ему не указ и не пример, и еще надо посмотреть, что скажет осень: она окончательно итог подводит. И вообще, мол, он любит работать свободно, с размахом и не видит никакой нужды учитывать себя по часам. Пантюхин даже не вдавался в объяснения: сменную норму выполняю — чего еще?! А ночью машина стаёт — так это оттого, что зимний ремонт ей сделали непрочный и характер к тому же у нее норовистый.
Про осень Горланов упоминал не зря. Вот уже второй или третий год ходил он в лучших трактористах МТС. Слава передовика — дело не шуточное, с ней приходится считаться. Потому Михаил на севе и смотрел сквозь пальцы на лихаческое отношение Горланова к машине.
Подошел от своего трактора Ихматуллин и сел рядом, ожидая, пока Михаил закончит сборку магнето.
И раз и два, с тоскливой грустью посмотрев в сторону житковской машины, Зинят тяжело вздохнул.
— Что ты последнее время все вздыхаешь, Зинят? — спросил Михаил.
— Не везет, товарищ бригадир, — серьезно ответил Ихматуллин.
— В чем не везет-то?
Зинят посмотрел на Машу Рябинкину и опять вздохнул:
— Однако это, наверно, секрет.
О «секрете» Зинята знала вся бригада, знал и Михаил. Как-то ему пришлось слышать обрывок разговора между Ихматуллиным и Горлановым.
— Если ты хочешь, чтобы девчонка на тебя внимание обратила, — поучающим тоном сказал Горланов, — смотри на нее не просто вот так, как на меня смотришь, глазами лупаешь, а со значением. Понял? Со значением!..
Вспомнив сейчас об этом горлановском наставлении, Михаил спросил:
— А не пробовал ты с этим… как его… со значением смотреть?
Зинят быстро оглянулся на горлановский трактор, и масляные пятна на его лице, особенно одно около уха, стали постепенно темнеть. Несмотря на свои девятнадцать лет, краснел Зинят по-детски беспомощно: силился скрыть смущение и не мог.
— Пробовал, да, однако, не помогает.
— Не помогает? Странно. Ведь это такой верный способ…
Зинят сказал, что смеяться легко. Пусть бригадир лучше что-нибудь посоветует.
— Ничего не могу посоветовать, Зинят. Что-что, а таких тонкостей сам не знаю.
— Жалко.
— Не горюй. Если она тебя любит, и так поймет, а не любит — никакие взгляды не помогут. Наперед учти… Получай, готово.
— Учту, товарищ бригадир… Только что ж — учитай не учитай…
Бережно прижимая к груди магнето, Ихматуллин ушел.
Михаил проводил его взглядом и тоже невольно вздохнул: «Зря ты считаешь меня таким уж всезнающим, Зинят. Я тоже не знаю, как и чем можно понравиться той, которую любишь…»
Тяжелое и неясное чувство осталось у него от последнего разговора с Ольгой. «Не у одной меня надо спрашивать!» А у кого же? Что может мальчишка понимать во всем этом? Поначалу Михаилу казалось, что и сама Ольга неправильно поняла его, что произошло какое-то недоразумение и еще не поздно поправиться. Но вряд ли так. Всего скорее, тут есть кто-то третий, а в таком случае ничего поправить уже невозможно… Рассуждая так, Михаил как бы успокаивал себя: ты опоздал и старайся не думать об этом. Но успокоение не приходило, и сколько ни заказывал себе он не думать, не вспоминать об Ольге — думалось, вспоминалось…
Михаил встал и направился к трактору Филиппа Житкова. Филипп ставил вентилятор. Маша регулировала клапаны. Ключ и отвертка, коротко и остро вспыхивая на солнце, проворно мелькали в ее сильных пальцах, словно она играла ими.
— Ты бы заглянул в карбюрацию, бригадир. Поплавок что-то отяжелел, как бы потом перерасхода не получилось, — Филипп крутнул вентилятор, удовлетворенно оглядел мотор и начал закуривать. — А такой ремонт мне нравится. Не хуже зимнего, даром что тот капитальным считается. Теперь и с Галышевым можно потягаться…
— Гаранин говорит, что ты со своим часовым расписанием и так чуть не переплюнул ключевцев, чего ж тут тягаться-то? — кинул от своей машины Горланов.
— Мели, Емеля, — твоя неделя.
— Он же и огрызается! Начальство хвалит — радоваться надо…
Михаил взглянул на часы, затем на дорогу в село: пора бы прийти летучке, где она запропала?..
Летучка шла в очередной рейс.
Илья запер свою комнату и, предупредив диспетчера, вышел на подворье.
— Дорога вдаль зовет меня, — завидев Илью и гостеприимно распахивая дверцу, пропел шофер. — Прошу.
Илья сел, и машина тронулась.
Солнце стояло в зените, и лучи его накаляли верх кабины. Но вот машина вышла в поля, набрала скорость, и в лицо подуло тугим освежающим ветром.
Временами Илье казалось, что он уже освоился или вот-вот окончательно освоится со своими новыми обязанностями, но они, что ни день, росли, ширились. На заводе, в цехе каждый человек перед глазами, любое дело у всех на виду. Здесь люди в самое напряженное время разбросаны, разобщены. Как же сделать, чтобы, несмотря на разобщенность, чувствовали они себя единым коллективом?
С тракторными бригадами поддерживалась постоянная живая связь. С эмтеэсовской усадьбы в бригады везли горючее, запасные части, из бригад в контору, в ремонтные мастерские ехали учетчики, бригадиры, прицепщики. Каждое утро диспетчер связывался с тракторными бригадами по рации, и ему доносили, где и что сделано. Все это были прочные, нужные связи. Но по какой рации можно собрать сведения о том, чем живут трактористы, что думают, о чем они говорят друг с другом?!
Илья положил себе за правило не посылать от своего имени в бригады никаких бумажек, пореже пользоваться телефоном и рацией и почаще бывать на местах самому. То он ехал в бригады с Оданцом, то напрашивался в попутчики Андрианову, то колесил целый день по проселкам, от одного стана к другому, с походной мастерской. Он полюбил бесконечные степные дороги, ночевки у костра, утренние зори, каких не увидишь в городе…
За пригорком, прямо над зеленым полем ржи, сверкнул на солнце крест новоберезовской церквушки.
Машина въехала на пригорок, нырнула в улицу села и, выбравшись из него, круто свернула к полевому стану бригады.
Вокруг вагончика стояли полуразобранные тракторы.
Илья вылез из машины, помог сгрузить запасные части.
— …а вот и само начальство — легкое на помине, — донеслось до него от горлановского трактора.
Горланову что-то ответил Житков.
— А я хоть кому могу сказать! — громко и с явным вызовом бросил Горланов. — На заводе — там да, там и часовому графику, и всему подобному место. А здесь? Учетчику все равно, как ты выполнил норму, лишь бы выполнил.
— Учетчику-то все равно… — Не договорив, Житков застучал молотком.
Илья присел рядом с горлановским трактором, начал неспешно набивать трубку. Он понял, о чем идет разговор. Еще во время сева Илья стал на защиту Житкова, увидев в его, казалось бы медлительной, работе нечто от заводской размеренности.
— Так, говоришь, не место? — спросил он у Горланова.
— Ну конечно, — с этакой снисходительно-понимающей усмешкой ответил тракторист. — Ну, какое может быть равнение между заводом и нами? Там индустрия — одно слово что значит! — а здесь?
— А ведь, пожалуй, ты прав, — кивнул Илья. — Там люди у станков работают, с техникой дело имеют, а ты с сохой да с бороной. Вот если бы ты тоже на машине, к примеру на тракторе или на комбайне, работал, тогда, конечно, другое дело.
— Нет, я с сохой никакого дела не имею и иметь не хочу, — решительно отказался Горланов, — но все же завод есть завод, а наше дело — особь статья. Наше дело крестьянское.
— Хорошо. Однако согласись, что твоя работа куда ближе к заводской, чем к отцовой или к дедовой — чисто крестьянской, что трактор больше сродни станку, чем дедовской сохе…
Илья выколотил потухшую трубку, набил снова.
Михаил по-прежнему сидел у вагончика и в разговор не вступал, хотя в чем-то и был не согласен с Гараниным. «Складно у него получается, где уж мне! Полезешь в спор — чего хорошего, еще и в дураках останешься… А только зря ты, Илья Михайлович, свой завод с нашим полем на одну доску ставишь. Наше дело — тут Горланов прав — особь статья… Пусть и в деревне все делается машинами, и чем скорее это будет, тем лучше. И все равно крестьянский труд будет обязательно отличаться от заводского или фабричного хотя бы потому, что крестьянин имеет дело не с одной только машиной, а еще и с живой природой, и над полем нет стеклянной крыши, оно открыто и солнцу, и дождю, и ветру… А вот что работаем мы еще — чего уж там! — до хорошего далеко, что с техникой обращаемся не очень-то бережно — тут все правильно, и заводские нам — пример…»
Михаил развернул узелок, который мать прислала с Ильей, выпил сырыми два яйца, съел холодный гречневый блин — очень вкусно! Как-то на неделе он собирался, да так и не собрался съездить к матери. И не во времени тут было дело. Он просто не представлял, как и о чем будет разговаривать с Гараниным дома, один на один. Михаил видел, что Гаранин относится к нему по-прежнему хорошо, и ему было как-то неудобно оттого, что он не может отвечать тем же, что с некоторого времени в его отношении к Гаранину появилась какая-то неловкость.
К вечеру все тракторы были собраны и опробованы.
— Теперь бы в баньке помыться после трудов праведных, — заключил Филипп Житков, накрывая трактор брезентом.
— Хозяйка у нас баба умная, должна догадаться, — ответил Михаил, заказавший баню еще с утра. — Может, и ты, Илья Михайлович, попаришься с нами за компанию? А? Будешь хоть знать, что́ есть русская баня.
Пошли в село, и Илья узнал, «что есть русская баня».
Житков с Брагиным жестоко истязали друг друга веником на полке́, а Илья врастяжку лежал на полу, головой к приоткрытой двери, но и то ему было нестерпимо жарко.
— Да закрой ты, черт, дверь-то, простудишь нас! — кричал с полка Брагин, а Житков методично и безжалостно охаживал его спину веником, подливая на каменку, и опять брался за веник. Брагин истомно стонал, охал, но эти стоны, казалось, только еще больше воодушевляли его товарища.
Когда в бане, по выражению Житкова, стало уже совсем холодно, водворен был на поло́к и Илья. Было ему там и жестко и коротко, ноги пришлось задрать под самый потолок. Но обо всех этих неудобствах Илья забыл в ту же секунду, как только Филипп взялся за веник.
Уж не подшутили ли над ним? Неужто это был обыкновенный березовый веник? Тогда почему же он жег так, будто прутья его были раскаленными, и от каждого удара захватывало дух?
Из бани Илья выполз на четвереньках.
— Ничего. Это по первости, — успокоил его Филипп. — В другой раз тебя с полка калачом не выманишь…
Илья так и не понял, смеялся над ним Житков или говорил серьезно.
Легли поздно.
В избе стояла такая духота, что Илья, несмотря на усталость и обычную после бани расслабленность, долго не мог заснуть. Некоторое время он ворочался с боку на бок, потом встал, чтобы открыть окно. Но окно оказалось открытым. Никакой прохлады с улицы не шло, воздух был неподвижен, как теплая и липкая стоячая вода. Забылся он только после того, как петухи из конца в конец села прогорланили полночь.
Разбудил Илью звон разбитого стекла и странный звук, похожий на хлопанье в ладоши. По избе гулял ветер. Это он хлопал пустой рамой разбитого окна, быстро-быстро перебирал страницы раскрытой книги, яростно шумел по крыше, словно хотел во что бы то ни стало сорвать ее. Издалека доносился неясный глухой грохот. Потом грохот, то стихая, то снова нарастая, стал медленно приближаться и стих совсем. Неожиданно замер и ветер. Наступила такая тишина, что от нее теперь звенело в ушах. И вдруг белый, призрачный свет на миг осветил замершую в немом удивлении природу, и одновременно что-то огромное со страшным гулом раскололось пополам над самой крышей дома. Опять наступила секундная тишина и опять разорвалась новым, еще более резким, дробным грохотом, и он покатился в оба конца села. Теперь половинки дробились на мелкие части, и, чем мельче их раскалывало, тем шумнее становилось в небе. Звучно ударили в крышу редкие, тяжелые капли.
Илья встал и вышел.
Его обдало и чуть не повалило с ног ветром, который с бешеным свистом, напролом летел вдоль улицы. Небо то в одном, то в другом краю широко и ослепительно вспыхивало, постоянно обваливалось и гудело. Вспышки молний становились все чаще и чаще, сливаясь одна с другой, и при их свете было видно, как по небу гнались друг за другом неуклюжие, косматые тучи, а здесь, на земле, все вытянулось, наклонилось в одну сторону и как будто летит, летит куда-то. Ветер неистовствовал: он не дул, а шел сплошной стеной, яростно рвал все, что попадалось на его пути, точно хотел унести с собой, и, натыкаясь на сопротивление, по-разбойничьи свистел и мстительно пригибал к земле и траву, и деревья, и, казалось, сами дома.
Дождя все еще не было. Молнии, вспыхивавшие в разных краях горизонта, как бы подпирали тучи, не давая им опускаться на землю, а ветер поспешно гнал и гнал их дальше. Но вот одна, особенно грузная и неуклюжая, не успев подняться, зацепилась за резко очерченную грозовым светом гряду темного перелеска за селом, и по листьям, по крыше снова ударили тяжелые, звучные капли. Запахло мокрой пылью. Из последних сил еще раз рванул ветер, все еще надеясь пронести эту огромную тучу, но было уже поздно: плотный, проливной дождь обрушился на землю…
Изба наполнилась прохладой, запахами росшей под окнами крапивы и ромашки. На селе радостно и теперь уже беспрерывно орали петухи.
К утру дождь стал перемежаться.
Бодрый, словно он и не ложился, и даже немного торжественный вошел Житков. На нем была чистая гимнастерка, волосы и борода аккуратно расчесаны.
— Михал Денисыч? Спишь?.. Это хорошо, что не спится, — Филипп прошел к окну, сел. — А я вот что: не пора ли нам?.. Пока плуги соберем — они у нас, как на грех, по разным полям торчат, — пока заправимся. А время сейчас, сам понимаешь, золотое: не только часы — минуты терять непозволительно.
Брагин сел на кровати, начал одеваться. Илья тоже оделся, закурил.
— Яровое уж больно оробело от этих жаров, не знай, оправится ли, — глядя за окно, куда-то в поле, вслух подумал Житков. — А рожь теперь пойдет. Ведь когда она в дудку вышла, ей и дождика-то немного надо — под колос да под налив… Эх, как это все в небесной канцелярии устроено плохо, никакого порядка…
Трактористы поднимались быстро. Только Горланов, высунув из-под одеяла кудлатую рыжую голову и сонно поглядев в окно, недовольно проворчал:
— И что всполошились? Дали бы хоть дождю-то пройти! — Длинно зевнул и добавил: — А под дождичек только и поспать всласть.
Изменившись в лице, Брагин потянулся было к Горланову, словно хотел взять за рыжие космы и поставить его на ноги, но сдержался.
Заметив движение бригадира, Житков примирительно сказал:
— Да и стоит ли нам всей оравой идти? Пусть вторая смена остается — ей в ночь работать, а плащей у нас все равно только на троих.
— Соломон ты, Филипп, ей-ей, Соломон! — обрадовался Горланов. — Так что ты, Федюня, ступай! О! Да, никак, уже собрался?! А мы с Машей остаемся в резерве главного командования. Бонжур, ауфвидерзейн!
— Ладно, без тебя обойдемся. Можешь бонжурить со свистом хоть до самого вечера. — Филипп накрылся капюшоном и первым шагнул в сени.
Дождь постепенно слабел. Небо очищалось.
2
Все окна и двери в правлении — настежь, и все-таки жарко, душно.
Илья расстегнул ворот рубашки. Хотелось пить, но графин давно пуст, нечем промочить горло даже выступающим.
Собрание длилось уже более трех часов.
Поначалу трудно было угадать, как оно пойдет и чем кончится. Тузов сделал нечто вроде отчетного доклада, ему, как полагается, задали вопросы, затем перешли к прениям. Все, как и на любом обычном собрании. И разве что по числу вопросов и той прямоте и резкости, с какой они ставились, можно было понять, что сегодняшнее собрание колхозники считают не совсем обычным.
По правую руку Тузова сидели Сосницкий с Николаем Илларионовичем, с левой стороны стола, чуть в сторонке — Илья с Андриановым.
Первым взял слово счетовод Прокопий Ксенофонтович — благообразный седенький старичок. Он довольно подробно охарактеризовал международную обстановку и затем только перешел к делам колхоза. Но и о них говорил опять же «в разрезе всеобщего подъема и стоящих перед советским народом задач» и подвел к тому, что Тузов как председатель задачи эти понимает правильно, то есть руководит колхозом в общем неплохо.
После такой запевки выступивший следом кудрявый в крупных веснушках парень пошел дальше простой похвалы Тузову. Он сказал, что, насколько ему известно, собрание это созвано по настоянию некоторых представителей, и посмотрел при этом в сторону Ильи с Андриановым.
— Так вот мне непонятно, почему представители эти молчат, почему они прямо не скажут, чем им не понравился наш председатель. Все был хорош, и вдруг… Ведь так же ни с того ни с сего не бывает, чтобы сегодня ко мне, к примеру, кто-то зашел и мы с ним выпили, а завтра он от меня нос воротить начал…
— Разве что когда мало подносят, — с ехидцей кинул кто-то из рядов.
Раздался смешок, колкие шуточки.
— Разве что, — закончил парень.
Андрианов толкнул Илью в бок: чуешь, в чей огород камешки?
В таком же духе выступили еще двое. Некоторые из этих ораторов время от времени зачем-то оглядывались на Сосницкого. Тот с подчеркнутым вниманием слушал или с той же подчеркнутой деловитостью листал свой пухлый блокнот.
Слово взял Кузьма Горшков. Он сказал, что представители здесь ни при чем, что и самим давно пора разобраться, почему колхоз дошел до такого нищенского состояния, хотя по сводкам и числится чуть ли не в зажиточных. Тузов умеет выдавать районным руководителям ворону за курицу — разве только этим и хорош… Кузьма говорил о том же, о чем он уже рассказывал Илье, правда, не так складно и красочно, как у себя дома. Однако ему даже и закончить не дали. С разных сторон посыпалось: «Чем докажешь?», «Где документы?», «Поклеп возводишь!..».
Сразу же за Горшковым выступил кладовщик Тимофей Назаров — пожилой, тихий человек с умными, всегда чуть прищуренными глазами. Ссылаясь на документы, Назаров мягко, ни разу не повысив голоса, доказал всю несостоятельность возводимых на Тузова обвинений. Кто не верит, пусть посмотрит акты ревизий, заключения проверочных комиссий из района.
Собрание глухо гудело, бурлило, как бурлит закипающий котел. Илья прислушивался к этому бурлению и все ждал, когда же, наконец, начнет перехлестывать через край. Однако на каждый голос против Тузова тут же раздавалось два голоса «за».
— Спокойней, Илья, спокойней, — тихо шептал Андрианов.
Поднялся Никита Федорович Думчев.
— С Горшкова потребовали документы, — сказал он. — А я вот с правления хочу потребовать ответ на такой вопрос: почему это в нашем колхозе огороды процветают, а поля в полном запущении? Почему это, товарищи правление, на огородах самый последний кочан капусты толще любой вашей головы, а в полях не столько хлеба, сколько лебеды?
Тузов начал было отвечать, что артель имеет определенный уклон хозяйства с ведома районных организаций, но Никита перебил его:
— Вот с этим уклоном мы и получаем на трудодни вместо хлеба одну картошку. А капустой вы спекулируете, и деньги от этой спекуляции идут опять же мимо артельной кассы…
Собрание снова забурлило, закипело. Илья облегченно вздохнул: кажется, начинает понемногу перехлестывать.
Но вот вторично взял слово кудрявый и сказал:
— А у меня к Никите вопрос: сколько трудодней он заработал в этом году? Пять целых и пять десятых? Так ведь, Прокопий Ксенофонтыч? Так чего ж тут после этого выступать? Недостает еще, чтобы здесь с речью вылез Матюха Кузяков, который так же, как и Думчев, больше на своем приусадебном копается, чем в поле работает. Но кому же непонятно, что таких председатель прижимает и они им довольны быть никак не могут…
Илья в тревоге переглянулся с Андриановым.
В помещении становилось все жарче. Курили с таким усердием, что табачный дым не успевал выходить в раскрытые окна и тяжелыми волнами колыхался над головами, щипал глаза. Однако никто, даже женщины, казалось, не замечал этого. Кругом Илья видел красные от жары и возбуждения лоснящиеся лица, то хмурые и как бы несколько обескураженные, то довольные, потихоньку торжествующие.
Но вот взял слово конюх Василий Саватеев — плечистый русоволосый красавец с чапаевскими усами:
— Кто-то тут шумел насчет документов. По-моему, ты, Тимофей Назарыч? Чем, мол, доказать Кузьма может и все такое? Так вот он, полюбуйся, документ. Не туда глядишь, гляди на меня, я сам и есть тот документ, про который ты тут разорялся… Может, ты, кудряш, скажешь, что я лодырь и что на своем огороде ковыряюсь? Не скажешь? Еще бы! Четыреста трудодней в прошлом году у меня числилось и в этом, наверное, не меньше будет. Четыреста! Это значит, круглый год я работал без выходных и даже еще сверх того. В Ключевском вон мой свояк, тоже конюх, пол-амбара хлеба навалил. А что я за такую работу имею? Да вот все!
Саватеев раскинул в стороны руки, и все увидели под заскорузлым латаным и перелатанным ватником такую же латаную, добела вылинявшую гимнастерку.
— Опорки свои показывать не буду — при таком народе стыдно. Мне стыдно. А тебе, товарищ Тузов? Помнишь, ты нам по триста грамм на трудодень обещал, а дал только по двести двадцать. Решил перед начальством блеснуть, заготовки сверх плана сдать? А когда ты снимал эти несчастные восемьдесят грамм, рука у тебя не дрогнула? Нет? Ну, так и у меня она не дрогнет, когда я против тебя голосовать буду. И не только я, и Кузьма, и Никита… Никиту, конечно, зря тут облаяли — человек в нашем колхозе, можно сказать, заслуженный. А про Матюху я так скажу: хочется мне его строго судить, а не могу. Вижу, что в огород, в корову, в хозяйство свое он больше души вкладывает, чем в общее, и больно не по нутру мне это. А только как подумаю, что у нас вся семья — я, жена да сынишка-школьник, а у него четверо по лавкам, — пропадает злость. Если я хлеб пополам с картошкой ем и не знаю, хватит ли до нового, ему и подавно над этим думать приходится. Вот еще один документ…
В рядах стало тихо.
— Хорошо. Может, мы едим одну картошку, так это потому, что председатель у нас о колхозном печется, туда все вкладывает? Ладно бы так. А только если год назад у нас хоть уздечек на каждую лошадь хватало, так теперь — одна на два коня. Да и то какая — посмотрите-ка! — Саватеев взял со скамейки веревочную, всю в узлах, узду, поднял над головой, затем шагнул вперед и положил на стол президиума, перед Сосницким. — Еще один документ. Думаю, хватит. Мало — другие скажут…
Собрание словно прорвало. Нашлись и другие «документы». Нашелся парень, которого кладовщик посылал отвозить муку куда-то на сторону, объявился «купец», продававший, по указке Тузова, капусту.
Тузовцы уже не осмеливались выступать открыто и только кидали изредка хлесткие, злые реплики.
Сам Тузов вопрошающе посматривал на Сосницкого, но тот делал вид, что не замечает этих взглядов.
А когда стало совершенно ясно, куда дует ветер, Сосницкий взял слово. После довольно пространного, теоретически обоснованного вступления о значении критики снизу, о том, что партия учит особенно чутко относиться именно к такого рода критике, и так далее в том же духе, Сосницкий покосился на веревочную уздечку и сказал:
— Отдельные выступления в адрес руководителей колхоза говорят о явном неблагополучии, и райком, несомненно, учтет их. Меня удивляет только, почему партийная организация колхоза не била тревогу и своевременно не сигнализировала в райком…
Обернувшись к сидящему недалеко от него парторгу, Сосницкий повозмущался еще некоторое время «политической беспечностью» новоберезовских коммунистов и кончил тем же, с чего начал, — воздал должное благотворности критики снизу.
«До чего же ловок — сухим из воды хочет выйти!» Илья уже хотел было попросить слова, как из рядов раздался голос Михаила Брагина:
— А меня, товарищ Сосницкий, представь, не удивляет, — Брагин поднялся, — не удивляет ничуть. И вот почему. Здешняя парторганизация у вас в райкоме на хорошем счету. Ведь так? Вопрос: почему? Ответ: да потому, что очень аккуратно, всех раньше, представляет в райком ведомости по членским взносам и всякие сводки о проведенных и непроведенных лекциях. Что здешние коммунисты делают, кроме того, что заседают и пишут протоколы и всякие решения, это вас почему-то мало интересует. Так стоит ли тут после этого удивляться, товарищ Сосницкий? По-моему, не стоит. Я кончил.
Последние слова Брагина потонули в одобрительном гуле колхозников.
Решающим большинством голосов Тузова отстранили от руководства колхозом и вынесли постановление передать дело в прокуратуру. На место Тузова был выбран недавно окончивший областную школу председателей молодой паренек Иван Костин, сын довоенного председателя Петра Макаровича.
Разошлись за полночь. А на столе президиума, рядом с пустым графином, так и осталась лежать узластая веревочная уздечка.
3
С приходом нового председателя Ивана Костина отношения между трактористами и колхозом резко изменились. Если тузовским правилом было: ты — мне, я — тебе, ссориться не надо, то Костин сразу же сказал Михаилу: «Будем подымать колхоз вместе. Помогай!» И Михаил, чем только мог, помогал.
Вместе с кузнецом они заново отремонтировали оросительные шлюзы, поставили на ход молотилку. К Михаилу за помощью обращался машинист старенького движка. Помощь эту, правда, он скромно именовал технической консультацией, хотя чаще всего выражалась она в том, что Михаилу приходилось засучивать рукава и часами возиться с добродушно попыхивающим, но от этого не менее строптивым движком.
В самой бригаде много хлопот по-прежнему задавал горлановский трактор. Горланов и вчера и сегодня пришел на смену с большим опозданием.
Михаил накинул пиджак и вышел из вагончика. «Пойду проведаю этого молодца».
Горланов работал за оврагом, на участке, одним концом выходившем на проселочную дорогу, другим — упиравшемся в небольшой низкорослый перелесок.
Вечерело.
Михаил перебрался через овраг и дошел до перелеска. Горланов только что сделал поворот и остановился, чтобы долить в радиатор воды. Мотор дымил на малых оборотах, простуженно всхлипывая и чихая от слишком богатой смеси.
— Что он у тебя хлюпает, будто насморк схватил? — сказал Михаил, подходя к мотору и подымая капот. — Лень до карбюратора руку протянуть?
Михаил убавил жиклер, мотор откашлялся, облегченно вздохнул и, перестав захлебываться, заработал плавно, размеренно.
— Стой! — Михаил завернул жиклер совсем, и мотор остановился. — Иди-ка сюда… Это что? А?
Осмотр машин Михаил делал главным образом по утрам, а по вечерам полагался на самих трактористов. Горланов же с Пантюхиным вечером, оказывается, ограничивались лишь доливкой горючего и даже не протирали машину. Потому так плохо она и работала во время ночных смен.
— Сам-то ходишь грязным — ладно, может, тебе так нравится…
— Так ведь не на фортепьянах играю…
— А машина грязи не любит, запомни это и заруби! Не на фортепьянах… — Михаил начал злиться и на тракториста, и на свою собственную беспечность. — Три минуты — и чтобы все блестело!
Горланов вытащил из ящика ветошь, недовольно сопя, начал протирать мотор.
Михаил несколько минут бездумно смотрел на руки Горланова, на части мотора, которые тот протирал, и вдруг его глаза остановились на двух зазубринах на карбюраторе, точно зацепились за них. Он шагнул ближе. Ну да, это его зазубрины! А вот и наискось сточенный фланец, и нацарапанная на раме буква «Б», и еще несколько только ему одному известных примет. Ну, конечно, это его бывшая тринадцатая машина, «Чертова дюжина», как он ее тогда в шутку называл. Некоторые части уже были заменены, некоторые погнуты и побиты. Как шрамы на собственном теле, разглядывал он сейчас старые и новые отметины. И больно, обидно стало за грязь на моторе, за то, что у «Чертовой дюжины» такой равнодушный, нерадивый хозяин.
Чтобы несколько успокоиться, Михаил отошел к плугу, присел на раму.
Еще по дороге он заметил, что пахота у Горланова была неровной, гребнистой. Три пласта земли, перевернутой плугом, шли ровно, а четвертый на добрых полчетверти возвышался над ними. Посмотрев сейчас на плуги, Михаил понял, в чем дело. Один из них, тракторный, трехкорпусный, был установлен на мелкую пахоту, а конный, однокорпусный, прицепленный сзади, — на глубокую. «Вон они за счет чего простои-то наверстывают!..»
— Глубины измеряете? — вскинул голову Горланов. Странно как-то были устроены его рыжие, шальные глаза: то они смотрели прямо, то вдруг один глаз оставался на месте, а другой начинал смотреть куда-то ниже и даже немножко в сторону. Вот и сейчас Михаилу показалось, что одним он смотрит на него, а другим, с усмешкой, — в борозду. — Полный ажур, все как у Аннушки. Двадцать целых и пять десятых…
Руки у Михаила нервно вздрогнули.
— Ты кого обманываешь? — смотря на Горланова в упор и непроизвольно сжимая кулаки, спросил он совсем тихо.
Горланов точно укололся о прищуренный взгляд Михаила, чуть подался назад и перестал усмехаться. Бахвально-развязный тон он сменил на дружески-доверительный:
— Никакого обмана. И агроном и инспектор по качеству меряют глубину последней борозды. Так что не бойтесь, не подведу.
Этот тон окончательно взорвал Михаила. Оставалось еще, чтобы Горланов похлопал его по плечу!
— Да ты… — он не сразу нашел нужные слова, — д-да знаешь ли, кто есть самый высший инспектор? А?.. Ну, что ты на меня уставился-то? Ты сам и есть. Да, да, да! Твоя совесть. Где она у тебя? В выхлопную трубу, что ли, вылетела?
— Уж больно ты, товарищ начальник, строгий, как я погляжу…
— Вот что, — голос Михаила стал сухим, жестким. — Хватит голову морочить себе и людям. Подобру-поздорову — иди из бригады.
— Как иди? Куда?
— А это уж твое личное дело. Иди к директору. В бригаде ты мне не нужен. Так ему и скажи… Ауфвидерзейн!
С последними словами Михаил завел мотор и сел за руль. Машина послушно тронулась с места.
Михаил с трудом угадывал в этой тяжело дышащей, сердитой, словно на кого обиженной, машине свою прежнюю веселую, с легкой походкой «Чертову дюжину».
Еще в первый год работы на тракторе Михаил уверовал, что каждая машина имеет не только свою особую, тракторную душу, но и свой особый голос, свою походку, характер. Вся дальнейшая работа еще больше укрепила в нем эту веру. И теперь, выходя в поле, он еще издали различал густой, добродушный и очень спокойный бас житковского трактора и четкий, звонкий, чуть торопливый голос ихматуллинского. Походка была тоже разной. У Житкова машина ходила одинаково медленно, что с горы, что в гору, как ломовая лошадь; трактор Зинята, как горячий рысак, с горы — игривой иноходью, в гору — шагом.
При сменных проверках к каждой машине Михаил подходил тоже по-разному. У житковского трактора, если что и ослабло — не беда, если нужно, еще смену, а то и две проработает. Ихматуллинский не терпит ни одной слабой гайки, все чтобы точка в точку, и с ослабевшими подшипниками на ночь не пускай — разобьет обязательно.
У «Чертовой дюжины» теперь характер был злой и даже ехидный. Она могла работать целую смену безотказно, без единой остановки и вдруг вставала посреди поля и — ни с места. Ее заводили, она нехотя проезжала десять — двадцать шагов и снова останавливалась. Тракторист бился полчаса, час, в отчаянии бросал ключи, ругался последними словами, а трактор по-прежнему не хотел идти вперед. Потом, постояв некоторое время, как ни в чем не бывало трогался и опять мог часами работать без остановки. Пантюхин такое поведение трактора называл «подсиживанием». Приходя после подобного случая со смены, он так и говорил:
— Опять подсидел меня, чертова ехида. Битый час промурыжил зазря на одной борозде.
А Житков, поглядев со своего участка на соседа, отмечал про себя:
— Ишь ты, выстаивается…
Говорил он это, впрочем, без всякой насмешки или злорадства. Однажды, когда Пантюхин, приняв трактор от Горланова, долго не мог завести его еще прямо на заправочном и, потеряв терпение, со злостью ударил молотком по колесу: «Норов свой показываешь, черт!» — Житков совершенно серьезно посоветовал: «Дай ему отдышаться-то. Разве не видишь, загнал его твой напарник чуть не до полусмерти? А стучать что — дурацкое дело! К машине надо с лаской подходить: не гляди, что она железная — она ласку любит наипаче девки…»
«Неласковые у нее хозяева, — подумал Михаил. — Нет, неласковые. Потому она и такой норовистой, такой упрямой стала».
Михаил объехал первый круг, второй…
Начало темнеть. Из зеленого стал почти черным лесок, наполнились мглой овраги и долины. Затем темнота вышла из леса и оврагов и закрыла собой всю землю, резко отделив ее от ясного, расцвеченного звездами, словно праздничного, неба.
Доехав до конца загона, Михаил остановился, чтобы включить освещение. В темной, густой тишине, где-то на дне ее, добродушно рычал трактор Филиппа Житкова, работавший через овраг, а вверху, то вскипая, то пропадая совсем, звонко гудел ихматуллинский, пахавший за перелеском. Но вот Михаил завел мотор своего трактора, и его гул и свет фар точно отрубили все, осязаемое зрением и слухом, что находилось за пределами машины; уши уже не слышали ничего, кроме гудения мотора, глаза видели только кусочек поля впереди трактора. Весь подзвездный мир теперь делился на две неравные части: одной был человек, машина и клочок земли, другой — все остальное.
Еще с первых лет работы знакомо было Михаилу это ощущение несколько необычного одиночества, ощущение временной отрешенности от мира и вместе с тем особой близости к нему. Оно наполняло сердце тревожным ожиданием чего-то неизвестного, что вот-вот может сбыться. И мечтать можно было о чем захочется — никто не помешает. Потому-то он так и любил ночные смены, темные ночи.
Едешь в такую ночь по полю, и вот уже нет поля, нет никакой борозды, а идет машина по неизвестным, для тебя самого неведомым местам. Днем виден заовражный лесок, соседнее село, изогнутая полоска дороги, лоснящиеся под солнцем поля. Далеко видно, широк простор полей и лугов! И все-таки мир — как бы широк он ни был и как бы далеко ни было видно — замкнут для тебя, отграничен со всех сторон линиями горизонта, и все, что находится там, за этими линиями, кажется очень далеким, живущим своей, отдельной жизнью. Ночью рамки горизонта стираются, исчезают, все, что тебя окружает — поля и села всего района, всей области, реки и города, — подступает совсем близко, и начинает казаться, что за спиной слышно дыхание всей необъятной страны, всего мира. Где-то справа плещется широкая Волга, слева шумит на порогах могучий Днепр, и если хорошенько прислушаться, то сквозь мерный гул трактора услышишь эхо взрывов у горы Могутовой, грохот шагающих экскаваторов под Каховкой… Трудно передаваемо и ни с чем не сравнимо это чувство близости к тебе всего огромного мира.
И еще. Когда работаешь днем и видишь много людей на поле с тобой рядом — это одно. Совсем другое — ночью, когда люди спят, когда спят даже неугомонные птицы. Тогда начинаешь чувствовать себя часовым, оставленным на важном посту, и вся работа твоя от этого становится тоже очень важной и значительной: ее, оказывается, даже нельзя прерывать на ночь, настолько она важна. И от этого яснее ощущаешь стремительное течение самой жизни, ее непрерывность.
А люди пусть отдохнут: ведь среди них столько хороших, трудолюбивых строителей этой жизни. Пусть отдохнут! Их ждет новый большой день с его горестями и радостями, с его удачами и разочарованиями; у каждого из них, как и у всей страны, еще так много больших и малых незавершенных дел впереди!
…Июньская ночь коротка. Только-только за перелеском потухла вечерняя заря, а противоположный край неба уже побледнел, зарозовелся, вспыхнул. Маленькая гряда темно-сиреневых тучек неподвижно застыла чуть в сторонке, будто изумленная столь быстрой и богатой сменой красок. А из-за горизонта, снизу вверх, шли новые и новые цветные волны, будто дорогими шелками выстилали дороги подымающемуся солнцу. Вот показалось и оно, огромное, нестерпимо яркое, и, возвысившись над чертой горизонта, начало по-хозяйски оглядывать землю. Тучки, озолоченные по краям, заиграли, заклубились. И все вокруг заблестело, засветилось, ожило.
Михаил остановил трактор у перелеска, чтобы долить воды и масла. В орешнике птицы радовались наступлению нового дня, где-то вдали дробно стучала по дороге телега, но все звуки были по-утреннему приглушенными, словно не решались еще окончательно расплескать устоявшуюся за ночь тишину.
По опушке, направляясь к трактору, шел Пантюхин.
— Тихо-то как, Федор! А? — еще издали закричал ему Михаил. — Ты только послушай. Красота!
Пантюхин ничего не ответил. Шел он поперечным концом загона, крупно вышагивая, — должно быть, мерил ширину ночной запашки. Вот остановился, вернулся к тому месту, где кончалась пахота его дневной смены, смерил ее и снова начал вышагивать в сторону трактора.
Михаил видел, как все выше и выше поднимались брови Пантюхина; казалось, даже козырек фуражки у него пополз кверху от удивления. Другими глазами, уважительно, почти с восхищением, взглянул он на свою машину, когда подошел поближе.
— Н-да… — неопределенно проговорил Пантюхин, будто с чем-то соглашаясь.
«А ведь у него очень подходящая фамилия: Па-антюхин!» — весело подумал Михаил и, сам не зная чему, рассмеялся.
Над землей вставал новый день.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Выйдя на зеленую ленточку поросшего пыреем и клевером рубежа, за которым начиналось паровое поле, Соня остановилась.
— Ну, ладно, Андрей Петрович, тот участок на Песчаных оврагах, — Соня показала за плечо, — следует прокультивировать. Допустим. А этот? Ты много сорняков здесь видишь? В том-то и дело, что нет. Разве вон вдоль самой Дворянской дороги кое-где пробились. Ба! Да по ней кто-то катит. В тарантасе. Гость какой-то…
— Похоже, Сосницкий, — сказал Андрей.
— Ну, зачастил. Не к добру.
Андрей спросил, как это понимать: не к добру?
— Да так и понимать. Тузов-то загремел. То они с ним, как с писаной торбой, носились: растущий председатель, идущий в гору колхоз. А он вон куда шел, оказывается… Теперь за нашу Татьяну Васильевну берутся. Председатель она, всем известно, хороший, но хороший сама по себе. А товарищ Сосницкий так не любит: председатель должен быть хорошим с его ведома и благодаря его чуткому руководству. Как раньше говорили: вашими молитвами… Ну, вот и ездит, читает свои руководящие молитвы, думает, что без них Татьяна Васильевна не знала бы и когда ей прополку начинать, и когда картошку окучивать.
Соня сдернула съехавшую на плечи косынку, присела на траву и начала собирать в пучок рассыпавшиеся волосы. Волосы у нее были темные, и потому, наверное, кожа на лбу и на висках казалась особенно нежной, матово-белой.
— Ну, про товарища Сосницкого хватит. Давай о деле. Теперь ты убедился, что особой необходимости культивировать это поле нет?
— А план? — напомнил Андрей.
— Но ведь план-то составлялся еще зимой, и кто знал тогда, какое будет лето и сколько раз понадобится культивацию делать — два или три раза?! Про сутки и то говорят: утро вечера мудренее… Какой же расчет колхозу делать три культивации, когда достаточно двух? Поменьше гектаров будет — меньше натуроплаты придет, больше на трудодень останется. Так ведь?
Соня снизу вверх, с прищуром посмотрела на Андрея и чуть заметно улыбнулась. Она все еще сидела в траве, опершись на руку. Кофточка-безрукавка с широким вырезом на груди оставляла открытыми полные загорелые руки и тлею.
«И чего она улыбается?» — сердито подумал Андрей, стараясь не глядеть на шею и грудь Сони.
— Ну, а если в ущерб делу это «поменьше»? В ущерб урожаю?
— Работайте получше, и никакого ущерба не будет, — не задумываясь, ответила Соня и встала. — А повадку вам давать, как вон в твоей Березовке, это действительно ущерб, да еще двойной: и колхозу и государству.
Андрей сказал, что не слышал, чтобы новоберезовская бригада работала плохо.
— Про этот год не скажу. А по те годы всегда так получалось, что натуроплаты МТС артель сдает больше нашего, а урожай намного хуже. Хоть бы одинаково с нами та натуроплата шла — так нет, больше. А почему так? Да потому, что тракторист, к примеру, культивирует поле и думает только, как бы побольше гектаров нагнать. Хорошо прокультивировал — ладно, плохо — тоже не беда, а, пожалуй, даже еще выгода: скорей сорняками зарастет, глядишь, он по нему в самом скором времени еще разок прокатится, еще гектары прибавятся… Говорят, на днях березовский бригадир выгнал одного такого ухаря, мастера гектары нагонять. Правильно, конечно. Плохо только, что «мастер» этот два года в передовиках ходил, районка на первой странице портреты его печатала. Только и звону было: Горланов, Горланов. Тьфу!
Андрей, конечно, слышал про случай в березовской бригаде. Но ему было известно и другое: Горланов пришел к главному инженеру, и тот отослал его снова в бригаду, а по телефону отругал Брагина за самоуправство. Так что пока все это оставалось неясным.
Андрей с Соней миновали ржаное поле и подошли к неглубокому длинному оврагу, почти упиравшемуся вершиной в магистральный оросительный канал.
— А вот с тем участком пшеницы — видишь, на нем сейчас девчата мои работают, — Соня показала на поле, начинающееся сразу за оврагом, — прямо не знаю, что и делать. Сортовая она, семенная, и Оля большие виды на нее имела. А я, как следует не подумав, посеяла ее не на поливном поле, а здесь. Да и кто знал, что лето так сложится… Словом, теперь на вас, механизаторов, вся надежда.
— Да что я, бог, что ли? — серьезно спросил Андрей.
— Не в смысле воды, — заторопилась Соня. — То поле повыше, и туда вода сама не пойдет. Но можно же что-нибудь придумать.
— Легко сказать! — усмехнулся Андрей.
Но просила Соня ласково, почти нежно, и Андрей не нашел в себе силы отказать ей.
— Ладно, подумаем. Обещать, конечно, не могу, а подумать — подумаем.
Они перешли овраг с пересохшим, растрескавшимся от жары днищем.
Девушки двигались краем поля, вдоль оврага. Отвечая на приветствие, они, точно по команде, разогнули спины и с охапками наполотых сорняков вышли на полевую кромку. Все были повязаны платками по самые глаза, и это делало их удивительно похожими.
Соня сказала про свой разговор с Андреем, и девчата дружно загалдели. Андрей шутливо заткнул уши пальцами.
Успокоившись, девушки продолжали разговор уже не в один голос, а по очереди.
— А то видите, что получается, — сказала одна рослая, с синими строгими глазами. — Весь труд наш прахом идет. Видите, какая хиленькая пшеничка тянется, слезы, а не пшеница. А ведь сортовая.
Андрей присел на корточки и помял пальцами светло-зеленый бутончик, из которого только-только начинал выбиваться колосок. Был он тощий, земля у корня стебелька даже на вид была твердой.
— А сорняки, паразиты, прут как ни в чем не бывало, — выдергивая пропущенную при по́лке осотину, проговорила другая — курносая, с ямочкой на подбородке. — Поглядите-ка, какой сочный! Жара ни жара, ему хоть бы что, ему все нипочем.
— И полоть-то сейчас не время, — вздыхая, сказала Соня. — Хлеб уж такой, что иди по нему да поглядывай, куда ступить, а то сомнешь и не поправишь. И не полоть нельзя. Влаги и так недостача, а такая вот дрянь остальную высасывает, последнее у хлеба отнимает.
Обогнув вершину оврага, Андрей с Соней очутились опять на том рубеже, с которого видны были Песчаные овраги.
— Ну, теперь мы обо всем договорились. Спасибо тебе, Андрей Петрович, и до свидания.
— За что спасибо-то? — не понял Андрей.
— Вот за это, — Соня кивнула на канал и на пшеничное поле.
— Так я ж еще… Может, и не выйдет ничего.
— Обещал — значит, выйдет. — Соня лукаво прищурилась. — Отступать уже поздно, девчата засмеют… Батюшки, кого-то нелегкая несет! На борзом коне.
От Песчаных оврагов, прямо по рубежу, трусил верховой. Приглядевшись, Андрей без труда узнал в «борзом коне» пегую бригадную кобыленку, на которой подвозили воду к тракторам, а во всаднике — Женю Мошкина.
— Только его и не хватало. — Соня с напускным равнодушием фыркнула.
— Товарищ бригадир!.. Андрей Петрович!.. — еще не доезжая, с дороги, закричал Женя. — На последнем заезде. Стал и ни… ни…
Узнав Соню, Мошкин смешался и начал усиленно дергать поводьями, будто Пегашка куда-то рвалась и ее никак нельзя было остановить. На какое-то время всем троим стало неловко.
Но вот Соня посмотрела на одного тракториста, на второго, и Андрей заметил, как в глазах ее играет этакий горделивый огонек, будто Соня хотела сказать своим взглядом: да, вот оба вы в моей власти…
— Механиза-атор! — протянула она насмешливо. — А без бригадира, как без мамы: «ни… ни…»!
Закусив губу, Женя смотрел куда-то за дорогу, словно увидел там что-то интересное.
Андрею не понравился торжествующий взгляд Сони. Ему захотелось оборвать ее, сказать что-то резкое, может быть, даже грубое.
— Между прочим, Женя — отличный механизатор. И если бы кое-кто знал свои поля, как Женя трактор, что-то там придумывать нужда бы не приспела… А покеда, как любил говорить мой друг с-пид Полтавы, до побачення!
— Что ж, до свидания, — тоже холодно ответила Соня и, резко повернувшись, быстро пошла в другую сторону.
2
Проезжая насыпью плотины, шофер слегка притормозил, собираясь свернуть в Новую Березовку.
Виктор Давыдович дотронулся до его руки и коротко бросил:
— Дальше. В Ключевское.
Заезжать в Березовку особенной нужды не было. Гаранин с Андриановым настояли на своем. Тузова отстранили. Что ж! Только пусть они не думают, что этот паренек со школьной скамьи уже и готовый председатель. Нет, его еще долго надо за ручку вести. И раз уж они такие ретивые, пусть сами этим и занимаются, наставляют на путь истинный. В Новую Березовку Виктор Давыдович заглядывать время от времени, конечно, будет, но уже не так часто, как раньше.
С пригорка показалось Ключевское.
Любил Виктор Давыдович бывать в ключевском колхозе! Во всем здесь чувствовалась крепкая, расчетливая рука председателя, все винтики и колесики сложного артельного механизма действовали безотказно. Виктор Давыдович в этом колхозе отдыхал душой. Здесь он воочию видел, какого прекрасного результата можно достигнуть, если умело направлять работу председателя и если тот, в свою очередь, во всем слушается тех, кто его направляет…
Татьяны Васильевны в правлении не оказалось. В ее кабинете сидели Иван Костин и Николай Илларионович. Виктору Давыдовичу приходилось слышать, что Костин частенько наезжает в Ключевское учиться у Татьяны Васильевны ведению хозяйства. Видимо, сегодня был один из таких визитов.
— Зря брыкаетесь, молодой человек, — говорил Николай Илларионович, по-хозяйски развалившись в председательском кресло. — Опыт, практика — это такие вещи, которые нельзя вычитать ни из одной, даже самой умной, самой наиновейшей книжки… Вы так рассудили: хозяин я молодой, неумелый — дай подучусь у более знающего; что же касается агрономии, этому учиться мне уже нечего: я все знаю, меня всему научили. Глубокое заблуждение: теоретически-то вы агроном, а практически — практически все тот же самый колхозник, каким и попали в свою школу…
Вычистив из мундштука остатки докуренной сигареты и уже обращаясь к Виктору Давыдовичу, Крутинский пояснил:
— Считает, видишь ли, что агротехника, которую мы применяли на поливных землях, была неправильной.
— Да, считаю, — подтвердил Костин.
Новый березовский председатель был так молод, что Виктор Давыдович и до сих пор не мог свыкнуться с мыслью, что этому коренастому, светловолосому мальчишке с озорноватыми карими глазами доверено вести сложное, а к тому же и запущенное артельное хозяйство.
— Что ж, может быть, — тонко улыбнувшись, сказал Виктор Давыдович. — Однако я пока что не нахожу почвы для серьезного разговора на эту тему. Голословное заявление, как вы и сами понимаете, — он повернулся к Костину, — еще не доказательство. Ведь наше дело не алгебра, где теоремы доказываются с помощью одних логических построений. У нас всякие вещи требуют обязательного практического доказательства.
— Именно практического, — повторил Николай Илларионович. — Теоретизировать — самое легкое.
— Поживем — увидим.
— Увидим, — не сдаваясь, с некоторой угрозой в голосе ответил Костин.
Узнав, по какому делу Виктор Давыдович приехал в Ключевское, Крутинский с готовностью вызвался проводив его на поля колхоза. Татьяна Васильевна была на фермах, и ее решили не дожидаться.
Из правления вышли все вместе. Костин свернул в переулок, к фермам, Виктор Давыдович с Крутинским пошли в поля.
Слева по взгорью темнела широкая полоса чистого пара, с правой стороны дороги поля были сплошь зелеными. Была пора, когда посеянное уже взошло, но до спелости еще далеко. Правда, кое-где на возвышенных местах озимые хлеба уже тронула желтизна, но это не была желтизна созревания, это преждевременно блекли обожженные солнцем, еще не набравшие силу растения.
Всходы на поливных участках, как и следовало ожидать, ничем не отличались от соседних. Виктор Давыдович хотел лишь самолично убедиться в этом, чтобы потом, осенью, можно было сравнить урожайность.
— Надо отдать должное, — сказал Николай Илларионович, — обработали трактористы этот участок старательно, и это, конечно, может дать некоторый эффект. Однако в орошении дело решает не столь обработка, сколь вода. Начнутся поливы, и все пойдет насмарку. Понимающих людей мало — в одном месте не дольют, в другом перельют сверх всякой меры… А вон то поле, за оврагом… да, да, на котором сейчас прополка идет… Так вот, с ним вообще просчет вышел: бригадир его в поливное зачислил, а вода туда, оказывается, идти не хочет. Смех и горе!
Чрезмерная словоохотливость Николая Илларионовича всегда несколько утомляла, но сегодня Виктор Давыдович слушал его с интересом.
— И тем не менее, однако ж, как-то недавно слышу от Татьяны Васильевны: а что, Николай Илларионович, вдруг выйдет дело с поливным полем? Какой просчет для колхоза тогда окажется из-за того, что мало под полив пустили?.. Чуете, чем это пахнет?
Последние слова Крутинского не на шутку встревожили Виктора Давыдовича. Если Татьяна Васильевна начнет так рассуждать в одном да в другом, ни к чему хорошему это не приведет.
По возвращении в Ключевское он долго, обстоятельно разговаривал с Татьяной Васильевной. Она не спорила, ни в чем не возражала. Но Виктор Давыдович достаточно хорошо знал Орешину, чтобы по отдельным ответам ее, может быть, по самому тону разговора понять, что это не так, что в чем-то убеждения Татьяны Васильевны действительно остались прежними, а в чем-то она поет с чужого голоса.
На этот раз поездка в Ключевское только расстроила Виктора Давыдовича.
3
Трактор Жени стоял на узенькой полоске перелога, неправильными зигзагами тянувшегося вдоль Песчаных оврагов. Это был последний заезд, к вечеру машина должна была стать на ремонт.
Никаких поломок в тракторе Андрей не нашел. Просто ему требовался тот самый ремонт, на который его не успели поставить. Если груздевский и поздняковский тракторы были сравнительно новыми, то этот «колесник», как называли теперь трактористы колесные машины довоенного выпуска, уже давно отработал свой срок и не терпел промедления с заменой износившихся частей.
С бригадного стана, разбитого в одной из овражных вершин, подошел Гаранин.
— Давно все хочу спросить тебя, Андрей, про восьмую машину. Это ведь ей, помнится, на зимнем ремонте поршневую группу менять не стали?
Андрей ответил, что Илья Ефимович на тех поршнях всю зиму возил навоз в здешнем колхозе и только перед самым севом части были заменены.
— А завтра, значит, снова собираешься менять?
— Вообще-то машина хоть до самой уборки проходить может, но частей в бригаде сейчас хватает…
Главный инженер после партийного собрания вдруг необыкновенно подобрел к бригаде и не только ни в чем не отказывал, но вчера даже сам привез части, которых Андрей и не просил. «Давай будем тянуть бригаду на передовую в МТС», — сказал он при этом.
— А не думаешь, что главный злую шутку с тобой сыграть хочет? — неожиданно спросил Гаранин.
Оставив Женю у трактора, они пошли овражным склоном к вершине.
— Ты же зимой ратовал, чтобы части расходовать экономно. А теперь Оданец может сказать кому угодно: речи-то товарищ Галышев говорил умные, а как дошло до дела…
Теперь Андрей понял, к чему ведет Гаранин, и ему стало неловко, будто его уличили в чем-то нехорошем.
— Пусть попробует так сказать… Я ему…
— А ничего ты ему, — спокойно и безжалостно отрезал Гаранин. — Даже пикнуть не посмеешь — рот-то он тебе подшипниками заткнул.
Андрей молчал, обескураженный.
— Ты говоришь, на Женином тракторе до осени дотянуть будет нелегко, — продолжал Гаранин. — А у Брагина все машины такие…
Они дошли до бригадного стана.
— Ну, мне в Березовку надо. Пока.
— А может, ребят соберем и вы с ними…
— Э, нет, — усмехнулся Гаранин. — Зачем же мне в ваши, можно сказать, личные дела лезть? Сами, сами разберетесь, не маленькие!
Продолжая усмехаться, словно он был необыкновенно доволен тем, что ему удалось разозлить Андрея, Гаранин зашагал к дороге на Березовку.
Шел он не спеша, гуляючи. Вот постоял у ржаного поля, а вот наклонился и сорвал какую-то травинку, рассматривает ее. Похоже, секретарь не очень-то торопился в эту самую Березовку…
К вечеру на полевой стан собралась вся бригада.
Поужинав, трактористы расселись на траве и, как водится, закурили. Илья Ефимович не спеша повесил на кончик носа, почти над самыми усами, роговые очки и развернул газету. Читал он всю газету от начала до конца с неослабным вниманием, а переходя на четвертую страницу, начинал хмуриться и поводить шишковатым носом, точно настороженно принюхивался: а чем на сегодня пахнет международная обстановка?
— Ну, что там слышно новенького внутри и вне? — ковыряя длинной щепкой в зубах, спросил Поздняков.
— Новостей много… В Мариуполе, пишут, еще одну домну задули, около Сахалина кита ухлопали… А здесь вот один токарь к экономии зовет…
— Ну, это так. А нет ли чего, чтобы конкретно нас касаемо?
— Про тебя лично, Тихон Родионыч, международная пресса пока еще молчит. Чернила разводят, — серьезно вставил Лохов.
— А может, предложение токаря и нас каким-нибудь боком касается? — глядя на белесые угли потухающего костра, спросил Андрей. — А на твой взгляд, Илья Ефимович?
— При данной ситуации целиком и полностью. — Груздев подвинул повыше очки.
— Ну да, только на наших утюгах и экономить! — Поздняков бросил щепку в костер и сплюнул. — Да и не хватит ли ремень подтягивать, чай, не послевоенные годы, когда волей-неволей экономить приходилось. Словом, если начальство не урезает нас в частях, я бы от них не отказывался.
Поздняков будто читал мысли Андрея.
— Вот об этом я как раз и хотел с вами поговорить. — Андрей поворошил угли костра, прикурил. — Начальство нас не урезает в частях — это верно. Только если по-честному, в соседней, седьмой бригаде эти части нужней, там машины постарей наших… Так вот я и думал: без чего трактора наши работать не могут — взять. Остальные же части, поскольку в МТС с ними не больно густо, отдать в брагинскую бригаду.
— Сказать по-другому — отдать дяде.
— Нет, почему же дяде? Они нам товарищи, одной семьи с нами…
— Уж больно много родни набирается, — серьезно проговорил Поздняков. — Не велика ли семейка-то?
— Да, семья наша большая, — тоже серьезно ответил Андрей, — но ничего, в самый раз.
Треснул, как выстрелил, уголь. Рядом, в овраге, гулко всхрапывая, щипала траву Пегашка.
— Это мое такое решение. Но сами знаете, что оно еще не окончательное… Что скажете вы? Как рассудите, так и будет.
Илья Ефимович мельком взглянул на жену и проговорил:
— Мы с Дашей — за.
— Дело ясное, — поддержал Груздева Лохов.
— А ты, Женя? Твое слово здесь самое веское, у тебя машина ненамного моложе брагинских.
— Да ведь что я… Я комсомолец, Андрей Петрович, — тихо ответил Мошкин.
— А если я беспартийный, так, значит, в поле обсевок? Так, что ли, по-твоему, выходит? — неожиданно возмутился Поздняков, вытащил рывком кисет и, сердито сопя, начал закуривать. Немного помолчал, затем неизвестно кому погрозил: — Цыплят по осени считают…
Костер потух окончательно. На потемневшем небе густо высыпали крупные звезды. Над землею сгущалась сумеречная синева июньской ночи.
На другой день в бригаду приехал директор МТС.
Андрей сидел в вагончике и наново переписывал ведомость на запасные части. С некоторыми частями расставаться не хотелось, рука сама тянулась к перу, чтобы занести их и в новый список.
— Говоришь, стал на ремонт? Так, так… Дело… — Андрианов прошелся по вагончику, сел за столик напротив. — Ну, с запасными частями у тебя, надо думать, все в порядке? Вижу, вижу, инженер к тебе благоволит! — Андрианов коротко хохотнул, и густые брови его подпрыгнули.
«Эх, не порвать ли этот новый список? Ведь части уже в бригаде…» Андрей схватил только что заполненный лист и сунул его на край столика, где сидел Андрианов:
— Подпишите, Алексей Иванович.
— Что, накладную? Дополнительно? — Пучки бровей сошлись над переносьем, и глаза совсем пропали под ними. — Ну нет, дорогой товарищ Галышев, надо и совесть иметь!..
Андрей рассказал о вчерашнем разговоре. Андрианов в упор посмотрел на него:
— Это ты как, по-честному или великодушествуешь, широкий жест делаешь?.. Трактористы как?.. Ну-ну… Прости, погорячился. — Андрианов насупил мохнатые брови и отвернулся к вагонному оконцу.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
С самого утра день был жарким. Ро́сы не выпадали, и, как только подымалось солнце, земля и все на ней, едва остынув за ночь, снова накалялось.
Время от времени на небе появлялись редкие белые облачка. Но они были так прозрачны, так немощны, что дождя из них никто и не ждал. Только один дождь выпал с тех пор, как посеяны яровые, а теперь барометр показывал «великую сушь» без малейших колебаний.
Жара донимала людей, скотину, собак — все живое. От нее некуда было деться. В тени почти так же горячо и душно, как на солнце.
Лишь на плотине, у воды, дышалось легче, свободнее. Здесь и воздух был не таким раскаленным, и солнце припекало будто мягче. Солнце здесь как бы утрачивало свою неотразимую силу: оно поджигало с разных концов поверхность пруда, а вода горела неживым белым огнем и никак не сгорала.
Когда Никита Думчев поднял выпускной щит головного шлюза, вода обрадованно устремилась в бетонный коридор, будто уж давно в тягость ей было праздно качаться в запруде и сверкать на солнце. Вода бурлила и шумно свистела под щитом. И все дальше и дальше в глубину пруда передавалось волнение от шлюзового прохода, через который вода торопилась на поля.
Никита еще и раз и два повернул винт подъемника и, спустившись с насыпи, пошел вдоль магистрального канала, следом за водой.
Вода двигалась по каналу толчками, сама подгоняя себя, шипела и слегка пузырилась, словно сухое, растрескавшееся днище было раскаленным, как бывает раскаленным железо.
Никита шел медленно, и вода скоро обогнала его, все выше и выше заполняя канал. Теперь она двигалась не ползком, не ощупью, как вначале, а широко, свободно, в полный рост.
Отводный канал первого поля. Отводный второго. Щитки шлюзов, пропускающих воду из магистрального канала, плотно перекрыты, и она пошла дальше, к третьему полю: полив начнется с него.
Третье поле граничит с земельными угодьями староберезовского колхоза. Вот где-то недалеко отсюда, на стыке полей, он, Никита, любовался еще прошлой осенью на озими. Озими были куда как хороши! И ровные, дружные и густые, сочные. Не озими — загляденье! «Хороши-то хороши, — сказал тогда себе Никита, — да какими будут хлеба?»
Хлеба по весне подымались тоже ровные, высокие и густые. Сейчас же выглядели они какими-то бесцветными, поблекшими. С некоторых стеблей свисали увядшие листочки, кое-где начала появляться желтизна. Хлеба останавливались в своем росте, у них наступала преждевременная старость.
Сколько раз уж на глазах у Никиты стихийная, неподвластная ему сила выжигала хлеба. Сколько раз!..
У хлебов наступала важная для урожая пора колошения. Если сейчас не хватит им влаги и питания, выметнутся слабые мелкие колоски, и, как бы потом ни налился колос, все равно он будет мелким, неполновесным, все равно зерен в нем будет только вполовину.
Никита все стоял и глядел то на полноводный, прохладно поблескивающий канал, то на поля, по которым он пролегал.
«Ничего, будут хорошими и хлеба».
Ольга старалась не показывать своего нетерпения, но это ей плохо удавалось. Хотелось поскорее увидеть воду на поле, хотелось видеть, как она сплошным настилом пойдет по поливным полосам и будет вдосталь, до черноты пропитывать иссохшую землю.
Оделась Ольга, как на праздник, во все белое — белую с коротким рукавом блузку и тоже белую полотняную юбку, хотя и знала, конечно, что полив не такая уж чистая, легкая работа.
Все поливщики уже приготовились к встрече воды. Как только она наполнит распределительный канал и из него пойдет в картовые оросители, начнется полив. Поливщики разбрелись попарно: так работать удобнее, и каждая пара заняла свою карту. Варвара Садовникова вместе с Настасьей Фокиной стали в первую пару, Ольга с звеньевой Шурой Воронковой — во вторую.
Вот, наконец, и вода! Она шла по травянистому каналу с тихим шелестом, чуть мутноватая, но такая яркая и живая, что все окружающее по сравнению с нею стало выглядеть еще бесцветнее, еще мертвенней.
— Ты бы, Оля, для начала посмотрела на нашу работу, — сказала Варвара. — А то по книжкам-то одно, а на деле может и не получиться как должно.
Не надо было долго наблюдать за Варварой, чтобы убедиться, что знает она несложную и в то же время очень трудную работу поливальщика получше самой Ольги. Движения Варвары были неторопливы, медлительны, но всегда определенны, точно рассчитаны. А расчетливость, умение быстро оценивать обстановку, которая ежеминутно меняется на участке, и принимать скорое и правильное решение — первейшее качество поливальщика. Этому Ольгу учили в техникуме, в этом она убедилась сама во время летней практики, когда работала на поливе.
Под стать Варваре работала и Настасья. Варвара шла по участку смело и широко, делая главное — направляя воду по нужному пути; Настасья доделывала остальное: следила за кромками поливной борозды, если надо, подсыпала их; смотрела, где надо придержать воду, а где ускорить ее движение. Может быть, и наибольший эффект в работе давала именно вот эта хорошая слаженность: каждый делал свое и в то же время общее дело.
Варвара с Настасьей были старыми, опытными поливальщиками. Но таких в бригаде было немного — большинство, как и Шура Воронкова, работали на поливе по первому или второму году. Поэтому кроме первой, «показательной» пары остальные были разбиты так, чтобы каждый молодой поливальщик имел по возможности своим напарником более опытного.
Ольга с Шурой, курносой, с озорными карими глазами девушкой, прошли краем оросителя на свой участок.
Вода в оросителе шла уже почти наравне с бортами.
Ольга предупредительно подняла руку:
— Пускаю! — и открыла поливную борозду.
Стремительным ручьем вода хлынула на участок. Земля впитывала ее жадно, так жадно, что вода пузырилась: воздух не успевал уступать ей дорогу в порах земли. Края поливной борозды все больше и шире темнели. Разлившись на всю ширину полосы, вода замедлила свое движение, будто споткнулась. Иссохшая земля целиком поглотила первую волну, не пропустив и на два шага. Лишь идущие следом и подпираемые друг другом накаты начали прямое, непрерывное продвижение по участку.
— Пошла! — полушепотом проговорила Шура, словно боялась спугнуть или нарушить это несколько торжественное движение воды по полю. — Пошла!
Вода пробиралась между рядами пшеницы по-прежнему медленно, как бы ощупью, но шла теперь уже сплошным настилом. Пшеница вздрогнула, точно удивилась нежданной радости, и благодарно закланялась.
Прогнав до конца воду на первых полосах, открыли новые. Напор воды из канала нарастал, и шла она по участку все смелее и гуще.
Ольга мельком оглянулась вокруг. Все поле блестело большими и малыми озерами… Нет, не зря она оделась по-праздничному!..
— Как там у вас? — крикнула со своего участка Варвара, и в голосе ее звучала радость. Может, и крикнула она только для того, чтобы как-то излить эту радость.
— Хорошо, тетя Варя! — таким же радостным, срывающимся от волнения голосом ответила Шура. — Идет!
— А у вас? — кричал кто-то на соседнем участке.
И высокий счастливый голос отвечал:
— Хорошо!
Шура засучила повыше рукава кофточки. Работала она горячо, старательно, но неумело. Вот в одном месте полосы осталась небольшая посушка. Видимо, там возвышение и вода никак не хочет заходить на него, ибо воду, как говорят поливальщики, не обманешь. Шура старается во что бы то ни стало затопить этот малюсенький бугорок, а пока с ним возится, напором воды, который она создала около бугорка, в стороне от него рвет поливной валик, и вода идет совсем не туда, куда хочет поливальщик, а ничего хуже и опаснее этого на поливе нет.
— Оглянись, Шура! — кричит ей Ольга со своей полосы. — Плюнь ты на этот бугорок — он и сам напитается!
Шура оглядывается, энергично, старательно подкапывает нарушенный валик, но опять же делает это так усердно, так увлеченно, что забывает вовремя перекрыть выводную борозду и направить воду в новую поливную полосу. Ольге приходится смотреть и за своей полосой, и за работой Шуры. Это очень трудно: Ольга и сама не ахти какой опытный поливальщик.
На поле становилось все шумнее. То в одном, то в другом конце его слышалось предостерегающее: «Ставь перемычку!», «Берегись, обойдет!». Басовитый мужской голос досадливо вопрошал: «Да где ж он, будь неладен, этот щиток?» Грудной девичий что-то со смехом отвечал, а в этот разговор уже ввязывался кто-то третий… Чувство артельности не покидало людей даже и при такой разобщенной работе.
Солнце поднялось в зенит, но жара теперь как-то не ощущалась. На поле ширились и ширились светлые, залитые водой и густо-черные, уже впитавшие ее полосы. От земли шла прохлада и смягчала, обезвреживала жгучую силу солнца.
Ольга воткнула лопату поперек борозды, выпрямилась, отерла мокрый лоб. И вдруг почувствовала, что и рука поднимается с трудом, и шее стало больно, и спина не на шутку ноет.
Сначала работа была в радость, в удовольствие. Ольга с Шурой пропускали воду на участок с таким же азартом и наслаждением, с каким в детстве пропружали первые весенние ручьи. Работа и веселая и увлекательная — ради нее все забываешь! И уж потом только вдруг замечаешь, что и ноги у тебя промочены, коченеть начали, и есть хочешь так, что мутит от голода.
Так же сразу пришла усталость и к Ольге. Совсем еще недавно и лопата и деревянный щиток, которыми она работала, казались такими легкими, такими послушными! Но вот, словно намокли они в воде, отяжелели, и большого труда стоит подсыпать перемычку, нагнуться, переставить щиток. И спина ноет, и в висках стучит, а ладони невыносимо горят, точно черенок у лопаты раскаленный. Хорошо бы минутку передохнуть, но вода не ждет, за ней смотри и смотри! И смотри не только за своей полосой, но еще и за Шуриной. «Наверное, и устала я так сильно вот от этого постоянного напряжения, — думает Ольга. — А может быть, просто с непривычки. Шура устала не меньше меня…»
У Шуры рассыпались волосы и лезут на глаза, мешают работать. Она отбрасывает мокрые пряди со лба, заправляет под платок, но они опять и опять вылезают оттуда.
«Хорошо, что я свои в косички заплела!»
Наконец Шура разозлилась на непослушные волосы, сняла платок и заново крепко повязала его.
Ольга перевела глаза с цветастого Шуриного платочка на пшеницу и ахнула. Вода обошла их, прорвав кромку выводной борозды у ближних к оросителю полос. Еще немного — и они с Шурой окажутся отрезанными, и тогда придется ходить по колени в грязи и затаптывать хлеб.
— Куда ты смотришь, Шурка? — прерывающимся голосом крикнула Ольга. — Разве так можно?
Шура оглянулась, вскрикнула и кинулась к месту прорыва, но, заметив, что в руках у нее ничего нет, вернулась, взяла лопату. За это время вода успела расширить прорыв и разливалась все дальше и сильнее.
Ольга наскоро перекрыла перемычкой воду у своей полосы и со щитком и лопатой кинулась на помощь Шуре.
Шура топталась на месте, не зная, что предпринять. Она кинула одну лопату земли, другую, но вода сорвала и размыла эту преграду. Шура перепрыгнула через горловину на другую сторону, опять потопталась и вдруг решительно легла поперек водяного потока.
— Окапывай! — сказала она подбежавшей Ольге. — Скорее!
Ольга замахала на нее руками: что ты? что ты? — засмеялась, — ну, разве не смешно ложиться поперек борозды! — но, видя, что вода не унимается, начинает перехлестывать через Шурины ноги, послушалась и стала забрасывать босые ступни и загорелые икры Шуры мокрой землей.
— Еще сюда немного кинь! — командовала Шура. — Сюда!
Шура лежала на боку, в позе человека, который отдыхает, подперев рукой голову. Вода пыталась пробить себе дорогу у согнутого локтя Шуры, и Ольге пришлось и туда кинуть лопату-другую.
Остановив таким необычным способом опасный поток, Ольга побежала на канал, чтобы опустить ближайший заградительный щит и временно прекратить доступ воды. Когда она вернулась, Шура стояла, стряхивая мокрую землю, и задорно, немножко плутовато улыбалась. Лицо у нее было грязное, в земле, но очень довольное.
— Это называется лечь костьми, — тоже улыбаясь, сказала Ольга. — Ну, иди, мойся, а то вдруг женихи увидят — засмеют.
— Да я ведь и не больно грязная, — Шура еще раз весело оглядела себя. — А что мокрая, так это даже очень хорошо, не жарко.
Ольга стала заделывать прорванную кромку борозды, а Шура сняла кофточку, окунула ее в ороситель и выжала. Юбку она замыла прямо на себе.
Незадачливый случай этот как бы внес некоторую разрядку, и работа после него пошла легче, веселей. До самого вечера поливали без помех и остановок. И кофточка и юбка у Шуры успели высохнуть, так что почти никаких следов не осталось.
И все же, когда поливальщики, с окончанием работы, собрались у отводного канала, случай с «окапыванием» Шуры каким-то образом стал известным. Сначала на Шуру просто смотрели этак внимательно, потом кто-то посочувствовал, кто-то усмехнулся. Впрочем, острая на язык Шура перед насмешниками в долгу не оставалась.
— А все-таки, дочка, это не дело — давать воде обходить себя, — серьезно сказал Никита Думчев, сидевший на травянистом борту канала, недалеко от Ольги.
— Так ведь, дяденька Никита, за ней разве усмотришь? — воскликнула Шура. — Ведь она вон какая капризная: то ее на малюсенький бугорок не взгонишь, то она сама куда не надо хлынет, и тогда никакого удержу ей нет.
— А как бы ты хотела? — негромко спросил Никита. — Вода — это тебе не что-нибудь, с ней надо уважительно. Воду, дочка, надо чувствовать. Хороший поливальщик, он как? Он ноги не замочит, идет посуху и ведет воду за собой. А чтобы шла она, куда ему надобно, а не куда ей хочется, у него глаз должен быть верным, без ошибки: тут загодя я перемычку поставлю, там кромку наращу, в этом месте прогоню побыстрее, а в том пущу потише. Тогда и вода будет тебе послухмянна, тогда и ложиться поперек борозды нужда не приспеет.
Белая праздничная блузка Ольги была вся забрызгана. Ольга оттерла несколько пятен высохшей грязи, но их было так много, что пришлось бросить это занятие. Она провела рукой по щеке: лицо тоже было в засохших брызгах. И все поливальщики были грязными, усталыми, но все были довольны этим большим трудным днем.
— Что, дочка, натрудила? — заметив, что Ольга рассматривает кровяные мозоли на ладони, спросил Никита.
— С непривычки, — смущенно ответила Ольга и прикрыла ладонь другой рукою.
— Плохая та привычка, лопатой день-деньской ворочать, — тихо, в раздумье проговорил Никита, и не понять было — себе он это сказал или Ольге.
— Вот что я тебя спрошу, дочка, — помолчав, опять заговорил Никита. — Доколе мы будем матушкой-лопатой полив делать? А?
Ольга не ожидала этого вопроса и растерялась.
— Кем вспахано это поле? — продолжал Никита. — Машиной. Кем посеяно? Машиной. Кто убирать его будет? Опять же не серп, а умнейшая машина — комбайн. Даже готовый хлеб с тока и то на машине поедет. Кругом — машины! А коснись ты до полива: чем деды и прадеды наши работали, тем и мы действуем. Ну им, нашим дедам, простительно, у них о машинах и понятия не было. А нам-то, нам-то каково? Какая нам честь в таком большом, в таком важном, можно сказать святом, деле матушкой-лопатой обходиться! А? Да где же наши техники и инженеры, куда они смотрят, о чем они думают?
Никита поперхнулся, сердито махнул рукой и трудно закашлялся. Лицо у него стало темным, в груди что-то хрипело и клокотало.
Ольга молчала, не зная, что ответить.
А Никита, будто зная заранее, что прямой и сердитый вопрос его все равно останется без ответа, и не стал долго дожидаться. Опираясь на палку, он поднялся с травы и проговорил:
— Ну, что ж, пора и домой. Завтра — новый день. Надо отдохнуть.
Вскинув лопаты на плечи, поливальщики пошли в село.
Слева по тракту пылила машина. Вдогонку ей из-за пригорка, с уже зажженными фарами, выскочила вторая. Где-то в селе трещал, захлебываясь, мотоцикл. Справа от магистрального канала, вдоль которого шли поливальщики, зычно, по-хозяйски уверенно гудели тракторы. Машинный гул волнами ходил над полями, наполняя их, как музыкой, подчиняя себе все остальные звуки.
2
Михаил решил дождаться Ольгу в проулке, которым она так или иначе должна была пройти с поля к дому Варвары Садовниковой. Сама Варвара, наверное, задержится, потому что будет заходить в правление за нарядом на завтрашний день.
Он сел на поваленную ветром дуплистую ветлу и, вытянув больную ногу, закурил.
Солнце давно ушло за горизонт, начало темнеть, а воздух все еще был сух, горяч. Нежный картофельный цвет на огородах, привядший, сморщившийся за день, все еще боялся расправиться, раскрыться. Листья на пробившихся сквозь старенький плетень кустах смородины тоже висели, как неживые. Природа, казалось, все еще не могла очнуться от дремотного дневного состояния.
На огородах раздался заливистый мальчишеский свист. Тотчас же с другой стороны проулка послышался ответный, где-то залаяла собака. Каждый звук был четким чуть не до осязания.
Прошли две женщины с лопатами через плечо.
— …А мой-то такой неслух, такой неслух растет — прямо беда, — говорила одна низким, усталым голосом. — Безотцовщина! Сама-то с утра до ночи в поле, а бабка старая, что хочет он с ней, то и делает…
Михаил бросил недокуренную папиросу и долго глядел, как в траве медленно потухал красноватый ее огонек.
На дороге раздались легкие шаги, и, еще не глядя, по одной этой поступи, Михаил узнал Ольгу. Он поднялся с ветлы и шагнул на дорогу.
Ольга вскрикнула, на шаг отступила, но, видимо, тоже сразу угадала, кто перед ней.
— Ой, напугал! Как из-под земли взялся…
— Сядем посидим, Оля, — сказал Михаил, кивая на ветлу.
Ольга промолчала. Михаил первым сел на старое место. Ольга остановилась подле, не решаясь садиться. Михаил посмотрел на ее белую юбку и, сбросив с плеч пиджак, постлал его.
— Садись.
Ольга села.
Михаил нарочно положил пиджак на некотором расстоянии от себя, но Ольга не обратила на это внимания и села почти совсем рядом.
— Поливали? — спросил Михаил, хотя это и так было ему хорошо известно.
— Поливали, — ответила Ольга и положила натруженные руки на колени.
Так же, без особой надобности, Михаил спросил, как показали себя поливные валики, не ругали ли колхозники трактористов, и так же односложно Ольга ответила, что валики в общем показали себя хорошо.
— День сегодня жаркий был. Очень.
— Кажется… Право, я как-то не заметила.
«Такой неслух, такой неслух…» — почему-то пришло на память Михаилу.
Ольга начала рассказывать о случае, который произошел на поливе с Шурой Воронковой. Понемногу разговор стал налаживаться и уже не был таким скованным, как вначале.
«Безотцовщина!» — опять вспомнилось Михаилу, и вдруг он понял, что слушает Ольгу, а думает все время о другом — думает о ее сыне.
Юрка незримо стоял между ними, и с этим ничего нельзя было поделать. Понятным стало Михаилу и почему у него сегодня такие тяжелые, неподвижные руки, почему они крепко держат шершавую кору ветлы и нет сил оторвать их, чтобы коснуться Ольги, обнять ее. Если Юрка не мог помешать ему любить Ольгу, то самой Ольге надо выбирать между ним и сыном.
Михаил вспоминал враждебный взгляд Юрки, его предостерегающее «мама» и испытывал чувство, близкое к ненависти, хотя и понимал, что ненавидеть ребенка и не за что, и вообще нелепо. Чугунно-тяжелые руки медленно, напряженно гладили шершавую, ребристую кору ветлы.
Разговаривали вполголоса, и то казалось слишком громко: таким тихим был вечер. От плотины доносилось тонкое журчание просачивающейся сквозь шлюз воды.
Разговор шел о вещах самых обыденных, но Михаилу хотелось, чтобы продолжался он бесконечно долго. Они сидели рядом, совсем близко друг к другу, и от одного ощущения этой близости было хорошо. Время от времени Ольга проводила рукой по волосам, поправляя их, и тогда почти касалась локтем Михаила.
Со стороны плотины потянуло свежестью. Ольга вздрогнула и повела плечами. Михаил взял с ветлы праздно лежавший пиджак и накинул на ее плечи. Рука на мгновение задержалась на Ольгином локте, сжала его.
Ольга попыталась высвободиться, но попытка эта была слабой, неуверенной и сделала только более крепким его объятие. Тогда Ольга уперлась руками ему в грудь, но руки как-то разом ослабли, точно подломились, и ее лицо очутилось вплотную к лицу Михаила.
Все крепче сжимая кольцо своих рук, он неожиданно для самого себя поцеловал ее. Все позабылось в эту минуту, весь мир отодвинулся куда-то далеко.
— Не надо… Не надо, — прошептала Ольга.
Пиджак потихоньку сполз с ее плеч на землю. Нагибаясь за ним, Михаил коснулся подбородком ее колен. Рука подняла пиджак, но, тут же забыв про него, обняла Ольгины ноги. Опустившись рядом на траву, Михаил прижался лицом к холодной коленке.
— Миша!.. Миша!.. Не надо… — шептала Ольга. Но в голосе ее не было ни уверенности, ни твердости, и слова не имели никакого значения.
Временами он слышал гармошку на улицах села, гудение трактора за околицей, видел рядом плетень, темные силуэты деревьев за ним, а потом снова наступала полная глухота и слепота. Он видел только одну Ольгу, ее блестящие даже в темноте глаза, слышал одно ее дыхание…
Но вот, как бы освобождаясь от охватившего ее наваждения, Ольга резко поднялась и по-прежнему тихо, но уже совсем другим, суховато-сдержанным голосом сказала:
— Ну, мне надо идти. До свиданья. Не провожай меня… Нет, нет, не провожай. — Сделала шаг, два, обернулась. — И лучше нам пока не встречаться… И ко мне не приходи…
«Да почему?» — уже готово было сорваться у Михаила, но Ольга, как бы предупреждая его вопрос, добавила:
— Я сейчас ничего не знаю…
Нет, это только показалось, что Юрка далеко, — он по-прежнему стоял между ними…
Ольга ушла. Только белое пятно маячило вдали да слышались легкие затихающие шаги. Пятно постепенно расплывалось в темноте и пропало совсем. Скоро и шаги замерли, растворились в тишине ночи.
Некоторое время Михаил стоял, подавшись вперед, но не двигаясь с места, затем безотчетно пошел в ту же сторону, куда ушла Ольга.
Дойдя до конца проулка, он услышал из-под ближней березы на дороге приглушенный говор и узнал голос Горланова. Тот рассказывал, видимо, что-то забавное, девушка тихонько смеялась.
…Горланов сегодня заявился в бригаду и, нагловато улыбаясь, доложил:
— Велено приступить к исполнению прежних обязанностей. С подлинным верно: Оданец.
Михаил ответил, что вмешивается главный инженер в это дело зря, а Горланову в бригаде работы нет.
— Я, конечно, не тороплюсь, могу денек-другой и обождать, — с прежней развязностью сказал Горланов. — Но лезть на рожон не советовал бы, а то, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров.
…Михаилу показалось, что за березой, в окне Варвариного дома, вспыхнул и погас огонь. Нет, это затянулся папиросой Горланов. А девушка опять засмеялась приглушенным счастливым смехом.
Михаил постоял — и повернул в противоположную сторону.
Село засыпало. Все звуки постепенно гасли. Лишь от плотины по-прежнему, но теперь уже более явственно доносилось убаюкивающее журчание воды.
3
Несмотря на страшную усталость, заснуть Ольга долго не могла. На сердце было тревожно, в голове проносились обрывочные, торопливые мысли.
В тот горький, несчастный год она часто думала: если бы не Юрка, легче было бы — одной куда легче! — а то связана по рукам. Потом оказалось, что это и так и не так. Юрка ей был и в тягость и в радость. Не будь его — может, она и не выдержала бы. И чем дальше, тем радости становилось больше. А вот теперь — теперь снова она оказалась связанной. Какой-то заколдованный круг…
Ее соседи Копровы расходятся. Расходятся не потому, конечно, что девочка мала, глупа и ей не приглянулась мачеха, а потому, что девочку эту просто-напросто не приняли в расчет, когда создавалась новая семья…
— Что ты, Оля, все вздыхаешь да ворочаешься? — спросила в темноте Варвара. — Спи!
— Жарко, тетя Варя. Душно.
— Лопатой намахалась, вот и душно. Ступай в сени, если хочешь… Да спи, ни о чем не думай.
Ольга перебралась в сени. Здесь было свежей, дышалось легче.
По временам ее охватывала острая жалость к Михаилу. А может, это была не жалость, а что-то другое, что пока не имело названия.
Показалось, что по улице, за калиткой, кто-то ходит. Ольга стала прислушиваться. Прислушивалась-прислушивалась и заснула. Но спала чутко, с тревожными сновидениями.
Вот идет она полями. Высокие, в грудь, хлеба наливаются, зреют, тяжело качают колосьями, будто кланяются Ольге, и нет им ни конца ни краю. Рядом с Ольгой шагает Василий, только она его почему-то не видит. Слышать слышит, а не видит — он не то сзади, не то где-то сбоку идет.
— Как щедро платит земля за наш труд, Оля, — говорит Василий. — Ты посмотри. И это очень хорошо, что ты тоже стала агрономом. Теперь мы все время будем вместе… А ведь я так люблю тебя, Оля, так люблю!..
Хлеба волнуются на ветру и порой так низко склоняются над дорогой, что закрывают ее совсем.
— Где ты, Вася?
Ольга хочет увидеть Василия, хочет оглянуться и никак не может, шея будто окаменела. Наконец она оборачивается. Но никакого Василия нет. И дороги нет. И поля еще голые, еще только засеваются. А она сидит у полевого вагончика трактористов, а напротив нее Михаил. Михаил рад ей. Это она видит по его улыбке, по счастливым глазам. И оттого, что он рад, Ольге и немножко страшновато, и приятно. Кругом много солнечного света, воздух острый, по-весеннему тревожный…
И вдруг, будто кто закрыл солнце, стало сумеречно, серо, и они уже не сидят с Михаилом, а едут в тележке по ухабистой дороге. Тук-тук-тук-тук — стучат колеса. Куда едут, зачем — Ольга не знает. И Михаил не говорит. Он уже не улыбается, а напряженно всматривается в густеющую с каждой минутой мглу и старательно правит. Неожиданно лошадь останавливается: впереди маячат какие-то фигуры, но из-за тумана разобрать ничего невозможно. Фигуры приближаются, и Ольга в полной растерянности узнает Гаранина и Юрку. Юрка крепко держит Гаранина за руку, а заметив Михаила, отворачивается.
— Ну вот, как хорошо, — говорит Гаранин. — Садись, Юра, поедем!
Теперь они едут вчетвером, но тележка маленькая, и всем в ней тесно, неудобно. Гаранин говорит Михаилу:
— Сам видишь: тесновато…
Юрка еще крепче держится за Гаранина, Михаил видит это и безмолвно вылезает из тележки. Ольге опять хочется оглянуться — идет Михаил следом или отстал? — но опять нет сил повернуть голову. Хочет крикнуть — нет голоса, да и не услышит, наверное, Михаил, — дорога ухабистая, колеса беспрерывно стучат: тук-тук-тук-тук, даже в голове отдается.
Все-таки Ольга поворачивается. Поворачивается и… просыпается. Где-то в конце улицы дробно стучит колотушка: тук-тук-тук-тук… От плотины доносится журчание воды. Больше никаких звуков. Село спит. И Ольга тоже снова засыпает.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
По полям ключевского колхоза магистральный канал пролегал прямо и четко, давая лишь два боковых ответвления. По одному отводу вода поступала на огородное поле, по второму, недавно законченному, — на зерновое. Оба канала ответвлялись в правую, более низменную сторону. Влево, к участку сортовой пшеницы, вода самотеком идти не могла.
Андрей долго ломал голову над тем, как «затащить» воду на гору. Поначалу вместе с заведующим механической мастерской колхоза Дмитрием Хлыновым они капитально отремонтировали старенький автомобильный мотор и приспособили к нему водяную помпу. Однако подавать воду нужно было не к нижним, а к верхним концам участков, чтобы оттуда уже обычным напуском орошать все поле. Для этого требовалось много — несколько сот метров — труб большого диаметра.
Работа зашла в тупик, так как труб найти было невозможно. Нашлось лишь около сотни метров, и то мелкого, неподходящего сечения.
Андрей с Хлыновым приуныли и с Соней старались встречаться пореже.
Но вот как-то она заявилась к ним в мастерскую вместе с Гараниным.
— Как дела, механики? — спросила Соня. — Долго еще ждать?
— А никак, — сердито ответил Андрей. — И ждать тебя никто не заставляет.
— Так ведь вроде обещано было…
— Ничего я не обещал! — вскипел Андрей. — И вообще, сама заварила кашу — сама ее и расхлебывай, а других нечего впутывать. А то еще претензии, недовольство…
Только что улыбавшаяся Соня разом посерьезнела, подобралась и с холодным презрением взглянула на Андрея: мальчишка! Хвастун! Нет, Соня не сказала этого. Она ушла молча, обиженная и гордая. Но уж лучше бы она обругала его самыми последними словами…
Гаранин, все это время разглядывавший трубы, в разговор не вступал.
— Тут и так тошно, а она еще ходит, подзуживает, — несколько успокоившись и как бы оправдываясь перед ним за свою резкость с Соней, проговорил Андрей.
Продолжая разглядывать трубы, Гаранин поманил пальцем Хлынова:
— Что бы это могло быть, Митя?
Андрей тоже подошел. Гаранин показывал на дырочку, высверленную в стенке трубы.
— Кто-нибудь из ребятишек дрелью, наверное, баловался, — сказал Хлынов. — А что?
— Да так, ничего.
Гаранин присел на верстак, стал не спеша закуривать.
— Помнится, у нас в цехе как-то водяную трубу пробило. Малюсенькая такая дырочка образовалась, вот вроде этой. Как же из нее вода свистела! Чуть не под самую крышу. — Гаранин делал глубокие затяжки и, щурясь от дыма, поглядывал то на Андрея, то на Хлынова. — Так вот я и говорю. А что, если насверлить побольше таких дырок? Помпу вы знатную соорудили, вода пойдет под хорошим напором… А?
— А ведь это идея! — заорал Андрей и больно хлопнул от радости Хлынова по плечу.
— Идея, черт возьми! — согласился Хлынов. — И никакой тебе лопаты, никаких бороздок…
Они радовались своему открытию, наверное, не меньше, чем если бы изобрели вечный двигатель. Они даже забыли на радостях, что подобные установки уже давным-давно изобретены и небось каждый видел их не раз, если и не на поле, так в кино.
— Кажется, это называется изобрести деревянный велосипед, — заключил Гаранин, и все дружно расхохотались.
…Наступил день испытания установки.
Андрей уже дважды запускал мотор, но вода то срывала резиновый шланг с выходного отверстия помпы, то начинала просачиваться через фланцы в трубах. Сейчас Хлынов ставил на протекающие фланцы новые прокладки.
Андрей долил бензина в бак, подтянул вентиляторный ремень. Инструмент жег руки, и его приходилось обертывать тряпкой. До мотора совсем нельзя было дотронуться.
Временами откуда-то появлялся ветер. Тогда становилось еще жарче. Ветер был сухим и знойным. Словно где-то поблизости топилась и обдавала нестерпимым жаром огромная печь.
Горизонт тонул в струйчатом мареве; расплавленный зноем воздух рождал миражи. Скучившееся на луговине стадо виделось дрожащим красноватым пятном, и луг, как озеро, отражал его в себе. Светло-сизое, с желтыми подпалинами колосящегося хлеба поле застыло в душном изнеможении. Узкие, еще не налившиеся колосья смотрели прямо вверх, точно ожидали чего-то оттуда; отчаявшиеся в ожидании начинали угрюмо клониться к земле. Таких становилось все больше и больше.
Андрей видел, как утром, по приходе на участок, Ольга захватила на ладонь несколько колосков. «Что, дождичка с неба ждете?.. Скупое оно нынче на дождик-то…»
Такого скупого на дождик лета Андрей не помнил давно.
Из-под кромки магистрального канала выплыла и медленно потянулась наискосок белая кучка облаков. Большая, с рваными краями тень накрыла канал и соседний с ним угол пшеничного поля. Андрей скорее ощутил, чем увидел ее. Перестало печь спину, приятно и неожиданно повеяло прохладой. Вода потеряла свой блеск, потемнела и стала почти одного цвета с пшеницей.
Облака столпились и, казалось, застыли на одном месте, заслонив изнывающую в зное землю от солнца. Но уже в следующую минуту оно легко прорвало их непрочную завесу и с прежней беспощадностью обрушило на поля свои жгучие, отвесно падающие лучи.
Со свистом и гиканьем из села прибежали ребятишки. Ну как же! Тут хотят дождь устроить, и вдруг такое важное, такое интересное зрелище обойдется без них!
На канале стало шумно и весело.
— Дяденька! А дяденька! — зазвенел тоненький ломкий голосок. — Дя-день-ка же!
Андрей обернулся. У мотора стоял с устремленными на него смородиновыми глазами и смешными оттопыренными ушами коренастый малыш.
— Как это называется?
— Это? Неужели не знаешь? Радиатор.
— А это? — завладев, наконец, вниманием Андрея, продолжал расспрашивать мальчик.
— Карбюратор.
— А потрогать можно?
— Ну, коли приспела такая охота, потрогай.
Подошел Гаранин. Видимо, он хорошо знал мальчишку, потому что запросто потрепал его по щеке и спросил:
— Что, Юрка, трактористом хочешь быть? Хорошее дело! Только смотри, как бы от мамы не попало, не очень-то тут старайся.
Гаранин спросил у Андрея, знает ли про установку Николай Илларионович. Андрей ответил, что агроном знает, но не пришел, должно быть, потому, что относится ко всему этому довольно скептически. Да и не в духе он, Татьяна Васильевна вчера опять его чем-то расстроила.
С дальнего конца участка шла, почти бежала Ольга. Андрей еще издали узнал ее скорую, скользящую походку.
— Ну, скоро ли вы здесь, механики? — еще издали крикнула Ольга. — Заждались все!
Хлынов что-то ответил. Ольга, не останавливаясь, прошла к Андрею с Гараниным.
— Юрка! А ты как сюда попал?
— Это радиатор, — считая несущественным и потому оставляя без внимания вопрос матери, поспешил поделиться только что приобретенными познаниями Юрка. — А это карбюратор.
— А это что? — Ольга показала на большое масляное пятно, расплывшееся по штанине. — А это?
Пятен было много. Даже одно ухо и то было вымазано маслом и блестело, как начищенное. Андрей удивился, когда Юрка успел вымазаться.
— И вы тоже хороши, — досталось заодно и Андрею с Гараниным. — Допускаете к машине таких несмышленышей, еще руку каким-нибудь ремнем оторвет.
Ольга наскоро вытерла платком масляное ухо и заодно прочистила оскорбленно сопящий Юркин нос.
— Пойдешь со мной на поле, нечего тут околачиваться, грязь отирать.
— Готово! — крикнул Хлынов. — Заводи!
Видя, что Андрей собирается заводить мотор, Юрка вопрошающе взглянул на него: как, мол, стоит туда ходить или тут будет интереснее?
— Иди, иди, — засмеялся Андрей. — Самое интересное сейчас там будет.
Мотор дважды оглушительно стрельнул и загудел на полном газу.
Юрка заколебался: не надувают ли его, уводя отсюда? Но Ольга крепко держала его руку в своей, и волей-неволей с мотором пришлось расстаться.
Гаранин тоже ушел на участок.
Андрей включил помпу.
Как живой, шевельнулся от тяжести воды приемный рукав, шумно всхлипнула и мерно заурчала, зачавкала помпа.
Незаметно, как-то вдруг, над пшеничным полем родилось чудо. Странный небывалый дождь засверкал, заискрился на солнце и с тихим, глухим шелестом начал падать на хлеба в ту и другую сторону от стоящей на козлах трубы. Сначала дождь был крупным и неровным, без той водяной пыли, которая сопутствует обычному дождю и пропитывает влагой весь воздух. Но установка работала все ровнее и ровнее, дождь мельчал и становился более плотным. А вскоре и тонкое светло-сизое облачко водяной пыли повисло над полем и надежно прикрыло его от солнца. Пшеница все больше темнела, земля, еще недавно беловато-безжизненная, с каждой минутой становилась чернее, ярче. И все кругом, чудесно меняясь, становилось красочней, веселей. В воздухе густо запахло мокрой землей и травами.
Ольга с Соней, Хлынов с Гараниным, все поливальщики стояли по обеим сторонам трубы и, не двигаясь, не уходя из-под водяных струй, смотрели на дождь.
Андрею тоже захотелось быть там, на поле, ближе ко всем этим радостно-возбужденным людям, и он в конце концов не выдержал и отошел от мотора.
Отягощенные влагой колосья пшеницы искрились на солнце и казались теперь полнее, весомей. Местами вода уже начала скапливаться в лужи и ручейки. Чтобы не давать лужам застаиваться, ребятишки кто чем пропружали их по участку.
Очутившийся около Андрея Юрка проделывал дорогу воде простой палкой. Делал он это с таким озабоченным и серьезным видом, точно от него одного зависел весь успех полива.
— Дай-ка я, — сказал Андрей и потянулся за палкой, видя, как, пыхтя от напряжения, неумело орудует ею Юрка.
— А я? — Не выпуская палки, Юрка вскинул на него смородиновые глаза. Во взгляде было и желание не обидеть Андрея, всего каких-нибудь полчаса назад разрешавшего ему собственноручно трогать мотор, и просьба не лишать его удовольствия заниматься таким интересным и важным делом.
Андрей отвел руку, зачем-то погладил мальчика по челке выгоревших волос.
— Ладно, ладно. Это я пошутил. Я и так, без палки…
И, присев на корточки, он начал направлять воду прямо руками — пусть она надежнее пропитывает все поле!
На участок уже бежали люди с бригадного стана, с соседнего поля, что-то крича и радостно размахивая руками.
А больше всех радовалась Соня. Она так счастливо улыбалась, будто только что получила дорогой и давно ожидаемый подарок.
2
Илье Гаранину надо было в Новую Березовку. От подводы, которую ему предлагала Татьяна Васильевна, он отказался: пора горячая, сенокосная, а до Березовки рукой подать.
Выйдя на околицу, Илья свернул на малохоженую, вьющуюся полями стежку. По ней было, наверное, не ближе, но не так пыльно, как дорогой.
С правой стороны, по взгорью, тянулся березовый лесок. Илья решил сделать небольшой крюк и напиться из родника, а заодно и перекусить.
Он устроился под молодой березкой, съел ломоть хлеба с крутым яйцом, запил ключевой водой. Закурив трубку, вытянулся на траве и долго смотрел в высокое, бездонное небо.
Лето принесло Илье новые заботы и хлопоты.
Зимой, когда машины стояли на усадьбе, колхозы были в представлении Ильи чем-то отдельным, обособленным от МТС. Теперь, когда в каждом из них работало по бригаде, все слилось воедино. Но так ли? Воедино ли?
Зимой Татьяна Васильевна жаловалась, что ей не дают трактор на вывозку навоза. Теперь Андрианов жалуется на Татьяну Васильевну, что та не соглашается на лишнюю культивацию, а ведь у МТС план, и его надо выполнить. Когда-то Оданец говорил, что МТС в зимних работах не заинтересована; сейчас получается нечто обратное. Почему же, почему интересы колхозов и МТС не совпадают?
Как-то на усадьбе, около комбайнового гаража, Илья наткнулся на большой деревянный ящик с двумя решетами. Ему сказали, что это третья очистка и сделал ее Филипп Житков, работавший ранее на комбайне. А когда Илья спросил, почему же валяется без дела такое ценное приспособление, то услышал: «Да ведь какой прок-то от него? Одна морока, а интересу нет: плата одна, что за сорное зерно, что за чистое… Колхозам, правда, интерес большой, потому как от житковского комбайна хлеб шел, минуя ток, прямо на элеватор, а нам — без интереса».
Илью, привыкшего ценить всякое, даже малое, усовершенствование, удивил и огорчил такой ответ. Как же так? И где же тогда общий, государственный интерес?
Галышев с Хлыновым в Ключевском соорудили, к удивлению недоверчивой Татьяны Васильевны, дождевальную установку. Но хорошо, Галышев по своей охоте взялся за это, а то ведь дождевание ему тоже «без интереса». По доброй охоте глубоко пахал поливные участки и Брагин в Новой Березовке, а потом Оданец вычел с него за перерасход чуть не половину заработка…
Как человеку новому, Илье со стороны, наверное, было кое-что виднее, чем тому же Андрианову. Но многое еще оставалось для него непонятным…
А вчера вдруг пришло письмо от Тони, и какое письмо! Ничего не объясняя, она пишет, что скоро приедет. Это было так неожиданно, что Илья и до сих пор все еще не мог как следует собраться с мыслями.
Вспомнился один летний день, который они провели вместе с Тоней далеко за городом, в таком же вот небольшом лесочке.
Лес стоял гордый и задумчивый, полный торжественной красоты увядания. Было тихо так, как бывает в лесу только под осень. Слышался только печальный шелест опадающих листьев, да время от времени, как часовые, оставшиеся на постах, перекликались редкие птицы. Пахло грибами, мокрыми корнями деревьев, паутиной, и всего сильнее — лежалым листом.
В мелком кустарнике прятались стройные подосиновики, из-под листьев, приподымая и прорывая плотный, слежавшийся покров, осторожно выглядывали большие лопушистые беляки и рядки выстроенных по ранжиру черных груздей и рыжиков. И только редкие, излишне красивые и никому не нужные мухоморы стояли прямо на виду, посреди лесных полянок.
Тоня собирала грибы неумело. Она то внимательно заглядывала чуть не под каждый куст, то совсем забывала про них и, поймав на лету упавший лист осины, начинала пристально рассматривать его на свет или, заметив в траве розовые ягоды брусники, приседала перед ними на корточки. А один раз, он видел, подошла к маленькой стройной березке и ласково погладила ее по тоненькому стволу. Грибы ей попадались редко, потому, наверное, она так шумно и радовалась каждой новой находке. Тогда он начал хитрить: находил кулигу рыжиков и подзывал Тоню: «Ну-ка, отгадай по этому пню, сколько лет было елке?» А Тоня, увидев около пня грибы, радостно вскрикивала: «Ах, Илюшка, Илюшка, какой же ты ротозей! Смотришь, а куда — и сам не знаешь!» — и, осторожно разгребая листья, освобождала от них рыжики. Самые маленькие она не рвала: «Жалко, пусть побольше вырастут».
Смешно было глядеть, как Тоня нюхает грибы, прежде чем положить их в корзинку, и находит в каждом из них все новые, особенные запахи, как пробует на вкус дикие ягоды. Найдя какие-нибудь незнакомые ягоды, она, не задумываясь, клала их на язык и, еще как следует не отведав, объявляла: «Вкусно!» — «Да это же волчьи — выплюнь», — смеялся он в ответ. «И правда, дрянь какая-то», — соглашалась Тоня.
Потом они наткнулись на яркий, огнистый куст калины. «Красивая она какая, ты только погляди!» — сказала Тоня и, сорвав вместе с листьями маленькую гроздинку, заколола ее в волосы. «Тоже не вздумай отведать!» — пошутил он. «Ну, что ты, что я, калину не знаю?» — ответила Тоня.
Вдруг пошел неизвестно откуда взявшийся среди этого ясного дня «слепой» — сквозь солнце — дождь. Лес ожил, зашумел. Они залезли в частые кусты орешника и накрыли головы пиджаком. Когда лезли в кусты, набрались густой паутины. Она была теплая, мягкая, как тонкий шелк. «Ну, Илюшка, запуталась я совсем», — снимая паутину со лба, сказала Тоня и лукаво, озорно посмотрела на него. Одна тоненькая ниточка повисла на ее длинных ресницах. «Подожди, я сниму, — сказал он. — Только закрой глаза». Тоня послушно зажмурилась, и он поцеловал ее в доверчиво открытые, влажные губы. «А все-таки не утерпела, попробовала и калину», — сам не зная зачем, отметил он, ощутив на своих губах терпкий горьковатый привкус. А Тоня, не поднимая век, улыбаясь одними губами, тихо спросила: «Ну, теперь можно?» — «Подожди, еще с другого глаза», — тоже очень тихо, точно вдруг потерял голос или боялся, что кто-нибудь их услышит, ответил он и начал целовать ее в глаза и снова в губы…
Когда они выбрались из кустов, лес уже отряхивал тяжелые дождевые капли, снова принимая тихий и задумчивый вид.
Потом они шли домой. В волосах Тони темным нарядным огнем горели два багровых, с тонкими прожилками, листа. С листьев на волосы тянулись несколько ниток паутины. Он смотрел на эти ниточки и снова ощущал на губах терпкий привкус калины.
А солнце светило так щедро и празднично, небо было таким чистым, что не верилось, что скоро осень, что все кругом цвело, может быть, и самым богатым, но последним цветением.
Нет, они не говорили тогда о своем чувстве друг к другу. Слова были такими лишними, такими ненужными! Без них все было ясным-ясным, как этот день. И не думалось, даже не приходило в голову, что когда-нибудь будет не так, по-другому…
Солнце, шаг за шагом, обходило березку; сначала оно достало до босых ног Ильи, затем до пояса, а сейчас уже подбиралось к голове. Тени от деревьев, перемещаясь в сторону, становились все длиннее.
Илья встал, выколотил трубку, обулся.
Жара спа́ла.
От лесочка дорога вела прямо на плотину. С пригорка были видны и водоем и Новая Березовка.
Отдых, дремотная тишина леса прибавили сил. Шагалось легко, мысли текли ровнее.
За последнее время у Ильи стало привычным, вспоминая Тоню, ставить с ней рядом Ольгу. Он и до сих пор не знал, зачем это делал. Получалось как-то само собой.
Когда он впервые увидел Ольгу, она ему понравилась. Но понравилась, как может понравиться любая красивая женщина любому мужчине, независимо от того, холост он или женат, любит кого или нет. «Да, хороша», — скажет он и, если больше не придется встретить ее, тут же забудет. Илье пришлось встретиться с Ольгой, пришлось вместе работать, и она нравилась ему все больше. Знаясь с Ольгой, бывая у них, как хороший знакомый, он незаметно привязался к ее сыну. При виде Юрки у него всегда щемило. «Почему у меня нет такого сынишки?» И всю свою любовь к детям он безотчетно переносил на Юрку. Правда, все больше сближаясь с ним, он, однако, не решался сблизиться и с Ольгой. По временам ему хотелось этого, но не так-то просто было забыть тот летний день в загородном лесу и еще много других дней с Тоней! А ведь ни с Ольгой, ни с кем другим такого дня у Ильи не было, да, наверное, и не могло быть…
У плотины купались темно-красные от загара ребятишки.
Недалеко от шлюза, в позе Христа, распятого на кресте, лежал ражий детина. Лицо у него было прикрыто от солнца лопухом, виднелась лишь часть щеки да рыжая шевелюра.
Четверо ребят забрались на шлюзовые выступы и замерли в выжидательной позе.
— Жора, командуй!
Жора Горланов — теперь Илья понял, что это он, — лениво, не поднимая головы, протянул:
— На ста-арт!
Выждал секунду.
— Марш!
Мальчишки сделали «ласточку» и скрылись под водой.
— Ноль раз, ноль два, ноль три… — все так же, не двигая ни одним мускулом, начал отсчитывать секунды Горланов и, по мере того как мальчишки один за другим показывались из воды, отмечал: — Сорок семь — Левка… Пятьдесят пять — Санька…
Илья подивился, как это Горланов, не подымая и даже не поворачивая головы, видит всплывающие в разных местах пруда ребячьи физиономии и не сбивается при этом со счета.
— Дальше всех — Санька, дольше всех — Толька, — подвел итоги состязания Горланов.
Только теперь заметив Илью, он приподнялся на локте и в знак приветствия помахал лопухом:
— А-а, товарищ Гаранин! Наше вам с кисточкой! Загораем. Безработица… В бригаду или в правление, путь держите?.. Костин там… Покупались бы за компанию… Дела? Что ж, пока…
Илья пошел вниз с насыпи, а Горланов перевернулся на живот и прикрыл лопухом затылок. Поза его по-прежнему выражала блаженное изнеможение.
После того как главный инженер направил Горланова в бригаду, а Брагин снова выгнал его, между Оданцом и Андриановым произошел крупный разговор. Оданец сказал, что, если его распоряжения не обязательны для трактористов и бригадиров, он отказывается работать. Андрианов пытался урезонить инженера: бригадир поступил, может, и слишком горячо, слишком круто, но в общем правильно. Оданец продолжал стоять на своем: никто бригадиру таких прав не давал, да и что за птица этот Брагин, еще никому не известно, а Горланов два года держал чуть ли не первенство по МТС, и такими трактористами можно пробросаться. Когда дело дошло до райкома, Сосницкий, конечно, стал на сторону Оданца. Но Андрианов и после этого не торопился подтверждать его распоряжение, и Горланов продолжал оставаться не у дел.
Костин сидел в правлении с Сосницким.
— …Это, конечно, хорошо, что ты ездишь за хозяйственным опытом к Орешиной, — говорил Сосницкий. — И райком полностью одобряет эту твою инициативу. Но помни и другое. Хорошим председателем Орешина потому именно и стала, что все указания райкома и других вышестоящих органов выполняет не за страх, а за совесть. Этому тоже у нее поучиться не мешает…
Заканчивая разговор, Сосницкий дал указание сразу же после сенокоса начинать двоить пар и повернулся к Илье.
— Ну а у вас как, товарищ Гаранин? Уладилось с этим… как его… Горлановым, или бригадир все еще ерепенится?
Илья ответил, что пока не уладилось.
— Помните, тыкали нам в глаза Тузовым? В чужом глазу, как говорится, и соринку вижу… Уж что-что, а такие вещи руководство МТС должно знать, чтобы не шарахаться из одной крайности в другую. А то сегодня лучший тракторист, завтра — бракодел. Несерьезно! Какая-то детская игра в чет-нечет…
Илья хотел спросить у Костина, не сможет ли он с помощью трактористов смонтировать такую же, как в Ключевском, дождевальную установку. Но заводить разговор об этом при Сосницком не хотелось. А тот, как нарочно, сегодня никуда не спешил.
— Улаживайте, и поскорее. Вторично райком к этому делу возвращаться не будет. Попустительствовать таким Брагиным нельзя. Подумаешь, удельный князек: что хочу, то и ворочу…
Зазвонил телефон. Звонок этот как бы напомнил инструктору райкома о его больших и сложных обязанностях, и он начал прощаться.
Илья облегченно вздохнул.
3
Село рассекал на две почти равные части большой, широкий проулок. В конце его, на задах, находился колхозный двор. Сейчас здесь не было видно обычного для раннего утра оживления. Доносился только дребезжащий перезвон молотка из кузницы, да на каланче одиноко маячила фигура дежурного пожарника, прятавшегося под небольшой навес от нещадно палившего солнца.
Костина Михаил нашел за зерновым складом. Тот разговаривал со здоровенным, на голову выше себя, парнем, обутым в щеголеватые полуботинки на босу ногу. Одежда парня была до смешного пестрой. На добрую четверть выше полуботинок начинались латанные на коленях армейские зеленые галифе, а еще выше — расшитая петухами косоворотка с тремя начищенными медалями. В руке он держал метлу.
— Ты меня этими медалями не тычь, — почти не раскрывая рта, бубнил парень, — я их не за карие глаза получил.
— А я и не тычу, а говорю, что если ты их получил, то, значит, впереди шел, а почему же сейчас в обоз пристраиваешься? Или думаешь на этих трех колесах теперь всю жизнь ехать?
— Обоз… При чем тут обоз? — повторил парень за Костиным, видимо, только для того, чтобы не молчать.
— А при том, что жену свою с косой в луга отправил, а сам здесь с метлой ошиваешься, не то что женскую — детскую работу работаешь!
В это время пожарник на каланче начал редко, не спеша вызванивать часы.
— Вон скоро полдень, а что ты сделал? Два сусека подмел? Работник… А ручищи-то — хоть в цирк, железо гнуть.
— Да что ты в меня-то уперся? Что я, один, что ли?
— Верно, не один. И всем вам, подобным, легкой жизни не обещаю. Хватит, и так колхоз, можно сказать, до ручки довели. Хочешь работать — работай, а не хочешь — не маячь на моем горизонте, не отсвечивай!
— Я привык быть на виду у людей, а здесь что?.. — Парень одернул рубашку, приосанился.
— Ну, если все мы командирами заделаемся, некем и командовать будет.
— Я не про то. В начальники я не хочу.
— Вот тебя и пойми… Ага! Так, так, так… Ясно… — Костин расстегнул верхние пуговицы рубашки, присел на весы. — Ну, вот что, браток, самая видная должность в колхозе в настоящий момент здесь, — и показал рукой на кузницу. — Работы невпроворот — уборка на носу, а кузнец вот уже месяц без молотобойца мается. Тут ты и на виду у всего колхоза будешь, и силу свою есть где показать. Добро?
— Что ж… это ничего, — сонливое выражение на лице парня исчезло, глаза вспыхнули самодовольным огоньком. — Надо подумать, с женой посоветоваться… А так дело вроде подходящее…
— Работа — самый раз, — видя, что парень сдается и сразу не соглашается только для виду, только для того, чтобы набить себе цену, уже дружеским тоном говорил Костин. — А то ведь с твоей силой от безделья и зачахнуть недолго. Какие-нибудь камни в почках наживешь — ходи потом по докторам, пей микстуры… Так договорились? — Костин встал. — Нынче полдня думай, а завтра с утра выходи.
Весь этот разговор Михаил слышал, стоя по другую сторону весов. Еще по дороге сюда, около кузницы, он поднял в траве два старых клапана и крутил их в руках: один клапан упал и стукнулся о камень.
— А-а, бригадир, — повернулся на стук Костин и кивнул на парня. — Не знаешь? Наш главный молотобоец. В случае понадобится что сварить или отковать, к нему обращайся, мастер на все руки. Ну а руки сам видишь, — Костин усмехнулся, темно-карие глаза озорно, по-мальчишески заблестели из-под выгоревших белесых бровей.
А парень сначала растерянно взглянул на председателя, затем одернул рубашку, слегка выпятил грудь и важно кашлянул, но заметил метлу и словно поперхнулся. Незаметно убрал метлу за спину и, не сходя с места, приставил ее к стене амбара. Руку Михаила он пожал так, что хрустнули пальцы, но с нарочито вялым видом, будто хотел сказать: «Ничего. Это еще вполсилы, могу крепче». Еще раз, уже свободнее, кашлянул и проговорил:
— Да. В смысле отковать или там в железе изгиб сделать — это по нашей части. Это мы можем.
Но и этого парню, видимо, показалось мало. Он повернулся к председателю и запросто, почти небрежно — смотри, мол, с самим начальством я запанибрата! — пробасил:
— Иван Петрович, нет ли свернуть? Портсигар по рассеянности дома забыл…
Закурили.
— Ну, как твои самовары? — спросил Костин, прикуривая от папироски Михаила. — В порядке, говоришь? Чего ж тогда перепашку не начинаете?
Михаил сказал, что по этому делу он как раз и пришел. Может, ввиду засушливого лета пар второй раз не перепахивать, а только прокультивировать?
— А что ж, это, пожалуй, здравая мысль! — подумав, одобрил Костин. — Правда, сорняков развелось на полях много и не мешало бы из-за них одних перепашку сделать, только засуха еще страшней. В общем, я — за! Но с агрономом ты все-таки поговори. Ему надо в курсе дела быть, формально он ведь отвечает за всю агротехнику. Старика ты немного не застал, на сенокос подался.
Михаил пошел в луга.
Дорога сначала вилась вдоль села, потом проваливалась в овраг, выползала на пригород и тонула во ржи. Дул слабый ветерок. Рожь под ветром ходила плавными светло-зелеными волнами, отливая на солнце, точно кто-то без конца причесывал и причесывал ее огромным гребнем.
Михаил сорвал колосок, растер его на ладони. Зерна еще не отделялись от своих гнезд, желто-зеленая кожица была нежной и блестящей, а молочная мякоть под ней имела едва уловимый хлебный запах.
Вот и луга. Три широких дола, как три зеленых потока, хлынули из полей и разлились, расплеснулись морем, затопили всю низину, и, казалось, если бы не речка, кривым полукольцом ограничившая луга, не было бы им ни конца ни края. Небо стало выше, горизонт отошел, отодвинулся за реку, — и просторно глазу, просторно на сердце от этой широкой зеленой глади.
Речка лениво разлеглась, греет на солнце белую спину, и не поймешь: течет она или уснула в своих низких берегах.
А луга, от дороги до самой реки, живут, движутся; звонкие голоса, смех, веселый стрекот косилок, шарканье брусков, не умолкая, висят над покосами. Луга цветут белыми, синими, красными платками и кофтами. Уж так повелось: выходить на сенокос, как на праздник, в лучших платьях, в самых светлых и ярких нарядах.
Люди с косами и граблями наступали на луга ломаным строем, трава с грустным шелестом ложилась к их ногам и оставалась лежать в высоких темных валах, а люди шли и шли вперед.
Михаил свернул с дороги и подошел к косцам. Пахну́ло тонким, как цветущая черемуха, чуть горьковатым запахом провянувшей на солнце травы, таким близким, знакомым еще с детства запахом, который в первую минуту вдыхаешь так жадно, что от него начинает кружиться голова. Михаила вдруг охватило подмывающее желание стать в один ряд с другими и идти по зеленому простору, на всю ширину плеча размахивая косой, вбирая всем существом теплый аромат уже отцветающих трав.
Четыре женщины и мужчина, прогнав окосево, шли на новый заход. Закинутые на плечи косы остро поблескивали на солнце. Михаил глядел на косы, и ему уже виделось, как они сейчас опустятся на землю и с глухим отрывистым вжиканьем начнут подсекать высокую густую траву.
— Мир доро́гой! — по старокрестьянскому обычаю поприветствовал Михаила один из косцов — кряжистый, басовитый, с тяжелыми сивыми усами мужик.
Михаил узнал его. То был Егор Суслов, как-то раза два заходивший к нему в бригадный вагончик.
Здороваясь, Михаил не вытерпел и спросил, нет ли у кого запасной косы.
— Коса-то у меня есть, — с готовностью отозвался Егор. — Не коса — вода. Только можно ли тебе? — и кивнул на ноги Михаила. — Смотри, не натруди зазря…
— Да и умеешь ли? — подзадорила Шура Воронкова. — Это тебе не с палочкой гулять.
Они дошли до начала окоса, остановились, а Шура будто невзначай очутилась рядом с Михаилом.
— Цыц ты, балалайка, — прикрикнул на нее Егор.
Но девушка только бровью повела на окрик Егора и, как стояла подбоченившись, так и осталась, задорно, с вызовом глядя на Михаила. Голубая косынка развязалась, съехала к шее, светлые волосы выбились из-под нее, две пряди полукольцами прилипли к потному лбу. Высокая грудь натянула кофточку так, что та кое-где выдернулась из юбки, в которую была заправлена, и поперечными складками собралась под вырезом воротничка. Нос у девчонки курносый, а глаза озорные, с «чертиками». И всем своим видом она как бы говорила: «Понравилась? Знаю, не тебе первому… Смотри, смотри. Не жалко…»
Егор принес косу, раза два — скорее для вида, чем по надобности, — шаркнул по ней бруском и отдал Михаилу.
— Ну, ну. Покажи свою прыть, — под сдержанный смех женщин опять съязвила Шура. Она заправила подол кофты, и ее сильная грудь обозначилась еще резче.
Михаил поплевал на руки и взялся за косу. Сначала он медленно провел ею по скошенному месту, примериваясь, изучая посадку косы, затем размахнулся и с силой запустил в траву.
В-жу-у! — глухо пропела коса, и первая горсть травы легла на край окосева.
Михаил не сразу приладился к работе: давно не косил, мешала раненая нога. У него легко прокашивалось только начало захвата, когда упор падал на левую ногу; вторую же половину, когда точка опоры переходила на правую, приходилось брать силой плеча. Но постепенно он приноровился, и прокос стал получаться все ровнее и ровнее.
Михаил еще с детства любил сенокос. Из всех крестьянских работ он ему нравился больше всего. И за то, что было где тут размахнуться во всю ширь, и особенно за то, что на этой артельной работе каждый раз, и каждый раз по-новому, чувствуешь не только свою собственную силу, но и силу общего дружного труда.
— Ходи веселей! Пятки срежу! — послышался за спиной все тот же задорный девичий голос.
«Вот черт, — беззлобно подумал Михаил, — надо же было увязаться обязательно за мной!» — и прибавил шагу.
Третьим шел, должно быть, Егор. Брагин слышал, как он что-то сказал девчонке, и та ответила:
— А я ж откуда знала! Нечего было тогда и соваться! — но подгонять перестала.
Прошли одно окосево, вышли на второе.
— Э-э, да ты тихий, тихий, а косу, видать, не первый раз в руках держишь, — отираясь концом косынки и глубоко дыша, нарочито равнодушно сказала Шура.
Женщины уже не смеялись, а смотрели на Михаила с уважением.
Когда прокосили второй заход и Михаил уже по-настоящему вошел во вкус этой трудной, но веселой работы, вдруг из-за пригорка от реки выполз трактор с тремя косилками на прицепе. Гул трактора вместе с звонким и дружным стрекотом косилок на какое-то время покрыл все звуки. И все кругом как-то разом переменилось. Широкое окосево, которое только что прогнал Михаил, теперь по сравнению с пятиметровым захватом косилок, стало мизерно-узким, а «коса-вода» казалась детской игрушкой.
Трактор вел Филипп Житков. Мельком взглянув на косцов, он кивнул Михаилу и проехал мимо. Михаилу показалось, что Филипп слегка улыбается себе в бороду.
— Н-да. Оно, конечно… — как бы угадывая мысли Михаила, сказал Егор Суслов.
Агронома Крутинского Михаил нашел в соседней бригаде. Тот сидел перед копной сена и, время от времени поглядывая на нее, что-то подсчитывал в блокноте, положенном на истертый портфельчик. Что-то очень знакомое, традиционное было во всем виде этого чистенького маленького старичка: и в узеньких парусиновых брючках с толстовкой, и в его выбритом лице с пенсне на носу и щеточкой усов под ним, даже в его сквозной — от лба до затылка — блестящей пролысине.
Всякий раз, когда Михаил встречался с агрономом, ему думалось, что он уже не раз видел его в кинокартинах.
«В кино такие типы показываются как люди немножко смешные, с причудами, но в общем хорошие, даже передовые», — думал Михаил, повторяя агроному то, что утром говорил Костину.
— Не перепахивать второй раз паровой клин? — переспросил Николай Илларионович. — Интересно. Почти оригинально!
Михаил ответил, что на оригинальность не претендует. «А старичок-то вовсе не смешной — злой скорее…»
— И то хорошо. Потому что, если разобраться, ничего особенно новаторского тут нет. Только стоит ли мудрить и заниматься отсебятиной? Есть календарный план-график двойки и культивации, утвержденный самим товарищем Васюниным. В данном колхозе предусмотрена двойка и даже сроки указаны. Наше дело уложиться в них… Формальный подход? Хорошо. Давайте подойдем к делу неформально. Вы забыли про сорняки. А ведь они — дай-ка им волю! — заглушат все.
Михаил ответил, что сорняков на полях действительно многовато, но не лучше ли их подрезать культиваторами. Причем обязательно лапчатыми, или, как их по-научному называют, экстирпаторами. Это для того, чтобы опять-таки не подымать наверх нижнего слоя и сохранить остатки влаги.
Слушая, Николай Илларионович протирал и без того чистое пенсне. Он подносил его к глазам, шумно дышал на стеклышки и снова принимался тереть, словно готовился как следует присмотреться, насколько глубоки и обширны агрономические познания бригадира.
— Так-с, молодой человек. А вы имеете понятие о таких вещах, как структура почвы, капиллярность верхнего слоя?
Вопрос этот сбил Михаила.
— Вы меня учеными словами не пугайте, — уклоняясь от прямого ответа, сказал он. — О капиллярности поговорим в другой раз.
Михаил понимал, что, если разговор и дальше пойдет в таком же ученом духе, ему с агрономом лучше не тягаться, одними ученическими познаниями, полузабытыми к тому же, тут не обойдешься.
Видимо, понял это и Николай Илларионович. Он не спеша положил в нагрудный карман толстовки пенсне, так и не воспользовавшись им: агрономическая малограмотность бригадира достаточно хорошо обнаруживалась и невооруженным глазом.
— Вы исходите из ложных посылок, — агроном, должно быть, решил доконать Михаила. — Вы смотрите на график как на обыкновенную бумажку, плод канцелярского суемыслия. А это не так. График составлен на основе строгих научных данных. И выходит, что в конечном счете вы идете против науки. Не слишком ли самонадеянно?
Михаил по-прежнему был убежден в своей правоте, но не знал, как ее доказать, и это начинало злить его.
— Науку я очень уважаю, но она тоже разная бывает. Я за ту, что от самой жизни, а не от книг идет.
— Это слишком общо… Стоп! У вас на севе, кажется, большой перерасход горючего вышел? Так, может, все дело в том, что вы на этой самой культивации сэкономить хотите? Положена двойка, проделана культивация и… так далее? — Николай Илларионович этак неопределенно повел рукой, и Михаил вспомнил о махинациях с горючим, которые проделывали его предшественник и Тузов.
— Перерасход тут ни при чем, — сухо ответил он, окончательно выведенный из себя намеком Крутинского.
— Тогда нам не о чем говорить. Как агроном, снимаю с себя всякую ответственность. Если уж вам непременно хочется попасть в новаторы — рискуйте.
— Что ж, — Михаил встал. — Риск, говорят, благородное дело…
В знак окончания разговора Крутинский начал тщательно застегивать свой потертый портфельчик.
«Эх, агроном, агроном, — шагая покосами, думал Михаил. — И очки у тебя вроде хорошие, а дальше той науки, что в твоем портфеле лежит, не видишь. Как это говорится, заела попа грамота…»
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Дверь приоткрылась, Зинаида Саввишна просунула свою острую лисью мордочку и многозначительно сказала:
— Вас вызывает товарищ Васюнин.
Ольга задвинула ящики стола и прошла в кабинет главного агронома.
— По работе, товарищ Орешина, я к вам претензий не имею, — как всегда, очень ровно начал Васюнин. — Но… но и работы вашей не видно… Непонятно?.. Да ведь любая работа, как вам известно, пока она документально не оформлена, существует лишь умозрительно. То есть она существует и на самом деле, — поправился Васюнин, — но… короче говоря, область-то ничего не знает. По вашему отделу накопилась уйма документов, а вы целыми днями пропадаете в колхозах, и сюда вас хоть на аркане затаскивай.
— Да пропади они пропадом, ваши бумажки! — вспылила Ольга. — Вот скоро совсем в колхозы переберусь — и тогда…
Ольга недоговорила. В кабинет взъерошенным воробьем влетел Николай Илларионович.
— Чудеса! — проговорил он еще от порога. — Тракторный бригадир начинает учить агротехнике… кого бы вы думали? Агронома с тридцатилетним стажем. Более чем оригинально! — И Крутинский рассказал о своей стычке с Михаилом Брагиным.
— И хотя бы какие-нибудь доводы! Так нет же, как говорится, ни бе, ни ме, ни кукареку. Уперся в стенку лбом, и только.
То, что Михаил поспорил с «академическим», как его называли другие агрономы, стариком, Ольгу и обрадовало и встревожило. Уж слишком старомодным, подозрительным ко всему, что не укладывалось в рамки инструкций, был этот Николай Илларионович. И сама она в свое время не смогла найти с ним общего языка. Но она как-никак агроном, а что мог возразить на его ученые слова Михаил! И вообще, не зря ли погорячился он…
— И все это еще ладно. Мало ли какой номер по своей агротехнической малограмотности может выкинуть тракторный бригадир! Самое-то грустное во всей этой истории, что секретарь партбюро взял под свою защиту Брагина. Да, да. Представьте…
Ольга послушала и вышла.
Зинаида Саввишна вручила ей две папки:
— Эти документы для ознакомления, а эти — для исполнения.
Бумаги были изрядно устаревшими. В одной объяснялось, как надо задерживать талые воды, в другой — как строить пруды. Еще сообщалось, что гидротехник для выбора места под плотину на реке Вязовке будет выслан в район в ближайшее время. «К сведению!» — размашисто подписал Васюнин сверху. Однако жизнь опередила и эту бумажку: гидротехник «Водхоза» приехал из области еще вчера. На сегодня намечено провести обследование Вязовки.
Ольга прочитала еще пять-шесть документов и отнесла папки к Зинаиде Саввишне: все принято к сведению, все, что не исполнено, — будет исполнено!
На Вязовку кроме гидротехника собирались также Васюнин с председателем райисполкома. Времени было еще немного, и Ольга решила не дожидаться всех, а уехать одна, с тем чтобы по дороге заехать в Ключевское и повидать Юрку. Сына вместе с Леной она отправила в Ключевское, к матери, как начались поливы, и видеться с ним приходилось редко.
Ольга вышла на перекресток, перед выездом из села, и дождалась попутной машины.
Посадил ее незнакомый шофер в пестроклетчатой ковбойке. Прежде чем открыть дверцу кабины, он мельком взглянул в зеркальце над ветровым стеклом и зачем-то провел рукой по спутанным кудрявым волосам.
Справа от дороги работал трактор. За ним неотрывно тянулось огромное клубящееся облако пыли. Ветра почти не было, и пыль, возникая сразу же за культиватором, поднималась высоко-высоко. Солнце так иссушило землю, что верхний слой ее обратился в порошок.
Ольга кивнула на трактор: видите, мол, что творится на полях? Но шофер понял ее по-своему.
— Да, работка пыльная, — вежливо проговорил он.
Ольга молчала всю остальную дорогу. Ей было удивительно и обидно, что люди могут смотреть на одно и то же и видеть разные вещи: один видит бедствие, другой — только обыкновенную пыль.
Вот и Ключевское. Матери дома не было. Юрка с Леной собирались обедать. Когда Ольга вошла, Юрка умывался. Он неумело намыливал руки, тер подбородок, щеки, плескался, но грязь за ушами и на шее так и оставалась нетронутой.
— Ну-ка, давай я тебе помогу. — Ольга подошла к Юрке и начала сама умывать его. Каждое прикосновение к его худенькому телу радостно отзывалось в сердце, точно радость эта передавалась через кончики пальцев, как ток. А Юрка довольно фыркал, блестя отцовскими смородиновыми глазами, и тоже старался стать ближе, плотнее к Ольге.
Сели обедать.
Захлебываясь, торопясь и не успевая прожевывать, Юрка рассказывал новости своей ключевской жизни.
Новостей у него накопилось много. Ведь надо было упомянуть и о соседской собаке, которая уже учит ходить своих маленьких кутят, и о пролетевшем вчера и сделавшем над селом круг самолете, и о гнезде какой-то серенькой птички, которое он обнаружил в крыжовнике, и еще о десятке столь же важных и интересных вещей.
— Знаешь, как мы играем? В конницу!.. А то еще ползаем… пластом ползаем.
— Не пластом, а по-пластунски, — авторитетно поправила Лена.
— Все равно! — Юрка отмахнулся, недовольный тем, что его перебивают, и продолжал: — А я бабочку, нарядную-нарядную поймал. Постой, она у меня в коробке, сейчас покажу!
Ольга слушала сына и думала, что готова, наверное, хоть целый день вот так просидеть с ним, болтая о разных пустяках.
А Юрка, видимо, исчерпав весь запас новостей, мало-помалу замолк и уж начал нетерпеливо ерзать на месте и поглядывать в окно, за которым играли не то «в конницу», не то еще в какую-то игру его товарищи.
— Да чего уж, иди. — Ольга провела рукой по челке сына и легонько подтолкнула в плечо. — Иди, гуляй…
«Да, ему нет дела до того, хорошо мне одной или плохо. И нужен ему только тот, которого он полюбит сам». Пришла на обед Татьяна Васильевна.
— Что, дочь, теперь тебе одной скучно? — наливая в умывальник, спросила она. — Ничего, ты помоложе, да и к делу не так, как я, привязана — захотелось, всегда приехать можешь… Пообедали? Собери-ка и мне уж заодно.
Ольга налила щей, нарезала хлеба и села на лавку, на свое любимое с детства место, у края стола.
Мать рассказывала, как идет подготовка к уборке, жаловалась на нехватку людей, на сухую погоду.
Ольга как-то к слову спросила, бывает ли у нее по-прежнему Костин.
— Наезжает. Уж на что пора летняя, горячая, а все равно нет-нет да и заявится. Смышленый парнишка, из него толк выйдет. Когда первый-то раз пришел да сказал, что за помощью, ну, думаю, председатели в Березовке меняются, а колхоз как был у нас нахлебником, так и останется. А он, оказывается, за помощью, да не за той.
— Смотри, как бы этот смышленый парнишка на будущий год тебе пятки не отдавил.
Мать усмехнулась:
— Ну нет, до нашего колхоза им еще далеко. На будущий год им бы на ноги как следует встать, и то слава богу.
— А Костину где на ноги встать, тут же и тебя догнать, а может, перегнать.
— Ну, ну, не пугай. Посмотри-ка на хозяйство — на ихнее и на наше, посмотри на поля, сравни.
— А разве это важно?
— А что же еще? — Мать удивленно и несколько покровительственно поглядела на Ольгу. Больше всего Ольгу задевал вот этот покровительственный тон.
— И это, конечно, — поправилась она, — но глядеть надо глубже. Ты гляди не на то, что хозяйство у Костина еще бедное, а на то, как он его в руки берет, на что замах делает.
— Ему еще на многое такое надо замахиваться, что у нас уже давно сделано. Да и что ты за меня опять взялась? Только было все пошло мирно, по-хорошему, а ты опять. И что тебе все неймется? Что ты с матерью обязательно на ножи лезешь?
— Да я ничего, — подчеркнуто-спокойно сказала Ольга. — Когда дело орошения касалось, там мне за тебя волей-неволей браться приходилось. А здесь — гляди сама. Я просто к слову.
Она начала было убирать со стола, но мать, опережая ее, поспешно сложила всю посуду и унесла к печи.
— Ну, мне надо идти. Договорим в другой раз.
Ольга молчала. Мать помешкала, посмотрела на нее и уже не так сердито добавила:
— А пожалуй, и договаривать нечего. Все и так понятно. Только опять же, как и зимой, скажу: легко тебе обо всем рассуждать, а каково мне делать? Ты говоришь одно, Николай Илларионович — другое, а тут еще Хлынов с Галышевым спокою не дают. Ну-ка, разберись во всем и не ошибись, потому что ошибаться мне нельзя, от этой ошибки не одна я, а сотни людей пострадать могут…
Из дому они вышли вместе.
Ну, конечно, как всегда, он опоздал. Сражение уже закончилось, победители с запыленными, грязными, но счастливыми рожицами вели пленных — остатки неприятельского гарнизона, защищавшего избяной сруб, то бишь крепость, на соседнем проулке. Потом делили трофеи. Трофеи богатые: ружья, сабли, рогатки. Юрке, понятно, ничего не досталось, хотя он и принимал самое отважное участие в первых атаках на крепость. Обидно!
И вот уже который раз так: Ленка затаскивает его обедать в самый важный момент. Что бы чуть-чуть, ну, хотя бы часик спустя, так нет же… Да и мать еще тоже, как нарочно, приехала. То не ездит, не ездит, а уж приедет, так обязательно в самое горячее время. Небось думает, что ему, Юрке, не хочется с ней вместе побыть. Очень даже хочется. Но как она не понимает, что товарищи-то не ждут, им и дела нет, дома у него мать или не дома. Вот, пожалуйста: пока он с ней разговаривал, все интересное кончилось, а сейчас остается только слушать, как Федька Кольку р-раз, а тот его тоже р-раз, как Андрюшка залез по углу, а Сережка пробрался через окно и спрыгнул прямо Петьке на спину… Эх, лучше бы он и не возвращался на улицу, лучше бы уж сидел с мамой!..
Юрка еще некоторое время послушал хвастливые рассказы товарищей о том, что было в его отсутствие, а потом, только еще более огорченный и раздосадованный этими рассказами, поплелся домой.
Но и матери дома уже не было. Ах, как плохо все получается! Туда не успел и здесь опоздал…
Юрка немножко поговорил с петухом и дал ему поклевать из рук хлебную корочку, посвистел в камышовую дудку, потом прошел в сад, притаился под вишней и стал глядеть, как кормит своих птенцов серенькая пичужка, гнездо которой он недавно нашел.
Вот она прилетела с червяком в клюве, села на куст смородины, повела глазом-бусинкой туда, сюда: нет ли кого поблизости? Юрка затаил дыхание. Видимо, птичка не заметила его. Она перелетела поближе к гнезду, еще ближе, и вот уже ей навстречу вытянулись пять больших желтых ртов. Юрка не успевает разглядеть, в каком же из них исчез червяк, а мать уже полетела за новым: пять ртов, и всех надо накормить, скоро ли накормишь, если по такому маленькому червячку таскать…
«А интересно, — думает Юрка, — есть ли у них папа? Или одна мама? Одной трудно успеть на пятерых».
Он терпеливо дожидается пичугу, а мысли переходят на другое.
Недавно мама спросила его: «А что, если бы дядя Миша с нами жил?» — «Зачем?» — удивился Юрка. «Он тебе папой будет», — ответила мать, и ответ этот обидел Юрку. «Нет у меня папы, а дядю Мишу я не хочу…»
Умная у него мамка, очень умная, а таких простых вещей не понимает. Ну зачем им нужен дядя Миша? Разве им плохо без него? Или, может, ей трудно одной? Так ведь у нее же не пятеро, а только один он… Конечно, хорошо, если бы папа был. Это было бы очень здорово. Но уж тогда пусть им будет дядя Илья. Когда же он сказал об этом матери, та долго объясняла, что дядя Илья не может быть ему папой, но почему не может, он так и не понял… По-прежнему сложным и непонятным остается для него этот мир взрослых. Пожалуй, даже с каждым днем становится все сложнее и непонятнее.
Опять прилетела пичуга и опять долго оглядывалась по сторонам, прежде чем отдать червяка своим птенчикам. А Юрка смотрел сквозь густоту вишневых кустов, и ему хотелось сказать птичке: да не бойся, не бойся, я не буду зорить гнезда. Сам не буду и никому другому не дам. Знай таскай червячков своим дитяткам — вон они как орут…
2
Михаил работал возле кузницы.
Вчера он ходил смотреть паровое поле. Сорняков на нем было много. Михаил задумался: сумеет ли лапчатый культиватор достаточно хорошо разрушить корни таких злых, живучих сорняков, как осот, пырей, молочай? И не окажется ли тогда он, Михаил, в своем споре с агрономом действительно не больше, как самонадеянным мальчишкой? Он думал над этим день, проворочался с боку на бок почти всю ночь. В конце концов выход был найден. Перепахивать пар, конечно, не следует, а чтобы надежно уничтожить сорняки на нем, конструкцию культиватора надо несколько изменить: лапы снять, а между стоек, на которых они крепятся, протянуть наискосок стальные пластинки. Будет идти такая пластинка на глубине десяти сантиметров и, не тревожа верхнего слоя, подрежет все сорняки.
Работал Михаил над переделкой культиватора с таким увлечением, что даже не заметил, как кто-то подошел к нему сзади, и понял это только по тени, упавшей на раму культиватора. Михаил обернулся, и у него больно кольнуло сердце, а гайка, которую он привинчивал, выпала из руки и укатилась в траву: перед ним стояла Ольга.
Она была в том самом коротком, с узким поясом и простенькой вышивкой на груди, платье, которое очень молодило ее. Туго заплетенные косы двойным полукольцом свешивались на тонкую загорелую шею.
Михаил понял сразу, что Ольга пришла к нему по делу.
Она сказала, что Михаил, наверное, знает — засоленные участки, кроме ярового клина, есть и в других полях. Он ответил, что да, знает, видел и в других полях эту седую, похожую на золу, неживую землю, по которой идешь и нога тонет.
— Весной начали рассоление, — сказала Ольга, — хорошо бы теперь продолжить его. Хорошо бы вспахать зябь в два раза глубже, чем обычно. Решает это пусть сама бригада, потому что если дело дойдет до главного инженера, то вряд ли он согласится дать дополнительное горючее или тем более запасные части.
От кузницы подошел Гаранин. Видимо, они с Ольгой приехали вместе.
— А чтобы и твое начальство об этом знало, вот Илью Михайловича привезла.
Михаил усмехнулся: «За перерасход горючего не это начальство платить будет, а я… Да и если бы только за этим его привезла!..» Ольге он ответил, что поговорит с трактористами.
— Машины бы чуть поновей! А то ведь моим гробам и так-то всего: и горючего и частей — идет больше нормы. За сев полтонны перерасходовал…
— Ну, кое-какие части ведь тебе Галышев из своего запаса, кажется, уступил? — Гаранин посмотрел под культиватор, нашел в траве гайку и отдал ее Михаилу. — Или все равно не хватит?
Михаил вспомнил, как Гаранин на севе выговаривал ему за глубокую пахоту засоленных участков.
«Уж лучше бы не лез во все это, товарищ секретарь».
— С ними бы хватило, да мне и хочется, и не хочется его подшипники на свои трактора ставить.
— Это почему же?
— Соревнуемся мы с ним. А какое же это будет соревнование, если я Галышева на его же подшипниках объеду? Моей бригаде такая слава не нужна.
Гаранин и Ольга насторожились.
— Разве все дело в славе? Ведь Галышев-то тебе уступает части по-хорошему, по-товарищески, а ты…
— Что я? — теперь тоже насторожился и как-то весь напрягся Михаил.
— А ты вот так рассуждаешь, — ответил Гаранин.
Руки у Михаила дрогнули, ключ, глухо звякнув, упал на землю.
— Как умею, товарищ секретарь, так и рассуждаю, — сухо сказал он. — И, уж если на то пошло, вообще рассуждать проще, чем дело делать…
Михаил понимал, что говорил не то и не так, но ничего не мог поделать с собой. Жгучее, незнакомое чувство захлестнуло сердце, ослепило. Вряд ли это была простая ревность, потому что если он и ревновал Гаранина, то скорее не к Ольге, а к ее сыну. Привязанность Юрки к Гаранину была непонятной Михаилу и злила его.
Ольга первой заметила и поняла, что разговор пошел уже совсем не о том, с чего начался. Она растерянно, через силу, улыбнулась, и от этой улыбки лицо ее сделалось напряженным, некрасивым.
— Ты все-таки подумай, с ребятами поговори, — как ни в чем не бывало сказал Гаранин. То ли он был занят своими мыслями, то ли делал вид, что не замечает злых, прищуренных глаз Михаила. — Дело это важное, и горячиться тут не надо… Ну, что ж, Оля, а теперь — к Костину.
«Ну, конечно, так вместе и ходите. Только с каких это пор работа партийного секретаря стала сродни агрономической?!»
Ольга с Гараниным ушли. Михаил проводил их долгим, тяжелым взглядом и отер со лба пот, все еще чувствуя нервное подрагивание в пальцах.
Еще какой-нибудь час назад он готов был благодарно пожать руку Гаранину за то, что тот поддержал его, когда он выгнал Горланова. Надо думать, он же, секретарь, надоумил и Галышева поделиться частями… А вот вышло так, что облаял. Облаял ни за что ни про что. Глупо!
Михаил попытался продолжать работу, но руки плохо слушались, резьбы гаек не попадали на резьбы винтов. И ключ то и дело срывался, и отвертка не держалась в руках.
Михаил сложил инструмент и пошел в поле.
С плотины доносился визг и хохот купающихся ребятишек. В магистральном канале стояла большими лужами не успевшая высохнуть после полива вода.
Михаил обошел засоленные участки, прикидывая, много ли это будет. Не раз он говорил себе: «А на кой черт мне все это нужно? Разве что еще один выговор от Оданца заработаю…» Говорил и все-таки шел дальше.
Проходя на обратном пути мимо кузницы, он заглянул в стоявший рядом с ней бригадный вагончик. Вагончик ремонтировали, кузнец менял у него вконец износившиеся колеса. Михаил открыл замок на двери и вошел внутрь вагончика. Вот они, эти части. Все заводской марки, с густой жирной смазкой…
Михаил осматривал, ощупывал втулки, кольца, клапаны, и ему уже жаль было расставаться с ними, как со своими собственными. И не просто жаль. Зябь на большую глубину без них не поднять. Не выдержат машины…
Как же по-разному жизнь у людей складывается: у одного гладью под ноги стелется — шагай себе, песни пой; другой словно по выбитой мостовой идет — что ни шаг, то колдобина… Галышев как-то запросто, играючи обошел его на севе; с главным инженером у него самые хорошие отношения — частей бери сколько хочешь; дождевальную установку между прочим, походя смастерили. Он же, Михаил, на севе старался, старался, а, кроме перерасхода, ничем не отличился; сейчас частей нехватка — с инженером, как нарочно, конфликт… Да и если б только это! Встретил человека по сердцу, а человек этот то ли его любит, то ли другого — не поймешь.
В село вернулся Михаил уже под вечер.
Больная нога отяжелела от долгой ходьбы, будто свинцом налилась, и Михаил, забравшись на сеновал, со сладким истомным покалыванием в суставах вытянулся на свежем сене.
Чтобы все время не думать о сегодняшней встрече с Ольгой и Гараниным, Михаил начинал подсчитывать, через сколько смен надо ставить на текущий ремонт ихматуллинский трактор, сколько уйдет горючего сверх нормы на вспашку засоленных участков. Но вдруг посреди этих подсчетов перед глазами вставала растерянно улыбающаяся, некрасивая Ольга, и мысли путались.
Раздались девичьи голоса и стук шагов по зыбким половицам сеней. Это пришли Маша Рябинкина с учетчицей Зиной. Пройдя в дом, они тут же вернулись, продолжая о чем-то разговаривать, начали греметь умывальником. И хотя Михаил не видел девушек, почти весь разговор их был слышен.
— Он, черт, хитрый, этот Филипп, — плескаясь водой, говорила Маша, — что-то колдует, колдует над машиной, а потом сядет за руль и не слезает, пока вода или керосин не выйдут…
— Сердитый он какой-то… — медленно, невесело проговорила Зина. — За ушами еще мыло осталось, смой.
— Что ты, Зинка! Это только сверху, видимость. Ты не робей, зато уж он тебя научит лучше всякого механика. Ну, мойся, где полотенце?
— Не знаю, еще как бригадир на это посмотрит.
— Бригадир…
Михаил дальше не расслышал.
— А замечаешь, Маша, осунулся он как в последнее время… Вот и я говорю… А до сих пор не женатый…
— Заплатка на коленке женскими руками пришита!
— Это, наверное, мать…
Михаил улыбнулся. Ему даже представилось на секунду, как Зина подняла от умывальника голову и смотрит на подругу: мокрые ресницы слиплись, а с подбородка падают капли… Неудобно подслушивать, но и сказаться тоже теперь было неудобно.
С минуту, кроме постукивания умывальника да плеска воды, ничего не было слышно. Потом заскрипели ступеньки крыльца, и Маша предупредительно вскрикнула:
— Кончай. Идет кто-то…
— А вот и я!
Михаил удивился, услышав самодовольный и, как всегда, немножко парадный голос Горланова:
— Ах, вы занимаетесь туалетом и не совсем одеты. Прошу великодушно извинить, пардон!
Девушки взвизгнули и убежали в дом, хлопнув дверью, так что последних слов они, наверное, и не слышали. Горланов сказал их, надо думать, только для того, чтобы округлить так пышно начатую фразу и послушать свой великолепный голос.
Послышались шаги. Горланов прошел в дальний от двери угол сеней и, вероятно, уселся на стоявшую там кровать.
Снова отворилась дверь избы.
— Приветствую и поздравляю тебя, Зиночка, — ораторским голосом загремел Горланов.
— С чем бы это?
— Ну как же. Ты теперь имеешь шанс занять мое место: директор, как это ни грустно, утвердил мою отставку.
Мужские голоса, тяжелая поступь многих ног приблизились к крыльцу.
— А вот и герои колхозных полей. Привет, привет! Федюня, друг гречишный!..
Михаилу слышно было, как трактористы раздеваются, наливают воду в умывальник.
— Ну, как вы тут без меня? — осведомился Горланов. Он, должно быть, закурил: послышалось ширканье спички и глубокий выдох. — Прошу угощаться. Первый сорт «Г».
— Да ничего. Туговато, конечно, но ничего, обходимся, — ответил Филипп Житков. — А папиросы-то у тебя действительно…
— Эх, Филипп, Филипп, земляная натура, никакого чутья к тонким ароматам. Тебе бы все махру да самосад жрать… Ну, ребята, а как бригадир? По-прежнему свирепствует?
— Ой, не говори, рвет и мечет, — в голосе Маши Рябинкиной слышался смех, но Горланов не заметил этого.
— Вы-то, может, еще не в курсе дела, а для меня картина теперь прояснилась до самого горизонта.
— А что такое? — спросил Пантюхин и шумно высморкался.
— Ну как же! — протяжно воскликнул Горланов. — В МТС график соревнования во всю стену, и на нем самыми крупными буквами фамилия нашего бригадира да еще Галышева из десятой.
— И что? — перестав стучать умывальником, еще раз спросил Пантюхин.
— Как что? Да ты что, Федюня, дошкольный младенец, что ли, не понимаешь таких прописных вещей? Карьеру себе пробивает, за славой тянется…
— Ну, насчет карьеры-то потише, не такой он, чтобы… — Заглушив последние слова Пантюхина, опять загремел умывальник, заплескалась вода.
— Что там потише. Подмочил свой авторитет, а теперь на наших костях просушивает. А с чего, ты думаешь, он так взъелся на всех, из кожи лезет?
— Положим, не на всех…
— А что такое карьера? — спросил Зинят Ихматуллин.
— Карьера — это, Зинят, такая скверная штука, что о ней не стоит и говорить… Это… это, понимаешь, когда человек старается, ну беда… как старается, чтобы его похвалили или еще там как отметили.
— Однако что тут плохого? Совсем хорошо! Надо стараться, обязательно надо.
— Ну вот, попал пальцем в лужу. Понял, называется! — Горланов пренебрежительно фыркнул.
— Как объяснил, так и понял. Хорошо понял.
— Ну, старайся, старайся. Ему такие старатели, вроде тебя да Филиппа, как раз и нужны. — Голос у Горланова: потерял обычную парадность, стал нервным и злым. — Старайтесь, — опять повторил он. — Зашибайте деньгу. Филиппу — детишкам на молочишко, а тебе надо — жених уж! — на гармонию, сапоги со скрипом… А я за копейку себя давить не стану. Я не того пошибу, донор веттер. А нужно — так найду работу и почище…
— Эх ты-и, донор веттер! — почти нараспев проговорил Филипп Житков. Похоже, что он зачем-то уходил в дом и только что вернулся. — В голове у тебя ветер — вот что. Большой уже лоботряс, а не понимаешь, что на себя, а не на дядю работаем. Эх… Да обеспечь меня дармовой жизнью и по сто грамм каждый день давай перед обедом — разве я соглашусь без работы?
— Ну, по баночке-то для сугрева тела, это бы никогда не помешало, — прищелкнув языком, вставил Пантюхин.
— Не соглашусь, — продолжал Житков. — Я и про тебя думал, что машины любишь, потому и в трактористы пошел. А тебе, оказывается, где бы ни работать, лишь бы не работать. Работник!
— Какой ты шибко идейный стал, Филипп, просто никакого спасу нет. — Горланов зло засмеялся. — Тебя бы в бюро пропаганды, темную массу агитировать, мозги вправлять.
— Они у тебя набекрень, это верно…
— Да что ты на меня набросился? Что пристал, как березовый лист к мокрому месту? — пытался отшутиться Горланов, но голос его выдал: он хотел это сказать непринужденно-весело, а получилось натянуто и жалко, как тогда, когда Михаил выгнал его, а он, еще не совсем понимая, что произошло, переспросил: «Как иди? Куда?»
Житков что-то сказал еще и застучал сапогами по ступенькам — наверное, пошел домой.
В сенях на минуту стало тихо, потом Пантюхин, видимо, что-то жуя, невнятно спросил:
— Ну, а как ты теперь?
— А ничего, — уже оправился Горланов, — я еще покажу, кто из нас настоящий работник. Дай мне только вырваться на оперативный простор.
— Да, дорога у тебя на все четыре! — поддакнул Пантюхин и шумно вздохнул. — Только, друг, когда много сторон, часто бывает так, что идти-то и некуда…
— Ну, Федюня, это не совсем точно. Как говаривал один мой старый кореш: раз голова на плечах — значит, еще не все потеряно. Подадимся на строительство новой плотины. Там технический персонал во как требуется, с руками и ногами оторвут… А по секрету, — Горланов понизил голос, — так еще и неизвестно, чем здесь дело кончится… Смеется тот, кто смеется последним…
Дальше Михаил слышал только отдельные слова.
— Можно тут найти? — спросил Горланов.
— Были бы деньги, — мечтательно ответил Пантюхин.
— Тогда пошли. Где наше не пропадало! Угощу по старой дружбе…
По сеням некоторое время еще ходили, хлопали дверями, и, наконец, все стихло.
Михаил натянул сапоги и, стараясь не шуметь, слез с сеновала. В сенях никого не было. Он вышел в садик, оперся на плетень, закурил.
Вполнеба полыхал огнистый, разливной закат. Солнце, падая за горизонт, все дальше и дальше протягивало свои лучи, точно хотело зацепиться ими, чтобы еще подольше задержаться над землей. Солнечные лучи сквозными линиями пронизывали улицу, плетни, сады и были похожи на туго натянутые золотые нити.
И вдруг где-то совсем рядом заиграла скрипка. Михаил вздрогнул от неожиданности. Скрипка играла тихо и как-то робко. Она словно и хотела быть услышанной, и боялась, что ее не поймут.
Михаил обернулся и в саду, неподалеку, увидел стоявшего к нему спиной Зинята. Он стоял под вишней и, наклонив голову над скрипкой, играл, слегка раскачиваясь из стороны в сторону.
Михаил еще как-то весной заметил в вещевом мешке у Зинята маленький черный футляр. Но тогда он даже не поинтересовался, что было в этом футляре. А Зинят или никогда не вынимал скрипки, или играл в его отсутствие, но только Михаил ни разу еще не слышал его игры, и вообще ему странно было представить Зинята играющим на скрипке, хотя он знал, что скрипка в соседних татарских селах инструмент национальный.
— Хорошо ты играешь, Зинят, — тихо проговорил девичий голос, когда скрипка смолкла на низкой дрожащей ноте. — И руки у тебя вроде… а играешь хорошо.
— Говорю я плохо, Марийка, — горячо откликнулся Зинят, порывисто прижав скрипку к груди. — А моя так много сказать тебе хотел…
— Не надо, Зинят, — с каким-то радостным испугом остановила его Маша. Должно быть, она сидела на траве, и Михаилу за кустами ее не было видно. — Ты лучше играй… Ты очень хорошо играешь, Зинят…
Сквозь просвеченные солнцем ветви вишен Михаил увидел вскинутую палочку смычка, и скрипка запела снова. По-прежнему в ее голосе звенели робкие, грустные ноты, но теперь в них все гуще и гуще вплетались радостные, уверенные в своей силе и красоте.
Солнце медленно тонуло за горизонтом.
3
На потемневшем небе проступила красноватая половинка луны. Некоторое время она как бы раздумывала: податься ли вверх, к загоравшимся звездам, или пройти вдоль села поближе к земле. Наконец стронулась, медленно подкралась к росшим над речкой ветлам и повисла на одной из крайних веток.
Андрей сошел с крыльца и сел на березовый обрубок.
От речки, с капустных огородов тянуло прохладой. На дворе через длинные промежутки шумно вздыхала корова. Из сеней дома доносился стук посуды, голоса ужинавших трактористов.
— Не спеши, Тихон, не спеши, — очень серьезно и наставительно, как ребенку, говорил Лохов.
Поздняков закашлялся и что-то сердито пробурчал.
— Ну вот видишь, подавился.
— А ты вечно под руку языком треплешь, аппетит перебиваешь.
— Это верно… Тетя Поля, налей Тише еще тарелочку, а то у него аппетит испортился.
Женя Мошкин с Лоховым фыркают и начинают хохотать.
— Мишка! — кричала откуда-то с огорода соседка тети Поли. — Кому говорю, постреленок! Опять родной матери не слушаться?!
Покачавшись на ветке, луна нырнула за нее и пошла по-за ветлами дальше, то показываясь всей половинкой, то снова прячась.
Сегодня в гости к Андрею приходила мать. И надо же было так случиться, что увидела она его на улице, когда он шел с Соней Ярцевой.
«Никак, невесту нашел, сынок?» — спросила мать, когда они остались вдвоем.
«Так уже обязательно невеста! Просто… здешняя одна…» «Ну, да, это понятно, что не заграничная. Я к тому, что пора бы тебе и… что бобылем-то мотаться? А девушка, по всему видно, неплохая. Женился бы, сынок. Уж больно хочется внучат дождаться».
Женился бы! Будто это так просто! И вот интересно: все, что ли, матери такие? Уж который раз он слышит про этих самых внучат…
Раскуривая папиросы, из дома вышли Лохов и Поздняков, за ними следом, надевая на ходу пиджак, Женя Мошкин.
— Пошли, Андрей Петрович, не опоздать бы!
Сегодня открытие клуба, и трактористы направлялись туда.
— Да, Тиша, — балагурил по дороге Лохов, — поднарядился ты правильно. И рубаха с петухами, и штаны, можно сказать, по моде, океанской ширины. Первый парень на деревне! Только не поможет. Нет! Я вон тоже на сапоги блеск навел, а что проку? Все равно рядом с Женей наше дело пропащее. Ни одна девушка даже и не посмотрит. — Лохов стрельнул указательным пальцем окурок, рассчитал шаг и наступил на огонек ногой.
Мошкин отмалчивался. В последнее время, то ли потеряв всякие надежды, то ли в пику Соне, он перестал подходить к ней и провожал с гулянья других девушек, пользуясь постоянным и завидным успехом.
Из огромных, раскрытых настежь окон клуба звонкими ручьями лились переборы баяна, девичьи припевки.
Внутри здание имело еще явно не обжитый вид: кроме стола, скамеек да нескольких плакатов по стенам, в нем ничего не было. Передние ряды занимали пожилые колхозники, поближе к порогу сидела и просто толпилась молодежь.
За стол, накрытый кумачом, прошел Хлынов. Он поздравил колхозников с открытием клуба, напомнил о надвигающейся уборке.
И вот опять заговорил-запел голосистый баян, опять молодежь подалась поближе к порогу, на свободное от скамеек место.
Девушки попробовали затянуть песню, но песня как-то не получалась: была она протяжной, а это никак не вязалось с сегодняшним настроением. Тогда одна из них, высокая, русокосая, попросила баяниста сыграть что-нибудь повеселее, и тот, пробежав пальцами по всем пуговкам — как это делает всякий уважающий себя баянист, — рванул частушечную.
Меня милый то ругает, то целует у ворот, то с другою изменяет, мой характер узнает, и-и-и!.. —пропела девушка, вскрикнув на конце. Это «и-и-и» вышло так лихо и задорно, что после него уже просто никак нельзя было не пуститься в пляс. Ноги сами выбили частую дробь и пошли-пошли по кругу.
— Русского! Давай русского! — закричали баянисту.
А девушка обошла два раза и остановилась перед Женей. Тот растерялся от неожиданности, а девушка, и раз и два стукнув перед ним каблуками, уже делала отход на другую сторону круга.
— Ай да Валя!
Женя и сам не заметил, как очутился в середине. Сначала чувствовал он себя связанно, не хватало той свободы и непринужденности в движениях, которые так необходимы в пляске, тем более в русской. Но постепенно разошелся и уж хотел было крикнуть баянисту, чтобы играл почаще, как вдруг наткнулся взглядом на смеющиеся, озорные глаза Сони. Женя смешался, сбился с такта и, кое-как дойдя круг, нырнул в стенку парней между Лоховым и Поздняковым.
— Соня! Соня! Давай сюда! — обрадованно зашумели девушки.
— Соня! Выручай, а то трактористы забивают.
— Тише вы! Что за гвалт?! — крикнул от стола бригадир плотницкой бригады Бутов.
— Вот это уж ты зря, Родион Григорьевич, — возразил Хлынов. — Клуб построили — обновить надо, — и лукаво прищурился на Бутова. — А может, ты пол плохой настлал?.. Хороший? Ну, это мы сейчас посмотрим. А ну-ка, Соня, обнови!
Стенка молодежи расступилась, и Соня смело и уверенно вышла в круг. Она поставила левую руку на талию, выждала, пока баянист переберет все свои пуговки, и медленно поплыла, чуть покачиваясь и поводя вытянутой кверху правой рукой в ту и другую сторону. Голова ее была откинута назад, а глаза смотрели куда-то поверх тесного кольца ребят и девушек.
Первый круг. Второй. Все так же плавны движения Сони, все так же спокойно лежит ее рука на поясе. Но вот она крутнулась на месте, притопнула и засновала от одной стенки к другой, легко и дробно перебирая ногами.
— А ну, Андрей Петрович, — крикнул кто-то, — поддержи честь бригады!
— Покажи, Андрюша, почем сотня гребешков!..
Андрей начал упираться и попытался спрятаться за спины товарищей. Но было уже поздно: сама Соня делала ему вызов, опустив почти до полу правую руку и отступая к стенке девушек.
Поздняков молча сгреб Андрея в охапку и вытащил на самую середину:
— Не позорься хоть перед девками-то!
Андрей немного постоял, выражая на лице полнейшую растерянность, и неохотно, кое-как двинулся по кругу. Выходило плохо: он спотыкался, чуть не падая и останавливаясь, чтобы посмотреть, обо что запнулся, руки болтались, как чужие.
— Эх, — сокрушенно вздохнул кто-то из ребят, — корова на льду.
Так же лениво, отбывая номер, прошел он и второй круг. «Танцевать я не умею, да и охоты никакой нет, — как бы хотел сказать Андрей, — но уж если это вам очень интересно, так и быть, немного тут похожу: взялся за гуж, не говори, что не дюж…» Однако более внимательный глаз мог бы подметить, что Галышев не такой уж и недотепа в пляске, каким показывает себя: и спотыкался он как-то очень ловко, всегда в такт музыке, и руками размахивал хоть вроде и неуклюже, но тоже с определенным смыслом.
Посредине третьего захода Андрей приостановился и внимательно посмотрел на свою правую ногу… Что за черт? — полусогнутая нога сама, помимо воли хозяина, начала выбивать чечетку. Тогда он хлопнул по ней рукой, нога выпрямилась и замерла, но зато в ту же секунду согнулась в коленке другая и затопала, заходила вокруг первой. Удивленно вздернув плечи, Андрей огляделся: я, мол, тут ни при чем, но, видно, уж ничего не поделаешь, коли ноги сами в пляс пошли.
— Э-э! Была не была, где наше не пропадало!
Пригнувшись, Андрей сорвался с места и, разгребая перед собой руками воображаемую воду, лихо помчался на девушек. Те взвизгнули от неожиданности и отхлынули, давя друг друга.
— Шире круг!.. Еще, еще шире!
А Андрей бежал дальше к баянисту, от баяниста к стенке парней и снова наступал на девушек. Он то свободно, будто гуляючи, прохаживался по просторному кругу, то летал вихрем, пугая девушек, то начинал кружиться на одном месте, то сыпал оглушительной дробью.
Вот он остановился и, вытянув ногу, всей ступней ударил о пол, словно точку поставил. Соня, отвечая на вызов, поставила свою и, приладясь к бешеному темпу, на котором закончил Андрей, сразу же, с места, стремительно понеслась вдоль живого кольца. Она едва касалась пола, ставя и тут же отнимая ноги, точно пол был раскаленным и жег подошвы. И ветерком обдавало тех, мимо кого проносилась Соня. Влажным блеском сверкали на раскрасневшемся лице ее темные, горячие глаза, и все статное тело, каждый мускул его жил и радовался в этом развертывающемся, как пружина, танце.
— Андрюша-а, не подгадь! — простонал кто-то из парней.
— Дай жару, Андрюша!
— Ударь по всем по трем!
Андрей в один прыжок очутился в самом центре, широко повел назад одной ногой и перевернулся вслед за нею. Затем вприсядку, разведя руки, пустился за Соней, настиг ее, отступил, снова настиг и на ходу дважды обежал вокруг. И все это в такт музыке, все это так ловко, что у парней замирало дыхание. Но они, словно желая увидеть что-то уж совсем невозможное, все-таки продолжали кричать:
— А ну, прибавь газку, Андрей!..
— Жми на полный!
— Соня, Соня! Не поддавайся!
Баян уже не пел, а только всхлипывал и шумно, глубоко дышал, как загнанный, пропадая совсем и оживая вновь. Баянист взмок и в изнеможении то клал голову на планки, то откидывал назад, поправляя заодно этим жестом и свои длинные волосы, падавшие прямо на глаза. Пальцы давно перестали бегать по перламутровым пуговкам — баянист жал на них всей пятерней.
А Андрей с Соней все носились по кругу, и пол гудел и стонал под их ногами. Вот Андрей с лету схватился за носок сапога и, став похожим на цаплю, запрыгал, как через кольцо, через свою же согнутую ногу, а вот прошелся перед Соней колесом. Но и этого ему показалось мало, и он начал нещадно колотить ладонями по груди, по коленям, по голенищам сапог и прямо по полу, даже по лакированному козырьку фуражки наклонившегося над ним парня как-то ухитрился ударить раз-другой.
— Эй, жги-говори!
Тесное кольцо парней и девушек ни минуты не оставалось на месте. Суживаясь до того, что нависало над танцорами, и тут же снова раздаваясь, оно постоянно двигалось, охало, вскрикивало.
— Э-э, да что там!
Андрей взвился вверх и, упав плашмя на руки, завертелся волчком, завертелся разудало, напропалую. Чтобы лучше видеть, задние ряды навалились на передние, началась давка. Соня, оттесненная наседавшим кольцом молодежи к Андрею, взмахнула руками, да так и оставила их вытянутыми, как расправленные крылья. И казалось, летит-парит над крутящимся внизу Андреем, часто-часто перебирая ногами по воздуху, совсем не касаясь пола.
— Ай, жарь жарче!
— Крути-верти!
— Бей-бей, не жалей!
— Со-оня-я!
— Андрюша, дру-уг!
— О-ох!.. — облегченно прокатилось по клубу вместе с последним вздохом захлебнувшегося баяна.
Ребята и девушки, точно это они сейчас отплясывали в кругу, отирались платками, шумно и прерывисто дышали.
Только теперь все почувствовали, что в клубе стоит нестерпимая духота, и дружно повалили на улицу.
Луны не было видно. Она, должно быть, окончательно заплуталась где-то в ветлах. Ковшик Большой Медведицы опрокинулся и уперся ручкой в ветряной двигатель, силуэт которого высился на крыше соседнего дома. Значит, было уже за полночь. Шумная толпа молодежи с песнями, хохотом и гамом растекалась по улицам и переулкам села.
Андрей шел рядом с Соней и молчал. Соня еще не успела отдышаться, и белый бантик то опускался, то поднимался на ее груди. Лица из-за темноты было почти не видно.
Андрей не знал, о чем сейчас можно говорить с Соней, все еще видя ее летящей в стремительной пляске, с разгоревшимися глазами и откинутой головой. И в ушах еще стояли слова, сказанные кем-то из парней по выходе из клуба; «Ветер, а не девка! Попробуй угонись за такой!»
Соня попросила платок (свой она потеряла в клубе) и, поймав взгляд Андрея, тихонько рассмеялась.
— Что, или не узнаешь?
Андрей не нашелся, что ответить. Понимая, что в их отношениях с Соней произошла какая-то перемена, он и верил и не верил в это и поэтому, наверное, все еще не мог найти нужного тона.
— Меня-то что, — присаживаясь на лавочку у своего палисадника, продолжала Соня. — Вот тебя я сегодня не узнала — это да!.. Даже чудно как-то: ты — и вдруг…
Андрей опустился рядом на траву.
— Знаешь, Андрюша, уж больно ты робким, вялым тогда, полтора года назад, мне показался. Ты не сердись, конечно, но я подумала: вот мямля-парень, ни богу свечка ни черту кочерга. А мямлей я не люблю. Не люблю, которые ждут, когда им взнуздают, а уж потом они сядут и поедут. Люблю первых, хватких, люблю, кто умеет сам взнуздывать… Ну, потом-то поняла, что ты только с девушками такой, а в остальном никому не уступишь.
На улицах села становилось все тише.
— И первый-то раз не узнала я тебя, когда ты «не на свидание» ко мне пришел. Помнишь, насчет простоя на паровом поле?.. Как я тогда разозлилась на тебя, если бы ты знал!.. И все думать, думать о тебе после этого почему-то стала. С сердцем, со злостью, а думаю… И вот нынче опять — глядела и не узнавала. Только злиться-то сейчас совсем не на что…
Соня положила руку на голову Андрея и, слегка нажимая, провела по волосам со лба до затылка. Андрей и сам не заметил, как голова его очутилась у нее на коленях.
По краю неба пронеслась, распушив огненный хвост, падучая звезда.
Петухи по селу начинали предутреннюю перекличку.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
С середины июня подули горячие сухие ветры.
Сначала они дули робко и с большими перерывами, точно выбирали себе нужное направление, потом пошли сплошным знойким потоком, иссушая и сжигая все на своем пути. Поток этот с каждым днем нарастал и шел теперь в одном северо-западном направлении. Похоже было, что где-то там, на границе мертвых Каракумов, ветры прорвали сдерживавший их до сих пор заслон и поспешно устремились на живую плодоносящую землю.
Обычно суховеи приходили в конце мая — начале июня или совсем не приходили. Тем страшнее появление неприятеля, когда его уже перестают ждать. Что лето будет засушливым, это стало ясно еще месяц назад, и весь этот месяц на полях шла жестокая, изнурительная борьба с засухой, с сорняками. И вот, когда силы были уже истощены, но кое на какой урожай, казалось, все же можно было надеяться, пришел суховей. Он точно за углом ждал.
Сухие ветры несли с собой мертвящее дыхание пустыни, и все живое немело и в изнеможении сникало на их пути. Они насквозь прокаливали и без того горячий воздух, и если раньше земля хотя немного успевала остывать за ночь, то теперь знойный день сменялся не менее жаркой, душной ночью и росы совсем перестали выпадать на хлебах и травах. Линии горизонта потеряли свои очертания, растаяли. На их месте волнами плавал раскаленный воздух, и больно было глазам смотреть на это переливающееся текучее марево.
Земля и небо дышали зноем.
Все эти дни Ольга не находила себе места. В своей рабочей комнате усидеть она не могла, а поездки по колхозам, кроме огорчений, ничего не приносили: на глазах выгорали хлеба. Она исхудала, почернела и, чего раньше за собой никогда не замечала, стала злой и раздражительной. Впрочем, и все люди, с которыми ей приходилось встречаться, резко изменились: все удрученно хмурились, разговаривали мало и неохотно. Даже ровный, невозмутимый главный агроном и то будто другим стал. Теперь он меньше засиживался в кабинете, то разъезжая по колхозам, то проводя с агрономами длинные совещания. Постоянная озабоченность не сходила с его гладко выбритого лица.
Встретив Ольгу в ключевском колхозе, Васюнин спросил, «как чувствуют себя поливные хлеба», и выразил желание посмотреть их лично.
Пускаться с Васюниным в дорогу один на один Ольге не хотелось. Она только что повздорила с матерью. Та спросила ее, долго ли она собирается оставаться в своем вдовьем положении. «Чай, не старуха еще и с лица вроде не такая уж страшная — неужто же не может найтись подходящий человек? Неужто же теперь никакого бабьего счастья тебе уже и на роду не написано? Не может того быть, ищи свою долю. Одной работой, каналами этими в твои годы жить еще рано. Не проживешь! Да и Юрке отец нужен. Тебе из него надо человека вырастить, а что получится из мальчишки, когда он растет без отца?! И какой же дом без мужчины?!» Больше всего Ольгу обидело, что мать не кого-нибудь, а ее же и винит в том, что Юрка растет без отца, и она сгоряча наговорила ей всякого вздору.
Выручил подвернувшийся на счастье Галышев. Пошли втроем. Васюнин, с холщовой толстовкой на одной руке и с тростью, которой он обивал пыль с пожухлых придорожных трав, в другой, бодро шагал впереди. Ольга с Галышевым — за ним следом.
Казалось, что земля гремит под каблуками — такой сухой и твердой она была. На небе по-прежнему не появлялось ни одного облачка.
— Ваша правда, Ольга Сергевна, — близоруко щурясь на желтеющее поле яровой пшеницы, сказал Васюнин. — Хотя зимой я вас и отговаривал, а как теперь вижу, зря…
Главный агроном, кажется, впервые назвал Ольгу по имени-отчеству, — так обращался он только к людям высокоуважаемым. И в другой раз и это уважительное обращение, и признание Васюниным своей неправоты, наверное, немало обрадовали бы ее. Но сейчас, в дни всеобщего бедствия, это казалось таким незначительным, маловажным, что Ольга даже и слушала Васюнина рассеянно. Она глядела на соседний участок стеблистой, но мелкоколосой ржи, с участка переводила взгляд на медленно удаляющегося по его краю Галышева (он пошел к себе в бригаду) и тяжело вздыхала.
— Да, конечно, — снова заговорил Васюнин, — без воды, без орошения и это поле, надо думать, разделило бы общую грустную участь…
Ольга понимала, что хочет сказать этим Васюнин, и надо бы ответить ему, что дело не в одном орошении, а еще и в правильной агротехнике. Но сейчас даже и возражать Васюнину не хотелось. А он, по-своему поняв молчание Ольги, продолжал:
— Недаром еще в Древнем Египте… — Тут следовал пространный рассказ о том, как хорошо было поставлено оросительное дело у древних египтян. Васюнин был человеком образованным, начитанным, и в его рассказе не было недостатка ни в цифрах, ни в исторических фактах, хотя и повествовал он о них со свойственной ему суховатостью. Ольга по-прежнему слушала его невнимательно. Хорошо, что Васюнин разговорчив сегодня против обыкновения: идти рядом и обоим молчать — куда хуже.
В правлении, когда они туда пришли, мать говорила по телефону.
— Что, что сказано про тока? — переспрашивала она, затем, прижимая трубку плечом, записывала в толстую книгу. — «Привести в порядок крытые тока, где нет — построить». Все? Ну, и слава богу!
Виктор Давыдович сел к столу, Ольга — поодаль, у окна.
— Вот новую телефонограмму получила, — обращаясь к Васюнину, сказала Татьяна Васильевна и хлопнула ладонью по пухлой бухгалтерской книге. — Еще полгода не прошло, а книгу уже дописываем. Не многовато ли?
Виктор Давыдович неопределенно пожал плечами.
— Я, конечно, понимаю, указания нам давать надо, — продолжала Татьяна Васильевна. — Но хоть бы чуть поменьше. И потолковей. А то ведь что получается? Вот сейчас передали. И чего только тут не указано: и развернуть борьбу с засухой, и придать самое серьезное внимание орошению, и крытый ток построить, и даже про бестарки что-то упомянуто. А к чему? Разве я сама не знаю, что к уборке надо и бестарки приготовить и другое-третье? Знаю, потому что, слава богу, не первый год хлеб молотить собираемся. А крытого тока, если бы у нас не было, все равно бы построить не успели. Про орошенье и говорить не приходится. Пораньше бы надо, весной, или того раньше, прошлой осенью, а теперь что же, придавай ему хоть самое рассерьезное внимание — поздно. Поздно!
— Видите ли, Татьяна Васильевна, — вежливо кашлянув, сказал Васюнин. — Председатели у нас разного опыта, разного уровня знаний, и то, что для вас и так ясно, как дважды два, другому надо объяснять, напоминать, требовать. И оно хорошо бы, конечно, спускать указания каждому колхозу отдельно. Но вы и сами согласитесь, что это невозможное дело: сорок три колхоза — сорок три телефонограммы. Тогда руководителям района день и ночь только на одних телефонограммах сидеть надо.
— А может, совсем без них? — робко спросила Татьяна Васильевна. — Приехать в колхоз, посмотреть, что и как, и на месте во всем разобраться?
— Мне думается, одно другому не мешает, — примирительно улыбаясь, сказал Васюнин. — Сам я, правда, грешен, редко вырываюсь на места, а Сосницкий к вам, поди, через два на третий заглядывает.
— Так-то так, да ведь он приедет и опять же не дело спросит, а про эту телефонограмму: выполнена ли? Получается, что опять все в бумагу упирается. Может, я что недопонимаю тут, а только по-другому бы как-то надо.
— Понимаю вас, Татьяна Васильевна, но… — Васюнин сожалеюще пожал плечами, — но не нам менять не нами установленные методы руководства.
Он поговорил о видах на урожай, о приросте поголовья скота, о том о сем, а прощаясь, ткнул пальцем в книгу и полушутливо-полусерьезно напомнил:
— Как исполните — постарайтесь донести параллельно и райкому и нам, в МТС.
— Ладно, постараемся, — устало ответила Татьяна Васильевна.
В Ключевское Васюнин приехал на своей обтрепанной, вконец заезженной машине. Машина была так стара, что никто толком уже не помнил, как и когда она попала в район, и даже специалисты затруднялись определить ее марку. Редкий выезд из районного центра обходился без дорожных приключений, то есть без двух-трех остановок в пути.
Не удивительно, что по полям Васюнин ходил пешком. «Не надо искушать дьявола», — говорил он при этом.
Машина была необычайно чувствительна ко всякому лишнему пассажиру, и по этой причине Васюнин редко брал кого-нибудь с собой. Однако на сей раз, надо думать, в знак особого расположения, он почти без колебаний предложил Ольге место на заднем сиденье. И опять она не оценила по достоинству этого благородного жеста. Машина натужно тарахтела, позванивала, поскрипывала, разговаривать в ней было трудно, а значит, можно было хоть всю дорогу молчать — это лишь и отметила Ольга с удовлетворением.
Доехали благополучно.
Ольга прошла к себе и лениво, как все, что она делала в этот день, занялась бумагами. Надо было уже давно составить отчет в область о проделанном по весне укреплении оврагов.
«Староберезовским колхозом в этом отношении сделана наибольшая… наибольшая… наименьшая… Фу! Откуда у меня такая вялость? Прямо ничего в голову не идет… И мать тоже не в свое дело вмешивается… А уж душно-то как! Даже горло перехватывает!.. От жары и карта моя, как береста, в трубочку свернулась…»
Ольга отложила отчет и развернула карту, придавив верхний край ее чернильницей и пресс-папье. Еще когда-то район будет таким! А пока, пока поливной площади в колхозах еще маловато и суховей по-хозяйски разгуливает по полям и выжигает хлеба…
В свое время многие трудности казались Ольге почти непреодолимыми. Сейчас все это, заслоненное надвинувшейся бедой, выглядело таким простым и легким. Все трудное, что встречалось до сих пор, все же было по плечу человеку, хотя и не сразу, но расступалось перед его умом и работящими руками. Сейчас пришло нечто неподвластное человеку, находящееся за пределами его сил.
Ольга отпустила край карты, и она сама свернулась в трубочку.
«Неподвластного человеку нет, — любил говорить Василий. — Просто он кое-что еще не знает, а кое-что знает, да сделать не успел. А так — все ему по плечу…»
Дома, на этажерке, лежит «Власть земли» с закладками Василия. Одна заложенная страница особенно памятна Ольге.
«Вот сейчас, — написано там, — из моего окна я вижу: плохо прикрытая снегом земля, тоненькая в вершок зеленая травка, а от этой тоненькой травинки в полной зависимости человек, огромный мужик с бородой, с могучими руками и быстрыми ногами. Травинка может вырасти, может и пропасть, земля может быть матерью и злой мачехой, — что будет, не известно решительно никому. Будет так, как захочет земля; будет так, как сделает земля».
Сбоку, на полях, рукой Василия, твердым убористым почерком написано:
«Будет так, как захочет человек, будет так, как он сделает».
Ольга сидела, опершись локтями о стол и спрятав лицо в ладони. Назойливо зудела машинка Зинаиды Саввишны, точно билась где-то огромная муха.
Не работалось. Сложив бумаги обратно в стол, Ольга ушла домой.
В насквозь прогретой комнате стояла нестерпимая духота, и спалось Ольге плохо. В раскрытые окна иногда наплывали еле уловимые запахи трав, но прохлада не приходила.
Опять вспоминался Василий.
«…Завтра наш тральщик снова уходит в море, — писал он в последнем письме. — Опять будем искать и выуживать черную смерть… Сколько уже прошло, как кончилась война, а напоминает о себе и до сих пор. И до сих пор корабли не могут спокойно ходить по морским дорогам. Неделю назад наткнулся на мину и подорвался сторожевой катер… Ты не подумай, что и со мной что-нибудь может случиться. Бывает, конечно. Как-то разряжали мину, и по неосторожности одного матроса царапнуло… Ну, мне-то неосторожным быть нельзя: ведь меня ты ждешь, сын ждет…»
А на другой день Василий погиб. Погиб, обезвреживая мину, эту черную плавучую смерть, оставленную войной. Долго не верилось в это, как не веришь дурному сну. Долго мучила память о муже. Брала ли Ольга в руки какую вещь, находила ли подчеркнутую Василием строчку в книге — в памяти оживала картина их короткой совместной жизни и каждый раз больно ранила сердце. И еще, особенно на первых порах, часто напоминал о Василии Юрка. Напоминал и своими вопросами, где отец, скоро ли приедет, и своими смородиновыми глазами.
Но прошло время, и, хотя по-прежнему тяжело было сознавать, что Василия нет и такого уже не найти, жизнь брала свое, жизнь шла вперед. Порой Ольгу даже сердило, что все связанное с Василием уходит дальше и дальше, словно дымкой подергивается. Но что можно было с этим поделать?! Ольга думала, что гибель Василия — это конец всякой радости, черта, за которой уже ничего быть не могло. Но прошел год, три, пять, и жизнь перед ней по-прежнему, как и в юности, как и при Василии, лежит открытым зовущим простором.
И, глядя на сына, Ольга все чаще начинала задумываться о том, чтобы найти ему хоть не родного, хоть и не такого, как Василий, но все же отца. Сама она, конечно, никого полюбить уже не сможет, но очень плохо для мальчишки, когда он растет без отца. А Василий хотел, чтобы из него вырос настоящий человек.
С Гараниным Ольга чувствовала себя легко и просто, с Михаилом неровно: то хорошо, естественно, то связанно, неловко. И все-таки тянуло ее к Михаилу. Но ведь ей было хорошо известно, как относится к нему Юрка! Выходит, дело не только в сыне, не только в том, чтобы найти ему хорошего отца… Ольга не знала, как вести себя с Михаилом, хотела и боялась встречаться с ним.
Теперь, говорят, его снимают с работы. И снимают не за что-нибудь, а за перерасход горючего, который получился при вспашке засоленных участков. Большей несуразицы нельзя и придумать.
Ольге было горько и обидно за Михаила. Хотелось сказать ему что-нибудь ободряющее, хотелось быть в эту трудную минуту рядом. Только, опять же, как знать, в одной ли жалости тут было дело?
«Так что же это? — спрашивала Ольга. — Ведь не любовь же?»
И какой-то внутренний голос вопросом на вопрос отвечал: «А если не любовь, то что же?»
2
Когда Михаил узнал, что приказом директора МТС от должности бригадира он отстраняется, ему показалось, что диспетчер что-то напутал. Диспетчер повторил: сдать бригаду Житкову.
В это время в вагончик вошел Пантюхин и сказал, что у него искрит магнето и мотор не заводится. Михаил поспешно вышел вслед за Пантюхиным, машина которого стояла здесь же, у вагончика, на заправке, и начал регулировать магнето.
Через полчаса все было готово. Но не успел Михаил отойти от трактора, как со своего участка прибежал Зинят.
— Товарищ бригадир, троит!
Теперь только Михаил вспомнил о разговоре с диспетчером и усмехнулся: бригадир! Уже не бригадир… Так сказал он и подошедшему Ихматуллину:
— Сейчас наладим, Зинят. Только я уже не бригадир.
Трактористы с веселым недоумением поглядели на Михаила, и по взглядам этим он понял, что ему не верят: шутки шутишь.
— За бригадира будешь ты, Филипп Васильевич. Приказано тебе сдать все дела…
Житков первый понял, что Михаил не шутит.
— Так, — тихо, как бы про себя сказал он. — Значит… да нет, не может быть. Неужели инженер настоял на своем? И неужто он думает, что я или кто другой этого ухаря в бригаду возьмет?! Словом, так: поработать мы пока без тебя поработаем, а принимать я ничего не буду. Сегодня я от тебя, завтра ты от меня… Поди, ошибка какая-нибудь вышла.
— Ошибка или не ошибка, а вот так! — Михаилу хотелось поскорее кончить невеселый этот разговор. — Пойдем, Зинят.
Ихматуллин работал на культивации. Трактор был покрыт толстым слоем пыли, как шубой. Михаил проверил клапаны, свечи. Электроды второй свечи оказались забрызганными маслом.
— Промой в бензине и ставь, — распорядился Михаил. — Проверь, не многовато ли масла в картере. А завтра с утра остановим… остановишь, — поправился он, — заменишь поршневые кольца. Там в вагончике, в углу, запасные лежат… Ну, заводи!
Михаил проводил взглядом агрегат Ихматуллина, пока тот не скрылся за ближним пригорком. На сердце вдруг стало до слез тоскливо и горько. Он пошел прямо полем, не разбирая дороги, не думая, куда и зачем идет.
Сколько раз тракторы его бригады с плугом и сеялкой, с окучником и культиватором прошли по этим долам и взгорьям, прежде чем они зазеленели, заколосились! Частица и его труда есть в этих волнующихся хлебах. Он работал, как знал и как умел. Он недосыпал, чтобы машинный гул ни днем ни ночью не умолкал над этими полями, чтобы они возделывались в срок и добротно. За это не снимают. Разве он сделал что-нибудь дурное, разве он кого-нибудь в чем-нибудь обманул? Нет. Так за что же тогда его насильно оторвали от дела, без которого он не может жить?!
Михаил огляделся. Он стоял на гребне плотины. Отсюда было видно далеко-далеко, во все стороны.
«А и в самом деле, за что? Неужели только за этого Горланова?»
По телефону из правления он еще раз позвонил в МТС. Ему ответили, что снимается он за систематический перерасход горючего и за отказ выполнить указание агронома.
— И все?
— Все.
«Значит, Горланов тут совсем ни при чем?! И значит, это никакая не ошибка… С горючим дело ясное: «систематическое» — слово лишнее, но перерасход бригада действительно допустила, когда пахала на большую глубину засоленные участки. А вот с агрономом… Эх, надо же было связываться с этим ученым стариком! С Горлановым я хоть знал и твердо знаю, правда на моей стороне. А тут как докажешь? Уж куда лучше, умнее докажет свою правоту Николай Илларионович. Сослаться на Костина? Нехорошо за чужую спину прятаться… Тогда, на севе, световой режим подвел, сейчас капиллярность — все пустяки какие-то, а вон как они, эти пустяки, оборачиваются…
В бригаду Михаил решил не возвращаться. Дождался на плотине попутной машины и уехал домой.
Мать еще ничего не знала.
— Ну вот, наконец-то заявился, — обрадованно встретила она Михаила. — Надолго ли?
Не в силах сказать правду, к которой он еще и сам не успел привыкнуть, Михаил соврал:
— Нет, не надолго. Денька этак на два, на три.
— И то хорошо!
Мать, счастливая, с влажными от радости глазами, шумно хлопотала у печки, что-то вынимая оттуда, что-то снова задвигая.
— Ешь, ешь, небось наголодался… Дают ли вам хоть хлеба-то вволю? Ну, и то ладно, что не на одной картошке держат. У колхозников, говорят, и картошка не у всех…
Из-под ее косынки выбилась прядь волос. И Михаил, кажется, впервые заметил, что она наполовину седая. «Стареет. Уже стареет. А ведь будто совсем недавно была молодой…»
Почти сутки Михаил отсыпался. Был тут и умысел: не хотелось видеться с Гараниным. Но секретарь и эту и следующую ночь, совсем не появляясь дома, ночевал где-то в бригадах.
На другой день от проходившего мимо окон тракториста Михаил узнал, что приказ об его увольнении подписал не Андрианов, а главный инженер. Директора вызвали в город. Стало немножко легче. А то уж очень обидно было на Андрианова: то хвалил, то за первый же промах — с работы. Из-за обиды Михаил ничего и выяснять к нему не пошел.
Третий день начался рано — спать уж не хотелось — и тянулся бесконечно долго. Михаил пытался заняться каким-нибудь делом, но все валилось из рук, на все было тошно смотреть. И выходить никуда не хотелось, чтобы не слышать соболезнующих слов и сочувствующих вздохов.
Под вечер Михаил не выдержал, дошел до ближней лавки и взял бутылку водки.
Мать ушла куда-то. Михаил сам достал огурцов, к соленым нарвал на огороде свежих, настриг зеленого луку и сел за стол.
После первой же стопки неожиданно пришел Гаранин.
— А у тебя нюх, Илья Михайлович! — грубовато пошутил Михаил.
После разговора с Гараниным у кузницы он чувствовал себя несколько виноватым и за это был вдвойне сердит и на себя и на секретаря.
— На нюх не жалуюсь, — серьезно ответил Гаранин, мельком оглядывая стол и более внимательно самого Михаила. — Только ты что-то не больно приглашаешь. А с устатку стопочка бы не помешала.
Михаил встал из-за стола, достал из шкафчика еще один стаканчик, налил.
Молча чокнулись. Михаил уже понес было стаканчик ко рту, как почувствовал, что его держат за локоть.
— Не торопись. Дай мне сначала штрафной выпить, а потом уж…
Гаранин выпил, понюхал свежий огурец, начал закусывать.
В вечерней тишине избы огурцы хрустели оглушительно.
Михаил налил Гаранину еще, чокнулся и, не дожидаясь его, выпил.
Теперь стало хорошо. По всему телу пошла приятная теплота, все стало казаться проще и лучше. Теперь можно было и не молчать, можно поговорить с секретарем.
— Ну, как она, жизнь-то, Илья Михайлович?
— Жизнь? — переспросил Гаранин, делая вид, что не замечает ершистых ноток в голосе Михаила. — Да так, идет себе потихоньку.
— Ну, а если более конкретно?
— Можно и конкретно… Я так думаю, что со стариком ты правильно в драку полез. Правильно! Одно плохо — по чутью, по наитию, а не по знанию. Надо знать! А то один раз угадаешь, а другой впросак попадешь. Крутинский в научных терминах, как в броне, а ты на него с пустыми руками. Несерьезно.
«А ведь верно говорит! Верно, черт возьми: с пустыми руками и пустой головой!..»
— Ну, а еще что новенького?.. Да ты пей, Илья Михайлович.
Гаранин выпил еще полстопки, опять понюхал огурец и начал рассказывать, что видел и слышал за те два дня, которые он провел в колхозах.
Так проговорили они около часа, не касаясь главного. Будто Михаила никто и не снимал с работы, будто он и в самом деле пришел к матери на побывку — не больше. Да теперь все это уже и не казалось Михаилу таким важным и непоправимым, как час назад. Теперь его мысли занимало другое.
Начало темнеть. Михаил захмелел и вдруг прямо, не обинуясь, спросил Гаранина о том, что его больше всего мучило. Лучше бы, наверное, выпытать их отношения с Ольгой как-нибудь намеками, незаметно, но где уж теперь, до тонкостей ли, когда в голове шумит и язык говорит совсем не то, что надо.
Гаранин перестал хрустеть огурцом, помолчал, а затем тихо, как бы в раздумье проговорил:
— Ты вон о чем… — усмехнулся и еще помолчал. — Ошибаешься, брат. Ошибка… Не в ту сторону думаешь.
Михаилу хотелось резко возразить: какая еще ошибка! Воду мутишь, длинный черт! — но по тому, как усмехнулся Гаранин, по его голосу он понял, что тот говорит правду, говорит, что думает.
Михаилу стало вдруг в избе очень душно. Он встал из-за стола и, как был в майке, в тапочках на босу ногу, вышел на крыльцо и сел на ступеньки, крепко обхватив голову руками. «Ошибка!.. Ошибка… С работы сняли! Подумаешь, беда какая! Пусть хоть еще семь раз снимают…» Он как-то разом отрезвел, мысли перестали путаться, обрели ясность и определенность.
На улице из-за ветел показалась с заблудшей коровой мать, соседская собака с лаем гонялась за отставшими овцами, где-то наигрывал патефон, у колодца ссорились женщины. Все кругом было так, как и всегда. Михаил даже спросил себя: «Постой, а я-то с чего такого радуюсь? Может, и рано еще, да и нечему радоваться?.. Конечно, нечему!» И все-таки ощущение радости не проходило.
3
Весь день Ольга пробыла в Березовке и уже собиралась в Ключевское, как подвернулась попутная машина, и она уехала ночевать к себе.
В пустой комнате было тихо, мертво. Гирька у часов спустилась на стол, и они стояли. Ольга машинально посмотрела на циферблат, подтянула гирьку, тронула маятник. Часы затикали, и стало не так угнетающе тихо.
Хозяйка принесла парного молока. Ольга поужинала, сходила за водой и, чтобы не так душно было спать, стала вытирать пол мокрой тряпкой.
Делала она все это по-прежнему как-то машинально и то водила тряпкой по одному месту, то надолго застывала с ней над ведром. Она и про часы вспомнила только спустя какое-то время: стрелки ведь показывали без четверти три, что же она их не подвела?..
Нынче Ольга заходила на стан тракторной бригады и не нашла там Михаила. Что его сняли, оказалось правдой. И сняли именно за большой перерасход горючего на севе, за то, в сущности, что он по ее просьбе пахал засоленные участки глубже нормы.
Ах, как все это глупо получилось! Будь это не Михаил, а кто-нибудь другой, она пошла бы к директору, к главному инженеру и настояла, чтобы этот дурацкий приказ был немедленно отменен. Но как пойдешь просить за Михаила, когда инженер и так при всяком удобном случае делает какие-то темные намеки?
Ольга вымыла руки, наспех переоделась и быстро пошла улицей к эмтеэсовской конторе.
Закат догорал. На пепельно-розовом небе, у горизонта, рисовались темные купы деревьев, а ближе и левее — четко вырезанные контуры изб и садов соседней, протянувшейся по взгорью улицы. Было еще совсем светло, только село солнце, а сады и избы на невыразимо нежной чистоте неба уже казались совершенно черными.
«Зачем я туда иду? — вдруг подумала Ольга. — Рабочий день давно кончился, кроме диспетчера, никого, наверное, нет, и делать мне там нечего…»
Она постояла секунду в нерешительности, затем резко повернулась и пошла в обратную сторону.
Ольга не заметила, как прошла свой дом, хотя было еще совсем не темно.
Вот тополь, за ним — поросшая травой промоина, а дальше, за промоиной, дом Михаила.
Но ведь неудобно же ни с того ни с сего заявиться к нему. Конечно, неудобно: там мать, Гаранин…
А не Михаил ли сидит на крыльце? Тогда можно, и хоть тоже не совсем удобно, но все-таки не так страшно…
Опять Ольга не заметила, как рука ее сама повернула вертушок на калитке, как ноги ступили на широкий травянистый дворик.
Михаил, в майке, в тапочках на босу ногу, сидел боком и увидел ее, когда она подошла уже совсем близко.
— Это ты? — сказал он, и в радостно дрогнувшем голосе его послышался скорее не вопрос, а подтверждение для самого себя, что перед ним действительно стояла Ольга. — Ты?
Не отвечая, Ольга хотела сесть рядом, но Михаил, заметив ее движение, встал и взял за руку:
— Пойдем вот сюда, а то здесь на самой дороге…
Он отвел ее в угол двора и усадил на валявшийся в траве старый точильный камень. Сам сел прямо на траву, полузакрыл глаза и улыбнулся.
Ольга все ждала, когда Михаил спросит ее, зачем она сюда пришла, но тот по-прежнему молчал и улыбался. Улыбался и молчал.
Ольгу начинало смущать это молчание, и, чтобы не потеряться совсем, она стала объяснять свой приход: неужели Михаила только за то и сняли, что он глубоко вспахал по весне засоленные участки? Не может этого быть! Глупо же! И почему он не идет к начальству, не добивается правды, а сидит дома и…
Ольга недоговорила.
Широкая безмятежная улыбка постепенно сошла с лица Михаила, и оно приняло настороженно-сумрачное выражение.
— И еще, говорят, ты и с Николаем Илларионовичем поспорил из-за того же: не двоить пар, чтобы горючее наэкономить, перерасход покрыть?
— Ерунда! — коротко, явно не желая вдаваться в подробности, бросил Михаил.
Тревожная настороженность в его глазах пугала Ольгу. Она не понимала причины ее, не знала, о чем еще можно говорить.
«А неужто я только за этим сюда шла? — подумала Ольга. — За тем только, чтобы спросить про всякие перерасходы?»
И как только она это подумала, сразу же стал понятным вопрошающе-настороженный взгляд Михаила.
Ольга забыла, что еще хотела сказать, и тихонько улыбнулась. Конечно, глупо было улыбаться: у человека несчастье, а она улыбается. Но Михаил не обиделся, не рассердился. Видимо, он понял ее, понял, что не так-то легко было ей даже самой себе признаться, что шла она сюда не только за тем, чтобы узнать про пережог горючего. Лицо его посветлело, морщины над переносьем разгладились. Он глубоко, облегченно вздохнул и опять полузакрыл глаза.
Ольга почувствовала, что от Михаила пахнет водкой.
— Нет, я не пьяный, — сказал Михаил. — Ты не бойся… Да что я тебя на камень-то усадил, небось холодно. Садись уж лучше рядом… вот сюда, здесь трава гуще…
Ольга пересела, прислонясь спиной к плетню. Ей стало легко, покойно. Уже не надо было отыскивать предлога для разговора, можно было говорить о чем угодно, даже просто молчать — все равно никакой неловкости от этого не будет.
— Ну и пусть сняли, — усмехнувшись, почти весело сказал Михаил и взял Ольгу за руку выше локтя. — Пусть хоть еще семь раз снимают! Лишь бы ты… — Он недоговорил, прижимаясь щекой к ее руке.
Ольга чувствовала, как радостно волнует ее каждое прикосновение Михаила, как кровь бросается в лицо и становится жарко. И это было так ново, непривычно, что даже немножко пугало ее. Еще совсем недавно она решила ни на шаг не заходить дальше в отношениях с Михаилом, пока Юрка стоит на его дороге. И вот, оказывается, можно забыть и про это решение и про все остальное…
Но неужели, неужели она не сможет уговорить, убедить глупого мальчишку не мешать ни ее, ни своему счастью?
Совсем стемнело. Полосы света из окон домов перечеркивали улицу с одного порядка на другой. Узенькая полоска пробилась сквозь плетень и легла на щеку Михаила. Ольга наклонилась и поцеловала эту полоску.
Рядом, в кустах смородины, ворохнулась птичка, цвенькнула спросонья, и опять стало тихо.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
Проснулся Виктор Давыдович от хлопанья дверями и шума шагов в прихожей. Должно быть, вернулась ездившая в город жена. И, кажется, не одна к тому же.
— Сюда, сюда, милая, — говорила кому-то Полина Поликарповна. — Да проходи смелей, не стесняйся! Будь как дома… Чемоданчик свой ставь в угол, а мой саквояж неси в комнату… Сейчас умоемся, с дороги чайку попьем.
Второй женский голос что-то тихо спросил.
— Спит, поди, — ответила Полина Поликарповна. — Он у меня спать-то уж больно здоров…
«Ну, наверное, не здоровей тебя, если уж на то пошло», — потягиваясь, мысленно возразил Виктор Давыдович.
По времени еще добрый час можно было спать. Но какой теперь сон! А валяться, нежиться в постели Виктор Давыдович не любил, считая, что это только расслабляет организм.
В кухне загремел умывальник, заплескалась вода.
Виктор Давыдович выждал, пока умоются женщины, затем оделся и вышел.
У самовара, вместе с Полиной Поликарповной, хлопотала светловолосая, среднего роста девушка лет двадцати. У нее были очень живые, чуть навыкате глаза и маленький нос, придававший мягкому полному лицу какое-то едва уловимое выражение детскости. Ямочка на подбородке дополняла это впечатление.
— Это Тоня, — коротко и непонятно отрекомендовала гостью Полина Поликарповна.
Виктор Давыдович подождал, что еще скажет жена, но та, видимо, посчитала, что для первого знакомства этого достаточно, повернулась к девушке и начала давать подробные указания, как скорее раздуть самовар.
Виктор Давыдович прошел к умывальнику и стал чистить зубы, исподволь наблюдая за гостьей.
Тоня что-то вытаскивала из своего чемоданчика и опять складывала, помогала Полине Поликарповне разбирать покупки и подкидывала в самовар. Ни минуты она не была на одном месте, и, пока Полина Поликарповна договаривала до конца какое-нибудь поручение, Тоня уже успевала выполнить его.
«Вот непоседа! Будто кто подгоняет ее… Полюне бы столько двигаться — все радикулиты бы как рукой сняло! Однако она даже и в самой ранней юности такой, кажется, не была…»
Когда сели завтракать, Виктор Давыдович решил узнать о спутнице жены поподробнее.
— По делу сюда или так, к родным-знакомым, на лоно природы? — спросил он у девушки.
— По делу, — ответила за Тоню Полина Поликарповна. — В техникуме учится, завтрашний агроном. Так вот в нашу МТС, на практику… В вагоне познакомились, в одном купе ехали, а она здесь первый раз.
— Так, так, значит, за опытом?
— Выходит, так, — ответила девушка и покраснела.
— Что ж, хорошее дело… Ну, а ты, Полюня, с какими новостями приехала? Что тебе областные эскулапы сказали?
Полина Поликарповна только что взялась за полное блюдечко, только-только утвердила его на растопыренной пятерне.
— После, Витя, после. Большой, длинный разговор. В двух словах всего не скажешь.
«Длинный и к тому же неинтересный».
— Ну, мне, пожалуй, пора, — Виктор Давыдович поднялся из-за стола и, уже обращаясь к девушке, добавил: — Располагайтесь в нашем доме, как у себя. Одним словом, без церемоний! Сегодня отдыхайте с дороги, а завтра — прямо ко мне в МТС.
Взяв в одну руку портфель, в другую — соломенную шляпу, он вышел.
Солнце было на уровне домов, и свет его, ударяясь о крыши, как бы стекал в улицы, дворы, палисадники. У плетней и заборов лежали густые влажные тени.
В конторе еще никого не было. Стояла непривычная тишина. Где-то в окне надоедливо звенела муха, больше не слышно было ни единого звука.
Виктор Давыдович сел в свое кресло и, закурив папиросу, откинулся на спинку.
С некоторого времени он начал замечать в себе не совсем понятную тягу к воспоминаниям. Вспоминалась юность, студенческие годы, начало работы, приезд сюда, в район. И все это, даже начало здешней работы, казалось таким далеким, что порою верилось в него с большим трудом.
В молодости он считался человеком незаурядным. Он был уверен, что стоит ему проявить некоторое упорство, и он может добиться многого. Так он считал довольно продолжительное время. Но видеть, как сверстники добиваются своего в жизни, и утешаться, что он тоже может, в конце концов стало явно недостаточно. И он решил попробовать. Он бросил тихое место помощника заведующего третьестепенным отделом в областном земельном управлении и пошел работать рядовым агрономом на опытную семеноводческую станцию. Работал старательно, добросовестно. Работал год, два, но успех не приходил. Он еще и еще раз переменил место, прежде чем понял, что для достижения успеха, видимо, требовалась вся его работоспособность — а ею он отличался — и чуть-чуть еще чего-то. Он не совсем ясно представлял, что означает это «чуть-чуть», — то ли больше смелости, то ли больше страсти, но видел, что чего-то ему недоставало. С этим, конечно, нелегко было помириться, но пришлось. А может быть, это была та пора, когда человек, близко столкнувшись с жизнью, начинает постепенно утрачивать некоторые иллюзии молодости, становится зрелым. Во всяком случае, ко времени приезда сюда, в район, Виктор Давыдович понял, что все в жизни значительно сложней, чем представляется на заре туманной юности. Понял и перестал парить в заоблачных высях, перестал ездить с места на место. Говорят, жизнь в провинции засасывает. Возможно, и так. Во всяком случае, Виктор Давыдович уже давно оставил свои честолюбивые замыслы. Он, что называется, честно и добросовестно тянул лямку, не больше. Он не хотел ничем рисковать, не хотел ни с кем, даже с людьми ему подчиненными, портить отношений — так легче и спокойней.
На семью Виктору Давыдовичу не повезло. В первые годы жизни с Полиной Поликарповной все как будто шло хорошо, и сына родила хорошего — здорового, крепкого. Но потом они как-то остыли друг к другу, и более или менее прочно продолжал их связывать только сын — их общая радость. Других детей у них так больше и не появилось. А сын, их единственный сын, ушел на войну и не вернулся…
…Посетителей нынче было немного, и Виктор Давыдович пошел на обед несколько раньше обычного. Четыре дня, пока не было жены, он перебивался кое-как и решил хоть сегодня пообедать по-человечески, не спеша, с чувством и толком.
Полина Поликарповна была одна.
— Ушла, — сказала она про девушку. — Каких-то знакомых пошла искать… Очень твои цветы ей понравились.
Виктор Давыдович любил в свободное время поразмять кости, покопаться в земле. Он насадил за домом смородины, малины, посадил с десяток яблонь. Но самой большой страстью его были цветы. Они занимали почти весь палисадник, благоухали под каждым окном.
За обедом Полина Поликарповна начала обещанный еще утром длинный разговор о своих хождениях по городским врачам.
Виктор Давыдович слушал рассеянно: все это уже изрядно надоело ему, к тому же теперь он знал секрет неуловимой болезни жены. Позавчера, от скуки, он просмотрел несколько номеров медицинского журнала, который выписывала Полина Поликарповна, и совершенно неожиданно обнаружил, что заболевание жены какой-нибудь новой болезнью точно совпадало с получением того номера журнала, в котором эта болезнь описывалась. Это не значило, конечно, что Полина Поликарповна здорова, — какое уж там здоровье: и одышка и отеки на руках и ногах. Но удивительно и непонятно было, зачем ей хотелось не просто страдать одышкой и ожирением, а болеть самыми «модными», самыми новейшими болезнями. От скуки, что ли?
— …Так что и там ничего определенного не сказали, — закончила свое повествование Полина Поликарповна.
— А не хватит ли, мать, ходить по докторам? А? Попробуй полечись еще дома… Честное слово! Пораньше вставай, да днем старайся не спать, да побольше ходи. Поможет. Ей-богу, поможет!
— Эх, Витя! Если бы я помоложе, вон как Тоня, была, а то ведь…
«Как Тоня! Эка чего захотела!» — мысленно воскликнул Виктор Давыдович, а вслух сказал:
— Ну, уж с этим ничего поделать нельзя. Тут, как говорится, и медицина бессильна… Стареем, мать, стареем.
После обеда он немного посидел в палисаднике, а перед тем как уйти, наказал жене:
— Если без меня эта Тоня уходить соберется, цветов ей… Нет, пусть сама по выбору, какие ей нравятся, нарвет.
Полина Поликарповна согласно кивнула.
2
Илья залпом выпил стакан молока, прищелкнул языком:
— Вкусное молоко у вас, Наталья Яковлевна!
— Молоко сладкое. Пей на здоровье.
Кто-то прошел по сеням и постучал в дверь.
— Входи, кто там, — ответила Наталья Яковлевна.
Илья наливал из кринки второй стакан и не видел вошедшего, лишь услышал высоким, очень знакомым голосом сказанное «здравствуйте».
— Здравствуй, девушка, — ответила Наталья Яковлевна. — Что скажешь?
Илья обернулся.
— Здравствуй, Тоня.
— Так это Тоня?! — радостно воскликнула Наталья Яковлевна. — Проходи, жданная, прохо… Илюша! Куда же ты льешь? Иль не видишь — на пол течет.
Стакан давно был полон, а Илья, не замечая этого, продолжал держать над ним наклоненную кринку. Молоко белым ручейком бежало по столу и с его края крупно капало на пол.
— Ах, какой ты неловкий! Молока налить себе путем не можешь. — Наталья Яковлевна схватила тряпку и начала вытирать стол. — Угощай Тоню-то! С дороги как раз холодненького.
Илья машинально подвинул полный, с краями, стакан!
— Пей, Тоня.
— С удовольствием. — Тоня выпила.
— Налей еще! Потчуй, — командовала Наталья Яковлевна. — Да что ты, право, сидишь, как в гостях… Дочка, может, пообедать хочешь, — сейчас соберу. Не стесняйся.
От обеда Тоня отказалась.
Илья начал спрашивать, когда она приехала, как нашла его.
Тоня ответила, что приехала утром, а найти здесь хоть кого не так уж и трудно — не в городе.
— Ну, вы тут разговаривайте, — сказала Наталья Яковлевна, — а я пойду по своим делам.
Илья с Тоней проводили ее взглядом, а когда дверь закрылась, встретились глазами.
— А что же ты, разве без вещей? — стараясь найти и все еще не находя нужного тона, продолжал ставить вопросы Илья. — Где твой чемодан?
— Я приехала — чего тебе еще надо?! При чем тут чемодан? — Тоня улыбнулась, и сразу все стало просто, и уже не надо было придумывать разные дурацкие вопросы. — И вообще давай-ка вылезай из-за стола, а то подумаешь, профессор на экзамене…
Илья послушно вылез, а Тоня, не дав ему распрямиться, обхватила его плечи и прижалась щекой к груди, точно, не доверяя самому Илье, хотела узнать, радо ли ей его сердце.
— Ну, вот мы и опять вместе, — счастливым голосом говорила Тоня. — Хорошо!
Илья подхватил ее на руки и унес к себе за переборку, усадил на колени. Тоня не отпускала своих рук, все так же прижимаясь лицом к его груди. Ее волосы мягко щекотали подбородок, и от них тонко пахло ромашкой.
На какое-то время Илья забыл и то, что говорила ему Тоня, когда он был в городе, и как холодно он расстался с ней. Сейчас он знал и помнил одно: рядом с ним была его Тонька, которую он по-прежнему любил и по которой страшно соскучился. Соскучился по ее рукам, глазам, губам…
Потом Тоня рассказывала, как жила и что делала в последнее время, рассказала, как ехала сюда, как познакомилась в вагоне с Полиной Поликарповной и та жаловалась ей на многочисленные свои болезни.
— Нет, не могу сидеть на месте, Илюшка, — Тоня соскочила с кровати, прошлась, — хочу двигаться. Хочу на воздух, куда-нибудь в поле… А знаешь, я почему-то все время представляла, что встречу тебя обязательно в поле… Ну, пойдем. Хочу знать, где ты живешь, что каждый день видишь, каким воздухом дышишь…
Они прошли краем села, перелезли овраг, в котором Илья когда-то катался на лыжах, и вышли в поле. Начинало вечереть.
— Вот на что смотрю! — Илья широко повел рукой. — Простор! Раздолье!
Они медленно шли травянистым межником. Дозревающие поля лежали, объятые дремотной тишиной. Светло-желтый разлив хлебов затоплял на своем пути овражки, перехлестывал через дороги и волнистыми накатами уходил все дальше и дальше, к самому горизонту.
— Да… конечно… — неуверенно сказала Тоня, напряженно вглядываясь в степную даль, точно хотела и не могла увидеть там той красоты, о которой говорил Илья. — Только уж очень голо, плоско, глазу зацепиться не за что.
— Это пока не привыкнешь. Мне сначала тоже так казалось, а теперь… Да и ты, погоди, поживешь — поймешь эту красоту.
Тоня промолчала.
Они сели на межник. Илья закурил.
— Да чего уж, не отворачивайся, кури. Даже и по трубке твоей, по табачному дыму соскучилась. — Тоня обхватила у плеча руку Ильи, и опять ее волосы мягко защекотали его подбородок.
А Илья тихонько гладил Тонины волосы и не знал, что говорить, как себя вести. Ему было хорошо оттого, что Тоня была рядом, что она открыто радовалась встрече. Но она держалась так, будто и было-то между ними пустяковое недоразумение и уже давно они договорились обо всем. От этого Илья чувствовал себя несколько стесненным. Стоило ли прятать голову под крыло и делать вид, что ничего не случилось?
Хлеба у горизонта начинали постепенно темнеть. Стихли перепела и жаворонки.
— Ты бы все-таки сказала, с чем приехала, что надумала? — осторожно спросил Илья.
Тоня выпрямилась и сразу помрачнела.
— Бесчувственный ты человек, Илюшка. То мучил меня дурацкими вопросами, про чемодан допытывался, то опять… Видно, ты меня совсем не любишь. — Она вдруг всхлипнула, на глаза у нее навернулись слезы.
«Вот всегда так: смеется и тут же плачет».
— Ты знаешь, люблю я тебя или нет, — медленно проговорил Илья.
— А если любишь, погоди спрашивать. Ничего я сейчас не знаю. Хорошо мне, когда ты рядом, — и все! Дай мне немножко оглядеться, не торопи меня.
— Я не тороплю. — Илья уже раскаивался, что спросил Тоню.
— Ну, вот и хорошо! — Она опять счастливо улыбнулась, притянула Илью и поцеловала в ухо. — Все будет хорошо, только люби меня, Илюшка…
Уже смеркалось, когда они вернулись в село.
По дороге зашли к Васюниным за чемоданом.
Илья подождал Тоню на улице, у палисадника. Густо и сладковато пахло флоксами и табаками.
Из открытых окон дома было слышно, как Полина Поликарповна уговаривала Тоню, а та отказывалась.
— Ты нас обижаешь, голубушка, — с ласковой укоризной говорила Полина Поликарповна, выходя с Тоней на крыльцо. — Ну, хоть небольшой букетик.
— Хорошо, Полина Поликарповна, я сорву. Только один цветок. Розу. Можно?
— Ну, конечно! Любую. — Они спустились в палисадник. — Только уж если ты непременно одну хочешь, так… Нет, зачем же тебе белая?.. Нет, и не эту… Правильно, красную. Любовь!
— Спасибо, Полина Поликарповна! — сказала Тоня таким обрадованным голосом, будто все ее будущее счастье зависело именно от этого.
3
Вернувшись из города, Андрианов просидел в своем кабинете недолго, какой-нибудь час.
— В поле! Соскучился, — сказал он, заглянув к Илье. — Не составишь ли компанию?
Илья охотно согласился.
— Наставляли нас там чуть не целую неделю, — проворчал Андрианов, залезая в машину. — И как лучше подготовиться к уборке говорили, и как стерню за комбайном лущить. Словом, обо всем. Об одном забыли: уборка на носу, а готовиться к ней надо здесь, а не в областном управлении… Ну, об этом после, не к спеху. Расскажи-ка лучше здешние новости. А то инженер забил мне голову разной цифирью, так я толком и не понял, что тут к чему.
Машина миновала последние придорожные домики села и понеслась по большаку. Медленно сдвинулись с места и поплыли навстречу поля, овраги, редкие, маячившие в отдалении перелески. Расплывшийся от жары горизонт отодвигался все дальше.
Илья рассказывал Андрианову: состоялся предуборочный пленум райкома, приехала на практику студентка-агроном, идет обкатка самоходных, только что полученных комбайнов.
— А как в колхозах?
— А это сейчас увидишь. — Илья улыбнулся. Он знал, конечно, как идет подготовка к уборке по колхозам, но ему не хотелось предварять Андрианова: интересно, как и что увидит свежим глазом другой человек.
Поля по обеим сторонам дороги плыли все быстрей. Они как бы развертывались перед глазами, описывая дальними концами широких своих полос плавные дуги. Среди полей возникали и таяли в жаркой дымке марева деревни и маленькие выселки. Редкие деревья, как бы сознавая свое суровое одиночество, стояли замкнуто и строго, как часовые.
А беловатые, накатанные колеи все летели и летели под колеса машины, увлекая за собой придорожные кустики чернобыла, телеграфные столбы, окрестные поля и луговины.
Показалась Старая Березовка.
Председателя колхоза Павла Павловича Мартьянова они нашли возле кузницы. Тот начал с жалобы.
— Дано указание и крытый ток построить и зерносушилку починить. А у нас материалу хорошо бы на один ток с грехом пополам набралось. Прямо и не придумаю!
— Ну, а что надумал все-таки? — спросил Андрианов.
— Строю ток.
— Может, покажешь строительство?
Председатель замялся: далеко ехать, да и стоит ли?
— Ничего, нам спешить некуда, — успокоил его Андрианов. — А посмотреть интересно.
Поехали в поле.
Ток был почти готов, шла очистка и утрамбовка токовища. Чуть в стороне лежал штабелек оставшихся от стройки бревен.
Андрианов вылез из машины, не торопясь обошел ток, присел на бревна и закурил. Нравилась Илье вот эта обстоятельность, с какой все делал директор, бывая в колхозах, разговаривая с председателями, с трактористами.
— С грехом пополам, говоришь? — прищурившись на председателя, спросил Андрианов.
— Сам видишь, — вздохнул Мартьянов, кивая на просторный, добротный ток.
— Вижу, — в тон ему подтвердил Андрианов. — Вижу, Пал Палыч, что и на сушилку у тебя леса достаточно.
— Трех бревешек этих достаточно? — усмехнулся Пал Палыч.
— Этих-то, может, и не хватит, — вставил Илья, — а если к ним приложить те, что за кузней, — вполне.
Пал Палыч перестал усмехаться, закашлялся, будто дым у него не туда пошел, и, наконец, ответил:
— Так тот лес на ремонт свинофермы.
— А мне помнится, для ремонта у тебя еще с прошлого года лежит штабелек около зернового склада, — сказал Андрианов.
Пал Палыч опять закашлялся.
— А ведь и верно. Запамятовал… Однако ж теперь если и браться за эту самую сушилку — не успеем.
— Захочешь — успеешь. А, то помнишь, позапрошлым летом задождило? Сколько тонн у тебя проросло? Смотри, как бы и в этом году твоя экономия большим убытком колхозу не обернулась… Ну, пошли, Илья Михайлович.
Мартьянов, прикидывая, оглядел бревна и почесал за ухом.
— А чтобы комбайнам опять не пришлось выгружать зерно на землю, про это, я думаю, напоминать тебе не стоит, — сказал Андрианов по дороге к машине.
— Все будет в порядке, — заверил председатель. — Три новые бестарки в готовность произвел.
С тока поехали на стан тракторной бригады. Бригадир сказал, что комбайны на ходу, но к одному не хватает цепей.
Из Старой Березовки проехали в Ключевское.
— Здесь в колхоз можно и не заезжать, — сказал Андрианов. — У Татьяны Васильевны еще две недели назад все готово было. Проедем прямо к трактористам.
Однако с Орешиной встретиться им все-таки пришлось.
Проезжая задами села, они увидели ее около мастерской. Татьяна Васильевна пошла навстречу машине, и Андрианов велел шоферу остановиться.
— Мимо, Алексей Иваныч?
— Мимо, Татьяна Васильевна, — признался Андрианов, — мы с тобой ведь обо всем еще в прошлый раз договорились.
Около мастерской, лихо встопорщив грабли, стояли три готовые жатки. У четвертой работал Хлынов.
— На бога надейся, а сам не плошай? — кивая на жатки и улыбаясь, спросил Андрианов.
— Да ведь что поделаешь, Алексей Иваныч, — ответила Орешина. — Надеяться-то я на вас, конечно, надеюсь, но чтобы совсем твердо — не приходится. Прошлым годом, вспомни-ка, комбайн на три дня позже в поле вышел. А что, если в этом он неделю без дела простоит? Говорят, и до сих пор к «Сталинцам» цепей нет… Смотрите не подведите.
— Постараемся, Татьяна Васильевна.
Поехали в поле.
Галышев с комбайнером опробовали самоходный комбайн, тракторы работали на культивации.
Галышев сказал то же самое, что и бригадир из Старой Березовки: машины к уборке готовы, но комбайну «Сталинец» недостает цепей.
Слушая Галышева, Андрианов почти не задавал вопросов. Он все больше хмурился, все чаще курил. Илье были не совсем понятны причины изменившегося настроения директора: неужто все дело в этих цепях?
— Эх, Илья Михайлович! — садясь в машину, сказал Андрианов. — Не знаешь еще ты, что это за штука — уборка. То есть вообще-то слыхал, конечно: убрал вовремя — выиграл, не убрал вовремя — проиграл и так далее. А я вот через эту игру каждый год не пять, так шесть кило живого, так сказать, веса теряю. Да, да, ты не смейся! Потому, что игра ведется не с кем-нибудь… Эх, даже говорить об этом не хочется. Встанешь утром и на небушко смотришь: что там оно, дождик или ведро обещает? И ладно, если ведро. А если дождь? Значит, все комбайны стали и на другой день только к вечеру пойдут. А ну-ка, дождичек прошел с ветерком? Самый урожайный, самый наливной хлеб лег, перепутался — попробуй его возьми. Пока догоняешь этот упущенный день, три пролетело. А там, глядишь, опять заненастилось… Вот и нынче: считай, скоро месяц, как ни одного дождика — это уж наверняка небесная канцелярия под уборку его подкапливает. И не так от чего другого, как от того, что в полной зависимости от этой канцелярии находишься, и ночи не спишь и аппетит теряешь.
Андрианов говорил сердито, почти зло. Он и докуренную папиросу бросил на дорогу так, словно хотел кого пришибить там.
— Я насчет цепей спросил, — напомнил Илья.
— Вот я и говорю: самое что ни на есть узкое место — эта уборка. Серпы стали музейной редкостью, и косу не часто встретишь, а пора эта — все еще страдная пора. Пашем хорошо, сеем на славу, за посевами ухаживать тоже научились — тут все в наших руках, в нашей власти. А подходит уборка — природные стихии у нас ту власть перехватывают. Теряем хлеб. Теряем зерном и колосом, на поле и на токах. А в северных районах бывает, что и прямо на корню под снег уходит. И это даже при таких машинах!
Андрианов кивнул на два комбайна, которые стояли на стыке полей ключевского и новоберезовского колхозов. Степные корабли безмолвствовали, выжидая свой час. А во все стороны от них лежало хлебное раздолье, и светло-желтый цвет спеющего колоса безраздельно господствовал в этом мире над всеми другими цветами.
— Очень узкое место, Илья Михайлович, — продолжал Андрианов. — А начальство наше, как нарочно, еще у́же старается его сделать. В прошлом году семнадцать комбайнов выехали в поле, где на два, а где и на три дня после начала косовицы. А из-за чего, как бы ты думал? Из-за того, что не хватало цепей. Копеечное дело — цепи, а такие дорогие машины стояли. На самолете, чуть ли не из Москвы прислали те цепи. На самолете! Красиво, ничего не скажешь… Так вот, я и боюсь, как бы этот красивый жест и в нынешнюю уборку не повторился.
То, что рассказывал Андрианов, Илье казалось слишком несуразным, почти невероятным.
— Конечно, несуразица, — подтвердил Андрианов. — Я вот читаю нынче в газете: из сэкономленных материалов сделано пять тракторов сверх плана. Хорошо? Очень хорошо, что рабочие экономят. Другое мне не нравится: какое-то нездоровое пристрастие проявляется у нас ко всяким парадным реляциям. Дом построили на неделю раньше срока — скорей в газету! А что у этого дома крыша через неделю же потекла, это уж не так важно. Пять тракторов выпустили сверх плана — на первую страницу об этом! А на второй странице пишется, что в такой-то МТС двадцать пять тракторов простаивают из-за нехватки частей. Напечатать бы эти статейки рядом — глядишь, сразу бы ясно стало, что сэкономленный материал надо было пустить на запчасти, а не на трактора. Лучше один трактор или комбайн недодать, а сто обеспечить частями вдоволь, чтобы не стояли. Так нет же, видишь ли, цепи, гайки — это не звучит, а вот «сверх плана» — это громко, это давай… Уж до чего доходят: пишут про сев и приводят такие сравнения: засеяно на тыщу гектаров больше, чем на то же число прошлого года. А что из этого? Что? А может, в прошлом году весна поздняя была и сев начали на неделю позже? Или это не важно, важно, что «больше»?.. Вы с инженером люди новые, городские, а меня это прямо коробит. Ну, ничего, поработаете… Впрочем, как ты, а инженер-то много не наработает.
— Это почему же? — спросил Илья.
— Да потому, что временный твой инженер. Рыцарь на час, как раньше говорили. Не понимаешь? Видишь ли, Илья Михайлович, ни хвалить, ни ругать я тебя не собираюсь, а одно за тобой я сразу заметил, с первого твоего шага: к людям, которые до тебя здесь работали, к коллективу нашему уважительно ты отнесся. А Оданец, как варяг, приехал сюда володеть и княжить. Он приехал сюда наводить порядок, и, значит, все, что до него было в МТС, — все плохо, никуда не годится. И будто не бывало здесь прекрасных бригадиров, трактористов, — где уж тут ему с кем-нибудь советоваться!.. Нет, про него не скажешь, что он чинуша, канцелярист. Он отлично знает, где и какой бригадир, где и какие машины. Но в людей он не верит. Он считает, что не сами люди могут чего-то добиться, а лишь этакая… ну, что ли, комбинация благоприятных условий. Да, да! Ты думаешь, с чего он вдруг после собрания Галышева начал поддерживать? Из самокритичности, думаешь? Как бы не так! Ты Галышева тогда похвалил, в пример поставил, вот он и сменил курс. Но опять же думает не столько о том, чтобы Галышева выручить, сколько самому на нем выручиться. Брагину, мол, сколько ни дай — толку мало. Ну, сделает лишнюю сотню гектаров, ну, в эмтеэсовской сводке поднимется на строчку выше — что за радость? Славу МТС на этом не поднимешь. Галышев же и так работает хорошо, помочь ему — глядишь, прогремит парень на весь район, а может, и на область и всю МТС на строчку выше поднимет.
— Ты уже слишком, пожалуй, Алексей Иванович, — вступился за Оданца Илья. — Как-никак все-таки человек и на заводе не на плохом счету был, и уж одно то, что сюда поехал, насиженное место бросил…
— Вот насиженного-то места он как раз и не бросил. Да, по всему видно, и не собирается. Как так?.. А вот как. Комнату я ему предлагал по приезде — отказался в пользу плановика. Благородно с его стороны? Конечно, благородно. Через некоторое время квартиру из двух комнат в новом доме — на, бери за свое терпение и благородство! Новый широкий жест: пусть поселяются в ней молодожены, а я потерплю… Дело прошлое, сознаюсь — до слез растрогал: вот, думаю, невзыскательный человек, не то что другие: прямо с вокзала — где моя квартира?..
Андрианов снова вытащил папиросу и долго прикуривал ее.
— А вчера заведующий отделом кадров в управлении строго этак меня спрашивает: что ж ты, любезный Алексей Иваныч, специалисту, приехавшему к вам из города на постоянную работу, жилья не даешь? Не по-государственному мыслишь, близоруко. Опешил я малость. Вот, думаю, вляпался: одно дело, что он отказывался, но со стороны-то получается — не даю квартиры, и мало ли кто и чего может подумать и даже сказать где следует. Однако выясняется, что не со стороны, а сам уважаемый специалист сказал. И сказал в том смысле, что за чем его послали сюда, он сделает, порядок в МТС наведет, а потом, ввиду отсутствия нормальных бытовых условий, вынужден будет вернуться в город. Тем более что собирается писать не то диссертацию, не то еще какой ученый труд и ему библиотека потребуется и все прочее.
Илья молчал, пораженный. «Плечом к плечу» у них с Оданцом, правда, все равно не получалось, но ведь с одного завода… Да и не в заводе дело. Оданец словно бы подтверждал то, что тогда говорил отец, и прямо или косвенно бросал тень и на Илью.
Справа, на ржаном поле, показался еще один комбайн. Свернули к нему.
У комбайна были Костин с завхозом, комбайнер с Филиппом Житковым.
— Что, и здесь дело за цепями? — вылезая из машины, спросил Андрианов.
— За цепями, — подтвердил комбайнер.
— Та-ак, хорошо… Ну, а у тебя как? — обратился Андрианов к Костину.
— Вот думаем, на чем отвозить хлеб от этого комбайна, — ответил Костин. — Нет тягла. Сколько ни мудрим, больше, как на один агрегат, лошадей не набирается.
— Попробуем где-нибудь полуторку для вас найти. Поговорю с директором «Заготзерно». Кстати, здешний бригадир года три там проработал — пусть разведку сделает. Где он?
— Я за бригадира, — неуверенно выступил вперед Житков.
— Ну, хорошо, а Брагин где?
Наступило молчание.
Илья нарочно не заводил с Андриановым разговора о Брагине и только теперь, убедившись, что директору еще ничего не известно, кратко рассказал всю историю.
— Эге, а он, оказывается, «прынципияльный», наш инженер-то! — воскликнул Андрианов, нарочито искажая слово. — Раньше этого за ним что-то не замечалось… А Горланова, говоришь, вы в бригаду так и не пустили?
— Не пустили, — подтвердил Житков.
— И правильно сделали. Вот что, Филипп Васильевич. Нам еще в Вязовку надо, а чтобы не откладывать в долгий ящик, — передай через диспетчера мой приказ: с сегодняшнего же дня Брагину приступить к работе. Пусть найдут его, а ты сдашь дела.
— За этим не станет.
Илья облегченно вздохнул. Он и верил, что Андрианов поступит так, а не иначе, и боялся обмануться в этом.
В Новой Березовке пробыли долго. Уж очень запущенным было хозяйство здешней артели — прореха на прорехе: не хватало лошадей, телег, сбруи. Не хватало людей молотить, провеивать зерно от комбайнов.
— Тришке со своим кафтаном, пожалуй, было легче, — к слову пошутил Андрианов.
А когда выходили из правления, серьезно сказал, подтягивая свой кавказский ремешок:
— Вот ты смеялся, Илья. Уборка еще не началась, а ремень уже убавлять приходится…
Солнце готовилось опуститься за багровый раскаленный горизонт.
В Вязовку было уже поздно. Поехали домой.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Чуть покачиваясь, комбайн уплывал по светло-желтому морю, и мелькающие планки мотовила с правой его стороны были похожи на плицы огромного колеса.
Михаил присел на кучку соломы — первую кучку сжатой и обмолоченной ржи, и комбайн сразу потонул за пригорком, стали видны только согнутое плечо зернового рукава над бункером да черная, с круглым набалдашником палка выхлопной трубы и над ними расплывающаяся серая шапка пыли.
Оглянуться назад Михаил все еще не решался. Приглушенные всхлипывания, похожие на глубокие прерывистые вздохи, слышались реже, но совсем не затихали. Значит, звеньевая Шура Воронкова все еще стояла на углу участка и плакала, держа на ладони растертый колос с тощими, сморщенными, как сухие червячки, зернами.
За войну Михаилу пришлось много видеть слез. И всегда было тяжело утешать людей в их горе. Но такие слезы он видел впервые и совсем не знал, что надо делать. Да и кто плакал? Веселая, озорная хохотунья Шура Воронкова, та самая Шура, которая недавно на сенокосе грозилась подрезать ему пятки…
Михаил откусил конец соломинки, пожевал и выплюнул. Стрекоза взлетела с жнивья и упала на носок сапога. Деловито огляделась и запела свою веселую песню.
Михаил бросил соломинкой в стрекозу и встал.
Шура стояла на прежнем месте и, все так же держа на ладони хлебные зерна, невидящими глазами смотрела на поле ржи с полупустыми, слегка покачивающимися колосьями.
— Ну, ладно, Шура… Ну, перестань, пойдем. — Он провел ладонью по ее густым, вьющимся волосам.
— Легко сказать: ладно… Не пойду я на ток! Сейчас туда этот хлеб от комбайна повезут… Не пойду. Иди один. — Она слегка толкнула его в грудь и ушла, по-детски кулаком утирая слезы.
У развилки дорог Михаил встретил Ивана Костина. Вылинявшая почти добела майка резко оттеняла темное от густого загара лицо и голые по локоть руки. Костин шумно затягивался папироской и время от времени потирал указательным пальцем переносье — значит, был чем-то рассержен.
— Нехороший разговор был у меня сейчас, — сказал Костин. — Я ему: уборка, мол, идет, горячее время. А он этак прямо: ты меня не агитируй, я и сам грамотный. Который год, говорит, получаем на трудодни одни авансы. А где, говорит, такой закон, чтобы человек работал за здорово живешь?..
Речь, оказывается, шла об одном колхознике, который отказался сегодня выйти на работу, сославшись на какие-то неотложные дела по дому.
— Ладно бы эти субчики, Тузов со своей компанией, только хозяйство развалили — душу людям запоганили, веру покачнули — вот в чем главная беда! Ты говоришь, Шура там, на своем участке, сейчас плакала. Видел я такие слезы и у других. Очень дорогие это слезы, Миша. Может, дороже того дождя, которого нашим полям не хватило. Но не все еще люди у нас такие, как Шура, — вот я про что. При тузовых кое у кого в душе начала старая лебеда прорастать, схватились за свое хозяйство, а колхозное отошло на второй план…
Михаил вспомнил собрание, на котором снимали Тузова, вспомнил выступление конюха Саватеева: «И хочется мне строго судить своего соседа Матюху Кузякова, который в свой огород да в свою корову больше души вкладывает, чем в общее, и — не могу: у него четверо по лавкам, их чем-то кормить надо…» Вот и сейчас председатель строго судит того колхозника, и по-своему, по-председательски он, конечно, прав. Однако же и колхозник по-своему тоже небось считает себя не таким уж виноватым. Все завязывается в один общий узел, и попробуй его так вот просто развяжи…
Дорога вползла в высокую, соломистую рожь и, устремившись сначала вправо, потом влево, затерялась, потонула в ней. Послышалось веселое стрекотание жатки, и впереди, над стеной ржи, выросли две лошадиные головы и движущиеся по невидимому кругу грабли. В воздухе стоял какой-то неясный звон: казалось, что звенят, соприкасаясь друг с другом, сухие колосья.
Костин сорвал один, растер в пальцах. На ладонь высыпались щуплые продолговатые зерна.
— Ты посмотри, какая вымахала! — кивнул он на высокую стену ржи. — Да по такому травостою сто пудов, а то и все сто двадцать за глаза бы можно взять… А в колосе? Видишь: половина — зерна как зерна, а другая половина словно кипятком ошпарена. И это еще не самый плохой участок среди неполивных. На том, где комбайн жнет, сам видел — еще хуже.
Над хлебами показалась соломенная крыша тока.
Над ней качалось большое серое облако, и еще издали слышен был то взмывающий и громкий, как звериное рычание, то ниспадающий и тихий, как пение комара, вой молотилки. И так же, то покрывая этот вой, то утопая в нем, взлетали и падали над скирдами человеческие голоса.
— Ничего, дело идет, — улыбнулся Костин, — а ведь почти одни нестроевики да мальчишки молотят. Молодцы! А видишь, кто задает? Он-то себя, конечно, не задавальщиком, а машинистом величает! Тот самый лоботряс, что медалями бренчал да с метлой похаживал. Ничего, еще как приобщился!
Молотилку окружали конюхи, доярки, работники разных служб и весь правленческий аппарат, включая счетовода, усердно орудовавшего у хлебного вороха деревянной лопатой. И над всеми возвышалась долговязая фигура задавальщика-молотобойца. Был он в тех же галифе, кепке, но без рубашки, в одной густо запыленной майке-безрукавке.
Здесь, на току, звуки уже не разделялись; и жадный рев молотилки, и грохот веялки, и крики людей — все сливалось в один сплошной гул. Воздух был насквозь пропитан пылью и приторным запахом хлеба.
С клади, по цепочке, непрерывным потоком снопы текли в барабан, молотилка, урча, проглатывала их и обглоданными, растерзанными по соломинке выплевывала обратно. Мальчишки, верхом на лошадях, еле успевали отвозить солому, бабы — их было мало — еле успевали управляться с зерном, оттаскивая его на веялку. Все: и машины, и люди, и лошади — были втянуты в один общий водоворот, ни остановить, ни замедлить который, казалось, невозможно.
— Тока давай! Давай, дава-ай! — властно, как командир с капитанского мостика, то и дело гаркал задавальщик, хотя и сам, наверное, понимал, что нужды в этом нет: все и так работали в полную силу.
Но вот молотилка, заглотив последний сноп, глухо рявкнула и, не получив новой пищи, затряслась, точно в лихорадке, на холостом ходу. Тракторист заглушил мотор.
— Перекур! — все так же громогласно объявил задавальщик.
Михаил подошел к трактору, осмотрел мотор и взялся за ведро, чтобы долить в радиатор воды.
Сидевшие в нескольких шагах от бочки колхозники неторопливо, с удовольствием затягивались цигарками и вели такой же неторопливый, солидный разговор.
— Соломы-то много, а намолоту больше тридцати пудов на круг не выходит.
— Молодой еще ты, Лексей, опыта жизни в тебе мало. Да, бывало, в такие суховейные лета мы и семян-то не собирали…
Михаил поставил ведро на дроги и тоже закурил.
— Вот с поливом бы что-нибудь придумать! А то ведь не работа — наказанье. День-деньской ходишь с лопатой по колено в грязи, а вы́ходишь какой-нибудь гектар.
— Ты, бригадир, человек технический, — обратился один из колхозников к Михаилу. — Скажи: неужто ничего нельзя тут придумать? Неужто это мудренее, чем, скажем, комбайн изобрести?
Михаил ответил, что кое-какие машины в поливном деле уже применяются, но все они пока еще несовершенны, хорошей машины еще не придумано.
От молотилки раздался раскатистый, как удар далекого грома, окрик:
— Становись!
«Тока-давай», как прозвали задавальщика, уже стоял на своем высоком месте и грозно сверкал обшитыми кожей очками.
— Ну, ты и орешь, — усмехаясь, сказал Костин, — словно полком командуешь.
Ломаная шеренга людей снова выстроилась от скирды до столика перед барабаном. Затарахтел мотор, а вслед за ним и молотилка. В лицо проходившему мимо Михаилу жарко пахну́ло ржаной пылью, горячим житом. Задавальщик опустил в барабан первый сноп. Машина замедлила ход, точно подавилась, потом загудела снова. Из-под заднего фартука, плавно подпрыгивая, потекла солома. И, перекрывая рев молотилки, с прежним азартом загремело:
— Дава-ай! Давай-давай!!
Чтобы радиатор не забивало половой, Михаил с трактористом приладили на него кусок старого решета.
Теперь оставалось проведать третий трактор, работавший на культивации.
Дорога шла яровыми хлебами. Здесь не было ни машин, ни людей и стояла тишина.
Солнце подымалось в зенит и больно обжигало плечи даже сквозь рубашку. Зной казался густым, тяжелым, дышать было трудно. И думалось трудно, мысли текли медленно, заторможенно.
Как-то приезжал в бригаду Гаранин, спрашивал, что думает Михаил насчет ключевской дождевальной установки. Михаил видел установку и сказал, что она громоздковата: много времени уходит на перетаскивание труб с участка на участок. А на колеса ее не поставишь, потому что полив идет не по голой земле, а по хлебу. Вот если бы с воздуха, если бы такой аэростат придумать, который бы забирал воды сразу на целое поле и устраивал хороший дождь…
Михаилу, когда он был в Ключевском, хотелось повидать Юрку. Встретил он его возле кузницы, где Юрка с двумя дружками собирал ржавые болты и подшипники для какой-то новой машины. Дружки были очень некстати: прогнать нельзя и разговаривать при них с Юркой было неловко. Юрка очень серьезно смотрел на него, словно что-то прикидывая или решая про себя. По ясным, бесхитростным глазам мальчишки было видно, что решение это складывается по-прежнему не в пользу Михаила…
Кончилось одно поле, началось другое.
Михаил на ходу машинально сорвал пшеничный колос, так же машинально взвесил его на ладони и резко остановился. Что за чудо? Он еще раз, теперь уже с интересом и удивлением рассматривая, взвесил колос, оглянулся на то место, где он был сорван, и затем только — на поле, которым шел.
То было хорошо знакомое еще с весны поливное поле.
По левую сторону дороги лежали участки давнего пользования, как их называла Ольга, местами засоленные. Хлеб здесь был неровный: среди хороших, наливных постатей проглядывали плешины с такими же редкими, полупустыми колосьями, как и на том поле, где работал комбайн.
По правую руку шли новые, только в этом году освоенные под полив площади, и пшеница здесь была на удивление ровной и крупноколосой. Михаил сравнил лежавший на ладони увесистый колос с другими и убедился, что он не особенный, не редкостный, а такой же, как и все на этом поле. Дальше от дороги, в глубь участка, пшеница была, пожалуй, даже еще сильней. Многие колосья, не в состоянии держаться прямо, грузно клонились к земле, переплетаясь и путаясь меж собой. Все поле вдосталь налившегося, а теперь вызревающего хлеба казалось погруженным в жаркую дрему, и временами набегавший слабый ветерок не в силах был вывести его из этого состояния.
Михаилу в последнее время бывать здесь не приходилось. Он видел, как хорошо раскустилась после полива, а затем пошла в трубку пшеница, видел, как богато выколосилась она. И он, конечно, знал, что, несмотря на засуху, урожай будет в общем неплохим. Но разве он мог думать, что этот «неплохой» урожай окажется вот таким, каким он сейчас его видел?!
Такой тучный, наклонившийся хлеб трудно убирать комбайном. Чтобы не оставить самые полновесные колосья, надо держать хедер на низком срезе, а это на поливном поле не так просто: при малейшей оплошности нож может зарыться в гребень первой же поливной борозды.
Но все это Михаил отметил мимоходом, по своей профессиональной привычке. Уж как бы там ни было, а такой богатый хлеб они, механизаторы, убрать сумеют! Тем более что вместе с колхозниками и они сами немало вложили труда в обработку этого поля…
«Знает ли о нем Ольга? Уж кого-кого, а ее-то больше всех оно обрадует…»
Пшеница кончилась. Показался темный квадрат пара. Михаил свернул с дороги и межой пошел к трактору.
2
На время уборки Сосницкий прочно обосновался в Ключевском, лишь изредка и на короткое время выезжая в соседние колхозы. Свое особое внимание к Ключевскому он объяснил Татьяне Васильевне так:
— Будем вытягивать колхоз на передовой в районе.
Татьяна Васильевна ответила, что вытягивать надо бы отстающих, а лучший колхоз к концу уборки и сам определится.
— Это и так, и не совсем так, — туманно возразил на это Сосницкий.
Он ежедневно донимал Татьяну Васильевну различными вопросами, советами и указаниями. Правда, большую часть времени Сосницкий проводил в правлении, у телефона, и это давало возможность Татьяне Васильевне спасаться от его наставлений в поле, на токах, на фермах.
Накануне жатвы Сосницкий сказал, что передовой колхоз первым получает и квитанцию на элеваторе. Татьяна Васильевна согласилась, оговорившись, правда: зерно завтра будет готово на сдачу не раньше обеда и вполне возможно, что их опередят.
— Если постараться, не опередят, — значительно взглянув на Татьяну Васильевну, сказал Сосницкий.
— Будем стараться, — миролюбиво ответила Татьяна Васильевна, чтобы кончить разговор.
Два первых уборочных дня комбайн «Сталинец» простоял. Лишь вчера прислали, наконец (опять самолетом, из Москвы), недостающие цепи.
Рано утром, не заходя в правление, Татьяна Васильевна направилась к комбайну.
Комбайн шел первый, пробный круг. Соломистая, но пустоколосая, с наполовину высохшими зернами, рожь была еще влажной, и барабан плохо промолачивал. Не налаживалась как следует и работа очисток: вместе с зерном в бункер сыпалось неотвеенное охвостье. Но вот солнце поднялось повыше, хлеб просох, и все пошло хорошо. Второй и третий круг машина прокосила без остановок.
От комбайна Татьяна Васильевна пошла на ток. По дороге она решила сделать крюк и посмотреть яровые.
Яровая пшеница пострадала от засухи не меньше, чем рожь. Колосья держались на стеблях прямо, нисколько не отягощая их, и качались от малейшего ветерка. Татьяна Васильевна сорвала один колос, помяла его в пальцах. Он казался вымолоченным, с трудом нащупывались тощие, иссушенные зноем зерна. И если там, где работал комбайн, поле хоть на вид было хлебным, то здесь и соломы не уродилось. Без времени пожелтевшие стебли пшеницы были низкорослыми и редкими; и там и сям серыми плешинами проглядывала земля.
Дальше шло поливное поле.
Участки делила лишь узенькая ленточка рубежа, но как разительна была разница между ними! Будто и не было здесь никакой засухи, будто выдался счастливый, урожайный год, когда все бывает ко времени: и дождь и солнце.
Татьяна Васильевна наклонила колосок и, не срывая его, положила на ладонь рядом с первым. Граненый поливной колос еще не созрел, был еще зеленоват, но как он налился, каким весомым обещал стать через пять дней, через неделю!
Татьяна Васильевна вдруг почувствовала, как к горлу подступил горький ком, а глаза застилает туманная пелена.
«Сколько недобора! Сколько пудов, сколько тонн ушло мимо закромов!..»
Колхозники хорошо знают, каким она приняла артельное хозяйство, как, недосыпая ночей, подымала его, ставила на ноги. Все знают, как бережет она артельную копейку, как старается выкроить лишний грамм хлеба на трудодень. Знают, что вся ее теперешняя жизнь, цель ее и смысл — в колхозе. Всё это они знают. Знают и все-таки не простят… Эх, если бы чуть побольше знала она эту агрономическую грамоту!
На ток шла Татьяна Васильевна медленно. Во всем теле, особенно в ногах, чувствовалась чугунная усталость.
«А ведь это старость. В беготне оно, время, летит незаметно, а годы-то сказываются. Старею…»
На току, около хлебных ворохов, кладовщик читал что-то кучке колхозников.
— Про нас, — подавая Татьяне Васильевне районную газету, сказал кладовщик — маленький, толстый бородач. — Первыми начали сдачу хлеба.
Татьяна Васильевна не стала читать газету: так ли уж важно это, когда колхоз столько тонн потерял безвозвратно! Никто уже не повезет эти тонны ни на элеватор, ни в колхозные сусеки. И пусть урожай в «Победе» по нынешнему засушливому лету не хуже, а может, лучше, чем во многих других артелях, — что из этого?
— Ну и жох, однако, этот райкомовец! — продолжал кладовщик, когда все разошлись по местам. — Надо же придумать! Зерно, говорит, оно ведь немеченое.
— Какое зерно? — устало спросила Татьяна Васильевна. — Что ты болтаешь некряду, Панкратыч?
— Да то самое, которое на элеватор первым рейсом отправили. Из амбара.
— Из какого еще амбара? Да ты что сегодня, выпил, что ли, или солнцем тебя припекло?
— Солнце тут, Татьяна Васильевна, ни при чем, — обиделся Панкратыч. — А зерно из амбара насыпалось с твоего согласия…
Оказалось, что Сосницкий в первый день уборки пришел утром на зерновой склад и сказал, чтобы кладовщик насыпал две машины сухого зерна прошлогоднего урожая, а как только хлеб начнет поступать с тока, сразу же пополнить закрома. Кладовщик понял, что значит «зерно, оно ведь немеченое», и спросил только, есть ли на этот счет разрешение председателя. Сосницкий сказал, что есть, что с председателем они договорились еще накануне.
— Сообразил, ничего не скажешь! Пока другие сушкой занимались, мы уже на элеватор въезжали.
Татьяна Васильевна поднялась с весов, на которых сидела, и, ничего не ответив кладовщику, пошла с тока.
«Так вон оно что! Вон что за многозначительное «если постараться — не опередят». Ну, постарался! Спасибо! Можно считать, что «вытягивание» колхоза началось… Ах ты, фокусник, чтоб тебе пусто! Ах ты, деляга окаянный!..»
Она долго мысленно отчитывала Сосницкого. А когда поняла, что ей к тому же придется обо всем этом молчать, чтобы не срамиться перед всем районом, разозлилась еще больше. «Успел уж и в газете раззвонить, теперь никому и не заикайся, ходи в передовиках, если не хочешь, чтобы тебя на смех подняли».
Дорога в село лежала мимо участка, на котором работал «Сталинец». Там творилось что-то непонятное. Комбайн на середине гона перестал косить и, подняв хедер, двинулся поперек участка к дороге.
Татьяна Васильевна ускорила шаг: «Уж опять что не случилось ли с этими проклятыми цепями?»
На мостике рядом с комбайнером стоял Сосницкий. Следом шли Хлынов с Галышевым и недавно приехавшая в колхоз студентка-практикантка.
Татьяна Васильевна стала на пути трактора и махнула рукой. Агрегат остановился.
— Что случилось?
— Все в порядке, Татьяна Васильевна, — ответил за комбайнера Сосницкий. — Только уж больно намолоту мало! Так недолго нам и первенство потерять. Начать-то мы начали, а сегодня по вывозке кое-кто нас уже и обгонять стал. А с того участка, — Сосницкий показал на дорогу, — мы сегодня же к вечеру знаешь сколько двинем на элеватор!
Татьяна Васильевна поняла все с первых же слов. Она поняла и то, о чем Сосницкий не говорил: Хлынов с Галышевым были против переброски комбайна, а агроном-практикантка не знает, чью же сторону занять.
Много «двинуть» хлеба на элеватор Сосницкий собирался с семенного участка ржи — лучшего среди озимых хлебов, добротно унавоженного. Хлеб там был действительно сильнее, наливнее. Но до полного созревания ему следовало постоять еще денька два-три. Начатый же участок завтра-послезавтра начнет высыпаться.
— Ты бы, товарищ Сосницкий, слез на землю, — негромко, стараясь сдержать себя, сказала Татьяна Васильевна. — Чего на машине толкаться, людям мешать? — А когда Сосницкий подошел к ней поближе, внимательно, как бы в раздумье, посмотрела на него. — Это хорошо, конечно, что ты помогаешь нам вытягивать колхоз. Можно сказать, даже спасибо за это. Только… только ведь у тебя, надо думать, и других забот по горло. А мы, мы как-нибудь уж сами… Первого места не займем — третье займем. Но займем по-честному, без фокусов… В этом участке, если хочешь знать, завтрашнее богатство нашего колхоза, а ты им дневную сводку хочешь подкрасить. Не дам! Тебе эта рожь — заплатка на отчет, а у меня она вот здесь, в сердце. Она мне, может, по ночам во сне не раз виделась… Э, да что с тобой говорить, все равно не поймешь!
Опять слезы подкатили к горлу, но Татьяна Васильевна сдержалась.
— Заводи, Илья Ефимович. Дожинайте, что начали.
Сосницкий не сразу нашелся, что сказать. Его красивое лицо судорожно передернулось и застыло в натянутой улыбке.
— Я, конечно, не хотел бы вмешиваться в ваши распоряжения, — все еще не зная, то ли продолжать улыбаться, то ли принять строгий, начальственный вид, сказал Сосницкий, — но вы забываете, что…
— Я все помню, — не дав договорить ему, ответила Татьяна Васильевна и, чтобы избежать длинных поучений, добавила: — Тот участок, попросту говоря, еще зелен.
— Агроном, однако, считает, что он вполне готов для уборки, — уже оправившись, важно возразил Сосницкий. — Тоня, скажи!
Девушка-практикантка выступила вперед и сбивчиво, неуверенно начала говорить что-то насчет восковой спелости.
— Не надо, голубушка, не трудись, — прервала ее Татьяна Васильевна. — Уж что другое, а поспел хлеб или не поспел — это я получше самого образованного агронома знаю. Этот комбайн, может, столько еще не скосил его на своем веку, сколько я серпом сжала…
Агрегат медленно развернулся.
Сосницкий с агрономом остались на дороге, а Татьяна Васильевна с Хлыновым и Галышевым пошли вслед за комбайном.
— Бригадиром себя считаешь, — сердито сказала Татьяна Васильевна Галышеву, — а машинами незнамо кто командует. Где так больно люто́й, а тут слово сказать боишься.
— Товарища Сосницкого словами не прошибешь, — невесело улыбнувшись, ответил Галышев. — Он человек дела.
Татьяна Васильевна понимала, что бригадир с Хлыновым ни при чем, что Сосницкий просто-напросто не послушался их, а ведь он как-никак представитель райкома, но столько злости поднялось в ней, что она готова была обругать кого угодно.
От комбайна Татьяна Васильевна ушла домой, обедать.
Юрка с Леной брызгались водой из кадки и визжали от восторга, когда кому-нибудь удавалось облить другого. Глядя на них, Татьяна Васильевна первый раз за день улыбнулась. Все горькое, нехорошее и злое постепенно уходило из сердца.
«А все-таки тяжелый нынче день. Тяжело. А особенно оттого, что слова сказать некому. Ленка еще не понимает ничего, а Ольги нет. Хоть бы она, что ли, приехала…»
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Весь день стояла ясная, тихая погода. Но перед вечером вдруг откуда-то взялся ветер, натащил облаков и закрыл ими все небо. Сразу стало шумно и по-осеннему сумеречно. Ветер сначала шел в одном направлении и был ровным, потом стал крутить, рвать, то затаиваясь, то налетая с удвоенной силой. Над полями то тут, то там вставали расплывающиеся пыльные столбы и воронки. Было похоже, что ветер обшаривает все полевые дороги и начисто подымает с них пыль в небо, и оно от этого все больше и больше темнеет.
Михаил шел к себе на стан с дальнего, пограничного с ключевским колхозом поля. Туда сегодня переехал комбайн на прицепе ихматуллинского трактора.
Огибая два крутых и длинных оврага, дорога делала крюк. Михаил решил идти напрямик.
Овраги почти упирались вершинами в лесок. Должно быть, оттуда с железными банками и кузовками пробежали четверо ребятишек.
В небе все еще творилось что-то непонятное. Грязные, пузатые облака забили его так плотно, что уже не видно было ни одного просвета. Но облака все прибывали, нагромождаясь друг на друга.
«Уж не дождичка ли господь бог надоумился послать? — усмехнулся Михаил. — Что ж, как раз ко времени: началась уборка…»
Наконец набитое до отказа небо не выдержало и где-то над лесом треснуло. Треск был сухой и резкий, как бывает, когда рвут клеенку. Разорвалось еще в одном месте, еще. А ветер все крутил пыль по дорогам, клал то в одну, то в другую сторону хлеба и, не зная, чем бы заняться еще, начал раскидывать по полю кучки сжатой и обмолоченной соломы.
Сухой треск раздирал небо из края в край, и оно опускалось над землей все ниже и ниже. На западе, из-за горизонта показалась огромная, зловеще темная туча, левей выплыла еще одна, и, как бы возвещая их появление, ударил гром.
Михаил пожалел, что не пошел кривой дорогой, тогда бы можно было спрятаться от дождя в лесу. А до бригадного стана было еще порядочно.
Дождь настиг Михаила, когда он перелезал второй овраг. Дождь был не сильный, но плотный, спорый. Из-за его сплошной завесы в поле стало совсем темно.
Выбираясь из оврага, Михаил заметил, что чуть в стороне кто-то тоже карабкается по крутому склону. Приглядевшись, он увидел, что карабкается мальчишка, и мальчишка, надо думать, еще совсем несмышленый, потому что, вместо того чтобы взять немного левее, он лезет по оползню в самом крутом и неудобном месте. Вот он почти добрался до гребня, но дождем его смыло обратно. Сквозь мерный шум дождя Михаил слышал, как мальчишка жалобно заскулил.
Он приблизился к мальчику и тронул его за плечо.
— Не плачь!
Мальчик вздрогнул, сжался, как еж, в комок, но, увидев рядом с собой человека, сразу же успокоился.
Михаил взял мальчишку за руку, чтобы вести из оврага, но тот так обессилел, что уже не держался на ногах. Одет он был в одни короткие штаны с лямками наперекрест. А мерный, ровный дождь между тем сменился тяжелым, отвесно падающим ливнем и хлестал, как прутьями.
Михаил присел, снял пиджак и начал закутывать в него мальчишку. Опять ударил гром, сверкнула молния, и Михаил чуть не вскрикнул от удивления: у него на коленях был Юрка.
Выбрались из оврага и пошли дальше. Обхватив Михаила за шею и доверительно прижавшись к его мокрой груди, Юрка что-то пробормотал и затих. Некоторое время он вздрагивал, потом перестал, видимо, согрелся.
Тропка давно потерялась из виду, но Михаил был уверен, что идет куда надо, идет правильно. Он только боялся, как бы в темноте не оступиться больной ногой в промоину.
Впереди сквозь дождевую завесу мелькнул огонек, пропал, снова загорелся. Значит, они и в самом деле не сбились с дороги. Это горела над окошком полевого вагончика маленькая аккумуляторная лампочка.
В вагончике никого, кроме спящего Пантюхина, не оказалось.
Михаил пробрался к своему топчану, раздел донага Юрку. Затем он достал из чемоданчика сухую рубаху и, облачив в нее мальчика, уложил его под одеяло.
— Ложитесь и вы, а то я бою… — Юрка недоговорил, засыпая.
Михаил лег рядом и, обняв его за худенькие лопатки, легонько придвинул к себе. Юрка, полусонный, обмякший, покрутил где-то у его плеча головой, устраиваясь поудобнее, и, наконец, заснул. Оттого, что мальчик подсознательно припал к его плечу, у Михаила радостно дрогнуло сердце. Он испытывал незнакомое ему чувство особой ответственности за доверившегося ему маленького человека, и это тревожное и счастливое чувство не давало ему уснуть.
Дождь все еще не утихал, гулко барабаня о железную крышу вагончика. Только теперь он шел неровно, то усиливаясь, то слабея и вновь нарастая. В минуты затишья слышно было, как дышит и причмокивает во сне Юрка.
Вскоре сделалось жарко. Юрка так угрелся, что все его тело стало горячим, как в бане. Михаилу хотелось отодвинуться, но он боялся, как бы Юрка не открылся и не простыл.
Любивший поспать Пантюхин сейчас под дождь храпел особенно сладко, с пересвистами.
Вдруг за стеной вагончика послышалось громкое чавканье мокрой земли, а вслед за тем кто-то постучал в оконце.
Михаил осторожно снял с руки Юркину голову, поднялся и, подоткнув со всех сторон одеяло под спящего Юрку, вышел.
— Кто здесь? — спросил он в темноту, почти наткнувшись на лошадиную голову. Лошадь испуганно шарахнулась.
— Это ты, бригадир? — раздался женский голос. — Из Ключевского я. Узнаешь?
Михаил понял теперь, что перед ним Татьяна Васильевна, мать Ольги. Она сидела верхом на лошади, в плаще с накинутым капюшоном.
— Ребятишки наши тебя у леса видели… Не встречал моего внучонка?.. В грозу попал… Что?
Лошадь не стояла спокойно, и Татьяне Васильевне приходилось кричать, чтобы перекрыть шум дождя и громкое чавканье копыт.
Михаил сказал, что Юрка у него, но спит и будить его, пожалуй, не стоит. Лучше он его завтра утром сам привезет в Ключевское.
— Ну, слава богу! — успокоилась Татьяна Васильевна. — Нашелся! А то с ног сбились…
К вагончику, тоже верхом, подъехал кто-то еще.
— Слышь, Митя, здесь парнишка-то! Бригадир подобрал.
— Ну вот я же говорил, к трактористам надо, — ответил из темноты Дмитрий Хлынов.
— Товарищи называются! — уже своим обычным, немножко ворчливым голосом продолжала Татьяна Васильевна. — Бросили пария одного, и так вроде и надо. Паршивцы!.. Фу! Ну, теперь ладно, теперь сердце на месте… Ему ничего не надо? Не холодно в вашей будке-то?
Михаил ответил, что в вагончике тепло и Юрке ничего не надо.
— Ну, мы поедем. А завтра приходите… Знаешь, где я живу? Ну, то-то.
Татьяна Васильевна с Хлыновым уехали. Дождливая бездна ночи скоро поглотила и голоса людей, и чавканье копыт. Осталось слышным лишь дробное постукивание капель о крышу вагончика. Дождь, кажется, начинал стихать.
Заснул Михаил только перед рассветом.
Утро, как всегда после дождя, было особенно чистым, ясным. В небольшое оконце проникало столько света, что им был наполнен весь вагончик, до последнего уголка.
Просыпаясь, Михаил неосторожно повернулся и разбудил Юрку. Тот открыл глаза, поморгал ими, снова закрыл и потом только проснулся окончательно.
— Это ты, дядя Миша?! — Юрка от удивления сел и даже слегка отодвинулся, точно хотел еще издали убедиться, что рядом с ним лежит Михаил, а не кто другой.
— Ну как, выспался? — спросил Михаил.
— Выспался, — ответил Юрка. — А где я?
— Как где? Разве не видишь: у меня. В нашей бригаде… Ну, об этом после. А сейчас ты пока полежи, а я пойду нашу одежку просушу, чай согрею. Есть не хочешь?
— Нет, не хочу. Пить хочу.
Чайник на костре вскипел быстро.
Михаил налил кружку, достал из чемодана кусочек сахару.
— Пей.
Юрка хлебнул и сморщился.
— Горячо!
Михаил обругал себя за то, что забыл хоть немного остудить чай.
В просторной нательной рубахе Юрка был чем-то похож на галчонка: ни рук, ни ног не видно, высовывалась лишь из ворота стриженая голова на темной шее.
Когда с чаем было покончено, Михаил сказал:
— Ну, а теперь, хочешь у нас побыть — побудь, хочешь — домой, к бабушке пойдем.
Юрка вскочил, запутался в рубахе и упал на подушку. Михаил рассмеялся:
— Сейчас я тебе твою амуницию принесу.
— А я, дядя Миша, не потому упал, — тихо проговорил Юрка. — У меня голова кружится, и мне… жарко… Я хочу у вас побыть… и к бабушке тоже…
Михаил взял Юрку за руку — рука была горячей, как ночью. Лоб еще горячей. «Вон что это за тепло, от которого мне не спалось! У парня температура, а я, дубина, целую ночь с ним пролежал и не мог догадаться!»
— Что с тобой?.. Да ты ляг, ляг как следует — и все пройдет. — Он кулаками взбил подушку и уложил Юрку повыше. — Ну вот, тебе уже лучше. Ведь лучше? Да?.. Вот… Сейчас все пройдет. — Михаил ободрял, успокаивал Юрку, а у самого голос дрожал от тревоги и смятения.
«Что с ним делать? Как быть?» В жизни ему и со здоровыми детьми нечасто приходилось иметь дело, с больными же он совсем не знал, как обращаться.
— Что это так мне жарко? — спрашивал Юрка. — От чая, что ли? Чай уж больно горячий был… Такой горячий… такой горячий…
«Вот что: отвезу-ка я его, пока совсем не расхворался, к бабке. Какое лечение в поле? А она ему или пилюль каких даст, или травяным настоем напоит».
Он так и сказал Юрке:
— Знаешь, Юра, к нам ты как-нибудь в другой раз придешь, мы с тобой вместе на тракторе поработаем. А сейчас поедем к бабушке, а то она тебя небось заждалась.
— Поедем. А у меня все уже прошло. — Юрка жалко улыбнулся и попытался приподняться. — Голова не кружится. Вот только горячо…
— А чтобы тебя ветром не прохватило — ветер после дождя холодный, — я тебя в одеяло заверну. Согласен? Вот и хорошо…
Подошел проснувшийся Пантюхин.
— А откуда этот оголец у нас появился? — выразив на заспанном, помятом лице крайнее удивление, спросил он.
— Ты иди-ка, Федор, лучше посмотри, кто там подъехал, — сказал Михаил. — Если наш возчик, пусть выпрягает, мы с этим огольцом в Ключевское поедем.
Пантюхин вышел, хотя по всему было видно, что такое объяснение его никак не удовлетворило.
— Возчик, — доложил он в окошко, — выпрягает.
Михаил вынес закутанного Юрку из вагончика и с помощью Пантюхина сел на лошадь.
— Ну, теперь, на воле, тебе не жарко?
— Хорошо, — ответил Юрка. — А все равно… жарко.
По дороге он то впадал в забытье, почти засыпал, то пробуждался и живо, как совсем здоровый, разговаривал с Михаилом:
— А я тебя, дядя Миша, наверное, еще вчера узнал. Только уж больно темно было…
Юрка рассказывал, как они вчера пошли за ягодами и как потом он отбился от товарищей и попал в грозу.
— Только ты, дядя Миша, маме, пожалуйста, не говори, что я заблудился…
Михаил подъехал к дому Орешиных задами.
Когда отдавал Юрку вышедшей навстречу Татьяне Васильевне, она тоже попросила:
— Ты, Миша, не очень-то ей рассказывай, а то она меня съест… Все равно, конечно, узнает, но… Ах как тебя разморило, сынок! Смотри-ка, как разомлел! Да и лоб горячий… Ну, ничего, отудобишь. Пойдем-ка, я тебе молочка горяченького с малиной дам.
«А Ольги, значит, здесь нет, и она еще ничего не знает», — отметил про себя Михаил, провожая взглядом Татьяну Васильевну и Юрку.
2
Уборка складывалась неудачно.
Андрей осунулся, глаза резко выделялись на его потемневшем от загара лице, губы обветрило так, что потрескались. Не хватало времени по-человечески поесть, побриться, урывками приходилось спать. Каждый день был долгим, как год: сто дел переделаешь! — и коротким, как одна минута: за делом времени не замечаешь.
С самого же начала жатвы спутал все планы двухдневный простой комбайна. Наконец ожидаемые цепи пришли, но тогда у самоходного комбайна вдруг начал плохо промолачивать барабан, оборвались на двух узлах передаточные ремни. А барометр тем временем уже потянуло на «переменно»: не сегодня-завтра жди дождя.
Во время ремонта комбайна приехала Татьяна Васильевна. Она вылезла из своей плетушки, оглядела только начатый участок пшеницы и, подходя к комбайну, сердито сказала:
— Под монастырь подводите, товарищи механизаторы! Ну, куда это годится: золотые дни уходят… Самоходный! Какой он, к лешему, самоходный, если не столько ходит, сколько стоит.
Андрей сидел в приемной камере, поправляя ослабшую заклепку, и молчал. Говорить было нечего.
— Идешь мимо трактора, который пашет или сеет, — сердце радуется, — продолжала Татьяна Васильевна. — Не боишься, что остановится, знаешь: если и остановится, через час снова пойдет, а час ничего не решает. А вот мимо комбайна иду, только и думаю: как бы не стал, как бы не стал, проклятый. Потому, что тут и час дорог, и никогда не знаешь определенно, на сколько он остановился — на двадцать минут или на два дня.
Андрей вылез из камеры и сел на раму, рядом с Татьяной Васильевной, закурить.
— Ты не молчи, а вот стань-ка на мое место. Стал? Ну вот, ты дал наряд бригадам: столько-то людей и лошадей на обслугу комбайнов — на отвозку зерна, на провеиванье и просушку, столько-то на погрузку для сдачи и тому подобное. Ладно. Наряды ты дал, а комбайн час проработал и стал. Что ты будешь делать? Перебросишь людей на другие работы? А может, он через полчаса снова пойдет? Станешь дожидаться? А может, он весь день простоит? Понятно теперь, какую головоломку вы нашему брату каждый раз задаете?
К комбайну подошел Сосницкий. После крупного разговора с Татьяной Васильевной он вел себя немножко потише, хотя обязанности «толкача» исполнял с прежним усердием. Сейчас он остановился за спиной Татьяны Васильевны, по другую сторону хедера, и не стал вмешиваться в разговор, сделав вид, что внимательно наблюдает за работой комбайнера.
— И это еще не все, головоломкой дело не кончается. Комбайнер, допустим, мне сказал, что машина остановилась на целый день. Так что ты думаешь, могу я всех людей снять и начать жнитво на этом участке, где остановился комбайн, или на каком другом? Нет! Приедет инженер с главным агрономом и запретят, мало того, еще эти… как их… анти… механизаторские настроения пришьют. Почему, сам знаешь: на каждый комбайн положена своя норма гектаров, — так не смей от этой нормы вручную убирать, выполнение нашего плана срываешь. Что хлеб осыпаться начнет, Оданцу и горя мало, главное — гектары плановые не тронь, будто эти гектары до октября месяца стоять будут и его поджидать… Двойной убыток колхозу получается: и в поле хлеб теряем, и за уборку натуроплату подай… Эх, говорить об этом — одно расстройство!
Татьяна Васильевна ушла, так и не заметив Сосницкого. А тот сразу перестал интересоваться работой комбайнера и подсел к Галышеву.
— Есть выход, — сказал он доверительно. — Я договорюсь с кем надо, чтобы сюда, на время, перебросили комбайн из Новой Березовки. Там колхоз все равно еле-еле, а мы не упустим первого места.
Комбайнер поднял на Сосницкого воспаленные от постоянного недосыпания усталые глаза, а Андрей сказал:
— Нет, так не пойдет!
Татьяна Васильевна ругала его, наверное, не совсем заслуженно, и все-таки он ничуть не сердился на нее, ни слова не сказал в свое оправдание. А вот сейчас вдруг всколыхнулась в нем вся злость и горечь, накопившаяся за эти суматошные дни, и он готов был ударить Сосницкого. Тот, видимо, понял состояние Андрея и поспешил уйти к другому комбайну, кинув на прощанье:
— А ты все-таки подумай.
«Подумай»! Тебе нет дела, что мы в новоберезовскую бригаду отдали свои подшипники. А теперь забрать у них комбайн? Очень по-товарищески…»
Как началась уборка, Андрей виделся с Соней по большей части на людях: в поле, на току, в правлении. Сегодня выпал первый свободный вечер, и он решил возвратить книгу, взятую еще давно из хаты-лаборатории.
Собирался он, как ему казалось, незаметно, но Женя, еще до того, как Андрей взялся за книгу, уже понял, куда он идет.
Хотя бы Мошкин был не в его бригаде! А то приходилось каждый день видеться, вместе обедать, разговаривать, и Андрей постоянно испытывал чувство неловкости, считая, что ведет себя по отношению к Мошкину нехорошо, не по-товарищески. Но что он мог поделать?
В вершинах ветел, на подходе к селу, мелькнул веселый резной конек хаты-лаборатории. Андрей ощутил, как сердце заколотилось часто и резко, будто дорога разом пошла на крутую гору. Он думал, что, набравшись смелости однажды, он уже не будет робеть перед Соней. Выходило, что это не совсем так…
«А чего робеть? Да, вот именно, если разобраться, чего робеть? Абсолютно нечего!»
И Андрей резко толкнул знакомую дверь.
— А я уж думала, ты и дорогу забыл, — встретила его Соня.
— Вот книгу принес, — чувствуя, как мужество постепенно начинает покидать его, пробормотал Андрей. «Хотя для начала ничего, — попытался он успокоить себя. — Даже очень хорошо. А дальше… дальше мы еще посмотрим…»
— Книгу! — воскликнула Соня, и он понял по ее восклицанию, что сказал «для начала» не то. — А если бы не книга, так бы и не зашел?!
— Все как-то некогда…
«Вот это правильно. Тут уж она не подкопается. Так и буду держать».
— Некогда? — опять переспросила Соня, и опять он подумал, что, наверное, рано начал торжествовать. — А для Ольги как-то целый день нашелся?
«Ну, скорей, скорей, чего ты мямлишь? Ответь что-нибудь такое, чтобы она…»
— Так то ж дельное!
«Ну, и то хорошо».
— Ага! А сюда ходить, значит, так себе, вроде бесплатного приложения? Понятно!
«Вот уж на этот раз определенно промахнулся… Да и черт знает, что отвечать ей. Все как-то наизнанку получается…»
Все это время Андрей очень внимательно рассматривал свои руки и не знал, куда их девать: то ли держать на коленях, то ли положить на стол.
Так и не решив этого трудного вопроса, он перестал на них смотреть и поднял глаза. Но, встретившись с устремленными прямо на него черными горячими глазами Сони, уже в следующую же секунду понял, что сделал последнюю и, может быть, самую непоправимую оплошность.
После того как он, так же невпопад, ответил еще на два-три вопроса Сони, ему уже ничего не оставалось, как сказать, что у него сегодня что-то побаливает голова, солнцем, должно быть, напекло.
— Да и душно здесь, пожалуй, не то суперфосфатом, не то какой-то травой пахнет, — соврал он для большей убедительности.
— Никаким суперфосфатом у меня не пахнет, — обиделась Соня. — Выдумал ты это! И не душно совсем, окна открыты, сквозняк гуляет. А впрочем, если не хочешь сидеть, пойдем на волю… Нет… Вот что, — на Соню он больше не смотрел, но по голосу понял, что она лукаво улыбнулась, — пойдем к нам ужинать. Огурцами малосольными угощу.
Он было начал отказываться: недавно ел и вообще что-то нет никакого аппетита.
— Вот и хорошо, — Соня засмеялась. — Меньше съешь.
На улице он себя почувствовал свободнее. Тут и на руки смотреть не надо и говорить можно о самых разных вещах.
А за ужином, весело похрустывая огурцами и разговаривая то с матерью Сони, то с ее меньшим братом, Андрей вел себя уже совсем непринужденно, даже шутил и дивился на свое недавнее косноязычие. Теперь он нашел и объяснение ему: «Инициативу сразу упустил, парень, — инициативу надо всегда держать в своих руках!» Он поедал все, что только подавала ему Соня, забыв, что у него «нет никакого аппетита». А когда вспомнил об этом, так опять же легко отшутился: аппетит приходит во время еды.
— Много книг у тебя. Любишь читать? — спросил Андрей, когда они вышли из избы и сели на лавочку у палисадника. Он и сейчас, оставшись с Соней наедине, чувствовал себя легко и свободно. Он даже мог, например, взять и обнять ее. Конечно, не обязательно на этом показывать свою храбрость, но если он захочет, он ее обнимет. Да, да, рука не дрогнет!
— Летом времени не хватает, а по зимам много читаю, — Соня говорила тихо и задумчиво. — И знаешь, что иной раз подумаешь, Андрюша… только ты не смейся, погоди смеяться… Сколько в книгах про любовь пишется! Особенно вон взять Тургенева или Гончарова. Не только про любовь, конечно, и о жизни, которая тогда была, и о другом. Но и про любовь много. Очень много!..
Воздух загустел, в нем появились запахи, днем неуловимые. Из палисадника потянуло пряным ароматом мяты. Избы на той стороне улицы постепенно тонули в сумраке летней ночи, а над ними все ярче разгорались крупные звезды.
— И ведь так хорошо пишется, сердце замирает, когда читаешь, — продолжала Соня. — А раздумаешься — любовь-то у всех этих Лаврецких неинтересная, больше от безделья. Ведь они же ничего не делали в жизни, только и занимались своими романами. Худосочная такая любовь!.. А по мне… — Соня выпрямилась и закрыла глаза, — по мне, Андрюша, так, чтобы утонуть и не выплыть…
Разговор начинал принимать опасный оборот. Андрей боялся, что тут он может оказаться не на высоте. Да еще этой мятой пахнет — аж голова кружится… И чтобы свести так высоко залетевший разговор на землю, он проговорил:
— Не выплыть? А как же тогда дело, работа? Получится, как у них?
— Так это ж одно другому не мешает! — все тем же мечтательным голосом воскликнула Соня. — Даже наоборот! Вот я сейчас такую силу в себе чувствую, гору своротить могу…
«Это как же понимать?» — подумал Андрей.
А Соня, поняв, что проговорилась, наклонила голову и закрыла лицо руками.
— Плету я нынче что-то несуразное… Ты, Андрюша, не обращай внимания.
— Да нет, я ничего… Я не обращаю…
«Ну, брат, и сказанул! Не обращаю! Лучше-то ничего не мог придумать?»
Соня отняла руки от лица и резко выпрямилась.
«Дурак! Ведь она может сейчас же уйти. Сию же минуту! И правильно сделает, если уйдет!»
И он положил руку на ее плечи. Нет, не для того чтобы храбрость показать, — до этого ли тут сейчас было! — просто надо же ее как-то задержать. Вот и положил нечаянно. А может, эта мята сбила его с толку — прямо беда, до чего густо пахнет этой травой из палисадника!
Соня не ушла. Она слегка вздрогнула и, если только это ему не показалось, чуть подалась в его сторону. Нет, не показалось! Он почувствовал, как плечо само подвинулось под его ладонь, будто Соня хотела сказать этим: ну, смелей же, смелей!
И он осмелел и обнял ее.
А кругом лежала необыкновенная праздничная ночь. Она дышала на них ароматом трав, звенела невидимыми кузнечиками, улыбалась тысячами звезд.
Ну, что бы значило! Вечер сегодня был как вечер, как вчера и позавчера, ничего особенного. А вот поди ж ты — какая чудесная ночь за ним наступила!..
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
Тоня сидела на кучке соломы, подобрав под себя ноги, и говорила, говорила без умолку. Из-за омета доносился ровный грохот молотилки, крики мальчишек-возчиков.
Тоня рассказывала обо всем, что произошло в ее жизни за последние два дня: научилась запрягать лошадь, определяла всхожесть семян, чуть не поругалась с Николаем Илларионовичем. Упомянула и о том, как смотрела вчера кино и был очень плохой звук, и о том, как ее после сеанса вызвался проводить здешний учитель.
Это было в характере Тони — с чисто детской беззаботностью сыпать все подряд, а там пусть взрослые разбираются, что к чему. Однако, слушая ее сейчас, Илья подумал, что Тоня потому, наверное, так сбивчиво и подробно рассказывает всякие мелочи, что боится, как бы Илья не заговорил о том, о чем говорить ей, должно быть, не хотелось.
Тоня заметно посвежела на полевом воздухе, лицо и руки покрылись прочным слоем загара. От солнца еще светлей стали волосы, которые она теперь заплетала в маленькие косички и петельками подвязывала за ушами. Даже голос, казалось, изменился, стал крепче. Только в глазах, где-то в самой глубине ее очень живых, ясных глаз, таилось прежнее тревожное ожидание.
За ометом просигналила машина.
— Это мне, — сказал Илья, вставая.
Оборвав рассказ, Тоня тоже вскочила с соломы и зачем-то спросила:
— Что, уже уезжаешь?
Обоим стало неловко от этого никчемного вопроса.
— Да, надо ехать.
— А завтра приедешь?
— Постараюсь.
— Постарайся. Обязательно постарайся! Ведь у меня здесь ни одной живой души…
«Вот она когда разговорилась!»
За ометом снова просигналили.
— До свиданья!
— До свиданья, — Тоня оглянулась и коротко поцеловала Илью.
Андрианов и Татьяна Васильевна уже сидели в машине, поджидая его.
— Чтобы не торопиться да не опаздывать, тронемся потихоньку. Еще в Березовку за Костиным заезжать.
Андрианов говорил о назначенном на шесть часов бюро райкома.
С тока прямиком поехали на Новую Березовку.
Андрианов с Татьяной Васильевной продолжали начатый еще на току разговор, Илья молча курил. Перед глазами у него все еще стояла Тоня с виноватой улыбкой и тревожным, тоскующим взглядом.
Ей скоро уезжать. А она все еще не сказала, вернется ли сюда. Она говорит только, что без Ильи ей все равно не жизнь, но говорит это безо всякой определенности. То ли она просто не хочет обострять их нынешние отношения, то ли все еще не решила для себя, как быть дальше… «Ни одной живой души…» Нет, не прижилась она здесь, не привилась. И если даже и приедет — только из-за него. И, значит, не по охоте, а вынужденно.
И опять, как в то раннее утро, когда они возвращались с Оданцом из города, перед Ильей встал вопрос: а надо ли Тоню вынуждать?! «Я здесь человек сама по себе, а там, в деревне, буду только при тебе, ради тебя. Долго ли ты такую любить будешь?..»
Он опять вспомнил виноватую Тонину улыбку. Однако же, если разобраться, чем, чем она провинилась перед ним?
Заседание бюро открыл первый секретарь Иванников. Илья знал о нем немного. Знал, что он из учителей, здесь, в районе, второй год, с Тростеневым не очень ладит.
У Иванникова было мягкое, усталое лицо с морщинками у рта и молодыми быстрыми глазами. Говорил он медленно, внятно, отсекая каждую фразу, — видимо, сказывалась профессиональная привычна.
Иванников сказал, что уборка идет к концу и уже теперь можно обсудить некоторые предварительные итоги.
«Да, уборка идет к концу, и Тоне скоро уезжать».
Илья слушал внимательно, но мысли то и дело возвращались к Тоне.
Иванников предоставил слово секретарю по зоне МТС Григорию Степановичу Тростеневу.
Тростенев откашлялся, полистал клеенчатую записную книжку. Он сказал, что доклада делать не будет, а лишь сообщит некоторые цифровые данные по колхозам и кратко охарактеризует работу МТС.
Действительно, говорил он недолго. Перечислил передовые колхозы, назвал отстающих, а затем сказал, что уборка прошла бы куда успешнее, если бы лучше работала МТС. Среди механизаторов низка трудовая дисциплина, партийная же организация не только не вела борьбу с нарушителями, но даже брала их под свою защиту.
Никаких выводов в заключение Тростенев не сделал.
«Сначала хочешь узнать, каким ветром из выступлений подует, — усмехнулся Илья. — Что ж, так оно, конечно, вернее, риску меньше».
Первым выступил председатель староберезовского колхоза Мартьянов. Он сказал, что, если к комбайну вовремя не подошла бестарка, председателю житья потом не дадут, будут везде «прорабатывать»: безобразие, нарушаешь договор с МТС. А вот когда пять бестарок попусту простоят около комбайна целый день, а комбайн так и не пойдет, за это МТС ничего не бывает, тут вроде никакого нарушения нет.
Слово взял Оданец. Как бы отвечая Мартьянову, главный инженер сказал, что МТС действительно часто нарушает договора с колхозами. Главное зло здесь, как уже указывал докладчик, низкая трудовая дисциплина. Ну, куда это годится, когда бригадиры самовольно устанавливают глубину пахоты, а потом пережигают горючее и неизвестно, кто должен за это отвечать. Хуже того: бригадир Брагин отказался выполнить указания агронома Крутинского, то есть вообще плюнул на агротехнику…
«Интересно, многому ли Тоня научилась от этого Крутинского?» — опять подумал Илья.
Затем выступали Костин и председатель вязовского колхоза.
Слушая, Илья незаметно наблюдал за Тростеневым. Тот сидел хмурый, озабоченный и чаще, чем обычно, проводил ладонью по своему бритому темени. Он будто решал про себя какую-то трудную задачу и не мог решить. Время от времени Тростенев поглядывал на первого секретаря, но на лице Иванникова ответа не находил.
Когда Илья попросил слово, Тростенев отложил в сторону записную книжку, насторожился. Насторожились и Сосницкий с Оданцом.
Он начал с того, что лето было трудным вдвойне: поля пострадали от засухи, а партийное руководство держало первый экзамен после той перестройки в работе, которая произошла зимой.
— Я не буду говорить, как выдержан этот экзамен, скажу только, что кое-где и кое в чем перестройка прошла лишь по форме, а не по существу…
Лица Тростенева и Сосницкого выразили недоуменную растерянность, Иванников слушал внимательно.
Дальше Илья говорил о том, что некоторые инструкторы райкома главным в своей работе по-прежнему считают «подталкивание» председателей, «выравнивание» всяких сводок и отчетов, а не живую работу среди колхозников.
Тростенев мрачнел все больше, а Сосницкий понимающе усмехался, словно хотел сказать: с больной головы на здоровую хочешь свалить? Не выйдет…
Усмешка эта задела Илью, но он сдержался.
— Главный агроном МТС, — продолжал Илья, — глядя на партийных работников, руководит колхозами также по старинке, теми же канцелярскими методами, какими он руководил, заведуя райсельхозом. Брагин с Костиным внесли поправку к канцелярскому предписанию, а партийная организация их в этом поддержала. Где же тут нарушение трудовой дисциплины, о котором здесь так много разглагольствовали?
Говоря о причинах затянувшейся уборки, Илья признал, что вина за это лежит, конечно, на МТС. Однако какую-то ответственность следовало бы нести и райкому.
Большие стенные часы пробили восемь.
Решили заседать без перерыва. Курили сначала по одному и дым пускали, скромно отворачиваясь, но чем дальше, тем дымили дружнее и уже безо всякого стеснения. В кабинете стало сумеречно и душно, лица кое у кого посоловели.
Вскоре после Ильи выступила Орешина, тихо сидевшая все время в дальнем углу.
— Не хотела я говорить, да и утерпеть не могу, — сказала Татьяна Васильевна. — Сперва присоединюсь к товарищу Гаранину: плоховато помогает колхозам главный агроном. А теперь скажу от себя. Вот тут шел разговор, кто кого больше подводит: мы МТС или МТС нас. Разговор важный и больной, спору нет, потому что, если бы мы друг друга не подводили, разве так бы дело-то шло?! И думается мне, что райком как раз и должен направлять и работу колхозов, и работу МТС так, чтобы все у нас шло в лад, в ногу. Не то чтобы мы ругались, а райком нас рассуживал, кто прав, кто виноват, и не в том дело, чтобы места колхозам определять, кому первое, кому десятое, а в том, чтобы помогать нам. А теперь поглядим, какую же помощь оказал мне товарищ Сосницкий как представитель райкома. Возьмем ту же уборку…
Татьяна Васильевна подробно рассказала, как Сосницкий «вытягивал» ключевский колхоз на первое место в районе. Когда она упомянула про переброску комбайна с участка на участок, Илья опять вспомнил о Тоне: это она оказала невольную помощь Сосницкому…
Татьяна Васильевна сказала и про зерно прошлогоднего урожая, отправленное на элеватор как новое, и про то, как Сосницкий предлагал взять комбайн из Новой Березовки.
— А того, что наш колхоз недобрал тонны хлеба, — продолжала она, — инструктор райкома не заметил.
Все посмотрели на председателя передового колхоза с удивлением.
— Да, да, тонны зерна ушли мимо наших амбаров. И, конечно, отвечать за это прежде всего мне. Может, даже и не простят колхозники мне эту промашку… Но опять же вопрос: почему никто не сказал мне, не посоветовал вовремя: пускай под полив сколько можешь! Где был главный агроном, где был тот же товарищ Сосницкий?! Вот бы им где помочь мне, а не в том, чтобы старое зерно за новое выдавать!
Выступление Орешиной и для Ильи, и для многих было неожиданным. Все знали, как уважительно относилась Татьяна Васильевна к районным руководителям, чуть ли не побаивалась их. Те же Васюнин и Тростенев часто ставили в пример другим ее исполнительность. И вот — на тебе!
Сосницкий вопрошающе смотрел на Тростенева: как же, мол, так? И неужели ты в своем заключительном слове ничего не скажешь в мою защиту? Однако Тростенев, в свою очередь, поглядел на первого секретаря и от заключения отказался. Его сделал Иванников.
— Поначалу сегодня мыслилось обсудить только работу МТС, — сказал Иванников. — Потом мы решили пригласить и председателей колхозов. Правильно сделали, конечно, теперь это совершенно ясно… А сказать я хотел вот о чем. Я внимательно слушал все выступления, но мне, Григорий Степанович, — Иванников повернулся в сторону Тростенева, — так и осталось неясным, за что же следовало нам «проработать» директора МТС и секретаря партийной организации, как это мыслилось спервоначала?.. Может, за то, что они вывели на чистую воду Тузова? Или за то, что они поддержали бригадира Брагина, который вместе с Ольгой Орешиной начал наводить порядок на запущенных поливных землях новоберезовского колхоза, а не поддержали агронома Крутинского, под просвещенным наблюдением которого эти земли были запущены? Или за то, что Гаранин резко критикует нашу с тобой работу?..
Иванников сделал паузу, как бы давая Тростеневу время на ответ, а затем продолжал:
— Про любовь к критике легче и приятней говорить, а так — кому же нравится, когда его не по шерсти, а против шерсти гладят?! Тут вся штука в том, что один умеет зажать свое самолюбие в кулак, а другого на это не хватает.
Далее Иванников сказал, что он полностью согласен с Татьяной Васильевной.
— Да, лето было трудным, и мы допустили немало ошибок, — закончил Иванников. — Что ж, будем учиться на ошибках…
Кончилось бюро в одиннадцатом часу.
После духоты прокуренного кабинета воздух улицы, которого обычно не замечаешь, казался необыкновенно вкусным.
2
Николай Илларионович налил не то четвертую, не то пятую рюмку, смакуя, выпил и прищелкнул языком.
— Нет, что ни говорите, Виктор Давыдович, а рябиновка — прекрасная вещь! И вкус у нее особенный, и аромат совершенно неповторимый… Зря пренебрегаете, очень зря!
Николай Илларионович поддел вилкой кружок малосольного огурца и точно рассчитанным жестом отправил его в рот. Он был в отличном настроении: пил, закусывал и без умолку говорил.
А Виктору Давыдовичу и пить не хотелось, и еда никакая не шла в горло. Все казалось или горьким, или пересоленным, даже рябиновка отзывалась каким-то квасом.
Полина Поликарповна поставила самовар и ушла к соседке.
Самовар старательно высвистывал очень протяжную, заунывную песню, и это раздражало. «Словно отпевает кого-то».
Впрочем, раздражал Виктора Давыдовича не только самовар, раздражало все — даже болтовня Николая Илларионовича и его хорошее настроение.
«Почти доехал бутылку, а ни в одном глазу. Хорошее здоровье или привычка? Привычка, конечно, какое уж там здоровье у старика, песок сыплется. Просто прикладывается частенько, втянулся…»
— Знаете, когда-то и я в подобных случаях убивался, переживал, принимал близко к сердцу, — продолжал Николай Илларионович, подышав на стекла пенсне и протирая их платком. — Потом убедился, что все это напрасная трата душевных сил — и только. Самое правильное — понимать, куда поворачивает твою жизнь судьба, и следовать по этому пути, а не хныкать, и тем более не подставлять голову под удар… Прекрасно выразил эту мысль один французский писатель: «Судьба! Не будь со мной слишком резкой. Я буду понимать тебя с полуслова, с полунамека. Прибереги свои лучшие удары для более крепких голов…» Очень остроумно, с чисто галльским юмором — не правда ли?!
«Прикидывается, храбрится или ему и в самом деле уже надоело огорчаться и теперь все равно?.. Эх, старик, старик! До белых волос дожил, да и те наполовину растерял, а самого простого понять не можешь. Не то страшно, что с должности главного агронома могут снять, — не такая уже это беда. В конце концов мне работа всегда найдется. Обидно — вот в чем главное!..»
— Обидно, Николай Илларионович. Понимаете: обидно!
— Обида, огорчение, разочарование — все это эмоции одного порядка, и отдавать себя во власть этих эмоций если не бессмысленно, то, во всяком случае, малополезно. Имейте в виду, Виктор Давыдович, из всякого положения, даже самого скверного, всегда можно найти выход. Надо всегда надеяться на лучшее…
«Нет, все-таки он, наверное, уже разучился понимать такие вещи. Судьба слишком часто награждала его теми самыми оплеухами, которые предназначались для более крепких голов, и это оглушило его».
Виктор Давыдович отодвинул плетеное кресло, в котором сидел, в глубь комнаты и так, чтобы Николай Илларионович оказался за самоваром. Теперь была видна только его рука с воинственно вскинутой вилкой да жилетный карман и свисавшая с него серебряная цепочка. Так стало покойнее, мысли потекли ровнее.
Легко критиковать! В чужом глазу, как говорится, и соринка видна… А если бы товарищ Гаранин знал, в каком состоянии он принял в свое время район! Да тогда даже мало-мальски правильных севооборотов в большинстве колхозов не было. Тогда элементарного учета в райзо не велось, ни в чем разобраться толком было нельзя. Об этом почему-то сейчас никто не вспоминает. Все воспринимается как должное, само собой разумеющееся…
Николай Илларионович положил вилку и налил еще. Из-за самовара послышалось знакомое прищелкивание языком: «Хорошо!»
…А знает ли товарищ Гаранин, кто первый поставил вопрос перед областью о постройке Березовской плотины? Нет, товарищ секретарь ничего этого, видимо, не знает, если пытается приписать ему бездушное, канцелярское отношение к мелиорации. При чем тут, спрашивается, бездушие, когда у нас просто-напросто не было квалифицированных специалистов поливного дела? У нас даже не было человека, который бы специально занимался орошением, и сколько пришлось положить труда, прежде чем штатная должность агронома-мелиоратора была утверждена областью…
Николай Илларионович снова взялся за бутылку, поглядел ее на свет и, убедившись, что там уже почти ничего не осталось, поставил на место.
— Н-да… Такова жизнь.
…Даже образцовый учет и то поставили не столько в заслугу, сколько в вину. Много бумаги, видите ли, изводится. А того опять же не знают, что из областного управления шлют по десять, а иной раз по тридцать депеш в день, и на все требуют срочного ответа. Попробуй ответь, если учет будет вестись спустя рукава… В заключение Гаранин назвал его человеком без загляда вперед и сказал, что это для руководителя — любого: большого или малого, — не годится. Такой человек может быть даже неплохим работником, но всегда будет плохим руководителем… Выходит, что ж, и в самом деле не на руководящую, а на рядовую подаваться надо. И тише и спокойней… Обидно! Ах как обидно!
— Мое положение, Виктор Давыдович, куда плачевней вашего, и то не спешу отчаиваться. Как говорят французы: в конечном счете все идет к лучшему в этом лучшем из миров.
«Зря храбришься, старик. Уж кто-кто, а я тебя знаю».
— И куда же думаете направить свои стопы отсюда?
— Думаю, куда-нибудь в Заволжье.
— Вы от воды, как черт от ладана, бежите, — невесело пошутил Виктор Давыдович.
Николай Илларионович коротко хохотнул:
— Убеждения, дорогой коллега. А убеждения нельзя сменить так же легко, как меняют перчатки или шляпы.
— А если вода появится и там?
— Ну, это будет, надо полагать, не скоро.
— Как знать!
Виктор Давыдович хлопнул ладонью по заглушке, и самовар сменил свою заунывную песню на бравурную, почти веселую. Из палисадника сквозь открытые окна в комнату просачивалась темнота и оседала по углам, за шкафом, за диваном. Пролысина Николая Илларионовича из розовой стала красной.
«А ведь старик пьян. Это только кажется, что он трезвый, а он уже давно упился… Коллега! Давайте уж лучше без намеков, дорогой Николай Илларионович. Не так уж и одинаковы наши убеждения, не такие уж мы близкие друзья и соратники, если на то пошло…»
Николай Илларионович еще раз посмотрел на свет бутылку, аккуратно слил остатки в рюмку и выпил. С немым восторгом на лице посидел минуту, не закусывая, и стал собираться уходить:
— Пора. И так засиделся. Не хотелось оставлять вас одного в таком удрученном состоянии. Ну, а теперь-то, я вижу, вы несколько приободрились, воспрянули, так сказать, и… Правильно! Бодрость духа — главное. Только зря, очень зря прене… пренебрегаете. Что ни говорите, а рябиновка — прекрасная вещь! Привет Полине Поликарповне!
Николай Илларионович ушел, и в доме стало сразу тихо и темно. И от этой темной тишины на сердце Виктора Давыдовича сделалось еще тягостней.
3
Весь день прождал Илья Тоню, и весь день не покидало его чувство томящего беспокойства.
Сегодня Тоня уезжает. Чтобы без всякой спешки поговорить, проводить ее на вокзал, Илья не пошел на работу. Не пошел, как теперь ясно, зря: за делом все бы незаметнее время пролетело.
Илья прокурил насквозь избу, семь раз переложил с места на место книги, перечитал старые Тонины письма. Решительно никакого занятия уже нельзя было найти, и он вышел на крыльцо.
На улице не показывалось ни машины, ни подводы. Только ребятишки взапуски бегали по пыльной дороге, вздымая за собой плотные серые облачка.
По двору слонялся лопоухий, с лысинкой на лбу, теленок. Он внимательно принюхивался ко всему, что ему попадалось: к крапиве, обрубку дерева, к точильному камню, валявшемуся в траве. То, что на запах казалось ему наиболее вкусным, он лизал широким розовым языком. Полизал и точильный камень. А вот подошел к Илье и уставился на него откровенно-наивными глазами, как на невесть какую диковину. Постоял-постоял и пошел дальше.
Мимо дома, по травянистой тропе, пробежал Юрка. Он гнал впереди себя железный обруч и, поглощенный этим занятием, никого и ничего не замечал. Илья хотел окликнуть мальчишку, но раздумал: зачем, пусть себе гоняет обруч, это ему, наверное, интереснее, чем разговаривать или играть с большими. А к тому же теперь ему есть с кем играть.
Время тянулось медленно, бесконечно…
Приехала Тоня из Ключевского только под вечер.
— Словно нарочно — ни одной попутной машины. Пришлось на подводе…
Она на полуслове замолчала и крепко, изо всей силы прижалась к Илье. Илья подхватил ее на руки, положил на кровать.
— Отдохни с дороги.
И когда он держал ее в руках — маленькую, легкую, беззащитную, у него что-то дрогнуло в груди, словно бы соскочила какая-то защелка, и все, что было против Тони, — разом ушло. Осталось лишь желание вот так держать ее в руках и никуда не отпускать. И Тоня, конечно, поняла, почувствовала это — таким ясным светом засветились ее глаза, все лицо…
Илья не помнил, сколько времени продолжалось это счастливое забытье. Очнулись они, когда в углу комнаты, где стояла кровать, уже начали скапливаться сумерки. На стеклах окон багровыми отсветами переливался угасающий закат. С улицы доносился беззаботно счастливый детский смех.
— Пора собираться, — грустно сказала Тоня. — А то опоздаем.
Илья ничего не ответил. Он ждал, что Тоня скажет еще. И Тоня, должно быть, тоже знала, чего ждет от нее Илья.
— Помнишь, Илюша, ты сказал — это в первый же день, как я сюда приехала, — ты сказал: поживешь — привыкнешь…
— Вижу, что не привыкла.
— Ну, что мне перед тобой кривить… Ольгой мне не стать: и веры такой у меня нет, и терпения не хватит. А Полиной Поликарповной не хочу… Ты не сердись, Илюша. Я тебя очень, очень люблю и буду ждать. Приезжай. Ты приезжай.
Илья молчал. Он все еще не знал, что ей ответить. Самое простое — это сказать, что она неправа, что у нее узкое, аршинное понимание счастья… Нет, он не будет говорить этих ничего не значащих слов.. Он еще раз обнял Тоню, еще раз поцеловал в горячие влажные губы.
— Пора!
Тоня причесалась перед зеркалом. Илья взял ее чемоданчик, и они вышли.
До станции было с полчаса ходу.
Вот и вокзал с его шумом, толкотней, давкой у билетных касс. Люди пьют газированную воду, едят мороженое и снова пьют. А паровозные свистки, время от времени доносящиеся с перрона, как бы подогревают и без того спешащих пассажиров: а вдруг наш пришел!
По Тониной студенческой книжке Илье удалось получить билет довольно быстро. Но пока он выпил воды, а Тоня съела мороженое, пока вышли на перрон, уже прибыл поезд.
Тоня села в вагон, открыла окно, и станционный колокол прозвонил отправление.
Последняя минута! Как много хочется сказать, бывает, в эту минуту, как пристально смотрят в глаза друг другу люди, которым предстоит расставание, а они так и не сказали главного!.. Вот часто-часто вытирает платочком глаза старушка, словно хочет последний раз наглядеться на сына — лейтенанта, улыбающегося из окна, а слезы не дают ей; а вот неловко мнут руки и онемело молчат парень и девушка, справа от Ильи… Тоня тоже хочет что-то сказать ему, но поезд уже трогается. У нее перекосилось лицо, дрогнули губы, а поезд уносит ее дальше и дальше.
Простучал последний вагон. Ссутулившись, как от ноши, Илья пошел прочь.
Темнело. В ремонтных мастерских, мимо которых проходил Илья, зажгли свет. На небосклоне появились первые робкие звезды.
«Она не привыкла. А ты?..» И зимой и по весне, когда Илья думал о своих семейных неладах, он думал больше всего о Тоне. О себе чего думать: поступил он правильно, и была одна забота, как убедить в этой правоте и Тоню. В последнее время мысли о Тоне все чаще вытеснялись мыслями о самом себе: так ли уж правильно он поступил, если дело может кончиться развалом семьи? Правда, спрашивал он себя об этом еще и зимой. Но тогда сам же себе бодро и отвечал, что, если, мол, семья распадается от первого же испытания — значит, это не прочная семья. Испытания проверяют и закаляют людей, и разве житейская мудрость состоит в том, чтобы обходить их?.. Сейчас он глядел на все это по-другому…
Пусть ты обжился здесь, попривык. Пусть и жизнь здешняя, и работа тебе в общем-то правятся. Даже, допустим — допустим! — ты стал нужным здесь. Все равно: надо ли было рубить сплеча да сгоряча?!
Вон ведь, как непросто все получается-то! Сам никак не разберешься, а хотел, чтобы Тоня разобралась… Эх, Тоня, Тоня! О чем ты там сейчас думаешь, Тоня?
Илья обернулся в ту сторону, куда ушел поезд, но за темнотой, кроме силуэтов вокзальных зданий, уже ничего не было видно.
Из ворот мастерской вышел, должно быть, только что отремонтированный трактор. Свет фар скользнул по дороге, перерезал ее, затем веером начал забирать в сторону. Развернувшись, трактор пошел обочиной, освещая путь себе и шагавшему рядом Гаранину. У машины белая полоса света была узкой, а чем дальше вперед, тем расходилась все шире и шире.
4
Поля выглядели непривычно плоскими, полураздетыми и оттого немножко грустными. Оставалась еще невыкопанной картошка, да белел на дальних от села участках овес, остальное было скошено и убрано. Щетинистое жнивье печально шелестело под ногами и, примятое, оставалось лежать на земле не выпрямляясь. На изволоке бархатисто чернели широкие ленты поднятой зяби: землю уже начали готовить под новый урожай.
Недалеко от плотины работал новый, недавно полученный трактор. Михаил остановился, чтобы еще раз посмотреть в работе новую машину.
Выстилая дорогу гусеницами, трактор шел ровно, с крутым, напористым урчаньем. В отличие от колесных шел уверенней и тверже, словно сознавая свою силу. И серо-голубые бока его, поблескивающие на солнце свежей краской, выглядели как-то круглее, солиднее. Подрезанные плугом широкие пласты подымались по отвалам и, переворачиваясь в воздухе, стремительно падали в борозду.
В кабине сидели Маша с Зиной. Тонкая, по локоть засученная рука Маши спокойно лежала на рычаге.
Михаил показал знаками — кричать было бесполезно, — не нужен ли, мол, я, все ли в порядке?
— Все в порядке! — Зина перекричала-таки глухой рокот мотора. — Хорошо-о!
Маша потянула рычаг из себя, трактор легко, на месте развернулся, и снова потекли вверх по отвалам, чтобы тут же упасть и рассыпаться, широкие пласты с гребешками жнивья.
Михаил пошел дальше. Мерный, глухой рокот трактора делался все тише и слитней и звучал чудесной музыкой, которую слушай — не наслушаешься. А может, еще и потому так казалось Михаилу, что в нем самом сегодня будто пело что-то, будто шел он на большой радостный праздник. Он пытался и не мог объяснить причину этой непонятной радости.
К плотине, со стороны Ключевского, подходила двухтонка. Когда она, поравнявшись с Михаилом, стала взбираться на насыпь, Юрка окликнул из кузова:
— Дядя Миша, поедем с нами!
По пассажирам нетрудно было догадаться, что машина идет в райцентр.
«А что, в самом деле, взять да и поехать!» Больше не раздумывая, Михаил залез в кузов.
Устроились они вместе с Юркой на запасном скате. На ухабах скат подбрасывало, и тогда незнакомая женщина, с корзиной яиц на коленях, с опаской поглядывала в их сторону. В конце концов Юрка уцепился за ремень Михаила и не отпускал до конца пути.
С неделю назад Юрка приходил в бригаду и пробыл целый день. Михаил катал его на тракторе, угощал печеной картошкой, показывал, как разбирается и собирается магнето. Кажется, Юрка остался доволен этим днем, хотя держался деловито и серьезно, как большой. А впрочем, наблюдая за ним, Михаил впервые, пожалуй, подумал, что ведь он и в самом деле совсем большой человек — со своим характером, повадками, привязанностями, со своим миром. А когда-то Михаил не хотел даже и принимать его всерьез, думая лишь о том, помешает он или не помешает им с Ольгой.
Доехали быстро. Юрка едва успел рассказать, чем он занимался в последнее время, как собирал за комбайном колоски и порядочно-таки набрал — на три каравая хватит, если не больше…
Ольга не удивилась, увидев входящего в калитку Михаила с Юркой. Втайне она ждала этого, ждала еще с той ночи, когда поняла, что любит.
И вот он пришел. Он уже прошагал дворик, поднялся на ступеньки крыльца, сейчас войдет в комнату, вот сию минуту…
Ольга только вернулась с работы и собиралась заняться обедом. Она сняла туфли, сменила платье на легкий старенький сарафан и теперь разжигала примус. Первым ее движением было, когда она увидела в калитке Михаила, снова переодеться. Неудобно же, в самом деле, показываться в таком домашнем виде. Она уже и платье в руки взяла с вешалки, но было поздно: звякнула скоба и дверь открылась.
— Это мы, — просто сказал Михаил, здороваясь с Ольгой.
По расстроенному виду ее, по платью, которое она держала в руках, он, должно быть, все понял и чуть заметно усмехнулся.
Ольга не раз пыталась представить себе, как произойдет эта встреча. Но могло ли прийти ей в голову, что все выйдет именно так, что в первую минуту она будет стоять перед Михаилом босая, в застиранном сарафанчике, с ненужным теперь платьем в руках?! Ах как неловко!.. И вот улыбка Михаила — чуть лукавая, но очень добрая, домашняя — все решила. Неловкость прошла, Ольга тоже улыбнулась, повесила платье, взяла из рук Михаила кепку и тоже повесила.
Михаил вынул расческу и начал причесываться. Чтоб волосы не рассыпа́лись, он их слегка придерживал.
«У Василия были такие же непослушные волосы, — зачем-то отметила Ольга, — но причесывал он их не так: следом за расческой еще приглаживал ладонью…»
А Юрка между тем обошел комнату, заглядывая в каждый угол, словно хотел убедиться, что никаких существенных изменений в его отсутствие здесь не произошло.
— А что же это примус горит, а на нем ничего? — спросил Михаил.
Ольга засуетилась, поставила на огонь первую попавшуюся кастрюльку. «Сварю яйца на скорую руку… Только что же это я так волнуюсь, даже руки дрожат?»
Пока варились яйца и грелся чайник, Юрка продемонстрировал перед Михаилом заводной автомобиль, показал, как куют по деревянной наковальне деревянные кузнецы, достал с этажерки альбомчик и стал объяснять свои рисунки в нем: это дом, это труба и из нее дым идет, а это собака бежит… Нет, не это — собака, это курица, собака — вот…
— Что же ты ей хвост не нарисовал? — спросил Михаил, присаживаясь к столу.
— Карандаша не хватило, — признался Юрка. — Весь карандаш на дым ушел. Видишь, какой черный и густой!
Потом он зачем-то полез опять под лавку, а Михаил достал с этажерки книгу и начал не спеша перелистывать ее.
«Он тоже листал за верхний угол страницы, — опять отметила Ольга. — Только руки у него были тоньше. А главное — очень умные, очень ласковые они были…»
— «Будет так, как захочет человек, — негромко прочитал Михаил. — Будет так, как он сделает».
В руках у него была «Власть земли» Успенского с пометками Василия.
— Это его приписка? — несколько напряженно спросил Михаил.
— Его, — тихо ответила Ольга и затаила дыхание, как перед прыжком в воду.
Но Михаил больше ни о чем не спрашивал.
Только уже после того, как книга была отложена и в руки к нему попала старая карточка, стоявшая тут же на столе, он опять спросил Ольгу:
— Давно?
Ольга подошла к столу.
— Летом сорок седьмого.
На карточке они с Василием улыбаются, и то ли от яркого света (день тогда был необыкновенно солнечным), то ли от смеха глаза у них прищурены.
— А ты все такая же, — сказал Михаил. — Мало изменилась. — Он мельком взглянул на Ольгу и, увидев близко ее голые плечи, отвел глаза в сторону.
Ольга знала, что сарафанчик молодит ее, что в нем она похожа на голенастую девчонку. И все же от этих слов щемящей радостью всколыхнулось сердце, и она не нашлась, что ответить. А может, больше слов привел ее в замешательство смущенный взгляд Михаила, и она опять, как и в первую минуту, почувствовала неловкость. Только это была совсем другая неловкость. От нее на сердце было тревожно и стесненно, но радостно.
Захлопал крышкой чайник.
Ольга потушила примус, и в комнате стало оглушительно тихо. Только Юрка прерывисто сопел в своем углу, что-то к чему-то прилаживая.
По комнате смрадной волной пошел запах керосина.
«И чего это я здесь его зажгла?» — запоздало подумала Ольга, подумала с досадой и брови недовольно нахмурила, однако сердце — удивительное дело! — по-прежнему радовалось, и никакое минутное чувство не могло смутить этой радости.
«Может, хоть теперь платье надеть?» — собирая на стол, подумала она.
— Не надо, — перехватив ее взгляд, сказал Михаил. — Ты и так… тебе и сарафан очень идет.
Сели за стол.
Михаил неторопливо облупил яйцо, взял соли. «А Вася торопился всегда, — не зная, зачем это делает, опять отметила Ольга. — Он и жить торопился».
— Мне покрепче, — пододвигая чашку, сказал Михаил.
«Он не любил крепкого чая…»
Хотела этого Ольга или нет, но она в каждой мелочи сравнивала Михаила с погибшим мужем. Это, наверное, пройдет со временем, но еще не один раз она скажет себе: а он делал по-другому…
Ольге вспомнился приход Михаила весной. Тогда он и играл и разговаривал с Юркой как бы специально. Стоило прийти Ольге, он заговорил с ней и совсем забыл о сыне. Сейчас Михаил тоже разговаривал с Ольгой, одновременно успевая отвечать и на бесконечные вопросы Юрки и даже подливать ему в блюдечко чай. Видно было, что он всегда помнил, что их не двое, а трое и что этот третий такой же, как и они, равноправный член семьи.
Ольга поняла теперь, почему ей так радостно, почему с приходом Михаила ее не покидает ощущение спокойной уверенности и полноты этой радости. За столом сидела семья. Семья! Это то, чего у нее, в сущности, еще не было в жизни, то, о чем все время тосковало ее сердце и на что она уже перестала надеяться.
В комнате вдруг разом посветлело. Ольга оглянулась на окно и ахнула: чудо-то какое! День простоял вроде бы серенький, с самого утра солнце пряталось где-то за облаками. И вот на тебе, уже под вечер — сияние, аж глаза слепит. Сияние на стенах домов, на деревьях, на траве, даже вот здесь, в комнате.
Не уговариваясь, они с Михаилом подошли к окну.
Словно вобравший в себя весь жар ушедшего за горизонт солнца, закатный край неба горел чистым ясным огнем. И застывшие вверху облака тоже жарко сверкали — на них лежал отблеск лучей уже невидимого, но еще не далекого солнца. И чем дальше, чем глубже оно уходило за горизонт, тем шире распространялось по небу его тихое прощальное сияние.
1956
ВЕРШИНА СТОЛЕТОВА Историческое повествование
ШИПКА, ГОД 1977-й
— Вот это и есть знаменитый Шипкинский перевал, а если короче, Шипка… Здесь стояла Круглая батарея, там — Стальная. Это Лесная гора, за ней — Лысая, на которых сидели турки, а прямо перед нами гора Николай, которую обороняли вместе с вашими русскими солдатами и наши братушки — болгарские ополченцы. Верхняя точка Николая — как раз на ней стоит памятник — называется вершиной Столетова…
— Столетова? Это что, в честь известного физика назвали?
— У известного физика Александра Столетова был еще и столь же славный старший брат Николай. Во всяком случае у нас, в Болгарии, старший известен не меньше, а даже больше младшего. В его честь — в честь неустрашимого защитника Шипки — и названа высота.
— Признаться, как-то не приходилось слышать…
— Очень жаль. Тем более что Николай Столетов, если разобраться, наш с тобой земляк.
— ?!
— Ты ведь владимирский, а Столетов тоже родом из Владимира.
— Это ладно. Но ты-то, габровец, каким образом ему в земляки попал?
— А очень просто: Столетов — почетный гражданин города Габрово… Всем известно, какие мы, габровцы, прижимистые. И уж если расщедрились на такое высокое звание — значит, не зря, значит, Столетов его заслужил…
САМАРСКОЕ ЗНАМЯ
На просторном зеленом лугу под румынским городом Плоешти с самого раннего утра 6 мая 1877[1] года можно было видеть необычное оживление. Среди стройных рядов раскинутых здесь белых палаток сновали люди, раздавались команды, сверкало на солнце оружие. Бросалось в глаза обмундирование солдат. Оно было простым, удобным и вместе с тем красивым. Короткий черный кафтан матросского покроя украшали алые погоны; барашковая шапка с зеленым верхом, высокие сапоги и серая шинель-скатка через плечо довершали воинский костюм.
В палатках на зеленом лугу располагался отряд болгарского ополчения. И нынче у болгар знаменательный, если не сказать исторический, день. Сегодня, вот сейчас должна состояться церемония освящения знамени, подаренного болгарам городом Самарой и привезенного лично городским головою Е. Т. Кожевниковым и общественным деятелем П. В. Алабиным.
Прозвучала общая команда «В ружье!», и дружины ополчения стали выстраиваться перед линией лагеря.
Знамя в ящике уже было привезено, и духовенство — в числе трех болгарских священников — ожидало церемонии у расставленных на лугу столов, покрытых белыми скатертями. Здесь же были и посланцы города Самары. Ждали приезда главнокомандующего Дунайской армией великого князя Николая Николаевича.
Незадолго перед тем, в день объявления войны, в Кишиневе состоялся смотр-парад войск, которым предстояло не сегодня-завтра отправиться на театр военных действий. И для многих, бывших на том параде, было полной и вместе вдохновляющей неожиданностью видеть, как сразу же за четвертым полком 14-й драгомировской дивизии проследовали два батальона болгарских добровольцев. Особенно удивительным было то, что стройность и порядок, с какими прошли болгарские батальоны, сделали бы честь любому регулярному войску. Когда и откуда явились сюда, на Скаковое поле под Кишиневом, эти добротно обмундированные и уж худо ли, хорошо ли обученные братья славяне — война-то ведь только-только объявлена?!
Парад принимал Александр II в окружении своей многочисленной свиты. Но даже среди самых высокопоставленных чинов, окружавших царя, мало кто знал, что вопрос о формировании болгарского ополчения был решен еще за добрых полгода до этого смотра-парада. 31 октября 1876 года военный министр Д. А. Милютин записал в своем дневнике:
«Известия из Лондона и Константинополя становятся с каждым днем все хуже, и надежды на мирное разрешение вопроса уменьшаются… Первым днем мобилизации назначено 2 ноября…
В 3 часа принимал я представителей от Славянского комитета: во главе депутации был И. С. Аксаков, депутатами — купцы Третьяков и Морозов. С ними приехал и генерал-майор Столетов, на которого возлагается формирование болгарского ополчения. Беседа наша продолжалась более часа: мы условились о плане действий по болгарскому вооружению».
(Тут, наверное, нелишне будет пояснить, что представители Славянского комитета оказались на приеме у военного министра вместе с генералом Столетовым не по воле случая: болгарское ополчение обмундировывалось и вооружалось на народные пожертвования, поступавшие в адрес Славянского комитета. А один из помянутых купцов, П. М. Третьяков, не кто иной, как основатель знаменитой картинной галереи.)
Первые дружины ополчения составились как из тех болгар, которые жили в России, так и из тех, какие лишь недавно пришли из-за Дуная. Кто-то из них уже дрался с турками в Сербии и был украшен боевыми медалями, кто-то, потеряв семью и родной кров в Болгарии, бежал под сень России от кровавых зверств османских поработителей. Немало было среди ополченцев людей интеллигентных — учителей, студентов, гимназистов. Командный состав дружин подбирался из опытных русских офицеров, уже побывавших в боях и хорошо знакомых с ратным делом. С первых же дней между командирами и дружинниками установились самые что ни на есть братские отношения. И, надо думать, это прочное нравственное единение перед лицом общего врага как ничто другое помогло ускорить воинскую подготовку ополчения, помогло добиться в столь малое время столь осязаемых результатов.
За тот неполный месяц, что прошел с кишиневского смотра, болгарский легион вырос в несколько раз. Теперь он насчитывал более четырех тысяч воинов, и число это с каждым днем увеличивалось. Ежедневно с того берега Дуная приходили голодные, покрытые лохмотьями, часто изувеченные страдальцы, и первым их словом, первою просьбой был не хлеб, а оружие. Вдохновленные жаждой мести и горячим желанием спасти свою поруганную родину, они с готовностью вливались в свой болгарский легион и буквально рвались в бой.
Испокон веку в бой ходят со знаменем. Его пока что у болгарского ополчения не было. Нынче это боевое знамя предстояло получить.
День выдался ясный, солнечный. Лишь на севере, там, где виднелась туманная синеющая цепь Карпатских гор с белыми сверкающими гребнями, клубились кучевые облака, постепенно спускаясь в подгорные долины.
Надо ли говорить, что у всех было радостное, торжественно-приподнятое настроение. Давно болгары ждали этого дня!
Наконец главнокомандующий прибыл, и торжество началось.
Дружины стояли густыми колоннами, образуя правильный четырехугольник. Перед каждой дружиной — командир. Генерал Столетов вместе с начальником штаба ополчения подполковником Рынкевичем и бригадирами-полковниками князем Вяземским и Кирсановым заняли места вокруг аналоя, стоявшего в центре четырехугольника.
Служили болгарские священники Амфилохий Михайлов из Сливена и Петр Дроганов из Тырнова. Это были не простые священники: как тот, так и другой не раз с оружием в руках боролись с турками во главе своих восставших прихожан.
Сразу же после молебна и освящения приступили к торжественной церемонии набивки полотна знамени на древко.
Шелковое полотнище было трехцветным: малиновое, белое, светло-синее; на средней белой полосе был нашит золотом по черному фону широкий прямоугольный крест и в центре этого креста — образ Иверской богоматери; на другой стороне полотнища, в точно таком же кресте, — образ славянских первоучителей Кирилла и Мефодия. Древко знамени оканчивалось серебряным вызолоченным копьем, исполненным в византийском стиле. На лентах золотом вышиты надписи — на одной: «Город Самара — болгарскому народу в 1877 г.», а на другой: «Да воскреснет Бог и расточатся врази его».
Первые гвозди вбили главнокомандующий и его начальник штаба. Затем к столу подошел командир легиона генерал Столетов вместе с самарцами.
А вот наступила и главная минута торжества: начали вбивать гвозди выбранные из дружин болгары. Надо было видеть, с каким глубоким благоговением приступали эти люди к своему почетному делу: каждый, крестясь, брал молоток, целовал древко, а потом уж поднимал руку для удара. Какое счастье светилось на этих простых смуглых лицах!
Из толпы зрителей вывели старика болгарина в красивом боевом национальном костюме: в шитой куртке, в широком калаке (поясе), за которым внушительно торчали рукоятки турецких пистолетов и отделанный золотом ятаган. Это был знаменитый болгарский воевода Цеко Петков, более тридцати лет боровшийся с турками с оружием в руках. Гроза Балканских гор, он наводил на врага страх и ужас. Двадцать восемь ран красноречивее всяких орденов говорили о его мужестве. На высохшей шее остались следы железной цепи, на которой он два с половиной года высидел в турецком подземелье. Все годы Крымской войны отважный воевода плечом к плечу с русскими воинами сражался под Севастополем. За храбрость и мужество, проявленные в боях, русский царь наградил его серебряной саблей, а адмирал Нахимов лично прикрепил к его груди золотой Георгиевский крест. Теперь он явился сюда, в ряды легиона. Начальник ополчения оставил его при штабе отряда в качестве дядьки и пестуна молодых волонтеров. Как никто другой мог пригодиться старый воин и в близком будущем — в походе на Балканы, ведь ему там известна каждая тропинка, знаком каждый камень.
Не мог сдержать своего волнения столько раз смотревший смерти в глаза герой — заплакал, заплакал навзрыд, когда ему дали в руки молоток. Он взглянул на небо, на знамя и громко произнес:
— Да поможет бог пройти этому святому знамени из конца в конец несчастную землю болгарскую! Да осушит его шелк скорбные очи наших матерей, жен и дочерей! Да бежит в страхе все нечистое, злое перед ним, а за ним станут мир и благоденствие!
Глубокая тишина стояла в рядах ополченцев, когда старый Цеко Петков произносил свои слова, и в этой тишине зазвенел его молоток, ударивший по серебряной шляпке гвоздя. И так получилось, что именно в этот торжественный момент, словно дальнее эхо, из предгорий Карпат донеслись громовые раскаты, а среди сгустившихся там и налившихся темной синевой облаков сверкнула молния.
— Добрый знак! Добрый! — загудело в рядах.
Сплошною стеной стояли ополченцы перед столами, на которых лежало знамя, и, кроме первых рядов, его еще никто не видел. Но вот вбит последний гвоздь, начальник ополчения взялся за древко и высоко поднял знамя. Оно медленно развернулось на ветру, и могучее, заглушившее громовые перекаты «ура!» грянуло по дружинам, тысячи черных шапок взлетели в воздух.
Затем колонны прошли перед знаменем церемониальным маршем. Прошли лихо, как старые солдаты, громко и дружно отвечая на приветствие своего командующего.
А по окончании церемонии началось живое, искреннее ликование в каждой колонне, в каждой группе дружинников.
В палатке Столетова тоже собрались офицеры и приезжие гости. Застолье было по-походному скромным; никаких разносолов — солдатский хлеб, сулея с местным вином и посреди стола целый жареный баран. Но зато все было так просто и искренне, так сердечно, что привезшие знамя гости-самарцы не раз повторили:
— Да для такой минуты не только три тысячи верст, тридцать тысяч проехать можно!
Через пять дней тот же просторный луг, или, как его теперь называли, Болгарское поле, был свидетелем еще одного торжества. На сей раз праздновался день знаменитых солунских братьев, апостолов славянского просвещения Кирилла и Мефодия. Этот день всегда, с незапамятных времен, считался у болгар национальным праздником. Потому в торжестве приняло участие кроме ополчения и множество болгар, которые специально пришли и приехали сюда с разных концов: из южной России, Румынии и из самой Болгарии. Уже во время молебствия прибыло 340 болгар для поступления в ополчение. Еще 400 добровольцев ожидалось в самом скором времени из города Галаца.
И опять в центре праздника реяло на легком ветерке Самарское знамя, и всем хорошо были видны изображенные на нем Кирилл и Мефодий, давшие славянам азбуку. И опять болгарские дружины прошли торжественным маршем мимо стоявших около знамени офицеров во главе с уже полюбившимся им генералом Столетовым. Как писал один присутствующий на празднике корреспондент, «дружинники выглядели молодцами, на их лицах светилось высокоторжественное чувство удовлетворения, радость и горячее желание броситься на 500-летнего врага Болгарии».
По окончании церемонии болгары пожелали генералу Столетову отпраздновать следующий праздник уже в Болгарии в день победы.
История сохранила нам речь, которая была написана в честь этого дня и читалась в дружинах болгарского ополчения. Вот несколько страстных, обжигающих строк из этой достойной нашей памяти речи-воззвания:
«Болгарские войники!
Вы первыми удостоились великой чести сражаться под этим знаменем, врученным вам нашими покровителями и защитниками — русскими… Это не есть обыкновенное знамя: оно изготовлено русским народом и вручено болгарскому народу, как залог вечной любви и неразрывной связи между Русскими и Болгарами…
Храбрецы! Наша военная история начинает свои торжественные празднества с сего дня в лагере Болгарского ополчения, на военном Болгарском поле. Будем уповать, что как в IX веке Кирилл и Мефодий вывели славянский мир из мрака языческого невежества, так и ныне они будут находиться в рядах Болгарского ополчения, будут его воодушевлять в сражениях и помогут, наконец, избавить Болгарию от турецкого рабства…
В огне и пламени горит милая Болгария, и по сию минуту растерзанная и измученная. Болгария надеется на храброе и непобедимое русское войско, в рядах которого находитесь и вы, войники, под вашим священным знаменем.
Болгария с плачем и рыданием просит вас не отставать от своих братьев по оружию, Русских, в битвах за освобождение своей Родины.
Если Русские оставили своих жен, детей, занятия, интересы, спокойствие и решились умирать за вас и за нас в Болгарии и на Дунае, то сколько обязывает вас и каждого Болгарина, войники, патриотизм, честолюбие и личный интерес умереть в битвах против собственного домашнего врага!
Болгария надеется, что вы с достоинством будете защищать настоящее знамя и прославите его победами, а если надо, то геройски умрете на ратном поле. Помните слова Христо Ботева: «Кто пал за народ — тот не умирает». Бессмертная слава ожидает каждого юнака!..»
НА РОДНОМ БЕРЕГУ
Вот он наконец, родной болгарский берег, вот она, истерзанная милая родина!
Столетов видел, как его переправившиеся через Дунай дружинники поспешно спрыгивали с понтонов на берег и, опустившись на колени, целовали родную землю. В просветленных глазах у них стояли слезы. Люди сразу словно бы преображались, в самом выражении лиц теперь у них проглядывало что-то новое.
Видно было, что разговоры со своими соотечественниками, само звучание родной болгарской речи для них — сладчайшая музыка. Сладко, отрадно было видеть им и красные черепичные кровли кыщ[2], и зеленые с завязью плодов сады и виноградники.
Теперь и шаг у воинов, когда они шли улицами первого придунайского городка Свиштова, был как бы тверже, уверенней. А проходя мимо белого храма, что стоит на центральной площади города, они наперебой объясняли своим командирам, русским офицерам, что храм этот построил не кто иной, как известный на всех Балканах чудесный мастер из народа Колю Фичето. Храм поставлен с гарантией на вечность: по ту и другую сторону главного входа мастер встроил в наружные стены по колонне, которые легко, всего лишь усилием руки, вращаются в своих гнездах. При незначительном просчете во время закладки фундамента, при малейшем перекосе здания колонны неминуемо зажмет, и они перестанут вращаться. Можете подойти и сами убедиться: вращаются!..
Дружинники говорили о своем народном умельце с нескрываемой гордостью. Не это ли и было тем новым, что отражалось на их лицах. Они шли по родной земле с оружием в руках и твердой верой в сердце освободить наконец свою многострадальную отчизну от ненавистного врага. Скорей бы встретиться с ним на равных, встретиться в открытом бою!
Ополченцы прямо-таки жаждали этого боя.
Столетов свое боевое крещение принял на редутах Севастополя и хорошо знал, что это такое. В скольких боях потом ему приходилось участвовать, но самым трудным был, наверное, первый бой. За горячее дело под Инкерманом он получил солдатский Георгиевский крест, а вскоре и офицерский чин. Однако даже и в этом кровопролитном сражении ему было не тяжелее, чем в первом бою.
Как-то покажут себя в своем первом деле его дружинники!
«Сформировать, обучить и приготовить к вступлению в боевую службу» — так коротко формулировалась его задача при назначении командиром болгарского легиона. Но какой труд и его самого и ближайших помощников стоит за каждым из этих коротких, как выстрел, слов!.. Невелика премудрость сформировать роту, батальон, даже полк из готовых, уже кем-то набранных рекрутов. Здесь каждого будущего воина надо было сначала отыскать — отыскать не только в России, но и за ее пределами, а уж потом только сводить в дружины… И солдатская наука тоже не так проста, как это со стороны кажется. Солдата готовят «к вступлению в боевую службу» годами…
Об использовании ополчения высказывались разные мнения. Одни говорили, что болгарский легион имеет слишком высокое назначение, чтобы им рисковать и подвергать его потерям; легион надо поберечь во время кампании с тем, чтобы по окончании ее он мог стать ядром будущей болгарской армии. Другие считали неверным и противоестественным держать вооруженных и плохо ли, хорошо ли, но обученных болгар в стороне от святого дела освобождения своей родины. Да и сами болгары разве согласились бы, имея в руках долгожданное оружие, не обратить его против исконного врага?! Вопрос мог заключаться разве лишь в том, как использовать ополчение.
Столетов считал, что наибольшую пользу болгарские добровольцы могут принести при переходе через Балканы, где многим из них хорошо известны не только главные дороги, но и окольные тропинки. Когда же дело дойдет до сражения, то лучше, наверное, будет, если братушки пойдут на врага не сами по себе, а плечом к плечу со своими русскими братьями: так будет и русским солдатам хорошо, и дружинники будут чувствовать себя увереннее.
Вот только когда, когда оно, то сражение?! Через неделю, через день, через час?
Передовой отряд русской армии, которому были приданы дружины болгарского ополчения, стремительно продвигался долиной реки Янтры на юг, и 25 июня с ходу занял город Велико-Тырново.
Солдаты ликовали. Если война и дальше так пойдет, что стоит им вскорости и до самого Царьграда дотопать! Теперь, после Дуная, остается сделать второй, и, как надо надеяться, уже последний шаг — перейти Балканы. А там, говорят, дорога ровная: из Казанлыка до самой турецкой столицы удобное шоссе проложено… Потягивая кислое болгарское вино, солдаты и донские казаки даже прикидывали: если они за какие-то полторы недели прошли от Дуная до Тырнова, то много ли дней им потребуется, чтобы перешагнуть Балканы? Выходило, не очень много…
Лагерь болгарских ополченцев раскинулся на окраине Тырнова, на Марином поле, названном так по имени жены последнего болгарского царя Ивана Шишмана Мары. Старинная легенда утверждала, что Мара любила гулять по этому полю. За пятьсот лет, какие прошли с того времени, окраина города разрослась, застроилась, и от поля осталось лишь одно его название. И все же дружинникам было отрадно говорить друг другу: Марино поле. Произнося эти слова, они как бы прикасались к истории своей многострадальной родины: то было время, отмеченное началом их рабства, теперь пятивековому рабству пришел конец.
Город ликовал. Ликовали и жители, и вызволившие их из неволи воины. И уж если русские солдаты радовались легкому, стремительному занятию большого города, что говорить про ополченцев, вступивших в свою древнюю столицу!
День клонился к вечеру, а веселье в лагере все еще не утихало. Дружинники то лихо водили у палаток под звуки дудок-сопелок любимое хоро[3], то принимались петь свои протяжные, берущие за душу песни. А если по делу или просто так появлялся в лагере русский солдат, болгары не знали, чем угостить и где усадить дорогого гостя: за Дунаем они сами были гостями, теперь же, на родной земле, чувствовали себя хозяевами.
Генерал Столетов сидел в своей палатке перед раскрытой картой и — уже в который раз! — сосредоточенно изучал ее. Нет, он не обдумывал план предстоящей операции; ему просто хотелось зримо соотнести местонахождение Передового отряда с общей дислокацией войск.
Легкое, удачливое начало войны тоже радовало командира болгарских дружинников, но вместе с радостью внушало и какую-то неясную тревогу.
Ни много ни мало уже двадцать три года тянет он военную лямку, кое-что повидал и испытал за это время и знает, что война есть война и легких побед на ней не бывает. Истории известно достаточно случаев, когда сегодняшняя легкая победа оборачивалась завтра тяжелым поражением. А тут, смотри-ка, русская армия сравнительно без больших потерь преодолела такую широченную водную преграду, как Дунай, заняла плацдарм на его болгарском берегу и свободно, можно сказать, беспрепятственно дошла до предгорий Балкан. Можно ли считать серьезными препятствиями отдельные стычки с небольшими отрядами турок, многие из которых отходили или рассеивались, даже не вступая в бой. Само Тырново занято кавалерийским эскадроном при четырех раненых с нашей стороны. Что-то до сих пор не слышно было, чтобы кавалерия занимала города… Где же, где же турецкая армия, ведь не вся же она находится по ту сторону Балкан?!
Тот же самый вопрос, рассказывал один корреспондент, задал в телеграмме русскому царю германский кайзер: «Поздравляю с успехом. Но где же турки?»
Где турки?
Передовой отряд, дойдя до Балкан, как бы рассек Придунайскую линию обороны турок на две части. В правой, западной, остались пока еще не взятыми крепость Никополь, а в левой Рущук, она же Русе. Да и кроме крепостей, по данным штаба при главнокомандующем, турецкие войска находятся во многих придунайских городах. Под Видином, говорят, чуть ли не целая армия Османа-паши стоит. Коридор же, который пробил Передовой отряд, пока еще довольно узок. Что будет, если в том или другом месте турки перехватят, перекроют его? Да, конечно, кроме Передового отряда, ведут наступление также Западный и Восточный, и они, по замыслу, должны прикрывать фланги Передового. Но где эти отряды? Передовой не завтра-послезавтра может очутиться за Балканами, а его соседи слева и справа все еще топчутся на придунайском плацдарме. Не слишком ли далеко мы залетели?..
Дружинники все еще пели свои любимые песни. Что-то близкое, родственное для русского слуха звучало в них, да и слова многие можно было понять — все же пели славяне, но какой тягучий, заунывный, какой печальный мотив был у песен!
Николаю Григорьевичу вспомнилось, как в праздничный день Кирилла и Мефодия под Плоешти его дружинники вот так же изливали свои чувства в песне, и он не выдержал, вышел из палатки и тихонько приблизился к группе поющих. Интересно было знать, что случилось с его братушками: ведь только что, какой-нибудь час назад, радовались и глаза у всех горели воинственным огнем, а сейчас вот затянули такие надрывные, такие грустные песни… Нет, оказывается, ничего не случилось: лица у всех такие же вдохновенные, радостные. А поют печальные песни — нет у них других. Песня рождается не на пустом месте, не сама по себе, в песне, может, как ни в чем другом, отражается жизнь народа, условия его существования, его помыслы и устремления. Рабское существование не могло породить веселые песни. Не потому ли безысходная, хватающая за сердце тоска и страстная жажда свободы стали главными мотивами болгарской народной песни. Пятьсот лет рабства! Легко произнести эти три коротких слова, легко их написать на бумаге. Но как мысленно представить такую страшную протяженность во времени, как прожить эти пятьсот лет! Удивляться, наверное, надо не тому, что песни печальные, а тому, что болгары поют их еще на своем родном языке. За пятьсот лет можно и язык забыть…
Балканы, Балканы, Родные Балканы…В редкой песне не упоминаются Балканские горы. Без Балкан болгары не представляют свою родину. Завтра — дружинники этого еще не знают, — завтра Передовой отряд идет на Балканы.
На Балканы.
Через Балканы.
За Балканы.
ЧЕРЕЗ БАЛКАНЫ
Выступили рано, до восхода солнца. Дни стояли жаркие, и разве что болгарам такая жара была привычной, а с русскими солдатами еще по дороге в Тырново случались солнечные удары. Так что лучшим временем на переходах были утренние и вечерние часы.
Передовой отряд состоял из двадцати двух эскадронов кавалерия с приданной им артиллерией и десяти батальонов пехоты. Общая численность отряда вместе с дружинами болгарского ополчения достигала десяти тысяч. Сила немалая! Но немалая перед лицом разрозненных групп неприятеля. Неизвестно, какая вражеская сила ожидает отряд на Балканах и в Забалканье.
Генерал Столетов, пропустив перед собой на выходе из лагеря дружины ополченцев, теперь обочиной дороги обгонял их, направляясь в голову колонны, где ехали на конях начальник штаба ополчения подполковник Рынкевич и полковники-бригадиры Вяземский и Кирсанов. Когда генерал поравнялся с командиром первой дружины поручиком Кесяковым, болгарином по рождению, служившим до войны в знаменитом Преображенском полку, тот лихо, озорно козырнул и, как показалось Столетову, еще и подмигнул при этом: мол, кто-кто, а мы, болгары, очень хорошо понимаем, что дорога, по которой мы выступили, ведет не куда-нибудь, а прямехонько на Балканы!
Нравился Столетову этот веселый, жизнерадостный болгарин с необычной, будто из приключенческого романа, биографией. Принадлежал Константин Кесяков к старинному роду из укрывшегося в отрогах Балкан города Копривштицы. Другом его детства был Любен Каравелов — теперь известный и у себя на родине, и в России писатель. По окончании гимназии в Пловдиве они вместе через Царьград и Одессу добрались до Москвы и поступили в Московский университет: Каравелов — на филологический, а Кесяков — на физико-математический факультет. Закончив университет и получив степень магистра, Кесяков не удовлетворился этим. Родина все еще находилась под чужеземным игом, и было неизвестно, скоро ли пригодятся его познания в области физико-математических наук. Пока что Болгарии нужней всего были воины, люди, владеющие оружием и готовые отдать за ее освобождение свою кровь, а если надо, и жизнь. И Константин Кесяков поступает во 2-е Константиновское военное училище, с отличием заканчивает его и в чине поручика назначается в знаменитый Преображенский полк. Вскоре он знакомится с Иваном Аксаковым, и тот как председатель Славянского комитета возлагает на него задачу связи с национальным движением южных славян. Задачу эту Кесяков исполнял столь энергично и успешно, что, когда заговорили о вероятности Освободительной войны и Столетову было поручено формирование и снаряжение болгарского ополчения, он послал начальнику штаба действующей армии специальный рапорт, в котором ходатайствовал об откомандировании в свое распоряжение поручика Кесякова вместе с подполковником генерального штаба Рынкевичем и майором Калитиным. И как только ополченцы начали сводиться в дружины, командиром первой же дружины Столетов назначил болгарина-преображенца Константина Кесякова…
Цепь Балканских гор, протянувшаяся через всю Болгарию с запада на восток, как бы делит страну на две части — северную и южную. В центральных Балканах север и юг соединяются тремя проходами: Шипкинским, Травненским и Твардицким. Шипкинский проход можно считать благоустроенным: по нему проложено что-то вроде шоссе, идущего из Габрова в Казанлык. Твардицкий и Травненский поглуше Шипкинского, но вообще-то тоже проходимы. Турки, естественно, берегут все эти три прохода. Шипкинский ими укреплен, у выхода из двух других стоят их военные таборы.
Но между Травненским и Твардицким есть еще один проход. По донесениям лазутчиков, его турки оставили без внимания: стоит ли его охранять, когда он и так непроходим. Разве что какой-нибудь смельчак, отпетая голова проберется им, но не войско. Хаин-богаз — Предательский путь — назвали турки этот проход из деревушки Присово, что в Предбалканье, в забалканское село Хаинкиой, раскинувшееся как раз у самого выхода из Хаин-богазского ущелья.
И вот как раз по этому именно ущелью командующий Передовым отрядом генерал Гурко решил перевести в Долину роз свое войско.
Когда солнце пошло на полдень и жара стала невмоготу, остановились на дневку. Надо было и отдохнуть, и подкрепиться перед трудной дорогой в горах, Балканы уже синеют где-то у горизонта, они вот, совсем близко, рукой подать. Горы громоздятся на горы, словно хотят, став друг другу на плечи, дотянуться до самого неба. Поглядишь вверх — холодные скалы, угрюмые утесы, нависающие над головой каменные кручи; взглянешь вниз — глубокие ущелья, темные бездны. Горные хребты то сходятся совсем близко — вот-вот соединятся, то стремительно удаляются, словно их невидимый богатырь взял и разом раздвинул, раскидал в разные стороны. Только что было небо над тобой, а вот уже и опять закрыли его скалистые утесы, по узким карнизам которых вьются едва видимые тропки. Гулко гремят горные речки, прыгая по своему каменистому руслу. То они мелки — можно перейти, замочив одни подошвы, то вдруг срываются вниз и с водопадным ревом бьют о скалы. Осталась речка в стороне, и тебя объемлет жуткая тишина. Разве что шелест дубовых и буковых рощ, которые кое-где лепятся по кручам, нарушает мрачное безмолвие.
Такой дорогой — собственно, о какой дороге можно говорить, правильнее будет сказать, горной тропой — надо было пройти не версту и даже не десять, а более тридцати верст. Пройти не одному, не сотне — тысячам, и не налегке, а в полном вооружении.
Впереди шла 4-я стрелковая бригада с двумя сотнями пластунов и двумя горными батареями, за ней драгунская бригада с конной батареей, далее следовали пять дружин болгарского ополчения с четырьмя орудиями, и замыкала шествие казачья бригада с батареей.
Тяжелые подъемы сменялись не менее трудными спусками, кончался один горный гребень, начинался другой. Всем было тяжело, но тяжелей всех доводилось артиллеристам. Тропки были так узки, так резко обрывались в пропасти, что орудия часто приходилось переносить на руках. Когда надо было пересекать горные ручьи и речки, колеса орудий вязли в глинистом, мягком, лишь местами каменистом русле. Повороты извилистой дороги иногда были столь крутыми, что даже маленькие горные орудия и те срывались с тропок. Одно орудие, падая, увлекло за собою лошадь. Пушку каким-то образом солдатам все же удалось схватить за колесо и удержать. Животное билось на весу, и, чтобы спасти орудие, пришлось обрезать постромки. Другое орудие, потяжелей, полетело с тропинки с четырьмя лошадьми. Хорошо, что упало оно удачно и осталось в строю…
Верстах в десяти от выхода в долину сделали небольшую остановку. Казачий урядник князь Цертелев, служивший до войны в русском посольстве в Константинополе и знавший турецкий язык, переоделся в болгарский костюм и вместе с болгарином Славейковым отправился вперед. Смельчаки не только побывали в Хаинкиое, им удалось даже поговорить с турецкими солдатами и офицерами. Оказалось, что турки даже и не подозревали о близости русских. В Хаинкиое стояли всего два табора их пехоты. Не было большого скопления войск и в соседних селениях.
Гром пушек возвестил ошеломленному внезапностью врагу, что русские орлы вместе со своими болгарскими братьями перелетели Балканы и спустились в знаменитую Долину роз.
В ДОЛИНЕ РОЗ
Дружинники думали, надеялись, что теперь-то уж определенно настал их час. Нет, и на этот раз их опередили. Чтобы не дать врагу опомниться, Гурко пустил вперед кавалерию. Турки дрогнули и побежали. Так что пехоте, дружинникам, можно сказать, и дела никакого не осталось.
Генерал Столетов видел неподдельное огорчение и досаду на лицах ополченцев. Люди досадовали на то, что не удалось побывать в настоящем бою, хотя и хорошо знали, что далеко не каждый мог из того боя вернуться…
Под общим начальством Столетова болгары вместе с 26-м Донским полком были оставлены у Хаинкиоя на случай защиты выхода из ущелья. Хаин-богаз пока был единственным проходом, который соединял Передовой отряд с главными силами русской армии. Стоило туркам захватить его, и отряд оказался бы отрезанным и обреченным на полное истребление. Но сколько Столетов ни объяснял дружинникам всю ответственность возложенной на них боевой задачи, они в ответ твердили одно: когда же, когда их пустят в настоящее дело?
Между тем Гурко, прежде чем идти на штурм Шипки, решил сначала расширить плацдарм в долине Тунджи, чтобы надежнее обезопасить себя и с тыла и с флангов. Для этого он занял главный город Долины роз — Казанлык и выслал отряды для прощупывания вражеских сил у Эски-Загры — Старой Загоры и Ени-Загры — Новой Загоры. Выполняя эту задачу, отряды «попутно» потеснили турок, а в Новой Загоре, стоящей на железной дороге, к тому же удалось попортить телеграф.
Связь у турок была испорчена. У нас же между Забалканским отрядом и теми соединениями, которые остались на северной стороне Балкан, связи даже такой не было. В результате согласованной атаки на Шипку не получилось. Наступавшие с севера, из Габрова, войска, не поддержанные вовремя наступлением с юга, были отбиты турками. Это произошло 5 июля. А 6-го утром пошел в атаку на Шипку с юга Гурко. Пошел тоже в надежде, что его атака будет поддержана габровским отрядом. Поддержки не было, и, оставив на крутых склонах около полутора сот убитыми, штурмующие батальоны вынуждены были отойти.
Правда, и врагу этот день тоже обошелся дорого.
В одной из атак, когда турки почувствовали, что могут не выдержать натиска русских, они выкинули над окопами белый флаг. Естественно, атака была приостановлена. Разом все стихло. Боя будто и не было. Радостью и ликованием наполнились сердца солдат: неприступная позиция сдавалась… Из укрепления вышел турецкий парламентер. Командир отряда, севастопольский герой, полковник Климантович послал ему навстречу майора Солянко с рядовым татарином. Начались переговоры об условиях сдачи. Далеко и отовсюду видный белый флаг развевался над окопами. Однако же, едва парламентеры разошлись, с вражеской стороны грянули залпы. Приостановление атаки туркам было нужно для того, чтобы успеть спустить с гор цепи стрелков и начать окружение русских. Никто из офицеров не мог не то что предвидеть, даже подумать о таком вероломстве. Батальоны в нерешительности топтались на месте. Неожиданность действовала парализующе.
— Ребята, за мной! — закричал первым опомнившийся Климантович.
Его клич разом поднял ряды стрелков. С яростным воплем, не обращая внимания на пули, картечь и гранаты, кинулись стрелки на укрепление за своим командиром. Турецкая пуля уложила отважного офицера насмерть. Это еще более озлобило солдат. Они вихрем ворвались в окопы. Засверкала на солнце вороненая сталь штыков, началась рукопашная. Турки в ужасе бежали. Но штурмом была взята лишь одна из вражеских позиций. И поскольку соседние оставались в руках турок, удерживать ее за собой не имело смысла.
Все же врагу пришлось выкинуть белый флаг если и не в прямом, так в переносном смысле. Эти две пусть и разрозненные, несогласованные атаки, должно быть, убедили турок в бессмысленности дальнейшего сопротивления. К тому же накануне штурма русским войскам удалось перехватить у деревни Шипки следовавший на перевал обоз в 80 повозок с сухарями. Так что Халюзи-паша со своими таборами остался без провианта. И когда на третий день, 7 июля, русские войска, предводительствуемые генералом Скобелевым, опять пошли на штурм турецких позиций на Шипке со стороны Габрова, их ждали на перевале пустые брошенные окопы. Оставлены были даже девять орудий. Халюзи-паша решил уйти, пока еще не все пути ему были отрезаны. Правда, и на этот раз не обошлось без хитростей.
Должно быть, получив известия о движении из Габрова скобелевского отряда на новый штурм Шипки, турки утром 7 июля прислали к Гурко — не к Скобелеву, а к Гурко! — парламентера, имевшего при себе письмо за подписью паши о сдаче. Гурко принял капитуляцию с условием, чтобы все сложили оружие и выдали офицеров, виновных в вероломной выходке с белым флагом. Но оказалось, что и сама посылка парламентера была новой хитростью врага. Просто турки и на этот раз хотели выиграть время для отступления. Не успел еще парламентер присоединиться к своим, как с Шипкинского перевала было получено известие, что враг бежал, оставив лагеря и орудия… Турки не просто бесчестно пользовались нашим добродушием, но и вводили его как постоянно действующий фактор в свои тактические расчеты.
Скобелев и Гурко съехались на перевале. Шипка со своей неприступной горой Николай перешла в руки русских.
Турецкие лагеря представляли собой ужасную картину. У телеграфного столба пирамидою сложены были отрубленные головы стрелков и пластунов, оставленных на месте в бою 5 и 6 июля. У другого лагеря было найдено несколько десятков обезображенных трупов. У большинства были отрублены головы, у некоторых руки и ноги. У одних вырезаны языки, у других проколоты глаза, третьим… Надо ли продолжать? Зверей и то бывает жалко, когда с ними обходятся по-зверски. Каковы же должны быть люди, которые проявляют бессмысленно зверское отношение к себе подобным!..
Со взятием Шипки и второй перевал, второй проход через Балканы был в наших руках. Теперь уже без риска быть отрезанным Передовому отряду можно было продолжать боевые операции в Забалканье.
На несколько дней войскам был дан отдых. Затем Гурко возобновил боевые действия в долине реки Тунджи, стараясь расширить треугольник Казанлык — Старая Загора — Новая Загора.
Особое внимание командир Передового отряда уделял Новой Загоре. Это и понятно: город стоит на линии железной дороги; отсюда в случае дальнейшего успешного наступления за каких-нибудь два-три дня можно достигнуть Константинополя. Сюда же в любой день и час из того же Константинополя могли подойти вражеские резервы. Так что и в том и в другом случае было очень важно владеть этой ключевой позицией.
В самом же скором времени, однако, стало ясно, что ни о каком наступлении в сторону Константинополя не может быть и речи. Что ни день, в Новую Загору прибывали войска, и, хотя достоверных сведений об их численности пока и не имелось, видно было, что затевается что-то серьезное.
Тут, видимо, нужно сказать несколько слов о разведке.
Форсирование русскими Дуная прошло почти незамеченным для неприятеля. Сигнал с левого берега (вражеский шпион поджег мельницу) был подан лишь тогда, когда первые батальоны уже зацепились за болгарский берег и пошли на штурм города Свиштова.
Совершенно скрытным, а посему и неожиданным для врага оказался и переход 10-тысячного отряда Гурко через Балканы. Об этом говорит и тот факт, что за день до выхода русских из ущелья Хаин-богаз в Долину роз через Хаинкиой (расположенный как раз рядом с ущельем) промаршировал батальон турок, направлявшийся в Казанлык. Знай турки о движении русских — они бы не только этот батальон оставили в Хаинкиое, но, надо думать, подтянули бы сюда и другие силы.
Однако же следует признать, что подобные случаи в войне за освобождение Болгарии были не так уж часты. Как правило, турки были прекрасно осведомлены, если и не о намерениях русского командования, то почти о любом исполнении этих намерений. Война шла на вражеской территории, и, естественно, врагу не стоило большого труда иметь своих лазутчиков едва ли не в каждом населенном пункте.
У нас же, несмотря на полное сочувствие и большую помощь болгар, разведка далеко не всегда была на высоте.
Гурко прорубался коридором на юг и делал это блистательно. Но идти коридором, с обеих сторон, которого стоят вражеские армии — значит подвергаться постоянной опасности. И чем дальше уйдешь, тем риска больше, какой бы успешной сама дорога ни была. Да, конечно, заманчиво прорубиться аж до самого Константинополя! Ну а если турки неожиданно перегородят этот коридор, тем более что и рельеф местности, и наличие сил позволяют это сделать? Рассчитывать же на ротозейство или недомыслие неприятеля было бы слишком рискованно.
Русское командование знало, что в районе Рущука на востоке и около крепости Никополь на западе находятся турецкие армии. Но сведения и о расположении тех армий (ведь необязательно стоять армии в одной точке!), и об их численности были смутными, неточными, неопределенными. Потому именно и возникла «вдруг» Плевна. Пока недалекий, но упрямый барон Криденер штурмовал никому — ни нам, ни самим туркам — не нужную старенькую крепость Никополь, умный Осман-паша сумел привести из Видина свою армию в соседний с Никополем Плевен и сделать его почти неприступным.
Целая армия с артиллерией, обозами прошла около ста пятидесяти верст, а русское командование даже и «не заметило» этого!
Никем своевременно не был предупрежден и Гурко, что на побережье Мраморного моря высаживается с судов огромная армия Сулеймана-паши, дотоле находившаяся в Черногории. Почти пятьдесят батальонов испытанных, закаленных в боях воинов бросал султан Абдул-Гамид на наш десятитысячный отряд. Узнали же об этом не от разведчиков, а от болгар, которые в страхе и ужасе бежали перед грозно надвигающейся с юга армией Сулеймана. Через Долину роз к горам потянулись бесконечные обозы с жалким скарбом, сопровождаемые детским плачем и женскими стенаниями. На все расспросы перепуганные беженцы отвечали только одно: «Турки, турки… Много турок!».
Вот так в Придунайской Болгарии перед русскими, словно из-под земли, выросла в Плевне шестидесятитысячная армия Османа-паши, а в Забалканье — почти такая же армия Сулеймана-паши.
БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
А вот Тунджи долина,
Где кровь лилась рекой,
Где храбрая дружина
Дралась за край родной…
Песня болгарских дружинниковТри полка кавалерии вместе с болгарскими дружинниками с ходу, при незначительных потерях заняли Старую Загору. Теперь очередь была за Новой.
Как уже говорилось, городу на линии железной дороги Гурко придавал особое значение. Пока в Забалканье прибыла только часть Сулеймановой армии, надо поторопиться вступить с ней в бой. Кто не знает, что громить врага по частям легче!
Рано утром 17 июля Гурко со своим отрядом выступил из Казанлыка, предварительно дав указание кавалеристам и дружинникам, занимавшим Старую Загору, идти на соединение с ним. По доставленным лазутчиками сведениям, в Новой Загоре находилось всего лишь пять таборов турок, и отважный генерал не сомневался в победе.
Так оно и вышло. Хотя неприятельских войск оказалось значительно больше, Гурко разбил их, что называется, наголову. Охваченные паникой, воины Сулеймана бежали, сбрасывая с себя куртки, рубахи и даже штаны. Явись сюда кавалерия из Старой Загоры, вряд ли кому удалось бы спастись. Но ни кавалерия, ни дружинники в Новую Загору не пришли…
Гурко был уверен, что сразился с главными силами Сулеймана-паши. Однако под Старой Загорой вражеских войск оказалось не меньше, если не больше, и торопиться на помощь надо было не к нему, в Новую Загору, а к защитникам Старой.
Почуяв неладное, Гурко двинул свой отряд к Старой Загоре. Но было уже поздно…
Исполняя приказ командира Передового отряда, болгарское ополчение генерала Столетова и три полка кавалерии герцога Лейхтенбергского 17 июля выступили в направлении Новой Загоры. Согласно диспозиции они должны были достигнуть этого города в два форсированных перехода. Однако же, дойдя до деревни Долбоки, кавалеристы и болгары неожиданно встретили неприятельский авангард с 12 орудиями, шестью таборами пехоты и отрядом конных черкесов. Завязался ожесточенный артиллерийский бой, не давший перевеса ни той, ни другой стороне. Не видя возможности соединиться с отрядом Гурко, дружинники и кавалерия отошли на ночевку на несколько верст от Долбоки. Турки остались на своих позициях.
В ночь с 17 на 18 июля герцог Лейхтенбергский получил донесение от казачьего полковника Краснова, что южнее Старой Загоры двигается большой турецкий отряд в сопровождении кавалерии и артиллерии. Положение наших войск оказалось критическим. Они стояли между двумя неприятельскими отрядами, каждый из которых превосходил их своей численностью. Что делать?
Собрался военный совет. Генерал Столетов был за то, чтобы всеми наличными силами прорываться на соединение с главным отрядом. Принц Лейхтенбергский предлагал направить на соединение с Гурко только конницу и конную артиллерию, а болгарам с астраханским драгунским полком вернуться в Старую Загору. Трудно было в сложившейся обстановке придумать что-либо более несуразное, чем это дробление и без того не очень-то больших сил. Но именно второе предложение на совете взяло верх. Сыграло тут немалую роль, надо полагать, и то обстоятельство, что слово принца крови имело больше веса, чем голос сына владимирского купца Столетова.
Как показало дальнейшее, военный совет был первым актом разыгравшейся потом трагедии, ее, так сказать, завязкой. Кульминация и развязка наступили через день.
Прежде чем вернуться в Старую Загору, 18 июля была сделана еще одна попытка пробиться через Долбоку. Но, подойдя к деревне, дружинники нашли положение вещей в прежнем виде, турки занимали свои позиции и преграждали нам путь.
Это было 18 июля.
Постояв на месте часа полтора, ополченцы опять двинулись назад. Боя еще не произошло, но он уже не менее как наполовину был проигран, так как на этот раз туркам была дана возможность убедиться в малочисленности наших сил. Они снялись с позиций и молча, без выстрелов, двинулись по пятам отступавших. Турки преследовали двумя колоннами: одна шла по шоссе за болгарами, другая параллельно. Неприятель словно бы давал понять, что любое отклонение от принятого направления может привести к немедленному охвату, а то и полному окружению. Так что это походило скорее на конвоирование, чем на преследование. Конвоируемый хоть и идет впереди, но указывает ему путь все же идущий сзади конвоир. Турки вели наш малочисленный отряд в Старую Загору. Вели как на заклание. Не надо быть великим полководцем, чтобы понимать: если ты идешь по пути, который тебе указывает враг, значит, ты уже как бы признаешь себя наполовину побежденным…
С тяжелым сердцем шли болгары в свою Старую Загору.
Наступил вечер, и их глазу предстало новое зрелище: все пространство, по которому шли за ними турки, осветилось заревом громадного пожара. Горели родные села, деревни и города. Деревья, кусты, остовы сгоревших зданий — все резко обрисовывалось на освещенном фоне. И в зловещем ореоле этого зарева двигались черные массы турецкой армии. Сулейман-паша еще в Черногории приобрел мрачную славу не только опытного, но и исключительно жестокого полководца. Кроме обычных при турецких армиях бандитских шаек башибузуков в рядах Сулеймана-паши были также полудикие зеибеки, негры, арабы, присланные египетским хедивом[4].
Враг как бы заранее торжествовал свою победу. Кто-кто, а болгары хорошо знали, что турки не просто жгут их села и деревни, они, как бы мстя за то, что жители этих селений еще недавно радушно встречали своих русских освободителей, теперь режут и убивают всех поголовно. Никому нет пощады — ни женщинам, ни старикам, ни детям. Об этом дружинникам известно не по слухам или чьим-то рассказам — им все это не раз приходилось видеть собственными глазами. И когда они оглядывались сейчас на двигавшееся за ними страшное зарево, сердца их обливались кровью.
Две дружины под командою полковника Депрерадовича расположились южнее города, остальные две, подкрепленные кавалерией и артиллерией, заняли позицию восточнее Старой Загоры. Ночь прошла тревожно. Несмотря на усталость, мало кто спал. Все понимали, что завтрашний день будет для них днем тяжелейших испытаний, и чем он кончится, неизвестно.
Едва занялась заря, турки начали наступление.
Только теперь дружинники увидели, сколь велики развернувшиеся перед ними силы неприятеля.
Густыми цепями в несколько рядов, поддерживаемые артиллерией, наступали турецкие пехотинцы на наши позиции. Рев пушек и ружейная пальба несмолкаемо повисли над полем боя.
Командир ополчения Столетов распорядился занять оборону на окраине города двум дружинам, а остальные две на первое время оставил в резерве. Но, как ни мужественно сражались с превосходящим противником ополченцы, силы их начали иссякать. Пришлось ввести в бой резервы.
Теперь все четыре дружины развернулись в одну линию общего строя. Это было сделано для того, чтобы врагу было труднее обойти с флангов. Но если бы с прибавкой в ширине фронта была усилена и его глубина! Усилить, подкрепить передовую, с каждым часом редевшую линию, увы, было нечем.
А турки все увеличивали свой натиск. У них было кем заменить выбывших из строя, было чем пополнить ряды атакующих. На шесть наших орудий у них было три батареи. На каждый наш ружейный выстрел они отвечали десятью. Нам приходилось экономить боезапас — у них и снарядов и патронов было вдоволь.
Напряжение боя с каждой минутой нарастало.
С каждой минутой… Потому что каждая минута была вечностью. В каждую минуту обрывалась не одна человеческая жизнь.
А бой длился уже целый час.
Два часа.
Три часа.
На исходе четвертого часа, когда отважно сражавшиеся во главе дружин офицеры почти все полегли, ополченцы дрогнули. Наступил тот критический момент, когда нужно было или рвануться вперед, или начинать отступление.
Замешательство в рядах дружинников как бы послужило неприятелю сигналом к атаке.
Тут, видимо, следует заметить, что вообще турки не любят рукопашного боя, предпочитая ему дальний, огневой. Объясняется это, кроме всего прочего, тем, что ружья системы Пибоди-Мартини, которыми они были вооружены, значительно превосходили и скорострельностью и дальнобойностью наши Кренке и Шаспо. И если не любящие штыка турки на этот раз сами пошли в атаку, значит, они были более чем уверены в своей превосходящей силе.
Вначале был атакован левый фланг ополченцев, который защищали первая и третья дружины. Хотя турки продолжали стрелять на ходу, все же с их приближением ружейный треск стал не таким сплошным. И чем ближе подходил неприятель к болгарской цепи, тем становилось тише. И в этом относительном, конечно, зловещем затишье единственный уцелевший в первой дружине офицер Кесяков запел болгарскую песню:
Ой ви, болгаре-юнаце, Ви во Балканы родени…Ополченцы дружно поддержали командира, и словно силы и отваги у них прибавилось — прямо с песней пошли на турок в штыки.
Знакомый напев долетел до слуха соседней дружины, она подхватила:
Напред, напред, на бой да варвим… —и кинулась на подмогу своим братьям.
За всю войну, наверное, немного было таких рукопашных. Ведь тут сошлись не просто воюющие стороны, сошлись лицом к лицу, грудь к груди давние и непримиримые враги…
В этой войне было допущено в действующую армию более тридцати корреспондентов от сорока пяти газет мира. И корреспонденты потом напишут в свои газеты, что «болгары дрались львами». Рассказы об этом сражении будут преисполнены восхищения и удивления: как это трехтысячному отряду дружинников удалось сдерживать в течение столь долгого времени бешеный натиск двадцатитысячного неприятеля. Кто-то отметит хорошую боевую выучку ополченцев, кто-то вспомнит историю и скажет, что в болгарах словно бы проснулся наконец дух великих предков Крума, Симеона и Самуила, когда-то героически отстаивавших Болгарию от византийских завоевателей…
Но все это будет потом.
А пока что сражение продолжалось уже более четырех часов, и никто не знал, когда и чем оно окончится.
Ряды дружинников таяли. Фланги постепенно сжимались к середине, туда, где в пороховом дыму, как громадная птица, реяло знаменитое Самарское знамя.
Турки начали обходить болгар. Чтобы не попасть в ловушку, командир ополчения Столетов распорядился убрать орудия на возвышенность и под прикрытием их огня начать отступление. Другого выхода не было. На позиции болгар катились новые и новые волны турок.
Вдруг знамя как-то непонятно заколыхалось и начало клониться к земле.
— Цымбалюк ранен! — пронеслось по рядам. — Спасайте знамя!
Командир третьей дружины подполковник Калитин резко повернул коня. Боевой офицер, побывавший под пулями еще до этой войны, он хорошо знал, что потеря знамени повлекла бы за собой бегство, а значит, и гибель всего отряда.
Знаменщик Авксентий Цымбалюк, раненный в грудь, шатался, захлебываясь кровью, однако не выпускал из своих слабеющих рук самарскую святыню — залог любви русских людей к болгарским борцам за свободу. Подполковник подхватил древко в тот самый момент, когда Цымбалюк уже падал.
— Ребята! — закричал Калитин, поднимая над головой знамя. — Видите, знамя с нами. Держитесь, ребята!
Но едва он успел проговорить эти слова, как вражеская пуля насмерть сразила храбреца. Подполковник Калитин как истинный герой умер на спасенном им знамени.
Воспользовавшись минутной заминкой, турки с удвоенной энергией бросились на дружинников, и кому-то из вражеских солдат удалось дотянуться до знамени. Но разве теперь болгары могли отдать свою политую кровью святыню?! Знамя опять взвилось над их рядами.
Новая вражеская волна накатилась на дружинников, и туркам опять удалось завладеть знаменем. И опять болгары бесстрашно вырвали из рук врага священный символ славянского братства. В сердце каждого дружинника негасимым огнем горели памятные слова:
«…Да пройдет это знамя из конца в конец землю болгарскую! Да осушат им наши матери, жены и дети свои скорбные очи!..
…Болгария надеется, что вы с достоинством будете защищать настоящее знамя и прославите его победами, а если надо, то геройски умрете на ратном поле…»
Они готовы были умереть на этом поле, но не отдать свой боевой стяг. Враг мог взять его только у мертвых. У мертвых, но не у живых…
Знамя передавали из рук в руки, пока оно не оказалось вынесенным из передовой линии. Древко знамени было обломлено, а венчавшее его копье погнуто; полотнище во многих местах пробили пули. Тем дороже теперь оно было дружинникам.
Не дождавшись поддержки со стороны главного отряда, болгары отступили.
Лишь под вечер показался с частью своих войск генерал Гурко. Но было уже поздно.
Многих своих товарищей недосчитались дружинники в этот день. Погибло двадцать два офицера, восемьсот солдат было убито и ранено.
В кровавой купели приняло свое боевое крещение болгарское ополчение!
ЗАПЕРТАЯ ДВЕРЬ
Остатки болгарских дружин вместе с отрядом генерала Гурко отступили в Казанлык. Здесь, перейдя Балканы, Передовой отряд начал свой победный марш по Долине роз. Здесь же и закончил.
Все — и друзья и недруги — признавали, что блистательный переход через Балканы останется одной из ярких страниц не только этой войны, но и военной истории вообще. Велик был и моральный эффект от появления наших войск в Забалканье: с одной стороны, оно поднимало освободительный дух у болгарского населения, а с другой — действовало деморализующе на противника, считавшего себя за Балканским хребтом и в прямом и в переносном смысле как за каменной стеной.
Но десять тысяч — это все же десять тысяч, не более, даже под командованием такого талантливого полководца, как Гурко. Его передовой отряд не мог противостоять пятидесятитысячной, к тому же обстрелянной, армии Сулеймана. Если бы Гурко мог надеяться на какие-то идущие следом за ним через Балканы новые отряды! Увы, по его «следам» пришло только два полка, и рассчитывать на новые подкрепления в ближайшее время не приходилось. Огромные силы русской армии все еще держала Плевна. Именно в тот день, 18 июля, когда Гурко успешно атаковал турок у Новой Загоры, барон Криденер вторично штурмовал Плевну и опять был отбит с огромными потерями. Чего уж после этого ждать резервы в Забалканье! Если они и подойдут из России, ими будут в первую очередь пополнять поредевшие полки под Плевной.
Отряд Гурко у Хаинкиоя разделился на две части: пехота и кавалерия вместе с командиром отряда отступили через знакомое уже ущелье Хаин-богаз на Тырново, а болгарские ополченцы пошли на Шипку, заняв ее вместе с Орловским полком.
По старой русской пословице «За одного битого двух небитых дают», на Шипке сошлись двое «битых»; Орловский полк в июльских боях за перевал тоже потерпел немалый урон. Жаль, эти обстрелянные, уже прошедшие боевое крещение части не были пополнены.
Впрочем, за Шипку не особенно беспокоились. Какой резон туркам брать силой позицию, которую можно обойти хоть справа, хоть слева. Если при наличии многих дверей одна дверь окажется закрытой, какой смысл ломиться именно в эту плохо ли, хорошо ли, но закрытую дверь?
Правда, Шипкинская дорога через Балканы — одна из самых удобных и благоустроенных, и, возможно, неприятель сочтет необходимым взять ее в свои руки — на этот случай были выполнены кое-какие работы по укреплению боевых позиций. Но работы проводились без определенного общего плана, без учета важности той или другой позиции. И дело тут было не в беспечности или инженерной малограмотности командования.
Едва ли не месяц работал на Шипкинском перевале с саперной командой опытный и умный генерал-лейтенант Кренке. В помощь саперам было мобилизовано местное население, и выпадали дни, когда работало на перевале до пятисот и более болгар. Но что делала эта масса людей? Строила шоссе. Его успели довести не только до перевала, шоссирован был и южный спуск к деревне Шипка. Шоссе? Зачем шоссе — уж не затем ли, чтобы неприятелю удобнее было по нему наступать на нас? Надо было думать не о шоссе, а об укреплении Шипкинских высот!
Все правильно. Но кто сказал, кто знал, что враг пойдет на Шипку? Да, в Забалканье сосредоточилась прибывшая из Черногории армия Сулеймана-паши, на соединение к ней подходил корпус Реуф-паши, и почему бы не предположить, что эти войска могут по пятам отряда Гурко перевалить Балканы и двинуться на выручку осажденной Плевны. Но кто мог предполагать, что переходить через Балканы Сулейман будет обязательно через занятую русскими Шипку, а не через любой другой, свободный, незанятый перевал?
Шоссе строилось в дни победоносного рейда генерала Гурко по долине Тунджи. Оно было необходимо русским войскам на случай быстрой переброски подкреплений в Забалканье. Кто знал, что и вторая атака Плевны будет отбита. А ведь если бы Плевна пала, Гурко не надо было бы уходить из-за Балкан, на подмогу к нему можно было бы двинуть освободившуюся армию из-под Плевны. Вот тут бы шоссе очень и очень пригодилось! Но война есть война, и развитие событий на ней идет далеко не всегда так, как бы кому-то хотелось.
Вот так и получилось: где-то построили новые укрепления, а где лишь привели в порядок те, которые были возведены еще турками. Как наши, так и оставшиеся от турок ложементы были столь мелки, что солдаты могли укрыться за ними только сидя. Никаких бойниц, никаких блиндажей не было.
Шипкинскую позицию как бы составляло вновь устроенное шоссе. Фронт позиции, или ее южная сторона, примыкал к горе святого Николая, господствовавшей над всей местностью. На ней было поставлено три батареи с круговым обстрелом. У подошвы горы Николай по другую сторону шоссе возвышалась Турецкая, или Стальная, батарея, названная так потому, что досталась от турок и состояла из шести стальных дальнобойных орудий. Чуть в глубине, в тылу, стояли по обеим сторонам шоссе еще две батареи — Круглая и Полукруглая.
Позиция наша имела и свои выгоды, и свои уязвимые места. Несмотря на всю малочисленность защитников, позиция все же как бы запирала шоссе, а это было очень важно, учитывая гористую местность. В чистом поле, если дорога заперта, взял да и обошел. В горах обойти не так просто: на гору тебя могут не пустить, а пойдешь низом — сверху легко взять на прицел.
Уязвимость же была в том, что как бы параллельно шоссе, идущему по гребню, увенчанному горой Николай, и справа и слева на расстоянии полутора-двух верст тянулись другие горные хребты: с левой, восточной стороны — так называемые Бердекские высоты, а с правой, западной — Лесная и Лысая горы. И если Николай господствовал над окружающей его местностью, то Лысая и Большой Бердек господствовали над самим Николаем. А это значит, что, достаточно было неприятелю занять эти господствующие высоты (что турки потом и не преминули сделать), вся наша позиция могла простреливаться насквозь ружейным и артиллерийским огнем. Получалось так, что с соседних высот мог быть взят на прицел буквально каждый наш защитник, будь то солдат или офицер.
Остается добавить, что точно так же простреливалась наша позиция и на всю глубину обороны, составлявшую около двух с половиной верст. Сюда следует приплюсовать еще столько же расстояния по шоссе, идущему на перевал из Габрова.
Что же в итоге получалось? Сообщение наших позиций с Габровом шло по шоссе и только по шоссе, но, чтобы со стороны Габрова добраться до высшей точки Шипкинского перевала — горы Николай, надо было последние пять верст проходить под непрерывным прицельным (целиться туркам никто не мешал) огнем. Где укрыть резервы? Где устроить пункт первой помощи раненым? Как снабжать фронтовую позицию патронами, снарядами, продовольствием, наконец, водой? Да, да, и водой. Будем помнить, что дело происходит в начале августа и не под Вологдой, а в южной стране: ночью ничего, а днем жажда мучает больше, чем голод. Источники же на горных вершинах не бьют, надо спускаться вниз. Спускаться опять-таки под неприятельским огнем.
Но тогда зачем же отдали туркам соседние высоты?
Мы подошли к главному. Кто держал оборону Шипкинского перевала и какие силы противостояли обороняющимся?
Шипкинский отряд составляла, в сущности, небольшая горстка людей: два батальона, или десять рот, Орловского полка и пять дружин болгарского ополчения при двадцати восьми орудиях. Еще прислано было из упраздненного отряда Гурко три сотни казаков, но лошади у них были так измучены, что казаки не могли быть использованы по прямому своему назначению. Если все это сложить вместе, то общая численность отряда едва ли будет превышать три тысячи. Как этими более чем скромными силами держать оборону целого перевала? Оборонительная линия за недостатком защитников и так местами была не сплошной, а шла с перерывами — где уж тут было занимать соседние высоты?! Тем более что соединялись эти высоты с центром позиции лишь узкими, да и то простреливаемыми, перешейками, так что неприятелю ничего не стоило их отрезать и окружить.
А теперь посмотрим, что происходило в долине Тунджи и какие силы шли оттуда на Шипку.
В течение многих дней через перевал тянулись бесконечные обозы беженцев. Одни шли, навьючив уцелевших волов и лошадей домашним хламом, который удалось выхватить из дому, завидев приближающихся башибузуков. У других ни коня, ни вола, никакого имущества, видимо, выскочили в чем есть. Брели осиротевшие дети: эти потеряли родителей, у тех отец и мать зарезаны, спаслись только они сами. Неожиданно прошла веселая, постоянно улыбающаяся женщина. У нее был муж и шестеро детей, турки на ее глазах порешили всех. Как (да и зачем) уцелела она, никто не знает, сама она тоже сказать не может — несчастная сошла с ума. Идет, смеется, пока не увидит ребенка, а увидит, зарыдает, упадет на колени и начинает биться головой о землю…
Когда менялся ветер и начинал дуть из Долины роз, то не запах роз нес он с собой, а запах гари и трупного зловония. По долине стлался густой дым — горели подожженные башибузуками болгарские села и деревни. С перевала долина просматривалась далеко, до самого Казанлыка, и на всем этом пространстве неистовствовали передовые отряды турок, злобно мстя болгарам за то, что они недавно так радушно встречали русских. Можно представить, что там творилось!
Пожарами и поголовным истреблением болгар Сулейманово войско как бы возвещало свой приход в долину Тунджи.
А 7 августа взору защитников Шипки предстала и сама армия. От Николая было видно, как с горного хребта Малых Балкан, который отделял долину Тунджи от долины Марицы, табор за табором сползали густые массы войск и медленно растекались по равнине.
Восточнее города Казанлыка Сулейман выстроил свою армию в три линии, в каждой по 14 таборов. И хотя армия находилась от перевала в расстоянии не меньшем, чем двенадцать верст, в бинокли хорошо видны были каждый из 42 таборов.
— Сулейман делает парад своим войскам в нашу честь, — пошутил кто-то из офицеров.
— Скорее другое: зная, как велико наше войско, он развертывает свои силы, чтобы нас застращать…
Шуткам никто не засмеялся. Офицеры бодрились как могли, но все понимали, что дело принимало далеко не шуточный оборот.
В деревне Шипке, расположенной у подножия перевала, стояла болгарская дружина, а на полугоре южного склона занимала позицию сотня уральских казаков. Доселе те и другие использовались для рекогносцировок и отражения случайных отрядов башибузуков. Теперь, перед лицом надвигающейся армии, оставлять их на прежних местах не имело никакого смысла. И генерал Столетов распорядился ополченцев и казаков поднять на перевал, на главную позицию.
Между тем армия Сулеймана медленно, но неотвратимо двигалась к перевалу.
Столетов написал донесения генералу Дерожинскому в Габрово и генералу Радецкому в Тырново, в которых извещал о появлении турецкой армии и решительном намерении неприятеля атаковать Шипку. В Габрове оставалось еще пять рот Орловского полка, и Столетов заключал донесение просьбой о присылке подмоги. Присутствовавший при этом генерал-лейтенант Кренке заметил, что формулировку о намерении Сулеймана атаковать именно Шипку следовало бы несколько изменить, сделав ее не такой категоричной. Опасность угрожает одинаково и Шипке и Габрову, куда неприятель может пройти через соседнюю с Шипкой Янину и затем Трявну. Может быть, Сулейман пойдет прямо на Габрово; может быть, он атакует одновременно и Шипку и Габрово — что же будет, если Габрово останется без защиты?.. Доводы были резонными, и с ними пришлось согласиться. В донесении вместо слов о решительном намерении атаковать Шипку Столетов написал, что Сулейман-паша, по-видимому, намерен атаковать Шипку.
Поведение неприятеля как бы подтверждало эту неопределенность. Турецкая армия приближалась к подножию Балкан как раз в среднем между селениями Яниной и Шипкой направлении. До Янины турки немного не дошли. А достигнув Шипки, они ознаменовали свой приход тем, что середь бела дня без всякой причины и надобности зажгли селение.
Весь следующий день защитники перевала провели в напряженном, но, как оказалось, напрасном ожидании. Похоже, Сулейман ждал еще каких-то подкреплений. И действительно, в скором времени к Шипке были стянуты из разных мест еще несколько отрядов, а затем подошел корпус Реуфа-паши, так что общая численность войск теперь доходила едва ли не до ста таборов пехоты с соответственным количеством горных и полевых орудий. Надо полагать, турецкие полководцы стягивали такие огромные силы к Шипке, чтобы действовать наверняка, чтобы не просто сбить с перевала русских и овладеть им, а протаранить жидкую цепочку обороны и всей огромной массой идти, не останавливаясь, дальше — на Габрово, а оттуда к осажденной Плевне.
Султан приказал Сулейману и Реуфу-паше во что бы то ни стало отбить у русских Шипкинский проход и даже, говорили, самые ущелья и горы его по-восточному велеречиво назвал своим сердцем. Сулейман и Реуф, в свою очередь, дали клятвенные обещания султану, что они очистят Балканы от неприятеля и придут на помощь своим Придунайским армиям.
Да и отчего было скупиться на обещания-клятвы турецким полководцам?! Если мы имели самое смутное представление о движении и численности армии Сулеймана за Малыми Балканами и теперь вот гадали, когда и куда направит он свой удар — на Шипку или на соседние — Хаинкиойский и Иметлийский — проходы, то турки-то отлично были осведомлены не только о наших малочисленных силах на Шипке, но и знали, что если сюда и будут посланы подкрепления, то прийти они смогут не раньше чем через три дня. А трех дней более чем достаточно для того, чтобы 60-тысячная армия успела сбить с Шипкинских высот жалкую горстку защитников. Да что сбить — стереть в порошок и развеять по ветру. Ведь это только считалось, что Шипку защищают полк и пять дружин. Полк в июльских боях за перевал понес немалые потери, но не пополнялся. Что же до болгарских дружин, то сюда из-под Старой Загоры пришли лишь их остатки. Правда, дружины успели пополнить пятьюстами ополченцев, но это были необстрелянные, не успевшие пройти даже элементарной подготовки новички.
Так что можно было давать любые клятвы.
Между прочим, потом станет известно, что Сулейман, зная о ничтожном числе защитников Шипки, одновременно с приказом начинать наступление на перевал распорядился послать султану донесение о его взятии. Вот какая твердая уверенность была у неприятеля в своей победе! Да и кто мог усомниться, кто мог сказать, что для такой уверенности не было достаточных оснований?! Десять против одного, и то многовато. На каждого защитника Шипки приходилось едва ли не двадцать врагов…
Поздно вечером генерал Столетов, которому было поручено общее командование обороной перевала, собрал у себя в палатке, на склоне горы Николай, что-то вроде военного совета.
На войне не знаешь, что может произойти через час, тем более нельзя предугадать, как сложится завтрашний бой. Неизвестно даже, будет ли он вообще. Нынче вот прождали целый день, а никакого боя не было. Ничего нельзя заранее планировать, трудно хоть что-либо заблаговременно предусмотреть. И все же с незапамятных времен полководцы заранее составляют подробные диспозиции, оговаривают детали предстоящего боя, пытаются предугадать действия неприятеля и обдумывают меры своего противодействия, то есть, в сущности, все-таки пытаются планировать нечто не поддающееся никакому планированию.
Еще накануне была в подробностях оговорена общая диспозиция, по которой гору Николай занимает батальон Орловского полка с батареей под начальством полковника графа Толстого. Другой батальон орловцев занимает ложементы на правом фланге (против гор Лесной и Лысой) и одновременно составляет прикрытие Центральной и Круглой батареям. Три дружины болгарского ополчения занимают левый фланг (против Бердекских высот). Правым флангом и тылом командует полковник Депрерадович, левыми ложементами — полковник князь Вяземский. Три роты орловцев и две болгарские дружины с четырьмя орудиями составляют резерв с местонахождением у подошвы горы Николай.
На нынешнем совете уточнялись детали, обсуждались возможные варианты течения и даже исхода боя. Что и кому следует делать в этом случае, что и кому в том.
Вызвал разногласия вопрос, кто должен распоряжаться резервом. Поначалу предлагалось командиру первой болгарской дружины подполковнику Кесякову, поставленному во главе резерва, давать помощь по требованию начальников отделов обороны, то есть начальника фронта, правого в левого флангов.
— При таком порядке к исходу первого же часа боя от резерва может ничего не остаться, — возразил на это начальник штаба полковник Рынкевич, поддержанный генералом Кренке.
— Поясните свою мысль, — попросил князь Вяземский.
— Начальник того или другого участка фронта по чувству самосохранения будет просить помощи, и резерв может получить неправильное назначение. Он должен состоять в личном распоряжении командующего всей позицией и расходоваться только по его личному распоряжению.
С этим все согласились.
— Следовало бы заблаговременно договориться и вот о чем, — сказал Кренке, и все приготовились внимательно выслушать старого генерала. Он вызывал уважение у офицеров и солдат и своими умными советами, а также тем, что и теперь продолжал оставаться с ними на перевале. — Мы можем отбить двадцать, тридцать атак, но на тридцать первой наша длинная линия может оказаться прорванной, и потому в этом крайнем случае надо знать, куда собираться отряду.
— Я уже думал об этом, — отозвался Столетов, — и выбрал редюитом[5] гору Николай.
— Вы что же, Николай Григорьевич, хотите добровольно отрезать себя от сообщения с Габровом?
— Но гора Николай командующая, — напомнил Столетов.
— Это так, — согласился Кренке. — Но если гарнизон останется без зарядов, без хлеба и воды, долго ли он накомандует. К тому же тыл Николая полностью открыт для огня неприятеля.
— К сожалению, любая наша позиция доступна неприятельскому огню, — с тяжелым вздохом проговорил Столетов, но в конце концов все же уступил доводам старого опытного генерала.
Решено было считать редюитом Круглую батарею вместо с тыльным укреплением.
Возможно, следовало бы заодно оговорить и порядок отступления, принимая во внимание явно превосходящие силы противника — ничего зазорного или малодушного в этом не было: ведь диспозиция должна предусматривать не только лучшие, но и самые наихудшие исходы боя. Однако же слово «отступление» на совете никем ни разу не было произнесено. Тем самым как бы само собой подразумевалось, что каждый будет защищать свою позицию до конца, до последнего.
Окончился совет уже за полночь.
Столетов позвал своего ординарца Петра Берковского, чтобы обойти вместе с ним позиции и наперед прикинуть, какие из них более, а какие менее уязвимы для противника.
— Войники отдыхают! — деликатно напомнил генералу ординарец.
«Ну и пусть!» — чуть было не сказал Столетов, но, подумав, переменил свое решение. Обходя позиции, он — хочет того или нет — обязательно потревожит и офицеров, и солдат, а ведь их наутро ждет тяжкий, смертный труд…
— Ты прав, Петр, — сказал Столетов. — Им надо отдохнуть. Не будем тревожить. Да и утро вечера мудренее — есть такая русская пословица. Наверное, слышал?
— Такая пословица есть и у нас, — отозвался Берковский и так же робко, стеснительно напомнил: — Корень-то у наших языков один, и утро-вечер по-болгарски звучит похоже: сутрин помудре от вечерта.
— Сутрин помудре от вечерта, — повторил за ординарцем Столетов. — Будем спать!
Хороший ординарец у него! И умница, и храбрости не занимать. В бою под Старой Загорой он не раз заслонял собой Столетова от вражеских пуль… Биография у него столь же причудлива, как у командира первой дружины Константина Кесякова. Пятнадцатилетним юношей Петр уехал учиться в Белград в духовную семинарию. Там встретился с Левским, Каравеловым, Раковским, и знакомство с этими, как их потом назовут, апостолами освобождения решило его дальнейшую судьбу. Немалое влияние оказал на молодого патриота и вдохновляющий пример его земляка — воеводы Цеко Петкова, слава о котором гремела по всем Балканам. Вернувшись в родной дом, Берковский начинает учительствовать и одновременно ведет просветительскую работу, открывает вместе с Левским народную читальню, одну из первых в Болгарии. Вскоре Берковского арестовывают, заключают в тюрьму Диарбекир, но ему удается бежать в Россию. Прослышав о формировании болгарского ополчения, Берковский торопится на сборный пункт, и его в звании унтер-офицера зачисляют в дружину. Столетов, как командир болгарских ополченцев, почел за правило иметь и ординарцем болгарина. Взяв Берковского, он ни разу об этом не пожалел и, надо думать, не пожалеет и впредь…
Хороший у него ординарец, что и говорить!.. А теперь — спать, спать.
Но не спалось.
Да, наверное, и мало кому спокойно спалось в ночь на 9-е на Шипкинском перевале. Зарево пожаров бросало кровавый отблеск на вершины. То и дело раздавался треск ружейных выстрелов на южном склоне. Главное же, все знали, чувствовали, что каждый час, каждая минута неумолимо приближают их к сражению, из которого если и не всем, то многим и многим наверняка не выйти живым.
В русском военном лексиконе еще со времен Суворова редко употреблялись такие слова, как «битва» или «сражение». Куда чаще в ходу было скромное словечко «дело»: дело под Рымником, дело под Фокшанами. Битва — это если Полтавская, сражение — разве что Бородинское, побоище — так уж Ледовое. Завтрашний бой пока еще рано считать сражением, но и обычным делом его тоже вряд ли назовешь. Занимали перевал солдаты и офицеры уже достаточно обстрелянные, побывавшие не в одном жарком деле. Но никому из защитников еще ни разу не приходилось участвовать в такой воистину смертельной схватке, когда каждому воину уже заранее известно, что против него по ту линию фронта стоят два десятка врагов…
ЭТОТ ДЕНЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ИСТОРИИ…
Вспомним, братцы, как стояли
Мы на Шипке в облаках!
Песнь защитников Шипки в 1877 годуВ семь часов утра турки начали атаку.
С Лесной и Лысой гор, которые неприятель занял накануне, потекли-потекли вниз стройные колонны в красных фесках. Одновременно густые таборы тронулись по шоссе к подножию Николая. Наши артиллеристы ударили картечью в самую гущину наступающих, и турки отхлынули, оставив десятки убитых и раненых. Но тут же новая волна грозно покатилась-покатилась на наши позиции и, дохлестнув до подошвы Николая, начала заливать его нижние ярусы. Новые орудийные и ружейные залпы остановили темно-синий с красным гребнем вал, и он не сразу, словно бы нехотя, но тоже откатился. И точно так же, как морская волна, отливая, оставляет после себя пену на прибрежной полосе, неприятель, отступая, оставлял на поле боя ряды трупов, и эти ряды, сначала редкие, с каждой новой атакой уплотнялись.
Чтобы не давать защитникам перевала никакой передышки, атаки пошли почти без перерыва. Высылалась густая цепь солдат, а через небольшое время следом за ней шла новая. И когда после страшного для турок штыкового удара первая цепь откатывалась, то наши солдаты, преследуя противника, натыкались на ею свежие силы. А там уже новая лавина неотвратимо двигалась на наши позиции…
Особое упорство проявили турки в атаках за шоссе. Прекрасно понимая, что их продвижение по шоссе неизбежно изолировало, отрезало сердцевину нашей позиции — гору Николай, они бросили сюда огромные силы. Спасли заблаговременно заложенные здесь фугасы. Правда, первый фугас был взорван неудачно — слишком рано, но и то неприятель в паническом ужасе шарахнулся врассыпную. Психический эффект был так велик, что османы не сразу отважились на повторение атаки. Турецкому командованию пришлось прибегнуть к крайней мере: в колоннах появились люди в белой одежде — муллы. Муллы размахивали руками и истошно вопили «алла!», должно быть, внушая турецким солдатам, что аллах непременно поможет им пройти целыми и невредимыми это ужасное место и одолеть неверных.
Второй и третий фугасы взорвались в самой середине неприятельских колонн и произвели столь страшное опустошение, что в этот день атаки на шоссе уже не возобновлялись.
Но тем неистовее турки лезли на другие позиции. Несмолкаемый ни на минуту треск ружей сливался в один общий хаотический шум. Казалось, тысячи невидимых молотков вбивают в горы тысячи гвоздей. Вбивают час, вбивают два и три часа, и нет этому конца… Заунывные крики «алла!», громкое утром, но постепенно слабеющее «ура!», стоны раненых — все тонуло в ружейной трескотне и грохоте орудий.
Бельмом на глазу у турок была доставшаяся от них же Стальная батарея. И урон своим огнем она ощутимый наносила, и досадно, надо думать, было неприятелю, что стреляют по нему из его же пушек. И, потерпев неудачу на правом фланге, чему в немалой степени способствовал меткий огонь Стальной, турки с удвоенной энергией кинулись теперь на левый фланг обороны, в первую очередь на батарею.
Длинные и густые цепи неприятеля спускались с ближайших лесистых высот в открытую долину, быстро перебегали ее и с криками «алла!», под звуки барабанов и рожков, игравших «атаку», настойчиво, с поразительной ловкостью и упорством карабкались на кручу (сказывался боевой опыт, приобретенный воинами Сулеймана в Черногории!). Огонь изреживал неприятельские ряды, натиск постепенно слабел, и разрозненные остатки атакующих скатывались назад, в лощину. Но раздавался звук рожка, наигрывающего наступление, крики «алла!», и на смену отступившим шли новые и новые цепи и с нарастающей раз от разу настойчивостью штурмовали наши позиции.
Редели не только турецкие, но и наши ряды, и последующие приступы приходилось отбивать уже штыками. В одном месте пятнадцать болгарских ополченцев опрокинули и погнали сто восемьдесят турок; «ура!», с которым они кинулись в штыки, неожиданно и для них самих и тем более для турок получилось уж очень громогласным — это занимавшие соседнюю позицию орловцы, не имея возможности помочь своим братьям штыком, воодушевляли их громким боевым кличем. Ну а чем громче «ура!», тем оно, понятное дело, страшнее для неприятеля: туркам показалось, что не пятнадцать, а по меньшей мере сто пятнадцать солдат на них обрушились.
А один из ополченцев, Леон Крудов, в тяжелую для своей дружины минуту с неразорвавшейся турецкой гранатой в руке выскочил из ложемента и со словами «Что ж, братцы, умирать так умирать!» бросился в турецкую колонну. Граната, которую он кинул оземь, разорвалась очень удачно: побив много турок, она самого героя лишь слегка задела за щеку. Главное же, взрыв гранаты принес огромный эффект: турки, говоря солдатским языком, тут же «дали драла»…
Сколько атак было предпринято за день? Кто насчитал десять, а кто и больше. Расхождение вполне понятно: под пулями немудрено и со счета сбиться. Достаточно сказать, что последняя атака, особенно упорная, если не сказать отчаянная, была сделана уже почти в темноте…
Но не будем забегать вперед. До темноты еще долго. Солнце стоит в зените и печет немилосердно. В тени и то, наверное, около сорока градусов — сколько же здесь, на раскаленных камнях брустверов?! И никуда не спрячешься. Прятаться надо не от солнца, а от вражеской пули.
Солдаты с утра без еды, а еще хуже того — без воды. Мучает жажда, а воды ни капли. За водой надо спускаться вниз под перекрестным огнем неприятеля. И нет времени, чтобы сходить за водой, а если и пойдешь — вернешься ли обратно? Нередко фляжка воды стоит жизни.
Неприятель постоянно освежает свои атакующие ряды новыми силами. У нас некому заменить даже убитых и раненых. Мы не можем отвести раненых на перевязочный пункт: весь путь туда, как, впрочем, и сам медицинский пункт, простреливается. Понесут двое раненого товарища, а по дороге их самих ранят или вовсе убьют. Зная это, не тяжело раненные солдаты или перемогаются в ложементах, или идут на перевязку без провожатых: санитары больше чем наполовину перебиты, каждый солдат на счету…
Если в первой половине дня турки, ведя наступление по всему фронту, все же переносили центр тяжести то на одно, то на другое крыло наших позиций, словно бы прощупывая крепость обороны, то теперь они повели планомерные атаки уже по всей линии. Похоже, это была ставка на изнурение тающей горстки защитников. Если до этого один фланг мог подать помощь другому артиллерийским или ружейным огнем, то теперь ни на какую помощь со стороны рассчитывать было уже нельзя. Да и какой-либо передышки отдельные участки обороны лишались начисто. Одна атака шла за другой. Чуть дрогнет вражеская цепь под нашим огнем, заиграл рожок, и под его музыку словно из-под земли вырастает новая линия атакующих. Турки в этот день играли только три сигнала: «наступление», «сбор» и «убит начальник».
Во второй половине дня заработали, загрохотали установленные на соседних высотах турецкие батареи, и под их смертоносным огнем стало еще труднее останавливать грозные волны атакующих. Все чаще и чаще эти волны доходили, доплескивали до наших ложементов. И тогда оставалось лишь одно спасение — дружное «ура!» и русский штык. Турки не выдерживали штыкового удара: поглядеть издали — их словно разом смывало с наших позиций вниз. Но каждый такой выход из укреплений для штыковой контратаки убавлял и без того малое число защитников: выходя из укрытий, солдаты оказывались под прицельным огнем неприятеля, занявшего соседние высоты. Да и атаки были столь неистовы, что турки хватались за наши штыки, стягивали к себе наших солдат и тут же моментально рубили их на куски.
Неумолчно свистят пули, рвутся снаряды. Донимает несусветная жара. Мучит жажда. Вся еда — сухарь, но и он не лезет в пересохшее горло. Откуда брать силы, чтобы выстоять в этом кромешном аду? Если есть предел всему, есть он, этот предел, и человеческой выносливости и терпению.
Физические силы защитников перевала давно уже подошли к своему предельному рубежу. И если что еще и удерживало их на прежних позициях, так это разве сознание, что им не столько нужно умереть на крутизнах Николая, сколько удержать здесь наступающую армию. За ними была не одна Северная Болгария, куда рвался враг, за ними была Россия, ее честь и слава.
Генерал Столетов приложил к глазам бинокль. Что такое? Почему так странно начала вдруг растягиваться вражеская цепь перед возвышенностью, на которой стоит Круглая батарея? Фланги турецкой цепи постепенно огибали подножие горки, вот уже охватили ее полукольцом, и полукольцо это продолжает расти, прибавляться, угрожая превратиться в полное замкнутое кольцо.
— Немедля к подполковнику Кесякову! — приказал Столетов ординарцу Петру Берковскому. — Выступить с остатками резерва на подмогу Круглой батарее, не дать неприятелю окружить ее!
Ординарец не мешкая полетел исполнять приказание.
Ну вот, теперь все. Теперь каждому командиру надо рассчитывать только на собственные силы. Резервы исчерпаны…
Столетов командовал обороной с главного опорного пункта наших позиций — с горы Николай.
Утром далеко и ясно было видно отсюда окрест, а сейчас за клубами дыма, за разрывами снарядов временами плохо просматривались даже ближние позиции. И во время контратак, когда наши ряды мешались с вражескими, нельзя было понять, кто же кого пересиливает, кто кому уступает. Оглушительно трещали ружейные залпы, пушки изрыгали огонь и дым, снаряды, разрываясь, вздымали в небо целые облака земли…
Какой даже самой умной диспозицией можно предусмотреть все, что сейчас происходит на перевале?! Как можно было это заранее, еще вчера или позавчера себе представить? Пустой вопрос! Но не будь той диспозиции, того приблизительного и пусть теперь во многом уже перекроенного плана боя, возможно ли было бы вообще управлять им, вмешиваться в его постоянно завихряемое течение?!
Не каждую минуту, так каждый час обстановка меняется, и, если командиры на местах стали бы каждый раз ждать новых распоряжений, турки уже давно бы оседлали перевал.
С командиром огневых позиций на Николае графом Толстым Столетову сноситься было просто; с командирами флангов полковником Депрерадовичем и князем Вяземским связь поддерживалась с большим трудом — все по той же причине сквозного прострела неприятелем всей нашей линии. Но еще больше тревожило командира Шипкинской обороны отсутствие постоянной связи с вышестоящим начальством. На донесение командиру корпуса генералу Радецкому о появлении турок под Шипкой и просьбу о помощи никаких определенных действий пока не последовало. Вчера он послал в штаб, в Тырново, еще одного офицера, и тот привез разрешение забрать из Габрова последние пять рот Орловского полка. Ночью роты пришли на Шипку. Но разве такая подмога требуется защитникам перевала? Это же капля… капля против моря. Надо немедля послать нового гонца, надо, чтобы там услышали наш крик о помощи… Если и не придет подкрепление, все равно будем драться, драться до конца. Подкрепление нужно не для нашего спасения — оно необходимо для спасения Шипки…
Солнце уже начинало клониться к закату, а бой все еще не утихал. Разве что пушки стали стрелять не сплошь, не подряд, а с перерывами да атаки стали не такими частыми. Но по-прежнему то на одном, то на другом участке обороны все еще возникали крайние, критические ситуации. Надо было не проглядеть, вовремя заметить их и вовремя же прийти на помощь то ли огнем с соседних позиций, то ли, как сейчас, посылкой хотя бы небольшого резерва. Столетов уже не раз убеждался, что посылка даже совсем ничтожной подмоги в каких-нибудь двадцать — тридцать штыков производит большое воодушевляющее воздействие: нас не забыли, о нас помнят! — и словно сил прибавляется у изнемогающих ратников.
Вот и сейчас стоило подойти Кесякову со своими дружинниками к Круглой, как воспрянувшие духом защитники сначала разрубили, расчленили, а потом и совсем смяли и отбросили неприятельскую цепь. От полукольца, которое грозило превратиться в кольцо, остались лишь отдельные обрывки… Турки, конечно, повторят — может, и не раз — свою атаку на батарею, уж очень она им мешает, уж очень ее позиция выгодная: батарея имеет круговой обстрел, за что и названа Круглой, — но теперь моральный перевес на стороне защитников, теперь им держаться будет легче…
Эх, если бы еще пять рот — ладно, не пять, хотя бы три роты — резерва! По роте на фланги, одну сюда, на Николай, можно бы жить, можно бы держаться…
Целый день — и какой день! — без еды и без воды… Такой страшной усталости, такого крайнего утомления солдат Столетову еще не приходилось видеть. Тяжело было на маршах под палящими лучами солнца, в песках Зааралья, под Красноводском, где он прослужил не один год. Но там против людей чаще всего были только пески да солнце…
Будь силы хоть мало-мальски равными, можно бы ждать, надеяться, что и турки тоже ведь люди, а не железные машины — в конце концов устанут, утомятся. Но Сулейман методично заменял отбитые части свежими, еще не бывавшими в деле таборами. Одна и та же наступающая на Николай цепь за два часа обновлялась, освежалась шесть раз! Здесь был явный расчет именно на то, что русские, как бы они стойко ни защищались, рано или поздно устанут, изнемогут. А чтобы это произошло пораньше, надо, не давая им передышки, беспрерывно атаковать.
Наконец-то красное дымное солнце скатилось за дальние отроги Балкан. Начало смеркаться. Бой стал затихать. Еще немного, и можно будет вздохнуть свободно. Кажется, выстояли…
Но что это за дикие, пронзительные вопли слышатся от Стальной батареи? И что за темные массы копошатся, перетекают по склонам горы, на которой она стоит? Неужто еще одна атака? Но тогда это будет едва ли не самая опасная за весь день атака: в сумерках плохо видно, стрелять защитникам можно только наугад, и если эта сплошная черная лавина доплеснет до наших ложементов, она все затопит, задавит своей массой. И артиллерией с соседних позиций нельзя помочь: плохо видно, можно ударить по своим. Лучше видно с самой Стальной батареи, но турки карабкаются по крутым склонам, а это для пушек мертвое пространство: пушка не ружье, ее под любым углом не поставишь, не наклонишь…
Столетов вскочил на стоявшего под ближним деревом коня и поскакал к Стальной батарее.
…Действительно, это была самая решительная и, пожалуй, самая опасная за весь день атака. Как потом стало ясно, она и готовилась турками едва ли не весь день. После каждого отбитого приступа в мертвом, недосягаемом ни для артиллерии, ни для ружейного огня пространстве под крутизнами оставалось но нескольку десятков неприятельских солдат. Новая атака — новая группа оседала в укромном месте. Так турки копились да копились. А когда их набралось уже достаточно много, они дождались темноты и под ее покровом двинулись вверх на штурм наших позиций. Знакомое «алла!» огласило окрестности, оно долетело и до позиций на Николае…
Несколько ружейных залпов на какое-то время приостановили движение густой массы. Но целиться было очень трудно, урон неприятель потерпел не очень большой, и вскоре атака возобновилась.
Что делать?
— Если бы хоть один залп можно было дать из пушек! — в отчаянии воскликнул кто-то из артиллеристов.
— А может, сделать так… — отозвался другой и, взяв картечный снаряд, ухнул его вниз.
Грохот взрыва потряс горы, эхом отозвался в ущельях, заглушил громкое «алла!».
За первым снарядом полетели вниз второй, третий… Орловцы и болгарские ополченцы отваливали большие камни и тоже обрушивали их на головы атакующих. Теперь их ряды заметно поубавились, но оставалось турок в сравнении с нами все еще так много, что они дошли, добрались до наших позиций.
Солдаты знали, что никаких резервов не осталось. Надо было рассчитывать только на собственные силы. В «резерве» оставались разве лишь «ура!» и русский штык; или отбросить врага, или умереть на месте. Вот уже и слышна последняя команда, которая как бы прошла незримой чертой между жизнью и смертью:
— Не стрелять! В штыки! Ура!
Плечом к плечу орловцы и болгары вышли из ложементов.
— Ур-ра-а!
— Алла!
«Ура!» звучало все громче и громче и постепенно заглушило «алла!».
Турки сражались с поразительным упорством. Оно и понятно: не для того они выжидали целый день, чтобы несолоно хлебавши повернуть назад. Но и орловцы с болгарами не для того отбили за день десять, если не больше, атак, чтобы в этой, последней, уступить врагу.
У турок еще какой-то выбор был: столько раз их уже вынуждали отступать — такая ли уж великая беда отступить и сейчас? У защитников батареи выбора не было: победа или смерть!..
Немногим участникам коварной атаки удалось вернуться в свое расположение.
Так закончился этот ужасный день — первый день героической обороны Шипки.
Каждый уходящий день принадлежит прошлому. Но далеко не каждый день принадлежит истории. 9 августа 1877 года, как потом будет написано в газетах и книгах, принадлежит истории. И славу этого исторического дня по праву разделили со своими русскими братьями болгарские ополченцы.
Столетов вместе с начальником штаба полковником Рынкевичем объезжал позиции. Надо было иметь точные сведения о потерях и найти замену выбывшим из строя офицерам; надо осмотреть повреждения в наших укреплениях от вражеской артиллерии и принять меры к их скорому исправлению. Ясно было, что этот первый день не будет последним, что турки завтра возобновят наступление.
Потери убитыми и ранеными у нас были значительными. И хотя урон турок был в десять раз большим, превышая общее число всех защитников перевала, это могло служить нам слабым утешением. Неприятель по-прежнему превосходил нас во много-много раз.
Понимал ли Сулейман-паша, этот, по отзыву всех его знавших, «суровый, непреклонный волею, начитанный и талантливый полководец», понимал ли он, что его концентрированные атаки при всей великой для нас опасности были и нашим же спасением. Достаточно было противнику рассредоточиться, удлинить линию фронта и вместо нескольких атак в одном месте провести пусть по одной, но в нескольких местах — не в том, так в другом пункте оборона могла быть прорвана… Скорее всего турок подвела слепая и заведомая уверенность в своем абсолютном превосходстве. Они еще до начала боя в своих диспозициях и в своих мыслях уже взяли Шипку и, когда атака не удавалась, считали это не более как досадным недоразумением и посылали новую, свежую цепь. Посылали с прежней неколебимой верой, что новый приступ будет обязательно победным. Ну а если и его отбили, следующий-то определенно окончится захватом неприятельских позиций, тем более что на них к тому времени и защитников уже не должно оставаться…
Вполне возможно, что именно так рассуждал неприятель, начиная и чем дальше, тем упорнее повторяя свои атаки. А уж потом немудрено и впасть в азарт. Обычный азарт игрока, когда он видит, что проигрывает, но фанатично удваивает ставки: сейчас, именно сейчас, поставив на эту «счастливую» карту, он обязательно отыграется…
Нынче туркам сорвать банк не удалось. С тем большей непреклонностью они будут пытаться делать это завтра.
Уже совсем стемнело, а ружейная пальба все еще не прекращалась. У наших измученных солдат не осталось ни сил, ни лишних патронов. Палили турки. Им было и чем стрелять, и кому заменить в окопах уставших стрелков: в армии Сулеймана, поди-ка, осталось немало солдат, которым нынче и выстрелить-то не пришлось, вот они сейчас душу и отводят. И не просто душу отводят — не дают после такого дня нашим ратникам ни сна, ни отдыха и ночью.
Впрочем, солдатам было не до отдыха. Надо было раненых товарищей в тыл отвести. Надо было поправить разбитые ложементы, иначе завтра их турки смогут взять, что называется, голыми руками.
А когда и спать повалились, несмотря на страшную усталость, сон был зыбким, неглубоким, не сон, а тяжелое забытье. Нечеловеческое нервное напряжение дня все еще не уходило, все еще давало себя знать. Многие кричали во сне: они все еще шли в штыки на неприятеля…
ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА
Плохо спалось в эту ночь и Николаю Григорьевичу Столетову.
Стоило закрыть глаза, как сразу перед мысленным взором одна за другой вставали кровавые картины нынешнего дня, а в ушах начинал звенеть играющий атаку рожок и следом истошное «алла!». В груди начинало теснить, дыхание непроизвольно прерывалось, словно бы переставало хватать воздуха. И лишь когда шум битвы покрывало «ура!» и неприятель откатывался от наших позиций, из груди вырывался вздох облегчения.
Потом рядом с нынешними стали возникать в памяти другие, чем-то на них похожие картины. Вот ложементы горы Николай, а вот редуты Севастополя… Там тоже гремели пушки и лилась кровь, там тоже ходили в штыки, но то ли оттого, что прошлое всегда мы видим как бы через смягчающую дымку времени, то ли потому, что было это в молодости, но воспоминания о Севастопольской обороне не били по натянутым нервам, а даже успокаивали. Дышалось и то словно бы ровнее и легче. И, отдавшись во власть воспоминаний, генерал Столетов сквозь даль времени увидел на редутах Севастополя молодого волонтера-фейерверкера[6] Столетова…
…Как он радовался, получив назначение в действующую армию! Будто не на войну, а в увлекательную прогулку отправлялся.
Дома все — и отец с матерью, и братья с сестрами — дружно отговаривали его. Отговаривали вообще не поступать в военную службу, а «устроить себя получше». Владимирский купец третьей гильдии Григорий Столетов мечтал, «чтобы сыновья прежде всего пошли в крупное учение». (Он даже дочерей выдал замуж за окончивших университетскую науку.) Старший из сыновей, Василий, по окончании Владимирской гимназии поступил в Московский университет. Этой проторенной дорожкой за ним зашагали и он, Николай, и младшие братья Александр и Дмитрий. Александр и впрямь пошел в крупное учение: стал известным физиком, преподавал в том же Московском университете, работал в Гейдельберге, Геттингене и Берлине. Николай же, а потом по его примеру и Дмитрий после университета, к большому огорчению родителей, пошли в военную службу.
Решение посвятить себя военному делу созрело и укрепилось в Николае еще до университета. Еще когда ему было всего четырнадцать лет, он объявил, что будет военным, и стал готовить себя к этому: вел спартанский образ жизни, закалялся, запоем читал военно-историческую литературу. Родители еще и еще раз пытались образумить сына, отговорить его от опрометчивого, как им казалось, юношеского решения, но ничто не помогло. Тихий, застенчивый от природы Николай проявил удивившую родителей твердость. «Позвольте мне самому распорядиться своей судьбой», — сказал он, и, хотя прозвучало это, наверное, излишне торжественно, родители поняли, что решение сына окончательное, и больше к этому разговору не возвращались. В двадцать лет мечта его сбылась. Ускорила дело начавшаяся война с Турцией.
Сразу же по окончании университета, летом 1854 года, Николай определился в 10-ю артиллерийскую бригаду фейерверкером.
Участие в постоянных боях под Севастополем скоро из вчерашнего студента сделало закаленного воина. А известное дело под Инкерманом дало ему солдатский Георгиевский крест и офицерский чин.
Как-то поздней осенью 1854 года, вскоре после Инкерманского сражения, произошла у Николая Столетова памятная на всю жизнь встреча.
Командир батареи, в которой служил Столетов, приказал ему развезти по мелким позициям бригады различные, в том числе и важные, приказы, а также денежное довольствие. Команда из нескольких нижних чинов, которую возглавил Столетов, вышла под вечер. Скоро наступила темнота, к ней прибавился густой туман. Немудрено, что группа сбилась с пути.
И час и два они двигались в кромешной мгле и полной тишине, потом впереди послышались голоса. Кто-то из команды, не расслышав слов, громко отозвался вопросом; голоса повторились, и на этот раз довольно ясно слышна была французская речь. Когда же из команды, то ли не расслышав, то ли не поняв, кто перед ними, опять задали вопрос, в ответ над головами зажужжали пули. Пришлось круто свернуть и изменить направление.
Прошло еще около часа, тишина опять была нарушена раздавшимися впереди голосами. На этот раз Столетов отозвался не сразу, а лишь после того, как убедился, что перед ними находились наши.
Оказалось, что они попали на укрепление 11-й артиллерийской бригады. Их провели к офицеру, тот был явно недоволен, что нарушили его отдых. Он сердито расспросил, куда и зачем направляется команда, а когда Столетов, ответив на его вопросы, сказал, что хочет продолжить розыск своих позиций и просит указать дорогу, офицер решительно возразил:
— Никто и днем-то дороги не найдет и не укажет, а куда вы по ночной темноте да по непроглядному, хоть глаз выколи, туману пойдете? Нет, нет, я вас не отпущу. Оставайтесь до утра, поспите у нас.
Команду чем бог послал накормили, Столетова офицер тоже угостил ужином. Но спать до самого утра так и не пришлось. Всю ночь они проговорили, сидя в палатке офицера за самоваром.
Хозяин оказался обаятельным, безраздельно приковывающим к себе внимание человеком. Столетову не просто интересно было слушать его — он испытывал от разговора еще и неизъяснимое удовольствие.
У них нашлось о чем поговорить. Каждый вспомнил свою alma mater — офицер за несколько лет перед Столетовым тоже учился в университете. Его воспоминания об университетской жизни живо напомнили вчерашнему студенту Столетову то счастливое время, которое теперь уже казалось далеким-далеким.
Разговор перекинулся на Севастополь, и офицер, припоминая разные случаи из боевой жизни, говорил о них так ярко, зримо, что Столетову словно бы по-новому, по-другому виделось то, что казалось до этого хорошо знакомым. Он и рассказывал и читал без умолку, а на прощание подарил Столетову небольшой, в несколько минут шутливо набросанный для него рассказ «о ночном пробуждении».
Столетов был рад получить этот маленький знак внимания в обмен на простой клочок бумаги, на котором он довольно казенно написал свое звание: старший фейерверкер такой-то.
Под рассказом стояла подпись: «Лев Николаевич Толстой, поручик артиллерии». Но самой подписи Столетов не придал большого значения: тогда его просто порадовало внимание к себе со стороны незнакомого и столь необычного офицера. Подпись эта тогда еще не значила того, что потом, с течением времени, будет значить…
Наступило утро, а Столетову все еще не хотелось уходить из гостеприимной палатки поручика артиллерии Толстого. Но служба есть служба. И, прощаясь с хозяином, он сказал ему:
— Пусть же наши воспоминания соединят накрепко две альмы — наши alma mater и здешняя Альма[7].
Толстой засмеялся, но через секунду, приняв серьезный вид, сказал:
— Да, все эти Альмы, Балаклавы, Инкерманы… Когда-го и как рассеются ужасные воспоминания о них…
Так они расстались.
Еще раз пришлось увидеться им уже в августе 1855 года, во время отступления на Черной речке.
— Здравствуйте, Николай Григорьевич! — издали кланяясь, поздоровался Толстой. — Да, такие дела, — прибавил он, кивая на отступавшие в беспорядке части. И, уже уносимый движением своей батареи, успел крикнуть: — А, вы уже офицер!
Больше во время войны встречаться им не приходилось.
В 1858 году уже в Петербурге, когда Столетов учился в Академии Генерального штаба, он случайно услышал о приезде Толстого и пошел к нему. Толстой опять принял его очень любезно. А когда Столетов показал ему тщательно завернутый в чистую бумагу набросанный карандашом рассказ, улыбаясь, воскликнул:
— Ах, вы бережете эту шалость мою!
Он пробежал рассказ, а затем достал из лежавшей у него на столе шкатулки небольшую, но довольно толстую книжку и, полистав ее, показал Столетову потемневший от времени, измятый, вклеенный между страницами небольшой листок с его подписью «старшего фейерверкера». Под фамилией красовалась сделанная рукой Толстого приписка синим карандашом: «Альма — alma mater»… Он молча указал на нее.
— Что это вы приписали? — смутился Столетов. — Вы меня, право, конфузите.
— Чем? — просто спросил Толстой.
— Уничтожьте эту приписку, — попросил Столетов. — Мне стыдно вспомнить мою неуместную, неудачную остроту…
— Неудачная или удачная острота, разве это важно? Важно, что это было, и забыть этого нельзя. Потому что это воспоминание о тех минутах молодости, когда при всех жизненных тяжестях нам легче жилось, легче думалось и потому легко острилось. Это дорого, и незачем это дорогое забывать…
На всю жизнь памятная встреча! Ничего особенного в ней вроде бы и нет. Но вот пронеслась она в голове, и словно бы легче стало, словно жизненная тяжесть немного убавилась. Трудно было в Севастополе, но выстояли. Надо выстоять и здесь. Выстоять во что бы то ни стало…
Столетов уже начал забываться сном, когда его разбудило какое-то не совсем понятное для ночного времени всеобщее оживление. Кто-то тихонько даже крикнул «ура!». Нет, не во сне. В голосе радость и ликование…
Было чему радоваться, было отчего ликовать: на подмогу защитникам Шипки пришел Брянский полк!
Зов о помощи с Шипки услышан. Действительно, в пору кричать «ура!». Но не стоит торопиться: накричимся досыта завтра.
От того, что мы кинули на весы сражения новый полк, они даже и не качнулись. Сулеймановская армия по ту сторону Шипки все так же безмерно тяжело давит на свою чашу весов, а наша чаша по-прежнему под самыми облаками…
И все же это была великая помощь. Столетов уже видел, как воодушевляла вконец обессилевших солдат даже та ничтожная подмога, какую ему удавалось выкраивать из скудного резерва. Полк не рота, теперь воспрянут духом все защитники Шипки. Теперь мы еще поборемся, непреклонный волею Сулейман-паша!
В эту ночь было лунное затмение. На наших позициях оно не вызвало большого интереса. Многие его даже не заметили. А кто и видел, не придал никакого значения, разве что порадовался: чем ночь темнее, тем авось будет спокойнее.
Не то было во вражеском лагере. Месяц для мусульман не просто ночное светило. Недаром же, если купола русских храмов венчает крест, шпили мечетей украшает полумесяц. И затмение луны для турок могло быть таким же дурным предзнаменованием, каким было солнечное затмение для дружины новгород-северского князя Игоря. Особенно зловещим оно могло показаться туркам после целого дня упорнейших, но так и оставшихся безрезультатными атак на наши позиции. И чтобы как-то ослабить это впечатление и поднять в солдатах воинский дух, муллы читали коран и заставляли клясться на нем. Войска давали клятву во что бы то ни стало взять Шипку.
Приведя в порядок вечером разбитые ложементы, болгарские ополченцы и орловцы тоже поклялись. Они дали обет, по древнему славянскому обычаю, лечь костьми. Теперь к этой клятве присоединились и брянцы: ляжем до последнего человека, а Шипку не отдадим!
БАЛКАНСКИЕ ФЕРМОПИЛЫ
Утро 10 августа началось мощной артиллерийской канонадой. Должно быть, после ночного затишья она казалась особенно оглушительной.
Нет, дело не только в этом! К немалому удивлению своему, защитники Шипки увидели, что пушек у неприятеля прибавилось. На отвесные Бердекские высоты туркам ночью удалось втащить две батареи. И вот теперь эти батареи вместе с прежними вели беспрерывный огонь по нашим позициям. Особенно мощной была одна из новых: она изрыгала огонь и железо из девяти стволов. Солдаты сразу же окрестили ее «девятиглазой», и прозвище это осталось за ней на все время Шипкинской обороны.
Похоже, фанатичный азарт сплошных атак у неприятеля прошел. Вместо того чтобы идти напролом и бить как тараном своими батальонами в неприступную позицию, турки повели дальнее обходное движение против обоих наших флангов. Они и батареи установили не по фронту, а с заходом во фланг. Дорога, по которой шло наше сообщение с тылом, с Габровом, и так была досягаема для неприятельского огня; теперь она окончательно перерезалась уже не дальним, а ближним артиллерийским огнем новых батарей. Огневые позиции турок теперь окружали нас подковой. Оставалось только сомкнуть концы этой подковы вокруг наших укреплений, в первую очередь вокруг горы Николай, и весь шипкинский отряд оказался бы отрезанным. Столетов это прекрасно понимал, но чем и как мог помешать туркам при такой большой протяженности линии обороны и такой малочисленности обороняющихся?!
Собственно, как теперь стало ясно, артиллерийская канонада с утра 10 августа и была началом сжимания подковы. Под непрерывным нем своих пушек турки принялись в обход левого фланга рыть траншеи. Взять нас неог только в огненное кольцо, еще и «закольцевать», окружить своими окопами! А чтобы наша артиллерия не мешала этим работам, они сосредоточили на ней огонь своих батарей.
Артиллерийская перестрелка продолжалась с пяти часов утра до семи вечера. Ответным огнем наши пушкари сшибли в пропасть три орудия с новых батарей, взорвали два снарядных вьюка. Но по недостатку боезапаса не имели возможности вести интенсивный огонь по траншейным работам. А турки, надо отдать им должное, большие мастера окапываться. Быстрота, с какой они делали земляные работы, не раз удивляла наших солдат. Вот и в этот день они рылись так успешно, что к вечеру подошли на шестьсот шагов к горе Николай.
Пушечная пальба длилась весь день. Но если бы одной пальбой турки и ограничились! У них хватало солдат и на то, чтобы устанавливать новые батареи, и на то, чтобы обходить нас траншеями. А чтобы мы не могли каким-либо образом усилить защиту своих флангов, чтобы не мешали им сжимать свою подкову, турки продолжали тревожить наши позиции с фронта — у них и на это доставало сил.
Правда, действия неприятеля уже не были столь настойчивы, как накануне. Главный смысл их, видимо, был не столько в попытке сбить нас с занимаемых позиций — сколько уже таких попыток оказались безрезультатными, можно и отчаяться! — сколько в том, чтобы держать всю линию обороны в предельном напряжении и отвлекать от защиты флангов.
В постоянном напряжении держали наших солдат турки и в перерывах между атаками. Они так пристрелялись, что выставленные из ложементов шапки моментально пробивались в нескольких местах. Одновременно с установкой новых батарей неприятель занял меткими стрелками и все соседние высоты, господствующие как над флангами, так и над ведущей в тыл Габровской дорогой. Сидит себе в полной безопасности такой стрелок или несколько стрелков где-нибудь на удобном уступе скалы, за большим камнем или в кроне дерева и не торопясь постреливают с утра до вечера, благо что и еды, и воды, и особенно патронов дадено на несколько дней. Только стреляй не ленись. Один притомился, другой начал. Стреляют на выбор, в первую очередь по офицерам, по артиллеристам. За водой какой-нибудь солдатик направился к источнику, тоже хорошая цель: пусть ждут его изнывающие от жажды товарищи! А новый охотник вызвался за водой, и его на мушку…
Получалось так, что чуть ли не каждый защитник Шипки, будь то офицер или солдат, как бы постоянно чувствовал себя на мушке. Даже в ложементах, в укрытиях нельзя было считать себя в безопасности. Брустверы укрывали ратника от фронтального огня. А тут турецкий снайпер стрелял сверху: ему и видно хорошо, и спрятаться от него некуда. А куда нельзя попасть прицельно, туда турки приноровились стрелять навесно. Конечно, далеко не каждая пуля попадает в цель, но на перевязочном пункте, находящемся между позициями и большим госпиталем, было несколько человек убито и много ранено именно пулями, падавшими сверху. Такими шальными пулями был убит генерал Дерожинский и ранен в ногу генерал Драгомиров.
Чтобы получить представление о том, как густо был насыщен смертоносным свинцом весь воздух Шипки, достаточно указать на такой пример. В одной стрелковой роте выбыло из строя 30 человек во время передышки, когда люди находились под прикрытием вала!
Трудно сказать, одна пуля из десяти или одна из тридцати попадает в цель при такой стрельбе. Но если есть из чего и есть чем стрелять, почему бы не делать этого?! Когда, случалось, наши солдаты выбивали неприятеля из его укреплений, их всегда поражало обилие боезапаса. У каждого стрелка ящик патронов, хоть целый день стреляй, хватит и еще останется…
Кажется, Сулейман-паша начинал оправдывать свою репутацию умного, талантливого полководца. Не давать защитникам перевала ни минуты покоя, держать их в постоянном напряжении, изматывать физически и морально — что можно было придумать умнее такой тактики при сложившихся обстоятельствах?! Такая тактика сулила едва ли не больший эффект, чем одни пусть самые массовые и ожесточенные атаки. Она давала возможность медленно, но уверенно сжимать концы подковы, а это при теперешней ситуации было главным.
И надо признать, что туркам если не полностью, то почти удалось добиться своего. Исход тонко задуманного дела опять решил лишь не запланированный неприятелем беспредельный героизм и находчивость русского солдата.
…К вечеру ружейная и артиллерийская канонада со стороны турок стала стихать. Рытье траншеи и то, кажется, приостановилось. Неприятель словно бы решил и сам отдохнуть и дал наконец долгожданную передышку защитникам перевала. Правда, пули продолжали свистеть, но уже начинало смеркаться, и, значит, прицельной стрельбе тоже приходил конец.
Защитники Шипки ожили. Кто помогал санитарам отвести или унести на носилках раненых, кто поправлял разбитые артиллерией укрепления, кто отправился за водой. Даже шутки и смех послышались среди повеселевших солдат, когда они утолили мучившую их весь день жажду и съели по сухарю. Теперь бы только еще хоть немного поспать! Начиная с тревожной ночи с 8 на 9 августа это, считай, уже третьи сутки солдатам было не до сна.
Неприятельский стан озарился бесчисленными кострами. Турки готовили ужин. У них все шло обычным порядком: работа, еда, отдых.
А нашим солдатам и болгарским братушкам и на ужин, кроме сухаря, ничего не нашлось, и до отдыха было еще далеко.
Раненых унесли. Теперь надо было захоронить убитых.
После того как были вырыты братские могилы, к ним потянулись длинными вереницами носилки с подобранными на поле боя, уже свое отвоевавшими орловцами, брянцами и ополченцами. Священники творили краткую заупокойную молитву, окружавшие могилу офицеры и солдаты, подняв горсть шипкинской земли, посылали ее на уснувших вечным сном своих боевых товарищей, потом могилу засыпали.
Это были воистину братские могилы: русские солдаты лежали в них вместе со своими болгарскими братьями.
Генерал Столетов придавал большое значение этому последнему акту каждого боя. При первой же возможности павшие должны убираться с поля боя! Завтра солдат должен видеть перед собой врага, а не труп своего товарища. И у солдата должна быть уверенность, что, если и ему суждено разделить участь павшего товарища, он будет похоронен по-человечески. Для мертвых совсем не важно, где и как их похоронят, но это очень важно для живых!
А еще, стоя над братской могилой, Николай Григорьевич всегда вспоминал свой тихий Владимир, свою семью и думал, что у каждого из тех, кого они зарывают, тоже ведь где-то есть отец с матерью, жена и дети, братья и сестры. Как-то они перенесут известие о безвозвратной потере?..
Пока одни искали и хоронили убитых, другие углубляли траншеи, наращивали брустверы. Отошли солдаты на отдых только далеко за полночь.
А 11 августа утром чем свет разбудил защитников Шипки не обычный будильник, не гром пушек, а отчаянный крик:
— Взяли, взяли!.. Обошли!..
Выбежавшие на крик из ложементов солдаты и офицеры увидели, что главная опорная наша позиция на Николае отрезана неприятелем. Отрезана вместе со штабом, так что никаких указаний и приказаний и ждать неоткуда…
Так вот почему накануне турки из пушек перестали стрелять рано, и ночью не беспокоили! Они тем самым усыпили нашу бдительность, а под покровом ночи по откопанной траншее подползли вплотную к нашим позициям и заняли седловину, по которой идет шоссе. Они очутились между нашим резервом и перевязочным пунктом с одной стороны, и орловским полком с болгарскими дружинами — с другой. Другими словами, они-таки замкнули свою подкову! То, что не удалось им сделать днем, они сделали ночью. И замкнули подкову не где-нибудь, а вблизи постоянно досаждавшей им Круглой батареи.
Трудно сказать, что могло бы произойти дальше, если бы рота Брянского полка, не ожидая команды — каждая минута дорога! — не бросилась на турок, не успевших еще закрепиться у шоссе. В то же самое время артиллерист Поликарпов бесстрашно под огнем неприятеля повернул пушки в сторону шоссе и ударил по туркам. Штыки брянцев довершили дело: турки были опрокинуты и отступили.
Только потом стало ясно, что неприятельская затея была достаточно серьезной: под Круглой батареей турки сосредоточили за ночь девять таборов своего отборного войска. Стоило передовому отряду закрепиться на шоссе, эти таборы в любое время могли бы прийти к нему на подмогу, и тогда всякая связь с тылом у нас была бы отрезана.
Так начался третий день героической — тут слово на месте! — обороны Шипки.
Не менее, если не более тяжелым было и его продолжение.
Минувшей ночью туркам удалось поставить еще одну батарею — на этот раз на высотах против нашего правого фланга. Таким образом, огненная подкова вокруг наших позиций стала еще теснее.
На правый фланг неприятель направил свои первые атаки. Наступление четырех турецких колонн сопровождалось шквальным ружейным и артиллерийским огнем. Гул непрерывных орудийных выстрелов сливался в один раскат бесконечного грома. Это был поистине адский огонь, от которого, казалось, дрожат не только окрестные горы, но все Балканы.
Начальствующий над правым флангом командир Брянского полка полковник Липинский (он сменил на этом посту Депрерадовича) вынужден был сразу же ввести в бой две резервные роты — так силен был натиск неприятеля.
Чтобы не дать нам опомниться, а также лишить возможности маневрировать резервами, турки вскоре же, если не одновременно с наступлением на правый фланг, начали атаку и центра нашей позиции — горы Николай. За первой отбитой атакой тут же последовала вторая, еще более упорная… Это было похоже на повторение бешеных приступов 9 августа, но только в еще больших размерах. Сулейман-паша, должно быть, знал, что на помощь русским из окрестностей Тырнова уже выступило еще два полка — надо было во что бы то ни стало покончить с Шипкой до прихода подкрепления!
Наши цепи били по наступающим залпами и многих укладывали на месте — турки шли вперед. Артиллерийская картечь вырывала из рядов наступающих десятки, если не сотни — турки шли. У них будто бы не было иного пути, как вперед и только вперед. Говорили, что турки в этот день были пьяными, и это очень похоже на правду: в их слепом упорстве было что-то противоестественное. Одурманенные гашишем, они будто не видели перед собой ничего. И лишь когда натыкались на русские штыки, понимали наконец, что дальше дороги вперед нет…
В восьмом часу утра полковник Липинский получил с самого края правого фланга донесение: с помощью посланных им двух орловских рот неприятельскую атаку удалось отбить, противник отступил, но вскоре же показались новые колонны турок, которые, пропустив в интервалы отступившие толпы, повели новое, еще более решительное наступление. Отправив из резерва еще одну роту, Липинский послал к генералу Столетову ординарца с просьбой приехать лично на правый фланг, чтобы самому убедиться, насколько опасно наступление, которое ведет здесь противник.
Столетов приехал, осмотрел позицию и согласился с Липинским:
— Да, опасно… — повторил: — Очень опасно!
Но что он еще мог добавить к сказанному?! Здесь был один конец подковы, который неприятель стремится поскорее соединить с другим концом. Но и на том конце, на левом фланге у князя Вяземского, если турецкая атака еще не началась, то скоро начнется: туда точно так же двигаются неприятельские колонны и развертываются в цепи. И хотя атаки на центр нашей позиции — гору Николай продолжаются, главным, решающим наступлением неприятель, по всему видно, считает вот этот охват флангов, окружение наших позиций.
Нет, ничего он не может дать командиру правого фланга Липинскому. Поскольку загнутые вовнутрь фланги становятся уже как бы тылом наших позиций, придется взять на себя непосредственно его оборону. Здесь решается участь Шипки! Удастся противнику сжать, замкнуть подкову, защитники Шипки хотя и смогут еще какое-то время обороняться, но будут обречены.
На том и порешили. Вместо ожидаемой помощи Столетов взял у Липинского две полуроты с четырьмя орудиями и повел их на курган, лежащий в тылу наших позиций, напомнив на прощание, что до подхода Радецкого надо удержать оборону, чего бы это ни стоило.
Между тем началось наступление неприятеля и на левом фланге.
Теперь по всей линии нашей защиты шел бой с нарастающим час от часу ожесточением. Шквальные атаки, одна другой яростнее, обрушивались с вызывающим удивление постоянством. Все пространство впереди ложементов усеяно телами в красных фесках («Словно мак в огороде алеется», — замечают солдаты), а новые и новые цепи, новые колонны красных фесок идут на очередной приступ.
— Откуда только сила такая берется? — удивляются наши ратники. — Чем больше бьем, тем их больше лезет на нас…
В батареях все меньше остается снарядов. Стрелкам тоже приходится экономить патроны. А это значит, тем больший урон несут защитники от каждой новой атаки. Сильный артиллерийский и ружейный огонь еще на подходе изреживал, ослаблял противника, и до штыков доходила иногда только половина, а то и того меньше. Теперь главным оружием становился штык. Но если стрельба из ружья требует одной лишь меткости, работа штыком требует силы. А откуда взяться силе в человеке, даже если он самый выносливый в мире русский солдат, когда этот человек уже трое суток без пищи и сна?! А вот сейчас, в полдневную жару, еще и без воды. Спасибо габровцам, которые, рискуя собственной жизнью, нет-нет да доставят на позиции бочонок-другой родниковой водицы. Кое-кого из них уже ранило, одного убило, но остальные бесстрашно продолжают исполнять добровольно взятую на себя обязанность.
На передовой перевязочный пункт шли и шли, группами и в одиночку, раненые. И ужо по одному громадному числу их, скопившихся в ожидании врачебной помощи, можно было судить о тех огромных потерях, которые мы несли. Счет шел не на десятки — на сотни. Врачи не успевали накладывать бинты, многие часами оставались без помощи. Но редкий стон вырывался из груди какого-нибудь уж совсем изнемогшего или умирающего от ран страдальца. Большинство же, как бы сознавая, что всякое вслух сказанное скорбное слово или стенание может влиять на состояние духа уцелевших еще товарищей, переносили ужасные муки молча. Легкораненые после перевязки просили дозволить им возвратиться на свои места в ложементы, а многие делали это даже и самовольно, без всяких разрешений.
Особенно ожесточенные атаки в этот день противник вел на правый фланг. Должно быть, турки решили именно здесь, сломив сопротивление, замкнуть свою страшную подкову.
Около двух часов пополудни к полковнику Липинскому явился запыхавшийся гонец с крайней позиции правого фланга. Донесение было самое неутешительное: у нас, что ни час, прибывает число раненых, а у противника прибывают и прибывают новые силы, так что удерживать позицию уже нет никакой возможности, если не будут сейчас же даны достаточные подкрепления.
«Достаточные…»! У Липинского оставался в наличии лишь полувзвод со знаменами…
Полковник послал ординарца на гору Николай к графу Толстому. Послал без всякой надежды на помощь, просто хотя бы узнать, как там у них, на главной нашей позиции.
Вскоре с Николая пришел сам Толстой и привел с собой роту брянцев — все, что у него оставалось. Такое подкрепление дало возможность заполнить опустевшие ложементы и сохранить хотя бы какую-то сомкнутость общей оборонительной линии.
Граф Толстой пришел к Липинскому как к старшему, чтобы получить распоряжения, поскольку добраться до тыльной позиции, где находился генерал Столетов, уже не было никакой возможности. По запыленному и закопченному порохом лицу полковника Толстого струился пот, его мундир в нескольких местах был порван и висел лоскутьями. Не сразу можно было узнать в этом обросшем, изнуренном бессонницей и нечеловеческим напряжением офицере недавнего блестящего флигель-адъютанта.
— Распоряжения? — переспросил полковник Липинский. Помолчал и договорил: — Распоряжений никаких не будет. Просто давайте порешим: не отступать ни в коем случае, ни под каким видом, а умирать всем до последнего человека на месте.
Толстой в знак согласия протянул руку:
— Ни в коем случае. Ни под каким видом!
Офицеры скрепили свой обет крепкими рукопожатиями, по-братски обняли друг друга.
Наступала едва ли не самая критическая за все дни обороны Шипки минута.
Вслед за Брянским полком командир корпуса генерал-лейтенант Радецкий обещал привести на Шипку новые части. И солдатам было сказано, что подкрепления уже в пути, и если не поспеют к утру, то к середине дня будут обязательно. Все видели также, что генерал Столетов, чтобы поторопить идущую на Шипку подмогу, послал навстречу Радецкому одного за другим нескольких ординарцев.
Но вот солнце уже начало клониться к закату, а сколько ни всматривались солдаты в синеву ущелий, по которым змеилась дорога из Габрова, на ней никто не показывался.
Торопя подмогу, Столетов отдавал себе ясный отчет в том, что судьбу Шипки решали уже не дни, а часы.
Теперь счет пошел, пожалуй, на минуты…
Наших оставалось так мало, что солдаты для защиты позиций должны были перебегать с места на место. На линии обороны оставались уже не роты, а ничтожные горстки людей, дравшихся 12 часов без перерыва, без малейшего отдыха против несравненно сильнейшего числом неприятеля.
На некоторых участках почти все офицеры были переранены и перебиты. Достаточно сказать, что во многих ротах — а точнее, тех небольших группах солдат, которые утром назывались ротами, — места командиров, заменяясь последовательно младшими офицерами, фельдфебелями и унтер-офицерами, перешли наконец к ефрейторам и даже, за убылью последних, к простым рядовым солдатам.
Раненые не уходили, потому что без них некому было защищать позиции. Наскоро здесь же, на месте, перевязанные санитарами, они снова брали в руки оружие.
— Надо постараться, — говорили солдаты. — Время такое… Все одно умирать.
Все имеющиеся резервы давно израсходованы. Приходилось маневрировать лишь оставшимися в наличии жалкими силами. Липинский дал приказ «стараться держать роты, взводы и даже звенья попарно, дабы иметь возможность попеременно осаживать неприятельскую цепь, несмотря на ее многочисленность, и во что бы то ни стало удерживаться на своей позиции». А болгарские дружинники, чтобы как-то парализовать во время атаки превосходящие силы неприятеля, бросались в толпу врагов поодиночке и, схватясь за дуло своего ружья, работали прикладом: раззудись, плечо, размахнись, рука!..
Если у солдат и ополченцев кончались патроны или портились ружья, они все равно с позиций не уходили. И когда один офицер, подойдя к кучке таких солдат, сказал, что, мол, какой смысл вам оставаться, если стрелять не можете, солдаты ему дружно ответили:
— Так точно, ваше благородие; для того мы в особую команду собираемся, чтобы, значит, работать штыками.
С каждым новым приступом неприятеля держаться становилось труднее и труднее. Силы вконец иссякли. Но об отступлении, о сдаче позиций никто не думал. Только раз с особенно тяжелой правофланговой позиции тронулась группа раненых, а за ней потянулись было и здоровые, но оставшиеся без патронов солдаты.
Полковник Липинский кинулся наперерез бредущей толпе:
— Куда вы, братцы? Куда?.. Назад! Назад в ложементы, на позицию! Кто вам сказал отступать? Отступления нет, и не будет, и быть не может! Сейчас придут подкрепления, они уже близко… Назад!
Смешанная толпа орловцев, брянцев и болгарских дружинников тотчас повернула назад и бросилась к оставленным ложементам. К ним примкнули и легкораненые. Накатившаяся волна турок, предполагавших найти покинутые укрепления, неожиданно натолкнулась на такое упорное сопротивление, что вынуждена была отхлынуть назад. Солдаты за недостатком патронов швыряли в неприятеля сломанными ружьями, камнями, пустыми подсумками — всем, что только ни попадало под руку…
Но всему есть свой предел, свои границы. Небезгранична и человеческая выносливость. Только что отбившие очередную вражескую атаку солдаты и ополченцы понимали, что отбить еще один такой же приступ они уже вряд ли смогут. Так было и на других позициях нашей оборонительной линии. Пусть урон в живой силе у турок был в несколько раз больше нашего. Но когда один против десяти или даже двадцати, когда на сотню идет тысяча — для сотни даже и небольшие потери чувствительны. А у нас от сотен оставались лишь десятки.
Время шло, а подмоги все еще нет. Солдаты жадно всматривались в извивающуюся ленту Габровской дороги, но на ней, кроме раненых, никого не было видно. Разве еще по сторонам дороги на некотором удалении то тут, то там показывались конные отряды башибузуков — это уверенный в своей победе Сулейман-паша заблаговременно выслал их в наш тыл для преследования при нашем отступлении. Сулейману-паше мало было сбить нас с перевала, в отместку за упорное сопротивление он решил полностью уничтожить Шипкинский отряд…
Пятый час на исходе. Можно было уже разувериться в том, что придет подкрепление. Можно впасть и в отчаяние.
— Видно, силы нашей не хватает, — говорили меж собой солдаты. — Оставили нас одних…
Все, что от них требовалось и что можно было сделать, они уже сделали. Они исполнили свое тяжкое дело до конца. Беспримерные доблесть, отвага, героизм, самопожертвование — все, все было брошено на чашу весов в этом кровопролитном сражении. И если русская и болгарская чаша все же не перетянула турецкую — в этом никакой их вины не было.
Солдаты плакали. Нет, их не страшила собственная смерть. Их страшила потеря Шипки. Сердца защитников словно бы приросли к этим голым скалам и серым откосам — ведь они были так обильно политы их кровью и кровью товарищей!
«Алла! Алла!» — опять — уже в который раз! — зазвенело по всей линии обороны. Запели рожки, зарокотали барабаны.
Турки пошли в новое — не последнее ли для нас? — наступление. Они идут твердо, смело. Их не смущает, что приходится постоянно перешагивать через трупы своих убитых соратников. А на крутых склонах они и вовсе шагают по телам своих соотечественников, как по ступенькам лестницы. Вперед, вперед! Во что бы то ни стало вперед! «Алла! Алла!..»
В первые дни турки боялись нашего «ура!» — теперь они на него и внимания не обращают. Они же отлично видят, как мало нас осталось. Вперед!
Не хватает сил, чтобы остановить плотные ряды противника. Кое-где торжествующие турки уже врываются в наши ложементы. И хотя солдаты и ополченцы не отдают своих позиций, хотя везде идет отчаянная борьба не на жизнь, а на смерть, враг начинает одолевать. Все. Конец…
Но что это за странный гул покатился по ущельям? И что это засверкало под лучами заходящего солнца на извивах Габровской дороги? Неужели идет долгожданная подмога?
А гул все растет, все приближается, и в нем хоть и смутно, но начинает прослушиваться что-то знакомое, что-то близкое и родное — в эти минуты тысячекрат близкое и дорогое — в нем все явственнее слышится наше русское «ура!». А вот оно уже подхвачено ранеными на перевязочном пункте. И уже видно, что там, чуть дальше полевого лазарета, сверкают на солнце стальные штыки…
Ратный боевой клич перекинулся на гору Николай, повторился на одном, на другом фланге, и вот из тысячи грудей почти отчаявшихся, погибающих, но несдающихся защитников перевала несется такое могучее и такое вдохновенное «ура!», что оно заглушает не только торжествующее «алла!», но и весь гул и гром сражения.
Рано, рано враг торжествовал победу!
Еще когда дойдут до позиций утомленные сорокаверстным переходом солдаты. Да и подойдут пока всего лишь передовые две роты Житомирского полка (их Радецкий догадался посадить на стоявших в тылу, за лазаретом, лошадей, седоки которых, донцы, дрались в ложементах). Никакой реальной помощи от них — помощи огнем и штыком пока еще нет. Но защитники теперь уже твердо знали, что они не забыты, что Россия помнила о них, герои твердо верили, что кровь, пролитая здесь, на этих скалах, пролита не зря — Шипка не достанется ликующему врагу. И воспрянувшие духом солдаты и ополченцы с неизвестно откуда взявшейся молодецкой удалью — воодушевление делает чудеса! — кинулись на уже предвкушавшего близкую победу врага.
Никак не ожидавшие такого отпора турки были ошеломлены. Они поняли, что значит этот воинственный, прокатившийся по рядам русских и болгар боевой клич. Он был не похож на тот, который они слышали час или два назад и которого, как им казалось, уже перестали бояться…
Теперь не только мы — враг и то понимал, что Шипка осталась в наших руках. Если она не была взята до подмоги — можно ли ее взять теперь?!
Вслед за первыми двумя ротами Радецкий привел на Шипку Житомирский и Подольский полки и как старший по званию вступил в командование обороной перевала.
Вечером, уже в сумерках, обходя позицию, Радецкий оказался на участке обороны, который днем выдержал более десяти атак противника. Рядом с бруствером лежали вповалку семнадцать солдат, а около них одиноко стоял офицер с окровавленным лицом и ногою. Завидев генерала, офицер взял под козырек.
— Что это они у вас? Спят? — спросил Радецкий, указывая на солдат.
— Да, ваше превосходительство, спят, — ответил офицер. — Спят… и не проснутся: они все убиты.
— А вы что же здесь делаете?
— Дожидаю своей очереди, — все так же тихо и спокойно отвечал офицер. — Это была моя команда…
Через два дня в газетах будет напечатано:
…Отдавая должное железной энергии Сулеймана-паши и храбрости его войска, все иностранные офицеры (а такие были при штабах воюющих армий) и корреспонденты, побывавшие на Шипке, изумляются стойкости русских солдат.
…Защитникам Шипки суждено было держать в своих руках участь всей армии и судьбы России, обнажившей меч в защиту братьев славян. Стальными оказались эти руки, стальною же оказалась и закаленная твердость молодцев-братушек, изумивших и весь мир, и самого не менее твердого врага.
…Болгарский легион доказал, что болгары могут драться как львы. Ополчение создало себе в эти дни навсегда громкую славу.
…На Шипке героев не было, потому что все были героями.
А один корреспондент назовет Шипку Фермопилами новейшей военной истории, которая — кто бы ни писал ее, друзья или недруги, — обязана воздать должное героизму защитников этого прохода через Балканы.
По условиям местности Шипкинский перевал вовсе непохож на Фермопильское ущелье, которое две с половиной тысячи лет назад при нашествии персов на Элладу защищали триста спартанцев во главе со своим царем Леонидом. Просто когда мы пытаемся объяснить или описать из ряда вон выдающееся событие, то ищем в истории какие-то широко известные аналогии ему. И тут неважно, что Фермопилы — ущелье, а Шипка — гора, важно, что и то и другое является символом стойкости и отваги, символом неколебимого мужества.
Но прошло сто лет, и Шипке стали не нужны какие-то аналогии и символы. Наряду с Фермопилами она сама стала символом. Символом беспримерной воинской доблести и готовности к самопожертвованию во имя высокой идеи человеческого братства.
ПОСЛЕДНЯЯ ТОЧКА
…И снова Шипка.
Только на этот раз Николай Григорьевич Столетов уже не «сидел» на Шипке, а поднимался туда, и поднимался не с севера, не из Габрова, а с юга, из Забалканья.
Южный склон перевала в отличие от северного крутой, коням идти трудно, они постоянно оскользаются, и приходится время от времени останавливаться, чтобы дать им передышку. И в такие минуты коротких передышек Николаю Григорьевичу начинает казаться, что все, что было у него в жизни до этого, было как бы приуготовлением к Шипке, что всю свою жизнь он шел к этому своему горному, уносящемуся в самое поднебесье перевалу…
Правильно говорится: неисповедимы наши пути!
Мог ли он думать, мог ли предполагать в годы учения во Владимирской гимназии, что такой в общем-то пустяк, как знакомство с татарским языком, потом неожиданным образом скажется на его военной карьере?!
Сразу же по окончании Севастопольской кампании прапорщик Столетов был направлен в Академию Генерального штаба. Пройдя полный курс академии, Николай Григорьевич уже в чине штабс-капитана получил назначение в главный штаб Кавказской армии.
К месту своей новой службы, в Тифлис, он прибыл летом 1860 года. А вскоре с ним произошел незначительный, в сущности, эпизод, который, однако, имел очень и очень далекие последствия.
Начальниц штаба потребовал представить ему всех вновь прибывших на службу лиц. Подойдя в назначенный день к штабной квартире и увидав, что представляться еще рано, Столетов стал прохаживаться возле дома. Три местных жителя, как оказалось, черкесы, подошли к нему с расспросами. Он с ними поговорил минут двадцать, а затем вошел в дом, куда уже стали собираться остальные.
Среди представлявшихся генералов и офицеров Столетов оказался самым младшим, поэтому в кабинет начальника штаба он был приглашен последним.
— Это вы часа полтора тому назад перед окнами моей квартиры разговаривали с черкесами? — спросил генерал.
Столетов ответил утвердительно.
— О чем они могли с вами говорить так живо? Они же русского языка вовсе не знают.
— Я говорил с ними по-турецки, их язык очень похож…
— А откуда вы знаете по-турецки?
— Еще в годы учения в гимназии я брал уроки татарского языка вместе с детьми знакомых купцов-татар; впоследствии же интересовался языком и изучал его сам.
— Теперь тоже будете изучать? — полюбопытствовал генерал.
Столетов ответил, что имеет такое намерение.
Интерес, который вызвало у генерала знание турецкого языка штабс-капитаном Столетовым, вполне понятен. Трудно удивить было знанием французского. А тут турецкий! Да и не где-нибудь, а здесь, рядом с турецкой границей…
Беседа продолжалась более часа. Генерал расспрашивал Столетова о его прошлом, вспоминал Севастопольскую кампанию. А на прощание сказал, что рад был познакомиться и что знания Столетова очень пригодятся в дальнейшем и ему самому и его начальству, особенно же здесь, на Кавказе.
Слова генерала ободрили молодого офицера. У него даже мелькнула мысль о возможности какого-либо содействия успешному ходу его службы со стороны начальника штаба. Однако уже в следующую минуту мысль эта показалась суетной, а потом и совсем забылась. Да и сам генерал вскоре был вызван в Петербург, где получил назначение на пост товарища военного министра. «Генерал в разговоре сказал большую любезность да, вероятно, тут же и забыл о ней; тем более следует забыть о ней и мне» — так рассудил Столетов.
Однако же генерал оказался памятливым. Был это не кто иной, как Дмитрий Алексеевич Милютин, ставший вскоре военным министром. Заняв этот высокий пост, он вспомнил о молодом офицере, знания которого показались ему еще при первой встрече стоившими внимания.
Служба на Кавказе в должности начальника Закатальского округа шла у Столетова успешно. За короткое время он успел заиметь репутацию хорошего администратора и распорядительного военного начальника, получить чин подполковника и ордена Станислава и Владимира.
И все же Милютин посчитал, что наибольшую пользу Столетов может принести своей службой в другом крае — Туркестанском, начавшем к тому времени свое присоединение к России.
Летом 1865 года Столетов переводится в Ташкент.
И здесь он берется за порученное дело со всей присущей ему энергией и обстоятельностью. Он не только близко знакомится с положением дел в Прикаспийском крае и Средней Азии, но и, пользуясь знанием восточных языков, трижды посещает пограничные с Россией Персию и Афганистан.
В 1868 году с особой резкостью обозначилось усиление могущества афганского эмира, заключившего союз с Англией, — с одной стороны, и явно враждебные по отношению к России действия хивинского хана — с другой. В связи с этим было принято решение вместе с увеличением войск Оренбургского военного округа немедленно занять нашими войсками также и юго-восточный берег Каспийского моря с центром в Красноводске. И начальником экспедиционного корпуса был назначен генерального штаба полковник Столетов.
В самый разгар деятельности Красноводского отряда Столетов в результате затеянных против него интриг был отчислен от этой должности и какое-то время командовал пехотным Уральским полком. На окружном смотре в присутствии царя и военного министра полк отличился в стрельбе; последовала новая встреча Столетова с Милютиным, а вскоре и новое назначение на прежнее место службы — на этот раз начальником «особой ученой экспедиции для исследования старого русла реки Амударьи и для производства других изысканий, намеченных военным министерством в согласии с императорским Географическим обществом».
С ранней весны до поздней осени 1874 года пробыла экспедиция на Амударье. Затем несколько месяцев ушло на составление обстоятельного отчета о ее работах. Как военное министерство, так и Географическое общество признали, что «просвещенное участие Николая Григорьевича Столетова в этом деле оживило работы, причем дало им много таких сторон успеха, каких трудно было ожидать и ни в каком случае не получилось бы без его участия и без его указаний».
Столетов был принят во дворце и пожалован чином генерал-майора. Немногие дослуживались до генеральского звания в столь молодые годы: Столетову только-только исполнилось сорок.
Не забыл военный министр о своем старом знакомце и когда начал формировать штаб действующей армии для войны с Турцией. Николаю Григорьевичу Столетову было поручено собрать воедино и обучить болгарское ополчение.
Переправа через Дунай; поход за Балканы с Гурко; оборона Шипки… И вот теперь уже второй переход через Балканы вместе с болгарскими братушками в составе отряда Скобелева.
Первый раз Шипкинский перевал был обойден слева через Хаин-богаз; на этот раз справа, через Иметлинский проход. Словно бы вся война для Столетова и его дружинников сосредоточилась в одной точке с коротким и одинаково понятным для болгар и для русских названием — Шипка. (В отличие от Долины роз на суровом перевале выживают лишь дикие розы шиповника; его на здешних склонах много — отсюда и Шипка.)
Вся война или на Шипке, или вокруг Шипки…
На этот раз переход через Балканы в рождественские морозы был несравненно тяжелей первого, июльского. Приходилось пробиваться по колено, а где и по пояс в снегу. И по ночам нельзя было разжечь костров, чтобы раньше времени не обнаружить себя. С господствовавшей над Шипкинским перевалом Лысой горы, занятой неприятелем, просматривалась добрая половина дороги, по которой совершался обход Шипки из Топлиша через Марковы Столбы к деревне Иметли, что в Забалканье.
Перед выходом из Топлиша в ротах и дружинах был зачитан приказ начальника отряда. Приказ суровый, как и предстоящая дорога.
«Нам предстоит трудный подвиг, достойный постоянной и испытанной славы русских знамен. Сегодня начнем переходить через Балканы с артиллерией, без дорог, пробивая себе путь в виду неприятеля через глубокие снеговые сугробы. Нас ожидает в горах турецкая армия; она дерзает преградить нам путь. Не забывайте, братцы, что нам вверена честь отечества, что на нас смотрит вся Россия. От нас она ждет победы. Да не смущает вас ни многочисленность, ни стойкость, ни злоба врагов. Наше дело святое и правое!
Болгарские дружинники! Вам известно, зачем русские войска посланы в Болгарию! Вы с первых дней формирования показали себя достойными участия русского народа. В битвах в июле и августе вы заслужили любовь и доверие ваших ратных товарищей, наших солдат — пусть будет так же и в предстоящих боях. Вы сражаетесь за освобождение вашего отечества, за неприкосновенность родного очага, за честь ваших матерей, сестер и жен, за все, что на Земле есть ценного и святого. Ваше отечество велит вам быть героями!..»
Чтение приказа дружинники встретили восторженным «ура!». Они уже знали, что пойдут в авангарде отряда, а это значит, что им будет особенно трудно, но уж если сама родина велит им быть героями, они постараются выполнить этот святой наказ.
И потом, когда скобелевский отряд перейдет Балканы с правой стороны Шипки, а отряд Святополка-Мирского — с левой и недалеко от подножия перевала под деревней Шейново закипит последний бой, даже бывалые, видавшие всякие виды солдаты и офицеры будут поражены той беззаветной неустрашимостью, с какой рвались вперед болгары, и тем, за многие годы накопившимся, ожесточением, с каким они бились врукопашную. Раненые устремлялись не на перевязочные пункты, а собирали последние силы и старались добежать до редута, чтобы приколоть перед смертью еще одного врага… Дружинники словно бы понимали, чувствовали, что это последний бой, а значит, и последняя возможность свести многовековые счеты со своими угнетателями…
Бой кончился нашей полной победой. Неприятель вынужден был выкинуть белый флаг. Командующий турецкой армией Вессель-паша прислал Скобелеву с полковником-парламентером свою саблю в знак того, что сдается на милость победителя. Всего под Шейновом и соседней деревней Шипкой сдались два паши, четыре полковника, 280 офицеров и 12 тысяч солдат.
Но оставались еще Шипкинские высоты, на которых сидел Хаджи-Осман-паша с войском, насчитывавшим больше двадцати таборов.
— Как вы дадите знать на высоты, чтобы там сдавались? — спросил Скобелев у Весселя-паши.
— Пошлите кого-нибудь из ваших, а я пошлю своего начальника штаба и двух высших офицеров на Лысую гору с приказанием положить оружие, — ответил тот и тут же написал свое приказание.
Кому из наших было идти на Шипку? Конечно же, генералу Столетову. И не только потому, что он знал по-турецки. Со Столетова шипкинская эпопея начиналась — не самое ли правильное ему и ставить последнюю точку?!
И вот он вместе с турецкими офицерами поднимается по знакомой дороге на очень и очень знакомый перевал. И чем выше подъем, тем дальше видно окрест. А вместе с тем с этой большой высоты Столетову словно бы резче и яснее видится и вся его прежняя год за годом жизнь. Жизнь, которая была как бы приуготовлением к тому, что происходило здесь в августовские дни и что происходит теперь…
Где-то на половине пути встретили полтора табора турок у телеграфной станции. Когда этому отряду было передано приказание о сдаче, солдаты охотно положили оружие и врассыпную отправились вниз.
Но впереди еще шла стрельба.
В то время как наши войска внизу торжествовали победу, защитники перевала еще ничего не знали об этом. Они только слышали, что стих тяжелый многочасовой бой, а чем, чьей победой он кончился, им было неизвестно.
И вот теперь чем дальше, тем ехать было опаснее. Нечего было опасаться турецких пуль — они летели в противоположную сторону. Довольно близко и довольно густо ложились наши, русские, пули — вот что было страшно. Погибнуть от своих же — ничего более нелепого и придумать нельзя…
Так под русским огнем с высоты на высоту, с перевала на перевал добрались до первых редутов и поехали на левый фланг, к командующему верхними позициями Хаджи-Осману.
Когда ему передали приказание главнокомандующего турецкими силами, Осман даже побледнел:
— Я не сдамся! Я еще могу держаться!..
Ему дали время на размышление.
— Я не сдамся! — повторил Осман. — Я не могу сдаться!
Тогда взял слово Столетов. Он сказал, что Хаджи-Осман окружен и если не сдастся, то мы сейчас же пойдем со всех сторон на штурм его позиций.
— Идите, — не сдавался упрямый паша, — вы уложите здесь половину вашего отряда.
Дело было, конечно, не в одном упрямстве. Просто Осман-паша твердо верил в неприступность своих командных над перевалом позиций. Они неприступны были и летом, сейчас местами заснеженные, местами обледенелые крутизны были неприступны вдвойне и втройне.
Переговоры начинали затягиваться. Сплошное море турецких фесок вокруг палатки росло и росло, гул усиливался, заглушая выстрелы с наших позиций.
Столетов в ультимативной форме потребовал окончательного ответа. Тогда Осман попросил показать ему ордер Весселя-паши. Ему показали.
— Эту записку я сохраню, в ней моя честь, — сказал Осман уже другим голосом. — Когда я вернусь в Стамбул, она послужит доказательством, что я не сдался, а исполнил приказание старшего… — И добавил: — Я бы предпочел умереть здесь!
После этого командующий турецкими позициями на Шипкинских высотах заявил, что он складывает оружие.
— Где ваши знамена? — спросил Столетов.
— Усланы в Адрианополь давно уже…
И знал, что позиции неприступны, а все же знамена «на всякий случай» отослал…
Закончив переговоры, Столетов поскакал к Радецкому. Тому самому Радецкому, который сменил его в августе на посту командующего обороной перевала и держал эту оборону до сего дня. Тот приказал командиру Минского полка Насветевичу немедленно же заняться обезоруживанием Лысой горы — главной позиции турок.
Но как идти туда? Нужен белый флаг, а его не оказалось. Если турки предусмотрительно отослали свои знамена в глубь страны, мы обзаводиться белыми флагами не торопились. Находчивый Насветевич повесил на копье расшитое петухами русское полотенце и, вздымая его над головой, выступил вперед…
Так и осталась навсегда в памяти Николая Григорьевича Столетова эта картина, это последнее видение Шипки: заснеженные, сияющие под ярким солнцем горы, безмолвные батареи на них, высыпавшие из своих ложементов русские, ополченцы и турецкие солдаты и идущий недавним полем боя Насветевич с полотенцем на копье. Вот именно: не с боевым воинственным стягом, а с мирным, расшитым петухами полотенцем.
На Шипку, где полгода день за днем лилась кровь, пришел мир.
После Шипки скоро пришел мир и на всю освобожденную от пятивекового ига болгарскую землю. Святое дело славянского братства восторжествовало.
«Освобождением… порабощенных народов от жестокого и унизительного ига Россия окажет человечеству одну из самых блестящих услуг, какие только помнит история», — писал Достоевский, и ход событий полностью подтвердил эти пророческие слова.
Вряд ли отыщется в истории другая такая же война, когда один народ не просто поделился хлебом или еще каким богатством с другим народом, а ради его освобождения сам пошел на смерть и пролил кровь своих лучших сынов, не потребовав ничего взамен!
В тот солнечный декабрьский день вершиной уже известного на весь мир Шипкинского перевала шел не кичливый завоеватель, шел русский воин и нес на древке копья развевающееся на ветру и далеко всем видное полотенце с петухами. Пусть отныне людей, живущих на этой многострадальной славянской земле, будит по утрам не гром пушек, а веселое петушиное пенье…
Осенью 1902 года Болгария отмечала двадцатипятилетие Освободительной войны. В числе самых почетных гостей на юбилейные торжества был приглашен генерал от инфантерии Николай Григорьевич Столетов.
К тому времени на Шипке был построен храм-памятник. И в юбилейные дни, при открытии этого храма собравшиеся здесь представители болгарского ополчения поднесли и во всеуслышание прочли Н. Г. Столетову адрес, в котором между прочими были и такие слова:
«Мы бесконечно счастливы в минуту освящения храма-памятника видеть здесь перед собой славного своего учителя, храброго и неустрашимого воеводу, которого подвиги совершены им во главе героев-орловцев, брянцев и юнаков-ополченцев, сплотившихся в одну железную, оказавшуюся непроницаемой для врагов стену.
Ваше здесь среди нас присутствие мы считаем событием историческим; оно живо воскресило в нашей памяти день 6 мая 1877 года, когда вы, приняв Самарское знамя, под сенью святыни этих двух народов коленопреклоненно с нами принесли клятвенное обещание свято исполнить воинский долг — лечь костьми, мощно защищая святой крест и наши отечества.
Живо представляется нам сорокачетырехлетний отец-командир, уже украшенный тогда многими знаками военного отличия, кои напоминали в нем бойца 1854—1855 годов за севастопольские твердыни, за поддержание боевой славы на восточном берегу Каспийского моря при основании им града Красноводска в 1869 году, за военно-походное изучение им Амударьинского края в 1874 году; вот какой знатный воин, сын великой России, сделался тогда нашим полководцем на вечную славу нашей страны и нашей армии. Память о нем запечатлена в наших благодарных сердцах навеки; ни давность времени, ни древность возраста, успевшего покрыть нас сединой, не изменили и не изменят этой памяти; она нерушимо, из века в век будет передаваться нашим детям, внукам и дальше грядущим поколениям сынов созданной нашими усилиями Болгарии.
С гордостью вспоминаем мы, как вы водили нас в богатырской борьбе плечо в плечо с русскими братьями. Рядом с ними и их примером, под вашим воеводством мы, полные славных надежд и идеальных стремлений, волновавших наши души и наполнявших наши сердца, радостно проливали нашу кровь, бодро подходя к закреплению твердо принятого всеми нами с первых дней девиза: «Свобода или смерть». Закрепление это свершилось, будучи куплено дорогою ценою гибели наших братии, 19 июля под Старой Загорой, а затем 9, 10 и 11 августа на Шипке; здесь, на этом самом месте, на которое мы были посланы тогда проливать под вашим начальством и по вашим указаниям кровь, а теперь мы собрались отдать долг памяти славным воинам, павшим за нашу свободу на поле битвы.
Славный наш полководец!
Мы, ваши ученики-ополченцы, счастливы видеть вас здесь, среди нас, и принести вам горячую благодарность за понесенные вами для нашего отечества старания и труды, завершившие создание нашей свободы и создавшие нашу армию, являющуюся великой гордостью страны.
Пусть отныне об этом и об неизменности наших чувств бесконечной признательности к России — гордости славян, славным генералам и воинам мощной русской армии, к вам, нашему учителю, — вечно всему миру возвещает благородный, величественный звон колокола, увенчавшего вместе с православным крестом на этом святом храме верхушку горделиво возвышающейся Шипки — свидетельницы наших ратных трудов под вашим скромным, но несокрушимым для сил пятивекового врага-тирана, нас сплотившим в исторической борьбе, дорогим сердцу нашему отеческим начальством».
Этот адрес в скромной, простой папке за подписями бра-тушек, дравшихся в славных рядах дружин, был вручен Н. Г. Столетову у подножия памятника 15 сентября 1902 года.
В жизни каждого человека есть свой апогей, своя вершина. В сущности, он идет к ней всю жизнь, хотя и так бывает, что достигает ее не обязательно в конце своего земного существования.
Вершиной жизни Николая Григорьевича Столетова стала Шипка.
Еще до того как он попадет на Балканские высоты, имя его будет широко известно. По материалам Амударьинской экспедиции Столетов опубликует несколько научных статей, и Географическое общество изберет его своим действительным членом. В книгах будет написано, что им основан город Красноводск…
И после Освободительной войны Николай Григорьевич Столетов еще много славных дел совершит в пользу отечества. Он будет возглавлять дипломатическую миссию в Афганистане, дослужится до «полного» генерала, а с 1899 года будет состоять членом Государственного совета…
И все же вершиной его жизни, ее высшим взлетом останется героическая оборона Шипки.
Он будет менее известен как основатель города Красноводска и более как почетный гражданин города Габрова, откуда ведет дорога на Шипкинский перевал. И вот уже почти сто лет самая высокая точка перевала называется вершиной Столетова и будет называться так всегда, на вечные времена.
Кто бы ни писал о войне 1877—1878 годов, никто не может обойти молчанием Шипку. Потому что она — символ мужества и стойкости, символ братства русского и болгарского народов. Склоны Шипки обильно политы кровью народов-братьев, и, значит, ничего не может быть прочнее такого братства. Как сказал великий русский поэт: дело прочно, когда под ним струится кровь!
ШИПКА, ГОД 1977-й
— …Вот это и есть знаменитый Шипкинский перевал, а короче — Шипка. Здесь стояла Круглая батарея, там Стальная… Это — гора Николай, а там, где памятник, вершина Столетова…
За достойные дела людям ставят памятники.
Трудно представить более величественный и вечный памятник, чем этот, созданный самой природой.
Над ним не властно время, он не подвластен забвению.
Слава Шипки пребудет в веках.
Примечания
1
Здесь и далее даты даются по старому стилю.
(обратно)2
Кыща — дом (болг.).
(обратно)3
Хоро — славянский танец, равно любимый у сербов и болгар. Танцоры образуют круг и, положив руки на плечи друг другу, притопывают, то отступая назад, то наступая вперед.
(обратно)4
Хедив — с 1867 года официальный титул вице-короля Египта.
(обратно)5
Редюит — последнее убежище обороняющегося, внутренний опорный пункт, огонь из которого должен мешать победоносному противнику утвердиться на захваченных им участках обороны.
(обратно)6
Фейерверкер — нижний чин в артиллерии, равный по званию унтер-офицеру в других родах оружия.
(обратно)7
Альма — название реки, при которой 8 сентября 1854 года произошло кровопролитное сражение русских войск с союзниками.
(обратно)
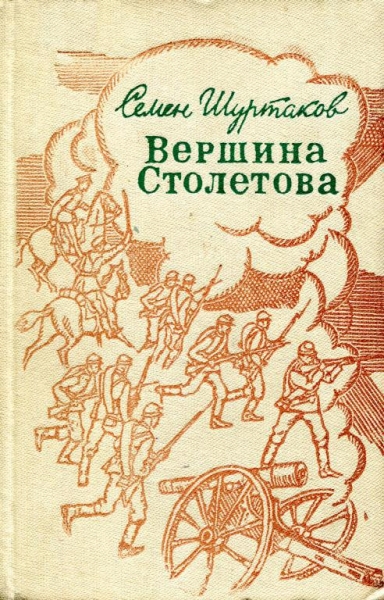

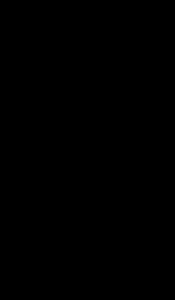
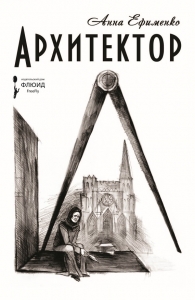

Комментарии к книге «Вершина Столетова», Семён Иванович Шуртаков
Всего 0 комментариев