Джонатан Литтелл Благоволительницы
Памяти павших
© Jonathan Littell, 2006
© Ирина Мельникова – перевод с фр., 2012
© Мария Томашевская – лит. редактура, 2012
© Сергей Зенкин – послесловие, 2012
© Dens Dimiņš – лит. редактура, 2019
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2012–2014, 2019
Токката
Люди-братья, позвольте рассказать вам, как все было. Мы тебе не братья, – возразите вы, – и знать ничего не хотим. Правда ваша, история темная, но назидательная, – настоящая нравоучительная повесть, уверяю вас. Боюсь, коротко не получится, но, в конце концов, столько событий произошло, и вдруг вы не слишком торопитесь и сможете уделить мне время. И к тому же вас это тоже касается, и вы увидите, до какой степени касается. Не думайте, я не пытаюсь вас ни в чем убедить; оставайтесь при
своем мнении. Если теперь, спустя годы, я и решился писать, то в первую очередь для того, чтобы не вам, а себе самому многое прояснить. Долго-долго ползаешь по земле, как гусеница, ждешь, когда выпорхнет на волю прекрасная воздушная бабочка, прячущаяся внутри тебя. Время идет, а червяк в куколку не превращается, – прискорбный факт, но что поделать? Самоубийство, конечно, тоже вариант. Но, честно говоря, меня оно никогда не привлекало. Я, разумеется, не раз думал о нем; если бы другого выхода не осталось, я бы выбрал следующее: прижал бы гранату к сердцу и расстался с жизнью с радостным треском. Прежде чем спустить рычаг маленькой круглой гранаты, я осторожно вынул бы чеку, улыбнувшись металлическому звуку развернувшейся пружины, последнему, который я услышу, не считая пульсирующего стука в висках. А потом – долгожданное счастье или, по крайней мере, покой и стены кабинета, украшенные тысячью кровавых ошметков. И пусть уборщицы наводят порядок – не слишком приятное занятие, но ведь за это им, собственно, и платят. Но, как я уже сказал, самоубийство не по мне. Впрочем, непонятно почему, скорее всего, из-за морально-философских пережитков, заставляющих меня повторять, что мы здесь не для развлечения. Для чего же тогда? Я не знаю, наверное, чтобы пожить подольше, чтобы убивать время, пока оно не убьет нас. И для этой цели писать – ничуть не хуже другого занятия. Нет, убивать время мне не приходится, я достаточно загружен: семья, работа, одним словом, множество обязанностей, когда уж тут пускаться в воспоминания. А ведь их хоть отбавляй. Я – настоящая фабрика воспоминаний. И всю жизнь только их бы и производил, но на сегодняшний день деньги мне приносит кружево. Вообще-то, я мог бы ничего не писать. Обязательств в этом отношении у меня нет. После войны я жил, не привлекая к себе внимания; слава богу, мне, в отличие от кое-кого из прежних сослуживцев, нет нужды писать мемуары ни в собственное оправдание, ибо оправдываться мне не в чем, ни ради денег: я прилично зарабатываю. Однажды, будучи по делам в Германии, я вел переговоры с директором крупной фирмы по пошиву нижнего белья, которому хотел продать партию кружев. Меня ему рекомендовали старые друзья, поэтому мы без лишних вопросов поняли друг друга. После плодотворной беседы директор встал, снял с полки книгу и подарил мне. Это были мемуары Ганса Франка, генерал-губернатора Польши, опубликованные посмертно под заглавием «Лицом к эшафоту». «Я получил письмо от его вдовы, – объяснил директор. – После процесса Франк оставил записи, которые она издала на собственные средства, и теперь продает книгу, чтобы прокормить детей. Вообразите, до чего дошло? Вдова генерал-губернатора! Я заказал двадцать экземпляров, раздариваю при случае. И еще предложил всем начальникам отделов купить по одному. Она очень трогательно благодарила в ответ. Кстати, вы были знакомы с Франком?» Я сказал, что нет, но книгу прочту с интересом. На самом деле я с ним пересекался, возможно, я расскажу вам об этом позже, если хватит мужества или терпения. Но я не видел смысла признаваться в этом директору. Книга, впрочем, оказалась совершенно неудачной, сумбурной, плаксивой, насквозь пропитанной лицемерной набожностью. Мои заметки тоже наверняка назовут сумбурными и неудачными, но я постараюсь быть четким; по крайней мере, я обещаю не докучать вам покаянной исповедью. Мне жалеть не о чем: я лишь выполнял свою работу, а семейные дела – я и о них, возможно, расскажу – касаются только меня. Да, в конце я, конечно, натворил дел, но я уже был сам не свой, словно потерял равновесие, да и весь мир вокруг пошатнулся; я не единственный, у кого в тот момент помутился рассудок, согласитесь. И потом я пишу не для того, чтобы моя вдова и дети не умерли с голоду, я способен их обеспечить. Нет, если я все же собрался писать, то, во-первых, чтобы занять свой досуг, и еще, пожалуй, чтобы прояснить кое-что – для себя, а может быть, и для вас. Кроме того, я думаю, что мне это пойдет на пользу. Настроение у меня и вправду поганое. Наверняка из-за запоров. Изматывающая и мучительная проблема, и вдобавок для меня совершенно новая: раньше все было наоборот. Я по три-четыре раза на дню бегал в уборную, а теперь раз в неделю – уже счастье. Приходится прибегать к клизмам, процедура на редкость неприятная, но эффективная. Извините за скабрезные подробности, но я тоже имею право иногда поплакаться. Если вам что-то не нравится, дальше не читайте. Я не Ганс Франк, не люблю кривляний. Я уж, как умею, стремлюсь к достоверности. Несмотря на перипетии, которых на моем веку было множество, я принадлежу к людям, искренне полагающим, что человеку на самом деле необходимо лишь дышать, есть, пить, испражняться, искать истину. Остальное необязательно.
Недавно жена принесла в дом черного кота, хотела меня порадовать. Моего мнения, разумеется, не спросила. Видимо, подозревала, что я наотрез откажусь, и поставила перед фактом. А коль животное попало в дом, уже ничего не поделаешь, внуки расстроятся и т. д. и т. п. Но кот был на редкость противный. Если я пытался его погладить, приласкать, прыгал на подоконник и таращил на меня желтые глаза; если брал на руки, царапался. Но по ночам клубком сворачивался на моей груди, и под его тяжестью мне снилось, что я погребен под камнями и задыхаюсь. Вот и с воспоминаниями нечто похожее. Сначала, задавшись целью их записать, я даже отпуск взял. И, вероятно, совершил ошибку. Вроде и подготовка шла отлично: я накупил и прочитал множество книг, чтобы освежить события в памяти, расчертил схемы, составил развернутую хронологию и прочее, и прочее. Но в отпуске, на досуге, я вдруг пустился в размышления. К тому же стояла осень, противный серый дождь сбивал с деревьев листья, меня постепенно охватывала тревога. Я сделал вывод, что думать вредно.
Раньше я бы так не рассуждал. Среди коллег я слыл человеком спокойным, невозмутимым, рассудительным. Да, разумеется, я спокойный, хотя часто в течение дня голова моя гудит, глухо, словно печь в крематории. Я поддерживаю беседу, спорю, принимаю решения, но у стойки бара за рюмкой коньяка представляю, что в дверях появляется человек с винтовкой и открывает огонь; в кино или в театре мне мерещится граната с вынутой чекой, катящаяся под рядами кресел; на центральной площади в праздник я вижу полыхающую машину, начиненную взрывчаткой, послеобеденное веселье, превращенное в бойню, кровь, струящуюся по брусчатке, куски мяса, прилипшие к стенам или приземлившиеся в тарелке с воскресным супом, слышу крики, стоны людей, которым бомба оторвала конечности, как любопытный мальчишка выдергивает лапки насекомым, ощущаю тупое оцепенение уцелевших, вслушиваюсь в особую, будто залепляющую уши тишину – начало длительного страха. Спокойный? Да, я спокоен, что бы ни стряслось, я и вида не подам, я безучастный, застывший, как безмолвные фасады разгромленных городов, как старички в медалях и с палками на лавках в парках, как зеленоватые под толщей воды лица утопленников, которых никогда не найдут. При всем желании я не в силах нарушить этот жуткий покой. Я не из тех, кто раздражается по пустякам, я хорошо владею собой. Но и мне тяжело. И только что описанные мной сцены отнюдь не худшее; видения такого рода посещали меня давно, с самого детства, наверное; во всяком случае, задолго до того, как я оказался в жерле мясорубки. Война в определенном смысле доказала их правдоподобность, я привык к такого рода эпизодам и воспринимаю их как иллюстрацию бренности всего земного. Нет, самое трудное и утомительное состояние, когда нечем заняться и начинаешь размышлять. Давайте разберемся: о чем вы думаете в течение дня? Вообще-то предметов для размышлений немного. Можно с легкостью систематизировать ваши повседневные мысли: практические мысли, в которых вы сами не отдаете себе отчета, планирование действий и их очередности (пример: поставить на плиту воду для кофе до чистки зубов, а положить хлеб в тостер – после, он быстро поджарится); рабочие проблемы; финансовые вопросы; семейные заботы; сексуальные фантазии. Обойдемся без подробностей. За ужином вы рассматриваете стареющее лицо жены, менее привлекательной в сравнении с любовницей, но в других отношениях вполне подходящей вам, – такова жизнь, ничего не поделаешь, и вы принимаетесь обсуждать последний правительственный кризис. Вам, конечно, глубоко плевать на правительственный кризис, а о чем еще говорить? Уберите подобные мысли, и что в остатке? Согласитесь, немного. Естественно, бывает и по-другому. Неожиданно между двумя рекламами стирального порошка прозвучали такты довоенного танго, скажем, «Виолетты», и вот всплывает в памяти плеск волн в ночи, фонарики кафешки и еле уловимый запах пота веселой женщины рядом с вами; улыбающееся личико ребенка у входа в парк напоминает вам сына, когда он учился ходить; на улице солнечный луч пронзил облака и высветил раскидистую крону и белый ствол платана – и вы вдруг очутились в детстве, во дворе школы, играете на переменке в войну и вопите от восторга и ужаса. Вот и возникла у вас человеческая мысль. Но это редко случается.
Когда в отпуске отрешаешься от работы, привычных обязанностей, повседневной суеты, чтобы посвятить себя серьезному замыслу, все выглядит иначе. И вот черными тяжелыми волнами надвигается прошлое. По ночам спишь беспокойно, мелькают и множатся сны, а наутро в голове едкий влажный туман, и жди, пока он рассеется. Не поймите превратно: речь здесь не о чувстве вины и не об угрызениях совести. Они тоже присутствуют, я не отрицаю, но, уверен, все гораздо сложнее. Даже человек, который никогда не воевал, не убивал по приказу, прочувствует то, о чем я говорю. Припомнит мелкие подлости, трусость, лживость, мелочность – любому есть о чем сокрушаться. Неудивительно, что люди изобрели работу, алкоголь, пустой треп. Неудивительно, что телевидение пользуется успехом. В общем, я прервал свой злополучный отпуск, и к лучшему. А для писанины время у меня и так найдется, днем, за обедом, и вечером, после ухода секретарей.
Вынужденная пауза, меня тошнит, я после продолжу. Еще одна печаль: желудок у меня отказывается принимать пищу, иногда сразу после еды, иногда позже, без причины, просто так. Мучаюсь я уже давно, с войны, и началось это, если быть точным, осенью 1941-го, на Украине, в Киеве, кажется, или в Житомире. Я еще об этом расскажу. С тех пор я уже, конечно, привык: чищу зубы, опрокидываю рюмочку и снова за работу. Вернемся к моим воспоминаниям. Я обзавелся несколькими толстыми школьными тетрадями в клеточку и храню их теперь в запертом на ключ ящике письменного стола. Раньше я делал заметки карандашом на плотных карточках в мелкую клеточку; теперь я решил все систематизировать. Зачем, слабо представляю. Разумеется, не в назидание потомкам. Если я скоропостижно скончаюсь от инфаркта или апоплексического удара и мои секретарши возьмут ключ и откроют ящик, их, бедняжек, самих удар хватит, и жену мою тоже: одних записей на карточках уже будет достаточно. Бумаги надо бы побыстрее сжечь, чтобы избежать скандала. Мне-то все равно, я же умру. И, кстати, пишу я не для вас, хоть к вам и обращаюсь.
Мой кабинет – просторный, строгий, тихий – чудесное место для творчества. Белые, практически ничем не украшенные стены, витрина с образцами; и в глубине стеклянная перегородка, через которую виден расположенный внизу цех. Двойная рама не защищает от несмолкаемого стрекота станков Ливерса. Когда надо подумать, я встаю из-за стола и подхожу к окну, смотрю на станки, стоящие рядами у моих ног, наблюдаю за ловкими, точными движениями мастеров-тюльщиков, меня это умиротворяет. Порой я спускаюсь и прогуливаюсь между машинами. Цех темный, запыленные окна выкрашены в синий, потому что кружево – вещь деликатная и боится яркого света; в синеватом полумраке я чувствую себя хорошо. Мне нравится растворяться в дробном однообразном звуке, заполняющем пространство, навязчивом ритме металлического двухтактного перестука. Станки меня неизменно восхищают. Чугунные, зеленые, весом в десять тонн каждый. Некоторые старые, такие уже больше не выпускают; запасные части идут по специальному заказу; после войны пар заменили электричеством, но внутренний механизм не тронули. Я к ним не приближаюсь, боюсь испачкаться: множество движущихся деталей нуждается в постоянной смазке, но масло, конечно, испортило бы кружево, поэтому в производстве применяют графит. Толченый графит насыпают в длинный мешочек, похожий на чулок, потом мастер мерно, как кадилом, размахивает им, припудривая вертящиеся шестеренки. Кружево выходит черным, графит покрывает стены, пол, станки и людей, следящих за работой. Хоть я и нечасто притрагиваюсь к станкам, устройство их мне прекрасно известно. Первые английские тюлевые станки, конструкция которых хранилась в строгом секрете, попали во Францию сразу после Наполеоновских войн, рабочие, не желавшие платить таможенную пошлину, ввезли их контрабандой. Позднее лионец Жаккард приспособил эти станки под изготовление кружева, установив в них перфокарты, расположение отверстий на них определяет узор. Внизу расположены два цилиндра с нитями; внутри душа станка – пять тысяч бобин, умещающихся на каретке; кэтч-бар (во французском языке сохраняются некоторые английские термины) захватывает каретку, приводит ее в равновесие и двигает с громким, завораживающим пощелкиванием вперед-назад. Нити, ведомые медными чесалками, припаянными на свинец, переплетаются в узелки в соответствии со сложным хореографическим рисунком, набитым на пятистах-шестистах перфокартах, прижимная лапка опять приподнимает чесалки, и наконец появляется кружево, тонкое, как паутина, темное от графита, и медленно наматывается на барабан, закрепленный наверху станка.
Работа на заводе строго распределена между сильным и слабым полом: мужчины составляют узоры, перфорируют картон, натягивают нити, следят за станками и остальным цеховым оборудованием; их жены и дочери и по сей день меняют катушки, очищают полотно от графита, подправляют кружево, сортируют и складывают его. Традиции здесь уважают. Тюльщики, скажем так, – рабочая аристократия. Обучение долгое, работа кропотливая; в прежние времена мастера, изготовлявшие кружево «кале», носили цилиндры, приезжали на завод в колясках и обращались к хозяину на «ты». Времена изменились. Война практически уничтожила наше производство, на ходу были лишь несколько станков, продукцию отправляли в Германию. Начинали заново с нуля; сейчас на севере Франции осталось не больше трехсот станков, а ведь до войны запускали четыре тысячи. Теперь, в период экономического подъема, тюльщики обзаводятся автомобилями быстрее иных буржуа. Но со мной рабочие на «вы». Думаю, они меня недолюбливают. Ничего страшного, никто их не просит меня любить. И потом мне самому они не особо приятны. Мы просто работаем вместе. Мастеру ответственному и старательному, у которого кружево не нуждается в дополнительной обработке, в конце года я выдаю премию; тех, кто приходит в цех с опозданием или подшофе, я наказываю. И мы отлично ладим друг с другом.
Возможно, вы спросите, почему я занялся кружевом. Я, честно говоря, никогда не метил в коммерсанты. Изучал право и политическую экономию, я доктор права, и в Германии Dr. jur [1] становится законной приставкой моего имени. Признаюсь, обстоятельства, сложившиеся после 1945-го, помешали мне работать по специальности. Но если уж вам и вправду интересно все знать, то и юриспруденция не мое призвание: в молодости я увлекался литературой и философией. Но не сложилось – еще одна печальная глава в моем семейном романе; возможно, к этому я еще вернусь. Теперь-то понятно, на кружевной фабрике мне больше пригодилось юридическое образование, чем литература. Вот, собственно, примерное развитие событий. Когда все закончилось, мне удалось уехать во Францию и выдать себя за француза; это не составило труда ввиду царившего повсюду хаоса. Я вернулся с теми, кто был выслан из страны, и лишних вопросов ко мне не возникало. К тому же мой французский безупречен, у меня же мать – француженка, в детстве я десять лет жил во Франции, учился в коллеже, лицее, на подготовительных курсах и даже два года в парижской Свободной школе политических наук. Вырос я на юге страны и с легкостью придавал своей речи средиземноморский акцент, но в творившемся бардаке никто на меня внимания не обратил. На набережной Орсе меня встретили одним супом и, можно сказать, по-хамски, но ведь я, сознаюсь, прикидывался не просто высланным, а вывезенным на принудительные работы. Такие голлистам категорически не нравились, и меня, как и других горемык, хорошенько пропесочили, а потом отправили – пусть и не в отель «Лютеция», но восвояси, то есть на свободу. В Париже я не задержался: слишком уж много там знакомых, и сплошь нежелательных, – и отправился в провинцию, промышлял временными заработками. Потом все поутихло. Расстреливать перестали, да и в тюрьмы им сажать надоело. Я навел справки, отыскал одного знакомого. Он ловко выпутался из всех передряг, беспрепятственно перешел на сторону другой власти; будучи человеком дальновидным, тщательно скрывал, какие услуги оказывал нам прежде. Вначале он отказывался меня принимать, потом наконец разобрался, кто я, и понял, что выбора нет. Не скажу, что беседа была приятная: мы вели себя неестественно, скованно. Но он осознавал, что интерес у нас общий: у меня – найти работу, у него – не потерять своей. На севере Франции жил его кузен, бывший торговый агент, который теперь пытался создать небольшое предприятие с тремя станками Ливерса, полученными от какой-то разорившейся вдовы. Этот человек взял меня к себе, и я колесил по стране в поисках покупателей на его кружево. Такая работа меня раздражала, и я постепенно убедил его, что больше пригожусь как организатор. В этой области я действительно имел солидный опыт, хотя пользы от него было примерно столько же, сколько от докторской степени. Предприятие расширялось, особенно с пятидесятых годов, когда я установил контакты с ФРГ и открыл немецкий рынок для нашей продукции. Я мог бы уже вернуться в Германию: множество моих сослуживцев преспокойно там существовали, кое-кому дали небольшой срок, других даже не потревожили. С моим образованием я без труда восстановил бы имя и научную степень, как ветеран войны, частично утративший трудоспособность, подал бы прошение о пенсии, и никто бы не возражал. Я бы быстро нашел работу. Но я вновь и вновь задавал себе вопрос: зачем все это? Право интересовало меня не больше, чем коммерция, и потом мне нравилось кружево – дивное, изящное творение рук человеческих. Когда мы приобрели достаточное количество станков, хозяин решил открыть вторую фабрику и назначил меня управляющим. С тех пор я сижу на этой должности, дожидаясь пенсии. Я, кстати, женился, безо всякой охоты, мягко говоря, но здесь, на севере, брак необходим, и с его помощью я упрочил положение в обществе. Жена моя из хорошей семьи, довольно привлекательная, приятная во всех отношениях, я быстро сделал ей ребенка, чтобы ей было чем заняться. К сожалению, она родила двойню, – вероятно, наследственность по моей линии, – а что до меня, мне бы вполне хватило одного отпрыска. Хозяин дал мне ссуду, и я купил уютный дом недалеко от моря. Вот так я и превратился в настоящего буржуа. Так или иначе, это был наилучший вариант. После всего пережитого я нуждался в покое и размеренности. Жизнь катком прошлась по моим юношеским мечтам, а на пути из одного конца немецкой Европы в другой заодно уничтожила и страхи. Война опустошила меня, остались только горечь и стыд, как песок, скрипящий на зубах. Поэтому я и желал жизни, соответствующей всем социальным условностям, своего рода удобной оболочки, пусть я сам посмеивался над ней, а порой и ненавидел. При таком образе жизни я надеюсь в отдаленном будущем достичь состояния благодати Херонимо Надаля, не иметь пристрастий за исключением единственного – ни к чему не иметь пристрастия. Я иногда выражаюсь слишком литературно, это один из моих недостатков. Увы, мне до святости далеко, я еще не освободился от своих потребностей. Время от времени, ради сохранения мира в семье, я исполняю супружеский долг, добросовестно, без удовольствия, но и без отвращения. Во время поездок возвращаюсь к прежним привычкам, но теперь в основном из соображений гигиены. Все это стало для меня почти безразлично. Тело красивого юноши, скульптура Микеланджело – без разницы: дыхание у меня больше не перехватывает. Так после долгой болезни не ощущаешь вкуса пищи и уже неважно, ешь ты говядину или курицу. Просто нужно питаться, вот и все. Если честно, мне теперь вообще мало что интересно. Книги, наверное, но мне порой кажется, что чтение просто вошло у меня в привычку. Возможно, и за воспоминания-то я принялся, чтобы кровь живее бежала, чтобы проверить, сохранилась ли во мне способность чувствовать и страдать. Интересное упражнение.
Однако о страдании я знаю не понаслышке. Все европейцы моего поколения получили свое, но без ложной скромности заявляю: я повидал больше многих. И еще я убеждаюсь день изо дня, что людская память коротка. Даже те, кто непосредственно принимал во всем участие, рассказывая об этом, прибегают к избитым выражениям и банальным мыслям. Взять хотя бы жалкие повествования немецких авторов о военных действиях на Восточном фронте: гнилая сентиментальность, безобразный, неживой язык. Вот, к примеру, популярный в последние годы сочинитель господин Пауль Карель. Так уж получилось, что я познакомился с ним в Венгрии, в те времена его еще звали Пауль Карл Шмидт; находясь под покровительством министра фон Риббентропа, он писал то, что думал, мощно, хлестко: еврейский вопрос – не вопрос гуманизма, не вопрос религии, это вопрос политической гигиены. Теперь же глубокоуважаемый господин Карель-Шмидт совершил настоящий подвиг, опубликовав четыре нудных тома о войне с Советским Союзом и ни разу не употребив слова еврей. Я в курсе, читал: с трудом, но я упрямый. Наши французские прозаики, Мабир и ему подобные, тоже гроша ломаного не стоят. Как, впрочем, и коммунисты, разве что точка зрения у них противоположная. Куда подевались певшие: «Ребята, о камни точите ножи»? Они молчат или мертвы. Мы болтаем, кривляемся, вязнем в трясине опошленных слов: слава, честь, героизм, все уже от этого устали. Быть может, я несправедлив, но смею надеяться, что вы меня поймете. Телевидение поражает наше воображение цифрами с рядами нулей, а кто-нибудь из вас задумывался, что реально стоит за ними? Хоть один из вас попытался посчитать всех своих нынешних и прежних знакомых и сравнить полученное смехотворное число с тем, что услышал по телевизору, с пресловутыми шестью или двадцатью миллионами. Решим математическую задачу. Решение таких задач полезная штука: начинаешь видеть вещи в истинном свете и дисциплинируешь мозги. А порой эти упражнения оказываются и весьма поучительными. Итак, уделите мне внимание и запаситесь терпением. Я коснусь лишь двух пьес, в которых мне удалось сыграть роль, пускай совсем незначительную: войны с Советским Союзом и программы уничтожения, фигурировавшей в наших документах как «Окончательное решение еврейского вопроса» – Endlösung der Judenfrage, если процитировать этот чудный эвфемизм. На Западном фронте потери все-таки были относительно небольшие. Исходные данные у меня спорные, но не по моей вине: источники дают противоречивую информацию. Что до совокупных потерь советской стороны, я держусь традиционной цифры двадцать миллионов, объявленной в 1956 году Хрущевым, хотя Рейтлингер, известный английский ученый, настаивает на двенадцати миллионах, а по мнению Эриксона, не менее, если не более, авторитетного историка из Шотландии, двадцать шесть – это минимум. Таким образом, советские официальные данные близки к среднему арифметическому (с погрешностью в миллион). Потери немцев, только на территории СССР, сводятся – и здесь мы руководствуемся официальной и по-немецки точной статистикой – к 6 172 373 погибшим на Востоке с 22 июня 1941 года по 31 марта 1945-го, цифра, указанная в секретном рапорте ОКХ (Главного командования сухопутных войск вермахта), найденном после войны; сюда включены погибшие (свыше миллиона), раненые (около четырех миллионов) и без вести пропавшие (то есть погибшие плюс пленные плюс умершие в плену – около 1 288 000). Округлим количество погибших до двух миллионов, раненые нас в данном случае не интересуют, прибавим примерно пятьдесят тысяч погибших в Берлине с 1 апреля по 8 мая 1945-го и еще миллион погибших при захвате Восточной Германии и связанных с ним перемещениях гражданского населения, в итоге получается приблизительно три миллиона. Что до евреев, тут мы можем выбирать: общепринятая цифра, немногие, кстати, знают, как она возникла, шесть миллионов погибших (на Нюрнбергском процессе Хёттль ссылался на Эйхмана, однако Вислицени утверждал, что коллегам Эйхман говорил не о шести, а о пяти миллионах; сам же Эйхман, когда евреи получили возможность допросить его лично, заявил, что число погибших где-то между пятью и шестью, но, бесспорно, не меньше пяти миллионов). Доктор Корхер в отчете для рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера докладывал о почти двух миллионах на 31 декабря 1942 года, но когда мы беседовали с ним в 1943-м, признал, что цифры не совсем достоверные. Наконец, досточтимый профессор Хильберг, крупный специалист в этой области, которого нельзя заподозрить в предвзятости и тем паче в пронемецких взглядах, изложив серьезные аргументы на девятнадцати страницах, приходит к цифре 5 100 000, в общем согласующейся с показателями покойного оберштурмбанфюрера Эйхмана. Итак, опираясь на данные профессора Хильберга, мы получим следующую картину:
Потери советской стороны…………………………..20 миллионов
Потери немецкой стороны…………………………..3 миллиона
Всего (война на Восточном фронте)………….23 миллиона
Endlösung……………………………………………………………5,1 миллиона
Итого 26,6 миллиона, из которых 1,5 миллиона евреев являются частью общего количества погибших с советской стороны («Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской армии, расстрелянным немецко-фашистскими оккупантами», – сдержанно сообщает надпись на замечательном монументе в Киеве).
Теперь займемся математикой. Война с Советским Союзом официально длилась с 3 часов утра 22 июня 1941 года до 23 часов 01 минуты 8 мая 1945-го, то есть три года, десять месяцев, шестнадцать дней, двадцать часов и одну минуту. Или, по-другому, 46,5 месяцев. 202,42 недели. 1 417 дней. 34 004 часа, или 2 040 241 минуту (с учетом дополнительной минуты). Программа «Окончательное решение» осуществлялась в те же сроки: до того ни каких-либо решений, ни систематических мер не принималось, уничтожение евреев происходило от случая к случаю. А теперь давайте поиграем с цифрами: Германия теряла 64 516 человек ежемесячно, 14 821 еженедельно, 2 117 в день, 88 в час, 1,47 в минуту, и так в среднем каждую минуту каждого часа каждого дня каждой недели каждого месяца в течение трех лет, десяти месяцев, шестнадцати дней, двадцати часов и одной минуты. Евреев, советских граждан, погибало около 109 677 в месяц, 25 195 в неделю, 3 599 в день, 150 в час, 2,5 в минуту за тот же период. С советской стороны – 430 108 в месяц, 98 804 в неделю, 14 114 в день или 9,8 в минуту за тот же период. Средние суммарные показатели в моей задаче таковы: 572 043 погибших в месяц, 131 410 в неделю, 18 772 в день, 782 в час и 13,04 в минуту каждого часа, каждого дня, каждой недели, каждого месяца периода, длившегося, напоминаю, три года, десять месяцев, шестнадцать дней, двадцать часов и одну минуту. И пусть те, кто смеялся по поводу дополнительной минуты, кому подобная дотошность показалась излишней, пусть они уяснят, что это означает приблизительно еще 13,04 погибших, и представят, если сумеют, как за одну минуту разом убивают тринадцать хорошо знакомых им человек. Кстати, можно вычислить интервал, с которым люди отправлялись на тот свет: в среднем один немец каждые 40,8 секунды, еврей каждые 24 секунды, большевик (в общее число включены и советские евреи) каждые 6,12 секунды, то есть примерно на каждые 4,6 секунды приходилась одна смерть, и так весь вышеобозначенный период. Теперь напрягите воображение и соотнесите эти цифры с реальностью. Возьмите наручные часы, отсчитывайте каждые 4,6 секунды по одному мертвецу (или каждые 6,12 секунды, 24 или 40,8 секунды – как вам больше нравится) и попытайтесь представить себе, как они ложатся перед вами – один, два, три убитых. Отличное упражнение для медитации, убедитесь сами. Или сравните с какой-нибудь недавней, потрясшей вас катастрофой. Если вы француз, то проанализируйте, например, жалкую алжирскую авантюру, нанесшую такой моральный урон вашим соотечественникам. За семь лет вы потеряли 25 000 человек, вместе с жертвами несчастных случаев; это чуть меньше количества погибавших за один день и тринадцать часов на Восточном фронте или числа евреев, уничтожавшихся еженедельно. Я, естественно, не беру в расчет алжирцев: вас они не волнуют, ваши книги и передачи о них молчат. Но, однако же, за каждого француза вы убивали десять алжирцев, результат не хуже нашего. Здесь я, пожалуй, остановлюсь, продолжать можно сколько угодно, но делайте это без меня, пока земля не уйдет из-под ног. Мне подобное ни к чему: уже давно мысль о смерти ближе мне, чем вена на шее, как прекрасно сказано в Коране. Если вы умудритесь разжалобить меня, мои слезы, как серная кислота, обожгут ваши лица.
Позвольте мне еще одну цитату, и хватит, обещаю. В качестве вывода я использую изречение Софокла: «Не родиться совсем – удел лучший» [2].Примерно о том же говорит и Шопенгауэр: «Лучше бы ничего не было. Если ближайшая и непосредственная цель нашей жизни не есть страдание, то наше существование представляет самое бестолковое и нецелесообразное явление» [3]. И добавляет: «Хотя каждое отдельное несчастье и представляется исключением, но несчастье вообще – есть правило». Да, знаю, уже две цитаты, но идея общая: так и есть, мы живем в худшем из возможных миров. Конечно, война завершена. Урок усвоен, такое больше не повторится. Но неужели вы и вправду уверены, что урок усвоен? И войны не будет? В определенном смысле война не закончится никогда, хотя, возможно, такое и произойдет, когда упокоится с миром последний ребенок, родившийся в последний день сражений. Все равно, она продлится в его детях, в его внуках. До тех пор, пока постепенно не растратится унаследованное, не сотрутся воспоминания, не смягчится боль, пока каждый не забудет о войне, и всё спишут на счет дедовских преданий, которыми не напугаешь детей, и тем более детей тех, кто погиб, или тех, кто хотел бы себе смерти.
Догадываюсь, что у вас на уме: злобный тип, – думаете вы, – злобный, отвратительный тип, короче, полное дерьмо, ему бы гнить в тюрьме, а не забивать нам головы невнятными философствованиями бывшего, наполовину раскаявшегося фашиста. Про фашизм скажу так: не надо все валить в одну кучу, что касается уголовного наказания, не судите заранее, я еще не рассказал свою историю, а по поводу моральной ответственности позвольте поделиться с вами кое-какими соображениями. Многие политические философы утверждают, что на период войны гражданин, в первую очередь, конечно, мужского пола, теряет самое основное право – право на жизнь, и со времен Великой французской революции и введения всеобщей воинской повинности этот принцип признан везде или почти везде. Но мало кто из философов добавляет, что гражданин теряет еще и другое право, тоже элементарное и для него жизненно важное, связанное с его представлением о себе как о цивилизованном человеке: право не убивать. На ваше мнение всем плевать. В большинстве случаев у человека, стоящего на краю расстрельного рва, согласия не спрашивали, равно как у умершего или умирающего на дне того же рва. Вы, вероятно, возразите мне, что между убийством противника на поле боя и уничтожением безоружных людей огромная разница; военные и нравственные законы разрешают первое и запрещают второе. Прекрасный аргумент – в теории, конечно, – и абсолютно не соответствующий реальным обстоятельствам этой войны. Отличие, которое установили после войны между «боевыми операциями», характерными для любого подобного конфликта, и «зверствами» группы садистов и психопатов, как я надеюсь доказать, условно, это выдумка, которой тешат себя победители. Уточняю: победители западные, тогда как советские, несмотря на всю свою риторику, всегда понимали, что к чему: Сталин после мая 1945-го и первых публичных жестов от души потешался над так называемой «справедливостью»; ему требовались конкретные и практические вещи, рабы и материал для нового строительства, а не угрызения совести и стенания; он отлично знал: мертвые не слышат стенаний, а угрызения совести в карман не положишь. Я не собираюсь ссылаться на положение о Befehlsnotstand – крайней необходимости подчиняться приказу, высоко оцениваемое нашими почтенными немецкими адвокатами. Я все делал осознанно, в твердой уверенности, что это мой долг, выполнять его необходимо, как бы неприятно и горестно это ни было. Кроме того, тотальная война стирает понятие «гражданское население». Вот еврейский ребенок, удушенный газом или расстрелянный, и маленький немец, разорванный зажигательной бомбой, – согласитесь, только средства убийства разные, а по сути обе смерти бесполезны и ни на секунду не сократили войну; но человек или люди, убившие детей, верили, что так нужно и правильно, и, если они ошиблись, кого винить? Правды не изменить, даже если пытаться искусственно вычленить из общего военного конфликта то, что еврейский адвокат Лемпкин окрестил геноцидом, хотя надо заметить, нет геноцида – уж в нашем веке тем более – без войны и вне войны. И опять же, речь идет о коллективном феномене: геноцид сегодняшний – процесс, навязанный массами массам. Кроме того, в нашем случае процесс сегментирован в соответствии с требованиями масштабных производственных методов. По Марксу, рабочий отчужден от продукта своего труда, при геноциде или в войну в современной ее форме подчиняющийся приказу также отчужден от результата своих действий. Даже в том случае, когда человек приставляет дуло к голове другого человека и нажимает на спусковой крючок. Ведь жертву привели другие люди, решение о казни вынесли третьи, и тот, кто стреляет, – последнее звено длинной цепи, и знает, что не должен задаваться лишними вопросами, как и солдаты взвода, в гражданской жизни приводящие в исполнение приговор, вынесенный по статье закона. Стреляющий знает: то, что именно он выпускает пулю, а его товарищ стоит в оцеплении, и еще один ведет грузовик, – дело случая. И единственное, что он мог бы сделать, – это поменяться местами с конвоиром или шофером, не более того. Следующий пример, не из личного опыта, а из неисчерпаемой исторической литературы: немецкая программа уничтожения людей с тяжелыми физическими недостатками и душевнобольных под названием «Эвтаназия», или «Т-4», запущенная двумя годами раньше программы «Окончательное решение». Отобранных в соответствии с узаконенными предписаниями больных профессиональные медсестры доставляли в специальное помещение, регистрировали и раздевали; врачи их осматривали и отсылали в камеру; рабочий открывал газ; уборщицы мыли; полицейский заполнял свидетельство о смерти. На допросах уже после войны каждый из них удивлялся: разве я виновен? Медсестра никого не убивала, она лишь раздевала и успокаивала больных, это была ее обычная работа. Врач тоже не убивал, просто подтверждал диагноз, руководствуясь критериями, спущенными высшими инстанциями. Помощник, открывавший кран газа, вроде бы во времени и в пространстве теснее всего соприкоснувшийся с убийством, лишь проделывал техническую работу под контролем начальства и врачей. На уборщиц возложили, пожалуй, самую отвратительную функцию – ассенизацию и дезинфекцию. Полицейский занимался своими прямыми обязанностями, констатировал смерть и отмечал, что соблюдались действующие законы. Ну и чья здесь вина? Всех сразу или никого? Почему рабочий, подавший газ, виноват, а работник котельной, садовник или механик – нет? То же и с прочими моментами нашей грандиозной кампании. Виновен ли стрелочник на железной дороге, направивший поезд с евреями в сторону концлагеря? Он – государственный служащий, двадцать лет переводит себе стрелки и ведать не ведает, что внутри вагонов. И не его вина, что через его стрелку евреев доставляли из пункта А в пункт Б, где их уничтожали. Тем не менее в операции по уничтожению евреев он играет важнейшую роль: без него поезд не добрался бы до пункта Б. То же самое касается и чиновников, реквизировавших квартиры для пострадавших от бомбардировок, наборщика, печатавшего уведомления о депортации, поставщика, продававшего СС бетон и колючую проволоку, унтер-офицера хозяйственной администрации, снабжавшего бензином тайлькоманды СП, и Всевышнего, допустившего все это. Конечно, можно определить точные уровни уголовной ответственности, позволяющие одних привлечь к наказанию, а других предоставить суду собственной совести, которая у них вряд ли имеется; гораздо легче составлять законы постфактум, как в Нюрнберге. Кстати, и там творилась неразбериха. Почему вздернули никчемного олуха-деревенщину Штрейхера, а не отъявленного негодяя фон дем Бах-Зелевски? Почему повесили моего начальника Рудольфа Брандта, а его шефа Вольфа – нет? Почему казнили министра Фрика, а не его подчиненного Штукарта, выполнявшего, по сути, всю работу? Штукарт – везунчик: пачкал руки лишь чернилами, а не кровью. Еще раз подчеркну: я не стараюсь доказать свою невиновность. Я виноват, вы нет, тем лучше для вас. Но вы должны признать, что на моем месте делали бы то же, что и я. Возможно, вы проявляли бы меньше рвения, но, возможно, и отчаяния испытывали бы меньше. Современная история, я думаю, со всей очевидностью засвидетельствовала, что все – или почти все – в подобных обстоятельствах подчиняются приказу. И, уж извините, весьма маловероятно, что вы, как, собственно, и я, стали бы исключением. Если вы родились в стране или в эпоху, когда никто не только не убивает вашу жену и детей, но и не требует от вас убивать чужих жен и детей, благословите Бога и ступайте с миром. Но уясните себе раз и навсегда: вам, вероятно, повезло больше, чем мне, но вы ничем не лучше. Крайне опасно мнить себя лучшим. Мы с готовностью противопоставляем государство, неважно, тоталитарное или нет, обычному человеку, ничтожеству или пройдохе. Забывая, что государство в основном и состоит из людей заурядных, у каждого из них своя жизнь, своя история, и цепь случайностей приводит к тому, что одни держат винтовку или пишут бумаги, а другие – в соответствии с написанной бумагой – оказываются под дулом этой винтовки. Развитие событий очень редко зависит от выбора и врожденных наклонностей. Далеко не всегда жертвы, обреченные на смерть, добрые, а палачи, которые убивают и мучают, злые. Думать так – наивно: достаточно столкнуться с бюрократией, даже в такой организации, как Красный Крест. Сталин нагляднейшим образом доказывает обоснованность моих аргументов, каждое поколение палачей он превращал в жертвы следующего поколения, и поэтому не имел недостатка в палачах. Государственная машина состоит из песка, крупинки которого она растирает в пыль. Она существует лишь потому, что все одобряют ее существование, даже – и довольно часто до последней минуты – ее жертвы. Без Хёсса, Эйхмана, Гоглидзе, Вышинского, без стрелочников на железных дорогах, производителей бетона и бухгалтеров в министерствах какой-нибудь Сталин или Гитлер были бы всего лишь бурдюками, полными ненависти и бесплодных мечтаний о могуществе. Наиболее распространена теперь точка зрения, что операциями по уничтожению руководили, как правило, люди нормальные, без садистских наклонностей. Да, конечно, на любой войне встречаются и чокнутые, и садисты, чья жестокость не поддается описанию, это правда. Согласен, СС могла бы усилить контроль за подобного рода элементами, хотя она и делала гораздо больше, чем обыкновенно говорят. Контролировать солдат сложно – спросите у французских генералов: в Алжире они здорово натерпелись от алкоголиков, насильников, убийц офицеров. Но проблема не в сумасшедших, которые есть всегда и везде. Наши спокойные пригороды кишмя кишат педофилами и психопатами, а наши ночлежки – страдающими манией величия; среди них есть весьма опасные: кое у кого на счету один, два, три, даже полсотни убитых, и потом государство, которое без колебания воспользовалось бы ими на войне, давит их, как комаров, напившихся крови. Но психи – не в счет. Угроза – особенно в смутные времена – кроется в обычных гражданах, из которых состоит государство. По-настоящему опасны для человечества я и вы. А если я не убедил вас, не читайте дальше: бессмысленно. Вы ничего не поймете и будете раздражаться, а толку – ни вам, ни мне.
Подобно большинству людей, я вовсе не хотел становиться убийцей. Я уже упоминал, что если бы мог, занимался литературой. Имей я талант, писал бы, а нет – преподавал бы, лишь бы жить в покое, окруженным прекрасными, лучшими творениями человеческого духа. Кто, кроме умалишенного, по доброй воле решиться убивать? А еще мне всегда хотелось играть на фортепиано. Однажды на концерте ко мне наклонилась пожилая дама: «Вы, наверное, пианист?» – «Увы, мадам, нет», – с сожалением ответил я. То, что я не научился и уже не научусь играть, до сих пор удручает меня, и порой даже сильнее, чем пережитые ужасы, черная река прошлого, несущая меня сквозь года. Никак не успокоюсь. Когда я был еще маленьким, мать купила мне пианино. На день рождения, кажется, мне исполнилось девять. Или восемь. Во всяком случае, до переезда во Францию к этому Моро. Я умолял ее месяцами. Я мечтал о карьере великого пианиста, о концертах, о водопадах легких, как пузырьки, звуков под моими пальцами. Но у нас не было денег. Отец исчез, счета его заблокировали (о чем я узнал позже), матери пришлось выпутываться в одиночку. И все же она раздобыла деньги, не знаю как; может, сэкономила или одолжила, а может, даже легла под кого-нибудь, – неважно. Несомненно, она возлагала на меня особые надежды и стремилась развивать мои способности. И вот в день моего рождения нам доставили пианино, настоящее прекрасное пианино. Даже если мать и приобрела его по случаю, стоило оно дорого. Поначалу я ликовал. Я стал ходить на уроки, но отсутствие прогресса быстро разочаровало меня, и я забросил занятия. Как любой нормальный ребенок, грезил я вовсе не о гаммах. Мать ни разу не упрекнула меня в неусидчивости и лени, но мысль о напрасно потраченных деньгах наверняка грызла ее. Пианино покрывалось пылью; у сестры оно тоже не вызывало интереса; я о нем забыл и не сразу заметил, когда мать продала его, разумеется, себе в убыток. Я никогда по-настоящему не любил мать, даже ненавидел ее, но случай с пианино вызывает у меня жалость к ней. Впрочем, отчасти она виновата сама. Ей бы настоять, проявить необходимую строгость, и я бы сейчас играл на пианино, радовался, находя спасение в музыке. Такое счастье играть дома, для себя. Конечно, я часто слушаю музыку и получаю огромное удовольствие, но это другое, это замещение. Точно так же, как мои любовные связи с мужчинами: в действительности – говорю, не краснея, – я бы предпочел быть женщиной. Не женщиной, живущей и действующей в этом мире, не женой, не матерью. Нет, голой женщиной, той, что лежит на спине с раздвинутыми ногами, задыхаясь под тяжестью мужского тела, вцепившейся в него, пронзаемой им, тонущей в нем, превращающейся в безбрежное море, в которое он погружается, бесконечным наслаждением. Меня влечет не внешняя сторона ее жизни, а темная, скрытая от чужих глаз. Но не случилось. Вместо этого я стал юристом, сотрудником службы безопасности – СД, офицером СС, а потом добрался до поста директора кружевной фабрики. Грустно, но факт.
Все, что я сказал, – чистая правда, но правда еще и в том, что я любил одну женщину. Единственную, и дороже нее у меня никого нет на свете. Но именно ее мне любить запрещено. Вероятно, мечтая оказаться в женском теле, я стремился к ней, хотел приблизиться к ней, быть как она, быть ею. Это похоже на правду, хотя ничего не меняет. Я никогда не любил мужчин, с которыми спал, просто использовал их, вот и все. Ее любовь заполнила бы мою жизнь до краев. Не смейтесь: любовь к ней – наивысшее достижение в моей жизни. Все это, подумаете вы, довольно странно для офицера СС. А что же, оберштурмбанфюрер СС не может иметь личной жизни, желаний, страстей, как любой другой человек? Таких, как я, тех, кого вы принимаете за преступников, сотни тысяч. И среди них, конечно, есть не только бездари, но и неординарные, творческие натуры, интеллектуалы, гомосексуалисты, невротики, влюбленные в собственную мать, да мало ли кто, а почему бы нет? И в других профессиях встречаются те же типы. Некоторые коммерсанты ценят хорошее вино и сигары, некоторые помешаны на деньгах, третьи перед работой вставляют себе в задницу дильдо, а под костюмами-тройками прячут похабные татуировки – если подобное вы допускаете, почему в СС и вермахте должно быть иначе? На фронте врачи, разрезая одежду на раненых, гораздо чаще, чем вы думаете, обнаруживали под формой женское нижнее белье. Доказывать, что я отличаюсь от остальных, бессмысленно. Я жил, прошлое дорого мне обошлось, тяжелый багаж у меня за плечами, но так уж сложилось, и я по-своему с этим справлялся. Потом началась война, я поступил на службу, вокруг царило нечто невообразимое, ужасы, зверства. По сути своей я не изменился, я всегда был одним и тем же человеком с нерешенными проблемами, хотя война добавила к ним новых, а ее ужасы перевернули меня. Для кого-то война, убийство – решение, но я к таким не отношусь, для меня, как для большинства людей, война и убийство – вопрос, на который нет ответа, ведь никто не отвечает, если кричишь глубокой ночью. Одно влечет за собой другое: поначалу я действовал в рамках своих полномочий, а потом под давлением обстоятельств переступил черту, но все связано теснейшим образом, и невозможно утверждать, что я не дошел бы до подобных крайностей, не случись войны. Может, да, может, и нет, а быть может, я нашел бы другой выход. Знать нам не дано. Мейстер Экхарт писал, что «даже в аду ангел парит на райском облачке». Я всегда понимал, что верно и обратное: демон в раю парил бы на облачке из ада. Я не считаю себя демоном. Каждый мой поступок всегда оказывался следствием определенных причин, хорошо это или плохо, не знаю, но по-человечески понятно. И убийцы, и убитые – люди, вот в чем страшная правда. Нельзя зарекаться: «Я никогда не убью», можно сказать лишь: «Я надеюсь не убить». Я тоже надеялся прожить достойную и полезную жизнь, ощущать себя человеком, равным среди равных, и еще стремился внести вклад, лепту в общее дело. Но я обманулся, моей доверчивостью воспользовались, чтобы совершать дела непотребные, грязные, я перешел через темные берега, и все это зло вошло в мою жизнь, и ничего уже не поправить, никогда. В словах толку нет, они исчезают, словно вода в песке, а песок заполняет мне рот. Я живу, делаю, что могу, как все вокруг, я – человек, как и вы. Уж поверьте мне: я такой же, как и вы!
Аллеманды I и II
Через реку Буг у границы был наведен понтонный мост. Рядом из серой, мутной воды торчали покореженные стальные сваи прежнего моста, взорванного советскими солдатами. Нашим саперам понадобилась всего одна ночь работы, по крайней мере, так говорили вокруг, и теперь фельджандармы, поблескивая на солнце полукруглыми бляхами, с невозмутимой уверенностью, словно у себя дома, регулировали движение. Вермахт имел преимущество; нам приказали ждать. Я то смотрел на широкую ленивую реку и тихие рощицы на другом берегу, то разглядывал сутолоку на переправе. Потом подошла наша очередь. Сразу после моста начиналась аллея из остовов русских военных машин, опрокинутых, сожженных грузовиков, танков, напоминающих вспоротые консервные банки, артиллерийских орудий, переломанных, как спички; нескончаемый проход между грудами развороченного, продырявленного снарядами, обугленного металла. За ними в щедром знойном воздухе лета переливались зеленью леса. Проселочную дорогу успели расчистить, но повсюду оставались следы взрывов, расплывшиеся масляные пятна, какие-то осколки. Показались первые дома Сокаля. В центре города на пепелищах еще потрескивали угли; покрытые пылью и пеплом трупы, в основном в гражданской одежде, валявшиеся среди щебня, мусора, обломков, загораживали часть улицы, а напротив, в тени парка, прямо под деревьями выстроились в ряд белые кресты. Два немецких солдата краской писали на них имена. Каждый крест был укрыт чем-то наподобие маленькой крыши. Там мы и ждали, пока Блобель в сопровождении Штрельке, нашего интенданта, отправился в штаб-квартиру. Сладковатый, тошнотворный запах смешивался с горечью дыма и гари. Вскоре Блобель вернулся: «Все в порядке. Расселением занимается Штрельке. Следуйте за мной».
Верховное командование армии, АОК, разместило нас в школе. «Мне очень жаль, – извинялся какой-то мелкий чиновник вермахта в мятой серо-зеленой форме. – Мы как раз занимаемся организационными вопросами. Скоро вам выдадут паек». Помощник командующего фон Радецки, элегантный прибалт, махнул рукой, обтянутой перчаткой, и улыбнулся: «Ничего страшного. Мы надолго не задержимся». Кроватей не было, но одеяла принесли; мы расселись на низких скамейках за партами. Всего, наверное, человек семьдесят. Вечером дали почти совсем уже остывшего супу с капустой и картошкой, сырой лук, буханку черного липкого хлеба, высыхавшего сразу после нарезки. Мне хотелось есть, я макал хлеб в суп и закусывал луковицей. Радецки выставил охрану. Ночь прошла спокойно.
На следующее утро наш командир, штандартенфюрер Блобель созвал начальников служб и управлений, ляйтеров, в штаб-квартиру. Мой непосредственный начальник – руководитель Третьего управления – печатал отчет и приказал мне явиться вместо него. Верховное командование 6-й армии – АОК 6, – к которому мы были приписаны, расположилось в просторном здании австро-венгерской эпохи, с нарядным оштукатуренным оранжевым фасадом, украшенным колоннами и лепниной, а теперь изрешеченным осколками пуль. Нас встретил какой-то полковник, видимо коротко знакомый с Блобелем: «Генерал-фельдмаршал работает на улице. Идемте». Он привел нас в огромный парк, спускавшийся от дома до излучины Буга. Возле одиноко растущего дерева вышагивал взад-вперед человек в купальном костюме, окруженный гудящим роем офицеров, взмокших от пота в своей форме. Он повернулся к нам: «А, Блобель! Здравствуйте, господа». Мы отдали честь: это был генерал-фельдмаршал фон Рейхенау, главнокомандующий армией. От его выпяченной волосатой груди веяло здоровьем и силой; сложен он был атлетически, но лицо заплыло жиром, который сгладил прусскую тонкость черт; знаменитый монокль, до смешного нелепый, сверкал в солнечных лучах. Не переставая отдавать точные, подробные указания, он делал несколько широких шагов вперед, потом круто разворачивался, все, конечно, следовали за ним, что создавало некую суету, я несколько раз столкнулся с каким-то майором и из сказанного ничего толком не понял. Наконец командующий остановился, чтобы отпустить нас. «Ах, да! Еще одно дело. Касательно евреев, пять винтовок – многовато, а людей у вас мало. По две винтовки на осужденного достаточно. Подумаем, сколько понадобится на большевиков. Вы можете задействовать целое подразделение, если речь идет о женщинах». Блобель взял под козырек: «Zu Befehl [4], господин генерал-фельдмаршал». Фон Рейхенау щелкнул голыми пятками и вскинул руку: «Heil Hitler!» – «Heil Hitler!» – крикнули все в ответ хором.
Штурмбанфюрер доктор Кериг, мой начальник, с мрачным видом выслушал от меня рапорт. «Это все?» – «Я не все расслышал, штурмбанфюрер». Он скривился, принялся рассеянно перекладывать бумаги. «Я не понимаю. Кто, в конце концов, будет нами командовать? Рейхенау или Йекельн? А бригадефюрер Раш? Он где?» – «Я не знаю, штурмбанфюрер». – «Да, прямо скажем, не слишком много вы знаете, оберштурмфюрер. Идите».
Назавтра Блобель созвал всех офицеров. Рано утром человек двадцать уехали с Кальсеном. «Я отправил его с форкомандой в Луцк. Все подразделение соединится с ними через один-два дня. Там пока разместится наш Генеральный штаб. АОК также будет переведен в Луцк. Наши дивизионы быстро продвигаются вперед, пора браться за работу. Я жду инструкций обергруппенфюрера Йекельна». Сорокашестилетний Йекельн, ветеран Партии, был командующим частями СС и полиции Юга России, ХССПФ; то есть все формирования CC, действующие на этой территории, включая наше, так или иначе находились в его ведении. Кериг все пытался выяснить, кому мы подчиняемся. «Итак, мы выступаем под командованием обергруппенфюрера?» – «В административных вопросах нами руководит 6-я армия, а нашу тактику определяют приказы ХССПФ и РСХА, Главного управления имперской безопасности, переданные через группенштаб. Теперь понятно?» Кериг покачал головой и вздохнул: «Не совсем, но я надеюсь, что детали постепенно прояснятся». Блобель побагровел: «Вам все доходчиво объяснили еще в Претче, черт возьми!» Кериг сохранял спокойствие. «В Претче, штандартенфюрер, нам совершенно ничего не объяснили. Нас потчевали речами и устраивали спортивные тренировки. Не более того. Я вам напоминаю, что на собрание с группенфюрером Гейдрихом на прошлой неделе представители СД приглашены не были. Уверен, для этого нашлись веские основания, но факт остается фактом: я до сих пор не имею ни малейшего представления о том, что вменяется мне в обязанности кроме составления рапортов о настроениях и поведении солдат вермахта». Он повернулся к Фогту, начальнику Четвертого управления: «Вы же присутствовали на том собрании. Как только наши задачи будут определены, мы начнем их выполнять». Фогт, явно смущенный, постукивал ручкой по столу. Блобель, мрачно уставившись в одну точку на стене, втягивал щеки и жевал их. «Ладно, – рявкнул он. – В любом случае, сегодня вечером сюда прибывает обергруппенфюрер. Завтра и обсудим».
Это довольно бестолковое совещание состоялось 27 июня, сомнений быть не может, потому что на следующий день перед нами с речью выступил обергруппенфюрер Йекельн, и в моих записях стоит 28-е число. Видимо, Йекельн и Блобель решили провести работу среди людей зондеркоманды, указать им правильный курс и обосновать мотивы; ближе к полудню команда в полном составе выстроилась на школьном дворе, чтобы выслушать командующего СС и полиции, ХССПФ. Йекельн говорил четко. Наша цель – выявить и уничтожить любой элемент, представляющий угрозу германским войскам. Большевик, народный комиссар, еврей и цыган может в любой момент взорвать наши казармы, убить наших людей, пустить под откос наши поезда или передать врагу жизненно важные секретные сведения. Наш долг – не дожидаться, пока он начнет действовать, и после этого наказать его, а помешать ему действовать. Учитывая, как быстро продвигается вперед наша армия, у нас не остается времени создавать лагеря для содержания подозреваемых: любого из них надо сразу расстрелять. Он обратился к находившимся среди нас юристам и напомнил, что СССР отказался подписывать Гаагские соглашения. Таким образом, международное право, регулирующее наши действия на Западе, здесь теряет силу. Конечно, всех ошибок не избежать, конечно, не обойдется без невинных жертв, но, увы, это война; при бомбардировке города мирные жители тоже ведь погибают. Время от времени нам будет тяжело, кое-что будет причинять страдания нам, немцам, с нашей врожденной чувствительностью и человечностью, он прекрасно это понимает; но мы должны превозмочь самих себя; и ему остается лишь передать нам слова фюрера, которые он слышал непосредственно из его уст: офицеры должны пожертвовать для Германии своими сомнениями. Спасибо, и Heil Hitler! Прямота Йекельна сама по себе заслуживала похвалы. В Претче как Мюллер, так и Шрекенбах разглагольствовали о необходимости быть несгибаемыми и беспощадными и не сообщили ничего конкретного, кроме того, что нас действительно ждет наступление на Россию. Возможно, Гейдриху в Дюбене на параде перед отправкой войск и удалось бы внести бóльшую определенность; но едва он начал говорить, как хлынул страшный ливень: Гейдрих прервался на полуслове и уехал в Берлин. Вот почему наше замешательство вполне оправданно, к тому же лишь немногие из нас имели хоть какой-то практический опыт; я сам с момента вступления в СД только составлял юридические документы, и я не был исключением. Например, Кериг занимался конституциональными вопросами; даже Фогт, начальник Четвертого управления, раньше работал в регистратуре. Что касается штандартенфюрера Блобеля, его вытащили из СП Дюссельдорфа, где он отлавливал деклассированных личностей, гомосексуалов и иногда, если повезет, коммунистов. В Претче ходили слухи, что он бывший архитектор, но с карьерой у него явно не заладилось. Человеком приятным Блобеля назвать было сложно. В отношениях с коллегами он был агрессивен, почти груб. Плоский подбородок, круглая голова с оттопыренными ушами, словно насаженная на тонкую шею с форменным воротником, напоминала лысую башку грифа; большой, похожий на клюв нос особо подчеркивал сходство. Проходя мимо него, я всякий раз чувствовал запах перегара; Гефнер утверждал, что он так лечит дизентерию. Лично я был рад, что у меня нет необходимости с ним часто общаться, а доктору Керигу в этом смысле не повезло, и он, кажется, порядочно мучился. Похоже, Кериг чувствовал себя здесь не совсем на своем месте. В Претче Томас объяснил мне, что в основном офицеров вербовали в конторах, где они никакой пользы не приносили, и раздавали им чины СС в соответствии с положением по службе (так я, например, оказался в ранге оберштурмфюрера СС, что-то вроде армейского обер-лейтенанта). Керига, всего месяц занимавшего должность государственного советника, благодаря высокому чину в бюрократическом аппарате произвели в штурмбанфюреры. Теперь он с трудом привыкал и к новым погонам, и к новым обязанностям. Большинство унтер-офицеров и солдат происходили из нижней прослойки среднего класса: лавочники, бухгалтеры, секретари канцелярий – эти люди, надеясь найти потом другую работу, нанимались в штурмовые отряды, СА, во время кризиса, но уже никогда не покидали их рядов. Определенную часть составляли фольксдойчи из Прибалтики или Рутении, угрюмые, безликие, неловкие и нелепые в военной форме; ценилось, собственно, только их знание русского, а по-немецки некоторые и слова толком сказать не умели. Признаться, фон Радецки разительно от них отличался: он хвастался, что прекрасно владеет и жаргоном проституток Москвы, его родного города, и Берлина, и всегда имел вид человека, знающего, что он делает, даже если и не делал ничего. Он немного знал украинский, вероятно, раньше работал где-нибудь в импорте-экспорте; он, как и я, был из Sicherheitsdienst, службы безопасности СС. Распределение на юг крайне его угнетало; он мечтал оказаться в центре, победителем войти в Москву, пройтись своими сапогами по кремлевским коврам. Фогт утешал его, уверял, что и в Киеве есть чем развлечься, но фон Радецки кривился: «Да, признаю, Лавра великолепна. Но больше и смотреть не на что, дыра». Вечером после выступления Йекельна мы получили приказ собирать вещи и завтра выступать, Кальсен уже готов был нас принять.
Когда мы вошли, Луцк еще горел. Нас встретил посыльный, чтобы сопроводить к пункту расквартирования; нам следовало обогнуть старый город и крепость, дорога была утомительной. Куно Кальсен занял музыкальную школу, располагавшуюся на широкой площади у подножия замка, – прекрасное строгое здание XVII столетия, бывший монастырь, успевший на протяжении последнего века послужить тюрьмой. Кальсен и еще несколько человек ждали нас на крыльце. «Очень удобное место, – рассказывал он, пока выгружали техническое оборудование и наши вещи. – В погребе даже сохранились камеры, их можно переделать в кабинеты, нужно только врезать замки, я уже отдал распоряжение». Камерам я предпочел библиотеку, но все книги были на русском или украинском. Фон Радецки тоже влез туда своим носом-луковицей и шарил взглядом по полкам, выискивая дорогие переплеты; он остановился возле меня, я поделился с ним недоумением по поводу того, что не нашел ни одной польской книги: «Удивительно, ведь совсем недавно здесь была Польша». Фон Радецки пожал плечами: «Представьте себе, красные все выгребли подчистую». – «За два года?» – «Двух лет предостаточно. Тем более для музыкальной школы».
Форкоманду завалили работой. Вермахт задержал сотни евреев и мародеров, с которыми нам предстояло разобраться. Пожары продолжали полыхать – видимо, саботажники старались. Отдельную проблему представляла старая крепость. Кериг, разбирая бумаги, нашел свой бедекер и протянул его мне поверх вскрытых ящиков, ткнув пальцем в короткую справку: «Замок Любарта. Построен литовским князем, достопримечательность». Центральный двор замка был завален трупами – по слухам, НКВД накануне отступления расстрелял заключенных. Кериг предложил пройтись посмотреть. Замок окружали огромные стены из грубого кирпича, возведенные на земляных насыпях, с тремя башнями по бокам; часовые вермахта охраняли вход, чтобы пройти; мне потребовалось вмешательство офицера абвера. «Извините. Генерал-фельдмаршал приказал обеспечить безопасность». – «Конечно, я понимаю». Они открыли ворота, и волна отвратительной вони ударила мне в лицо. Я забыл платок и прижал к носу перчатку, иначе дышать было невозможно. «Возьмите, – офицер протянул мне смоченную тряпку, – немного помогает». Действительно, немного помогло, но не слишком; я старался вдыхать и выдыхать через рот, но сладковатый, тяжелый, тошнотворный запах все равно заполнял ноздри. Я судорожно сглотнул, отчаянно сдерживая рвоту. «Первый раз?» – тихо спросил офицер. Я кивнул. «Привыкнете, – продолжил он, – хотя полностью, наверное, никогда». Сам он побледнел, но нос не прикрывал. Мы миновали длинный сводчатый коридор, потом маленький двор. «Вам туда».
Трупы сгребли в кучи, беспорядочно громоздившиеся теперь на большом мощеном дворе. Непрекращающееся монотонное жужжание сотрясало воздух: тучи жирных синих мух кружили над ними, над лужами крови и испражнениями. Мои сапоги приклеились к брусчатке. Тела мертвецов уже вздувались, я разглядывал их зеленоватую или пожелтевшую кожу, бесформенные, отекшие, как от побоев, лица. Воняло ужасно, но это был запах – я узнал его – начала и конца всего, запах, обозначающий самую суть нашего существования. От таких мыслей меня опять замутило. Группки солдат вермахта в противогазах пытались разобрать безобразную свалку и уложить тела рядами; один из них дернул посильнее, оторвал руку, устало отбросил ее на соседнюю кучу. «Их больше тысячи, – тихо, почти шепотом, сообщил мне офицер абвера. – Украинцы и поляки, которых после вторжения большевики держали в тюрьме. Тут и женщины, и даже дети». Я хотел закрыть глаза или загородиться рукой, и в то же время хотел смотреть, насмотреться вдоволь, впитать взглядом открывшуюся передо мной непостижимую картину и, может быть, таким образом ухватить нечто ускользающее от человеческого понимания. В полной прострации я спросил офицера абвера: «Вы читали Платона?» Он озадаченно взглянул на меня: «Что?» – «Нет, ничего». Я повернулся и ушел. В глубине первого дворика слева я заметил дверь, толкнул ее, там оказались ступени. Я наугад бродил по этажам и пустым коридорам, потом в одной из башен нашел винтовую лестницу; на самом верху между стенами закрепили деревянные балки, мостик, с которого открывался вид на город. Оттуда тянуло дымом пожарищ – это как-никак было приятнее, и я глубоко вздохнул, потом достал из портсигара сигарету и закурил. Запах разлагающихся останков, казалось, застрял в носоглотке, я старался избавиться от него, выпуская дым из ноздрей, но зашелся в кашле. Я огляделся вокруг. Внизу, внутри крепости, – сад, огороды и фруктовые деревья; за стеной – город и излучина Стыри; дымовую завесу разогнал ветер, и земля купалась в солнечном свете. Я спокойно докурил, потом спустился и вернулся на большой двор. Офицер абвера все еще находился там. Он смотрел на меня с любопытством, но без насмешки: «Вам лучше?» – «Да, спасибо». Я заставил себя взять официальный тон: «Вы выполнили точный подсчет? Мне нужны данные для рапорта». – «Еще нет. Завтра, я думаю, закончим». – «Установили национальность?» – «Я вам уже говорил, в основном украинцы и поляки. Трудно сказать наверняка, кто есть кто, у большинства отсутствовали документы. Их расстреливали группами, торопились». – «А евреи?» Он удивился: «Конечно, нет. Ведь это евреи и устроили». Я поморщился: «А, ну да». Он обернулся в сторону трупов, помолчал с минуту, потом пробормотал: «Какая мерзость». Я отдал честь. На улице толпились украинские мальчишки: один прокричал мне что-то, но я не понял вопроса, прошел мимо и отправился в музыкальную школу отчитываться перед Керигом.
На следующий день зондеркоманда по-настоящему приступила к работе. Взвод под командованием Кальсена и Курта Ганса расстрелял в садах крепости триста евреев и двадцать мародеров. Я вместе с доктором Керигом и штурмбанфюрером Фогтом целый день вел переговоры с начальником разведки 6-й армии Ic/AO Нимейером и его коллегами, в том числе гауптманом Луле, с которым накануне познакомился в крепости, он оказался из отдела по борьбе со шпионажем. Блобель настаивал, что ему недостает людей, и просил вермахт помочь; но Нимейер был непреклонен: такие вопросы должны решаться генерал-фельдмаршалом и начальником штаба армии, оберстом Хаймом. Во время послеполуденного собрания Луле сообщил срывающимся голосом, что среди расстрелянных в замке обнаружены десять немецких солдат, страшно изуродованных: «Их связали, потом отрезали нос, уши, язык и гениталии». Фогт поднялся с ним в крепость и вернулся мертвенно бледный: «Да, это правда, ужасно, что за чудовища!» Новость вызвала сильное волнение. Блобель выбежал в коридор, изрыгая проклятия, потом вернулся обсудить событие с Хаймом. Вечером он объявил: «Генерал-фельдмаршал хочет провести карательную операцию. Ответить мощным ударом, раздавить мерзавцев». Кальсен отчитался о проведенных днем казнях. Все прошло гладко, но метод, утвержденный фон Рейхенау, две винтовки на одного приговоренного, требует корректировки: для надежности следует целиться в голову, а не в грудь, но от такого выстрела череп лопается, и нашим солдатам в лицо летят кровь и мозги, люди жалуются. Завязалась бурная дискуссия. Гефнер вставил свое слово: «Увидите, кончится Genickschuss [5], как у большевиков». Блобель покраснел и хлопнул по столу рукой: «Meine Herren! Подобные высказывания недопустимы! Мы – не большевики!.. Мы – солдаты немецкой армии. Служим нашему великому народу и фюреру! Черт побери!» Он развернулся к Кальсену: «Если ваши люди такие чувствительные, пусть тогда шнапс подают». Потом к Гефнеру: «Пуля в затылок не годится, надо что-то другое. Я не желаю, чтобы у людей возникало чувство личной ответственности. Пусть дальше расстреливают быстро, по-военному, и точка!»
Все следующее утро я оставался в АОК: после взятия города надлежало разобрать целые ящики бумаг, нам с переводчиком поручили просмотреть папки с делами, в частности документы НКВД, и решить, какие из них следует отослать в штаб зондеркоманды для более тщательного анализа. Нас особенно интересовали списки членов Коммунистической партии, НКВД и других органов власти: некоторые их этих людей наверняка остались в городе, чтобы вести разведывательную и подрывную деятельность, и смешались с гражданским населением, предстояло срочно установить их личности и обезвредить. Около полудня я зашел в здание музыкальной школы проконсультироваться с Керигом. На первом этаже царило странное волнение: группы людей топтались по углам, возбужденно перешептывались. Я схватил за рукав шарфюрера: «Что здесь происходит?» – «Не знаю, оберштурмфюрер. Вроде что-то случилось со штандартенфюрером». – «А где офицеры?» Он показал на этаж, где мы расквартировались. На лестнице я столкнулся с Керигом; он спускался, бормоча себе под нос: «Бардак, просто бардак какой-то». «Что происходит?» – спросил я. Он мрачно ответил: «И как прикажете работать в подобных условиях?» – и пошел дальше. Я поднялся еще на несколько ступеней и услышал выстрел, звон разбитого стекла, крики. На площадке, перед открытой дверью комнаты Блобеля, в нерешительности переминались с ноги на ногу два офицера вермахта и Курт Ганс. «Что происходит?» – спросил я у Ганса. Он, скрестив руки за спиной, лишь кивнул подбородком в сторону комнаты. Я вошел. Блобель сидел на кровати в сапогах, но без кителя и размахивал пистолетом; Кальсен стоял рядом с ним и пытался направить пистолет в стену, не применяя силу и не хватая своего начальника за руку; окно разлетелось вдребезги; на полу я заметил бутылку шнапса. Блобель, белый, как полотно, ревел и брызгал слюной. Гефнер вошел за мной. «Что происходит?» – «Я не знаю, похоже, Блобелю плохо». – «Да он просто свихнулся». Кальсен увидел меня: «А, оберштурмфюрер. Передайте наши извинения солдатам вермахта и попросите их явиться позже, пожалуйста». Я отступил на шаг и столкнулся с Гансом, который решился наконец войти. «Август отправился за врачом», – сообщил Кальсен Гефнеру. Блобель продолжал орать: «Это невероятно, невероятно, они больны, я их убью!» В коридоре стояли навытяжку два бледных офицера вермахта. «Господа…» – начал я. Гефнер отпихнул меня и понесся через ступеньку по лестнице. Гауптман пронзительно заверещал: «Ваш комендант сошел с ума! Он хотел нас убить!» Я не знал, как реагировать. За моей спиной возник Ганс: «Господа, просим нас извинить. У штандартенфюрера серьезный приступ, мы вызвали врача. Мы вынуждены прервать беседу, поговорим позже». Из комнаты доносились вопли Блобеля: «Я убью этих гадов, пустите меня!» Гауптман пожал плечами: «Если все офицеры СС таковы… нам лучше отказаться от сотрудничества. – Потом, разведя руками, бросил другому офицеру: – Непостижимо, их, наверное, понабрали в психушках». Курт Ганс изменился в лице: «Господа! Вы оскорбляете честь СС…» Он горячился. Я вмешался, перебив его на полуслове: «Послушайте, мне еще точно неизвестно, что произошло, но, очевидно, речь идет о проблеме медицинского характера. Ганс, не стоит терять хладнокровия. Господа, как вам сообщил мой коллега, правильнее будет, если вы нас сейчас оставите, простите». Гауптман смерил меня взглядом: «Вас, кажется, зовут доктор Ауэ? Ладно, пойдем», – сказал он напарнику. На лестнице им встретился доктор из зондеркоманды Шперат и Гефнер: «Вы доктор?» – «Да». – «Будьте осторожны. Он может вас пристрелить». Я пропустил вперед Шперата и Гефнера и вошел следом. Блобель положил пистолет на ночной столик и отрывисто стал объяснять Кальсену: «Вы сами знаете, что нельзя расстрелять такое количество евреев. Нам нужен плуг, плуг, мы их тогда – в землю, в землю!» Кальсен обернулся к нам: «Август, позаботься о штандартенфюрере, я сейчас». Он взял Шперата под руку, отвел в сторону и принялся что-то быстро шептать. «Черт!» – рявкнул Гефнер. Он еле удерживал Блобеля, пытавшегося снова схватить пистолет. «Штандартенфюрер, штандартенфюрер, успокойтесь, я прошу вас!» – закричал я. Кальсен был уже рядом с Блобелем и заговорил с ним спокойным тоном. Шперат тоже подошел, взял пульс. Блобель дернулся было к пистолету, но Кальсен его отвлек. Теперь Блобеля увещевал Шперат: «Пауль, у вас переутомление. Надо сделать укол». «Нет! Никаких уколов!» – Блобель резко взмахнул рукой и заехал Кальсену по лицу. Гефнер подобрал с пола бутылку, показал мне, покачав головой: она была почти пуста. Курт Ганс молча стоял в дверях. Блобель выкрикивал бессвязные реплики: «Отребья вермахта расстрелять, вот кого! Всех!» У него начался бред. «Август, оберштурмфюрер, помогите мне», – приказал Кальсен. Втроем за руки, за ноги мы подняли Блобеля и уложили на кровать. Он не сопротивлялся. Кальсен свернул китель и подсунул ему вместо подушки; Шперат задрал Блобелю рукав и сделал укол. Блобель затих. Шперат отозвал Кальсена и Гефнера к двери посовещаться, я остался с Блобелем. В уголках губ у него выступила пена, он таращился в потолок и бормотал: «Под плуг, под плуг евреев». Я незаметно спрятал пистолет в ящик: никто об этом даже не подумал. Блобель задремал. Кальсен подошел к кровати: «Его отвезут в Люблин». – «Почему в Люблин?» – «Там в больнице занимаются такими случаями», – пояснил Шперат. «Сумасшедший дом там, вот что», – грубо добавил Гефнер. «Август, замолчи», – одернул его Кальсен. На пороге возник фон Радецки: «Что за цирк?» Курт Ганс принялся рассказывать: «Генерал-фельдмаршал отдал приказ, а штандартенфюрер заболел, перенапрягся. Хотел стрелять в офицеров вермахта». – «Его еще утром лихорадило», – вставил Кальсен. Он кратко обрисовал фон Радецки ситуацию, сказал о предложении Шперата. «Хорошо, – отрезал фон Радецки, – поступим, как советует врач. Я сам отвезу его. – Он слегка побледнел. – Вы начали уже подготовку к выполнению приказа генерал-фельдмаршала?» – «Нет, ничего не сделано», – ответил Курт Ганс. «Итак, Кальсен, действуйте. Гефнер, вы едете со мной». – «Почему я?» – нахмурился Гефнер. «Потому! – отрезал фон Радецки. – Идите, проверьте „опель“ штандартенфюрера. На всякий случай возьмите еще канистры с бензином». Гефнер не отступал: «Может быть, поедет Янсен?» – «Нет, Янсен поможет Кальсену и Гансу. Гауптштурмфюрер, – он выразительно взглянул на Кальсена, – вы согласны?» Тот задумчиво кивнул: «Не лучше ли вам остаться, штурмбанфюрер, а я сопровожу Блобеля? В данных обстоятельствах вы должны принять командование». Фон Радецки, не соглашаясь, замотал головой: «Напротив, я как раз думаю, что мне лучше ехать с ним». Кальсен сомневался: «Вы уверены?» – «Вам не следует так беспокоиться: обергруппенфюрер Йекельн скоро будет здесь со своим Генеральным штабом. Многие уже добрались, мне доложили. Он все возьмет в свои руки». – «Да. Потому что я… вы понимаете, Aktion [6] такого масштаба…» На губах фон Радецки заиграла тонкая улыбка: «Не волнуйтесь. Посоветуйтесь с обергруппенфюрером, обеспечьте необходимое, и все пройдет отлично, я вам гарантирую».
Часом позже офицеры собрались в большом зале. Фон Радецки и Гефнер уже уехали с Блобелем; когда они садились в «опель», тот начал брыкаться, и Шперат вынужден был сделать ему еще один укол, в то время как Гефнер его держал. Первым взял слово Кальсен: «Я полагаю, что все вы в той или иной степени в курсе положения дел». Фогт перебил его: «Нельзя ли еще раз изложить суть?» – «Как пожелаете. Узнав о том, что во дворе крепости найдено десять изуродованных немецких солдат, генерал-фельдмаршал сегодня утром отдал распоряжение о проведении карательной операции. За каждого убитого большевиками он приказал расстрелять сотню евреев, то есть всего тысячу. Штандартенфюрер получил его приказ, что, по-видимому, и спровоцировало нервный срыв…» – «Отчасти тут есть и вина военных, – вмешался Курт Ганс. – Прислали бы кого-нибудь поделикатнее, чем тот гауптман. Кстати, передавать приказ такой важности через гауптмана – почти оскорбление». – «Однако заметьте, что подобная история бросает тень и на СС», – парировал Фогт. «Послушайте, – резко вмешался Шперат, – речь сейчас не об этом. Я могу подтвердить, что штандартенфюрер заболел еще утром, у него была высокая температура. Я подозреваю брюшной тиф, и наверняка кризис спровоцировал именно он». – «Конечно, но ведь он еще и напился», – добавил Кериг. «Действительно, – отважился я, – в комнате валялась пустая бутылка». – «Он страдал кишечной инфекцией, – возразил Шперат, – и считал, что алкоголь дезинфицирует». – «Как бы то ни было, – заключил Фогт, – мы лишились командира, а заодно и его заместителя. А раз так, я предлагаю, чтобы до возвращения штурмбанфюрера фон Радецки его обязанности в зондеркоманде исполнял гауптштурмфюрер Кальсен». – «Но по званию, – запротестовал Кальсен, – по чину я ниже, чем вы или штурмбанфюрер Кериг». – «Верно, но мы не боевые офицеры. А среди командиров подразделений, тайлькоманд, вы – старший». – «Я – за», – сказал Кериг. У Кальсена вытянулось лицо, он переводил взгляд с одного офицера на другого, посмотрел на Янсена, но тот отвернулся и тоже кивнул головой в знак согласия. «Я считаю, – с нажимом проговорил Курт Ганс, – что вам надо принимать командование». Кальсен помолчал, потом пожал плечами: «Хорошо, воля ваша». – «У меня вопрос к доктору Шперату, – сказал Штрельке, начальник Второго управления. – Каково все-таки, по-вашему, состояние штандартенфюрера? Можно ли рассчитывать на его скорейшее возвращение или нет?» Шперат поморщился: «Не знаю. Трудно прогнозировать. Очевидно, что подобное расстройство не только нервного, но и соматического происхождения. Очень важно, каково будет его самочувствие после снижения температуры». – «Если я вас правильно понял, – кашлянул Фогт, – скоро он не вернется». – «Да, маловероятно. По крайней мере, в ближайшие дни – нет». – «Тогда, видимо, он не вернется вообще», – подытожил Кериг. В зале воцарилась тишина. Всех одновременно посетила одна и та же мысль, хотя никто не облек ее в слова: случись так, потеря была бы невелика. Еще месяц назад мы и понятия не имели, кто такой Блобель, лишь неделю находились в его подчинении, но уже успели понять, что работать с ним трудно, а порой просто невыносимо. Кальсен нарушил молчание: «Не забывайте, у нас это не единственный вопрос, на повестке дня еще планирование операции». – «Да, – подхватил с горячностью Кериг, – но это абсолютно бессмысленная затея, просто абсурдная». – «Что именно абсурдно?» – поинтересовался Фогт. «Репрессии, конечно! Можно подумать, мы живем во времена Тридцатилетней войны! И потом, как вы собираетесь опознать тысячу евреев? За одну ночь? – Он ткнул себя пальцем в нос. – По внешности? По носам? Измерять их станете?» – «Да, – согласился Янсен, до сих пор не проронивший ни слова. – Нелегкое дело». – «У Гефнера есть идея, – холодно сказал Курт Ганс. – Просто предложим им снять штаны». Кериг вдруг взорвался: «Смешно! Вы рассудка лишились?! Кальсен, скажите им!» Кальсен хмурился, но сохранял спокойствие: «Послушайте, штурмбанфюрер, не волнуйтесь! Мы обязательно найдем выход, я сейчас же свяжусь с обергруппенфюрером. Что до сути дела, мне все это нравится не больше, чем вам. Но приказ есть приказ». Кериг кусал губы, изо всех сил стараясь сдержаться. «А каково мнение бригадефюрера Раша? – выдавил он. – В конце концов, он возглавляет наши подразделения». – «А это еще одна проблема. Я пробовал с ним соединиться, но группенштаб еще в дороге. Я даже намереваюсь послать в Лемберг кого-нибудь из офицеров, чтобы передать сообщение и получить инструкции». – «Кого?» – «Думаю, оберштурмфюрера Ауэ. Обойдетесь без него день-два?» Кериг повернулся ко мне: «Как продвигается ваша работа с документами, оберштурмфюрер?» – «Я уже систематизировал бóльшую часть. Чтобы закончить, мне нужно несколько часов». Кальсен взглянул на часы: «В любом случае, сегодня уже поздно, до ночи вам не добраться». – «Ладно, – разрешил Кериг, – завершайте дела и отправляйтесь на рассвете». – «Так точно! Гауптштурмфюрер, – обратился я к Кальсену, – что от меня требуется?» – «Проинформируйте бригадефюрера о ситуации и случившемся с командующим Блобелем. Аргументируйте наши решения и скажите, что мы ждем его дальнейших распоряжений». – «Пока будете в Лемберге, – прибавил Кериг, – постарайтесь разобраться в тамошней ситуации. Она, похоже, весьма запутанная, а я хотел бы понять, что там происходит». – «Zu Befehl!»
Вечером я вызвал четырех человек, чтобы поднять в кабинеты СД рассортированные архивы. Кериг пребывал в отвратительном расположении духа. «Что это значит, оберштурмфюрер?! – заорал он, увидев мои ящики. – Я, кажется, просил вас навести порядок!» – «Вы не знаете, сколько хлама я оставил внизу, штурмбанфюрер». – «Ну ладно. Придется нанять еще нескольких переводчиков. Хорошо. Ваша машина во дворе, спросите Гёфлера. Отправляйтесь пораньше. Зайдите сейчас к Кальсену». В коридоре я пересекся с унтерштурмфюрером Цорном, младшим офицером, постоянным помощником Гефнера. «А, доктор Ауэ. Вам очень повезло». – «Почему?» – «Потому что вы уезжаете, а нас завтра ждет грязное дело». Я кивнул: «Да уж. Все готово?» – «Не знаю. Я отвечаю только за оцепление». – «Цорн постоянно ноет», – проворчал присоединившийся к нам Янсен. «Вы решили проблему?» – спросил я. «Какую?» – «Где взять евреев». Он хохотнул: «Ах, это! Очень просто. АОК распечатал объявления: всех евреев просят явиться завтра утром на главную площадь для обязательных работ. Тех, кто придет, схватят». – «Вы надеетесь, что наберется нужное количество?» – «Обергруппенфюрер считает, что да, этот прием срабатывал неоднократно. В противном случае, если их будет мало, арестуют евреев-активистов и пригрозят расстрелом». – «Понимаю». – «Что за мерзость, – простонал Цорн. – Какое счастье, я отвечаю только за оцепление». – «Но вы хоть не сбежали, – буркнул Янсен. – Не то что эта свинья Гефнер». – «Так получилось, это не его вина, – заспорил я. – Он хотел остаться. Но штурмбанфюрер настоял, чтобы Гефнер сопровождал его». – «Да, конечно. А сам он, собственно, где? – Янсен злобно взглянул на меня. – Я бы тоже предпочел отправиться на прогулку в Люблин или Лемберг». Я пожал плечами и пошел искать Кальсена. Он вместе с Фогтом и Куртом Гансом изучал план города. «Да, оберштурмфюрер?» – «Вы вызывали меня?» Кальсен уже успокоился после собрания и теперь вполне владел собой. «Сообщите бригадефюреру доктору Рашу, что обергруппенфюрер Йекельн ознакомлен с приказами армейского командования и лично проконтролирует Aktion». Взгляд его был безмятежен; вероятно, решение Йекельна снимало с него тяжкий груз. «Он утвердит меня в качестве временного командующего до возвращения штурмбанфюрера фон Радецки, – продолжил Кальсен, – если только бригадефюрер не захочет видеть на этом посту кого-то другого. Наконец, для Aktion он выделяет нам украинских пособников и роту девятого резервного полицейского батальона. Вот так». Я отсалютовал и, не сказав ни слова, вышел. Ночью я почти не спал, думал о евреях, которые придут завтра. Метод, взятый нами на вооружение, я находил порочным. Ведь будут казнены те, кто придут по доброй воле, доверившиеся немецкому Рейху, а другие – трусы, предатели, большевики – попрячутся, и их не найдут. Как сказал бы Цорн, порядочная мерзость. Я и радовался отъезду в Лемберг, ведь путешествие обещало быть интересным, и в то же время досадовал, что пропускаю операцию; я считал, что подобные вещи создают для каждого тяжелейшую проблему, которую, тем не менее, следует осознать и решить – прежде всего для себя самого, а не пытаться от нее уйти. Кальсен, Цорн и другие пытались все переложить на чужие плечи, уйти от ответственности: такая позиция казалась мне неверной. Если мы совершали нечто несправедливое, следовало задуматься и понять, было ли это необходимо и неизбежно или являлось следствием безрассудства, лени, легкомыслия. Вопрос требовал прямого ответа. Я знал, что распоряжение принято на высшем уровне; однако мы все-таки не автоматы, важно не только подчиняться установленному порядку, но и определить в нем свое место; сомнения одолевали и мучили меня. В конце концов, почитав немного, я уснул и проспал несколько часов.
В четыре утра я уже оделся. Гёфлер, шофер, ждал меня в офицерской столовой с плохим кофе. «У меня есть еще хлеб и сыр, если пожелаете, оберштурмфюрер». – «Нет, я не голоден». Я молча пил кофе, Гёфлер дремал. На улице стояла тишина. Попп, солдат, который должен был сопровождать меня, уселся за наш столик и теперь ел, громко чавкая. Я встал и вышел во двор покурить. Небо прояснилось, звезды поблескивали над высокими стенами старого монастыря, казавшимися в бледном мягком свете еще более холодными и неприступными. Луна скрылась. Гёфлер вышел и окликнул меня: «Все готово, оберштурмфюрер». – «Канистры с бензином взял?» – «Так точно. Три». Попп с винтовкой стоял рядом с дверцей «адмирала», неуклюжий и гордый. Я указал ему на заднее сиденье. «Обычно, оберштурмфюрер, сопровождающий садится впереди». – «Да, но я бы предпочел, чтобы ты сел сзади».
Переправившись через Стырь, Гёфлер свернул на трассу южного направления. Вдоль дороги шла разметка, судя по карте, до места добираться несколько часов. Утро понедельника выдалось прекрасным, спокойным, умиротворяющим. Война пока не тронула спящие деревни, контрольные посты пропускали нас без всяких трудностей. Слева небо посветлело, чуть позже еще красноватое солнце проглянуло сквозь деревья. По земле стелился легкий клочковатый туман; везде, куда ни кинь глаз, тянулись бескрайние ровные поля, изредка перемежающиеся деревнями, рощицами, невысокими, густо поросшими холмами. Небо медленно окрашивалось синевой. «Здесь, наверное, хорошая земля», – обронил Попп. Я не ответил, и он смолк. Мы остановились в Радзихове передохнуть и поесть. Снова обломки бронетранспортеров громоздились по краям дорог и оврагов, сожженные дома обезобразили деревни. Постепенно движение становилось оживленным, мы обгоняли длинные колонны грузовиков с солдатами или продовольствием. У самого Лемберга путь перегородили, машины сбились в кучу, пропуская танки. Дорога дрожала, змейки черной пыли извивались по лобовому стеклу, забивались в щели. Гёфлер угостил нас с Поппом сигаретами. Его самого перекосило от первой затяжки: «Ну и дрянь же эти „Спортникс“». – «Да вроде ничего, – отозвался я, – не привередничай». Танки прошли, к нам направился фельджандарм, знаками показывая, что двигаться нельзя. «Идет следующая колонна!» – кричал он. Я докурил и выкинул окурок в окно. «Попп прав, – внезапно заговорил Гёфлер. – Славные места. Неплохо бы здесь обосноваться после войны». – «Ты бы остался?» – засмеялся я. Он пожал плечами: «Не от меня это зависит». – «А от кого?» – «От бюрократов. Если все здесь так же, как у нас, то не стоит и рыпаться». – «Чем бы ты тут занялся?» – «Если бы мог, господин оберштурмфюрер, я бы торговал, как у себя в деревне. Прикинул бы: хорошая табачная лавка, наверное, с прилавком фруктов и овощей». – «И тебе бы тут было лучше, чем дома?» Он резко стукнул ладонью по рулю: «У себя я все закрыл. Еще в тридцать восьмом». – «Почему?» – «Да из-за свиней картельщиков из „Реемтсма“. Им вздумалось брать с меня ренту в пять тысяч рейхсмарок в год, чтобы самим оставаться в выгоде. В моей деревне живет от силы семей шестьдесят, ну и как я наторгую сигарет на пять тысяч… А картельщиков не обойдешь, кроме них никто табак не поставлял. И я на всю округу один торговал, наш староста меня поддержал, писал письма гауляйтеру, чего мы только не перепробовали, но все напрасно. Кончилось судом, я проиграл, пришлось закрывать. Овощами много не наторгуешь. А потом меня призвали». – «И в твоей деревне теперь табаком не торгуют?» – раздался хрипловатый голос Поппа. «Как видишь, нет». – «А у нас никогда и не торговали». Приближалась вторая колонна танков, все затряслось. Одно из боковых окон «адмирала» расшаталось и теперь жутко дребезжало. Я указал на это Гёфлеру, он кивнул. Танки следовали друг за другом, нескончаемой колонной: фронт быстро продвигался вперед. Наконец фельджандарм дал отмашку – дорога свободна.
В Лемберге царил хаос. Солдаты, которых мы расспрашивали на контрольных постах, не имели понятия, где находится комендатура СС и СД; хотя город взяли еще два дня назад, никто не позаботился об установке указателей. Мы выбрали наугад широкую улицу; она переходила в бульвар, пастельные фасады домов, высившихся по обеим его сторонам, были кокетливо декорированы белой лепниной, а посередине ровной разделяющей полосой росли деревья. Повсюду толпился народ. Между немецкими военными машинами циркулировали украшенные транспарантами и желто-голубыми флагами автомобили и открытые грузовики, туда битком набились люди, в основном в штатском, редко в форме, орали, распевали во все горло песни, палили в воздух из винтовок и пистолетов. На тротуарах и под деревьями народ, кто с оружием, кто без, громко приветствовал их, протискиваясь между немецкими солдатами с бесстрастными лицами. Лейтенант люфтваффе показал нам дорогу до комендатуры, оттуда нас отослали в АОК 17. Офицеры бегали вверх-вниз по лестницам, заходили и выходили из кабинетов, хлопали дверьми; в коридорах, под ногами, мешая проходу, валялись ворохи документов из советских архивов. В холле теснились вооруженные люди в пиджаках с желто-голубыми повязками; они возбужденно переговаривались на украинском или польском – не разберешь – с солдатами в немецкой форме. У некоторых на рукаве я заметил нашивку в виде соловья. Потеряв терпение, я поймал за руку молодого майора абвера: «Айнзатцгруппа „Б“? Они приехали вчера, сидят в кабинетах НКВД». – «И где именно?» Уставший взгляд: «Не представляю даже». Кончилось тем, что он все-таки дал мне в сопровождение своего подчиненного, уже успевшего там побывать.
По бульвару медленно, хоть пешком иди, тащились машины, потом движение и вовсе застопорилось. Я вылез из «опеля» посмотреть, что происходит. Люди орали, бешено аплодировали, вытаскивали из кафе стулья и ящики и вскарабкивались на них, чтобы лучше было видно, сажали на плечи детей. Я с трудом прокладывал себе дорогу. В центре толпы образовался круг, там, как на сцене, щеголяли мужчины в несуразных костюмах, вероятно украденных из театров и музеев: регентский парик и гусарский мундир 1812 года, магистерская мантия, отороченная горностаем, монгольские кинжалы и шотландская юбка; горжетки и опереточные наряды, римские тоги вперемешку с костюмами эпохи Ренессанса. Человек, напяливший кавалерийскую буденновскую форму, цилиндр и меховой воротник, размахивал длинным маузером; остальные несли дубинки и винтовки. Перед ряжеными, время от времени получая удар ногой или прикладом, ползали на коленях люди и лизали мостовую; большинство из них истекали кровью; толпа ликовала. За моей спиной кто-то бойко заиграл на аккордеоне; тут же десятки голосов подхватили знакомый веселый мотив, человек в шотландской юбке неизвестно откуда вытащил скрипку без смычка и принялся дергать ее струны, как на гитаре. Один из зрителей потянул меня за рукав и закричал, выпучив глаза: «Жид, жид, капут!» Мне и без него давно уже это было понятно. Я резко отдернул руку и стал пробираться сквозь толпу; Гёфлер между тем уже объехал бульвар и ждал меня. «Я думаю, нам сюда», – наш провожатый указал поперечную улицу. Очень скоро мы заблудились. Гёфлеру вдруг пришла идея спросить у прохожего: «НКВД?» – «НКВД капут!» – радостно заорал тот. Потом жестами объяснил, как найти бывшее здание комиссариата, оказавшееся всего в двухстах метрах от АОК, – мы ошиблись с направлением. Я отпустил офицера и пошел наверх, представляться. Мне доложили, что Раш в данный момент совещается с ляйтерами всех подразделений и офицерами АОК; неизвестно, когда он сможет меня принять. Один гауптштурмфюрер поспешил мне на помощь: «Вы из Луцка? Мы в курсе, бригадефюрер разговаривал по телефону с обергруппенфюрером Йекельном. Я уверен, что ваш рапорт его заинтересует». – «Хорошо, я подожду». – «Раньше чем через два часа он не освободится. Вы пока лучше пройдитесь по городу. Старый город стоит посмотреть». – «На улицах неспокойно». – «Да, вы правы. НКВД, перед тем как убраться, расстрелял три тысячи тюремных заключенных. А после все украинские и галицийские националисты вышли из лесов, бог его знает, где уж они там прятались, но теперь они несколько возбуждены. Евреи сейчас переживают не лучшие минуты своей жизни». – «Вермахт не вмешивается?» Он отвел глаза: «Приказ свыше, оберштурмфюрер. Население мстит предателям и коллаборационистам, это не наше дело. Внутренний конфликт. Ладно, до скорой встречи». Он скрылся в кабинете, я вышел. Со стороны центра доносились выстрелы, напоминавшие хлопки петард на ярмарке. Я оставил Гёфлера и Поппа в «опеле» и вернулся на центральный бульвар. Под колоннадой царило веселье, двери и окна кафе были распахнуты настежь, люди пили, кричали; несколько раз по пути мне пожали руку; какой-то человек, явно навеселе, угостил шампанским, я залпом осушил бокал, хотел его вернуть, но человек уже исчез. В толпе, как на карнавале, продолжали выплясывать те самые, в театральных костюмах, на некоторых мелькали клоунские, безобразные, гротескные маски. Я пересек парк, за ним начинался Старый город, разительно отличавшийся от бульвара с его австро-венгерским стилем: здесь стояли высокие, узкие дома в духе позднего Ренессанса, с остроконечными крышами, полинявшими фасадами разных цветов, отделанными барочным орнаментом из камня. Прохожие на улицах встречались гораздо реже. В витрине неработающего магазина висел устрашающий плакат: увеличенная фотография трупов и подпись на кириллице, я разобрал только слова «Украина» и «жиды», евреи. Потом набрел на огромную прекрасную церковь, скорее всего католическую, она была заперта, я стучал, но никто не открыл. Ниже по улице сквозь распахнутую дверь слышался звон падающей посуды, грохот, крики; немного поодаль мертвый еврей уткнулся носом в сточную канаву. Небольшие группы вооруженных людей с желто-голубыми повязками беседовали со штатскими; заходили в дома, и вскоре оттуда доносился шум, иногда выстрелы. Вдруг с верхнего этажа вместе с оконной рамой вылетел человек и в дожде битого стекла рухнул мне под ноги, я отпрянул, чтобы не пораниться осколками; отчетливо уловил глухой удар его затылка о мостовую. Мужчина в рубашке и с фуражкой на голове высунулся из пустого проема; увидев меня, радостно завопил на ломаном немецком: «Господин дойчен официр, извините! Я вас не заметил». Меня все больше охватывали страх и тревога, я обогнул труп и молча зашагал прочь. Чуть дальше из дверей старой колокольни выскочил человек с бородой в сутане священника и бросился ко мне: «Господин офицер! Господин офицер! Сюда, сюда, я вас прошу». По-немецки он изъяснялся гораздо лучше, чем взломщик окон, но с каким-то странным акцентом. Он почти силой повлек меня к воротам. Я услышал плач, стоны, дикий вой; во дворе церкви группа мужчин дубинками и металлическими прутьями жестоко избивала распластанных на земле евреев. Многие тела лежали неподвижно, другие еще вздрагивали под ударами. «Господин офицер, – умолял священник, – сделайте что-нибудь! Здесь же храм!» Я в нерешительности остановился в воротах; священник продолжал тянуть меня за рукав. Не знаю, о чем я думал. Потом меня заметил украинец и что-то сказал остальным, мотнув головой в мою сторону; те сначала колебались, но потом все же прекратили избиение; священник обрушился на них с упреками, я ничего не понимал. Он обернулся ко мне: «Я сказал, что вы приказали прекратить это. Я сказал, что церкви священны и что они свиньи, а церкви находятся под защитой вермахта, и если они не уйдут добровольно, то их арестуют». – «Но я же тут один», – ответил я. «Не имеет значения», – возразил он и возмущенно выкрикнул еще несколько фраз по-украински. Мужчины неохотно опустили дубинки, среди них нашелся оратор, адресовавший мне страстную тираду, я разобрал только «Сталин», «Галиция», «жиды». Его товарищ плюнул на трупы. Повисла довольно долгая пауза, украинцы медлили; священник снова прикрикнул на них, тогда они оставили евреев, строем поднялись вверх по улице и исчезли, не проронив ни слова. «Спасибо, – поблагодарил священник, – спасибо». Он подбежал к евреям и начал торопливо их осматривать. Двор имел небольшой уклон, в нижней его части к церкви примыкала красивая колоннада под крышей малахитового цвета, отбрасывавшая густую тень. «Помогите мне, – сказал священник, – вон тот еще жив». Он ухватил его под мышки, я взялся за ноги; это был юноша с едва начавшей пробиваться щетиной. Голова его запрокинулась, по кудрявым волосам струилась кровь, крупные блестящие капли падали на каменные плиты. Сердце мое бешено колотилось: я еще никогда не прикасался к умирающему. Нужно было обойти церковь, священник пятился задом, ворча по-немецки: «Сначала большевики, теперь дураки украинцы. Почему ваша армия ничего не предпринимает?» В глубине за огромной аркой открывался двор и вход в церковь. Я помог священнику внести еврея внутрь и устроить его на скамье. Он что-то крикнул; из глубины нефа появились двое таких же бородатых мужчин, но в обычных костюмах. Священник обратился к ним на языке, не похожем ни на украинский, ни на русский, ни на польский. Все трое направились во двор к воротам; двое повернули к евреям, третий пошел по аллее. «Я послал его за доктором», – сказал священник. «А что это за церковь?» – спросил я. Он остановился, внимательно посмотрел на меня: «Армянский собор». – «Разве в Лемберге есть армяне?» – удивился я. Он пожал плечами: «Армяне поселились здесь гораздо раньше немцев или австрийцев». Священник и его друг принесли в церковь еще одного тихо постанывающего еврея. Кровь евреев медленно стекала по наклонным плитам двора вниз к колоннаде. Под арками я разглядел замурованные в стены и в пол надгробия, сплошь покрытые причудливой вязью – без сомнения, армянскими надписями. Я приблизился: кровь заполняла буквы, высеченные на плоских камнях. Я быстро отвернулся: меня мутило и стало тяжело дышать. Я зажег сигарету. Под колоннадой было прохладно. Во дворе в лужах свежей крови, на известняке, на отяжелевших телах евреев, на их черных или коричневых грубых драповых костюмах, пропитавшихся кровью, блестело солнце. Мухи кружили над головами трупов и садились на раны. Священник вернулся: «А мертвые? – приступил он ко мне. – Нельзя оставлять мертвых здесь». Но у меня не возникало ни малейшего желания ему помогать; меня воротило от мысли, что придется дотронуться до какого-нибудь из этих безжизненных тел. Я двинулся к воротам мимо трупов и вышел на улицу. Там было безлюдно, я наугад повернул налево. Через несколько метров улица заканчивалась тупиком; но справа я обнаружил площадь, в центре которой высилась величественная барочная церковь, украшенная в стиле рококо высоким портиком с колоннами и увенчанная медным куполом. Я поднялся по ступеням и вошел. Огромный, но словно невесомый свод нефа покоился на тонких витых колоннах, сквозь витражи лились потоки дневного света, мягкими отблесками ложившиеся на деревянные позолоченные скульптуры; ряды темных отполированных скамей, сейчас пустовавших, уходили вглубь, к алтарю. Сбоку, в маленьком, беленом зале, я заметил низкую дверь старого дерева, обитую железом, и толкнул ее; каменные ступени спускались в широкий низкий коридор, куда лучи проникали через крохотные окошки. Противоположную стену занимали застекленные шкафы, в которых хранились предметы культа; среди них, как мне показалось, попадались старинные, на редкость тонкой работы. К моему удивлению, в одной витрине были выставлены и предметы иудаики: свитки на иврите, молитвенные покрывала, гравюры, изображавшие евреев в синагоге. Книги на иврите имели оттиски немецких типографий: Lwow, 1884; Lublin, 1853, bei Schmuel Berenstein [7]. Послышались шаги, я поднял голову: ко мне направлялся монах с тонзурой, в белом одеянии доминиканца. Поравнявшись со мной, он остановился и сказал по-немецки: «Здравствуйте, чем могу служить?» – «А что это такое?» – «Вы в монастыре». Я повернулся к шкафам: «Нет, я имею в виду вот эти вещи». – «Наш музей религий. Все это предметы для разных богослужений. Смотрите, если хотите. Обычно мы просим о небольшом пожертвовании, но сегодня посещение бесплатное». Он продолжил свой путь и тихо скрылся за дверью с железными скобами. Там, откуда он появился, коридор поворачивал направо; я оказался во внутренней монастырской галерее, закрытой вставленными между колоннами окнами и окруженной невысокой стеной. Мое внимание привлекла длинная узкая витрина. Маленький прожектор, закрепленный на стене, освещал ее изнутри; я наклонился: два скелета лежали, обнявшись, наполовину присыпанные сухой землей. Тот, что побольше, без сомнения принадлежавший мужчине, хотя рядом с черепом и остались крупные медные серьги, – на спине; другой, видимо, женский, – на боку, свернувшись клубком в его объятиях и положив на его ногу свои. Потрясающая картина, ничего подобного я еще не видел. Мне не удалось прочитать табличку. Сколько веков покоились они, вот так, прижавшись друг к другу? Захоронение, по-видимому, относилось еще к доисторической эпохе; женщину, очевидно, принесли в жертву и закопали в могиле с умершим повелителем; я знал, что в древние времена существовал такой обычай. Но логические умозаключения отступали при виде этой позы – позы людей, утомленных любовью, страстной, полной волнующей нежности. Я вспомнил сестру, у меня сдавило горло; она бы зарыдала, увидев подобное. Я покинул монастырь, никого не встретив, и двинулся на другой конец площади. Моему взору открылась еще одна обширная площадь, в середине ее находилось пристроенное к башне вытянутое здание в обрамлении деревьев. Вокруг теснились домики, украшенные каждый на свой лад и похожие на сказочные. За центральным зданием собралась возмущенная толпа, я постарался пройти мимо, взял левее, обогнул кафедральный собор, осененный каменным крестом, который бережно поддерживали ангел, печальный Моисей с его скрижалями и какой-то задумчивый святой в лохмотьях; крест возвышался над черепом со скрещенными костями; почти такие же красовались на эмблеме моей пилотки. Еще дальше в переулочке выставили столы и стулья. Мне было жарко, я устал, в пивнушке не оказалось ни души, я присел, тут же подошла девушка и обратилась ко мне по-украински. «У вас есть пиво? Пиво?» – по-немецки спросил я. Она покачала головой: «Пива нету». Это я понял. «А кофе? Кава?» – «Да». – «Вода?» – «Да». Она вернулась за стойку и принесла стакан воды, я выпил его залпом. Потом подала кофе, уже с сахаром. Сладкий я не пью. Я зажег сигарету. Девушка снова оказалась возле меня, взглянула на кофе, уточнила, насколько позволял ее немецкий: «Кофе? Не хорошо?» – «Сахар. Нет». – «А!» Она улыбнулась, забрала чашку, принесла другую. Кофе был крепкий, без сахара, я прихлебывал его и курил. Расположенная у подножия собора справа от меня часовня, опоясанная черной лентой барельефов, загораживала вид. Человек в немецкой военной форме огибал ее, изучая вереницу переплетенных скульптур. Он заметил меня и устремился к кафе, я разглядел его погоны, быстро встал и отсалютовал. Он тоже отдал честь. «Добрый день! Так вы – немец?» – «Да, господин гауптман». Он вынул платок, промокнул лоб. «Тем лучше, позвольте, я присяду?» – «Конечно, господин гауптман». Девушка появилась опять. «Вы предпочитаете кофе с сахаром или без? Это все, что у них есть». – «С сахаром, пожалуйста». Я растолковал девушке, чтобы она принесла еще два кофе и сахар на блюдце, потом сел на место. Он протянул мне руку: «Ганс Кох. Я из абвера». Я тоже представился. «О, так вы из СД? Действительно, я не обратил внимания на вашу нашивку. Тем лучше, тем лучше». Гауптман производил впечатление человека весьма симпатичного: ему перевалило за пятьдесят, он носил круглые очки и слегка оброс жирком. Я различил у него австрийский, но не венский, акцент. «Вы – австриец, я предполагаю, господин гауптман?» – «Да, из Штирии. А вы?» – «Мой отец родился в Померании, а я в Эльзасе, мы жили то там, то сям». – «Конечно, понятно, понятно. Вы прогуливаетесь?» – «В некотором роде, да». Он кивнул: «А я здесь по случаю собрания. Уже скоро. Тут совсем недалеко». – «Собрания, господин гауптман?» – «Знаете, нас приглашали на культурное мероприятие, но мне кажется, это будет политическое собрание. – Он наклонился ко мне, словно собираясь сделать признание. – Меня направили как эксперта по украинским национальным вопросам». – «А вы – эксперт?» – «Вовсе нет! Я профессор теологии. Я немного разбираюсь в проблеме униатской церкви, и только. Вероятно, меня назначили, потому что я воевал в кайзеровской армии в чине лейтенанта во время Мировой войны [8], понимаете, они, должно быть, решили, что я специалист по национальному вопросу; но я служил тогда на итальянском фронте и к тому же в администрации. Правда, общался с коллегами хорватами…» – «Вы знаете украинский?» – «Ни единого словечка. Но у меня есть переводчик. Он сейчас на площади, выпивает с типами из ОУН». – «ОУН?» – «Да. Вы разве не знаете, что сегодня утром они захватили власть? Кстати, и радио тоже. И зачитали призыв к восстановлению Украинского государства, если я правильно понял. Вот почему меня обязали идти на собрание. Митрополит, как мне передали, благословит новое государство. Кажется, наши его просили, я точно не знаю». – «Какой митрополит?» – «Униат, кто же еще. Православные нас ненавидят. Они и Сталина ненавидят, но нас сильнее». Я хотел расспросить его подробнее, но не успел: женщина в грязи, почти голая, в разодранных чулках, выскочила с воем из-за церкви; она ринулась в нашу сторону, споткнулась, перевернула один из столиков и с пронзительным визгом упала к нашим ногам. Ее белую кожу покрывали синяки, но кровь почти не текла. За ней спокойно вошли два бравых молодца с повязками на рукаве. Один извинился на плохом немецком: «Простите, Offizieren. Kein Problem» [9]. Другой приподнял женщину за волосы и ударил ее кулаком в живот. Она икнула и затихла, на ее губах выступила пена. Первый залепил ей ногой под зад, и она снова побежала. Они, смеясь, затрусили следом и исчезли за часовней. Кох снял пилотку, в очередной раз вытер лоб, я водрузил на место опрокинутый стол. «Они просто дикари», – сказал я. «О да, я с вами совершенно согласен. Но я полагал, что ваше ведомство одобряет их действия?» – «Меня бы это крайне удивило, господин гауптман. Однако я только что приехал, у меня нет последних данных». Кох продолжал: «В АОК, насколько мне известно, уверены, что СД приказала отпечатать плакаты и всячески разжигать национальную рознь. Они развернули так называемую Операцию Петлюра. Слышали о таком украинском лидере? Насколько я помню, его убил еврей. В двадцать шестом или двадцать седьмом». – «И все-таки вы – знаток». – «Я всего лишь прочитал несколько рапортов». Из пивнушки выглянула девушка. Улыбаясь, она знаком показала, что кофе готов. Местными деньгами я пока не обзавелся. Я покосился на часы: «Извините, господин гауптман. Мне пора идти». – «Да, конечно. – Он потряс мою руку. – Не сдаваться!»
Я выбрал самую короткую дорогу, ведущую из Старого города, и с трудом пробился через торжествующую толпу. В группенштабе царило оживление. Меня приветствовал тот же офицер: «А, опять вы». Наконец, бригадефюрер д-р Раш меня принял. Он встретил меня сердечным рукопожатием, но его лицо оставалось суровым. «Садитесь. Что произошло со штандартенфюрером Блобелем?» Он не надевал фуражки, и его большой выпуклый лоб блестел в свете лампы. Я кратко рассказал про нервное истощение Блобеля: «По мнению врача, кризис спровоцирован лихорадкой и усталостью». Раш скривил толстые губы. «Мне из АОК поступила письменная жалоба на него. Он угрожал офицерам вермахта?» – «Это преувеличение, бригадефюрер, правда, Блобель бредил, вел себя неадекватно. Но это не касалось никого лично и явилось следствием болезни». – «Хорошо». Он уточнил еще некоторые детали, потом дал понять, что беседа закончена. «Штурмбанфюрер фон Радецки уже возвращается в Луцк, он будет замещать штандартенфюрера, пока тот не поправится. Мы подготовим приказы и другие бумаги. По поводу ночлега обратитесь в администрацию к Гартлю, он вас разместит где-нибудь». Я вышел и отправился на поиски кабинета, где находился начальник Первого управления; его помощник выдал мне деньги. Потом я спустился, чтобы найти Гёфлера и Поппа. И в холле столкнулся с Томасом. «Макс! – Он потрепал меня по плечу, мне стало так радостно. – До чего я рад тебя видеть! Какими судьбами?» Я объяснил. «Ты остаешься до завтра? Прекрасно. Я ужинаю с людьми из абвера в маленьком ресторанчике, надеюсь, неплохом. Составишь компанию? Тебе выделили кровать. Не роскошно, но по меньшей мере чистые простыни обеспечены. Тебе повезло, что ты приехал сегодня. Вчера творился такой кавардак. Красные, отступая, унесли все, что смогли, а украинцы еще до нашего прибытия подгребли остатки. Мы для уборки пригнали евреев, но понадобился не один час, чтобы навести тут порядок, до рассвета не спали». Прежде чем уйти, я предложил встретиться в саду за домом. Попп храпел в «опеле», Гёфлер резался в карты с полицейскими; я коротко их проинформировал и отправился в сад покурить, ожидая Томаса.
Томас – мой близкий приятель, и я по-настоящему обрадовался, увидев его. Мы подружились несколько лет назад; в Берлине часто обедали вместе; иногда он звал меня в ночные кабаки, иногда на концерт. Он любил пожить на широкую ногу и всегда держал нос по ветру. В Россию я попал главным образом из-за него; во всяком случае, по его совету. Хотя на самом деле история началась чуть раньше. Весной 1939-го я защитил диссертацию и вступил в СД, тогда много говорили о войне. После Богемии и Моравии фюрер сосредоточился на Данциге; проблема заключалась в том, чтобы правильно оценить реакцию французов и англичан. Большинство считало, что Франция и Великобритания не рискнут ввязываться в войну за Данциг, как не рискнули это сделать из-за Праги; но обе страны гарантировали Польше безопасность западных границ и теперь спешно вооружались. Мы подолгу обсуждали сложившуюся обстановку с доктором Бестом, моим научным руководителем и в некотором роде наставником в СД. Теоретически, утверждал он, нам нечего бояться войны; война – это логическое завершение Weltansсhauung, мировоззрения. Цитируя Гегеля и Юнгера, он аргументированно доказывал, что государство способно достичь пика абсолютного единства только во время и посредством войны: «Если индивидуум сам по себе есть отрицание государства, то война – отрицание этого отрицания. Война – событие, которое, как никакое другое, формирует основы коллективного существования народа, Volk». Но в высших кругах решались проблемы куда более прозаические. В министерстве Риббентропа, в абвере, в нашем департаменте у каждого имелась своя точка зрения на ситуацию. Однажды меня вызвали к шефу, Рейнхарду Гейдриху. Это произошло впервые, и я входил в его кабинет со смешанным чувством радостного возбуждения и страха. Он сосредоточенно работал над целой стопкой документов, и я несколько минут стоял навытяжку, пока он не указал мне на стул. Мне вполне хватило времени разглядеть его. До тогдашней встречи я, конечно, его уже неоднократно видел, на служебных переговорах или в коридорах Дворца принца Альбрехта; но, если на расстоянии Рейнхард мне казался идеальным воплощением Übermensch, сверхчеловека, нордического типа, вблизи он производил странное впечатление, черты его как будто расплывались. Я подумал, что дело здесь в пропорциях: под необычайно высоким и выпуклым лбом рот выглядел слишком большим, а губы для узкого лица были слишком толстые; нервные длинные пальцы напоминали шевелящиеся водоросли, приросшие к ладоням. Когда он посмотрел на меня, я заметил, что его близко посаженные глаза бегают; а когда наконец заговорил, голос его зазвучал неестественно тонко для мужчины столь крупного телосложения. Меня приводила в замешательство женственность, сквозившая в его облике и делавшая его еще более зловещим. Он говорил быстро и кратко, почти никогда не заканчивая предложений, смысл которых оставался, тем не менее, ясным и понятным. «У меня к вам поручение, доктор Ауэ. Рейхсфюрер был недоволен рапортами о намерениях западных держав. Он желал получить иную оценку происходящего, независимую от мнения Министерства иностранных дел. Ни для кого не было секретом, что в этих странах существует достаточно мощное пацифистское движение, даже в недрах националистических и пронацистских кругов; однако степень их влияния на правящие партии определить было трудно. Вы отлично ориентируетесь в Париже, я думаю. Из вашего досье мне известно, что вы вхожи в круги, близкие к „Аксьон франсез“. Между тем эти люди приобрели значительный авторитет». Я попытался вставить слово, но Гейдрих меня перебил: «Речь идет вот о чем». Он хотел отправить меня в Париж, чтобы там я возобновил все свои старые связи и постарался понять, какой реальный политический вес имеют пацифисты. Я должен всех предупредить, что после учебы уезжаю на каникулы. Разумеется, мне надлежит убеждать всех, кто интересуется данной проблемой, что в отношении Франции национал-социалистическая Германия имеет мирные намерения. «Доктор Хаузер поедет с вами. Но рапорты вы будете писать самостоятельно. Штандартенфюрер Тауберт выдаст вам деньги и необходимые документы. Вам все ясно?» На самом деле я находился в полном замешательстве, и он застал меня врасплох: «Zu Befehl, группенфюрер», – все, что я смог ответить. «Отлично. Возвращайтесь в конце июля. Вы свободны, идите».
Я пошел к Томасу. Я радовался, что мы едем вместе: студентом он провел несколько лет во Франции и превосходно знал французский. «Слушай! Ты слишком переживаешь, – начал он сразу, увидев меня. – Радуйся! Тебе поручили задание, миссию, а это что-то да значит». Я внезапно осознал, что и вправду для меня все обернулась удачно. «Вот увидишь, если все получится, то многие двери распахнутся перед нами. Скоро все забурлит, и тот, кто сумеет воспользоваться моментом, сможет неплохо устроиться». Он уже успел посетить Шелленберга, главного советника Гейдриха по иностранным делам; Шелленберг подробно объяснил, что от нас требуется. «Чтобы узнать, кто хочет войны, кто – нет, достаточно читать газеты. Гораздо труднее определить влияние и тех и других. И прежде всего влияние евреев. Фюрер, кажется, совершенно убежден, что они хотят втянуть Германию в новый конфликт; но допустит ли подобное Франция? Вот в чем вопрос». Томас весело рассмеялся: «И потом, в Париже вкусно кормят! И девушки красивые». Наша командировка протекала гладко. Я встретился с друзьями – Робером Бразийаком, он собирался в фургоне путешествовать по Испании с сестрой и Бардешем, ее мужем, Блондом, Ребате и другими – менее известными – старыми приятелями из начальной школы и Свободной школы политических наук. Ночью полупьяный Ребате тащил меня в Латинский квартал и с ученым видом комментировал намалеванные на стенах Сорбонны граффити: MENE THECEL PHARES [10]; иногда днем – к невероятно прославившемуся Селину, недавно опубликовавшему второй и очень едкий памфлет; в метро Пулен, друг Бразийака, цитировал мне целые куски: Между Францией и Германией не существует никакой лютой, непреодолимой ненависти. А вот что существует, так это неустанные, безжалостные происки еврейско-британских разжигателей войны, из кожи вон лезущих, чтобы помешать Европе еще раз, как до восемьсот сорок третьего года, выступать единым блоком, образовав франко-германское единство. Весь хитроумный план еврейско-британской коалиции имеет целью усугубить конфликт, стравить нас друг с другом, устроить бойню, из которой мы, конечно, всегда выбираемся, но каждый раз в ужасающем состоянии, так что и французы, и немцы, обескровленные, оказываются целиком и полностью во власти евреев из Сити. Гаксотт и Робер, по версии «Юманите» заключенные в тюрьму, утверждали, что французская политика строится на астрологических прогнозах Трарьё д’Эгмона, предсказавшего точную дату Мюнхенского соглашения. Плохим знаком стало решение французского правительства выдворить из страны Абеца и других официальных немецких представителей. Когда спрашивали мое мнение, я говорил: «С тех пор как Версаль очутился на задворках истории, французский вопрос перестал для нас существовать. Никто в Германии не претендует на Эльзас или Лотарингию. Но с Польшей ничего не урегулировано. Мы не понимаем, что заставляет Францию вмешиваться». А французское правительство действительно не желало оставаться в стороне. Те, что не внимали доводам об опасности, исходящей от евреев, ругали Англию: «Они хотят сохранить свою Империю. Со времен Наполеона основная линия их политики – не допустить появления на континенте единой силы». Остальные, наоборот, считали, что Англия скорее старается уклониться от вмешательства, а французский Генеральный штаб жаждет альянса с русскими, чтобы напасть на Германию, пока не поздно. Несмотря на общее воодушевление, мои друзья были настроены пессимистично. «Французские правые плюют против ветра, – поделился со мной как-то вечером Ребате. – Из порядочности». Все мрачно признавали, что рано или поздно война все-таки начнется. Правые проклинали левых и евреев; левые и евреи, конечно же, Германию. Томаса я видел редко. Один раз я привел его в бистро, где встречался с сотрудниками газеты «Же сюи парту» [11], и представил как университетского друга. «Твой Пилад?» – с издевкой спросил Бразийак по-гречески. «Именно, – парировал Томас тоже на греческом, смягченном венским акцентом. – А он – мой Орест. Остерегайся крепкой дружбы воинов». Томас завязывал контакты в основном в деловых кругах; пока я довольствовался вином и паштетами в мансардах, набитых разгоряченными молодыми людьми, он дегустировал фуа-гра в лучших ресторанах города. «Тауберт платит, – смеялся он. – Стоит ли отказываться?»
По возвращении в Берлин я отпечатал свой доклад. Мои выводы были пессимистичны, но обоснованны: французские правые силы решительно против войны, но почти не имеют политического веса. Правительство, находящееся под влиянием евреев и британских плутократов, придерживается мнения, что немецкая экспансия, даже оставаясь на своем естественном пространстве, Grossraum, угрожает жизненным интересам Франции; правительство вступит в войну не из-за Польши, а защищая собственные гарантии, данные Польше. Я передал донесение Гейдриху и по его просьбе отослал копию Вернеру Бесту. «Вы, безусловно, правы, – сказал мне Бест, – но от вас ждали совсем другого». Я не стал обсуждать свой доклад с Томасом; когда я делился с ним основными выводами, он недовольно скривился: «Ты, правда, так ничего и не понял. Можно подумать, ты явился из французской глубинки». Томас изложил прямо противоположную позицию: французские промышленники противятся войне из-за своих интересов в области экспорта, французские вооруженные силы тоже против; таким образом, французскому правительству остается только смириться с этим. «Но ты же знаешь, что все пойдет иначе», – возразил я. «А кого заботит, что будет дальше? Какое отношение это имеет к тебе или ко мне? Рейхсфюрер хочет одного: уверить фюрера, что можно беспрепятственно, как ему и докладывают, наступать на Польшу. С тем, что произойдет потом, потом и разберутся. – Он покачал головой: – Твой рапорт рейхсфюрер во внимание не примет».
Томас оказался прав. Гейдрих никак не отреагировал на мое сообщение. Когда месяц спустя армии вермахта захватили Польшу и Франция с Великобританией объявили нам войну, Томас получил назначение в новую, элитарную айнзатцгруппу под командованием Гейдриха, а я остался прозябать в Берлине. Вскоре я понял свою ошибку: я безнадежно запутался в бесконечных цирковых играх национал-социалистов, неверно истолковал неоднозначные намеки руководства и не смог предугадать желание фюрера. Я составил точные заключения, Томас – неправильные; он получил завидное назначение и возможность дальнейшего повышения по службе, меня же выкинули за борт: стоило серьезно задуматься. В течение следующих месяцев я по определенным признакам выявил, что внутри реорганизованной РСХА, с момента неофициального слияния СП и СД, влияние Беста, несмотря на то, что он возглавил два департамента, иссякло; звезда Шелленберга, наоборот, поднималась все выше и выше. Томас, словно бы случайно, с начала года начал посещать именно Шелленберга; у моего друга был особенный талант безошибочно оказываться в нужном месте не в нужный час, а чуть раньше; таким образом, создавалось впечатление, что он всегда там и находился, а смена бюрократической власти только его догоняла. Имей я чуть больше наблюдательности, давно бы это понял. Теперь же я опасался, что мое имя всегда будут связывать с именем Беста и приклеят ярлык бюрократа, узколобого юриста, недостаточно активного, недостаточно твердых убеждений. Мне поручат составлять юридические отчеты, для такой работы постоянно требуются люди, и только. Действительно, через год в июне Вернер Бест подал в отставку и покинул ведомство РСХА, созданию которого содействовал больше, чем кто-либо. В то время я усиленно добивался, чтобы меня отправили во Францию, но получил ответ, что мои услуги больше пригодятся в Министерстве юстиции. Бест, хитрый как лиса, повсюду имел друзей и защитников. Постепенно тематика его статей изменилась: если несколько лет назад он занимался уголовным и конституционным правом, то сейчас его интересовали вопросы международного права и теория Grossraum, которую он, отмежевавшись от Карла Шмитта, развивал вместе с моим бывшим преподавателем, профессором Рейнхардом Хёном и еще несколькими интеллектуалами. Ловко разыграв свои карты, он получил высокий пост в военной администрации во Франции. А меня даже не публиковали.
Томас, приехав в увольнительную, подтвердил диагноз: «Я говорил, что ты совершил глупость. Все, кто чего-то стоят, отправились в Польшу». Сейчас он мне ничем особенно помочь не может, добавил он. Шелленберг – звезда, протеже Гейдриха, и Шелленберг меня не любит и считает ограниченным. Олендорф – другая моя опора, но его положение слишком шаткое, чтобы думать еще и обо мне. Возможно, не помешало бы встретиться с бывшими сотрудниками моего отца. Хотя теперь все немного заняты.
В конце концов, именно благодаря стараниям Томаса мои дела сдвинулись с мертвой точки. После Польши он уехал в Югославию, потом в Грецию, несколько раз его награждали, и вернулся он уже гауптштурмфюрером. Он носил только военную форму, сшитую так же элегантно, как его прежние костюмы. В мае 1941-го он пригласил меня на обед в «Хорхер», знаменитый ресторан на Лютерштрассе. «Я угощаю, – сказал он, лучезарно улыбаясь, заказал шампанского, мы выпили за победу. – Sieg Heil! За прошлые и будущие победы, – прибавил Томас. – Знаешь ли про Россию?» – «Слухи ходят, – отозвался я, – больше ничего». Он опять улыбнулся: «Мы нападаем в следующем месяце», – и подождал, пока новость произведет должный эффект. «Бог мой!» – вырвалось у меня. «Бога нет. Есть Адольф Гитлер, наш фюрер, и непобедимая мощь немецкого Рейха. Мы соберем самую многочисленную за всю историю человечества армию и раздавим их за несколько недель». Мы выпили. «Послушай, – произнес он наконец. – Шеф формирует подразделения для сопровождения ударных частей вермахта. Спецподразделения, как в Польше. У меня есть основания полагать, что он положительно воспримет инициативу молодого, талантливого офицера СС добровольно вступить в такую айнзатцгруппу». – «Я уже проявлял инициативу. Насчет Франции. Но мне отказали». – «В этот раз не откажут». – «А ты поедешь туда?» Он легонько поболтал шампанское в бокале. «Конечно. Я получил назначение в один из группенштабов. Каждый штаб руководит несколькими командами. Я уверен, что и тебя удастся пристроить в какой-нибудь командоштаб». – «А для чего, собственно, нужны эти штабы?» Он усмехнулся: «Я же тебе сказал: специальные операции. Работа СП и СД, безопасность армии в тылу, сбор информации, осведомление и все в таком роде. Держать под прицелом солдат вермахта. Взгляды их немного устарели, в Польше возникали кое-какие сложности, никто не хочет, чтобы подобное повторялось. Не желаешь поразмыслить?» Вас удивит, наверное, что я согласился без колебаний? То, что предлагал Томас, казалось таким разумным и таким интересным. Поставьте себя на мое место. Кто бы в здравом уме вообразил, что юристов вербуют для убийства людей без суда и следствия? Все мне было ясно и понятно, и я, почти не задумываясь, ответил: «Что зря время терять? Я смертельно скучаю в Берлине. Если ты за меня похлопочешь, я с удовольствием поеду». Он снова одарил меня улыбкой: «Я всегда знал, что ты прекрасный парень и на тебя можно положиться. Подожди, мы еще здорово развлечемся». Я радостно засмеялся, мы выпили шампанское. Вот так, и никак не иначе, дьявол ловит в свои сети.
Но в Лемберге я еще всего этого не осознавал. Наступали сумерки, когда Томас отвлек меня от размышлений. Со стороны бульвара до сих пор доносились отдельные выстрелы, но в целом стало гораздо спокойнее. «Ты идешь? Или останешься здесь ворон считать?» – «В чем суть „Операции „Петлюра“?» – спросил я его. «В том, что ты видишь на улице. А откуда такая осведомленность?» Я пропустил его вопрос мимо ушей: «Это вы спровоцировали погром?» – «Мы просто не мешали, скажем так. Отпечатали плакаты. Не думаю, что украинцы нуждались в отмашке с нашей стороны. Ты, кстати, видел объявления ОУН? Вы встречали Сталина цветами, а мы встретим Гитлера вашими головами. Они сами это придумали». – «Понимаю. Пойдем пешком?» – «Да, тут совсем недалеко». Ресторан находился на улочке за центральным бульваром. Дверь была закрыта, Томас постучал, дверь приоткрыли, потом распахнули настежь, мы увидели темный зал, освещенный свечами. «Только для немцев», – весело сказал Томас. «А, профессор, добрый вечер». Два офицера абвера уже пришли, кроме них не было ни одного посетителя. Я сразу узнал более внушительного, с которым поздоровался Томас; элегантный, с хорошими манерами, довольно молодой, маленькие черные глазки поблескивали на гладком, круглом, как луна, лице. Волосы у него были несколько длинноваты и с одной стороны взбиты в легкомысленный, не слишком подходящий военному кок. Я тоже пожал ему руку: «Профессор Оберлендер. Приятно встретиться с вами вновь». Он вопросительно посмотрел на меня: «Мы знакомы?» – «Нас представляли друг другу несколько лет назад, после ваших лекций в Берлинском университете. Доктор Рейнхард Хён, мой учитель». – «А, так вы – ученик доктора Хёна! Чудесно!» – «Мой друг доктор Ауэ – восходящая звезда СД», – ловко ввернул Томас. «Я не удивлен, он же – ученик доктора Хёна. Порой кажется, что вся СД прошла через его руки. – Он повернулся к своему спутнику: – Однако я вас еще не познакомил с гауптманом Вебером, моим заместителем». Оба, как я отметил, носили нашивку с соловьем, днем я уже видел такие на рукавах некоторых солдат. «Извините мою непросвещенность, – сказал я, пока все рассаживались, – что означает этот знак?» – «Это эмблема отряда „Нахтигаль“ [12], – ответил Вебер, – специального батальона абвера, набранного из украинских националистов Западной Галиции». – «Этим батальоном командует профессор Оберлендер. Выходит, что мы с ним конкуренты», – вмешался Томас. «Вы преувеличиваете, гауптштурмфюрер». – «Не слишком. Вы поставили на Бандеру, мы – на Мельника и Берлинский комитет». Дискуссия тотчас оживилась. Нам подали вина. «Бандера может быть нам полезен», – подтвердил Оберлендер. «Чем же? – возразил Томас. – Эти типы совершенно лишились тормозов, повсюду разбрасывают прокламации, ни с чем не считаясь. – Он воздел к потолку руки. – Независимость! Просто смешно». – «А вы полагаете, с Мельником лучше?» – «Мельник – разумный человек. Он ищет поддержки в Европе, террор его не интересует. Он – политик и готов на долгосрочное сотрудничество, которое и для нас бы открыло широкие перспективы». – «Возможно, но народ его не слушает». – «Взбесившиеся скоты! Если они не угомонятся, нам придется принять меры». Мы выпили. Вино было хорошее, хотя немного терпкое. «Откуда оно?» – постучал ногтем по своему стакану Вебер. «Наверное, с Карпат», – ответил Томас. «Вам известно, – Оберлендер не хотел уступать и возобновил разговор, – что ОУН два года успешно сопротивлялась советской власти. Не так-то просто их уничтожить. Правильнее установить над ними свой контроль и направить их энергию в нужное русло. По крайней мере Бандеру они послушаются. Он сегодня встречался со Стецько, и все прошло отлично». – «Кто такой Стецько?» – спросил я. Томас ответил, не скрывая иронии: «Ярослав Стецько – новый премьер-министр так называемой независимой Украины, которую мы не признаем». – «Если мы верно разыграем партию, – продолжал Оберлендер, – то быстро собьем с них спесь». Томас взвился: «С кого? С Бандеры? Он – бандит, бандитом и останется. У него душа террориста. Именно поэтому все сумасшедшие фанатики его обожают». Он повернулся ко мне: «Ты представляешь, где абвер откопал Бандеру? В тюрьме!» – «В Варшаве, – с улыбкой уточнил Оберлендер. – Он отбывал наказание за убийство польского министра в тридцать четвертом. Но я ничего плохого здесь не вижу». Томас повернулся к Оберлендеру: «Я просто говорю, что Бандера неуправляем. Вы скоро в этом убедитесь. Он сам фанатик, грезит о Великой Украине от Карпат до Дона. Выдает себя за новое воплощение Дмитрия Донского. Мельник хотя бы реалист. Его многие поддерживают. Все, на кого можно положиться, на его стороне». – «Да, конечно, но только не молодые. И потом, согласитесь, еврейский вопрос его не слишком занимает». Томас пожал плечами: «Здесь можно обойтись и без него. На самом деле исторически ОУН никогда не являлась антисемитской организацией. Лишь благодаря Сталину они изменились в этом отношении». – «Возможно, вы правы, – мягко вступил Вебер. – Но есть и другая причина, кроящаяся в тесной связи евреев и крупных польских землевладельцев». Принесли горячее: жареную утку с яблоками, пюре с тушеной свеклой. Томас разложил всем еду по тарелкам. «Очень вкусно», – воскликнул Вебер. «Да, превосходно», – вторил ему Оберлендер. «Национальная кухня?» – «Да, – принялся объяснять Томас, проглотив очередной кусок. – Утку приготовили с майораном и натерли чесноком. Обычно сначала подают суп из утиной крови, но сегодня они не решились». – «Простите, – вмешался в беседу и я, – а как ваш батальон „Нахтигаль“ вписывается в эту картину?» Оберлендер прекратил жевать и вытер губы, прежде чем ответить: «С ними дело обстоит несколько иначе. Речь здесь о русинском духе, если хотите. Идеологически – а самые старые и по духу – они относятся к национальному военному сословию императорской армии, называвшемуся „Украинские сечевые стрельцы“, что-то вроде казаков. После войны они осели здесь и многие из них воевали с Петлюрой против красных, а в восемнадцатом году и против нас, ОУН их не слишком любит. Они скорее за автономию, чем за полную независимость». – «Как, впрочем, и бульбовцы», – добавил Вебер. Он взглянул на меня: «Разве в Луцке они еще не показывались?» – «При мне нет. Они тоже украинцы?» – «Волыняне, – уточнил Оберлендер, – сами защищали свою территорию, сначала от поляков. С тридцать девятого боролись против советской власти, и в наших интересах поладить с ними. Но мне кажется, они сейчас окопались где-то вблизи Ровно и дальше у Припятских болот». Все принялись за еду. «Мне неясно, – снова заговорил Оберлендер и повел вилкой в нашу сторону, – почему большевики прижимали поляков, а не евреев. С последними, как заметил Вебер, они всегда были заодно». – «Я полагаю, ответ очевиден, – сказал Томас. – В сталинском аппарате решающее слово имеют евреи. Когда большевики оккупировали Украину, то заняли место польских панов и прибегли к уже отработанным приемам, то есть заручились поддержкой евреев, чтобы и дальше угнетать украинское крестьянство, породив тем самым справедливый народный гнев, всплеск которого мы сейчас наблюдаем». Вебер прыснул в стакан; Оберлендер гоготнул: «Справедливый народный гнев. Я вас умоляю, гауптштурмфюрер». Он глубже уселся в кресло и постукивал ножом по краешку стола. «Для публики сгодится. Для наших союзников и для американцев. Но вы-то знаете не хуже меня, как этот справедливый гнев организован». Томас любезно улыбнулся: «Однако, профессор, есть один положительный момент: население психологически вовлекается в процесс. После они с благодарностью примут вводимые нами меры». – «Надо признать, здесь вы правы». Официантка убирала со стола. «Кофе?» – осведомился Томас. «С удовольствием. Но побыстрее, вечером нас еще ждет работа». Пока несли кофе, Томас предложил нам сигареты. «Что бы там ни случилось, – рассуждал Оберлендер, наклоняясь к зажигалке, протянутой Томасом, – мне очень любопытно, что нас ждет после переправы через Збруч». – «А что?» – поинтересовался Томас, зажигая сигарету Веберу. «Вы читали мою книгу? О перенаселении сельской местности в Польше». – «К сожалению, нет». Оберлендер повернулся ко мне: «А вам доктор Хён, надеюсь, ее рекомендовал». – «Разумеется». – «Хорошо. Итак, если моя теория верна, то в самом центре Украины мы встретим богатое крестьянство». – «Почему?» – спросил Томас. «Как раз благодаря политике Сталина. За двенадцать лет двадцать пять миллионов семейных ферм превратились в двести пятьдесят тысяч крупных сельскохозяйственных предприятий. По моему мнению, раскулачивание и особенно спланированный Голодомор тридцать второго представляли собой попытки найти точку равновесия между посевными площадями, предназначенными для производства продуктов потребления, и населением, эту продукцию потребляющим. У меня есть основания верить, что их план удался». – «А если они просчитались?» – «Тогда у нас получится». Вебер сделал знак, и его спутник торопливо допил кофе. «Meine Herren, – произнес он, поднявшись и щелкнув каблуками, – спасибо за вечер. Сколько мы вам должны?» – «Оставьте, – Томас тоже встал, – вы – наши гости». – «Хорошо, при условии, что в следующий раз приглашаем мы». – «Отлично. В Киеве или в Москве?» Все засмеялись и обменялись рукопожатиями. «Передавайте привет доктору Рашу, – попросил Оберлендер. – Мы с ним часто виделись в Кёнигсберге. Надеюсь, у него найдется время присоединиться к нам как-нибудь вечером». Они ушли, Томас сел: «Хочешь коньяку? Платит подразделение». – «С удовольствием». Томас заказал. «Ты хорошо говоришь по-украински», – заметил я. «О, в Польше я немного выучил польский, а это почти одно и то же». На столе появился коньяк, мы выпили. «Что он там имел в виду насчет погромов?» Томас помолчал, прежде чем ответить. Наконец он решился, но предупредил: «Это останется между нами. Ты уже знаешь, что в Польше у нас возникли трения с армейскими. В частности, по поводу наших специальных операций. Наши методы противоречили моральным принципам этих господ. Они вообразили, что омлет можно приготовить, не разбив яйца. Сейчас приняты меры, чтобы избежать недоразумений: шеф и Шелленберг вели переговоры и заключили четкое соглашение с вермахтом; вам все объяснили в Претче. – Я утвердительно кивнул, и он продолжил: – Мы позаботимся, чтобы они не переменили своего мнения. В погромах имеется огромная польза: вермахт воочию убеждается, какой в тылу воцаряется хаос, если связать руки СС и Sicherheitspolizei – СП. И если и существует для солдата что-то ужаснее бесчестия, как они выражаются, так это беспорядок. Еще три дня, и они придут умолять нас выполнить нашу работу: чисто, незаметно, эффективно и без лишнего шума». – «Оберлендер обо всем догадывается?» – «Его это вообще не волнует. Он просто хочет быть уверенным, что ему и дальше не помешают выстраивать мелкие политические интриги. Но, – добавил он со смешком, – придет время, и его тоже прижмут к ногтю».
«Все-таки странный малый», – подумал я, укладываясь спать. Его цинизм действовал на меня отрезвляюще, но при этом коробил, хотя я понимал, что нельзя судить его лишь по его словам. Я ему полностью доверял: в СД он всегда оставался мне верной поддержкой без всяких просьб с моей стороны, хотя я не мог ничем отплатить ему за помощь. Однажды я заговорил с ним об этом напрямую, и он расхохотался: «Какого ответа ты ждешь? Что я держу тебя про запас для хитрого долгосрочного плана? Ты мне нравишься, вот и все».
Его признание тронуло меня до глубины души, а он поторопился добавить: «И зная твою неповоротливость, я, по крайней мере, уверен, что ты для меня неопасен. Что уже хорошо».
В моем вступлении в СД он сыграл немаловажную роль; собственно, так мы и познакомились; правда, произошло это при обстоятельствах весьма необычных; но не всегда же у нас есть выбор. К тому времени я уже несколько лет входил в сеть тайных агентов СД, работавших в Германии во всех сферах жизни: промышленности, сельском хозяйстве, бюрократическом аппарате, университетах. В 1934-м я приехал в Киль почти без денег и по совету одного из бывших сотрудников отца, доктора Мандельброда, записался в СС, что позволило мне не платить за вступительные экзамены в университет; благодаря их содействию меня тут же приняли. Два года спустя я присутствовал на необычайно любопытной лекции Отто Олендорфа об отклонениях от курса национал-социализма; после лекции меня представил ему мой, а несколькими годами раньше и его, руководитель, профессор экономики доктор Йессен. Оказалось, что Олендорф уже слышал обо мне от своего друга доктора Мандельброда. Он вполне открыто хвалил СД и тут же, не сходя с места, завербовал меня в ее агенты. Работа предстояла нетрудная: от меня требовалось составлять отчеты о том, что говорилось вокруг, о слухах, шутках, отношении людей к распространению национал-социализма. В Берлине, как мне объяснил Олендорф, тысячи таких рапортов сопоставляли, обобщали, и потом СД рассылала полученные данные в разные инстанции Партии, чтобы помочь правильно оценить настроения народа и в соответствии с этим формировать свою политическую линию. В некотором роде такой подход заменял выборы; Олендорф являлся одним из создателей этой системы, которой чрезвычайно гордился. Вначале я действительно загорелся, речь Олендорфа произвела на меня сильное впечатление, и я ликовал при мысли, что вношу личный вклад в строительство национал-социализма. Но в Берлине Хён, мой профессор, весьма умело охладил мой пыл. Прежде в СД его называли духовным отцом Олендорфа и многих других; но потом он поссорился с рейхсфюрером и оставил службу. За короткое время ему удалось убедить меня, что работать на осведомительные или разведывательные службы – романтика чистой воды, и я приносил бы государству гораздо больше пользы на каком-нибудь другом поприще. Я сохранил с Олендорфом нормальные отношения, но больше по поводу СД он со мной не откровенничал; как я узнал позже, у него тоже возникли трения с рейхсфюрером. Я продолжал платить взносы в СС и посещать семинары, но рапорты свои забросил и вскоре перестал даже думать о них. Я сосредоточился на своей диссертации, довольно трудоемкой и скучной; кроме того, я страстно увлекся Кантом, добросовестно изучал Гегеля и философию идеализма; воодушевляемый доктором Хёном, я рассчитывал добиться места в министерстве. Но признаюсь, что меня сдерживало еще кое-что, глубоко личное. Однажды вечером, перечитывая Плутарха, я подчеркнул его слова об Алкивиаде. В Лакедемоне можно было, например, сказать о нем, судя по его наружности: Не сын Ахилла это; это – сам Ахилл, воспитанный Ликургом; на основании же его подлинных склонностей и действий надо было бы сказать: все та же это женщина [13]. Вы усмехнулись или вас перекосило от отвращения – мне безразлично. В то время в Берлине, вопреки усилиям гестапо, при надобности можно было найти все, что пожелаешь. Пользовавшиеся определенной славой кабаки, например «Клейст-казино» или «Силуэт», по-прежнему были открыты, облавы там происходили редко, видимо, они кому-то платили. Кроме того, подобные места существовали в районе Тиргартена, у Нойер-зее перед зоопарком, ночью полицейские туда соваться не осмеливались; за деревьями выжидали штрихюнген [14] или молодые мускулистые рабочие из Веддинга. В университете я пару раз находил себе дружков, но такие связи приходилось скрывать, и долго они не длились; а вообще я предпочитал любовников из пролетариев: не за разговорами я к ним обращался.
Несмотря на все предосторожности, неприятности у меня все-таки возникли. Следовало быть еще осмотрительнее, да и поводы насторожиться у меня были. Так, Хён с невинным видом предложил мне отрецензировать книгу адвоката Рудольфа Кларе «Гомосексуальность и уголовное право». Этот человек, кстати прекрасно информированный, установил типологию гомосексуальных практик и уже на ее основе предлагал классификацию мер наказания. Он начинал с абстрактного коитуса, или созерцания (уровень 1), переходил к прижатию обнаженного пениса к разным частям тела партнера (уровень 5) и ритмическому трению пениса между коленями, ногами или подмышками партнера (уровень 6) и заканчивал прикосновениями языка к пенису, пенисом во рту и пенисом в анусе (уровни 7, 8, 9). Каждому уровню соответствовало наказание, и строгость его с каждым уровнем возрастала. Кларе, очевидно, когда-то был воспитанником интерната; но Хён утверждал, что Министерство внутренних дел и полиция безопасности воспринимали его идеи всерьез. Я же не нашел в них ничего, кроме повода для смеха. Однажды весенним вечером – в 1937-м – я решил прогуляться к Нойер-зее. Я всматривался в сумрак деревьев, пока не пересекся взглядом с молодым парнем; потом достал сигарету, попросил прикурить, вместо того, чтобы наклониться к зажигалке, отодвинул его руку, выкинул сигарету, положил ладонь ему на затылок и поцеловал в губы, наслаждаясь его дыханием. Я следовал за ним, укрываясь в тени деревьев, мы отдалились от дорожек парка, сердце мое, как всегда в таких случаях, бешено колотилось в горле и висках; я дышал словно сквозь душную, сухую завесу. Потом я расстегнул ему брюки и уткнулся лицом в его живот, ощущая едкий запах пота, мужского тела, мочи и одеколона, я потерся щекой о его кожу, густые курчавившиеся волосы, член, лизнул его, обхватил губами; не в силах терпеть, я прижал парня к дереву, повернулся, не выпуская его члена из рук, и вводил в себя, пока не перестал чувствовать время и боль. Когда все закончилось, он быстро ушел, не произнеся ни слова. Все еще ощущая блаженство, я прислонился к дереву, привел себя в порядок, закурил и попытался унять дрожь. Как только я опять смог передвигать ноги, я направился к Ландверканалу с тем, чтобы пройтись и вернуться к остановке городской железной дороги «Zoo». Я летел, как на крыльях. На мосту Лихтенштейн, облокотившись о перила, стоял человек: я его узнал, у нас были общие знакомые, звали его Ганс П. Он был бледный, растерянный, без галстука; лицо его, казавшееся зеленоватым в тусклом свете уличных фонарей, блестело от пота. Моя эйфория сразу испарилась. «Что вы здесь делаете?» – не слишком дружелюбно подступил я к нему. «А, Ауэ, вы… – В его смехе зазвучали истерические нотки. – Вам надо это знать? – Наша встреча принимала необычный оборот; я замер от удивления, потом кивнул. – Я хотел спрыгнуть, – объяснял он, кусая верхнюю губу, – но не решился. Я даже, – продолжал он, распахнув пиджак и показывая рукоятку пистолета, – я даже прихватил с собой это». – «Черт, где вы его нашли?» – спросил я тихо. «У меня отец – офицер. Я у него украл. Пистолет заряжен. – Он с беспокойством посмотрел на меня. – Вы бы не согласились мне помочь?» Я огляделся: вдоль канала, на всем его протяжении, никого не было. Я медленно протянул руку и вытащил пистолет у него из-за пояса. П., как завороженный, следил за мной. Я проверил обойму: полная – и с сухим щелчком вставил ее обратно. Потом левой рукой грубо обхватил П. за шею, толкнул к перилам и прижал дуло к его губам. «Открывай! – рявкнул я. – Открой свой рот! – Сердце мое бешено билось, я думал, что кричу, хотя очень старался не повышать голос. – Открывай! – Он разжал зубы, я засунул ему пушку в рот. – Ты так хотел? Соси!» Ганс П. обмирал от ужаса; я вдруг почувствовал резкий запах мочи, опустил глаза: его брюки намокли. Бешенство, внезапно непостижимым образом овладевшее мной, схлынуло в один миг. Я заткнул ему пистолет за пояс, потрепал по щеке. «Все образуется. Иди домой». Я оставил его, перешел мост и свернул направо. Через несколько метров передо мной словно из-под земли выросли трое полицейских. «Эй, ты! Что ты здесь делаешь? Документы!» – «Я студент. Гуляю». – «Знаем мы эти прогулочки. А тот, на мосту? Наверное, твоя подружка?» Я пожал плечами: «Мы не знакомы. Он сумасшедший, пытался мне угрожать». Они обменялись взглядами, двое потрусили к мосту; я попытался скрыться, но третий схватил меня за руку. На мосту завязалась возня, послышались крики, выстрелы. Полицейские вернулись, один, смертельно бледный, держался за плечо, между пальцами у него текла кровь. «Скотина. Ранил меня. Но от нас не уйдешь!» Его приятель злобно уставился на меня: «А ты, ты отправишься с нами».
Меня доставили в полицейский участок на углу Дерффлингерштрассе и Курфюрстенштрассе; сонный полицейский забрал мои документы, задал пару вопросов, записал ответы на бланке; потом мне велели сидеть на скамье и ждать. Через два часа меня перевезли в центральный комиссариат Тиргартена. Меня ввели в комнату, где за столом восседал человек плохо выбритый, но в тщательно отглаженном костюме. Он был из крипо – криминальной полиции. «Вы по уши в дерьме, молодой человек. Некто стрелял в полицейского, потом в себя. И кто же он? Вы знакомы? Вас видели с ним на мосту. Что вы там делали?» В участке у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить, я выбрал самую простую версию: аспирант, люблю гулять по ночам, обдумывая диссертацию; шел от своего дома на Пренцлауэрберг, побродил по улице Унтер-ден-Линден, потом через Тиргартен хотел пройти к станции городской железной дороги и вернуться к себе; переходил мост, и этот парень направился ко мне, что-то пробормотал, я не разобрал, его странный вид напугал меня, я решил, что он мне угрожает, и поспешил уйти, потом я встретил патрульную полицию – шупо, вот, собственно, и все. Он мне задал тот же вопрос, что и полицейские: «Всем известно, что в этих местах происходят встречи определенного характера. Вы уверены, что парень – не ваш дружок? Ссора между любовниками? Полицейские утверждают, что вы разговаривали». Я отрицал, повторил свою историю: аспирант, ну и так далее. Допрос продолжался довольно долго, инспектор напирал, тон его менялся, становился резким и грубым; неоднократно он пытался меня спровоцировать, но я не поддавался, решив, что правильнее всего сохранять спокойствие. Затем мне страшно захотелось в туалет, и, помаявшись некоторое время, я все-таки сказал об этом. Он усмехнулся: «Нет. Сначала разберемся, – и принялся по новой. Потом махнул рукой: – Хорошо, господин адвокат. Присядьте в коридоре. Продолжим позже». Я вышел из кабинета и уселся у входа. Рядом с двумя полицейскими и пьяным, спавшим на банкетке. Лампочка на потолке мигала. Вокруг было тихо и чисто. Я ждал.
Прошло еще несколько часов, наверное, я задремал; окно в коридоре посветлело, занималось утро, вошел человек. Одетый со вкусом, в хорошо сшитом костюме, с накрахмаленным воротничком и в жемчужно-сером шерстяном галстуке; на лацкане пиджака значок Партии, под мышкой портфель из черной кожи. Его густые, черные как смоль волосы были прямо зачесаны назад и блестели от бриллиантина, он увидел меня, лицо его осталось непроницаемым, но глаза смеялись. Он что-то шепотом сказал охранникам; один из них пошел вперед по коридору, показывая дорогу, потом они скрылись за дверью. Вскоре полицейский вернулся и ткнул в меня толстым пальцем: «Ты! Давай сюда». Я встал, потянулся, последовал за ним, еле сдерживая нужду. Полицейский опять привел меня в комнату для допросов. Инспектор-криминалист уже исчез. На его месте сидел изящный молодой человек; одна рука в крахмальном манжете покоилась на столе, другую он небрежно перебросил через спинку стула; черный портфель лежал у его локтя. «Входите, – вежливо, но твердо сказал он; указал мне на стул перед столом: – Садитесь, пожалуйста». Полицейский закрыл дверь, и я сел. Из коридора донесся стук подбитых гвоздями сапог удаляющегося охранника. Элегантный молодой человек говорил с мягкими интонациями, однако я уловил в них и язвительные нотки. «Мой коллега из криминальной полиции Гальбей инкриминирует вам статью сто семьдесят пять. Вы подходите под статью сто семьдесят пять?» Вопрос мне показался вполне закономерным, и я честно ответил: «Нет». – «Я так и думал, – сказал он. Посмотрел на меня и протянул руку через стол: – Меня зовут Томас Хаузер. Рад знакомству». Я наклонился, чтобы пожать ее. Крепкие пальцы, сухая, гладкая кожа, безупречно ухоженные ногти. «Ауэ. Максимилиан Ауэ». – «Да, я в курсе. Вам повезло, господин Ауэ. Комиссар Гальбей уже направил предварительный рапорт об этом несчастном случае в городскую полицию, указав на вашу предполагаемую причастность к делу. Копию он адресовал советнику уголовной полиции Мейзингеру. Знаете ли вы, кто такой Мейзингер? – «Нет, не знаю». – «Советник уголовной полиции Мейзингер возглавляет центральный департамент Рейха по борьбе с гомосексуализмом и абортами. То есть как раз занимается сто семьдесят пятыми. Неприятный тип. Баварец. – Он выдержал паузу. – К счастью для вас, рапорт комиссара Гальбея попал ко мне. Той ночью я дежурил. Я не отправил копию Мейзингеру». – «Очень любезно с вашей стороны». – «Да, именно. Наш друг инспектор-криминалист Гальбей поставил вас под подозрение. Но Мейзингеру подозрения не нужны, его интересуют факты. Существуют методы, позволяющие эти факты получить, их не слишком одобряют в городской полиции, хотя по большей части они очень эффективны». Я замотал головой: «Послушайте… Я не очень хорошо понимаю, о чем вы говорите. Здесь какое-то недоразумение». Томас слегка прищелкнул языком: «Да, возможно, вы правы, речь пока идет о недоразумении или, скорее, о злополучном совпадении, если пожелаете, наскоро истолкованном ревностным служакой комиссаром Гальбеем». Я придвинулся к столу, развел руками: «Это просто идиотизм. Я студент, член Партии, СС…» Он перебил: «Я знаю, что вы – член Партии и СС. Я близко знаком с профессором Хёном. Я прекрасно знаю, кто вы». Тут я понял: «А, так вы из СД». Томас дружелюбно улыбнулся: «В некотором смысле, да. Вообще-то я работаю с доктором Зиксом, заместителем вашего профессора Хёна. Но в настоящий момент я прикреплен к городской полиции как ассистент доктора Беста, помощника шефа в разработке правовой базы СП». Уже тогда я обратил внимание, что он сделал особое ударение на слове «шеф». «Вы в СД все имеете степень доктора?» – спросил я. Он снова улыбнулся, широко и открыто: «Почти». – «Значит, вы тоже – доктор?» Он кивнул: «Юридических наук». – «Ясно». – «У шефа, наоборот, степени нет. Но он значительно умнее нас всех, вместе взятых. Он использует наши способности для достижения своих целей». – «Каковы же его цели?» Томас нахмурил брови. «Что вы изучали у доктора Хёна? Защиту государства, надо полагать?» Он замолчал. Я тоже притих, мы смотрели друг на друга. Казалось, он чего-то ждал. Он наклонился, оперся подбородком на руку, пальцами другой – с идеальным маникюром – он постукивал по поверхности стола. Потом со скучающим видом задал вопрос: «Вас разве не интересует безопасность государства, господин Ауэ?» Я колебался: «Я не защитил диссертацию…» – «Защита не за горами». Опять на несколько секунд повисло молчание. «Я никак не могу сообразить, к чему вы ведете?» – выдавил я. «Ни к чему, разве только к тому, как вам избежать ненужных неприятностей. Знаете, рапорты, которые вы некогда составляли для СД, не остались незамеченными. Отлично написаны и отражают Weltanschauung, вы концентрировались на главном, образцовая точность ваших отчетов не подлежит сомнению. Жаль, что вы не продолжили, но, впрочем, это ваше дело. Однако, когда я прочитал донесение инспектора криминальной полиции Гальбея, я подумал, что для национал-социализма вы стали бы серьезной потерей. Я позвонил доктору Бесту, разбудил его среди ночи, он согласился со мной и направил сюда, чтобы уговорить инспектора Гальбея не наделать в спешке глупостей. Вы должны осознать, что открыто уголовное дело, как всегда в случаях смерти человека. К тому же ранение полицейского. Вы предстанете перед судом, по меньшей мере, как свидетель. Поскольку преступление, согласно рапорту, произошло в общеизвестном месте встреч гомосексуалистов, даже если я уговорю комиссара Гальбея умерить свой пыл, рано или поздно дело автоматически передадут на рассмотрение служб Мейзингера. С этого момента он заинтересуется вами и станет рыть, как свойственно тем противным животным, к коим он принадлежит. Каковы бы ни были результаты, в вашем личном деле останутся несмываемые пятна. И не секрет, что рейхсфюрер СС преследует гомосексуализм с особой одержимостью. Гомосексуалисты пугают его, он их ненавидит. Считает, что человек с наследственной гомосексуальной предрасположенностью в состоянии заразить своей болезнью десятки молодых людей, и все они потом будут потеряны для расы. Он полагает, что извращенцы – врожденные лгуны, верящие в собственную ложь, следствием чего является психическая распущенность, делающая их неспособными к верности и чрезмерно болтливыми и, возможно, ведущая к предательству. Таким образом, потенциальная опасность, которую представляет гомосексуалист, из медицинской проблемы, поддающейся терапии, превращается для государства в проблему политическую, излечимую только методами СД. Недавно он пришел в восторг от предложения одного из наших лучших историков права, профессора и унтерштурмфюрера СС Экхардта – вы наверняка его знаете – вернуться к старому германскому обычаю: топить «женоподобных» в торфяниках. Я первый готов признать, что подобная точка зрения – некая крайность, и даже если ход его размышлений трудно оспорить, никто не станет относиться к делу столь категорично. К тому же самого фюрера не особо волнует этот вопрос. Но в то же время отсутствие интереса с его стороны дает рейхсфюреру с его неадекватными идеями полную свободу действий в определении сегодняшней политики. Таким образом, если у Мейзингера сформируется неблагоприятное мнение о вас и даже если он не добьется меры наказания по статьям сто семьдесят пять и сто семьдесят пять-а Уголовного кодекса, на вас обрушатся разного рода неприятности. Я не исключаю, что советник полиции Мейзингер потребует вашего предварительного заключения. Я буду очень огорчен, и доктор Бест тоже». Я слушал его вполуха: мочи не было терпеть, но все-таки я среагировал: «Я не понимаю, куда вы клоните? У вас есть ко мне предложение?» – «Предложение? – Томас приподнял брови. – Да за кого вы нас принимаете? Вы вообразили, что СД прибегает к шантажу для вербовки? Глубоко ошибаетесь. Нет, – дружески улыбнулся он, – я просто пришел помочь вам, как один национал-социалист другому, из духа товарищеской солидарности. Конечно, – продолжил он насмешливо, – мы подозреваем, что профессор Хён настраивает своих студентов против СД, очевидно, он предостерегал и вас, очень жаль. А знаете, ведь именно Хён меня и завербовал. Но он оказался неблагодарным. Хорошо бы вам перестать относиться к нам предвзято. И если однажды наша работа заинтересует вас, доктор Бест будет рад обсудить детали. Приглашаю вас подумать. Но к моему сегодняшнему демаршу это никакого отношения не имеет». Должен признаться, мне импонировала его манера поведения, открытая и непосредственная. Меня впечатляли честность, энергия, спокойная убедительность, которую излучал Томас. Все это совершенно не вязалось со сформировавшимся у меня образом агента СД. Но он уже вставал: «Вы покинете участок со мной. Препятствий не возникнет. Я проинформирую Гальбея, что вы находились в том месте по поручению СД, дело приостановят. В назначенное время вы дадите соответствующие показания. Все уладится, как надо». Я мечтал только об одном – попасть в туалет; мы прервали беседу, Томас терпеливо ждал в коридоре, пока я облегчался. Я даже успел подумать и вышел уже с четкими намерениями. На улице день был в разгаре. Томас попрощался со мной на Курфюрстенштрассе и сердечно пожал мне руку: «Я уверен, что мы скоро увидимся. Пока!» Вот так, с задницей, еще полной спермы, я принял решение вступить в службу безопасности.
На следующий день после ужина с Оберлендером я проснулся и пошел к Геннике, командующему группенштабом. «А, оберштурмфюрер Ауэ. Депеши для Луцка почти готовы. Зайдите к бригадефюреру. Он в тюрьме „Бригитки“. Вас проводит унтерштурмфюрер Бек». Бек был еще очень молод, с прекрасной выправкой, но казался каким-то мрачным, словно его душил скрытый гнев. Поздоровавшись, мы обменялись затем от силы парой фраз. Люди на улицах находились в еще большем возбуждении, чем накануне, отряды вооруженных националистов патрулировали город, движение было затруднено. И немецкие солдаты встречались теперь гораздо чаще. «Мне нужно на вокзал, забрать посылку, – сказал Бек. – Это не расстроит ваших планов?» Его шофер уже хорошо ориентировался; чтобы обогнуть толпу, он срезал путь, свернув на поперечную улицу, которая дальше змеилась по невысокому склону вдоль добротных домов тихого, зажиточного квартала. «Красивый город», – заметил я. «Ничего удивительного. Он же по существу немецкий», – возразил Бек. Я замолчал. На вокзале он оставил меня в машине и исчез в толпе. Из трамваев выкатывались пассажиры, их место тут же занимали другие, и трамвай отъезжал. Слева, в небольшом скверике, равнодушные к общей суматохе, отдыхали под деревьями грязные, смуглолицые, в пестрых одеждах цыгане. Некоторые из них околачивались у вокзала, но не попрошайничали; даже дети не играли, не резвились. Бек вернулся с маленьким свертком. Он проследил за моим взглядом и увидел цыган: «Вместо того чтобы терять время на евреев, лучше бы занялись этими, – тон его был желчным. – Цыгане более опасны. Они работают на красных, вы в курсе? Ну ничего, они свое получат». Когда мы выехали на длинную улицу, поднимавшуюся от вокзала, Бек снова заговорил: «Здесь находится синагога, я хотел бы взглянуть. А потом поедем в тюрьму». Синагога стояла немного в стороне на боковой улочке, слева от широкого проспекта, ведущего в центр города. Двое немецких солдат охраняли вход. Обшарпанный фасад выглядел непривлекательно; только звезда Давида на фронтоне указывала на назначение здания; поблизости не видно было ни одного еврея. Я прошел за Беком внутрь через низкую дверь. Просторное центральное помещение, высотой в два этажа, наверху опоясывала галерея, без сомнения, отведенная для женщин; стены украшали прекрасные росписи, наивные и очень выразительные: огромного, кое-где поврежденного пулями иудейского льва окружали шестиконечные звезды, попугаи и ласточки. Вместо скамей стояли стульчики с прикрепленными к ним школьными пюпитрами. Бек долго пялился на росписи, потом вышел. На улице перед тюрьмой собралась толпа, царила невообразимая сутолока. Люди надрывались до хрипоты, женщины истерично рвали на себе одежду и катались по земле; под охраной фельджандармов евреи ползали на коленях и терли тротуар; время от времени кто-нибудь подскакивал к ним и бил ногой, багровый фельдфебель орал: «Juden, kaputt!», украинцы восторженно аплодировали. У ворот тюрьмы я пропустил колонну евреев, кто был в рубахе, кто раздет по пояс, многие истекали кровью, под конвоем немецких солдат они несли и грузили на тележки разлагающиеся трупы. Старухи в черном с воплями бросались на тела, потом подскакивали к евреям, вцеплялись в них ногтями, так что один солдат даже пытался их отгонять. Я потерял Бека из виду и сам отправился во двор тюрьмы. Там разворачивался тот же спектакль: обезумевшие от ужаса евреи разбирали трупы, оттирали мостовую под улюлюканье своих надзирателей; некоторые солдаты кидались вперед, били евреев и голыми руками, и прикладами, евреи с воплями падали, как подкошенные, силились встать и продолжить работу; другие солдаты фотографировали, третьи веселились, выкрикивали ругательства, науськивали; если какой-нибудь еврей не мог встать, его принимались пинать сапогами, потом один или два еврея за ноги отволакивали неподвижное тело в сторону, остальные продолжали тереть мостовую. Я наконец нашел какого-то эсэсовца: «Вы не знаете, где найти бригадефюрера Раша?» – «Думаю, Раш где-то в кабинете в самой тюрьме, пройдите туда, я только что видел, как он поднимался по лестнице». В длинном коридоре, по которому туда-сюда сновали солдаты, было потише, но грязные блестяще-зеленые стены были забрызганы свежей и засохшей кровью, ошметками мозга с прилипшими к ним волосами и осколками костей, на полу от трупов, которые по нему тащили, образовались две широкие колеи, так что под ногами хлюпало. По лестнице в конце коридора спускался Раш, сопровождаемый рослым румяным оберфюрером и офицерами айнзатцгруппы. Я приветствовал его. «А, это вы! Хорошо. Я получил рапорт фон Радецки; передайте ему, пусть приезжает сюда, если выпадет возможность. А вы представите обергруппенфюреру Йекельну личный отчет о нашей акции. Обязательно подчеркните тот факт, что именно националисты и народ проявили инициативу. НКВД и евреи расстреляли в Лемберге три тысячи человек. Теперь народ мстит, что вполне естественно. Мы просили АОК дать им несколько дней». – «Zu Befehl, бригадефюрер». Я пошел за ними во двор. Раш и оберфюрер что-то оживленно обсуждали. Во дворе к вони разлагающихся трупов примешивался тяжелый тошнотворный запах свежей крови. Выйдя за ворота, я увидел двух евреев, которых под конвоем гнали вверх по улице; один из них, совсем еще юноша, трясся в беззвучных рыданиях. Бек ждал у машины, мы повернули к группенштабу. Я приказал Гёфлеру проверить «опель», разыскать Поппа, забрать у начальника III управления депеши и письмо. Я спросил еще, где Томас, мне хотелось попрощаться с ним перед обратной дорогой: «Он наверняка где-то в районе бульвара, – подсказали мне. – Поищите его в кафе „Метрополь“, на Сикстуской». Внизу стояли уже готовые к отъезду Попп и Гёфлер. «Трогаемся, оберштурмфюрер?» – «Да, но по пути остановимся, возьми через бульвар». Я легко нашел «Метрополь». Внутри спорили шумные компании, горланили пьяные; у стойки бара офицеры рольбана пили пиво и комментировали события. Томас сидел в глубине кафе со светловолосым парнем в штатском, лицо у парня было опухшее и мрачное. Они пили кофе. «Макс, привет! Вот, представляю тебе Олега, человека очень образованного и очень умного». Олег встал, крепко пожал мне руку; на самом деле выглядел он как настоящий придурок. «Слушай, я уезжаю». Томас ответил мне по-французски: «Отлично. В любом случае мы скоро встретимся: по плану штаб твоего подразделения остановится вместе с нами в Житомире». – «Замечательно». Он перешел на немецкий: «Держись! Не падай духом». Я кивнул Олегу и покинул кафе. Наши войска располагались далеко от Житомира, но, похоже, Томас имел достоверные сведения. Возвращаясь, я наслаждался мягкими пейзажами Галиции; мы медленно ползли вперед, в пыли колонн грузовиков и военной техники, следующей на фронт; время от времени солнечные лучи пронзали длинные ряды белых облаков, плывших по небу – своду с движущимися тенями, радостному и безмятежному.
До Луцка я добрался после полудня. По словам фон Радецки, Блобеля, наверное, задержат надолго; Гёфнер сообщил нам строго конфиденциально, что Блобеля в конце концов определили в психдиспансер вермахта. Карательная операция прошла успешно, но никто не имел особого желания вдаваться в подробности: «Считайте, вам крупно повезло, что вы отсутствовали», – шепнул мне Цорн. Шестого июля зондеркоманда, продвигаясь след вслед за наступающей 6-й армией, перебралась в Ровно, потом в короткие сроки в Звягель, который большевики называли Новоград-Волынский. На каждом этапе штаб откомандировывал отряд для выявления, задержания и уничтожения потенциального врага. В основном дело касалось евреев, но мы расстреливали и комиссаров, и членов партии большевиков, если таковые попадались, и воров, и мародеров, и крестьян, прятавших зерно, а также цыган – Бек был бы доволен. Фон Радецки объяснил, что нам не следует забывать об объективной опасности: разоблачать каждого подозреваемого по отдельности – невыполнимая задача, надо выявлять социально-политические признаки всех, кто способен нам навредить, и принимать соответствующие меры. В Лемберге новый начальник гарнизона генерал Ренц постепенно восстановил порядок и прекратил бесчинства; с тех пор 6-я, а затем сменившая ее 5-я айнзатцкоманда расстреливала сотни задержанных за городом. У нас начались проблемы с украинцами. Девятого июля короткий эксперимент с независимостью резко закончился: СП арестовала и под конвоем отправила в Краков Бандеру и Стецько и обезоружила их людей. Тогда же взбунтовалась и ОУН-Б; в Дрогобыче они открыли огонь по нашим солдатам и убили множество немцев. После этого партизаны-бандеровцы тоже стали представлять объективную опасность; обрадованные соратники Мельника помогали нам их отлавливать и взяли под контроль местные органы управления. Одиннадцатого июля группенштаб, которому мы подчинялись, соединившись со штабом, входившим в состав военных объединений «Центр», поменял наименование: теперь наша айнзатцгруппа называлась «Ц»; в тот же день три наших «опель-адмирала» въехали в Житомир с танками 6-й армии. Несколькими днями позже туда направили и меня для укрепления форкоманды, пока не подтянется оставшаяся часть штаба командования.
После Звягеля пейзажи совершенно изменились. Теперь перед нами простиралась украинская степь, необозримое, волнующееся на ветру пространство, занятое посевами. На пшеничных полях уже отцвели маки, ячмень и рожь дозревали, бесконечными километрами тянулись подсолнухи, поворачивающие за солнцем свои золотые короны. Бесконечную, однообразную картину нарушали разбросанные то тут, то там, словно случайно, хаты, утопающие в тени акаций или кленов, ясеней, дубовых рощиц. Вдоль дорог росли липы, по берегам рек – ивы и осины, бульвары в городах были обсажены каштанами. Наши карты никуда не годились: указанные на них дороги не существовали вовсе или давно пришли в негодность; и наоборот – там, где на картах значилась дикая степь, наши патрули обнаруживали колхозы, огромные поля хлопка, арбузов, свеклы; крошечные населенные пункты оказывались развитыми промышленными центрами. Если Галиция досталась нам, можно сказать, в целости и сохранности, то здесь Красная Армия, отступая, методично уничтожала что могла. Деревни и посевы горели, мы натыкались на взорванные или заваленные колодцы, заминированные дороги, здания, начиненные взрывчаткой; в колхозах остались женщины, скот, птица, но мужчины и лошади исчезли; в Житомире они сожгли все, что успели, к счастью, среди дымящихся руин возвышалось достаточно много уцелевших домов. Город находился под контролем венгров, Кальсен кипел от гнева: «Их офицеры вполне благожелательно относились к евреям, даже ужинали у них!» Бор, другой офицер, добавлял: «Похоже, некоторые из этих офицеров сами евреи. Вы понимаете? Союзники Германии! Да я им руки не подам». Жители встретили нас хорошо, но сетовали на вторжение венгерских частей – Гонведа – на украинскую территорию: «Немцы – наши давние друзья, – говорили они, – а мадьяры только и мечтают нас захватить». Подобные вспышки недовольства ежедневно оборачивались мелкими неприятностями. Группа саперов убила двух венгров, пришлось отправлять кого-то из наших генералов приносить извинения. С другой стороны, гонвед блокировал работу наших полицейских, форкоманда через группенштаб подала жалобу в Верховное командование группы армий «Юг». Наконец, пятнадцатого июля венгров отозвали, АОК 6 и следовавшие за ним наше подразделение и весь группенштаб «Ц» заняли Житомир. Между тем меня как связного офицера отослали в Звягель. За каждой тайлькомандой, подчинявшейся Кальсену, Гансу и Янсену, закрепили сектор действий, они лучами расходились в разных направлениях почти до самого фронта, достигая Киева; на юге наша зона пересекалась с зоной 5-й айнзатцкоманды, и надо было скоординировать наши действия, потому что каждое подразделение тайлькоманды функционировало самостоятельно. Вот почему мы с Янсеном оказались между Звягелем и Ровно, на границе Галиции. Короткие летние грозы все чаще оборачивались затяжными дождями, превращающими лёссовую пыль, легкую, как мука, в липкую жижу, жирную, черную, на местном наречии ее называли буна. В результате образовывались огромные болотистые участки, где медленно разлагались трупы людей и лошадей, брошенные на полях сражений. Солдаты страдали непрекращающейся диареей, заражались вшами; даже грузовики увязали в этой грязи, продолжать движение становилось все труднее. Мы вербовали украинских пособников, и наши солдаты, служившие раньше в Африке, окрестили их аскарисами; им платили через местные муниципалитеты и еще тем, что конфисковали у евреев. Большинство из них были бульбовцами (по имени их героя Тараса Бульбы), теми самыми волынскими экстремистами, о которых рассказывал Оберлендер. После ликвидации ОУН-Б им предложили выбор: немецкая униформа или лагерь; большинству из них удалось раствориться среди местного населения, но некоторые пришли наниматься к нам. Зато дальше на север, между Пинском, Мозырем и Олевском, вермахт разрешил провозглашение «украинской республики» «Полесская Сечь» во главе с неким Тарасом Боровцом, взявшим себе псевдоним «Бульба», ему в свое время принадлежал карьер в Костополе, национализированный большевиками. Боровец преследовал разобщенные отряды Красной Армии и польских партизан, обеспечивая нашим войскам свободное продвижение, взамен мы его не трогали; но айнзатцгруппа опасалась, что Боровец покрывает враждебные элементы ОУН-Б (ОУН-бандеровцев), в шутку мы их звали «ОУН-большевики» в противоположность «меньшевикам» Мельника (ОУН-М). Еще мы вербовали фольксдойче из местных общин, чтобы они служили бургомистрами или полицейскими. Почти повсеместно евреев сгоняли на принудительные работы, а тех, кто не работал, расстреливали. Но на украинской стороне Збруча наши действия зачастую оказывались неэффективными из-за безразличия населения, не выдававшего евреев: те сразу воспользовались ситуацией, нелегально переезжали в северные области и прятались в лесах. Бригадефюрер Раш как-то перед казнью приказал евреям маршировать строем перед толпой, чтобы развеять сложившийся у украинских крестьян миф о политическом могуществе жидов. Но такие меры особого успеха не имели.
Однажды утром Янсен предложил мне присутствовать на операции. Я знал, что рано или поздно подобное случится, и много об этом размышлял. Могу сказать со всей искренностью, что наши методы вызывали у меня недоумение: их логику я понимал плохо. Я говорил с заключенными евреями, заверявшими меня, что для них издавна зло шло с востока, а добро с запада; в 1918-м они принимали наших солдат как освободителей и спасителей, те в свою очередь вели себя очень гуманно; после ухода немцев вернулись украинцы-петлюровцы и принялись снова убивать евреев. Большевистская власть морила народ голодом. Теперь убиваем мы. Действительно, тут не поспоришь, убивали мы много. Я считал происходящее большой бедой, даже если оно и было неизбежно и необходимо. Но беде надо уметь противостоять; надо быть готовым лицом к лицу встретить неизбежность и необходимость и потом еще принять все вытекающие из них последствия; закрывать на них глаза – значит никогда не найти ответа. Я принял приглашение Янсена. Операцией руководил унтерштурмфюрер Нагель, его помощник, с которым мы вместе выехали из Звягеля. Накануне прошел дождь, но дороги не развезло, мы потихоньку двигались между двумя высокими, залитыми светом стенами деревьев, закрывавших от нас поля. Городишко, я забыл его название, находился на берегу широкой реки, совсем недалеко от бывшей советской границы; население было смешанное, в одной стороне жили крестьяне-галичане, в другой – евреи. К нашему приезду уже развернули оцепление. Нагель показал мне лес за городком: «Там все и происходит». Он, похоже, нервничал, дергался, наверное, тоже никого еще не убивал. Наши аскарисы собирали евреев, и старых, и молодых, на центральной площади; гнали их маленькими группками с еврейских улочек, иногда били, потом заставляли садиться на корточки и ждать под охраной военной полиции. Группки сопровождали несколько немцев, один из них, Гнаук, подгонял евреев, стегая их плетью. Если бы не крики, то все казалось бы относительно спокойным и упорядоченным. Зевак разогнали; время от времени какой-нибудь ребенок выбегал на угол площади посмотреть на сидящих на корточках евреев и тут же исчезал. «Я думаю, понадобится еще с полчаса», – сказал Нагель. «Могу я пройтись?» – спросил я. «Да, конечно. Но возьмите с собой хотя бы вашего ординарца». Он имел в виду Поппа, который с Лемберга со мной не разлучался, заботился о жилье, варил кофе, чистил сапоги и стирал форму; его не приходилось даже ни о чем просить. Я направился мимо маленьких галицийских ферм к реке; Попп с винтовкой на плече следовал в нескольких шагах за мной. Дома были длинные, низкие, двери плотно закрыты, и кругом ни души. Перед деревянными воротами, окрашенными в грязно-голубой цвет, оглушительно гогоча, топтались гуси, штук тридцать, наверное. Я миновал последние дома и спустился к реке, но берега размыло, пришлось подняться повыше; вдалеке я заметил лес. В воздухе раздавалось пронзительное, надоедливое кваканье разморенных жарой лягушек. Выше, в размокшем поле, среди луж, в которых отражалось солнце, около дюжины жирных гусей гордо вышагивали друг за другом, за ними двигался какой-то перепуганный теленок. Мне уже приходилось видеть украинские городишки, по сравнению с этим они были нищими и убогими; я стал опасаться, как бы в теориях Оберлендера не образовалась серьезная брешь. Я повернул обратно. Перед голубыми воротами все так же терпеливо стояли гуси и смотрели на корову, ее глаза, сплошь облепленные мухами, сильно слезились. На площади аскарисы криками и ударами шомполов загоняли евреев в грузовики, хотя евреи и не сопротивлялись. Прямо передо мной двое украинцев тащили старика с деревянной ногой, протез отстегнулся, но они без колебаний грубо швырнули старика в кузов. Нагель куда-то отлучился, я поймал аскариса и указал ему на деревянную ногу: «Положи в кузов». Украинец пожал плечами, поднял протез и бросил старику. В каждый грузовик помещалось около тридцати евреев, общее их количество приближалось к ста пятидесяти, но нам выделили всего три грузовика, поэтому один и тот же маршрут предстояло проделать дважды. Когда грузовики заполнились, Нагель велел мне садиться в «опель» и повернул к лесу, грузовики следом за нами. На опушке уже выстроили оцепление. Евреи вылезли из грузовиков, Нагель приказал определить среди них тех, кто пойдет копать; остальные должны были ждать здесь. Гауптшарфюрер произвел отбор, раздали лопаты; Нагель организовал конвой, и группу повели в лес. Грузовики отправились за следующей партией. Я разглядывал евреев – те, что были ко мне поближе, казались бледными, но спокойными. Нагель приблизился и принялся торопливо убеждать меня, показывая на евреев: «Такова необходимость, вы понимаете? Здесь не следует принимать в расчет человеческое страдание». – «Да, но, тем не менее, какую-то роль оно все равно играет». Как раз этого я и не мог постичь: пропасть, полное несоответствие между тем, как легко убивать и как тяжело умирать. У нас выдался всего лишь очередной гнусный день; для них он был последним.
Из леса стали доноситься крики. «В чем дело?» – всполошился Нагель. «Я не знаю, унтерштурмфюрер, – отвечал унтер-офицер, – сейчас выясню». Он скрылся за деревьями. Некоторые евреи ходили взад-вперед, еле передвигая ноги, уставившись в землю, в гнетущем молчании людей, ожидающих неминуемой смерти. Подросток, присев на корточки, напевал какую-то считалку и с любопытством посматривал на меня, потом приложил два пальца к губам; я дал ему сигарету и спички; он поблагодарил меня улыбкой. Унтер-офицер появился у кромки леса, крикнул: «Они нашли братскую могилу, герр унтерштурмфюрер». – «Что еще за братская могила?» Нагель ринулся в лес, я за ним. Под деревом гауптшарфюрер хлестал по щекам еврея с криками: «Ты знал, скотина! Почему ты нам не сказал?» – «Что здесь происходит?» – спросил Нагель. Гауптшарфюрер оставил еврея и ответил: «Полюбуйтесь, унтерштурмфюрер! Они наткнулись на большевистскую могилу». Я подошел к траншее, вырытой евреями; на дне лежали покрывшиеся плесенью, скрюченные, почти мумифицированные тела. «Их, видимо, расстреляли зимой, – предположил я, – поэтому они и не сгнили». Солдат на дне ямы выпрямился: «Похоже, им стреляли в затылок, унтерштурмфюрер. Это почерк НКВД». Нагель подозвал толмача: «Расспросите, что произошло». Тот перевел, еврей ответил. «Он сказал, что большевики арестовали почти всех мужчин в деревне, но никто не знал, что их здесь и похоронили». – «Да уж, не знали эти мерзавцы, как же! – взорвался гауптшарфюрер. – Они сами и убивали, вот что». – «Гауптшарфюрер, успокойтесь. Пусть засыпают могилу и роют в другом месте. Пометьте участок, на случай, если потребуется провести расследование». Мы вернулись к оцеплению; грузовики доставили остальных евреев. Через двадцать минут к нам подбежал багровый гауптшарфюрер: «Опять могила, унтерштурмфюрер. Просто невозможно, весь лес заполнен трупами». Нагель устроил небольшое совещание. «В лесу не так уж много полян, – сообразил унтер-офицер, – поэтому мы роем там же, где они». Пока они рассуждали, я успел обратить внимание на то, что мне в пальцы почти под ногти впились длинные, очень тонкие занозы; пощупав кожу, я обнаружил, что занозы доходили до второй фаланги, но сидели совсем неглубоко. Поразительно. Как они туда попали? Я даже и не почувствовал. Я начал вытаскивать их, одну за одной, как можно осторожнее, чтобы не пошла кровь. К счастью, они поддавались довольно легко. Нагель тем временем принял решение: «Попробуем в другой части леса, пониже». – «Я подожду вас здесь», – сказал я. «Отлично, оберштурмфюрер. Я потом пришлю кого-нибудь за вами». Я принялся сосредоточенно сгибать и разгибать пальцы: вроде все было в порядке. Я зашагал прочь от оцепления по небольшому склону, покрытому дикими травами и почти засохшими цветами. Ниже расстилалось поле пшеницы, вместо пугала торчал шест с прибитой за лапы, раскинувшей крылья вороной. Я лег в траву, посмотрел на небо. Потом закрыл глаза.
Меня нашел Попп. «Все почти готово, оберштурмфюрер». Оцепление и евреи переместились вниз. Приговоренные маленькими группками терпеливо стояли под деревьями, некоторые прислонились к стволам. Дальше, в лесу, ждал Нагель со своими украинцами. Несколько евреев выбрасывали лопатами землю со дна многометровой траншеи. Я наклонился: яму наполняла вода, евреи рыли, стоя по колено в грязной воде. «Это не могила, а бассейн», – сухо сказал я Нагелю. Мое замечание его разозлило: «И что мне, по-вашему, делать, оберштурмфюрер? Теперь вот наткнулись на грунтовые воды, которые поднимаются по мере того, как они роют. Мы слишком близко от реки. Но я, представьте, не хочу торчать весь день в лесу, роя ямы». Он повернулся к гауптшарфюреру. «Все, достаточно. Ведите их». Лицо его было мертвенно-бледным. «Ваши стрелки готовы?» – спросил он. Я уже понял, что расстреливать прикажут украинцам. «Так точно, унтерштурмфюрер», – ответил гауптшарфюрер, повернулся к переводчику и объяснил последовательность действий. Тот перевел украинцам. Двадцать из них выстроились в ряд перед траншеей; пятеро других схватили копавших евреев, сплошь покрытых грязью, поставили на колени, спинами к стрелкам. По приказу гауптшарфюрера аскарисы вскинули на плечо карабины и прицелились евреям в затылок. Но расчет оказался неверным, на каждого еврея полагалось два стрелка, а рыли пятнадцать. Гауптшарфюрер всех пересчитал, велел украинцам опустить ружья, пятерых евреев отогнали в сторону, ждать своей очереди. Большинство евреев вполголоса что-то бормотали, вероятно, молитвы, кроме этого никто из них не произнес ни слова. «Лучше добавить еще аскарисов, – вставил второй унтер-офицер. – Быстрее бы получилось». Последовала короткая дискуссия; украинцев всего двадцать пять, надо к ним присоединить еще пять человек из оцепления, – предлагал унтер-офицер; гауптшарфюрер утверждал, что оцепление разбивать нельзя. Нагель, окончательно выведенный из себя, отрезал: «Исполнять по-прежнему». Гауптшарфюрер рявкнул на аскарисов, те снова подняли винтовки. Нагель шагнул вперед. «Слушай мою команду… – Голос изменил ему, он сделал усилие, чтобы снова взять себя в руки. – Огонь!» Прогремел залп, я только увидел за пеленой дыма какие-то красные всполохи. Убитые полетели на дно, лицом в грязь; два скрюченных тела остались на краю ямы. «Уберите все и ведите следующих», – приказал Нагель. Украинцы взяли двух мертвых евреев за руки и ноги, раскачали и скинули в яму, те с громким плеском упали в воду; кровь потоком текла из их размозженных голов и забрызгала сапоги и зеленую форму украинцев. Двое подошли с лопатами и принялись сбрасывать комья окровавленной земли и белесые куски мозга в ров к мертвецам. Я тоже приблизился: покойники плавали в грязи, кто на животе, кто на спине, с торчащими кверху носами и бородами; кровь из ран покрывала поверхность воды, словно тонкий слой растительного масла ярко-красного цвета, красными стали их белые рубахи, по коже и волосам текли красные струйки. Привели вторую группу – пятерых из тех, что копали, и пятерых из ждавших у леса, их поставили на колени, лицом к могиле, к плавающим трупам их соседей; один вдруг повернулся к стрелкам, поднял голову и молча посмотрел на них. Я думал об этих украинцах: как они только дошли до такого? Многие из них воевали против поляков, потом против большевиков, они ведь должны были бы мечтать о лучшем, мирном будущем для себя и своих детей, и вот теперь они посреди леса, надев чужую военную форму, без какой-либо доступной их пониманию причины убивают людей, которые ничего им не сделали. Что они сами-то, интересно, думали об этом? Так или иначе, услышав приказ, они стреляли, они скидывали трупы в яму, приводили следующих и не протестовали. Что они будут думать об этом позже? Оружейный залп. Со дна ямы донеслись стоны. «Проклятье, они не все подохли!» – выругался гауптшарфюрер. «Ну так прикончите их!» – заорал Нагель. По приказу гауптшарфюрера двое аскарисов встали на краю и выпустили обоймы по телам. Вопли продолжались. Аскарисы выпустили еще по обойме. Рядом уже расчищали край рва. Привели еще десять евреев. Я заметил Поппа: он зачерпнул целую пригоршню земли из большой кучи возле рва, изучал ее, разминал между пальцами, нюхал и даже попробовал на зуб. «Попп, что такое?» Он подошел ко мне. «Посмотрите на эту землю, оберштурмфюрер. Прекрасная земля. Совсем неплохо поселиться здесь». Евреи опустились на колени. «Выкини сейчас же, Попп», – сказал я ему. «Нам обещали, что после мы сможем обосноваться здесь, построить фермы. Я думаю, какое отличное место, вот и все». – «Попп, заткнись!» Аскарисы дали очередной залп. Снова из ямы понеслись душераздирающие крики и стоны. «Пожалуйста, господа немцы! Умоляем!» Гауптшарфюрер велел сделать контрольные выстрелы, но крики не прекратились, слышно было, как люди барахтались в воде. Нагель орал: «Ваши болваны стрелять не умеют! Пусть лезут в яму!» – «Но, герр унтерштурмфюрер…» – «Прикажите им спуститься!» Гауптшарфюрер передал через переводчика приказ. Украинцы принялись что-то возбужденно говорить. «Ну что они?» – спросил Нагель. «Они не хотят спускаться, герр унтерштурмфюрер, – объяснил переводчик. – Они считают, что в этом нет нужды, они могут стрелять с края». Нагель побагровел. «Быстро вниз!» Гауптшарфюрер схватил одного их них за руку и поволок к яме; украинец сопротивлялся. Теперь кричали все – и по-немецки, и по-украински. Чуть вдалеке ждала следующая группа. В бешенстве аскарис бросил винтовку на землю и спрыгнул в яму, поскользнулся, упал среди убитых и агонизирующих. Его товарищ полез следом и, цепляясь за край, помог ему встать. Украинец, весь в грязи и крови, ругался и отплевывался. Гауптшарфюрер протянул ему винтовку. Слева внезапно раздались выстрелы и крики; конвоиры палили в сторону леса: один еврей, воспользовавшись общей суматохой, удрал. «Вы попали в него?» – крикнул Нагель. «Не знаю, герр унтерштурмфюрер», – отвечал издалека полицейский. «Ну так бегите, посмотрите!» С противоположной стороны два других еврея тоже вдруг побежали, и солдаты из оцепления снова стали стрелять: один рухнул сразу, второй исчез в глубине леса. Нагель выхватил пистолет и размахивал им направо, налево, выкрикивая противоречивые приказы. В яме аскарис пытался приставить винтовку ко лбу раненого еврея, но тот уворачивался, прятал голову под воду. Украинец все же выстрелил наугад, пуля разнесла еврею челюсть, но так и не убила его, он бился в судорогах, хватал украинца за ноги. «Нагель», – сказал я. «Что?» Лицо его выражало полную растерянность, пистолет безвольно болтался в руке. «Я подожду в машине». В лесу послышались выстрелы, солдаты догнали беглецов; я украдкой посмотрел на свои пальцы, чтобы убедиться, действительно ли я вытащил все занозы. Рядом с ямой один еврей разрыдался.
Очень скоро с подобным дилетантством было покончено. Проносились недели, офицеры набирались опыта, солдаты привыкали к операциям; в то же время было очевидно, что все размышляли о происходящем, о своем месте во всем этом, – каждый в меру собственных возможностей. За ужином по вечерам люди обсуждали операции, рассказывали анекдоты, делились опытом, одни – с горечью, другие – весело. А третьи молчали, вот за ними-то и надо было следить. У нас уже двое покончили самоубийством; а как-то ночью еще один спросонья разрядил в потолок винтовку, его силой связали, унтер-офицер чуть не погиб. Некоторые совершали дикие, порой прямо-таки садистские выходки, били осужденных, мучили их перед казнью; офицеры старались не допускать беспредела, но это было непросто, бесчинства все равно случались. Наши солдаты очень часто фотографировали расстрелы; потом снимки обменивали на табак, вешали на стены, кто угодно мог заказать копии для себя. Военная цензура доносила нам, что многие отсылали карточки семьям в Германию, клеили даже небольшие альбомы с поясняющими подписями; эта тенденция беспокоила руководство, но искоренить ее не представлялось возможным. Да и сами офицеры распустились. Однажды я застал Бора, распевавшего над роющими яму евреями: «Земля холодная, но земля мягкая, рой, еврейчик, рой». Толмач переводил, и все это меня глубоко шокировало. Я знал Бора уже довольно давно, совершенно нормальный человек, никакой особой враждебности к евреям не питавший, он просто выполнял приказы; но, видимо, операции повлияли на него таким образом, что теперь его состояние внушало тревогу. Конечно, в зондеркоманде встречались и настоящие антисемиты; например, Люббе, унтерштурмфюрер, использовал малейшую возможность, чтобы со всей горячностью обрушить на Израиль страшные проклятия, как будто мировое еврейство только и занималось подготовкой заговора против него, Люббе. Он утомил этим всех. Вместе с тем его поведение в дни операций выглядело странным: порой он свирепствовал, но нередко и жаловался по утрам на диарею, внезапно сказывался больным и просил заменить его. «Господи, я ненавижу это отродье, – говорил он, наблюдая за умирающими евреями, – но какая гнусная задача!» Когда я поинтересовался, не помогают ли ему убеждения переносить эту гнусность, он возразил: «Послушайте, если я ем мясо, то это вовсе не значит, что хотел бы работать на скотобойне». Потом спустя несколько месяцев его все-таки убрали, когда доктор Томас, заместитель бригадефюрера Раша, проводил чистку подразделения. Офицеры, так же как и солдаты, мало-помалу теряли контроль над собой, считали, что для них не существует никаких запретов, что им позволены вещи неслыханные. Это была, в общем-то, естественная реакция: при такой работе границы расплываются, становятся нечеткими. Кроме того, некоторые обворовывали евреев, прятали золотые часы, кольца, деньги, хотя ценности надлежало сдавать в командоштаб для отправки в Германию. Во время операций офицеры обязаны были следить за солдатами орпо – полиции порядка, ваффен-СС, аскарисами, чтобы те не крали. Но офицеры и сами кое-что утаивали. И к тому же они пили, подрывая дисциплину. Однажды вечером, нас тогда расквартировали в какой-то деревне, Бор притащил двух молодых украинских крестьянок и водки. Он, Цорн и Мюллер принялись пить с девицами, лапали их, лезли под юбки. Я сидел на кровати и пытался читать. Бор окликнул меня: «Идите, развлекитесь». – «Нет, спасибо». Одна из девок расстегнулась и сидела полуголая, покачивая слегка обвисшими желеобразными грудями. Их похоть, жирные тела вызывали отвращение, но деваться мне было некуда. «Чего это вы загрустили, доктор?» – прицепился Бор. А я смотрел на них и видел их насквозь, словно в рентгеновских лучах: под кожей я четко различал скелеты, когда Цорн прижимал к себе девицу, я видел, как их кости трутся друг об друга, разделенные тончайшей оболочкой, они смеялись, а мне казалось, что скрежещущие звуки вырываются прямо из челюстей черепа; завтра они состарятся, девицы растолстеют, или, наоборот, от них останутся кожа да кости, а высохшие груди повиснут, как маленькие пустые бурдюки; потом Бор, Цорн и их девки умрут, их закопают в холодную землю, мягкую землю, совсем как уничтоженных во цвете лет евреев, и рты, набитые землей, больше не засмеются, так стоит ли участвовать в столь печальной оргии? Задай я этот вопрос Цорну, он бы ответил: «Вот именно, чтобы пользоваться моментом, прежде чем сдохнуть, чтобы получить хоть немного удовольствия». Но дело тут вовсе не в удовольствии, я тоже умею его получать, когда хочу, нет, дело, без сомнения, в их пугающей особенности – отсутствии самосознания, в их удивительной способности никогда не задумываться ни о хорошем, ни о плохом, плыть по течению, убивать, не понимая зачем и ни о чем не заботясь, лапать девок, коль скоро они ничего не имеют против, пить и не делать даже попытки подняться над требованиями плоти. Вот, собственно, чего я не понимал, но меня никто и не просил понимать.
В начале августа зондеркоманда приступила к первой чистке в Житомире. По имеющимся у нас данным здесь до войны проживало тридцать тысяч евреев; большинство бежало с Красной Армией, и теперь их оставалось около пяти тысяч, то есть девять процентов от общего населения. Раш счел, что слишком много. Генерал Рейнхардт, командующий 99-й дивизией, выделил нам в помощь солдат для Durchkämmung, этот замечательный немецкий термин означает «прочёсывание». У всех нервы слегка пошаливали: первого августа Галицию включили в состав генерал-губернаторства, и волнения в частях батальона «Нахтигаль» докатились до Винницы и Тирасполя. Нам предстояло выявить среди наших пособников всех офицеров и унтер-офицеров ОУН-Б, арестовать их и отправить с офицерами «Нахтигаль» к Бандере в концлагерь Заксенхаузен. С тех пор приходилось держать ухо востро с теми, кто остался, все они были ненадежны. В Житомире бандеровцы убили двух чиновников-мельниковцев, наших ставленников; сначала мы подозревали коммунистов; потом расстреляли всех партизан ОУН-Б, которых только нашли. К счастью, у нас установились прекрасные отношения с вермахтом. Участников Польского похода это удивляло; они рассчитывали на вынужденное сотрудничество и не более того, а наши отношения со штабами командования стали теплыми и дружескими. Очень часто именно армия проявляла заинтересованность в наших акциях, они нас просили расстреливать евреев в деревнях, где имели место случаи саботажа, а заодно и партизан, называя это карательными операциями, они сами поставляли нам евреев и цыган, чтобы мы их казнили. Фон Рок, командующий прифронтовой области Юга, отдал приказ: в случае, если не удалось с точностью установить зачинщиков саботажа, следует применить карательные меры к евреям или русским, нельзя всю вину возлагать на украинцев. Мы должны внушить, что мы справедливы. Разумеется, не все офицеры вермахта одобряли подобные методы, в особенности, по словам Раша, понимания ситуации недоставало пожилым офицерам. У айнзатцгруппы возникали проблемы и с некоторыми начальниками дулагов, отказывавшимися выдавать нам комиссаров и евреев-военнопленных. Но фон Рейхенау, мы знали, горячо защищал СП. А иногда даже случалось, что вермахт нас опережал. Штаб некой дивизии решил остановиться в деревне, но мест не хватало: «Тут евреи еще есть», – сообщил нам командующий штабом, и АОК поддержал его просьбу: требовалось перестрелять всех евреев мужского пола, потом собрать женщин и детей в нескольких домах, чтобы освободить остальные для расквартирования офицеров. В рапорте значилась «карательная операция». Другая дивизия до того дошла, что просила нас уничтожить пациентов психбольницы, которую хотела занять; группенштаб с негодованием заявил, что люди СП не палачи вермахта: «Для СП подобная акция не представляет ни малейшего интереса. Сделайте это сами». (Однажды Раш все же отдал приказ расстрелять сумасшедших, потому что все охранники и медсестры оставили больницу, и он опасался, что больные воспользуются этим и разбегутся, а на свободе они, конечно, представляли собой угрозу безопасности.) Впрочем, все только набирало обороты. Из Галиции до нас докатились слухи о новых методах; Йекельну, очевидно, прислали мощное подкрепление, и он приступил к чисткам еще более масштабным, чем те, что им когда-либо предпринимались. Кальсен, вернувшись из командировки в Тернополь, пробормотал что-то невнятное о «сардинах», но отказался что-либо объяснять, и никто не понял, о чем он говорил. Потом вернулся Блобель. Он выздоровел и действительно пил теперь меньше, но оставался таким же злобным, как и раньше. Время я проводил в основном в Житомире. Томас находился там же, и мы встречались чуть ли ни каждый день. Было очень жарко. В садах ветви сгибались под тяжестью лиловых слив и абрикосов; на окраинах города, на частных земельных участках созрели тяжелые тыквы, кое-где виднелись уже высохшие початки кукурузы и стоящие отдельно ряды подсолнухов, клонившие головы к земле. Когда выпадали свободные часы, мы с Томасом уезжали за город на реку Тетерев искупаться и покататься на лодке; потом лежали под яблонями, пили плохое бессарабское белое вино, закусывая хрустящими плодами, валявшимися в траве, только руку протяни. Партизаны тогда еще не появились, все было спокойно. Иногда мы, как студенты, читали друг другу вслух целые отрывки, показавшиеся нам любопытными или забавными. Томас нашел где-то французскую брошюру Института исследований еврейской проблемы. «Послушай, что за удивительное произведение. Статья „Биология и сотрудничество“ некоего Шарля Лавилля. Вот. Политика либо должна основываться на биологии, либо вообще не должна существовать. Слушай, слушай. Хотим мы остаться примитивной колонией полипов? Или, наоборот, мы хотим двигаться к высшей стадии развития?» Он читал по-французски, почти нараспев. «Ответ: именно клеточным соединениям элементов, способным к взаимодополняемости, принадлежала важнейшая роль в формировании высших приматов, в том числе и человека. Отказываться от подобных соединений, имеющихся сегодня в нашем распоряжении, означало бы, в некотором роде, преступление против человечества, а также против биологии». А я тогда знакомился с перепиской Стендаля. Как-то саперы позвали нас поплавать на моторной лодке; Томас, уже немного навеселе, удобно вытянулся на носу и придерживал ногами ящик с гранатами, он доставал гранату, срывал чеку и лениво бросал через голову; нас накрывало поднимавшимися из воды фонтанами, саперы запаслись сетями и вытаскивали десятками оглушенную рыбу, барахтавшуюся в струе за кормой, они хохотали, а я любовался их загорелой кожей и беззаботной юностью. По вечерам Томас порой заходил к нам на квартиры послушать музыку. Бор подобрал еврейского сироту и теперь считал его своим талисманом: мальчик мыл машины, натирал ботинки и чистил офицерам пистолеты, но прежде всего он играл на фортепиано, как молодой бог, легко, живо, непринужденно. «За такое туше все прощается, даже еврейство», – говорил Бор. Он просил играть Бетховена или Гайдна, но паренек, Яков, предпочитал Баха. Невероятно, но он знал наизусть, наверное, все сюиты. Даже Блобель его не трогал. Если Яков не играл, я развлекался, дразня своих коллег, я им зачитывал письма Стендаля об отступлении из России. Некоторые страшно оскорблялись: «Да, французы, возможно, никчемный народишко. Но мы – немцы». – «Справедливо. Но русские-то остаются русскими». – «Совсем нет! – спорил Блобель. – Семьдесят или даже восемьдесят процентов населения СССР по происхождению монголы. Уже доказано. И большевики проводили намеренную политику расового смешения. В Мировую войну, да, мы сражались с настоящими русскими мужиками, они вправду крепкие молодцы, но большевики всех истребили! Настоящих русских, настоящих славян почти не осталось. И к тому же, – продолжал он, противореча самому себе, – славяне – это по определению раса рабов, помесь. Бастарды. Ни один из их князей не был чистокровным русским, всегда примешивалась то норманнская, то монгольская, потом немецкая кровь. Даже их национальный поэт и тот метис, африканец, но они к такому терпимы, разве это не доказательство…» – «В любом случае, – поучительно прибавил Фогт, – Бог на стороне Рейха и немецкого народа. Мы не можем проиграть войну». – «Бог? – взъярился Блобель. – Бог – коммунист. Попадись Он мне, я с Ним разберусь как с Его комиссарами».
Блобель знал, о чем говорил. В Чернякове СП поймала председателя и еще одного сотрудника областной тройки НКВД; их отправили в Житомир. На допросе, проведенном Фогтом и его помощниками, Вольф Кипер сознался, что в общей сложности отдал распоряжение расстрелять более тысячи трехсот пятидесяти человек. Кипер, еврей лет шестидесяти, в 1905-м стал коммунистом, а в 1918-м – народным судьей; второй, Моисей Коган, был помоложе, но тоже чекист и еврей. Блобель советовался с Рашем и оберстом Геймом, все согласились на проведение публичной казни. Кипера и Когана судил и приговорил к смерти военный трибунал. Седьмого августа, с раннего утра, офицеры зондеркоманды, при содействии орпо и аскарисов, начали арестовывать евреев и сгонять их на рыночную площадь. Для проведения пропагандистской кампании 6-я армия выделила машину с громкоговорителем, которая разъезжала по улицам города, оповещая по-немецки и по-украински о предстоящем мероприятии. Мы с Томасом пришли на площадь ближе к полудню. Там, возле высокой виселицы, сколоченной накануне водителями грузовиков зондеркоманды, уже собрали и усадили на землю, велев держать руки на затылке, четыреста евреев. К оцеплению ваффен-СС стекались сотни зрителей, не только солдаты, но и люди из Организации Тодта и НСКК и украинцы. Площадь заполнилась целиком, ни пройти, ни проехать; солдат тридцать даже взобрались на крытую листовым железом крышу соседнего дома. Мужчины смеялись, шутили; многие фотографировали. Блобель с Гефнером, недавно возвратившимся из Белой Церкви, стоял у подножия виселицы. Фон Радецки, махнув в сторону евреев, обратился по-украински к толпе: «Кто-нибудь хочет свести личные счеты с евреем?» Какой-то человек шагнул вперед и ударил ногой одного из сидящих, потом снова занял свое место; остальные принялись забрасывать их гнилыми помидорами и фруктами. Я смотрел на евреев: серые лица, взгляды испуганные, вопрошающие, что последует дальше. Тут были и старики с густыми седыми бородами и в грязных кафтанах, и довольно молодые. Я заметил, что в оцеплении стояли и солдаты вермахта. «Они-то что здесь делают?» – спросил я у Гефнера. «Это – добровольцы. Вызвались помогать». Я скривился. Среди множества офицеров я не увидел ни одного из АОК. Я направился к оцеплению и поинтересовался у солдата: «Почему ты здесь? Кто тебя просил вставать в охрану?» Он смутился. «Где твой начальник?» – «Я не знаю, господин оберштурмфюрер», – он поскреб лоб под пилоткой. «Так зачем ты явился?» – повторил я. «Мы с друзьями ходили сегодня утром в гетто, герр оберштурмфюрер. И вот мы предложили помочь, а ваши коллеги разрешили. Я просто тут еврею заказал пару сапог и пытался его найти перед… перед…» – дальше он не осмеливался произнести. – «Перед тем, как его расстреляют?» – съязвил я. «Да, герр оберштурмфюрер». – «Ну, и ты его нашел?» – «Да, он там. Но я не смог с ним поговорить». Я обернулся к Блобелю: «Штандартенфюрер, нам надо отослать отсюда людей вермахта. Их участие в Акции не санкционировано». – «Оставьте, оставьте, оберштурмфюрер. Очень хорошо, что они проявили энтузиазм. Они настоящие национал-социалисты и тоже стремятся внести свою лепту». Я пожал плечами, вернулся к Томасу. «Если бы мы сегодня торговали зрительными местами, то разбогатели бы», – Томас, усмехнувшись, кивнул подбородком в сторону толпы. «АОК придумал этому название Exekutionstourismus – экскурсии на казни». Приехал грузовик, пристроился под виселицей. Двое из ваффен-СС вывели оттуда Кипера и Когана, в крестьянских рубахах, с руками, скрученными за спиной. С момента ареста у Кипера поседела борода. Наши водители положили доску поперек кузова, влезли на нее и принялись завязывать петли. Я отметил, что Гефнер держался в отдалении и мрачно курил; Бауэр, личный шофер Блобеля, проверил узлы. Потом поднялся Цорн, потом эсэсовцы втащили осужденных. Их поставили под веревками, Цорн выступил с речью, по-украински огласил приговор. Собравшиеся вопили, свистели, заглушали Цорна, он несколько раз требовал тишины, но никто не обращал на него внимания. Солдаты делали снимки, хохотали, тыкали в евреев пальцами. Цорн и эсэсовцы накинули Киперу и Когану петли на шею. Осужденные не выдавали своих чувств и хранили молчание. Цорн и все остальные спрыгнули с доски, и Бауэр завел мотор. «Медленнее, медленнее», – кричали солдаты, чтобы успеть сфотографировать. Грузовик тронулся, те двое на доске пытались удержать равновесие, потом сорвались один за другим и закачались вперед-назад. С Кипера упали брюки; под рубахой я с ужасом увидел набухший, еще эякулирующий член. «Nix Kultura!» – злобно заорал какой-то солдат, другие подхватили. На перекладину виселицы Цорн приколотил листовки с объяснением приговора; там сообщалось, что все жертвы Кипера, все тысяча триста пятьдесят человек без исключения фольксдойче и украинцы.
Потом солдаты из оцепления приказали евреям встать и идти. Блобель взял к себе в машину Гефнера и Цорна; фон Радецки пригласил меня в свою, а заодно захватил и Томаса. Толпа устремилась за евреями, поднялся невообразимый шум. Все двинулись за город к так называемому Pferdefriedhof, лошадиному могильнику; там уже вырыли траншею, а за ней установили опоры с набитыми поперек них досками, чтобы улавливать не попавшие в цель пули. Оберштурмфюрер Графхорст, командовавший нашей ротой ваффен-СС, и двадцать его солдат стояли рядом. Блобель и Гефнер осмотрели траншею; все ждали. Я погрузился в размышления. Я думал о своей жизни, о том, что же связывает ту, прожитую мною жизнь – жизнь вполне обычную, заурядную, а кое в чем особенную, необыкновенную, но и в самой этой необыкновенности довольно-таки заурядную – с происходящим здесь и сейчас. Связь должна была существовать и, несомненно, существовала. Конечно, я не участвовал в расстрелах, не командовал взводом; но, по сути, это ничего не меняло, я же постоянно присутствовал на операциях, помогал в их подготовке и затем составлял рапорты; впрочем, то, что меня определили в Штаб, чистая случайность. А если бы мне поручили командование подразделением, смог бы я, как Нагель или Гефнер, организовывать облавы, приказывать рыть ямы, выстраивать обреченных и кричать: «Огонь!»? Да, бесспорно! С детства я был одержим стремлением к абсолюту и преодолению границ; эта страсть и привела меня к расстрельным рвам на Украине. Я всегда желал мыслить радикально; вот и государство, и нация тоже выбрали радикальное и абсолютное; и что же теперь – пойти на попятный, сказать «нет», предпочесть комфорт бюргерских законов, пресловутую надежность общепринятых норм? Никак невозможно. И если радикальность оборачивается пропастью, а абсолютное – абсолютным злом, следует, в этом я совершенно убежден, идти до конца, широко раскрыв глаза. Толпа прибывала и заполняла кладбище; я увидел солдат в купальных костюмах, и женщин, и детей. Кто-то пил пиво, кто-то обменивался сигаретами. Потом мне на глаза попалась группа офицеров штаба: оберст фон Шулер из отдела IIа и многие другие. Графхорст, командир роты, велел своим людям занять позиции. Теперь стреляли из расчета одна винтовка на одного еврея, целились в грудь, в область сердца. Часто такой выстрел оказывался не смертельным, тогда стрелок лез в яму и доводил дело до конца; вопли и стоны смешивались с гулом толпы. Гефнер, полуофициально руководивший операцией, ревел как бешеный. В промежутке между залпами из толпы выходили солдаты и просили ваффен-СС уступить им место; Графхорст не возражал, и его люди передавали винтовки солдатам, те стреляли пару раз и возвращались к своим приятелям. Люди из ваффен-СС были молоды, и уже с начала расстрела стало очевидно, что они растеряны и взволнованы. Гефнер набросился с руганью на одного из них, который постоянно передавал свой карабин добровольцам и, совершенно бледный, отходил в сторону. Серьезная проблема заключалась еще и в том, что многие промахивались. Гефнер остановил операцию и принялся шушукаться с Блобелем и еще двумя офицерами вермахта. Я их не знал, но по петлицам на воротниках определил, что это военный судья и врач. Потом Гефнер вступил в спор с Графхорстом. Я видел, что Графхорст не соглашается с Гефнером, но слов разобрать не мог. Наконец, Графхорст приказал привести евреев. Их поставили лицом к яме, стрелки из ваффен-СС прицелились не в грудь, а в голову. В итоге вышло ужасно: черепа разлетались на куски, и лица стрелявших забрызгало кровью и мозгами. Одного из стрелков-добровольцев вырвало, его товарищи, солдаты вермахта, подняли его на смех. Графхорст побагровел и принялся поносить Гефнера, потом повернулся к Блобелю, и спор вспыхнул снова. Решили сменить метод еще раз: Блобель добавил стрелков, теперь стреляли, как в июле, по двое, в затылок; когда требовалось, сам Гефнер делал контрольный выстрел.
Вечером после расстрела мы с Томасом отправились в казино. Офицеры АОК оживленно обсуждали события дня; они поздоровались с нами вежливо, но с заметным смущением и неловкостью. Томас сразу вмешался в беседу; я отступил к оконной нише и курил в одиночестве. После ужина споры возобновились. Я заметил военного судью, днем разговаривавшего с Блобелем, он был особенно возбужден. Я присоединился к остальным. Как я понял, офицеры не имели ничего против самой операции, возмущение вызывало присутствие такого количества солдат вермахта и их участие в расстреле. «Другое дело, если бы им приказали, – напирал судья, – иначе это недопустимо. Это позор для вермахта». – «Почему? – обронил Томас. – Что же, СС могут стрелять, а вермахту не разрешают даже смотреть?» – «Не о том речь, совсем не о том. Важен порядок. Подобные задачи неприятны всем. Но исполнять их должны только те, кто получил приказ. В противном случае военная дисциплина просто рухнет». – «Я готов поддержать доктора Нойманна, – вступил Нимейер, офицер абвера. – Это не спортивное мероприятие. А люди вели себя, как на скачках». – «Однако, герр оберстлейтенант, – напомнил я ему, – АОК согласился публично объявить об операции. Вы даже одолжили нам свои подразделения». – «Я вовсе не критикую отряды СС, выполняющие труднейшую работу, – защищался Нимейер. – Действительно, мы всё обговорили заранее и согласились, что публичная казнь послужит наглядным примером гражданскому населению, которому полезно воочию увидеть, как мы крушим власть евреев и большевиков. Но все зашло слишком далеко. Ваши солдаты не должны были давать винтовки нашим». – «А ваши, – резко парировал Томас, – не должны были эти винтовки выпрашивать». – «По крайней мере, – воскликнул судья Нойманн, – надо поставить вопрос перед генерал-фельдмаршалом».
В результате мы получили очередное, типичное для фон Рейхенау распоряжение: подчеркивая необходимость уничтожения преступников, большевиков и особенно еврейских элементов, он запрещал солдатам 6-й армии без приказа старшего офицера присутствовать при операциях, участвовать в них или фотографировать их. Ничего, конечно, по существу не изменилось, но Раш велел проводить операции за пределами городов и ставить оцепление по всему периметру, чтобы предупредить появление «зрителей». Казалось, отныне будет соблюдаться строгая секретность. Однако желание поглазеть на такое заложено в природе человеческой, и, перелистывая «Государство» Платона, я наткнулся на отрывок, живо напомнивший мою реакцию при виде трупов во дворе крепости Луцка: Леонтий, сын Аглайона, возвращаясь из Пирея, по дороге, снаружи под северной стеной, заметил, что там у палача валяются трупы. Ему и посмотреть хотелось, и вместе с тем было противно, и он отворачивался. Но сколько он ни боролся и ни закрывался, вожделение оказалось сильнее – он подбежал к трупам, широко раскрыв глаза и восклицая: «Вот вам, злополучные, насыщайтесь этим прекрасным зрелищем!» [15]. Честно говоря, солдаты редко испытывали трепет Леонтия, но зато жаждали впечатлений, возможно, высшее командование беспокоила мысль, что люди способны получать удовольствие от подобного рода деятельности. Не стану отрицать, действительно многим это нравилось. Некоторые наслаждались самим процессом, но таких скорее воспринимали как больных и вполне справедливо порицали, отстраняли от дел или давали другие поручения, а иногда, если они окончательно переступали границы, даже судили. Что касается остальных, испытывавших отвращение к операциям или просто равнодушных, они всё исполняли из чувства долга и упивались своей преданностью делу, своей способностью, несмотря на омерзение и ужас, успешно справляться с трудным заданием. «Мне неприятно убивать», – твердили они, наслаждаясь собственной добродетелью и непоколебимостью. Совершенно очевидно, что наверху рассматривали проблему в общем виде, и полученные нами разъяснения оказались поэтому неконкретными и расплывчатыми. Einzelaktionen, то есть акции, предпринятые по личной инициативе, приравнивались к обыкновенным убийствам и карались. Фон Рок, опираясь на приказ верховного командования вермахта о дисциплине, обнародовал распоряжение, согласно которому солдаты, самовольно открывшие огонь по евреям, получали шестьдесят дней ареста за неповиновение; в Лемберге, по слухам, унтер-офицера осудили на шесть месяцев тюрьмы за убийство какой-то старой еврейки. Однако чем больший масштаб приобретали акции, тем сложнее было контролировать их исполнение. Одиннадцатого и двенадцатого августа бригадефюрер Раш собрал в Житомире всех командующих зондеркомандами и айнзатцкомандами: кроме Блобеля, Германа из подразделения 4-б, Шульца из 5-го и Крогера из 6-го присутствовал Йекельн. День рождения Блобеля выпадал на тринадцатое, и офицеры решили его отметить. Весь день Блобель пребывал в настроении еще более отвратительном, чем обычно, и несколько часов провел в одиночестве, запершись у себя в кабинете. Что до меня, я был довольно сильно занят: мы как раз получили приказ группенфюрера Мюллера, главы гестапо, собрать для передачи фюреру видеоматериалы о нашей деятельности – фотографии, кинопленки, листовки, плакаты. Прежде всего я направился в группенштаб к завхозу Гартлю договариваться о выделении небольшой суммы, чтобы купить у солдат отснятые пленки; он сначала отказал, сославшись на приказ рейхсфюрера, запрещающий членам айнзатцгрупп использовать казни в каких бы то ни было целях; впрочем, для самого Гартля продажа фотографий обернулась бы выгодой. В конце концов мне удалось убедить его в том, что просить людей финансировать из собственного кармана работу айнзатцгруппы невозможно, и следует избавить их от расходов на печатание снимков, необходимых нам для архивов. Он согласился при условии, что мы заплатим только унтер-офицерам и солдатам; а офицеры пусть проявляют фотографии на свои средства, если таковые у них имеются. Заручившись согласием Гартля, остаток дня я провел в бараках, изучая коллекции наших солдат и заказывая снимки. Среди солдат были превосходные фотографы, но их работы оставляли у меня неприятный осадок, при этом я, словно завороженный, не мог отвести от них глаз. Вечером офицеры собрались в столовой, украшенной Штрельке и его помощниками по случаю праздника. Когда Блобель присоединился к нам, он был уже подшофе, глаза его налились кровью, но он держал себя в руках и говорил мало. Фогт, самый старший по возрасту, поздравил именинника от всех нас и предложил тост за его здоровье; потом мы попросили Блобеля сказать что-нибудь. Он колебался, затем поставил стакан на стол, скрестил руки за спиной и обратился к нам: «Господа! Я благодарю вас за поздравления. Ваша искренность тронула меня до глубины души. Сожалею, но у меня для вас сообщение иного рода. Вчера высший командующий СС и полиции в России, обергруппенфюрер Йекельн, передал нам новый приказ. Это прямое распоряжение рейхсфюрера СС, исходящее, однако, – я подчеркиваю так же, как подчеркнул это обергруппенфюрер, – лично от фюрера». Блобеля трясло, он втягивал щеки, прикусывал их. «Отныне наши действия распространяются на все еврейское население. Без исключений». Присутствующие оцепенели; затем разом заговорили. В голосе Кальсена сквозило недоверие: «Все?» – «Все», – подтвердил Блобель. «Но, послушайте, это невозможно», – умоляюще воскликнул Кальсен. Я молчал, меня словно сковало холодом, О господи, думал я, ведь это придется выполнять, так приказано, и ничего другого не остается. Охваченный безграничным ужасом, я никак не выказывал этого, держался спокойно, дышал ровно. Кальсен негодовал: «Штандартенфюрер, многие из нас женаты, у нас дети. Нельзя требовать от нас такого». – «Господа, – Блобель говорил тихо, но решительно, – речь идет о приказе нашего фюрера, Адольфа Гитлера. Мы национал-социалисты и служим в СС, и мы подчинимся. Поймите: в Германии мы смогли решить еврейский вопрос без эксцессов и в соответствии с требованиями гуманности. Но, завоевав Польшу, мы в придачу получили еще три миллиона евреев. Никто не знает, что с ними делать и куда девать. Здесь, в этой огромной стране, где мы ведем войну на уничтожение со сталинскими ордами, мы вынуждены с самого начала принять самые решительные меры, чтобы обеспечить безопасность наших тылов. Надеюсь, вы все осознаете необходимость и неизбежность наших действий. Мы не в состоянии патрулировать каждую деревню и одновременно вести сражение; однако мы не можем позволить потенциальным врагам, хитрым и коварным, притаиться у нас за спиной. В Главном управлении имперской безопасности обсуждается возможность переселить евреев в резервацию в Сибирь или на Север после нашей победы. Так и им будет спокойнее, и нам. Но сначала надо победить. Мы уже истребили тысячи евреев, но остались десятки тысяч; чем глубже продвигаются наши войска, тем больше попадается евреев. А ведь если мы уничтожим мужчин, некому станет кормить их женщин и детей. У вермахта нет средств на прокорм десятков тысяч никому не нужных еврейских самок и их детенышей. Обречь их на голодную смерть тоже невозможно: это методы большевиков. Учитывая все обстоятельства, действительно самое гуманное решение – включить их, вместе с мужьями и сыновьями, в наши операции. Кроме того, опыт показывает, что плодовитое еврейство Восточной Европы – настоящий питомник, где взращиваются новые силы и иудео-большевизма, и капиталистической плутократии. Если мы позволим выжить кому-нибудь из этих особей, то в результате естественного отбора получим новую формацию, еще более опасную, чем предыдущая. Сегодняшние еврейские дети завтра превратятся в мятежников, партизан и террористов». Офицеры мрачно молчали; Кериг, я обратил внимание, пил, не останавливаясь. Глаза Блобеля, красные, затуманенные алкоголем, сверкали: «Мы все, национал-социалисты и солдаты СС, состоим на службе у нашего народа и фюрера. Напоминаю вам: Führerworte haben Gesetzeskraft, слово фюрера – закон. Вы должны противостоять искушению проявить человечность». Блобель особым умом не отличался; эти отточенные формулировки вряд ли принадлежали ему самому. Но верил он им безоговорочно; что еще важнее, хотел им верить и в свою очередь делился с теми, кто в них нуждался. Для меня подобные словеса особого значения не имели, свои умозаключения я строил самостоятельно. Но сейчас мне было не до размышлений, голова гудела, страшно сдавливало виски, хотелось побыстрее уйти спать. Кальсен крутил на пальце обручальное кольцо, наверняка сам того не замечая; он порывался что-то сказать, но передумал. «Schweinerei, eine grosse Schweinerei» [16], – бормотал Гефнер, и никто ему не возражал. Блобель, похоже, выдохся, исчерпал запасы идей, но мы почувствовали, как сила его воли подчинила и теперь удерживала всех присутствующих на месте, точно так же, как чья-то воля удерживала его самого. В такой стране, как наша, роли распределены четко: ты – жертва, а ты – палач, выбора никому не предоставили и согласия не спросили, потому что все были взаимозаменяемы, и жертвы, и палачи. Вчера мы расстреливали евреев-мужчин, завтра женщин и детей, послезавтра еще кого-нибудь; и нас, как только мы отыграем свою роль, тут же заменят. Германия, по крайней мере, не избавлялась от палачей, даже заботилась о них, в отличие от Сталина с его болезненным пристрастием к чистке рядов; что, в общем-то, не противоречило логике вещей. Для русских, как и для нас, человек не стоил ничего, нация, государство стали всем, в этом смысле мы были отражением друг друга. Евреи тоже обладали развитым чувством общности, ощущением единого народа: они оплакивали мертвых, хоронили их, если могли, и читали каддиш; пока хоть один еврей жив, живет Израиль. Без сомнения, они превратились в наших заклятых врагов именно потому, что оказались слишком похожими на нас.
О проблеме гуманности речь не шла. Конечно, кому-то нравилось критиковать наши действия, исходя из религиозных ценностей, я к таковым не принадлежал, и в СС таких вряд ли насчитывалось много; или, апеллируя к ценностям демократическим, но то, что принято называть демократией, мы в Германии проскочили уже какое-то время назад. Блобель рассуждал совсем не глупо: если высшую ценность представляет Volk, народ, к которому мы принадлежим, и если воля этого Volk воплощена в его вожде, тогда и в самом деле Führerworte haben Gesetzeskraft. Тем не менее жизненно важно было самому понять необходимость приказов фюрера: тот, кто, исполненный прусского духа послушания, покоряется просто как холоп, Knecht, не понимая и не воспринимая, то есть не повинуясь осознанно, не человек, а просто животное, раб. Еврей, повинуясь Закону, ощущал, что Закон живет в нем, и чем более грозным, суровым, трудным для исполнения был этот Закон, тем сильнее он им дорожил. Именно таким живым законом и должен оставаться национал-социализм. Убивать ужасно, и реакция офицеров тому подтверждение, даже если и не все понимали последствия собственной реакции; а кому убивать легко, убивать и вооруженного, и безоружного, и женщину, и ребенка, тот просто животное, недостойное принадлежать к человеческому обществу. Однако, вполне возможно, что вещи ужасные были неизбежными, и в таком случае следовало покориться неизбежности. Наша пропаганда постоянно разъясняла, что русские – Untermenschen, недочеловеки; но я в это не верил. Я допрашивал пленных офицеров и комиссаров и прекрасно видел, что они – такие же люди, как мы, люди, которые хотели только хорошего, любили свои семьи и свою родину. Впрочем, на комиссарах и офицерах лежала вина в смерти миллионов сограждан, они ссылали кулаков, морили голодом украинское крестьянство, усмиряли и расстреливали буржуазию и уклонистов. Среди них попадались, разумеется, садисты и психопаты, но также и нормальные, честные, неподкупные люди, искренне желающие блага народу и рабочему классу; они, конечно, во многом заблуждались, но всегда оставались прямодушными. По большей части они также верили в необходимость того, что совершали, не все оказались сумасшедшими, приспособленцами и преступниками вроде Кипера; у наших врагов тоже человек хороший и порядочный соглашался исполнять жуткие вещи. То, что требовалось сегодня от нас, ставило перед нами схожие проблемы.
На следующий день я проснулся в смятении, тоска и отвращение словно разъедали мне мозги. Я пошел к Керигу, прикрыл дверь кабинета: «Я хотел бы с вами поговорить, штурмбанфюрер». – «О чем же, оберштурмфюрер?» – «О Vernichtungsbefehl [17]. Он поднял свою птичью головку и пристально посмотрел на меня через очки в изящной оправе: «Тут нечего обсуждать, оберштурмфюрер. Так или иначе, но я уезжаю». Он знаком пригласил меня сесть. «Как? Вы уезжаете?» – «Да, я через друга уладил это дело с бригадефюрером Штрекенбахом. Я возвращаюсь в Берлин». – «Когда?» – «Скоро, в ближайшие дни». – «А тот, кто вас заменит?» Он пожал плечами: «Когда приедет, тогда приедет. А пока управляйтесь сами». Он снова взглянул на меня: «Если вы тоже хотите уехать, вы знаете, это можно устроить. Я попрошу Штрекенбаха, чтобы вас перевели в Берлин, если вы этого желаете». – «Спасибо, штурмбанфюрер, но я остаюсь». – «Зачем? – живо спросил он. – Чтобы кончить как Гефнер или Ганс? Чтобы увязнуть в этой грязи?» – «Но вы же оставались здесь до сегодняшнего дня?» – мягко возразил я. Последовал сухой смешок: «Я с начала июля просил о переводе. Еще в Луцке. Но все несколько затянулось». – «Мне жаль, что вы покидаете нас, герр штурмбанфюрер». – «А мне нет. То, что они собираются делать, – сплошное безумие. Не один я такого мнения. Шульц из пятого управления впал в полное отчаяние, когда узнал о Führerbefehl [18]. Он сразу подал просьбу об отъезде, и обергруппенфюрер дал согласие». – «Вы, наверное, правы. Но если уезжаете вы, оберфюрер Шульц и все остальные уважаемые офицеры, здесь останутся только мясники и подонки. Нельзя такого допустить». Он состроил недовольную мину: «Думаете, если вы останетесь, что-то изменится? Вы измените?» Он покачал головой: «Нет, доктор, послушайте моего совета и уезжайте. Пусть мясники работают на живодерне». – «Спасибо, штурмбанфюрер». Я пожал ему руку и вышел. Я направился в группенштаб в поисках Томаса. «Кериг – жалкая бабенка, – безапелляционно отрезал Томас после того, как я ему передал наш разговор. – Шульц – тоже. За Шульцем мы уже давно наблюдаем. В Лемберге он без разрешения отпустил приговоренных. Такие, как он, нам не нужны, пусть лучше уезжает». Томас поднял на меня задумчивый взгляд: «Никто не спорит, то, что от нас требуют, – ужасно. Но вот увидишь, мы выберемся». Потом он добавил совершенно серьезно: «Я тоже не считаю, что найденный выход – правильный. Пожалуй, это скоропалительное решение, продиктованное военным временем. Мы должны одержать стремительную победу в войне; а после можно будет спокойно рассуждать и планировать. Потом мы выслушаем и противоположное мнение. Но когда ведешь войну, это невозможно». – «Ты думаешь, война еще долго продлится? Мы за пять недель должны были дойти до Москвы. Прошло уже два месяца, но даже Киев и Ленинград еще не взяты». – «Сложно сказать. Совершенно очевидно, что мы недооценили их промышленный потенциал. Всякий раз, когда нам кажется, что их резервы исчерпаны, они бросают на нас свежие дивизии. Но сейчас я уверен, они использовали все до конца. И потом решение фюрера послать к нам Гудериана поможет быстро расчистить путь. Что касается группы армий „Центр“, с начала месяца они взяли в плен четыреста тысяч человек. У Умани наши взяли в окружение два вражеских корпуса».
Я вернулся в подразделение. В столовой только Яков, мальчик-еврей, подобранный Бором, играл на пианино. Я присел на лавку послушать. Он играл Моцарта, andante одной из сонат, сердце у меня защемило, грусть нахлынула с новой силой. Когда он закончил, я спросил: «Яков, ты знаешь Рамо? А Куперена?» – «Нет, господин офицер. А кто они?» – «Французские композиторы. Тебе нужно выучить. Я постараюсь найти для тебя партитуры». – «Это красиво?» – «Возможно, самое прекрасное, что есть». – «Красивее Баха?» Я оценил его вопрос: «Почти так же красиво, как Бах». Якову было лет двенадцать; он украсил бы любой концертный зал Европы. Происходил он из Черновиц, вырос в немецкоязычной семье; в 1940 году большевики оккупировали Буковину, и семья Якова оказалась в СССР; отца угнали красные, мать погибла под нашими бомбами. Яков был красив: вытянутое узкое лицо, сочные губы, черные непослушные кудри, длинные кисти рук с голубоватыми жилками. Все у нас его любили; даже Люббе не обижал его. «Господин офицер? – спросил Яков, не поднимая глаз от клавиш. – Можно вам задать вопрос?» – «Конечно». – «Правда, что вы убьете всех евреев?» Я даже вздрогнул: «Кто тебе сказал?» – «Вчера я слышал, как герр Бор разговаривал с другими офицерами. Все так раскричались». – «Они выпили лишнего. А тебе не следовало бы подслушивать». Он совсем повесил голову, но все же настойчиво продолжал: «Значит, и меня вы убьете?» – «Что ты, нет». У меня по рукам побежали мурашки, я старался говорить непринужденно, даже весело: «С чего ты взял, что тебя убьют?» – «Но я еврей». – «Неважно, ты ведь работаешь на нас. Ты теперь, Хиви, добровольный помощник». Он выбрал высокую ноту и легонько постукивал по клавише: «Русские всегда нам рассказывали, что немцы злые. Но я не верю. Я вас люблю». Я ничего не ответил. «Хотите, я поиграю?» – «Играй». – «Что мне сыграть?» – «Что хочешь».
День ото дня обстановка в подразделении ухудшалась; офицеры нервничали, по малейшему поводу срывались на крик. Кальсен и другие отбыли к себе в тайлькоманды; они не высказывали своего мнения, но чувствовалось, насколько их угнетают новые задачи. Кериг уехал очень быстро, даже толком и не попрощавшись. Люббе болел теперь чаще, чем раньше. Командующие присылали крайне негативные рапорты о настроениях во вверенных им тайлькомандах: речь шла о нервных расстройствах, солдаты плакали, Шперат докладывал, что многие страдали импотенцией. Вермахт тоже обвиняли в целой серии инцидентов: около Коростеня какой-то гауптшарфюрер заставил евреек раздеться и бегать нагишом перед пулеметом, он сфотографировал это, но карточки перехватил АОК. В Белой Церкви у Гефнера случился конфликт с офицером штаба командования дивизии, который вмешался, чтобы помешать экзекуции евреев-сирот; Блобель поехал на место происшествия, разбирательство дошло до самого фон Рейхенау, тот подтвердил проведение операции и вынес офицеру выговор. История вызвала много пересудов. Кроме того, Гефнер отказался поручать дело своим людям и все переложил на аскарисов. Другие офицеры действовали так же; но поскольку сложности с ОУН-Б продолжались, подобная практика повлекла за собой новые проблемы: украинцы не выдерживали, дезертировали и даже шли на предательство. Другие, наоборот, охотно участвовали в казнях, но без зазрения совести обворовывали евреев, насиловали женщин перед расстрелом; так, нам иногда приходилось убивать собственных солдат. Вместо Керига по-прежнему никого не присылали, я был перегружен работой. В конце месяца Блобель отправил меня в Коростень. «Республику Полесье» на северо-востоке от города мы по приказу вермахта не трогали, да и без нее дел в этом регионе хватало. Ответственным назначили Курта Ганса. Мне не особо нравился Ганс, злобный, сумасбродный, да и он невзлюбил меня. Тем не менее нам предстояло работать вместе. Методы успели изменить, рационализировать и привести в систему согласно новым требованиям. Изменения, однако, не всегда облегчали наши задачи. Отныне приговоренные раздевались перед казнью, вещи их собирали на случай морозов и для репатриантов. В Житомире Блобель нам разъяснил, что собой представляет Sardinenpackung – «сардинная укладка», новый метод, изобретенный Йекельном, о котором Кальсен знал уже давно. В Галиции еще с июля количество операций значительно увеличилось, и Йекельн рассудил, что траншеи заполняются слишком быстро; тела падали, как придется, беспорядочно; много места пропадало зря, на рытье новых ям тратилось время; а так приговоренные, раздевшись, ложились ничком на дно могилы, стрелки стреляли в упор им в затылок. «Я всегда выступал против Genickschuss, – напомнил нам Блобель, – но теперь у нас нет выбора». Потом офицер осматривал ряд и убеждался, что приговоренные мертвы; после этого тела покрывали тонким слоем земли и на них валетом ложилась следующая группа; когда накапливалось пять-шесть рядов, яму засыпали. Офицеры тайлькоманд считали, что солдатам трудно, но Блобель никаких возражений слышать не желал: «В моем подразделении будут выполнять то, что велел обергруппенфюрер». Курта Ганса это как раз не смущало; ему, похоже, вообще было все равно. Я вместе с ним присутствовал на многих экзекуциях. Своих коллег я разделил бы на три типа. Первые, даже если и пытались скрыть это, убивали с наслаждением; о них я уже говорил, это были преступники, которых выявила война. Вторые испытывали отвращение, но убивали из чувства долга, преодолевали брезгливость из любви к порядку. Наконец, третьи считали евреев животными, и по настроению или обстоятельствам для них, как для мясников, режущих корову, убийство превращалось в радостную или тяжелую заботу. Курт Ганс без сомнения принадлежал к последней категории: для него имела важность лишь точность исполнения, эффективный результат и коэффициент полезного действия. По вечерам он скрупулезно подводил итоги. А я? Себя я не причислял ни к одному из этих трех типов, не решался анализировать глубже, и даже если бы меня немного подтолкнули, затруднился бы дать прямой ответ. Хотя я этот ответ искал. Мной управляло и страстное стремление к абсолюту и еще, как однажды я с ужасом понял, любопытство: и в этой ситуации, да впрочем, и во многих других, я проявлял любопытство и ждал, какой выйдет эффект и как повлияет на меня. Я постоянно наблюдал за собой: как если бы над моей головой установили камеру, а я одновременно был и оператором, и тем, кого снимают, и тем, кто после съемки просматривает материал. Порой я терял внутреннее равновесие, часто не спал ночами, лежал, уставившись в потолок, встроенный там объектив не давал мне покоя. Но ответ на мой вопрос ускользал сквозь пальцы.
Из-за женщин и особенно из-за детей наша работа делалась порой очень тяжелой, сердце просто разрывалось. Солдаты, в основном пожилые и семейные, без конца жаловались. Рядом с беззащитными женщинами, матерями, которые видели, как убивают их беспомощных детей, и могли только умереть вместе с ними, наши люди безмерно страдали от собственного бессилия, чувствовали ту же незащищенность. «Мне бы только не сломаться», – сказал как-то молодой штурмман ваффен-СС, я очень хорошо понимал его желание, но чем тут поможешь. Поведение евреев тоже не упрощало дела. Блобелю пришлось отослать в Германию одного тридцатилетнего роттенфюрера, поговорившего перед казнью с приговоренным; еврей, его ровесник, держал на руках ребенка двух-двух с половиной лет, а жена несла голубоглазого новорожденного: мужчина посмотрел роттенфюреру прямо в лицо и спокойно сказал по-немецки без всякого акцента: «Пожалуйста, господин офицер, убейте детей с первого выстрела». – «Он сам из Гамбурга, – объяснял роттенфюрер Шперату, который, в свою очередь, рассказал историю нам, – мы почти соседи, его детям столько же, сколько моим». Да я и сам терял почву под ногами. Во время экзекуции я заметил мальчика, умиравшего на дне траншеи: у стрелка, видно, дрогнула рука, и пуля попала слишком низко, в спину. Мальчик вздрагивал всем телом, взгляд широко раскрытых глаз остекленел, и вдруг на эту сцену наложилась сцена из моего детства: мы с приятелем бегали с жестяными пистолетиками и играли в ковбоев и индейцев. В то время мой отец только вернулся с Мировой войны, мне было то ли пять, то ли шесть лет, как мальчику в траншее. Я спрятался за деревом, когда мой друг приблизился, я выпрыгнул и пустил в него очередь, выкрикивая: «Пиф-паф, пиф-паф!» Он выронил оружие, схватился обеими руками за живот и, согнувшись, повалился на землю. Я подобрал пистолет, протянул ему: «Держи. Давай играть дальше». – «Я не могу. Я – труп». Я закрыл глаза, рядом задыхался ребенок. После операции я посетил местечко, теперь опустевшее и безмолвное, я заходил в избы, низкие дома бедноты, с советскими календарями и вырезанными из журналов картинками на стенах, предметами культа, грубой мебелью. Все это как-то не вязалось с internationales Finanzjudentum [19]. В одном из домов я увидел большое ведро на плите, вода закипала, на полу стояли кастрюли с холодной водой и таз. Я закрыл дверь, разделся и вымылся этой водой и куском хозяйственного мыла. Вода обжигала: холодной оказалось слишком мало, я покраснел, как вареный рак. Потом я оделся и вышел; при въезде в деревню дома уже горели. Меня преследовал все тот же вопрос, я возвращался к нему снова и снова, и вот однажды у края очередной траншеи девочка лет четырех тихонько взяла меня за руку. Я хотел высвободиться, но она не отпускала меня. Прямо перед нами расстреливали евреев. «Де твоя мама?» – спросил я девочку по-украински. Она пальчиком показала в сторону траншеи. Я погладил ее по волосам. Так мы простояли довольно долго. У меня кружилась голова, и слезы подступали. «Идем со мной, – сказал я, – не бойся, идем». Я сделал шаг к траншее, она уперлась, потянула меня обратно, но потом пошла следом. Я ее приподнял и передал человеку из ваффен-СС: «Будьте к ней добры», – по-идиотски попросил я. Меня охватила безумная ярость, но не обращать же ее на малышку или солдата. Тот уже прыгнул с девочкой в яму, и я круто развернулся и ушел в лес. Это был большой, наполненный солнцем лес, где высокие сосны росли свободно, и между стволами лился мягкий свет. За моей спиной трещали выстрелы. В детстве я играл в таком лесу около Киля, где мы поселились после войны; в странные игры, честно говоря. На день рождения отец подарил мне подборку книжек про Тарзана американского писателя Э.Р. Берроуза, и я с увлечением перечитывал их вновь и вновь – и за столом, и в туалете, и ночью при свете карманного фонарика; а в лесу, подражая своему герою, я раздевался догола, пробирался сквозь деревья и огромные папоротники, ложился на покрывало из сухих сосновых игл, с наслаждением ощущая их легкие уколы, прятался за кустами или поваленным деревом на пригорке у дороги, садился на корточки и следил за теми, кто проходил мимо, за другими, за людьми. Мои игры не имели выраженного эротического характера, я был слишком мал и сексуального возбуждения испытывать еще не мог; но весь лес превратился для меня в эрогенную зону, огромную кожу, такую же чувствительную, как моя голая детская кожа, покрывавшаяся мурашками от холода. Я должен отметить, что позже игры приняли еще более странный вид; мы еще жили в Киле, но отец уже нас оставил, мне исполнилось девять или самое большее десять; я, голый, затягивал ремень на шее и вешался на ветке, во мне поднималась паника, кровь ударяла в лицо, в висках стучало так, что, казалось, голова вот-вот лопнет, дыхание вырывалось со свистом, потом я выпрямлялся, чтобы отдышаться, и повторял все сначала. Такие игры дарили мне живое удовольствие и безграничную свободу, вот что прежде значили для меня леса; теперь я леса боялся.
Я вернулся в Житомир. В штабе подразделения царило сильное волнение: Бор находился под арестом, а Люббе в больнице. Бор напал на него прямо в столовой в присутствии офицеров, сначала ударил стулом, потом пустил в ход нож. Потребовалось шесть человек, чтобы справиться с ним, при этом он успел порезать ладонь фервальтунгсфюреру Штрельке, рана оказалась неглубокой, но болезненной. «Он просто спятил», – сказал мне Штрельке, показывая швы. «Почему, что случилось?» – «Все из-за его еврейчика, того, что играл на пианино». С Яковом произошел несчастный случай: он ремонтировал с Бауэром машину, плохо установленный домкрат упал, и мальчику раздавило руку. Шперат осмотрел ее и объявил, что надо ампутировать. «Так он больше ни на что не годен», – решил Блобель и отдал приказ ликвидировать Якова. «Выполнял Фогт, – продолжал свой рассказ Штрельке. – Бор молчал. Но за ужином Люббе стал его доставать. Вы же знаете Люббе. „Отыграла музычка“, – громко объявил он. И тут Бор кинулся на него. Если хотите знать мое мнение, я скажу прямо: Люббе схлопотал по заслугам. Но Бора мне жаль: отличный офицер, и рушит карьеру из-за какого-то маленького еврея. Чего-чего, а уж евреев здесь хватает». – «Как теперь поступят с Бором?» – «Все зависит от рапорта штандартенфюрера. В худшем случае сядет в тюрьму. А так лишат звания и пошлют искупать вину в ваффен-СС». Я простился со Штрельке и заперся у себя в комнате, меня прямо-таки выворачивало от омерзения. Я полностью понимал Бора, он, конечно, поступил неправильно, но я его понимал. И как только Люббе посмел насмехаться, возмутительно! Я сам немного привязался к маленькому Якову, даже тайно написал одному своему другу в Берлине, чтобы он мне выслал партитуры Рамо и Куперена, я хотел, чтобы Яков изучил и открыл для себя Le Rappel des Oiseaux, Les Trois Mains, Les Barricades mystérieuses и другие чудесные вещи. Теперь партитуры никому не понадобятся: я на пианино не играю. В ту ночь я увидел странный сон. Я встал и направился к двери, но какая-то женщина загородила мне выход. Она была седая и в очках: «Нет, – сказала она мне, – тебе нельзя. Садись и пиши». Я повернулся к столу, но на моем стуле сидел человек и стучал на моей пишущей машинке. Я все же рискнул к нему обратиться: «Извините». Но все заглушил стрекот клавиш, и человек меня не услышал. Я робко тронул его за плечо. Он обернулся, покачал головой и, указав мне на дверь, произнес: «Нет». Я пошел в библиотеку, но ее тоже кто-то занял и сейчас спокойно вырывал страницы из моих книг, а переплеты кидал в угол. Хорошо, – подумал я, – в таком случае остается лечь спать. У меня в кровати под одеялом лежала голая девушка. Увидев меня, она притянула меня к себе, покрыла поцелуями мое лицо, обвила мои ноги своими и пыталась расстегнуть мне ремень. Я сумел оттолкнуть ее с таким трудом, что от напряжения едва дышал. Я решил выброситься в окно, но оно было намертво заклеено краской и не открывалось. К счастью, туалет оказался свободен, и я поспешно там закрылся.
Вермахт перешел наконец в наступление и готовил нам новые задачи. Гудериан прорвал оборону, напав на советские войска с тыла в районе Киева; больше они не сопротивлялись, словно их парализовало. 6-я армия пришла в движение, пересекла Днепр; южнее через Днепр переправлялась 17-я армия. Погода стояла жаркая и сухая, проходящие войска поднимали столбы пыли высотой в дом; когда принимался дождь, солдаты сначала радовались, а затем начинали проклинать непролазное месиво. Времени помыться не давали, солдаты покрывались серой коркой грязи и пыли. Полки, как одинокие корабли, бороздили океан кукурузы и спелой пшеницы, они по целым неделям никого не видели, новости узнавали от шоферов рольбана, направляющихся к линии фронта; вокруг, куда ни кинь взгляд, расстилалась огромная безлюдная равнина: «А живет ли кто на земле этой?» – вопрошал витязь из русской сказки. Иногда, отправляясь в очередную командировку, мы пересекались с каким-нибудь из этих полков, и офицеры с радостью приглашали нас обедать. Шестнадцатого сентября в ста пятидесяти километрах от Киева, в Лохвице, Гудериан, соединившись с танками фон Клейста, окружил, по данным абвера, четыре советские дивизии; с севера и юга их давила пехота и авиация. Киев оказался незащищенным. С конца июля в Житомире перестали расстреливать евреев, а тех, кто уцелел, согнали в гетто; семнадцатого сентября Блобель, офицеры, две части полицейского подразделения «Юг» и наши аскарисы уехали из города, оставив ординарцев, кухню и оборудование для починки техники. Штабу подразделения предстояло как можно быстрее расположиться в Киеве. Но на следующий день Блобель то ли передумал, то ли получил новый приказ от командования и вернулся в Житомир, чтобы ликвидировать гетто. «Несмотря на наши увещевания и особые меры, они не изменили своего наглого поведения. Нельзя держать их у нас за спиной». Он сформировал форкоманду, которой под руководством Гефнера и Янсена предстояло войти с 6-й армией в Киев. Я тоже вызвался, и Блобель согласился.
В ту ночь форкоманда остановилась в опустевшей деревушке рядом с городом. С улицы доносилось истошное воронье карканье, напоминавшее крики младенцев. Мы с офицерами заняли избу, и только я растянулся на соломенном матрасе, в комнату залетела маленькая птичка, воробей, наверное, и все билась о стены и закрытые окна. Полумертвая, задыхающаяся, она замирала на несколько секунд, распластав крылья, потом опять принималась отчаянно метаться, ненадолго возобновляя свое бессмысленное кружение. Пичугу ждала неминуемая гибель. Офицеры уже спали или просто не реагировали. Наконец я поймал птичку под каску и выпустил наружу: она, словно очнувшись от кошмара, выпорхнула в ночь. Зарю мы встречали уже в пути. Война уже разворачивалась непосредственно перед нами, продвигались мы медленно. По обочинам дорог валялись мертвецы, их пустые глаза были открыты, словно они маялись бессонницей. У какого-то немецкого солдата блеснуло в лучах рассвета обручальное кольцо; его лицо покраснело и отекло, во рту и глазницах копошились мухи. Рядом с людьми подыхали лошади, некоторые, раненные пулей или осколком гранаты, бились в агонии, ржали, дергались всем телом, в исступлении катались по трупам, по телам своих всадников. К временному мосту прямо перед нами течение принесло трех солдат, с берега какое-то время можно было разглядеть и вздувшуюся от воды военную форму, и бледные лица неспешно плывущих утопленников. В опустевших, брошенных жителями деревнях коровы с набухшим выменем мычали от боли; обезумевшие гуси гоготали в палисадниках среди кроликов, кур и собак, обреченных умереть от голода на цепи; дома стояли открытые всем ветрам, люди в панике бросили книги, репродукции, радиоприемники, пуховые одеяла. Потом начались разрушенные боями окраины Киева, и вот мы оказались в центре, почти не пострадавшем. На бульваре Шевченко под чудесным осенним солнцем золотились роскошные липы и каштаны, на Крещатике, большой главной улице, пришлось маневрировать между баррикадами и противотанковыми заграждениями, которые усталые немецкие солдаты с трудом пытались оттащить с дороги. Гефнер установил связь с командованием 29-го армейского корпуса, откуда нас направили к зданию НКВД, расположенному над Крещатиком на холме, который доминировал над центром города. Это был прекрасный дворец начала XIX века с длинным желтым фасадом, украшенным лепниной, и высокими белыми колоннами по обеим сторонам главного входа под треугольным фронтоном; но здание бомбили, а напоследок, чтоб уж показать, на что способен, его поджег НКВД. По нашей информации, раньше во дворце располагался Институт благородных девиц, в 1918-м здесь обосновались советские учреждения; с тех пор и пошла его мрачная, наводящая ужас слава, ведь в дворцовом саду, за вторым корпусом, стали расстреливать людей. Гефнер спешно послал отряд набрать евреев, чтобы те все помыли и привели в порядок; мы временно разместили наши кабинеты и документацию там, где было возможно, некоторые сразу приступили к работе. Я спустился в штаб просить саперов: следовало проверить здание и убедиться, что оно не заминировано, мне обещали, что саперы обязательно придут завтра. Во дворец благородных девиц была доставлена под конвоем первая партия евреев, и уборка началась; Гефнер конфисковал матрасы и одеяла, чтобы не спать на голом полу. На следующее утро, в субботу, – я даже не успел еще справиться о саперах – огромный взрыв прокатился по центру города, выбив последние окна. Очень быстро распространилась новость, что на воздух взлетела Ново-Печерская крепость, при этом среди прочих погиб командующий артиллерийской дивизией и начальник ее штаба. Все говорили о саботаже, о минах замедленного действия; вермахт проявлял осторожность, не исключая вероятности, что причина взрыва в неправильном хранении боеприпасов. Гефнер и Янсен принялись арестовывать евреев, в то время как я пытался завербовать осведомителей среди украинцев. Это было отнюдь не просто, мы ничего не знали о них: приходившие к нам люди вполне могли оказаться агентами русских. Задержанных евреев заперли в кинотеатре на Крещатике; я поспешно изучал информацию, поступавшую буквально отовсюду: все указывало на то, что советские тщательно заминировали город, а саперы у нас так и не появились. Наконец, после бурных препирательств со штабом, нам прислали троих самых лучших; они работали два часа, но ничего не нашли. Ночью пережитое волнение проникло в мои сны и отравило их: мне нестерпимо хотелось опорожниться, я побежал в туалет, говно лилось жидкое и густое, сплошным потоком, быстро заполнило унитаз, хлынуло через край, а я все срал, дерьмо уже дошло мне до щиколоток, поднялось до ляжек, до мошонки, но анус никак не прекращал извергать его. Я лихорадочно раздумывал, как все это убрать, но остановиться был не в состоянии; меня выворачивало от едкого, мерзкого, тошнотворного запаха, заполнившего ноздри и рот. Я проснулся, задыхаясь, с пересохшими и покрытыми липким горьким налетом губами. Занималась заря, я поднялся на крутой берег посмотреть на солнце, на обломки мостов, на город и открывающуюся за ним равнину. У моих ног широкий, неторопливый Днепр катил волны, покрытые завитками зеленой пены; посреди реки, под взорванным железнодорожным мостом, протянулись островки, окруженные камышом и кувшинками, к которым причалили брошенные лодки; баржа вермахта пересекала реку; выше, на другом берегу, ржавел наполовину увязнувший в песке, завалившийся на бок катер. Лавру скрывали деревья, и я видел только желтый купол колокольни, слабо отражавший бронзовый свет восходящего солнца. Я повернул к дворцу: воскресенье или нет, а работа ждать не могла; к тому же ожидалась форкоманда группенштаба. Они прибыли поздним утром со своим командующим оберштурмфюрером доктором Кригером, Кригера сопровождали оберштурмфюрер Бройн, некий Браун и гауптман СП Крумме, шеф нашей орпо; Томас остался в Житомире и приехал через несколько дней с доктором Рашем. Кригер и его коллеги заняли противоположное крыло дворца, где мы уже навели порядок; наши евреи трудились, не покладая рук; на ночь мы их загоняли в подвал, рядом с прежними камерами НКВД. Блобель навестил нас после обеда, поздравил с новыми достижениями и снова уехал в Житомир. Он не рассчитывал там задерживаться, город уже был judenrein – очищен от евреев. Командование очистило гетто в тот день, когда мы добрались до Киева, и уничтожило три тысячи сто сорок пять остававшихся евреев. Еще одна цифра для наших рапортов, скоро ее дополнят и другие. Кто, – иногда я спрашивал себя, – оплачет всех расстрелянных евреев, всех еврейских детей, закопанных с открытыми глазами в тучный украинский чернозем, если их сестры и матери тоже убиты? Если убили их всех, то и оплакивать некому, и в этом тоже, наверное, одна из составляющих идеи. Моя работа продвигалась успешно: мне предоставили надежных людей, мельниковцев, они отбирали осведомителей и даже обнаружили трех большевиков, в том числе одну женщину, которые были немедленно расстреляны. Благодаря мельниковцам я вербовал дворников, – эти люди, что-то типа советских привратников, оказывали услуги информаторов сотрудникам НКВД, но без колебаний согласились делать то же самое для нас взамен на незначительные льготы или деньги. Вскоре они выдали нам офицеров Красной Армии, переодетых в штатское, комиссаров, бандеровцев, еврейских интеллигентов, которых после короткого допроса я отсылал к Гефнеру и Янсену. Те, в свою очередь, продолжали заполнять пойманными евреями здание «Пятого Госкино». После взрыва крепости город затих, вермахт обустраивался, снабжение наладилось. Обыски проводились слишком поспешно. Утром в среду, 24-го, новый взрыв на куски разнес полевое управление штаба, занимавшее гостиницу «Континенталь» на углу Крещатика и Прорезной. Я спустился посмотреть. Улицу запрудили зеваки и незанятые по службе солдаты, глазевшие на горящее здание. Фельджандармы начали собирать гражданское население для расчистки завалов; офицеры с чемоданами, одеялами, граммофонами покидали нетронутое крыло гостиницы. Стекло скрипело под ногами: в домах окрестных улиц взрывной волной выбило витрины и окна. Очевидно, погибло много офицеров, но сколько именно, никто пока не знал. Внезапно сработал еще один детонатор, где-то ниже, по направлению к площади Толстого; потом мощная бомба разорвалась в здании напротив гостиницы, нас накрыло тучей щебня и пыли. Люди в панике бежали в разные стороны, матери вопили, звали детей; вверх по Крещатику, объезжая противотанковые ежи, поднимались на мотоциклах немецкие солдаты и выпускали наугад пулеметные очереди. Улицы в мгновение ока заволокло черным дымом, вспыхнуло множество пожаров, я задыхался. Офицеры вермахта выкрикивали взаимоисключающие приказы, непонятно, кто из них командовал. Крещатик был завален обломками и перевернутыми машинами, оборванные троллейбусные провода висели до земли, у стоявшего в двух метрах от меня автомобиля взорвался бензобак, «опель» вспыхнул, как спичка. Я вернулся во дворец, сверху казалось, что горит вся улица, слышались взрывы. Блобель только что приехал, и я представил ему отчет о ситуации. Подошел Гефнер и рассказал, что, воспользовавшись общим переполохом, бóльшая часть евреев, запертых в кинотеатре около «Континенталя», спаслась. Блобель приказал разыскать их; я настаивал, что гораздо важнее сейчас еще раз сверху донизу обследовать места нашего расквартирования. Янсен разделил орпо и ваффен-СС на группы в три человека и разослал их по всему городу, велев выламывать любую дверь, запертую на ключ, и особенно тщательно обыскивать подвалы и чердаки. Меньше чем через час один из них наткнулся в погребе на склад взрывчатки. Шарфюрер ваффен-СС, служивший когда-то сапером, отправился проверять находку: речь шла о шестидесяти бутылках с горючей смесью, которую финны со времен Зимней войны окрестили «коктейль Молотова», похоже, здесь было только хранилище, хотя точно утверждать мы не могли, требовалось мнение эксперта. Кругом царила неразбериха. Янсен кричал, щедро раздавая удары хлыста нашим Arbeitsjuden, евреям, набранным на работы; Гефнер со своим обычным деловым видом раздавал бестолковые поручения. Блобель, коротко посовещавшись с доктором Кригером, приказал освободить здание. Пункты отступления заранее не предусмотрели, и теперь никто не знал, куда идти; пока спешно нагружали машины, я связался со штабом армейского корпуса; но офицеры там находились в жуткой запарке и предложили мне разбираться самому. К дворцу я пробирался сквозь дым пожаров и охваченную смятением толпу. Пока саперы вермахта пытались развернуть брандспойты, огонь быстро распространялся. Я вспомнил о большом стадионе «Динамо»; он находился далеко от места пожаров, около Лавры на Печерских холмах, маловероятно, что Красная Армия позаботилась заминировать и его. Блобель одобрил мою идею и направил туда груженые автомобили и грузовики; офицеры занимали оставленные бывшими хозяевами кабинеты и раздевалки, до сих пор вонявшие потом и хлоркой, солдаты поднимались на трибуны, а евреев, которых пригнали под усиленной охраной, усадили внизу на траве. Пока мы выгружали и разбирали документацию, ящики, пишущие машинки, а телефонисты устанавливали аппараты, Блобель связался со штабом армейского корпуса, и опять нам приказали все демонтировать и грузить обратно: вермахт выделял нам квартиры в бывшей царской резиденции. Пришлось паковать все заново; целый день мы потратили на переезды. Только фон Радецки, казалось, радовался нашей возне: «Krieg ist Krieg und Schnaps ist Schnaps [20]», – свысока бросал он тем, кто жаловался. Вечером я, наконец, обратился за сведениями к своим помощникам мельниковцам: требовалось узнать как можно подробнее о плане красных; взрывы явно координировали, мы должны были срочно задержать мятежников и опознать их Ростопчина. У абвера имелись сведения о неком Фридмане, известном агенте НКВД, главе агентурной разведки и диверсионных групп, организованных перед отступлением Красной Армии; саперы утверждали, что речь просто идет о заранее заложенных минах замедленного действия. Центр превратился в ад кромешный. Прогремело еще несколько взрывов, пожары уничтожили весь Крещатик от Думской площади до площади Толстого. Бутыли с «коктейлем Молотова», спрятанные на чердаках, лопались от жара, желеобразная смесь текла по лестницам домов, подпитывая огонь, который постепенно перекидывался на параллельные улицы: с улицы Пушкина на улицы Меринга, Карла Маркса, Энгельса вплоть до улицы Октябрьской революции, проходившей под нашим дворцом. Обезумевшее население взяло штурмом два огромных магазина ЦУМ, фельджандармерия многих задержала и хотела передать нам, остальные сгорели заживо. Жители центра бежали, сгибаясь под тяжестью тюков и толкая впереди детские коляски, заваленные домашней утварью, коврами, радиоприемниками, а дети надрывались от плача на руках матерей. Немецкие солдаты, не слушая приказов, прибивались к ним и тоже бежали. Время от времени внутрь дома проваливалась крыша, с жутким грохотом ломая перекрытия. В некоторых местах я мог дышать только через мокрый носовой платок, я давился кашлем и отплевывал густую мокроту.
На следующее утро прибыл группенштаб и большая часть нашего подразделения во главе с Куно Кальсеном. Саперы наконец проверили наш дворец и извлекли ящики с взрывоопасными бутылями, мы вернулись в свои квартиры, как раз чтобы встретить вновь прибывших. Вскоре появился передовой отряд командующего ХССПФ и расселился в царской резиденции, которую мы только что покинули; за ним следовали два батальона орпо, ставшие для нас значительным подкреплением. Вермахт взрывал здания в центре города, чтобы прекратить пожары. В музее Ленина нашли четыре тонны взрывчатки, готовой сдетонировать в любой момент, но саперам удалось ее обезвредить и оттащить к входу. Новый комендант города, генерал-майор Курт Эбергард, постоянно устраивал совещания, где полагалось присутствовать представителям группенштаба и штаба подразделения. Так как Керига до сих пор никто не заменил, я выполнял его обязанности, и Блобель часто меня просил его сопровождать или, когда был слишком занят, посылал вместо себя; почти каждый час группенштаб вел переговоры с командованием ХССПФ, к вечеру или к завтрашнему дню ждали самого Йекельна. Утром вермахт еще выдвигал версию о диверсантах, переодетых в штатское, просил нас помочь отыскать их и обезвредить; потом в течение дня абвер раскрыл план большевиков, согласно которому еще до отступления Красной Армии было намечено и подготовлено к уничтожению около шестидесяти объектов. Мы отправили туда с проверкой военных инженеров, и информация вроде бы подтвердилась. Мы обнаружили более сорока заминированных зданий, иногда находили взрыватели с беспроводными детонаторами, управляемыми на расстоянии; саперы работали безостановочно и с максимально возможной скоростью. Вермахт решил прибегнуть к радикальным мерам, меры обсуждали и в группенштабе.
В пятницу СП приступила к своим обязанностям. Собранная мной информация помогла задержать за день тысячу шестьсот евреев и коммунистов. В дулагах, временных лагерях, – и в лагере для евреев, и в лагере для гражданского населения, и в самом городе – Фогт организовал группы для допросов, чтобы отфильтровать из общей массы пленных наиболее опасные элементы. Об этом я узнал на совещании у Эбергарда: он с сомнением покачал головой, но армия требовала предпринять все, что возможно. Акты саботажа не прекращались: молодой еврей пытался перерезать один из рукавов, проложенных саперами по дну Днепра и обеспечивающих водой их брандспойты; зондеркоманда расстреляла еврея и шайку цыган, рыскавшую возле православной церкви в отдаленном от центра районе. Одно из наших подразделений уничтожило пациентов госпиталя имени Павлова, приказ отдал Блобель, опасавшийся, что душевнобольные разбегутся и в городе прибавится беспорядков. В Киев прибыл Йекельн, после полудня он председательствовал на общем совещании, где также присутствовали генерал Эбергард, офицеры штаба командования 6-й армии, офицеры айнзатцгруппы, включая доктора Раша, и офицеры зондеркоманды. Раш явно чувствовал себя не в своей тарелке: он молчал, стучал ручкой по столу, его несколько отсутствующий взгляд рассеянно скользил по лицам собравшихся. У Йекельна, наоборот, энергия била через край. Он выступил с короткой речью об актах саботажа, опасности, существующей из-за огромного количества евреев в городе, и необходимости принять наряду с ответными мерами профилактические, причем самые жесткие. Штурмбанфюрер Геннике, начальник III службы айнзатцгруппы, ознакомил всех со статистикой: по его данным выходило, что на сегодняшний день в Киеве насчитывается сто пятьдесят тысяч евреев, и постоянных жителей, и беженцев с Западной Украины. Для начала Йекельн предложил расстрелять пятьдесят тысяч евреев; Эбергард горячо его поддержал и обещал техническую и материальную поддержку 6-й армии. Йекельн обратился к нам. «Господа, – объявил он, – в вашем распоряжении двадцать четыре часа, чтобы представить мне план». «Герр обергруппенфюрер, будет исполнено!» – вскинулся Блобель. Раш заговорил в первый раз: «Да уж, штандартенфюрер Блобель вас не подведет». В его тоне явно сквозила ирония, но Блобель принял его слова за комплимент: «Так точно, так точно». – «Мы должны ответить решительным ударом», – подвел итог Эбергард, закрывая заседание.
Я работал день и ночь, спал, если выпадала возможность, по два часа; но, если честно, активного участия в планировании операции я не принимал: это взяли на себя офицеры тайлькоманд, в данный момент ничем особо не занятые. (Они расстреляли политруков, разоблаченных на допросе у Фогта, и еще нескольких подозрительных типов, схваченных в городе наугад, вот, собственно, и все.) Совещания с 6-й армией и руководством ХССПФ возобновились на следующий день. Зондеркоманда предложила место: к западу от города, в районе Сырца, рядом с еврейским кладбищем, но уже за пределами населенных мест пролегали глубокие овраги, подходящие для нашего дела. «Поблизости еще находится товарная станция, – прибавил Блобель, – евреи поверят, что их просто вывозят из города». Вермахт послал туда геодезистов делать замеры: на основании их отчета Йекельн и Блобель остановились на урочище то ли Бабушка, то ли Старуха, по дну которого протекал небольшой ручеек. Блобель убеждал офицеров: «Приговоренные нами евреи – асоциальные, никчемные, наносящие вред Германии типы. К ним же относятся все убогие из приютов, цыгане и прочие дармоеды. Но начнем мы с евреев». Мы внимательно изучали карты, выясняли, где лучше расставить оцепление, намечали маршрут и планировали транспортировку; уменьшение расстояния и количества грузовиков позволило бы нам сэкономить бензин; также следовало позаботиться о снаряжении и пропитании, учесть надо было все. Для этого требовалось выбрать способ казни: наконец Блобель решился на Sardinenpackung. Йекельн настаивал, чтобы оба его батальона орпо задействовали в операции в качестве стрелков и конвоиров, чем сильно раздражал Блобеля. Ведь еще имелись и ваффен-СС Графхорста и орпо гауптмана Крумме. 6-я армия выделила для оцепления ротные подразделения и предоставила в наше распоряжение грузовики. Между Лукьяновским и еврейским кладбищем, в ста пятидесяти метрах от оврага, Гефнер намеревался устроить сортировочную ценных вещей. Эбергард требовал, чтобы мы собирали ключи от квартир, снабженные бирками с адресом. Из-за пожаров и взрывов двадцать пять тысяч людей оказались на улице, и вермахт хотел обеспечить их жильем как можно быстрее. 6-я армия доставила нам сто тысяч боевых патронов и напечатала на серой оберточной бумаге объявления на немецком, русском и украинском языках. Блобель, когда не изучал карты, суетился и находил время для другой деятельности, после полудня с помощью военных саперов он взорвал храм Успения Богородицы, чудесную православную церквушку XI века, стоявшую в самом центре Лавры. «Пусть украинцы тоже платят», – объяснял он с удовлетворением. Как-то мимоходом я обсудил это с Фогтом, потому что совершенно не понимал смысла подобной акции; Фогт полагал, что инициатива вряд ли принадлежала Блобелю, но не знал, кто мог ему разрешить или приказать такое. «Без сомнения – обергруппенфюрер. Его стиль». Во всяком случае, доктор Раш был вне подозрений, мы его теперь почти не видели. При встрече я вскользь спросил Томаса: «Что происходит с бригадефюрером? Похоже, что-то не в порядке». – «Он поссорился с Йекельном. И с Кохом тоже». Месяц назад Эрих Кох, гауляйтер Восточной Пруссии, занял пост рейхскомиссара Украины. «По какому поводу?» – спросил я. «Я тебе расскажу позже. Но долго он тут не продержится. Кстати, у меня тоже к тебе вопрос: евреи в Днепре – ваша работа?» Накануне вечером все евреи, пришедшие на шабат в синагогу, исчезли; утром их тела плавали в реке. «Армия жалуется, – продолжал он. – Все считают, что такие инциденты вызывают сильное беспокойство у гражданского населения. Это не gemütlich». – «А то, что готовится, gemütlich [21]? Я думаю, что у населения очень скоро появятся другие причины для волнения». – «Не надо сравнивать. Наоборот, они будут счастливы избавиться от своих евреев». Я пожал плечами: «Нет, это не мы. Насколько мне известно, конечно. Сейчас, знаешь ли, мы немного заняты, у нас другие заботы. И другие методы».
В воскресенье по всему городу расклеили объявления. С целью дальнейшего расселения в разных областях Украины евреев приглашали собраться утром перед их кладбищем на улице Мельникова, при себе разрешалось иметь пятьдесят килограммов вещей. Я сомневался в успехе этого маневра; позади был Луцк, и слухи об участи, ожидающей евреев, просочились через линию фронта; чем дальше мы продвигались на восток, тем меньше становилось евреев, теперь они бежали с Красной Армией до нашего наступления, а ведь раньше, в самом начале, ждали нас с надеждой. С другой стороны, как верно подметил Геннике, большевики упорно обходили молчанием наши операции: в своих радиосводках они, явно преувеличивая, обвиняли нас в чудовищных зверствах, но ни разу не упомянули евреев; возможно, по мнению наших экспертов, боялись нарушить священное единство советского народа. От наших осведомителей мы узнали, что многих евреев должны были эвакуировать в тыл, но их, очевидно, отбирали по тем же критериям, что и русских, и украинцев, прежде всего по профессии, в основном инженеров, врачей, членов Партии, квалифицированных рабочих; большинство евреев, чтобы спастись, уезжали на собственные средства. «Непонятно, – добавил Геннике, – если действительно евреи имеют такое влияние в Коммунистической партии, им бы следовало прилагать больше усилий ради своих единоверцев». – «Они хитрые, – возразил доктор фон Шевен, офицер айнзатцгруппы. – Если бы они открыто покровительствовали своим, то оказали бы услугу нашей пропаганде, что совершенно не в их интересах. Сталин тоже делает ставку на великую русскую национальную идею. Они приносят в жертву братьев своих меньших, чтобы сохранить власть». – «Вы, бесспорно, правы», – согласился Геннике. Я улыбнулся про себя, с горечью подумав, что мы как в Средневековье выстраивали силлогизмы, умозаключения, подтверждающие друг друга. И полученные выводы вели нас по дороге без возврата.
Grosse Aktion [22] началась в понедельник утром 29 сентября, в Йом Кипур, Судный день для евреев. Блобель сообщил нам накануне: «Они будут судимы, будут». Я остался в кабинете составлять рапорт. Вдруг на пороге возник Кальсен: «Вы не идете? Вам хорошо известно, что бригадефюрер приказал всем офицерам присутствовать». – «Я знаю, сейчас закончу и иду». – «Ну, как угодно». Он исчез, я продолжил работать. Часом позже я встал, взял пилотку и перчатки и пошел искать шофера. На улице было холодно, я хотел было вернуться за пуловером, но передумал. Небо обложили тучи, осень уже в разгаре, а там и до зимы недалеко. Я миновал все еще дымящиеся улицы вокруг Крещатика и поднялся по бульвару Шевченко. Длинные колонны шагали на запад, евреи шли семьями, тащили на спинах тюки или рюкзаки. Большинство, вероятно беженцы, выглядели как нищие, мужчины и мальчики были в пролетарских кепках, но то там, то сям мелькали мягкие фетровые шляпы. Кто-то даже вез стариков и чемоданы в повозках, запряженных тощими лошадьми. Я велел шоферу развернуться, мне хотелось увидеть больше; он поехал налево, потом за университетом спустился на Саксаганскую и направился в сторону вокзала. Евреи выходили из домов и вливались в поток, текший с мерным шумом мимо. Немецких солдат я как-то и не заметил. На перекрестках улиц людские речки соединялись, разрастались и двигались дальше, спокойно, без волн и водоворотов. Мы поднялись на холм, вокзал остался позади, и снова выехали на бульвар с угла огромного ботанического сада. Там группа солдат с какими-то украинскими пособниками жарила свинью на огромном вертеле, пахло очень вкусно. Проходящие евреи с завистью заглядывались на жаркое, солдаты смеялись, насмехались над ними. Со всех прилежащих улиц стекались люди, их увлекало общим течением, ручейки впадали в реку. Время от времени бесконечная колонна останавливалась, потом – толчок, и она снова отправлялась в путь. Мимо меня старухи с гирляндами лука на шее вели за руки сопливых детей, я заметил девочку, стоявшую среди консервных банок, размером больше нее. Мне показалось, что в основном здесь шли старики и дети, однако судить трудно: здоровых мужчин либо забрали в армию, либо они попросту сбежали. Справа, перед ботаническим садом, в водосточной канаве, закинув руку за голову, лежал труп; люди старались не смотреть в ту сторону. Я спросил у солдат, топтавшихся вокруг свиньи: «Что случилось?» Фельдфебель отдал мне честь, потом ответил: «Смутьян, оберштурмфюрер. Он кричал, смущал толпу, пытался оклеветать вермахт. Ему велели замолчать, но он продолжал орать». Я оглянулся на толпу: люди оставались спокойными и совершенно инертными, хотя поначалу, может, чуть и встревожились. Через свою сеть осведомителей я распространял следующую версию: евреев отправляют в Палестину, но сначала в гетто, в Германию на работы. Чтобы избежать паники, местные власти, назначенные вермахтом, тоже проявили активность. Конечно, шептались и о массовых убийствах, но подобные слухи пресекались, люди уже не понимали, чему верить, а кроме того, мы могли рассчитывать на то, что они помнят немецкую оккупацию 1918 года и испытывают доверие к Германии, возлагают на нее надежды, надежды тщетные.
Мы поехали обратно. Хоть я и не давал никаких указаний шоферу, он двинулся за колонной евреев, к улице Мельникова. Немецкие солдаты нам по-прежнему не встречались; только на перекрестках, на углу ботанического сада и еще там, где пересекаются улицы Артема и Мельникова, выставили контрольные пункты. Тут я и стал свидетелем первого в этот день происшествия: фельджандармы избивали бородатых евреев, с длинными пейсами, в одних рубахах, по-видимому, раввинов. Они были красные от крови, рубахи насквозь пропитались, женщины кричали, в толпе поднялось страшное волнение. Потом фельджандармы схватили раввинов и куда-то поволокли. Я наблюдал за людьми: они понимали, это читалось в их наполненных страхом глазах, что раввины обречены, но еще надеялись, что убьют только служителей культа.
В конце улицы Мельникова перед еврейским кладбищем проход сузили, установив противотанковые заграждения и колючую проволоку, охранявшиеся теперь солдатами вермахта и украинскими полицейскими. Здесь начиналось оцепление, пройдя сквозь такое «горлышко», вернуться назад евреи уже не могли. Зона сортировки находилась чуть дальше, слева, на пустоши перед огромным христианским Лукьяновским кладбищем. Его окружала длинная и довольно низкая стена из красного кирпича, за которой поднимались в небо высоченные деревья, с одних листья уже облетели, другие еще стояли красные и желтые. Напротив, со стороны улицы Дегтяревской, выстроились ряды столов, мимо которых проводили евреев. Я увидел почти всех наших офицеров: «Давно начали?» Гефнер показал головой на север: «Да, уже несколько часов. Где вы пропадали? Штандартенфюрер сердится». За каждым столом стоял унтер-офицер нашего подразделения, рядом с ним переводчик и солдаты; на первый стол евреи клали документы, на второй – деньги, ценности, украшения, на третий – ключи от квартир с бирками с разборчиво написанным адресом и, наконец, на последний – одежду и обувь. Они, наверное, что-то подозревали, но молчали; все равно деваться некуда, зона полностью оцеплена. Некоторые евреи пытались заговорить с полицейскими, но украинцы окриками и ударами загоняли их обратно в толпу. Дул пронизывающий ветер, я мерз и очень жалел, что не взял пуловер; иногда порыв ветра доносил до нас приглушенный треск выстрелов, но евреи как будто его не слышали. За рядами столов наши аскарисы целыми тюками таскали в грузовики конфискованную одежду; машины уезжали в город, где мы заранее устроили сортировочную. Я перебрал стопку документов, их сваливали в кучу посреди участка, чтобы потом сжечь. Разорванные паспорта, трудовые книжки, профсоюзные билеты, продовольственные талоны, семейные снимки; самые легкие бумажки раскидал ветер, ими было покрыто все вокруг. Я разглядывал фотографии: негативы и отпечатанные в ателье портреты мужчин, женщин, детей, бабушек, дедушек, младенцев с пухлыми щеками; иногда попадалась карточка, сделанная во время отпуска, момент счастья, нормальная жизнь до всего этого. Я вспомнил фотографию, которую я, учась в коллеже, хранил в тумбочке рядом с кроватью: портрет прусской семьи до Мировой войны, три юнкера в парадной форме и девушка, видимо их сестра. Я уже забыл, как у меня появилась эта карточка, возможно, я ее купил у старьевщика или продавца открыток во время одной из редких прогулок. Тогда я чувствовал себя совершенно несчастным, меня за серьезную провинность насильно запихнули в пансион (это произошло во Франции, куда мы переехали через несколько лет после того, как испарился мой отец). По ночам при свете луны или под одеялом с карманным фонариком я часами во всех подробностях изучал свое сокровище. Меня все мучил вопрос: почему я вырос не в такой чудесной семье, а в этом губительном аду? Еврейские семьи на развеянных по ветру фотографиях казались счастливыми; ад для них наступил сейчас, прошлое исчезло навсегда, теперь они могли только с тоской вспоминать о нем. Евреи в нижнем белье стояли возле столов и дрожали от холода; украинские полицейские отгоняли в одну сторону мальчиков и мужчин, в другую – женщин и маленьких детей; женщин, детей, стариков сажали в грузовики вермахта и отвозили к оврагу; остальные шли туда пешком. Меня догнал Гефнер: «Вас ищет штандартенфюрер. Имейте в виду, он просто в бешенстве». – «Почему?» – «Он обижен на обергруппенфюрера, навязавшего ему два своих батальона полиции. Он уверен, что обергруппенфюрер хочет один почивать на лаврах после Aktion». – «Глупость какая». Подошел Блобель, он уже выпил, лицо его блестело. Он сразу набросился на меня: «Какого черта, где вас носит? Почему вас нужно ждать часами?» Я отдал честь: «Штандартенфюрер! У СД есть и свои собственные задачи. Я исследовал обстановку, чтобы, если понадобится, предотвратить любой инцидент». Блобель немного остыл: «Ну и?» – проворчал он. «Все в порядке, штандартенфюрер». – «Хорошо. Вам туда, выше. Бригадефюрер изъявил желание видеть всех офицеров».
Я вернулся в машину и поехал за грузовиками; у оврага полицейские высаживали женщин и детей, следом за ними приводили мужчин. Многие евреи, пока шли, пели религиозные гимны; почти никто не пытался бежать. С пригорка отчетливо слышались выстрелы, и началась паника, главным образом, среди женщин. Но ничего предпринять они не могли. Их разделили на маленькие группы, и унтер-офицер, сидевший за столом, всех пересчитал; потом наши аскарисы собрали их и повели по кромке оврага. Раздавались залпы, потом уходила следующая группа, дело спорилось. Я обогнул овраг с западной стороны, чтобы присоединиться к остальным офицерам, стоявшим на вершине северного склона. Оттуда я и увидел весь овраг: ширина его достигала приблизительно пятидесяти метров, глубина тридцати, и тянулся он на многие километры; небольшой ручеек, протекавший по дну, внизу впадал в реку Сырец, давшую название всей области. Через ручей положили доски, так и евреям и стрелкам было легче передвигаться, на другой стороне, почти повсюду на голых склонах рассыпались белые кучки, которых становилось все больше и больше. Украинские «укладчики» доставляли к этим кучам своих подопечных и заставляли ложиться сверху или рядом; взвод солдат приближался и шел вдоль рядов лежащих почти нагишом людей, пуская каждому пулю из автомата в затылок; всего выделили три взвода. Между расстрелами несколько офицеров проверяли тела и делали из пистолета контрольный выстрел. Наверху, обозревая происходящее, стояли офицеры СС и вермахта. Йекельн находился здесь со своим окружением, рядом пристроился доктор Раш; я узнал еще многих из высших чинов 6-й армии. Я заметил Томаса, он тоже видел меня, но не ответил на мое приветствие. Напротив маленькие группки спускались по склонам и присоединялись к разраставшимся кучам тел. Холод пробирал до костей, кто-то пустил по кругу ром, я выпил немного. Блобель подкатил на машине прямо к нашей стороне оврага, наверное, ему пришлось описать большой крюк; он отхлебывал из фляжки, метал громы и молнии, орал, что все происходит слишком медленно. Между тем скорость была максимальной. Стрелков меняли каждый час, те, кто не стрелял, поили их ромом и перезаряжали магазины. Офицеры говорили мало, некоторые старались скрыть свое смятение. Военная комендатура прислала батарею полевой кухни, приготовили чай, чтобы согреть офицеров орпо и зондеркоманды. На обед высший офицерский состав вернулся в город, а младшие офицеры остались есть с солдатами. Поскольку расстрелы прекращать не разрешалось, столовую устроили чуть дальше, в низине, откуда не виден был овраг. За провизию отвечала айнзатцгруппа; когда вскрыли консервы и солдаты обнаружили в банках кровяную колбасу, они пришли в бешенство и подняли ужасный крик. Гефнер, весь последний час приканчивавший раненых, вопил и швырял открытые банки на землю: «Что за бордель здесь устроили?»; за моей спиной громко рвало солдата ваффен-СС. Я тоже побелел, от вида колбасы меня мутило. Я повернулся к Гартелю, фервальтунгсфюреру айнзатцгруппы, и спросил, как он посмел так поступить. Но Гартль, на нем смешно сидели короткие, не по размеру широкие рейтузы, плевал на все. Тогда я крикнул ему в лицо, что это – позор: «В нашей ситуации лучше бы обойтись без такой пищи!» Гартль отвернулся от меня и зашагал прочь; Гефнер кидал консервы обратно в картонный ящик, молодой офицер Нагель старался меня урезонить: «Послушайте, оберштурмфюрер…» – «Нет, это недопустимо, такие вещи необходимо продумывать. Здесь как раз и проявляется ответственность». – «Вот именно, – скривился Гефнер. – Пойду поищу что-нибудь другое». Кто-то налил мне рома, я одним глотком осушил стакан, ром обжигал, и мне полегчало. Гартль вернулся и направил на меня свой толстый палец: «Оберштурмфюрер, не смейте разговаривать со мной в подобном тоне». – «А вы не смейте, не смейте…» – забормотал я, показывая на перевернутые ящики. «Господа! – рявкнул Фогт. – Обойдемся без скандала, прошу вас». У всех явно сдавали нервы. Я отошел и съел кусок хлеба с луковицей; сзади оживленно спорили офицеры. Через какое-то время вернулись высшие чины, и Гартль, вероятно, доложил о случившемся, потому что Блобель нашел меня и от имени доктора Раша вынес выговор: «В данных обстоятельствах следовало вести себя, как подобает офицеру». Потом приказал мне заменить Янсена, когда тот поднимется из оврага. «У вас есть оружие? Да? Бабам не место в моем подразделении, понятно?» Он был совершенно пьян, брызгал слюной и почти не контролировал себя. Вскоре Янсен вылез наверх. Он мрачно взглянул на меня: «Ваша очередь». Там, где я стоял, обрыв был слишком крутым для спуска, мне пришлось обогнуть овраг и зайти с другого конца внизу у реки. Песчаная почва вокруг тел пропиталась почти черной кровью; и ручеек тоже почернел. Запах крови заглушал ужасный смрад экскрементов, в момент смерти многие испражнялись; к счастью, дул довольно сильный ветер и разгонял зловонные испарения. При ближайшем рассмотрении оказалось, что все не так уж гладко. Евреям, пригнанным аскарисами и орпо к оврагу, сверху открывалась полная картина происходящего. Они выли от ужаса, вырывались, «укладчики» ударами шомполов или стальным тросом заставляли их спускаться и ложиться на землю, но, даже лежа, они кричали и пытались встать, дети цеплялись за жизнь, как взрослые, вскакивали и бежали, пока «укладчик» не догонял их и не сбивал с ног. Пули часто летели мимо, но стрелки не обращали на это внимания и переходили к следующей жертве, раненые извивались, стонали от боли, или, наоборот, умолкали и замирали, широко распахнув глаза, словно парализованные. Солдаты ходили взад-вперед и стреляли практически безостановочно. Я остолбенел и не понимал, что надо делать. Появился Графхорст, потряс меня за рукав: «Оберштурмфюрер!» Он показал пистолетом на тела: «Постарайтесь ликвидировать раненых». Я вынул свой пистолет и направился к куче: юноша выл от боли, я нацелил дуло ему в голову и нажал на спуск, но пистолет не выстрелил: я забыл поднять предохранитель, потом я снял его, и пуля попала юноше прямо в лоб, он вздрогнул и затих. Чтобы добраться до некоторых раненых, я наступал прямо на трупы и страшно скользил, обмякшие белые тела перекатывались под моими сапогами, кости предательски ломались, из-за чего я постоянно оступался да еще по щиколотку увязал в грязи и крови. Это было ужасно, меня пронизывало невыносимое отвращение, как в тот вечер в Испании, в сортире, полном тараканов; мне, тогда еще совсем молодому, отчим подарил путешествие в Каталонию, ночевали мы в деревне, ночью меня прихватило, я побежал в сортир в глубине сада, освещая дорогу фонариком, возле дырки, чистой днем, копошились огромные коричневые тараканы, я испугался, решил перетерпеть и вернулся в кровать; но позывы усиливались, горшка я не нашел, мне оставалось только влезть в резиновые сапоги и пойти обратно; я уговаривал себя, что смогу отогнать тараканов, топая ногой, и быстро справлю нужду, я просунул голову в дверь, осветил пол и вдруг заметил отблеск на стене, направил туда фонарик, на стене кишмя кишели тараканы, на всех стенах, на потолке, на перекладине над дверью; я тихонько заглянул за дверь, ее тоже сплошь покрывала черная, шевелящаяся масса, тогда я осторожно, очень осторожно отступил, возвратился в комнату и крепился до утра. Я ходил по телам евреев, испытывая то же чувство, стрелял наугад по всему, что двигалось, потом опомнился и постарался сосредоточиться, пусть все же люди меньше страдают, но в любом случае я мог добить только лежащих сверху, под ними тоже лежали раненые, еще живые, но при последнем издыхании. Я не был единственным, кто потерял самообладание, многих стрелков трясло, и, пока вели очередную партию, они пили. Я обратил внимание на молодого солдата ваффен-СС, имени его я не знал: он, прижав автомат к бедру, начал палить куда ни попадя, дико хохотал и разряжал магазин наобум, выстрел налево, потом направо, потом два выстрела, потом три, так дети иногда следуют трещинам на мостовой, образующим загадочную топографическую карту. Я подошел к нему, встряхнул, но он продолжал смеяться и стрелял прямо мне под ноги, я вырвал у него автомат, хлестнул наотмашь по щеке и отправил к солдатам, перезаряжающим магазины; Графхорст прислал мне другого человека, я кинул ему автомат и крикнул: «Целься как следует, понял?!!» Рядом со мной провели новую группу: я встретился взглядом с очень красивой девушкой, почти без одежды, но остававшейся элегантной, спокойной, глаза ее наполняло невыразимое горе. Я отошел. Когда я вернулся, она была еще жива, лежала, наполовину откинувшись на спину, пуля прошла под грудью. Девушка прерывисто дышала, тело ее оцепенело, но прекрасные губы дрожали, казалось, вот-вот с них сорвется какое-то слово; она неотрывно смотрела на меня своими большими глазами, удивленными, непонимающими, глазами раненой птицы; ее взгляд пронзил меня насквозь, я показался себе обыкновенной, грубо сделанной куклой, набитой опилками; я ничего не чувствовал, и в то же время мне больше всего хотелось наклониться и отереть с ее лба пот, смешавшийся с грязью, погладить по щеке и сказать, что все хорошо, все к лучшему, но вместо этого я с лихорадочной поспешностью пустил ей пулю в голову; в конце концов, все сводилось к одному, если не для меня, то для нее-то уж точно. Мысль обо всей этой бестолковой человеческой свистопляске привела меня в дикое, беспредельное бешенство, я стрелял и не мог остановиться, ее голова лопнула, как перезрелый плод; вдруг моя рука отделилась от тела и поплыла над оврагом, стреляя по сторонам, я бежал следом, подзывал ее второй рукой, просил подождать, но она не хотела, издевалась надо мной и палила по раненым, вполне справляясь без меня, я остановился и расплакался. Теперь, думал я, все кончено, рука никогда ко мне не вернется, но, к моему огромному изумлению, обнаружилось, что она снова на месте и крепко приросла к плечу, а рядом очутился Гефнер и сказал: «Все нормально, оберштурмфюрер. Я вас заменю».
Я вылез из оврага, мне налили чаю; теплое питье немного меня взбодрило. Луна, бледная, зыбкая, в три четверти, повисла на сером небе. Для офицеров соорудили какую-то небольшую халупу. Я вошел и сел в глубине на лавку покурить и допить чай. Там находились еще трое мужчин, но никто не разговаривал. Внизу трещали залпы: гигантский, запущенный нами механизм неутомимо и методично продолжал истреблять людей. Наверное, конца этому не будет никогда. С начала истории человечества войну воспринимали как наибольшее зло. Но в сравнении с тем, что изобрели мы, война представлялась честной и ясной, многие уже стремились вырваться отсюда, чтобы укрыться за простой правдой фронта и сражений. Даже безумные мясорубки Мировой войны, через которые прошли наши отцы и офицеры постарше, казались почти справедливыми и чистыми рядом с тем, что мы явили миру. Я считал это необыкновенным, поразительным. Мне представлялось, что именно здесь находится нечто основополагающее, и если я сумею это понять, то все для меня станет понятным, и я смогу наконец обрести покой. Но думать у меня не получалось, мысли сталкивались и разбегались в голове, словно поезда метро, с грохотом проносящиеся мимо станций во всех направлениях и на всех уровнях. Да, собственно, никого и не заботило, о чем я там думаю. Наша система, наше государство не придавало ни малейшего значения рефлексиям своих верных служителей. Государству было безразлично, из каких соображений мы убивали евреев, из ненависти, или для того, чтобы сделать карьеру, или даже потому, что в некоторой степени получали от этого удовольствие. Точно ему было безразлично, что мы не испытываем ненависти ни к евреям, ни к цыганам, ни к русским, что нам не доставляет никакой радости уничтожать их, абсолютно никакой радости. Ему было бы безразлично, даже если бы мы отказались убивать, да и санкции бы не последовали, ведь государство отлично знало, что резервы потенциальных убийц неисчерпаемы, что людей в его распоряжении сколько угодно, что с тем же успехом можно подключить нас к решению других задач, в большей мере соответствующих нашим способностям. К примеру, Шульц из 5-й айнзатцкоманды, получив Führerbefehl, ходатайствовал о своем переводе на новое место, в итоге его освободили от должности и, говорят, определили на хорошее место в Берлине, в государственную полицию. Я тоже мог просить разрешения уехать, и, конечно, Блобель или доктор Раш дали бы мне хорошие рекомендации. Почему же я этого не делал? Просто я еще не понял того, что стремился понять. Да и пойму ли когда-нибудь? Ничто, пожалуй, не вызывало больших сомнений. У меня в голове постоянно вертелась фраза Честертона: «Я никогда не говорил, что тот, кто идет в волшебную страну, всегда неправ. Я только сказал, что он всегда подвергается опасности». Так вот что такое война – уродливая волшебная страна, место игр невменяемого ребенка, который, заходясь от смеха, ломает свои игрушки и веселится, выбрасывая посуду из окна?
Солнце село около шести часов вечера, Блобель объявил ночной перерыв: в любом случае стрелки уже ничего не видели. Прямо за оврагом, на ходу он проводил короткое совещание с офицерами, обсуждались насущные проблемы. Тысячи евреев еще оставались на площади и улице Мельникова; по предварительным подсчетам мы уже расстреляли около двадцати тысяч. Многих офицеров не устраивало то обстоятельство, что приговоренных гнали по краю оврага. Когда те видели, что происходит у них под ногами, то впадали в панику, держать их под контролем становилось сложно. После обсуждения Блобель решил, что саперы военной комендатуры выроют в близлежащих мелких оврагах ходы, ведущие к главному оврагу, евреи пройдут там, и таким образом увидят трупы только в последний момент. Кроме того, он велел присыпать мертвецов известью. Мы вернулись к себе в квартиры. На площади перед Лукьяновским кладбищем сотни семейств сидели в ожидании на земле или чемоданах. Кто-то разжег огонь и готовил пищу. На улице то же самое: очередь под немногочисленной охраной стояла до самого города. Утром, на заре, все началось сначала. Но я не думаю, что нужно продолжать описания.
Первого октября все было кончено. Блобель приказал взорвать края оврага, чтобы земля накрыла тела; ждали визита рейхсфюрера, он хотел, чтобы все было чисто. Между тем мы продолжали казни: евреев, конечно, а еще коммунистов, офицеров Красной Армии, моряков Днепровской флотилии, мародеров, саботажников, чиновников, бандеровцев, цыган и татар. Позднее казнями и административными задачами в Киеве стала заниматься 5-я айнзатцкоманда, вместо Шульца ею теперь командовал штурмбанфюрер Мейер; нашей зондеркоманде предстояло двигаться за 6-й армией к Полтаве и Харькову. После Grosse Aktion я работал дни и ночи напролет, передавал сеть информаторов и все контакты своему преемнику, начальнику III службы 5-й айнзатцкоманды. Помимо того, мне приходилось улаживать дела, возникшие вследствие операции; для нуждающихся фольксдойче Украины мы собрали сто тридцать семь грузовиков одежды; одеяла отправляли в военный госпиталь ваффен-СС. А еще требовалось составить рапорты: Блобель напомнил о приказе Мюллера и поручил мне подготовить документальные фотоматериалы об операции. Наконец, пожаловал Гиммлер в сопровождении Йекельна и в тот же день снизошел до того, чтобы обратиться к нам с речью. Он объяснил, что ликвидация еврейского населения необходима, если мы хотим уничтожить большевизм в корне, и особо подчеркнул, что осознает трудность задачи, потом почти без всякого перехода изложил свое видение будущего Германии здесь, на востоке. По окончании войны русские, отброшенные за Урал, сформируют Slavland, придаток Германии; совершенно очевидно, что они постоянно будут предпринимать попытки вернуться, чтобы помешать. Германия выстроит в горах линию городов-гарнизонов и фортов для ваффен-СС. Всех молодых немцев обяжут к двухгодичной службе в СС в том регионе; конечно, потерь не избежать, но мелкие конфликты небольшой напряженности помогут немецкой нации не впасть в изнеженность победителей и сохранять неколебимость воинов, бдительных и сильных. Украинскую и русскую территорию, защищенную этой оборонительной линией, колонизуют немцы, а усовершенствуют хозяйство ветераны войны: каждый солдат-земледелец и его сыновья получат в собственность большой и плодородный земельный надел; порабощенных славян заставят возделывать поля, а Германия ограничится управлением. Эти фермы созвездьями расположатся вокруг гарнизонных и торговых городков; что касается безобразных русских промышленных городов, их сровняют с землей; Киев, старинный немецкий город, изначально называвшийся Kiroffo, вероятно, все же оставят. Все эти города соединятся с Рейхом сетью автострад и двухэтажных скоростных поездов с индивидуальными спальными купе, для которых выстроят специальные пути в несколько метров шириной; столь масштабные работы обеспечат уцелевшие евреи и военнопленные. Крым, исторически принадлежащий готам, так же как немецкие регионы Поволжья и нефтяной центр Баку, станет частью Рейха, его курортно-развлекательной зоной, куда напрямую из Германии, через Брест-Литовск, пустят экспресс; там же, отойдя от великих дел, поселится фюрер. Речь поразила воображение слушателей: хотя мне нарисованная картина будущего напомнила фантастические утопии в духе Жюля Верна и Эдгара Райса Берроуза, нам наконец представили вполне определенный, правда составленный в высших, невообразимо далеких от нас сферах, план, конечную цель.
Воспользовавшись случаем, рейхсфюрер представил нам бригадефюрера СС, генерал-майора полиции доктора Томаса, прибывшего с ним, чтобы заменить доктора Раша и возглавить айнзатцгруппу. Действительно, на второй день операции Раш уехал из Киева, даже ни с кем не попрощавшись: Томас, как обычно, с точностью предвосхитил события. Слухи распространялись быстро: сыграли на конфликте Раша с Кохом, прибавили, что он потерял самообладание во время операции. Доктор Томас, награжденный Железным крестом, владеющий французским, английским, греческим и латынью, имел крепкую закалку; в 1934-м он, идеалист и убежденный национал-социалист, оставил практику врача-психиатра и вступил в СД. Очень скоро мне выпала возможность познакомиться с ним ближе, сразу после приезда он принялся ходить по кабинетам айнзатцгруппы и служб подразделения и лично беседовал с каждым. Его чрезвычайно беспокоили психические расстройства боевого состава: в присутствии начальника III службы 5-й айнзатцгруппы, принявшего у меня дела, и еще многих должностных лиц СД он объяснил нам, что здоровый человек не может месяцами находиться в подобных условиях без вредных, а порой крайне опасных последствий для психики. В Латвии в айнзатцгруппе «А» какой-то унтерштурмфюрер сошел с ума и убил нескольких офицеров, пока его самого не застрелили; этот случай насторожил Гиммлера и высшие чины, рейхсфюрер велел доктору Томасу, тонко чувствовавшему суть проблемы благодаря прежней профессии, принять профилактические меры. Бригадефюрер, не откладывая дела в долгий ящик, обнародовал еще не принятый официально приказ: те, кто больше не в состоянии убивать евреев, из моральных принципов или по слабости, должны явиться в группенштаб, им поручат другие задачи или дадут разрешение вернуться в Германию. Приказ вызвал оживленные споры среди офицеров: некоторые считали, что открытое признание собственной слабости оставит несмываемое пятно в личном деле и ограничит дальнейшее продвижение по службе; другие, наоборот, спешили поймать доктора Томаса на слове и ходатайствовали об отъезде. Третьих, таких, как Люббе, отправляли без всяких просьб, по решению врачей подразделения. Обстановка потихоньку налаживалась. Выполняя данное мне поручение, я решил, что лучше вместо бессистемных фотографий представить документальный альбом. Работы при этом, конечно, только прибавилось. Один из наших орпо, фотограф-любитель, во время экзекуций отснял несколько цветных пленок, у него же имелись и средства для проявки; я реквизировал в специальном магазинчике еще кое-какой материал, чтобы он мне отпечатал самую лучшую серию. Я подобрал еще и черно-белые снимки, потом на хорошей бумаге, раздобытой в администрации 29-го армейского корпуса, переписал наши рапорты об операции. Штабной служащий каллиграфическим почерком вывел красивые подписи под карточками и оформил титульный лист: «Большая операция в Киеве» – заглавными буквами, «Отчеты и документы», а также даты – маленькими. Среди квалифицированных Arbeitsjuden, содержащихся в новом лагере Сырец, я нашел переплетчика, реставрировавшего книги для партийных бюро и даже изготовившего альбомы для съезда; фон Радомски, комендант лагеря, одолжил мне его на несколько дней: тот сшил отчеты и страницы с фотографиями под обложкой из черной кожи, изъятой из конфискованного у евреев добра, и украсил ее эмблемой зондеркоманды-4a блестящей чеканки. Я показал получившийся том Блобелю. Он пришел в полный восторг; перелистывал альбом, восхищался переплетом и каллиграфией: «Мне бы тоже такой на память». Блобель поздравил меня и заверил, что мое творение передадут рейхсфюреру, а то и самому фюреру; подразделение вправе этим гордиться. Не думаю, что мы одинаково смотрели на вещи: то, что для него было трофеем, для меня оборачивалось скорее горьким воспоминанием, торжественным обещанием помнить. Вечером я разговорился со своим новым знакомым, инженером вермахта по имени Оснабругге. Я встретил его в казино, где играли офицеры, он угостил меня выпивкой, оказался интересным человеком; мне доставляло удовольствие беседовать с ним. Я рассказал Оснабругге об альбоме и услышал в ответ любопытное замечание: «Каждый должен выполнять свою работу с любовью». Оснабругге имел диплом Рейнского политехнического университета, специализировался по строительству мостов; профессия стала его настоящей страстью, он вдохновенно мне объяснял: «Вы понимаете, я получал профессию, рассчитывая в дальнейшем выполнять культурную миссию. Мост – прямой и реальный вклад в объединение, в создание новых дорог, новых путей сообщения. И потом, мост – это очень красиво. И не только радует глаз: вот вы попытайтесь представить вычисления, силу напряжения и давления, тросы и опоры – как все это удерживается в равновесии игрой математических формул!» Оснабругге мост построить не довелось: он делал проекты, но пока их не реализовал. Потом вермахт направил его сюда проводить экспертизы разрушенных красными мостов. «Потрясающе, знаете ли. Каждый мост строится индивидуально и взрывается по-своему. Всегда возникают неожиданные моменты, что очень поучительно. Признаюсь, я не могу спокойно смотреть на все это. Такие прекрасные конструкции. Если вы захотите, я вам покажу кое-что». Я с радостью согласился, у меня как раз появилось свободное время. Мы договорились встретиться возле самого большого взорванного моста через Днепр, и утром я там и нашел его. «Впечатляет, не правда ли?» – он стоял неподвижно, уперев кулаки в бока, и пристально, не отрываясь, смотрел на обломки. Огромный металлический сводчатый мост, возведенный прямо под Печерскими утесами, лежал на пяти массивных опорах из обтесанного камня; три пролета, отколовшись ровно по стыкам, ушли в воду; две секции напротив еще держались. Рядом саперы уже наводили понтонный мост, выкладывая на надувных лодках брусья и доски; половину реки они уже прошли. Переправу пока осуществляли на баржах, толпа, солдаты и штатские, ждала на берегу. У Оснабругге в распоряжении имелась лодка с мотором. Мы обогнули строящийся понтон и медленно причалили к искореженным фермам разрушенного моста. «Взгляните, – он указал на опоры, – вот здесь они уничтожили сводчатые балки, а там нет. Да и необходимости не было, достаточно взорвать несущие элементы, и все остальное обрушится. Они хорошо постарались». – «А сами опоры?» – «Не пострадали, кроме той, что в середине. Мы как раз сейчас их проверяем. Конечно, мост восстановят, но не сразу». Оснабругге обращал мое внимание еще на какие-то детали, но я уже смотрел по сторонам. Теперь, осенью, лесистые утесы горели оранжево-желтым с красными искрами пламенем, на вершине в солнечных лучах сверкали купола Лавры. Позади укрывался город, с нашей стороны я не разглядел ни одного дома. Ниже течение загородили еще два обрушившихся моста. Река лениво текла между наполовину погруженными в воду брусьями. Мимо неспешно проплыла баржа с крестьянками в цветастых платках и еще сонными солдатами. Я засмотрелся на водоросли, колыхавшиеся на поверхности, и вдруг у меня будто начало двоиться в глазах: я четко видел растения, и одновременно мне мерещились крупные тела наполеоновских гусар в светло-зеленых, бутылочных или желтых мундирах, с кокардами и пышными страусовыми перьями, качавшиеся на волнах. Видение было настолько ярким, что я, по-видимому, вслух произнес имя императора, потому что Оснабругге тут же подхватил: «Наполеон? Вы совершенно правы, как раз перед отъездом я наткнулся на книгу об Эбле, вы, возможно, слышали о нем, главный инженер Наполеона? Человек, заслуживающий восхищения. Единственный, кроме Нея, кто рисковал, и замечу, единственный из офицеров высшего командного состава, кто погиб. При Кёнигсберге, через год после того, как возвел мосты на Березине». – «Да, Березина известное место». – «Мы прошли там меньше чем за неделю. Вы знаете, что Эбле построил на ней два моста? Один пешеходный, другой для подвижной техники и офицерских повозок, разумеется». Мы направились к берегу. «Вы наверняка читали Геродота, у него тоже есть множество чудесных историй про мосты». – «Да, знаю, знаю». Он кивком указал на понтон: «Еще персы строили мосты с помощью кораблей, вот как мы сейчас». Потом скривился: «Но намного лучше». Он высадил меня на берег, я крепко, по-дружески пожал ему руку. «Спасибо за экскурсию. До скорого!» – «О, я не уверен. Завтра я еду в Днепропетровск. В общей сложности мне нужно проверить двадцать три моста, вообразите себе! Но однажды мы обязательно встретимся».
Мой день рождения выпадает на десятое октября, в этом году Томас пригласил меня на ужин. Поздно вечером многие наши офицеры пришли поздравить меня с бутылкой конька, мы пропустили несколько рюмок. Позднее к нам присоединился Томас, в отличном настроении, предложил тост за мое здоровье, а потом увлек меня в сторону, пожал руку: «Дорогой мой, у меня для тебя вместо подарка прекрасная новость: тебя выдвинули на повышение. Это пока еще секрет, но я видел документы у Гартля. После Aktion рейхсфюрер попросил группенфюрера представить ему список солдат и офицеров, показавших себя в лучшем свете. Твой альбом произвел очень хорошее впечатление, и твое имя занесли в список. Я знаю, что Гартль возражал, так до сих пор и не простил тебе сказанного во время Aktion, но Блобель поддержал твою кандидатуру. Впрочем, тебе все равно не помешало бы в ближайшие дни извиниться перед Гартлем». – «Даже не обсуждается. Скорее, ему надо извиниться». Томас засмеялся, пожал плечами: «Как хочешь, гауптштурмфюрер. Но такое поведение жизнь твою совсем не упрощает». Я нахмурился: «Я веду себя как следует офицеру СС и национал-социалисту. Только тот, кто про себя может сказать такое, имеет право упрекать меня». Я сменил тему: «А ты?» – «А что я?» – «Тебя-то тоже продвинут по службе?» Он широко улыбнулся: «Не имею никакого понятия. Да ты скоро сам все узнаешь». – «Будь осторожен! Я тебя догоняю». Он засмеялся, я засмеялся вместе с ним. «Я бы очень удивился», – ответил он.
Город медленно возвращался к жизни. Сначала переименовали главные улицы: Крещатик – в Айххорнштрассе, в честь немецкого генерала, занявшего Киев в 1918-м, бульвар Шевченко – в Ровноферштрассе, улицу Артема – в Лембергштрассе, а мой любимый Чеховский переулок – в вульгарную Готенштрассе. Потом военная комендатура разрешила открыть несколько частных ресторанчиков. Лучший из них, как утверждали, держал фольксдойче из Одессы, прибравший к рукам столовую для высших партийных чиновников, в которой прежде работал поваром. Томас заказал столик. В ресторане сидели только немецкие офицеры, и еще какие-то двое из украинской администрации разговаривали с офицерами АОК: я узнал Багазия, бургомистра Киева, назначенного Эбергардом; СД подозревала его в коррупции, но он поддерживал Мельника, Рейхенау его одобрил, и мы в конце концов сняли свои претензии. Плотные шторы под бархат закрывали окна, в нишах горели свечи; нас провели к столику в углу, немного в отдалении от остальных, и принесли украинские закуски: огурцы, маринованный чеснок, копченое сало с ледяной водкой, медовухой и перцовкой. Мы поднимали тосты, закусывали и болтали: «Ну, – шутил Томас, – предложение рейхсфюрера введет тебя теперь в соблазн, рассчитываешь стать фермером?» – «Даже не думал! Полевые работы не особо меня привлекают». Томас перешел к Grosse Aktion: «Безусловно, очень тяжело, очень неприятно, но необходимо», – прокомментировал он. Мне не хотелась продолжать тему: «Чем закончилось дело Раша?» – поинтересовался я. «О, Раш! Я был уверен, что ты меня спросишь». Он вытащил из кармана мундира небольшую пачку сложенных листов бумаги: «Держи, читай. Но только между нами, ладно?» Передо мной лежал рапорт, отпечатанный на бланке айнзатцгруппы, подписанный Рашем за несколько дней до Grosse Aktion. Я быстро пробежал его глазами; в заключении Раш выражал сомнение в целесообразности уничтожения всех евреев и подчеркивал, что не в них одних корень зла: не следует отождествлять большевистский аппарат и еврейский народ. Если в сложившейся ситуации мы заменим основную задачу – уничтожить коммунистическую машину, на более простую – истребить евреев, то окончательно утратим цель предпринимаемых нами мер политической безопасности. Он также настаивал на негативных последствиях, которые ликвидация евреев окажет на развитие украинской промышленности, и выдвигал целый ряд аргументированных предложений по использованию в крупных масштабах еврейской рабочей силы. Я отдал рапорт Томасу, он аккуратно сложил бумагу и убрал в карман. «Понятно», – процедил я сквозь зубы. «Но заметь, он не слишком заблуждается». – «Разумеется! Только ни к чему рвать глотку. Так ничего не добьешься. Вспомни свой рапорт тридцать девятого года. А вот бригадефюрер Томас с помощью французских экстремистов взорвал парижские синагоги. Вермахт вышвырнул его из Франции, а рейхсфюрер был в восторге». Водку мы допили, официант убрал со стола, нам подали французское вино, бордо. Я удивился: «Откуда у них такое?» – «Маленький сюрприз: друг прислал мне его из Франции. Представь себе, доставили в целости и сохранности. Две бутылки». Я растрогался, в теперешних условиях это действительно был великодушный поступок. Я наслаждался вином. «Я дал ему как следует отстояться, – прибавил Томас. Правда, отличается от молдавской бурды?» Томас поднял бокал: «Насколько я помню, не только ты отмечаешь сегодня день рождения?» – «Ты прав». Кроме Томаса почти никто из коллег не знал, что у меня есть сестра-двойняшка; обычно я о ней не рассказывал, но Томас когда-то прочитал мое досье, и я все ему разъяснил. «Сколько ты ее уже не видел?» – «Скоро семь лет». – «Тебе передают новости о ней?» – «Время от времени. Вообще-то редко». – «Она по-прежнему живет в Померании?» – «Да. Они часто ездят в Швейцарию. Ее муж подолгу лечится в санаториях». – «А дети у нее есть?» – «Не думаю. Я бы очень удивился. Я сомневаюсь, что ее муж хоть на что-нибудь годится. Ну, за что?» Томас снова поднял стакан: «За ее здоровье, да?» – «За ее здоровье». Мы молча выпили, принесли горячее, приятная беседа продолжилась. После ужина Томас открыл вторую бутылку и достал две сигары из кармана мундира. «Сейчас или под коньяк?» Я порозовел от удовольствия, но одновременно почувствовал некоторое смущение: «Ты – настоящий волшебник, признайся. Давай сигары выкурим с коньяком, а сейчас допьем вино». Мы заговорили о положении на фронтах. Томас рассуждал с большим оптимизмом: «Здесь, на Украине, мы продвигаемся быстро. Фон Клейст прорывается к Мелитополю, через неделю или две падет Харьков. Одессу захватят не сегодня завтра. Но главное, наступление на Москву вот-вот все решит. С того момента, как Гот и Гёпнер соединились в Вязьме, мы взяли полмиллиона пленных! Абвер сообщает о тридцати девяти уничтоженных дивизиях. Русским никогда не оправиться от такого количества потерь. И еще, Гудериан уже почти в Мценске и скоро примкнет к остальным. Фюрер совершил гениальный ход, сначала послав Гудериана сюда, разделаться с Киевом, а потом кинув его на Москву. Красные и опомниться не успели. В Москве, наверное, паника. Через месяц будем там, и войне конец». – «Да, но если мы не возьмем Москву?» – «Возьмем, и очень скоро». Я гнул свое: «А если все же нет? Что тогда? Как вермахт перенесет зиму? Ты спрашивал у руководства? У них к зиме ничего не готово, ничего. На солдатах до сих пор летняя форма. Даже если они сейчас начнут поставлять теплую одежду, то не смогут обеспечить всех. Преступная халатность! Даже если мы возьмем Москву, то все равно потеряем десятки тысяч человек, они просто умрут от холода и болезней». – «Ты – пессимист. Я убежден, что фюрер все предусмотрел». – «Нет. Зиму никто не планировал. Я говорил с людьми из АОК, у них ничего нет, они страшно подавлены и постоянно шлют сообщения в Берлин». Томас пожал плечами: «Да разберемся. В Москве отыщется все, что нам надо». – «Ты уверен, что русские не сожгут все перед отступлением? И потом, если мы не возьмем Москву?» – «Да что ты об одном и том же? Русские не способны оказать сопротивление нашим танкам. Они все силы уже бросили на Вязьму, и их раздавили». – «Да, потому что держалась хорошая погода. Но со дня на день начнутся дожди. В Умани уже выпал снег!» Я разгорячился, чувствовал, как кровь прилила к лицу. «Ты разве не видел летом, что происходит, когда дождь идет день, два? Теперь будет лить по две, три недели. Каждый раз в это время года вся страна стоит и всегда стояла. И армию тоже парализует. А потом ударят морозы». Томас насмешливо смотрел на меня, щеки мои пылали, я, вероятно, сильно раскраснелся. «Честное слово, ты прямо заделался настоящим военным экспертом», – отметил он. «Вовсе нет. Но если проводишь дни напролет среди солдат, то многому учишься. И еще я читаю. Недавно, например, прочел книгу о Карле Двенадцатом, – я принялся жестикулировать. – Ты знаешь, где находятся Ромны? Представляешь себе место, где Гудериан соединился с фон Клейстом? Так вот там, недалеко от Полтавы, в декабре семьсот восьмого года расположилась штаб-квартира Карла Двенадцатого. Он и Петр искусно маневрировали, берегли солдат, и поэтому месяцами вытанцовывали друг перед другом. Потом в Полтаве Петр делает резкий выпад в сторону шведов, и те сразу отступают. Таковы правила феодальной войны, войны правителей, заботящихся о чести и, что важно, равных между собой, их война, по сути, остается куртуазной, напоминает церемониальные игры или парады, становится почти театральным действием и, к слову, не слишком кровавым. Позже, когда слуга короля, крестьянин или бюргер, превращается в гражданина, то есть когда государство демократизируется, война вдруг становится всеобщей и ужасной, все приобретает серьезный оборот. Наполеон победил Европу вовсе не потому, что имел самую многочисленную армию, и не потому, что в стратегии превосходил своих противников, а потому, что старые монархии вели с ним войну по старинке, в установленных рамках. А для Наполеона ограничений уже не существовало. Наполеоновская Франция открыла дорогу талантам, как говорится, граждане вошли в правительство, государство устанавливало законы и порядки, но властвовал народ; и, конечно, такая Франция вела уже тотальную войну, используя все возможные силы. И только когда враги это поняли и стали делать то же самое, когда Ростопчин сжег Москву, а Александр поднял казаков и крестьян, чтобы задать жару отступавшей Великой армии, везение изменило Франции. На войне Петр и Карл Двенадцатый рисковали только маленькой ставкой и, потеряв ее, останавливали игру. Но когда в войне участвует целая нация, на кону оказывается все, и нация вынуждена ставить и ставить до полного банкротства. Вот в чем проблема. Если мы не возьмем Москву, то мы не сможем остановиться и заключить разумное перемирие. Надо будет продолжать. Тебе интересно узнать, к чему сводятся мои рассуждения? Для нас эта война – пари. Грандиозное пари, которое заключила вся нация, весь Volk, но все же речь идет о пари. А пари ты либо выигрываешь, либо терпишь поражение. Русские такую роскошь позволить себе не могут. Для них это не пари, а катастрофа, обрушившаяся на их страну, бедствие. Ничего особенного, если ты проиграешь пари, но бедствию ты уступить не можешь, ты должен бороться, другого выхода нет». Я выложил свои соображения залпом, быстро, едва переводя дыхание. Томас молча пил вино. «И еще вот что, – прибавил я взволнованно. – Я скажу тебе, только тебе. Убийство евреев, в сущности, ничего не дает. Раш абсолютно прав. Никакой пользы – ни экономической, ни политической – в нем нет. Наоборот, мы рвем с миром экономики и политики. Это чистое расточение, растрата. Смысл здесь один: он в бесповоротном жертвоприношении, которое нас связало окончательно, раз и навсегда отрезав пути возврата. Ты понимаешь? Все это уже не для пари, хода назад больше нет. Endsieg [23] или смерть. Ты и я, мы все теперь связаны этой войной, действиями, совершенными вместе. Если мы ошиблись в расчетах, если недооценили количество заводов, которые красные построили или перевели за Урал, нам крышка». Томас допил вино. «Макс, – сказал он наконец, – ты слишком много думаешь. Тебе это вредит. Коньяку?» Я закашлялся и кивнул головой, да, мол. Кашель продолжался, приступами, как будто что-то тяжелое перекрыло мне область диафрагмы и не желало выходить наружу, и вдруг я сильно рыгнул. Я вскочил, извинился и кинулся к выходу из ресторана, нашел дверь, открыл, она выходила во внутренний дворик. Меня жутко крутило, потом немного вырвало. Сразу стало легче, но я почувствовал такую усталость и опустошение, что облокотился на телегу с поднятыми оглоблями и простоял неподвижно несколько минут. Потом я вернулся. Нашел официантку, попросил воды: она принесла целое ведро, я попил чуть-чуть и умыл лицо. Потом вернулся к столику. «Прости меня». – «Что с тобой? Ты болен?» – «Нет, пустяки, просто недомогание». Подобное со мной уже случалось не раз. Но я не знаю, когда точно все началось. Меня рвало, наверное, раз или два, но после еды я постоянно ощущал крайне неприятные и изматывающие приступы тошноты, которым всегда предшествовал сухой кашель. «Ты должен проконсультироваться с врачом», – посоветовал Томас. Нам подали коньяк, я сделал глоток. Мне стало лучше. Томас снова угостил меня сигарой; я взял ее, но зажег не сразу. Томас был явно встревожен. «Макс… Держи свои мысли при себе. Иначе неприятностей не оберешься». – «Да, я знаю. Я только с тобой ими поделился, потому что ты – мой друг». Я резко сменил тему: «Ну, ты нашел себе девицу из местных?» Он засмеялся: «Времени не хватило. Но думаю, задача не такая уж сложная. Официантка хорошенькая, ты обратил внимание?» Я на нее даже не посмотрел, но согласился с Томасом. «А ты?» – спросил он. «Я? Как будто ты не знаешь, сколько у нас работы? Уже хорошо, если мне удается поспать, я не могу жертвовать ни часом сна». – «А в Германии? А до приезда сюда? Мы с Польши редко встречались. Ты – скрытный тип. Ты наверняка прячешь где-то милую Fräulein, которая пишет тебе длинные слезные письма о любви: „Макс, Макс, дорогой, возвращайся скорей, ах, как жестока война“?» Мы рассмеялись, я закурил сигару. Томас уже дымил вовсю. Я, конечно, много выпил, и мне вдруг очень захотелось поговорить: «Нет. Никаких Fräulein. Но еще задолго до нашего с тобой знакомства у меня была невеста. Детская любовь». Я уловил его любопытство: «О, правда? Расскажи». – «Да особо нечего. Мы полюбили друг друга в раннем детстве. Но ее родители возражали. Ее отец, точнее, отчим, французский буржуа, человек с принципами. Нас насильно разлучили, отправили в интернаты, подальше друг от друга. Она тайком писала мне письма, полные отчаяния, я ей тоже. А потом меня отправили на учебу в Париж». – «И ты больше с ней не встречался?» – «Иногда, на каникулах, лет в семнадцать. И последний раз, уже спустя годы, прямо перед отъездом в Германию. Я ей сказал, что наш союз нерушим». – «Почему ты на ней не женился?» – «Это было невозможно». – «А теперь? У тебя хорошее положение». – «А теперь поздно. Она замужем. Сам видишь, нельзя доверять женщинам. Все заканчивается одинаково. Сплошное разочарование». Мне стало грустно и горько, не стоило затевать этот разговор. «Ты прав, – отозвался Томас. – Именно поэтому я никогда не влюбляюсь. К тому же я предпочитаю замужних дам, так надежнее. Как зовут твою красавицу?» Я махнул рукой: «Да неважно». Мы курили в тишине, попивая коньяк. Томас дождался, пока моя сигара потухла, и встал. «Давай не тоскуй. Сегодня все же твой день рождения». Мы оказались последними, официантка дремала в глубине комнаты. На улице в «опеле» храпел наш шофер. Ночное небо сияло, убывающая луна, ясная и спокойная, лила бледный свет на разрушенный, безмолвный город.
Конечно, я был не единственным, у кого возникали вопросы. Смутные, глубокие сомнения охватывали ряды вермахта. Сотрудничество вермахта с СС оставалось превосходным, но Большая операция спровоцировала различного рода волнения. Фон Рейхенау обнародовал новый приказ, резкий и категоричный тон которого грубо опровергал заключения Раша. Так внутренние колебания людей списывались на недостаточную осведомленность о большевистской системе. На Восточной территории солдат выступает не только как участник военных действий, – писал Рейхенау, – но и как непримиримый носитель национальной идеологии и мститель за зверства по отношению к Немецкой нации и родственным ей по крови народам. Таким образом, солдат обязан полностью осознавать необходимость суровой, но справедливой кары второсортной еврейской расы. Сострадание следует искоренять, делиться продовольствием с местным славянским населением, потенциальными большевистскими агентами – чистое недомыслие, неуместное проявление человечности. Города будут разрушены, партизаны уничтожены, колеблющиеся элементы тоже. Разумеется, не все эти идеи принадлежали фон Рейхенау, наверняка несколько пассажей подсказал рейхсфюрер, но главное, цитируя замечательное выражение одного неизвестного чиновника Министерства сельского хозяйства Пруссии, приказ полностью соответствовал линии фюрера и поставленной цели; неудивительно, что фюрер остался очень доволен и отдал распоряжение распространять приказ во всей восточной армии как директиву. Я подозревал, что подобного заявления недостаточно, чтобы успокоить умы. Национал-социализм являлся всеобъемлющей и всеобщей философией, мировоззрением, как мы говорили, каждый должен найти свое место, и каждому место должно быть предоставлено. Иначе получалось, что в едином целом пробили дыру, определив судьбу всех национал-социалистов – идти по единственной открывающейся перед ними дороге без возврата и до самого конца.
Роковые события в Киеве усугубили мое болезненное состояние. В коридоре Института благородных девиц я столкнулся с берлинским знакомым: «Штурмбанфюрер Эйхман! Я слышал, вас повысили. Мои поздравления!» – «А, доктор Ауэ. Я как раз вас искал, привез вам посылку. Мне ее передали во Дворце принца Альбрехта». Я познакомился с этим офицером в то время, когда он под руководством Гейдриха работал в Берлине над организацией центральной имперской службы по делам еврейской эмиграции и часто заходил в наш департамент проконсультироваться по юридическим вопросам. Теперь он, получив звание оберштурмфюрера, щеголял новыми нашивками на воротнике черной городской формы, контрастирующей с нашей серо-полевой. Эйхман красовался, ходил гоголем; любопытно, что я запомнил его заискивающим, услужливым бюрократишкой и сейчас просто не узнавал. «Что вас привело сюда?» – спросил я, приглашая его войти в кабинет. «Посылка, и еще одна для вашего коллеги». – «Нет, я хотел узнать, почему вы в Киеве». Мы сели, и он с заговорщицким видом наклонился ко мне: «Я прибыл на встречу с рейхсфюрером». Его распирало от гордости и желания поговорить: «С непосредственным своим начальником. По специальному вызову». Он снова подался вперед: было в нем сходство с маленькой, но хищной и настороженной птицей. «Я представлял рапорт. Статистический отчет, составленный моими службами. Вы знаете, что я заведую административным отделом?» – «Нет, я не знал, поздравляю вас». – «Отдел „четыре-б-четыре“. Занимаюсь еврейской проблемой». Он положил пилотку на стол, а черный кожаный портфель держал на коленях; потом вынул из кармана футляр, достал массивные очки, нацепил на нос, открыл портфель, извлек широкий, довольно толстый конверт и протянул мне. «Вот он, красавчик. Понятное дело, я вас не спрашиваю, что там». – «Да я, собственно, могу вам сказать. Там партитуры». – «Вы – музыкант? Я тоже немного играю, представьте себе. На скрипке». – «Честно говоря, нет. Это предназначалось другому человеку, но он погиб». Эйхман снял очки: «О, мне очень жаль. Война так ужасна. Вот еще что, – продолжил он, – ваш друг доктор Люллей передал мне чек и просил, чтобы вы возместили траты за перевозку». – «Непременно. Я пришлю вам деньги не позднее сегодняшнего вечера. Где вы расположились?» – «При штаб-квартире рейхсфюрера». – «Отлично. Огромное спасибо за услугу. Очень любезно с вашей стороны». – «Что вы, мне в удовольствие. Мы, в СС, должны помогать друг другу. Меня только огорчает, что посылка опоздала». Я пожал плечами: «Уж так вышло. Могу я вас угостить?» – «О, мне не положено. Служба, вы же знаете. Но…» Он даже расстроился, но я кинул ему спасительную соломинку: «У нас говорят: „война войной“…» Он подхватил: «…„а шнапс шнапсом“. Да, я в курсе. Ну, давайте чуть-чуть». Я вытащил из ящика два стаканчика и бутылку, припрятанную для гостей. Эйхман встал, произнес с пафосом: «За здоровье фюрера!» Мы выпили. Я видел, что ему охота поболтать. «Так в чем заключается ваш рапорт? Если не секрет». – «О, это не подлежит разглашению, hush-hush, как говорят англичане. Но вам я доверяю. Шеф прислал группенфюрера и меня тоже, – он намекал на Гейдриха, на данный момент обосновавшегося вместе со своим заместителем в Праге, – обсудить с рейхсфюрером план выселения евреев из Рейха». – «Выселения?» – «Именно. На Восток. До конца нынешнего года». – «Всех?» – «Всех». – «И куда же?» – «Большинство, конечно, в Остланд. Ну и на юг, на строительство Транзитной трассы четыре. Окончательное решение еще не принято». – «Ясно. А ваш отчет?» – «Статистические выводы. Я лично докладывал рейхсфюреру. Об общей ситуации по выселению евреев». Он поднял палец. «Как вы думаете, сколько их?» – «Кого?» – «Евреев в Европе». Я покачал головой: «Понятия не имею». – «Одиннадцать миллионов! Одиннадцать миллионов, вы представляете? По некоторым странам, еще не вошедшим в зону нашего контроля, например Англии, цифра приблизительна. У них там не введены расовые законы, и мы вынуждены ориентироваться на религиозный критерий. Но, тем не менее, по этим данным можно судить о численном порядке. На одной Украине их почти три миллиона». Затем прибавил педантично: «Два миллиона девятьсот девяносто четыре тысячи, если уж совсем точно». – «Действительно, какая точность. Но вы согласны, что айнзатцгруппы не в состоянии со всем справиться самостоятельно?» – «Совершенно справедливо. Сейчас идет поиск новых методов». Он взглянул на часы и поднялся. «Простите, но мне пора возвращаться к начальству. Благодарю за шнапс». – «Спасибо за посылку! Я незамедлительно передам вам деньги для Люллея». Мы одновременно вскинули руку и отсалютовали: «Хайль Гитлер!»
Эйхман ушел, я сел и уставился на сверток, лежавший на столе. В нем были партитуры Рамо и Куперена, заказанные мной для житомирского мальчика-еврея. Глупость, наивная сентиментальность; мной овладела безграничная грусть. Я подумал, что мне теперь легче объяснять поведение солдат и офицеров во время казней. Если они и страдали, как и я, пока продолжалась Большая операция, то не из-за запахов и вида крови, а из-за ужаса и душевных мук своих жертв, так же как приговоренные к расстрелу, сильнее терзались из-за страданий и гибели у них на глазах тех, кого они любили, – жен, родителей, детишек, чем из-за надвигающейся собственной гибели, по сути являвшейся освобождением. Во многих случаях, как я осознавал теперь, безнаказанный садизм и неслыханная жестокость, с которой перед казнью наши люди обращались с осужденными, были всего лишь следствием чудовищной жалости, не нашедшей другого способа выражения и превратившейся в ярость, бессильную, беспредметную, почти неизбежно направленную на того, кто стал ее первопричиной. Массовые казни на востоке свидетельствовали, как это ни парадоксально, о страшном, нерушимом единстве человечества. Какими бы беспощадными и ко всему привычными ни были наши солдаты, никто из них не мог стрелять в женщину-еврейку, не вспомнив жену, сестру или мать, убивать еврейского ребенка, не увидев перед собой в расстрельном рве родных детей. Их поведение, зверства, алкоголизм, депрессии, самоубийства, равно как и мои переживания, доказывали: другой существует, и тот другой – человек; и нет ни такой воли, ни идеологии, ни такой степени безумия и количества алкоголя, которые могли бы разорвать имеющуюся связь, тонкую, но прочную. Это данность, а не праздное рассуждение.
Высшее командование постепенно осознавало это обстоятельство и начало с ним считаться. Эйхман мне поведал, что уже разрабатываются альтернативные методы. Через несколько дней после его посещения некий доктор Видман приехал в Киев, чтобы передать нам грузовик для специальных целей. Грузовиком марки «заурер» управлял Финдейзен, личный шофер Гейдриха, молчаливый тип, несмотря на настоятельные просьбы, упорно отказывавшийся разъяснять, почему именно его выбрали для этой миссии. Доктор Видман, руководивший химическим отделом технического института судебной уголовной полиции, прикрепленным к крипо, выступил перед офицерами с долгой презентацией: «Газ, – заявил он, – более тонкое средство». Герметичный кузов грузовика наполнялся выхлопными газами, отравляя людей, находящихся внутри; действительно, столь изящное решение позволяло еще и экономить. Видман рассказал нам, что первоначально испробовали еще один способ, он лично в присутствии начальника, группенфюрера Небе, проводил эксперименты над пациентами психиатрической лечебницы, но опыт с взрывчатыми веществами дал кошмарный результат. «Неописуемо. Катастрофа». Блобель воодушевился: ему не терпелось запустить новую, понравившуюся ему игрушку. Гефнер отметил, что грузовик вмещает мало народу – по словам доктора Видмана, пятьдесят-шестьдесят человек, не больше, – функционирует медленно и, следовательно, не отличается особой эффективностью. Но Блобель отмел все возражения: «Мы оставим грузовик для женщин и детей, это благотворно повлияет на настроения солдат». Доктор Видман обедал с нами; после бильярда он вспомнил предысторию изобретения: «Если честно, то идея возникла у группенфюрера Небе. Однажды вечером в Берлине он перебрал, заснул в гараже в машине с работающим двигателем и чуть не умер. Мы как раз корпели над созданием грузовика, но рассчитывали употреблять монооксид углерода в баллонах, что совершенно непрактично в условиях восточных регионов. Так вот именно группенфюрер, после ночного происшествия, додумался использовать выхлопные газы самого грузовика. Блестящая идея». Этот анекдот он услышал в метро от своего шефа доктора Геесса: «Если быть точным, между Виттенбергплатц и Тильплац. Я был под впечатлением».
С некоторых пор Блобель высылал из Киева тайлькоманды для проведения чисток в маленьких городах – Переяславе, Яготине, Козельце, Чернигове, все не перечислить. Но офицеры, возглавлявшие тайлькоманды, досадовали: если уже после проведения операции им случалось вернуться в город, они обнаруживали, что количество евреев только возросло, так как после их ухода бежавшие евреи возвращались обратно. Офицеры жаловались, что это путает все статистические данные. По сводным расчетам Блобеля подразделение уничтожило пятьдесят одну тысячу человек, причем четырнадцать тысяч без посторонней помощи (то есть без батальонов орпо Йекельна). Для взятия Харькова сформировали форкоманду, в которую должен был войти и я; в Киеве я свои дела закончил (5-я айнзатцкоманда взяла на себя мои обязанности), и Блобель приказал мне помочь в проведении инспекций в тайлькомандах. Зарядили дожди, мы переплыли вздувшийся Днепр и увязли в грязи. Грузовики и легковые машины облепила черная густая каша вперемешку со стеблями соломы, солдаты ворошили стога, стоявшие на обочине, пытаясь сделать на дороге перед идущей техникой настил, – бесполезно. Мне потребовалось два дня, чтобы догнать Гефнера в Переяславе, большую часть времени меня тянули на прицепе гусеничные машины вермахта, и я, испачкавшись по уши, выталкивал из хлюпающей жижи «опель-адмирал». Ночевал я в какой-то деревушке с офицерами пехотной дивизии, двигавшейся через Житомир на фронт, измотанные до предела люди с ужасом наблюдали за наступлением зимы и задавались вопросом, какова их конечная цель. Я избегал разговоров про Урал; наши войска так и не продвинулись дальше Харькова. Офицеры жаловались на новобранцев, присланных из Германии, чтобы восполнить потери, плохо обученных и в бою быстро терявших контроль над собой, по крайней мере, гораздо быстрее, чем прежние. Оборудование ломалось: современные немецкие повозки с каучуковыми шинами и шарикоподшипниками разваливались на части, их заменяли на конфискованные у местных крестьян прочные дровни. Прекрасные немецкие, венгерские или ирландские лошади, с которыми начиналась кампания, подыхали. Выживали только низкорослые крепкие русские коняги, жравшие что ни попадя – березовые побеги, солому, свисавшую с крыши избы, но они оказались слишком легкими и не годились для тяги и перевозки груза, так что пехота вынуждена была бросать тонны боеприпасов и снаряжения. «Каждый вечер люди ссорятся из-за крыши над головой или даже хоть сколько-то сухой дыры. Обмундирование превратилось в лохмотья, вши кишмя кишат, поставки прекратились, даже хлеб почти не присылают». Офицеры тоже терпели лишения: ни бритв, ни мыла, ни зубного порошка, ни кожи для починки сапог, ни иголок, ни ниток. Дождь лил с утра до вечера, и от болезней – дизентерии, желтухи, дифтерита – погибало больше людей, чем на фронте. Больные проходили по тридцать пять километров в день, везти их было не на чем, оставаться в деревнях они не могли, всех убивали партизаны. Партизаны тоже, как вши, расплодились повсюду; отдельные отряды, связные и дозорные прятались в лесах. Однако среди наших солдат я заметил немало русских в немецкой униформе, с белой повязкой «ХИВИ» («добровольный помощник») на рукаве. «Хиви? – ответил мне офицер, которого я спросил о них. – Нет, мы не имеем права их брать. Но мы берем, выбора нет. Все они или волонтеры из гражданских, или заключенные. Они нам нужны для транспортировки и работ эшелона „Б“; это не так уж плохо, они более привычны к здешним условиям, чем мы. Штабные не вмешиваются, закрывают глаза. Вообще такое впечатление, что о нас забыли. Скоро наши дивизии войдут в Полтаву, а в штабе никто точно не знает, кто мы». – «Не боитесь, что партизаны пользуются ситуацией, чтобы втереться в ваши ряды и информировать красных обо всех передвижениях?» Устало пожав плечами, он с горечью заметил: «Пусть развлекаются… В любом случае на сто километров вокруг нет ни одного русского. Как, собственно, и немца. Никого. Только дождь и грязища». Казалось, этот офицер совершенно упал духом; но он сослужил мне добрую службу, научил, как надо чистить форму, и я не хотел с ним спорить. «Сначала надо высушить грязь у печки, потом соскрести ножом и почистить мундир и брюки железной щеткой; только потом можно стирать. Белье необходимо кипятить». Я наблюдал за процессом, это было отвратительно: в кипящей воде плавали целые гроздья толстых, раздутых вшей. Когда я наконец приехал в Переяслав, то понял, почему негодовал Гефнер. Состоявшие при нем три унтерштурмфюрера, Отт, Рис и Дамман, бездействовали, почти не выезжали из города, дороги совершенно развезло. «Нам бы пригодились бронетранспортеры! – воскликнул он при встрече. – Скоро мы и до Киева не сможем добраться. – Потом, прежде чем отвернуться, сухо добавил: – Возьмите, это вам. Мои поздравления». Блобель телеграммой подтверждал мое повышение по службе; кроме того, меня наградили Железным крестом 2-й степени. Я проследовал за Гефнером в школу, где располагалась тайлькоманда, нашел свободное место, оставил вещи. И солдаты, и офицеры спали в гимназии; классы служили кабинетами. Я переоделся и отправился к Гефнеру, поговорили о неприятностях, преследовавших его помощников: «Вот смотрите, есть, например, такая деревня – Золотоноша. Там проживает около четырехсот евреев. Три раза Дамман пытался туда доехать, три раза он возвращался с полпути, а в последний раз мог и вовсе не вернуться, люди озлобились». Вечером дали суп и черный солдатский хлеб, улеглись все рано. Спал я плохо. В нескольких метрах от моего тюфяка какой-то нижний чин ваффен-СС скрипел зубами, омерзительный звук изматывал нервы; как только я засыпал, он будил меня, я бесился. И я был не одинок, другие на него орали, потом послышались удары, я увидел, что его бьют, но все это ни к чему не привело, раздражающий скрежет продолжался или замолкал, но спустя мгновение возобновлялся. «И так каждую ночь, – ворчал Рис, спавший рядом. – С ума меня сводит. Когда-нибудь я его задушу». Я все-таки заснул и увидел странный, поразительный сон. Я – могущественный бог-кальмар и правлю прекрасным, сооруженным из белого камня и воды городом с крепостными стенами. Центральную площадь, заполненную водой, окружали высокие дома. Городские жители почитали меня; а я частично наделил властью и полномочиями одного из них, Служителя. Но однажды я пожелал, чтобы все они покинули мой город, хотя бы на время. Служитель огласил приказ, и тут же из городских ворот хлынули орды, спеша укрыться в убогих лачугах и хижинах на пустыре за крепостными стенами. Но мне казалось, что они медлят, и я яростно колотил щупальцами, пока вода в центре не закипела, потом свернул щупальца и в неистовстве набросился на испуганную толпу, мой рев прокатился раскатами грома: «Прочь! Прочь! Прочь!» Служитель отчаянно метался из стороны в сторону, руководил, указывал дорогу, инструктировал задержавшихся, постепенно город пустел. Но некоторые группы из домов у крепостной стены, наиболее отдаленных от центральных вод, где я выплескивал божественный гнев, не выполняли команды. Речь шла об иностранцах, мало что знавших о моем существовании и власти. Они слышали приказ об эвакуации, всерьез его не восприняли и ни на что не обращали внимания. Служитель отправился на встречу с ними и дипломатично убеждал каждого покинуть мои владения: но, например, финские офицеры, прибывшие на конференцию, протестовали, они сняли гостиницу и зал, оплатили все заранее и не желали съезжать. Таких Служитель искусно вводил в заблуждение, врал, что спешка вызвана серьезной внешней опасностью и надо бежать и спасаться. Я видел в его уловках страшное унижение, ведь настоящей причиной была моя Воля, и чужестранцы должны убраться вон, потому что я того желаю, а не потому что им задурили головы. Мой гнев рос, я буйствовал, ревел во всю глотку, вздымая и обрушивая на город огромные волны. Я проснулся, по окнам по-прежнему струились потоки дождя. На завтрак раздали солдатский хлеб, маргарин из рурского угля, кстати довольно вкусный, синтетический мед из сосновой смолы и шлютер, отвратительный заменитель чая, даже два одинаковых пакетика всегда имели разное наполнение. Люди ели молча. Рис мрачно кивнул на молодого солдата, наклонившегося над стаканом чая: «Вон он». – «Кто?» Рис заворочал челюстью. Я тогда снова обернулся: почти подросток, осунувшееся прыщавое лицо, из-за огромных темных кругов глаз почти не видно. Товарищи издевались над ним, оскорбляли и отвешивали оплеухи, если он недостаточно быстро делал, что ему говорили. Парень упорно молчал. «Все мечтают, чтоб его убили партизаны, – признался Рис. – Чего мы только не перепробовали, даже рот ему кляпом затыкали. Без толку».
Гефнер, при всей своей ограниченности, всегда действовал четко. С картой в руках он объяснил мне план действий и составил список недостающего, чтобы я поговорил о его нуждах с начальством. Меня обязали провести проверку всех тайлькоманд, что оказалось абсолютно невыполнимым, и я решил остаться на несколько дней в Переяславе, ожидая дальнейшего хода событий. В любом случае Блобель с форкомандой находились уже в Полтаве, и я даже не надеялся присоединиться к ним раньше, чем возьмут Харьков. Гефнер был настроен пессимистично: «Сектор средоточия партизан. Вермахт устраивает облавы, но ситуация не меняется. Просят у нас поддержки. Но солдаты изнурены, просто выдохлись. Вы видели, какой дрянью тут кормят». – «Обычное армейское довольствие. Хотя нагрузки у них тяжелее наших». – «Физические, да, конечно. Но в первую очередь их моральные силы на исходе». Я очень скоро убедился в правоте Гефнера. Отт с отрядом в двадцать человек отправлялся с обыском в близлежащую деревню, где объявились партизаны; я решил к ним присоединиться. В путь тронулись с восходом солнца, взяли грузовик и у дивизии, стоявшей в Переяславе, одолжили военный внедорожник «кюбельваген». Шел сплошной, бесконечный дождь, мы промокли, не успев сесть в машину. В кабине пахло сырой шерстью. Гарп, шофер Отта, искусно маневрировал, стараясь обогнуть рытвины; передние колеса постоянно буксовали на размытой песчанистой глине, иногда Гарпу удавалось вырулить, но чаще грузовик заносило, приходилось вылезать и толкать его; мы до щиколотки погружались в липкое месиво, у некоторых застревали там сапоги. Все ругались, кричали, проклинали все на свете. Отт предусмотрительно загрузил в кузов доски, теперь их подкладывали под увязшие колеса; это отчасти помогало, но если грузовик чуть съезжал с настила, соскочившее приводное колесо начинало крутиться вхолостую, поднимая фонтаны грязи. Мои шинель и брюки были полностью покрыты ею, а на лицах многих солдат из-за нее видны были только измученные глаза; вытащив машину, они наспех в лужах ополаскивали руки, умывались и занимали свои места. Деревня находилась в семи километрах от Переяслава, дорога заняла три часа. По прибытии Отт выстроил на задворках оцепление, оставшиеся люди заняли обе стороны главной улицы. Дождь поливал ряды нищих изб, с соломенных крыш ручьями текла вода, садики затопило; мокрые куры бросились врассыпную; все как вымерло. Отт послал унтер-офицера и переводчика за старостой. Через десять минут они привели какого-то невысокого старика в тулупе и кроличьей шапке, побитой молью. Отт допрашивал его прямо под дождем; старик хныкал, твердил, что нет тут никаких партизан. Отт злился. «Он говорит, что здесь только старики и женщины, – сказал переводчик. – Мужчины, кого не убили, ушли». – «Передай ему, если мы найдем что-нибудь, его первого повесят!» – закричал Отт. Потом приказал солдатам обыскивать дома. «Проверяйте полы! Они иной раз бункеры роют». Я последовал за одной из групп. Единственную деревенскую улицу развезло так же, как и дорогу; на подметках мы несли в избы целые комья грязи. Мы и в самом деле никого не обнаружили кроме стариков, грязных баб и вшивых ребятишек, валявшихся на печках-мазанках. Обыскивать было, собственно говоря, нечего: полы земляные, без досок; почти полное отсутствие мебели, чердаков нет, крыши положены прямо на стены. Воняло нечистотами, затхлостью, мочой. Слева за домами на невысоком склоне начиналась березовая роща. Я завернул в проем между избами, потом, осматриваясь, пошел вдоль деревьев. Дождь лупил по веткам, гнилая опавшая листва разбухла от воды, ноги скользили по пригорку, подниматься было трудно. Лесок казался пустым, да из-за дождя вдали ничего не разглядишь. И тут я заметил, что валежник странно шевелится: сотни маленьких жуков-навозников ползали по коричневому перегною; под ветками валялись разлагавшиеся человеческие останки в полуистлевшей советской форме. Жуки вызывали у меня приступ отвращения, я попытался накидать сверху листьев, но насекомые вылезали и разбегались вокруг. Потеряв терпение, я пнул кучу. Оттуда выкатился череп и, рассыпая жуков, запрыгал по склону. Я спустился. Череп, чистый, белый, налетел на камень, в полых глазницах копошились жуки, изъеденный рот обнажил желтые зубы, обмытые дождем, челюсть отвисла, выставив напоказ нетронутое небо и широкий, казавшийся живым, розовый, какой-то бесстыдный язык. Я вернулся к Отту, теперь он, староста и переводчик переместились в центр деревни. «Спроси, что за трупы в лесу», – велел я переводчику. Старик зашамкал беззубыми деснами, вода текла с шапки ему на бороду. «Это солдаты Красной Армии. Месяц назад в роще шли бои. Погибло много народу. Крестьяне похоронили тех, кого нашли, но в глубь леса не заходили». – «Куда делось оружие?» Мне снова перевели. «Старик говорит, что все отдали немцам». Появился шарфюрер, отсалютовал Отту. «Унтерштурмфюрер, ничего не обнаружено». Отт жутко нервничал. «Ищите еще! Я уверен, они что-то прячут». Возвратились другие солдаты и полицейские орпо. «Унтерштурмфюрер, мы проверили, ничего не обнаружено». – «Я приказываю продолжать поиски!» Вдруг в отдалении раздался пронзительный крик. Кто-то несся по улице. «Там!» – заорал Отт. Шарфюрер вскинул винтовку и, не целясь, выстрелил в дождевую завесу. Бесформенная фигура рухнула в лужу. Солдаты рассредоточились, стали осторожно приближаться. «Вот дурак, это ведь женщина», – произнес чей-то голос. «Ты кого за дурака держишь!» – рявкнул шарфюрер. Ее перевернули: молодая беременная крестьянка в цветастом платке. «Просто перепугалась, – обронил один из солдат, – что же сразу стрелять». – «Еще жива», – отозвался другой, обследовавший ее. Подошел наш санитар: «Скорее в дом». Раненую подняли сразу несколько человек; голова запрокинулась, грязное платье облепило огромный живот, по нему хлестал дождь. Тело внесли в комнату и положили на стол. В углу в одиночестве рыдала старуха. Беременная хрипела. Санитар разорвал на ней платье, произвел осмотр. «Обречена. По срокам должна рожать, есть шанс, но совсем небольшой, спасти ребенка». Он уже давал указания стоявшим тут же солдатам. «Грейте воду». Я вышел под ливень, отыскал у машин Отта. «Что происходит?» – «Женщина умирает. Санитар пытается провести кесарево». – «Кесарево?! Он чокнулся, честное слово!» И пошлепал вверх по улице к дому. Я за ним. Отт вихрем ворвался в дом: «Что за свистопляска, Грев?» Санитар склонился над крошечным комком, пищащим в одеяле, заканчивая перевязывать пуповину. Мертвая женщина, глаза широко распахнуты, оставалась на столе, голая, окровавленная, разрезанная от пупа до промежности. «Все в порядке, унтерштурмфюрер, – отрапортовал Грев. – Он выживет, но нужна кормилица». – «Идиот! – заорал Отт. – Дай сюда, сейчас же!» – «Зачем?» – «Дай быстро!» Отт побледнел и затрясся. Потом вырвал сверток у Грева и, взяв младенца за ножки, размозжил ему голову об угол печки и бросил на пол. Грев захлебнулся от бешенства: «Зачем вы это сделали?!» Отт ревел: «Ты бы лучше оставил его подыхать в брюхе матери, недоделанный придурок! Не трогал бы! Ты для чего вытащил эту мразь? Ты решил, что прежнее место недостаточно теплое?» Он развернулся на пятках и вышел. Грев плакал: «Вы не должны были так поступать, не должны были». Я последовал за Оттом, который уже метал громы и молнии перед шарфюрером и группой наших людей, стоявших в грязи под дождем. «Отт…» – окликнул я. Позади меня прозвучало: «Унтерштурмфюрер!» Я обернулся: Грев, руки еще красные от крови, двигался от избы с винтовкой наперевес. Я отпрянул, Грев шел прямо на Отта. «Унтерштурмфюрер!» Теперь обернулся и Отт и, увидев винтовку, заорал: «Ублюдок, чего тебе еще? Стрелять хочешь, стреляй!» Шарфюрер завопил: «Грев, черт возьми, опусти винтовку!» «Вы не должны были так поступать!» – кричал Грев, приближаясь к Отту. «Ну, давай, придурок, стреляй!» – «Грев, прекрати сейчас же!» – надрывался шарфюрер. Грев выстрелил; пуля попала Отту в голову, того отбросило назад, и он с шумом рухнул навзничь в лужу. Грев не опускал винтовку; все смолкли. Только капли стучали по лужам, дороге, солдатским каскам, соломенным крышам. Грев, приклад у плеча, дрожал, как осиновый лист. «Он не должен был так поступать», – повторял он тупо. «Грев», – позвал я тихо. Словно в прострации Грев навел дуло на меня. Я, ни слова не говоря, медленно его отодвинул. Тогда Грев взял под прицел шарфюрера. Двое солдат одновременно приготовились стрелять в Грева. Тот держал на мушке шарфюрера. Солдаты могли выстрелить, но тогда бы и Грев нажал на спуск. «Грев, – спокойно обратился к нему шарфюрер, – ты действительно совершил глупость. Отт – негодяй, согласен. Но ты теперь в дерьме». – «Грев, – продолжил я. – Опустите оружие. Если вы не подчинитесь, вас убьют, а если сдадитесь, я дам показания в вашу пользу». – «Так и так мне конец», – отвечал Грев, не сводя глаз с шарфюрера. «Выстрелите, я один не умру». Он снова прицелился в меня, в упор. Капли ударялись об ствол прямо возле моих глаз и брызгали в лицо. «Гауптштурмфюрер! – сказал шарфюрер. – Вы не возражаете, если я приму меры на свое усмотрение? Чтобы избежать потерь». Я кивнул. Шарфюрер повернулся к Греву. «Грев, у тебя пять минут. Потом я пошлю за тобой». Грев колебался. Но все же опустил винтовку и скрылся в лесу. Мы ждали. Я взглянул на Отта. Из лужи виднелось только лицо с черной дыркой посреди лба. В мутной воде расплывались завитки черноватой крови. Дождевые струи умыли его, барабанили по открытым удивленным глазам и, постепенно заполняя рот, стекали из уголков губ. «Андерсен, – приказал шарфюрер. – Возьми трех человек, и идите за Гревом». – «Как его найдешь, шарфюрер?» – «Ищите». Затем спросил: «У вас есть возражения, гауптштурмфюрер?» Я покачал головой: «Никаких». К нам присоединились остальные. Четверо с винтовками на плече ушли в лес. Еще четверо на шинели понесли труп Отта к грузовику. Мы с шарфюрером двинулись следом. Они перекинули Отта через боковой борт в кузов; шарфюрер приказал оповестить людей об отъезде. Я хотел закурить, но не смог, даже прикрывшись капюшоном. Солдаты группами рассаживались в машинах. Мы ждали тех, кого шарфюрер отправил за Гревом, прислушивались, не грохнет ли выстрел. Я отметил, что староста бесшумно исчез, но промолчал. Наконец показались Андерсен и другие, выплыли из дождя серыми тенями. «Мы прочесали лес, шарфюрер. Никого. Он наверняка спрятался». – «Хорошо. Садитесь». Шарфюрер покосился на меня: «Рано или поздно с этой сволочью расправятся партизаны». – «Я уже говорил, шарфюрер, у меня нет возражений по поводу вашего решения. Вы избежали очередного кровопролития, поздравляю». – «Спасибо, гауптштурмфюрер». Мы тронулись в путь, увозя с собой мертвого Отта. Возвращение в Переяслав заняло еще больше времени. По прибытии я, даже не переодевшись, поспешил доложить о произошедшем Гефнеру. Он задумался. «Вы не думаете, что Грев примкнет к партизанам?» – спросил он наконец. «Я уверен, что партизаны, если они, конечно, водятся в том лесу, наткнувшись на Грева, убьют его. Если нет, то он не переживет зиму». – «А если он поселится в деревне?» – «Крестьяне слишком напуганы, они его выдадут. Либо нашим, либо партизанам». – «Ладно». Он опять задумался. «Я объявлю его дезертиром, вооруженным, чрезвычайно опасным, пожалуй, так». Сделал паузу. «Бедный Отт. Отличный офицер». – «Если желаете узнать мое мнение, – сухо заметил я, – ему уже давно требовался отдых. Таким образом удалось бы избежать случившегося». – «Без сомнения, вы правы». Подо мной на стуле образовалось большое мокрое пятно. Гефнер вытянул шею, выставил вперед квадратный подбородок: «И все-таки какая пакость. Вы представите отчет для штандартенфюрера?» – «Нет, в конце концов, речь идет о вашем Управлении. Вы оформите бумагу, а я подпишу как свидетель. И сделайте мне копии для третьего отдела». – «Договорились». Я пошел переодеться и выкурить сигарету. На улице все так же лил дождь, который, вполне вероятно, не закончится никогда.
Я снова плохо спал; в Переяславе по-другому и не выходило. Люди храпели, бормотали что-то; только я погружался в сон, паренек из ваффен-СС начинал скрипеть зубами, я резко просыпался. В вязкой дреме я путал голову Отта в луже и череп русского солдата: Отт, лежащий в воде, широко открывал рот и дразнил меня розовым, толстым, свежим языком, словно предлагая его поцеловать. Я очнулся, нервозный, уставший. За завтраком я опять раскашлялся, за этим последовал приступ тошноты, я выбежал в пустой коридор, но на этот раз меня не вырвало. В столовой уже поджидал Гефнер с телеграммой: «Харьков взят, гауптштурмфюрер. Штандартенфюрер вызывает вас в Полтаву». – «В Полтаву?» Я показал на мокрые окна. «Он переоценивает здешние возможности. Как он предлагает добираться?» – «Пока еще из Киева в Полтаву ходят поезда. Иногда, правда, партизаны пускают их под откос. Сейчас по рольбану в Яготин направляется транспортная колонна; я звонил в дивизию, они согласились взять вас. Яготин им по пути, а там вы уж как-нибудь доберетесь поездом». Гефнер и вправду был очень деятельным офицером. «Хорошо. Я предупрежу шофера». – «Нет, ваш шофер останется. На „адмирале“ никогда не добраться до Яготина. Вы поедете на одном из грузовиков колонны. Когда же представится случай, я пришлю „опель“ в Киев». – «Хорошо». – «Итак, в полдень. Я передам с вами депеши для штандартенфюрера, включая и рапорт о смерти Отта». – «Хорошо». Я пошел складывать вещи. Потом сел за стол и написал Томасу письмо, без утайки рассказав о происшествии: доложи об этом бригадефюреру, я знаю, что Блобель никак не отреагирует, ему главное – оградить себя от неприятностей. Надо сделать выводы, если не предпринять меры, вполне вероятно, что подобное повторится. Я закончил, сунул письмо в конверт и отложил в сторону. Потом нашел Риса. «Скажите, Рис, а ваш малыш-солдатик, тот, что скрипит зубами… Как его зовут?» – «Вы имеете в виду Ханику? Франц Ханика. Которого я вам показывал?» – «Да, именно. Можете мне его отдать?» Он озадаченно нахмурил брови. «Отдать вам? Для чего?» – «Я не беру с собой шофера, а мой ординарец в Киеве, и мне нужен другой. Потом в Харькове мы его разместим отдельно, и он перестанет всем надоедать». Рис обрадовался: «Послушайте, гауптштурмфюрер, если вы серьезно… Я с радостью. Спрошу еще у оберштурмфюрера, но не думаю, что возникнут сложности». – «Ладно. Мне надо предупредить Ханику». Я отыскал его в столовой, он чистил кастрюли. «Ханика!» Он встал навытяжку, я увидел на его скуле синяк. «Да?» – «Я срочно уезжаю в Полтаву, потом в Харьков. Мне нужен ординарец. Хочешь со мной?» Его изрядно помятое лицо просияло: «С вами?». – «Твои обязанности практически не изменятся, зато никто доставать не будет». Ханика светился от радости, сущий ребенок, получивший нечаянный подарок. «Готовь вещи», – велел я.
Путешествие в грузовике до Яготина запомнилось мне как долгий кошмар, непрекращающееся умопомрачение. Большую часть времени солдаты толкали грузовики, а не сидели в кабинах. Но будущее пугало их гораздо сильнее, чем самые ужасные хляби. «Ничего нет, гауптштурмфюрер, понимаете, ничего, – объяснял мне фельдфебель. – Ни теплого нижнего белья, ни свитеров, ни шуб, ни антифриза, ничего. А вот красные готовы к зиме». – «Они такие же люди, как мы. И тоже мерзнут». – «Не совсем так. С холодом можно справиться, если есть техника и обмундирование, у них все есть. Но даже если нет, они выкрутятся. А потом они привычны, это их жизнь». Он мне привел поразительный пример, который узнал от одного из этих наших «добровольных помощников»: у красноармейцев сапоги на два размера больше. «От холода ноги распухают, а так хватает места, чтобы напихать в сапог соломы и газет. Наши носят обувь точно по размеру. И половина немецких солдат окажется в лазарете с ампутированными пальцами ног».
Я до того испачкался, что на вокзале в Яготине ответственный унтер-офицер не распознал мой чин и осыпал бранью за то, что я натащил грязи в комнату ожидания. Я водрузил чемодан на лавку и резко указал ему: «Я офицер, и вы не имеете права так со мной обращаться». Потом вышел из здания и с помощью Ханики смыл грязь на ручной водокачке. Унтер рассыпался в извинениях, увидев на воротнике петлицы оберштурмфюрера, я еще не успел поменять их, и пригласил меня принять ванну и поужинать. Я попросил отправить с курьером письмо Томасу. Унтер устроил меня в комнатке для офицеров; Ханика спал на лавке в зале вместе с солдатами, получившими увольнительные и ожидавшими поезда из Киева. Поздно ночью меня разбудил начальник станции: «Поезд через двадцать минут. Вставайте». Я быстро оделся и вышел. Дождь закончился, но отовсюду капало, рельсы блестели в свете убогих вокзальных фонарей. Меня догнал Ханика с багажом. Потом показался поезд, он тормозил толчками, колеса долго скрежетали. Наш состав, как и все, продвигающиеся к фронту, был полупустой, занимай купе на выбор. Я снова лег и заснул. Не знаю, скрипел ли Ханика зубами, я не слышал.
Когда я проснулся, мы еще даже не проехали Лубны. Поезд часто останавливался по тревоге или чтобы пропустить эшелоны важного назначения. У туалета я познакомился с майором люфтваффе, возвращавшимся из отпуска в Полтаву в свою эскадрилью. Он покинул Германию пять дней назад и рассказал мне о настроениях гражданского населения Рейха, не потерявшего доверия к армии, несмотря на то что победа задерживалась, потом весьма любезно поделился с нами хлебом и колбасой. Иногда мы перекусывали и на вокзалах. Поезд шел вне расписания, и я не торопился. На остановках подолгу рассматривал унылые русские станции. Недавно установленное оборудование уже производило впечатление изношенного; пути заросли сорняками и колючим кустарником; то здесь, то там, даже в это время года, мелькал яркий цветок, дерзко пробившийся в пропитанном соляркой гравии. Мирно пасущиеся коровы, казалось, каждый раз удивлялись, когда ревущий гудок поезда выводил их из задумчивой мечтательности. Грязь и пыль сделали все непроницаемо серым. По тропке вдоль рельсов чумазый мальчишка толкал непонятно как собранный велосипед или старуха-крестьянка ковыляла на станцию в надежде продать заплесневелые овощи. Меня завораживали сплетения и разветвления путей, стрелки, которые переставляли отупевшие железнодорожники-алкоголики. На товарных перегонах простаивали бесконечные ряды обшарпанных, изгвазданных, покрытых копотью вагонов, груженных зерном, углем, железом, керосином, скотиной; все богатства оккупированной Украины отправлялись в Германию, все необходимое человеку перемещалось теперь из одной точки в другую, совершало круговорот согласно грандиозному и таинственному замыслу. Значит, ради этого велась война, ради этого люди гибли? Но, собственно говоря, в жизни всегда все обстояло именно так. Один в угольной пыли растрачивает здоровье, задыхаясь в глубоких шахтах, а где-то другой отдыхает в тепле, закутавшись в альпака, устроился поудобнее в кресле с интересной книгой и даже не задумывается, откуда взялось кресло, книга, альпака, отопление. Национал-социализм как раз добивался, чтобы в будущем каждый немец имел скромную долю благ и наслаждался жизнью; однако оказалось, что в пределах Рейха достичь этой цели невозможно; теперь мы отнимали блага у других. Справедливо ли это? Да, коль скоро мы обладали силой и властью, ведь что касается справедливости, то абсолютного критерия не существует, у каждого народа своя правда и своя справедливость. Но если когда-нибудь наша сила ослабнет, наша власть дрогнет, то и нам придется подчиниться чужой справедливости. Таков закон.
В Полтаве Блобель сразу отправил меня на дезинфекцию. Потом рассказал о положении дел. «Форкоманда с пятьдесят пятым армейским корпусом заняла Харьков двадцать четвертого. Там уже сформировано военное ведомство». Кальсену не хватало людей и срочно требовалось подкрепление. Но сейчас ливни и слякоть сделали дороги непроходимыми. Поезд дальше не следовал, предстояло чинить и расширять пути, но ремонт можно было производить лишь после возобновления дорожных сообщений. «Когда подморозит, вы, еще несколько офицеров и солдат отправитесь в Харьков; штаб подразделения присоединится чуть позже. Все подразделение на зиму разместится в Харькове».
Обязанности ординарца Ханика выполнял лучше, чем Попп. Каждое утро сапоги мои сверкали, форма была вычищена, просушена и наглажена; и к завтраку он нередко умудрялся добавить что-нибудь особенное, стараясь скрасить наши будни. Он был совсем юным – в ваффен-СС попал прямо из «Гитлерюгенда», а потом его прикомандировали к зондеркоманде, – но вполне смышленым. Я объяснил ему, как рассортированы досье, куда класть и где искать документы в случае необходимости. Рис не сумел оценить настоящую жемчужину: парень был дружелюбным и отзывчивым, просто к нему требовался подход. По ночам Ханика спал у моей двери, как собака или слуга из русского романа. Когда он отъелся и отоспался, лицо его округлилось, и оказалось, что он хорош собой, несмотря даже на юношеские прыщи.
Блобель превратился в настоящего самодура; он пил, с ним часто случались приступы беспричинного бешенства. Он выбирал козла отпущения среди офицеров и по нескольку дней преследовал его, изводя придирками по любому поводу. Однако из Блобеля вышел отличный организатор, умеющий правильно расставить приоритеты и руководствующийся практическим расчетом. К счастью, он пока так и не смог опробовать новый «заурер», грузовик застрял в Киеве, но Блобель с нетерпением ждал его прибытия. Я содрогался при одной только мысли об этой машине и надеялся, что вовремя уеду. По-прежнему я мучился жуткими позывами к рвоте, сопровождавшимися болезненной и изнуряющей отрыжкой, но никому не жаловался. Свои сны я тоже не рассказывал. Теперь почти каждую ночь я спускался в метро и каждый раз попадал на разные станции, почему-то вечно перемещавшиеся, несоответствующие маршруту, незапланированные, меня захватывало бесконечное движение, поезда прибывали и отправлялись дальше, эскалаторы и лифты поднимались и опускались на разные уровни, попеременно хлопая, открывались и закрывались механические двери; мигали сигналы светофора, составы проносились на красный свет, рельсы пересекались как попало, без перевода стрелок, напрасно ожидающие пассажиры конечных станций, разлаженная, грохочущая, огромная, беспредельная сеть, непрекращающееся, хаотичное, бессмысленное кружение вагонов. В юности я обожал метро, впервые увидел его в семнадцать лет в Париже и при малейшей оказии спешил покататься, мне нравилось ехать, разглядывать людей и мелькавшие за окном станции. За год до того парижский метрополитен вновь запустил ветку север – юг, и по одному билетику я пересекал город из конца в конец. Вскоре я уже ориентировался под землей лучше, чем на парижских улицах. В интернате, где я учился в старших классах, мы с товарищами гуляли по ночам, у нас был ключ от двери, который учащиеся передавали друг другу из поколения в поколение, дожидались последней электрички, проскальзывали в туннель и шагали по путям от станции к станции. Мы быстро обнаружили запрещенные для доступа галереи и запасные люки, что бывало весьма кстати, когда нас пытались поймать ночные служащие. В моих воспоминаниях подземные приключения так всегда и ассоциировались с сильными эмоциями, вызванными смешанным приятным ощущением безопасности и разогретого тела и, конечно, уже имевшими легкую эротическую окраску. В то время мне тоже часто снилось метро, но теперь оно внушало отчетливый, гнетущий страх; я приезжал не туда, опаздывал на нужные поезда, двери вагонов закрывались прямо перед моим носом, я не успевал купить билет и боялся контролеров; меня охватывала паника, я вскакивал в холодном поту с колотящимся сердцем.
Наконец, первые заморозки сковали дороги, и я смог уехать. Морозы наступили резко, за ночь; по утрам изо рта весело вырывался густой пар, окна побелели от инея. Перед выходом я натягивал все свои свитера; Ханике за несколько рейхсмарок удалось раздобыть для меня шапку из выдры; в Харькове следовало побыстрее найти теплую одежду. Мы тронулись в путь, небо было чистое, синее, стайки воробьев вспархивали над лесом; возле деревни у замерзшего пруда крестьяне косили камыш, чтобы залатать крыши изб. Дорога оставалась опасной: после танков и грузовиков в глинистом месиве образовались беспорядочные глубокие колеи, их края теперь замерзли и превратились в твердые зубчатые гребни, легко прокалывающие шины, грузовики заносило, а порой, когда шофер, не рассчитав угол поворота, терял управление, даже переворачивало. В других местах под предательски тонкой коркой, проламывающейся под колесами, хлюпала вязкая жижа. Вокруг расстилалась голая степь, сжатые нивы, рощи. От Полтавы до Харькова, около ста километров, мы добирались целый день. Въезжали через разоренный пригород, сгоревшие дома, развороченные, порушенные стены, между наспех расчищенными обломками валялись покореженные, обугленные каркасы военной техники, использовавшейся для защиты города. Форкоманда расселилась в гостинице «Интернационал» рядом с центральной площадью, в глубине возвышались конструктивистские здания Госпрома, полукругом расположились кубы корпусов с двумя высокими квадратными арками и парой башен, выглядевших, по меньшей мере, странно на фоне вальяжно раскинувшегося ленивого города с деревянными постройками и старыми церквами. Рядом, слева, поднимались сильно пострадавшие от пожара многоярусные с выбитыми окнами фасады огромного здания Госплана; в центре площади величественный Ленин в бронзе, повернувшись спиной к обоим комплексам и не обращая внимания на выстроившиеся у его ног немецкие машины и танки, широким жестом приглашал к себе прохожих. В гостинице царила суматоха; окна по большей части были разбиты, и внутрь врывался леденящий холод. Я занял двухкомнатный номер, вполне пригодный для жилья, велел Ханике позаботиться об окнах и отоплении и спустился к Кальсену. «За город велись жестокие бои, – подытожил он, – много разрушений, вы же видели; трудно здесь расквартировать целую зондеркоманду». Форкоманда уже приступила к разведывательной полицейской работе и допрашивала подозреваемых; кроме того, по просьбе 6-й армии она захватила заложников, чтобы предотвратить акты саботажа и не повторять ошибок Киева. Кальсен провел политический анализ: «Городское население в основном составляют русские, тонкими вопросами отношений с украинцами здесь не особо задаются. Также имеется мощная еврейская прослойка, хотя большинство и убежало с большевиками». Блобель приказал ему согнать евреев и расстрелять их главарей: «С остальными разберемся позже».
Ханика обо всем позаботился, закрыл окна в номере картоном и тряпками, нашел несколько свечей, чтобы не сидеть в темноте, но комнаты совершенно промерзли. Пока он грел чай, я, сидя на диване, предавался мечтам: вот, сославшись на холод, я зову Ханику к себе в постель, мы согреваем друг друга, ночью я медленно просовываю руку под рубаху и глажу его, потом целую молодые губы, лезу к нему в штаны и достаю напряженный член. Конечно, и речи не могло быть о совращении подчиненного, даже при взаимном согласии, но, честно говоря, я уже давно ни о чем таком не думал и не стал противиться этим сладостным образам. Я разглядывал затылок Ханики и задавался вопросом, спал ли он когда-нибудь с женщиной. Да, он совсем юн, но в интернате мальчишки и помоложе занимались всем, чем угодно, а старшие, приблизительно ровесники Ханики, находили в соседней деревне девиц, всегда готовых покувыркаться. Мысли мои текли плавно: вместо трогательного юного затылка я видел теперь крепкие затылки знакомых или просто когда-то встретившихся мужчин, на которых смотрел женским взглядом; однажды я с ужасающей отчетливостью понял, что от мужчин ничего не зависит, и власти у них нет; все они – дети или, вернее, игрушки, предназначенные для удовольствия женщин, удовольствия ненасытного и самодовлеющего, заставляющего верить, что все подчинено мужской власти, а на самом-то деле вершительницы-женщины разрушают господство и ослабляют мощь мужчин, чтобы в конце концов получить гораздо больше, чем те готовы отдать. Мужчины искренне верят, что женщины беззащитны и ими надо либо пользоваться, либо лелеять их, в то время как женщины смеются – любовно и снисходительно или, наоборот, с презрением – над бесконечной детской беззащитностью мужчин, над их уязвимостью, граничащей с полной потерей самоконтроля, над подстерегающими их бессилием и пустотой, которые заключает мускулистая плоть. Здесь кроется объяснение, почему женщины редко убивают. Они больше страдают, но и последнее слово всегда за ними. Я выпил чаю. Ханика расстелил на постели все одеяла, которые только смог найти; два я отнес на диван в комнату, где он спал. Потом закрыл дверь, начал мастурбировать и тут же провалился в сон, даже не смыв сперму с рук и живота.
По той или иной причине Блобель решил задержаться в Полтаве, возможно желая быть поближе к Рейхенау, устроившему там штаб-квартиру, так что мы дожидались командования больше месяца. Но форкоманда тем временем не бездействовала. Как и в Киеве, я организовал сеть осведомителей; необходимость в них была тем более насущной, что среди смешанного населения, состоявшего из иммигрантов со всего Советского Союза, наверняка затерялись многочисленные лазутчики и саботажники; к тому же мы не нашли ни списков, ни картотек НКВД: перед отступлением большевики произвели тщательную чистку архивов, не оставив никаких зацепок, которые облегчили бы наши задачи. Работать в гостинице было тяжело: пытаешься отпечатать рапорт или побеседовать с работающим на нас местным жителем, а из соседней комнаты несутся крики допрашиваемого, меня это совершенно изматывало. Однажды вечером нам подали красного вина, едва я закончил ужин, как все съеденное подступило к горлу. Столь сильных приступов тошноты у меня еще не случалось, так что я даже испугался: меня не рвало ни до войны, ни в детстве, и я не мог понять, с чем связано мое нынешнее состояние. Ханика, слышавший, как меня выворачивает в ванной комнате, предположил, что пища была недоброкачественной или что я, быть может, подхватил желудочный грипп; я покачал головой, нет, конечно, нет, это всегда начинается с дурноты, потом появляется кашель, ощущение тяжести и словно что-то застревает в пищеводе; просто сегодня все произошло внезапно и очень быстро, и я изрыгал отвратительную красную кашу – едва переваренный ужин и вино.
Наконец Куно Кальсен получил от военной комендатуры разрешение перевести зондеркоманду в помещения НКВД на Совнаркомовской улице. Огромный комплекс в форме буквы L возвели в начале века, главный вход был с поперечной улочки, обсаженной деревьями, сейчас совершенно голыми; мемориальная доска на углу сообщала, что во время Гражданской войны с мая по июнь 1920 года здесь находился кабинет Дзержинского. Жили офицеры по-прежнему в гостинице; Ханика где-то откопал печку, но, к сожалению, установил ее в небольшой гостиной, где он спал, и если ночью я приоткрывал дверь, то отвратительный срежет зубов больше не давал заснуть. Я просил Ханику протапливать обе комнаты в течение дня и перед сном запирался; но по утрам меня будил холод, в конце концов я стал ложиться в одежде и шерстяной шапке, пока Ханика не притащил пуховые одеяла, которые я наваливал на себя, чтобы спать голышом, как я привык. Почти ежедневно, а уж через день – точно, меня рвало сразу после ужина, и один раз прямо во время него, стоило мне запить холодным пивом свиную отбивную, как меня стошнило, да так быстро, что жидкость даже не успела смешаться с едой – омерзительно! Мне удавалось проделывать все аккуратно, над раковиной или унитазом, и почти незаметно, но ощущения были мучительные: сильнейшие спазмы, предшествовавшие рвоте, как будто опустошали меня, надолго лишая энергии. К счастью, рвота подступала настолько быстро, что пища не успевала перевариться, усвоиться и приобрести специфический вкус, довольно было лишь прополоскать рот, чтобы уничтожить неприятный запах.
Специалисты вермахта тщательно проверяли общественные здания в поисках взрывчатки и мин и даже обезвредили несколько взрывных устройств, но, несмотря на это, через пару дней после первого снегопада, Дом Красной Армии взлетел на воздух, погибли командующий 60-й пехотной дивизии, начальник его штаба, начальник службы «а» Первого управления и трое канцелярских служащих, их страшно изуродовало. В тот же день прогремели еще четыре взрыва; военные выходили из себя. Для предотвращения новых взрывов ведущий инженер 6-й армии оберст Зелле приказал во все большие здания сгонять евреев. Фон Рейхенау настаивал на жестких мерах. Форкоманда не вмешивалась: вермахт взял ответственность на себя. Военный комендант велел вешать заложников на балконах. За нашей конторой находилась неправильной формы площадь, образованная слиянием улиц Чернышевского и Гиршмана и застроенная невысокими домами – без всякой системы. Большинство этих зданий, разных стилей и цветов, стояло к улице углом, над их красивыми входными дверями высились маленькие балкончики. Вскоре на каждом из них, как кули, уже болтались повешенные. По обеим сторонам подъезда светло-зеленой трехэтажной усадьбы, построенной еще до Мировой войны, высились мускулистые атланты, державшие балкон на заломленных за головы белых руках; когда я проходил мимо, тело, болтавшееся между этими бесстрастными фигурами, еще дергалось. Каждому казненному на грудь прикрепляли табличку с русским текстом. В контору я любил ходить пешком либо под облетевшими липами и тополями длинной улицы Карла Либкнехта, либо, если хотел срезать расстояние, через огромный Профсоюзный сад с памятником Шевченко – ходьбы всего несколько сотен метров, да и улицы днем совершенно безопасны. На Либкнехта тоже вешали. На балкон, под которым уже собралась толпа, вышли фельджандармы и закрепили на перилах шесть веревок с петлями. Затем они скрылись в полумраке комнаты и через мгновение появились снова, таща связанного по рукам и ногам человека с мешком на голове. Фельджандарм накинул ему на шею петлю, прикрепил дощечку с надписью, сдернул мешок. На мгновение я увидел выкатившиеся из орбит глаза осужденного, глаза загнанной лошади; потом он закрыл их, словно от усталости. Двое фельджандармов подняли его и медленно опустили за перила. Связанное тело сотрясали судороги, но вскоре они прекратились, шея переломилась, и теперь он покачивался тихонько, в то время как фельджандармы уже принялись за следующего. Зеваки, и я – будто одурманенный – в их числе, дождались самого конца представления. Я жадно вглядывался в лица повешенных и приговоренных – тех, кого еще не скинули с балкона; эти лица, эти глаза, испуганные или полные упрямой решимости, ничего мне не говорили. У большинства мертвых язык уродливо-комически вываливался изо рта, и слюна потоками лилась на тротуар на потеху зрителям. Меня словно волной накрыл ужас, от звука капающей слюны зашевелились волосы на голове. Мне довелось видеть висельника еще в юности. Это случилось в ненавистном пансионе, куда меня заточили и где я ужасно страдал – и не я один. Однажды вечером, после ужина, проводился какой-то особый молебен, от которого меня, лютеранина (а коллеж был католический), освободили; я отправился в спальню. Каждый класс занимал дортуар, где в ряд стояли примерно пятнадцать кроватей. Я поднялся, прошел через комнату первоклассников (сам я учился во втором, мне было тогда, должно быть, уже пятнадцать); там я обнаружил двух мальчиков, тоже избавленных от мессы, – Альбера, с которым мы время от времени общались, и Жана Р., странного парня, его недолюбливали, но боялись из-за неожиданных припадков бешенства. Я немного поболтал с ними, перед тем как пройти к себе и улечься с романом Э.Р. Берроуза, запрещенным, конечно, как и все в этой тюрьме. Я дочитывал вторую главу, когда раздался дикий вопль Альбера: «На помощь! На помощь! Ко мне!» Я вскочил с бешено колотящимся сердцем, но тут меня пронзила мысль: а что, если Жан Р. убивает Альбера? Альбер орал по-прежнему. Я заставил-таки себя пойти посмотреть; перепуганный, готовый в любую минуту пуститься наутек, я подкрался к двери и толкнул ее. Жан Р., уже посиневший, висел на балке, шею стягивал красный шнур; Альбер, не переставая вопить, держал его за ноги и пытался приподнять. Я проскользнул в коридор, с криком понесся вниз по ступенькам и через крытый школьный двор к часовне. Преподаватели выскочили на крыльцо и, поколебавшись секунду, бросились ко мне, следом гурьбой бежали ученики. Я привел их к дортуару, войти туда рвались все, но как только наставники поняли, что стряслось, двое из них оттеснили учащихся и заблокировали дверь, однако я уже успел войти и внимательно следил за происходящим. Двое или трое взрослых приподнимали Жана, еще один отчаянно пилил веревку то ли перочинным ножом, то ли ключом. Жан Р., увлекая за собой учителей, рухнул на пол, как срубленное дерево. В углу, скорчившись, уткнувшись в ладони, рыдал Альбер. Отец Лабури, мой учитель греческого, пытался открыть Жану Р. рот, обеими руками разжимая ему зубы, но безуспешно. Я отчетливо помню посиневшее лицо и лиловые губы с выступившей на них белой пеной. Потом меня выставили из комнаты. Ночевал я в медпункте, меня, по-видимому, решили изолировать от остальных; куда определили Альбера, я не знаю. Позже ко мне прислали отца Лабури, человека доброго и терпеливого, редкие для подобного заведения качества. Он был совсем не похож на других священников, и беседовать с ним мне всегда нравилось. Утром учеников собрали в часовне, где нам прочитали длинную проповедь о греховности самоубийства. Нам сообщили, что Жан Р. выжил и следует молиться за спасение его грешной души. С тех пор мы его не видели. Учащиеся были взбудоражены, и добрые отцы организовали долгую прогулку по лесу. «Глупость какая», – заметил я Альберу, которого встретил во дворе. Он показался мне напряженным и замкнутым. Отец Лабури подошел ко мне и ласково сказал: «Давай, давай с нами. Даже если для тебя это неважно, другим это пойдет на пользу». Я пожал плечами и присоединился к группе. Наша прогулка заняла несколько часов; и действительно, к вечеру все уже успокоились. Я получил разрешение вернуться в спальню, где мальчики меня буквально атаковали. В лесу Альбер рассказал, как Жан Р. залез на кровать, продев голову в петлю, позвал: «Ну, Альбер, смотри» – и спрыгнул с кровати. Над тротуарами Харькова тихонько покачивались повешенные. Я знал, что среди них есть и евреи, и русские, и цыгане. Висящие в серых мешках трупы напоминали куколок, в полудреме ожидающих превращения в бабочку. При этом от меня постоянно что-то ускользало. В конце концов я начал смутно догадываться, что сколько бы ни довелось мне увидеть смертей, сколько бы людей, находящихся на грани ее, ни прошло перед моими глазами, мне никогда не удастся поймать самое смерть, ее точный момент. Одно из двух: либо человек уже мертв, и понимать тут больше нечего, или еще нет, и в таком случае, даже если дуло приставлено к затылку или вокруг шеи затянута петля, возможность того, что я, единственный в мире, живое существо, могу вдруг исчезнуть, остается чистой, непостижимой абстракцией, абсурдом. Умирающие, мы уже вне жизни, но еще не умерли, то есть этот момент никогда не настает, вернее, его наступление длится, а когда он наконец наступает, то, не успев наступить, уже проходит, словно его и не было. Вот так я рассуждал в Харькове, ужасно путано, но ведь я и чувствовал себя плохо.
Ноябрь близился к концу; с серого полуденного неба над огромной круглой площадью, переименованной в Адольф-Гитлер-платц, медленно падали бледные мерцающие снежинки. С вытянутой руки Ленина свисала длинная веревка, на которой качалось тело женщины, дети, играющие внизу, задирали головы и смотрели ей под юбку. Число повешенных увеличивалось, военный комендант приказал не снимать их, в назидание другим. Проходя мимо, русские опускали глаза, немецкие солдаты и дети с любопытством разглядывали покойников, солдаты часто фотографировали. Приступов тошноты у меня не было довольно давно, и я уже стал надеяться на выздоровление; но оказалось, это была всего лишь передышка; она закончилась, и меня вырвало сосиской, капустой и пивом через час после еды прямо на улице, я едва успел свернуть к деревьям. Чуть дальше на углу Профсоюзного сада соорудили виселицу, в тот день туда привели двух молодых людей и женщину со связанными за спиной руками, толпа, в основном немецкие офицеры и солдаты, взяла их в кольцо. На груди женщины красовался большой плакат, сообщавший, что они приговорены к казни за попытку убийства офицера. Их повесили. У одного юноши вид был озадаченный, словно он недоумевал, почему он здесь, у другого жалкий; лицо женщины, когда у нее из-под ног выбили подставку, исказила ужасная гримаса, – и все. Одному богу известно, были ли они причастны к покушению; наши вешали почти без разбору – евреев, русских солдат, людей без документов, крестьян, бродивших в окрестностях в поисках пропитания. Смысл теперь заключался не в наказании виновных, а в том, чтобы террором предотвратить новые диверсии. В Харькове подобные меры как будто бы возымели действие: после казней взрывы прекратились. Но за пределами города ситуация все ухудшалась. Оберст фон Хорнбоген из комендатуры, начальник службы «с» I управления, к которому я регулярно наведывался, пришпилил на стену подробную карту Харьковской области и красными булавками отмечал места диверсий или нападения партизан. «Это стало настоящей проблемой, – объяснял он мне, – из города можно выезжать только вооруженными группами: поодиночке наших отстреливают, как зайцев. Мы стираем с лица земли деревни, если обнаруживаем партизан, но это не слишком помогает делу. И с продуктами теперь трудно даже в армии; а как зимой прокормится население, нас не касается». В городе насчитывалось около ста тысяч жителей, продовольственные запасы были на исходе, и уже говорили о погибающих от голода стариках. «Расскажите мне, как у вас с дисциплиной», – попросил я, между мной и оберстом к тому времени установились хорошие отношения. «Да, сложности есть. В основном грабежи. Солдаты обчистили квартиру русского бургомистра города, пока тот сидел у нас. Многие отбирают у населения шубы и шапки. Насилуют тоже. Вот русскую закрыли в подвале и насиловали вшестером по очереди». – «В чем, по-вашему, причина?» – «В нравственном упадке, я полагаю. Солдаты измождены, давно не мылись, страдают от паразитов, им даже не выдают чистого нижнего белья, да к тому же зима на носу, и они чувствуют, что худшее впереди». Он, усмехнувшись, наклонился ко мне: «Между нами, могу сообщить, что на зданиях АОК в Полтаве солдаты краской написали: „Хотим в Германию“ и „Мы заросли грязью, у нас вши, хотим домой“. Генерал-фельдмаршал кипел от гнева и воспринял все как личное оскорбление. Он, конечно, знает и о напряженности, и о лишениях, но уверен, что офицерам просто надлежит уделять больше внимания политическому воспитанию. Но тем не менее, самое важное – обеспечение провиантом».
Снег тонким слоем укрыл площадь, припорошил плечи и волосы повешенных. Мимо меня пробежал молодой русский, рывком распахнул дверь комендатуры, но при этом осторожно придержал ногой тяжелую створку, чтобы та не хлопнула; я захлюпал носом, холодная капля оставила след на губах. Разговор с фон Хорнбогеном изрядно испортил мне настроение. Тем не менее жизнь продолжалась. Заработали магазинчики, которые держали фольксдойчи, армянские рестораны и даже два ночных кабака. По распоряжению вермахта было возвращено к жизни здание Украинского драматического театра имени Шевченко, после того как его изысканный, но изуродованный бомбежками фасад XIX века с белыми колоннами и лепниной покрасили в желтую охру и насыщенный красный бургундский цвет; там открыли кабаре «Противотанковая граната», сообщавшую об этом вульгарную табличку прикрепили прямо над великолепными резными дверями. Как-то я привел на сатирическое представление Ханику. Несмотря на никудышную постановку, зрители, совершено счастливые, хохотали и неистово аплодировали; некоторые номера были, впрочем, довольно забавны, например хор, закутанный в полосатые молитвенные покрывала раввинов, исполнявший в сопровождении оркестра отрывок из «Страстей по Иоанну»:
Мы знаем Закон, и по Закону Он должен умереть.Благочестивый Бах, мелькнуло у меня в голове, не одобрил бы подобного глумления. Но, должен признать, это было смешно. Ханика сиял, после каждого номера хлопал в ладоши, радовался. В тот вечер я чувствовал облегчение, меня не рвало, я наслаждался теплом и приятной театральной атмосферой. В антракте я угостил Ханику рюмкой ледяной водки; с непривычки кровь бросилась ему в лицо. Поправляя перед зеркалом мундир, я заметил пятно. «Ханика, – спросил я, – ты видишь?» – «Что, гауптштурмфюрер?» – «Пятно, вот». Он посмотрел: «Ничего не вижу, гауптштурмфюрер». – «Вот, вот, – настаивал я, – здесь темнее. Три лучше, когда стираешь». – «Непременно, гауптштурмфюрер». Пятно не давало мне покоя, я, пытаясь отвлечься, выпил еще рюмку и вернулся в зал. После спектакля в сопровождении Ханики я пешком поднимался по улице Либкнехта, переименованной теперь в Хорст-Вессельштрассе или что-то в этом роде. Выше, напротив парка, две старухи под надзором солдат отвязывали повешенного. Увидев их, я подумал: по крайней мере, у казненных нами русских есть матери, которые отрут им пот со лба, закроют веки, сложат руки и похоронят с любовью. Мне вспомнились евреи, погребенные с открытыми глазами в расстрельном рву под Киевом, их мы лишили не только жизни, но и этой последней ласки, убив вместе с ними матерей, жен и сестер, не оставив никого, кто оплакал бы их. Их судьба – горечь общей могилы, поминальная трапеза – рот, полный плодородной украинской земли, каддиш – свист ветра в степи. И сейчас та же участь ожидает их единоверцев в Харькове: Блобель наконец прибыл с гаупткомандой и, обнаружив, что меры еще не приняты, а евреям всего-навсего приказали носить желтую звезду, впал в неистовство. «Вермахту что – наплевать? Они готовы провести зиму среди тридцати тысяч саботажников и террористов?» Блобеля сопровождал офицер, присланный недавно из Германии на замену Керигу, так что меня вернули к моим прежним, основным, обязанностям, чему я был даже рад, потому что чувствовал себя очень усталым. Штурмбанфюрер доктор Войтинек, невысокий, сухопарый, угрюмый человек, явно досадовал, что опоздал к началу кампании, и надеялся, что вскоре представится возможность наверстать упущенное. Возможность действительно представилась, хоть и не сразу. С момента прибытия Блобель и Фогт вели переговоры с представителями АОК по поводу очередной масштабной операции. Между тем после отступления под Ростовом фон Рундштедта отстранили от должности, и на его место во главе группы армий «Юг» фюрер намеревался поставить фон Рейхенау. Командующего 6-й армией еще не назначили; АОК пока руководил оберст Хайм, начальник штаба; в том, что касалось сотрудничества с СП и СД, он выказал себя гораздо менее податливым, чем его предшественник. Хайм не возражал против операции в принципе, но в служебных записках, поступавших от него ежедневно, перечислялись все новые и новые практические трудности, так что споры продолжались. Блобель кипел и срывал зло на офицерах подразделения. Доктор Войтинек знакомился с досье и целыми днями донимал меня вопросами. Доктор Шперат при встрече заметил: «Вы плохо выглядите». – «Ничего страшного. Немного устал». – «Вам требуется отпуск». Я усмехнулся: «Разумеется, после войны». Кроме всего прочего, я все время вспоминал о следах грязи на брюках; Ханика, похоже, начал манкировать своими обязанностями и почистил их плохо.
По указанию Блобеля в Харьков пригнали «заурер», грузовой фургон, который он рассчитывал использовать в ходе запланированной операции. Он успел опробовать эту штуковину в Полтаве. Гефнер, присутствовавший при этом, – для дальнейшей переброски в Харьков тайлькоманды были собраны в Полтаве – однажды вечером в казино описал мне, как все происходило: «Говорить об усовершенствовании тут не приходится. Штандартенфюрер приказал загнать в кузов женщин и детей, потом включили мотор. Евреи, когда догадались, в чем дело, принялись стучаться и вопить: „Немцы, дорогие немцы! Выпустите нас!“ Я сидел в машине со штандартенфюрером, он шнапс пил. Но берусь утверждать, что потом, пока тела вынимали, он уже чувствовал себя не в своей тарелке. Они были в дерьме и блевотине, так что солдат с души воротило. Финдейзен, водитель, тоже надышался газом, его выворачивало на всех углах. Ужас! Если это все, что изобретено, чтобы облегчить нам жизнь, то пора бы придумать что-то другое. Совершенно очевидно, что это было изобретение чиновников». – «Но штандартенфюрер все равно хочет повторить опыт?» – «О да! Но увольте, без меня».
Переговоры с АОК завершились, Блобель при поддержке Нимейера, начальника службы I-с, доказал, что уничтожение евреев, равно как и других нежелательных и политически ненадежных элементов, поможет решению продовольственной проблемы, приобретавшей все бóльшую и бóльшую остроту. Вермахт и городское жилищно-коммунальное управление распорядились выделить зондеркоманде под место для лагеря Харьковский тракторный завод (ХТЗ) и рабочие бараки. Завод находился за городом, над рекой в двенадцати километрах от центра у старой дороги на Москву. Четырнадцатого декабря повсюду расклеили приказ: евреям дается два дня на сборы и переселение в лагерь. Как и в Киеве, евреи отправились туда добровольно, без конвоя; сначала их и вправду распределили по баракам. Назначенный день был морозным, валил снег, дети плакали. Я взял машину и поехал на ХТЗ. Территорию еще не оцепили, так что возможностей войти и выйти хватало с лихвой. В бараках не было ни воды, ни пищи, ни отопления, люди уходили обратно в город за всем необходимым, никто их не удерживал; осведомители указывали на тех, кто распространял слухи и сеял смуту, таких незаметно отлавливали и ликвидировали в подвалах помещения зондеркоманды. В лагере царил жуткий хаос, ветхие бараки готовы были вот-вот обрушиться, дети кричали, старики сразу начали умирать, а поскольку близкие не могли похоронить их, покойников просто выносили на улицу; холод быстро сковывал трупы. Наконец лагерь закрыли и расставили немецкую охрану. Но поток людей не иссякал: появлялись евреи, желавшие присоединиться к своим семьям, их русские и украинские родственники, которые приносили еду своим мужьям, женам, детям; этим мы разрешали ходить туда-сюда, ведь Блобель хотел избежать паники и уничтожить обитателей лагеря постепенно и незаметно. Вермахт возражал против крупной разовой операции, как в Киеве, полагая, что она спровоцирует волнения, и этим соображениям Блобель все-таки внял. В канун Рождества военная комендатура пригласила офицеров зондеркоманды на банкет в огромном Зале съездов Коммунистической партии Украины, украшенном в соответствии с поводом; возле буфета, ломившегося от угощений, мы изрядно выпили шнапса и коньяка с офицерами вермахта, поднимавшими бокалы за фюрера, за Endsieg – окончательную победу и великое общее дело. Блобель и комендант города генерал Райнер обменялись подарками; затем офицеры с хорошими голосами исполнили рождественские гимны. Через два дня – вермахт специально назначил дату после Рождества, чтобы не испортить праздники, – евреям предложили добровольно записаться на работы в Полтаве, Лубнах и Ромнах. Трещали морозы, все замело снегом, окоченевшие евреи спешили к отборочному пункту в надежде быстрее покинуть лагерь. Их сажали в грузовики, за рулем были украинцы; пожитки складывали отдельно, в другие машины. Потом евреев везли в Рогань, отдаленный пригород Харькова, и расстреливали в балках, старых оврагах, намеченных нашими геодезистами. Вещи отправляли на склады, сортировали и раздавали фольксдойче через благотворительные организации НСВ и ФОМИ. Таким образом, лагерь чистили постепенно, вывозя людей каждый день маленькими группами. Прямо перед Новым годом я присутствовал на казни. Стреляли совсем юные добровольцы 314-го полицейского батальона, полное отсутствие опыта сказывалось на их меткости: оставалось множество раненых. Офицеры ругались, давали им выпить, но ситуации это не улучшало. Снег был забрызган свежей кровью, она струилась по дну оврага, растекалась лужами по заледеневшей земле, но не замерзала, а застаивалась и густела. Вокруг в белых полях торчали мертвые серые стебли подсолнухов. Звуки, даже крики и выстрелы, словно приглушили; снег под ногами скрипел. Фургон «заурер» тоже применили, но смотреть я не пошел. Меня теперь часто рвало, я чувствовал себя больным, у меня была даже температура, но не настолько высокая, чтобы лежать в постели, меня знобило и ломало. От порывов ветра над балкой мое тело сотрясала лихорадка. Меня окружала пугающая белизна и пятна крови – на снегу, телах, моей шинели. По небу медленно тянулись к югу длинные косяки диких уток.
Холод надвигался, набирал силу, как живой организм, распространялся по земле и проникал всюду, в самые укромные уголки. Шперат сообщил, что солдаты вермахта страдают от обморожений, часто заканчивающихся ампутацией: оказалось, что кованые форменные сапоги отлично пропускают холод. По утрам на постах находили мертвых караульных, под стальными касками, надетыми прямо на голову без шерстяной шапки, мозг леденел. Танкисты жгли покрышки под моторами, чтобы завестись. Отдельные войсковые части все-таки получили теплую одежду, собранную в Германии фондом зимней помощи «Винтерхильфе», но среди присланных вещей попадалось все, что угодно, и теперь многие солдаты прогуливались в женских шубах, боа и с муфтами. Население грабили нещадно: отнимали на улицах тулупы, шапки и бросали раздетых прохожих замерзать, многие погибали. На подступах к Москве, как докладывали, было еще хуже; после контрудара советских войск в начале месяца наши люди держали оборону и умирали на своих позициях, как мухи, даже не встретившись с врагом. Политическая ситуация тоже утратила определенность. Никто в Харькове не понимал, почему мы объявили войну американцам: «Мало у нас забот, – ворчал Гефнер, которому вторил Курт Ганс, – японцы могли бы и сами справиться». Другие, более проницательные, усматривали в победе японцев опасность для Германии. Чистка высшего командного состава также породила множество вопросов. Большинство в СС одобряло решение фюрера лично возглавить Высшее командование сухопутных войск, ОКХ: теперь, судачили офицеры, старые прусские реакционеры не смогут тайно совать ему палки в колеса; весной русских точно уничтожат. Люди из вермахта были настроены скорее скептически. Фон Хорнбоген из службы I-c утверждал, что слышал о запланированном наступлении на юг с целью завладеть кавказской нефтью. «Я не понимаю, – делился он со мной, пропустив в казино пару стаканов. – Цели у нас политические или экономические?» И те и другие, сказал бы я, его же волновала проблема нашего военного потенциала. «Американцы не сразу повысят производство и соберут достаточное количество техники. Мы выиграем время. Но если к этому моменту не покончить с красными, нам крышка». Его слова меня потрясли, до сих пор при мне никто не делал открыто таких мрачных прогнозов. Мне уже приходилось задумываться о возможности победы, не безоговорочной, а достигнутой, скажем, путем компромисса, по которому мы уступили бы Сталину Россию, но сохранили за собой Остланд, Украину и, разумеется, Крым. Но полное поражение? Это казалось мне немыслимым. Мне очень хотелось все обсудить с Томасом, но он служил далеко в Киеве; отвечая на мое письмо из Переяслава, сообщил, что его произвели в чин штурмбанфюрера, но больше я ничего о нем не знал. В Харькове поговорить было особо не с кем. Вечерами Блобель напивался и крыл евреев, коммунистов, даже вермахт; офицеры слушали, играли в бильярд или просто расходились по своим комнатам. Я, как правило, поступал так же. Я тогда читал дневники Стендаля, многие места удивительным образом соответствовали моему состоянию: евреям запрещено… Духота изнуряет меня… Тяготы превращают в машину… Постоянные приступы рвоты породили у меня навязчивое ощущение нечистоты, и я стал уделять гигиене чрезмерное, почти маниакальное внимание; уже несколько раз Войтинек заставал меня за тщательным осмотром формы и выискиванием следов грязи, в конце концов он приказал мне не валять дурака. Проинспектировав операцию, я сразу же отдал Ханике испачканную одежду для стирки; потом, всякий раз, как он приносил выстиранные вещи, я находил новые пятна, кончилось тем, что, охваченный гневом, я принялся в резких выражениях упрекать его за лень и неумелость, а затем швырнул китель ему в лицо. Зашел Шперат – справиться, хорошо ли я сплю, и, получив утвердительный ответ, остался вполне доволен; и правда, добравшись до постели, я проваливался в сон, длившийся до самого утра, но полный – не кошмаров, нет, – скорее тяжелых мучительных видений, подобных подводным ключам, которые поднимают муть на дне, оставляя поверхность гладкой и спокойной. Я должен отметить, что стал снова регулярно присутствовать на казнях, этого никто не требовал, я поступал так по собственной инициативе. Сам я не расстреливал, но наблюдал за стрелявшими, особенно за офицерами вроде Гефнера или Янсена, занимавшимися этим с самого начала и уже воспринимавшими работу палачей как должное. Я, наверное, не сильно от них отличался. Я начал смутно догадываться, что, приняв участие в столь скверном спектакле, перестаю замечать его постыдность, тяготиться чудовищным попранием, осквернением Доброго и Прекрасного; происходило скорее обратное: возмущение само собой незаметно иссякало, происходящее становилось привычным и больше не вызывало никаких особенных эмоций. Я тщетно, но с отчаянным упорством стремился вновь пережить первоначальное потрясение, ощущение катастрофического распада, трепет, охватывающий все существо; вместо этого меня не покидала смутная тревога, нервное возбуждение, сходное с лихорадкой и симптомами моей болезни; оно, впрочем, спадало все быстрее и быстрее, и я, в то время как искал света, медленно, незаметно для самого себя погружался во мрак. Не слишком значительное событие ярко высветило это усугубляющееся противоречие. В большой заснеженный парк за памятником Шевченко к виселице пригнали юную партизанку. Собралась целая толпа немцев: кроме ополченцев вермахта и орпо, члены организации Тодта, чиновники «Остминистериума» и пилоты люфтваффе. Девушка была худенькая, лицо, искаженное нервной гримасой, обрамляли черные, грубо, словно секатором, обкромсанные волосы. Офицер связал ей руки, поставил под виселицей и накинул веревку на шею. Присутствовавшие солдаты и офицеры стали по очереди целовать ее в рот. Она не шевелилась и не закрывала глаз. Одни целовали ее нежно, почти целомудренно, как школьники; другие, удерживая обеими руками голову, насильно разжимали ей губы. Когда настала моя очередь, она взглянула на меня ясным, пронзительным, отрешенным взглядом, я внезапно увидел: она все понимает и знает, и это, такое непорочное, знание опалило меня. Моя одежда горела и трещала, кожа на животе рассеклась, из него потек жир, пламя брызнуло мне в глаза, в рот, выжгло мозг. Я целовал ее так крепко, что ей пришлось отвернуться. Я потух, то, что от меня осталось, превратилось в соляной столп; отваливались быстро остывавшие куски – плечо, рука, половина черепа. Потом я рухнул у ее ног, и ветер разметал и развеял горку соли. Приблизился другой офицер, а когда прошли все, ее повесили. Целыми днями я вспоминал эту фантасмагорическую сцену; передо мной словно возникало зеркало, но я видел лишь свое отражение, немного измененное, но верное. И тело девушки тоже представлялось мне зеркалом. Веревку оборвали или обрезали, девушка лежала в снегу Профсоюзного сада, затылок размозжен, губы раздуты, голую грудь обгрызли собаки. Жесткие пряди торчали во все стороны, как волосы медузы, она казалась мне сказочно красивой в объятиях смерти, статуя мадонны, Дева Мария Снежная. Какую бы дорогу от гостиницы до нашей конторы я ни избрал, она вела мимо нее, и навязчивый, прямой вопрос толкал меня в лабиринт тщетных размышлений и выбивал почву из-под ног. Это длилось не одну неделю.
Через несколько дней после Нового года Блобель завершил операцию. На ХТЗ оставались тысячи евреев, которых ждали принудительные работы в городе, расстрелять их должны были позднее. Нам сообщили, что Блобеля скоро заменят. Он знал об этом, но около месяца молчал. Убрать его следовало уже давно. В Харькове Блобель превратился в опустившегося неврастеника, почти как в Луцке. Однажды он созвал нас, чтобы выразить восхищение последними достижениями зондеркоманды, но уже через мгновение из-за пустяка, из-за какого-то неловко оброненного слова заходился бешеным криком. В один из первых январских дней я заглянул к нему в кабинет передать отчет Войтинека. Не поздоровавшись, он швырнул мне листок бумаги: «Вот, полюбуйтесь на это дерьмо». Он был пьян и весь побелел от злости. Я взял листок, приказ генерала фон Манштейна, командующего 11-й армией в Крыму. «Это ваш шеф Олендорф мне подсунул. Читайте, читайте. Там, внизу, нашли? „Присутствие на казнях евреев – бесчестие для офицеров“. Позор! Ублюдки! А то, чем занимаются они, разумеется, делает им честь… можно подумать, они пленным почести воздают!.. Я участвовал в Мировой войне, тогда о пленных заботились, их кормили и не заставляли подыхать с голоду, как скотов». Он схватил со стола бутылку шнапса, налил стакан до краев и одним махом осушил его. Я стоял перед ним молча. «Можно подумать, все получают приказы из разных источников… Мерзавцы! Не хотят руки марать, говнюки из вермахта! Грязную работу норовят свалить на нас». Он поднял голову, лицо его побагровело. «Собаки! Потом начнется: „Нет, мы здесь ни при чем. Жестокости – это всё те, другие, убийцы из СС. Мы ничего общего с ними не имеем. Мы, солдаты, честно сражались на поле боя“. А кто города брал, где мы потом проводили чистки? Кого мы защищали, ликвидируя партизан, евреев и прочую шваль? Вермахт что – жаловался? Нет, сами нас просили!» Он брызгал слюной. «А эта мразь Манштейн, лицемер, жид-полукровка, научил собаку поднимать лапу, когда раздается „Хайль Гитлер“, а над столом у себя за спиной повесил, это Олендорф мне растрезвонил, плакат: „Что сказал бы об этом фюрер?“ И точно, что же скажет наш фюрер? А что сказать, когда АОК одиннадцать приказывает айнзатцгруппе уничтожить всех евреев в Симферополе до Рождества, чтобы офицеры веселились без евреев – judenfrei? А потом выпустят газетенки, прославляющие вермахт? Свиньи. А кто подписывал Kommissarbefehl [24]? Кто санкционировал? Кто? Неужели рейхсфюрер?» Он остановился, чтобы перевести дух и осушить еще стакан; глотнул, поперхнулся, закашлялся. «Если ситуация обернется к худшему, они всё повесят на нас. Всё. Надеются выйти чистенькими, душками этакими, – он вырвал у меня письмо и помахал им в воздухе, – приговаривая: „Нет, не мы убивали евреев, комиссаров, цыган, есть доказательства, поймите, мы были против, вся вина на фюрере и эсэсовцах“…» В его голосе зазвучали плаксивые нотки. «Черт, даже если мы победим, нас подставят. Потому что, послушайте, Ауэ, послушайте меня хорошенько, – теперь он говорил хриплым шепотом, – рано или поздно все вскроется. Все. Слишком многие осведомлены, свидетелей полно. И когда все вскроется, без разницы, выиграем мы войну или проиграем, поднимется неслыханный шум, скандал. Понадобятся виновные. И нам снесут головы, чтоб услужить толпе, а прусские жиды-полукровки фон Манштейны, фон Рундштедты, фон Браухичи и фон Клюге вернутся в фон фу-ты ну-ты уютные замки, засядут за фон фу-ты ну-ты мемуары и при встрече будут похлопывать друг друга по спине, ведь фон фу-ты ну-ты ветеранам пристали почет и уважение. Они нам устроят новое тридцатое июня, только в роли дураков выступим мы, СС. Твари!» Он брызгал слюной на документы. «Твари! Твари! Наши головы полетят, а на их белых ухоженных ручках ни капельки крови. Словно никто из них никогда не подписывал приказа о расстрелах. И никто из них не кричал: „Хайль Гитлер!“, когда им докладывали об уничтожении очередной партии евреев». Он вскочил со стула, вытянулся, выпятил грудь, вскинул почти вертикально руку и проревел: «Хайль Гитлер! Хайль Гитлер! Зиг Хайль!» Плюхнулся на место и забормотал: «Сволочи. Бесчестные твари. Расстрелять бы их тоже. Нет, не Рейхенау, он мужик, всех прочих». Речь его сделалась бессвязной, и наконец он затих. Я воспользовался моментом, быстро протянул ему рапорт Войтинека и откланялся. Едва за мной закрылась дверь, он снова разорался, но я все равно ушел.
Наконец приехал будущий руководитель нашей айнзатцгруппы. Блобель задерживаться не стал: обратился к нам с короткой прощальной речью и первым же поездом отбыл в Киев. Никто, я уверен, о нем не пожалел, тем более что наш новый командующий, штандартенфюрер доктор Эрвин Вейнман, выгодно отличался от своего предшественника. Это был человек молодой, лишь несколькими годами старше меня, очень сдержанный, с озабоченным, даже грустным выражением лица, убежденный национал-социалист. Подобно доктору Томасу, он получил медицинское образование, но много лет проработал в государственной тайной полиции. Он сразу произвел на всех благоприятное впечатление. «В Киеве я много общался с бригадефюрером Томасом, – сообщил Вейнман, – он просветил меня насчет тех невероятных трудностей, с которыми постоянно сталкиваются солдаты и офицеры зондеркоманды. Знайте, что дело ваше не напрасно, Германия гордится вами. В ближайшие дни я рассчитываю познакомиться с работой команды и надеюсь открыто и начистоту пообщаться с каждым из вас лично».
Вейнман сообщил нам важную новость. В начале года фон Рейхенау наконец нашли замену: по его рекомендации АОК 6 возглавил генерал танковых войск Фридрих Паулюс, новая фигура на театре военных действий, один из заслуженных командующих штаба, с 1940-го занимавшийся планированием в ОКВ. Но Паулюс вскоре лишился своего покровителя. Накануне перевода Вейнмана в Харьков, после утренней пробежки при минус двадцати, фон Рейхенау стало плохо, по мнению одних, это был инфаркт, по мнению других – кровоизлияние в мозг; Вейнман получил известие об этом в поезде, от офицера АОК. Фон Рейхенау был, впрочем, еще жив, и Гитлер приказал переправить его в Германию, но самолет неудачно приземлился под Лембергом, и фон Рейхенау обнаружили в его кресле, пристегнутым и с жезлом фельдмаршала в руке – печальная кончина немецкого героя. После долгих сомнений на место фон Рейхенау в группе армий «Юг» был назначен генерал-фельдмаршал фон Бок. В тот самый день, когда он вступил в должность, красные, окрыленные успехами под Москвой, перешли в наступление у Изюма (южнее Харькова, в направлении Полтавы). Термометры показывали минус тридцать градусов, движение транспорта практически прекратилось, продовольствие приходилось перевозить на крестьянских телегах – «панье-вагенах», и войска рольбана теряли больше людей, чем дивизии на фронте. В сражениях русские массово использовали грозный современный танк Т-34, не боящийся никаких морозов и наводящий ужас на пехотинцев; к счастью, он не мог противостоять нашим 88-миллиметровкам. Паулюс передислоцировал АОК 6 из Полтавы в Харьков, что принесло в город заметное оживление. Красные, совершенно очевидно, планировали окружить Харьков, но их северный фланг не двигался, а вот южный упорно теснил наши войска, и лишь к концу месяца мы с немалым трудом остановили его у Краснограда и Павлограда; глубина прорыва в наши расположения превысила семьдесят километров, создав опасный плацдарм по ту сторону Донца. В тылах у нас активизировались партизаны, даже в самом Харькове стало неспокойно: несмотря на жестокие расправы, количество диверсий росло, чему, безусловно, способствовал свирепствовавший в городе голод. Пострадала и зондеркоманда. Дело было в самом начале февраля. У меня была назначена встреча в канцелярии вермахта на Майдане Тевелева в центре города. Ханика отправился со мной в надежде раздобыть каких-нибудь продуктов, чтобы хоть немного разнообразить наш рацион, и я отпустил его на поиски. Беседа оказалась короткой, и освободился я быстро. Помедлил на крыльце, вдыхая холодный резкий воздух, зажег сигарету. Затянулся раз, другой, обвел взглядом площадь. Небо сияло той чистой зимней синевой, какой не увидишь нигде – только в России. Рядом, в надежде продать разложенные здесь же вялые, скукоженные овощи, примостились на ящиках три старухи-колхозницы; на площади, у подножия монумента в честь освобождения Харькова большевиками в 1919 году, полдюжины ребятишек, несмотря на холод, гоняли тряпичный мячик. Чуть ниже шатались несколько человек из нашей орпо. На углу возле «опеля» с работающим мотором стоял бледный, угрюмый Ханика. Случающиеся у меня в последнее время вспышки гнева угнетали его. А мне он стал действовать на нервы. Вдруг из переулка выскочил еще один ребенок и понесся к площади. Он что-то держал в руках. Когда он поравнялся с Ханикой, раздался взрыв. В «опеле» вылетели стекла, я отчетливо услышал звон стекла, посыпавшегося на мостовую. Люди из орпо в панике открыли огонь по играющим детям. Старухи истошно вопили, мяч пропитался кровью. Я кинулся к Ханике: он опустился на колени в снег, держась за живот. Прыщавое лицо покрыла ужасающая бледность, и не успел я добежать до него, как его голова запрокинулась назад, и – я отчетливо увидел это – голубизна глаз слилась с синевой неба. Небо размыло его глаза. Потом он повалился набок. Паренек был мертв, ему оторвало руку; на площади, где колхозницы с горестными выкриками встряхивали убитых детей, толпились растерянные полицейские. Вейнмана совершенно очевидно больше взволновала оплошность орпо, чем гибель Ханики: «Безобразие! Мы стараемся наладить отношения с местными и убиваем их детей. Эти люди должны пойти под трибунал». Я отнесся к этому скептически: «Возникнут сложности, штандартенфюрер. Случившееся прискорбно, но объяснимо. Месяцами им приказывают расстреливать детей; не странно ли теперь за это же их наказывать?» – «Не за это же! Мы казним осужденных детей! А дети на площади – невинные жертвы». – «Позвольте заметить, господин штандартенфюрер, но основания для приговоров таковы, что дают простор самоуправству». Он вытаращил глаза, ноздри затрепетали от гнева, однако он быстро овладел собой и успокоился. «Сменим тему, гауптштурмфюрер. Я и так давно уже намеревался побеседовать с вами. Мне кажется, вы очень устали. Доктор Шперат считает, что вы на грани нервного срыва». – «Простите, штандартенфюрер, но я категорически не согласен с его мнением. Я чувствую себя прекрасно». Вейнман угостил меня сигаретой, закурил. «Гауптштурмфюрер, я – врач. И я умею распознавать симптомы. Вы, выражаясь по-простому, спеклись. И не вы один: почти все офицеры команды на пределе. Так или иначе, вынужденное зимнее бездействие дает нам возможность на пару месяцев сократить штат. Часть офицеров будет уволена в запас или отправлена в длительный отпуск на лечение. Семейные вернутся в Германию. Остальные, в том числе и вы, поедут в Крым в санатории вермахта. Там, говорят, очень красиво. Через несколько недель уже можно будет плавать». На его узком лице мелькнула легкая улыбка, он протянул мне конверт. «Вот разрешение и ваша положительная характеристика. Все в порядке. У вас два месяца, а дальше посмотрим. Приятного отдыха».
Решение Вейнмана вызвало во мне целую бурю безотчетной ненависти и обиды, но, очутившись в Крыму, я понял, насколько оно правильно. Во время долгого путешествия в поезде я предоставил своим мыслям блуждать над белыми равнинными просторами, стараясь поменьше сосредоточиваться и анализировать. Я горевал по Ханике. Когда я вернулся в гостиницу, чтобы сложить вещи, сердце у меня сжалось при виде опустевшей комнаты, появилось ощущение, что я с ног до головы покрыт кровью Ханики; я кинулся переодеваться; одежда казалась мне недостаточно чистой, это выводило меня из равновесия. Затем меня вырвало, но плакать – нет, об этом не могло быть и речи. Как только представилась возможность, я уехал через Днепропетровск в Симферополь. Моих попутчиков, в основном раненых или отпускников, отправили восстанавливать силы после пережитого на фронте. Военный врач мне рассказал, что людей, которых мы потеряли только в январе из-за болезней и морозов, хватило бы, чтобы сформировать двенадцать дивизий. Морозы потихоньку отступали, и забрезжила надежда, что худшее уже позади; но все же такой суровой зимы не помнили не только в России: из-за холодов в Европе жгли книги, мебель, рояли, включая старинные, – на обоих концах континента горело то, что составляло гордость нашей цивилизации. Я горько усмехался, воображая, как потешались бы негры в джунглях, узнай они о происходящем. Наши сумасшедшие амбиции пока не принесли ожидаемого результата, а страдания множились и распространялись повсеместно. Над Рейхом тоже нависла угроза: британцы атаковали с воздуха, особенно активно в Рурской и Рейнской областях; офицеры, оставившие там семьи, страшно нервничали. Мой сосед по купе, раненный в ногу под Изюмом гауптман артиллерии, потерял двух детей при бомбежке Вупперталя; ему предложили вернуться, но он попросился в Крым: не хотел встречаться с женой. «Я бы не выдержал», – кратко пояснил он и снова погрузился в тяжелое молчание.
Военный врач Хоенэгг, почти облысевший толстячок родом из Вены, оказался очень приятным попутчиком. Штатный профессор уважаемой в Венском университете кафедры теперь выполнял обязанности главного патологоанатома 6-й армии. Даже в самом серьезном разговоре его мягкий, какой-то обволакивающий голос звучал иронично. Его взгляды на жизнь сложились под влиянием избранной им профессии, мы подолгу спорили о них, пока поезд пересекал безжизненную, как открытое море, запорожскую степь. «Преимущество патологоанатомии, – растолковывал он мне, – заключается в том, что, вскрывая покойников всех возрастов и обоих полов, утрачиваешь страх перед смертью, воспринимаешь ее как физиологическое отправление, совершенно обычное, ничем не отличающееся от других естественных функций организма. Я спокойно могу представить себя на столе для вскрытия под руками коллеги, с недовольным видом осматривающего мою печенку». – «Да, но вам повезло, вы получаете уже умерших. Совсем другое дело, если – как это частенько случается при работе в СД – присутствуешь при переходе в мир иной». – «Да еще и способствуешь этому». – «Именно. Но ни убеждения, ни идеология никогда не помогут наблюдателю полностью проникнуться опытом умершего». Хоенэгг задумался: «Я понимаю, что вы хотите сказать. Но пропасть существует только для того, кто смотрит. Только он различает оба края. Умирающий испытывает чувство смутное и вне зависимости от его продолжительности и силы не успевает осознать происходящее. Вы читали Боссюэ?» – «Даже в оригинале», – с улыбкой ответил я по-французски. «Замечательно. Должен признать, что ваше образование гораздо шире, чем у среднего юриста». И он процитировал, его французское произношение было резким, даже грубым: «И тот последний момент, который сотрет вашу жизнь, исчезнет и сам без остатка в бездонной пучине небытия. И следа не будет на земле от нас, какие мы есть: плоть изменит природу свою; тело примет иное имя; а то, что принадлежало мертвецу, скоро забудется. „Станет оно, – говорит Тертуллиан, – тем, чему нет названия ни в одном языке“». – «Да, я часто думал, что для мертвого тут проблемы нет, она существует исключительно для живых». – «Пока они не умрут», – Хоенэгг подмигнул. Я тихонько рассмеялся, он тоже; пассажиры нашего купе, обсуждавшие сосиски и баб, с удивлением обернулись.
В Симферополе, пункте назначения, нас рассадили по грузовикам и каретам «скорой помощи», чтобы отвезти в Ялту. Хоенэгг, намеревавшийся навестить врачей АОК 11, остался в Симферополе; я с сожалением распрощался с ним. Колонна двинулась по горной дороге на восток через Алушту, потому что Бахчисарай входил в зону операций по осаде Севастополя. Меня поселили в санатории, расположенном к западу от Ялты у Ливадийского шоссе, за ним высились крутые заснеженные горы. Это был старинный царский дворец, превращенный в курорт для советских рабочих, он несколько пострадал во время сражений, но его на скорую руку отремонтировали и перекрасили. Я получил симпатичную небольшую комнатку с ванной и балконом на втором этаже, мебель, правда, оставляла желать лучшего, зато у моих ног за кипарисами расстилалось Черное море, гладкое, спокойное, серое. Я любовался им без конца. Было еще довольно холодно, но все-таки намного теплее, чем на Украине, и я выходил курить на балкон или ложился на диван лицом к застекленной двери и проводил долгие, спокойные часы за чтением. Недостатка в книгах я не испытывал: помимо моих собственных в моем распоряжении оказалась целая библиотека из книг, оставленных пациентами, разумеется совершенно разрозненная. Так, наряду с нечитабельным «Мифом ХХ века», я обнаружил в ней немецкий перевод Чехова, доставившего мне истинное удовольствие. Никаких лечебных назначений мне не сделали. По приезде меня осмотрел врач, попросил перечислить беспокоившие меня симптомы. «Ничего опасного, – заключил он, ознакомившись с запиской Шперата. – Нервное истощение. Сон, ванны, покой, поменьше алкоголя и поосторожнее с украинками. Все пройдет само собой. Приятного отдыха».
В санатории царила беззаботная атмосфера: игривое настроение больных и выздоравливающих, в основном молодых офицеров нижних чинов из разных войск, подогревалось за ужином крымским вином и отсутствием женщин. По-видимому, это способствовало и на редкость свободному тону в разговорах: то и дело слышались весьма колкие шуточки в адрес высших партийцев и вермахта. Один офицер, демонстрируя медаль «За зимнее сражение на Востоке», насмешливо спросил у меня: «А вас в СС еще не награждали орденом мороженого мяса?» То обстоятельство, что перед ними офицер СД, ничуть не смущало этих молодцов: само собой разумеется, очевидно, полагали они, что я такой же вольнодумец, как они сами. Наиболее критично были настроены офицеры группы армий «Центр». Если на Украине бросок 2-й танковой армии Гудериана, который в начале августа, напав на русских с тыла, разблокировал Южный фронт, позволив взять Киев и продвинуться до Донца, считали гениальным маневром, то люди из «Центра» его расценивали как блажь, прихоть фюрера, ошибку, с точки зрения некоторых, преступную. Если бы не это, – с горячностью утверждали они, – вместо того чтобы топтаться два месяца вокруг Смоленска, в октябре мы бы уже заняли Москву и закончили войну, солдатам не пришлось бы зимовать в снегу в окопах, но такие мелочи господ из ОКХ не волнуют, ведь не генералы же отмораживают ноги. Их правоту подтвердила история, позже это признает большинство специалистов, но тогда перспективы выглядели иначе, и подобные высказывания граничили с пораженчеством, даже с предательством. Но сейчас они меня ничуть не задевали, ведь все мы находились в отпуске. Напротив, эти молодые и такие живые, красивые, веселые мужчины заставили всколыхнуться чувства и желания, не посещавшие меня уже долгие месяцы. И мне стало казаться, что в реализации моих мечтаний нет ничего невозможного, дело лишь за тем, чтобы сделать правильный выбор. В столовой я часто оказывался за одним столом с юным унтерштурмфюрером ваффен-СС Вилли Партенау. Худощавый, с идеальной фигурой, темными, почти черными волосами, он был ранен в грудь под Ростовом. Вечерами, когда другие играли в карты или на бильярде, пели или выпивали в баре, мы разговаривали за столиком у огромного окна гостиной. Уроженец Рейнской области, Партенау вырос в католической мелкобуржуазной семье. Детство ему выпало тяжелое. Даже до кризиса 1929 года семья жила у черты бедности; деспотичный отец, коротышка-военный, зацикленный на собственном социальном статусе, тратил и без того скудные средства на поддержание видимости достатка. На столе неделями не было ничего, кроме картошки и капусты, но в школу мальчики ходили в костюмах с крахмальными воротничками и в начищенных ботинках. Партенау воспитывался в суровом религиозном духе, за малейшую провинность отец ставил его на колени на холодный каменный пол и заставлял читать вслух молитвы; Партенау рано утратил веру или, точнее, быстро заменил ее национал-социализмом. Благодаря «Гитлерюгенду», а затем и СС, он наконец вырвался из удушающей среды. Во время кампаний в Греции и Югославии он еще проходил военную подготовку и очень переживал, что не смог участвовать в них; когда же он узнал, что зачислен в Лейбштандарт «Адольф Гитлер» для вторжения в Россию, его радость не знала границ. Как-то вечером он мне признался, что, впервые столкнувшись с радикальными методами, применяемыми вермахтом и СС в борьбе с партизанами, пришел в ужас; но его убежденность в том, что эти крайние меры применяются лишь в отношении жестокого и абсолютно бесчеловечного противника, не поколебалась. «В СД вы наверняка видите жуткие вещи», – добавил он; я признал, что это так, но предпочел не вдаваться в подробности. Вместо того я немного рассказал ему о себе, главным образом о раннем детстве. Я был тщедушным ребенком. Нам с сестрой едва исполнился год, когда отец ушел на войну. Молока, да и вообще продуктов не хватало, я рос худым, бледным, нервным. Обожал играть в лесу рядом с нашим домом; мы жили в Эльзасе, где много настоящих больших лесов. В лесу я наблюдал за насекомыми, шлепал босиком по ручейкам. Один случай глубоко врезался мне в память: я нашел на лугу брошеного щенка, вид у него был несчастный, и меня затопила жалость. Я решил забрать его домой, но стоило мне подойти, чтобы взять песика, тот в испуге отскочил. Я его улещивал, ласково уговаривал пойти со мной – напрасно. Он не убегал, держался в нескольких метрах от меня, но приблизиться не давал. Кончилось тем, что я уселся на траву, заливаясь слезами от сострадания к песику, боявшемуся принять мою помощь. Я умолял: «Пожалуйста, собачка, иди ко мне!» И он все-таки послушался. Моя мать ужаснулась, обнаружив отчаянно лающего щенка, привязанного к изгороди в садике, и сумела уговорить меня отдать его в Общество защиты животных, где, как я думаю до сих пор, его пристрелили, едва за мной захлопнулась дверь. Но вполне вероятно, что это произошло уже после войны и окончательного возвращения отца в Киль, куда мы перебрались, когда французы заняли Эльзас. Вернувшийся к нам отец говорил мало, казался мрачным, сердитым. Со своими дипломами он без особых сложностей устроился на хорошую должность в крупной фирме; дома он часто закрывался в библиотеке, а в его отсутствие я тайком проникал туда и играл с его коллекцией бабочек. Некоторые экземпляры были размером с ладонь, я вынимал их из коробочек и крутил на длинных булавках, словно бумажные вертушки, пока отец не застал меня врасплох и не наказал. Примерно тогда же я начал воровать у соседей, несомненно, понял я позднее, чтобы обратить на себя внимание отца: я крал жестяные пистолетики, карманные фонарики, игрушки и закапывал в тайнике в укромном уголке сада; даже сестра ничего не знала, но в конце концов все открылось. Мать считала, что я воровал из чистого удовольствия совершать гадости; отец обстоятельно разъяснил мне смысл Заповедей, после чего задал мне порку. Это случилось уже не в Киле, а на острове Зюльт, где мы отдыхали летом. Мы добирались туда на поезде, мчавшемся по дамбе Гинденбургдамм: во время прилива пути накрывала вода, и казалось, что мы едем прямо по морю, волны поднимались до самых колес, бились о ступицы! Ночью над кроватью, по звездному небу моих снов, плыли электрички.
С раннего детства я жадно искал любви всех, с кем сводила меня жизнь. И находил ее, по крайней мере, со стороны взрослых, ведь я был мальчиком и красивым, и умным. Но в школе мне пришлось столкнуться с грубыми и агрессивными детьми, многие из них потеряли отцов, других отцы, вернувшиеся из окопов озлобленными и полубезумными, били или попросту не замечали. За недостаток домашнего тепла они мстили одноклассникам, подвергая безжалостной травле наиболее слабых. Мне доставалось по первое число, друзей у меня практически не было; когда на физкультуре формировали команды, меня брать не хотели. Я не пытался снискать расположение однокашников, но настойчиво домогался их внимания. И на учителей, более справедливых, чем ровесники, я тоже старался произвести впечатление, при моих способностях это удавалось без труда, но меня стали считать любимчиком и издевались еще сильней. Отцу я, естественно, не пожаловался ни разу.
После поражения и нашего переселения в Киль он снова уехал, неизвестно куда и зачем; время от времени он навещал нас, опять исчезал и лишь в конце 1919 года остался с нами насовсем. В 1921 году отец серьезно заболел и вынужден был оставить работу. Выздоравливал он медленно, атмосфера в доме была гнетущая, напряженная. В начале лета, насколько я помню, пасмурного и холодного, к нам приехал младший брат отца, весельчак, шутник, рассказывавший невероятные истории о войне и путешествиях, слушая их, я просто стонал от восторга. Моей сестре он понравился меньше. Через несколько дней они с отцом отправились навестить дедушку, которого я видел один или два раза в жизни и почти не помнил (родители мамы к тому времени, видимо, уже умерли). Их отъезд и сегодня у меня перед глазами. Мать, я и сестра выстроились на пороге, отец укладывает чемодан в багажник машины, которая увезет его на вокзал: «До свидания, малыши, – улыбается он, – не волнуйтесь, я скоро вернусь». Больше я его не видел. Мне и моей сестре-близняшке было около восьми лет. Много позже я узнал, что спустя некоторое время мать получила письмо от дяди: после визита к деду они, похоже, поссорились, и мой отец, судя по всему, уехал в Турцию или на Ближний Восток; никаких подробностей дядя не знал; сослуживцы отца, которых расспрашивала мать, тоже. Сам я дядиного письма никогда не видел; обо всем этом я в свое время узнал от матери, но так и не смог ни найти подтверждения ее словам, ни разыскать существовавшего неизвестно где дядю. Впрочем, Партенау я об этом не рассказывал, рассказываю только вам.
Теперь я постоянно наведывался к Партенау. Относительно его сексуальной ориентации я испытывал сомнения. Его восторженное преклонение перед национал-социализмом и СС должно было воздвигнуть передо мной серьезное препятствие, но я чувствовал, что его гетеросексуальность выражена слабее, чем у остальных. В коллеже я быстро уяснил: дело не в извращениях, парни просто довольствовались тем, что имелось в наличии, как, собственно, и в армии, и в тюрьмах. Конечно, с 1937 года, когда меня задержали по делу в Тиргартене, официальная позиция в значительной степени ужесточилась. Особенно пристально следили за СС. Прошлой осенью, как раз когда я приехал в Харьков, фюрер подписал указ «О поддержании нравственности в СС и полиции», предусматривавший смертную казнь для всех членов СС и сотрудников полиции, которые были уличены в непотребном поведении по отношению к мужчине или поддались преступному соблазну. Во избежание недоразумений указ не опубликовали, но СД о нем проинформировали. По моему мнению, подобная директива была издана исключительно для острастки; в реальности же при умении держать язык за зубами проблемы возникали редко. Главное – не скомпрометировать себя перед личным врагом; но личных врагов я не имел. Партенау наверняка находился под влиянием экзальтированной риторики «Дас Шварце Кор» и прочих печатных изданий СС, но тем не менее интуиция подсказывала мне, что если правильно подвести идеологическую основу, то приложится и остальное.
Тут требовались не изощренные уловки, а последовательные действия. Иногда в погожие дни мы после обеда спускались в город, бродили по узеньким улочкам или прогуливались по набережным, обсаженным пальмами, потом усаживались в каком-нибудь кафе выпить по стаканчику крымского муската, слишком сладкого на мой вкус, но приятного. На берегу нам встречались главным образом немцы, иногда в компании девиц; местных мужчин, кроме немногочисленных татар или украинцев с белой повязкой добровольных помощников, мы практически не видели. В январе вермахт согнал все мужское население в пересыльные лагеря, откуда их отправили в генералкомиссариат в Николаеве – мера в отношении потенциальных партизан, несомненно, кардинальная, но необходимая: учитывая количество раненых и выздоравливающих, мы не могли рисковать. До наступления весеннего сезона особых развлечений, кроме театральных представлений или киносеансов, организованных вермахтом, ожидать не стоило. «Тут даже бациллы спят», – писал Чехов о Ялте, но мне эта ленивая скука была по душе. Иногда к нам с Партенау присоединялись другие молодые офицеры, и мы устраивались на террасе над морем. Если удавалось, – законы, по которым осуществлялись поставки со складов, оставались для меня тайной – мы заказывали бутылку; помимо муската здесь имелся красный портвейн, тоже сладкий, но в прохладную погоду весьма уместный. Разговоры, крутившиеся вокруг безутешных женушек, разлученных с мужьями, похоже, не оставляли Партенау равнодушным. Кто-нибудь из офицеров, самый нахальный, под взрывы хохота начинал приставать к девушкам и на ломаном русском приглашал их в нашу компанию; одни краснели и проходили мимо, другие подсаживались к нам. Партенау в таких случаях бойко включался в беседу из жестов, междометий и отдельных бессмысленных слов. Пора было это пресечь. «Господа, мне бы не хотелось портить общее веселье, – начал я в один из подобных вечеров, – но, замечу, вы рискуете». Я похлопал ладонью по столу. «В СД мы получаем и анализируем отчеты об инцидентах в тыловых частях вермахта. Благодаря этому мы имеем полное представление о проблемах, от которых вы вполне можете уберечься. Должен вам заметить, что вступать в связь с советскими женщинами, украинками или русскими, не только недостойно немецкого солдата, но и опасно. Я не преувеличиваю. Многие из этих девок еврейки, которые сумели скрыть свое происхождение, а значит, отношения с ними чреваты загрязнением расы, Rassenschande. Но и это еще не все. Не только еврейки, но и славянские бабенки тайно якшаются с партизанами; нам известно, что они шпионят в пользу наших врагов, бессовестно пользуясь своими прелестями и доверчивостью немецких солдат. Вы думаете, что умеете держать язык за зубами, но, уверяю вас, второстепенных деталей не бывает, и задача тех, кто работает с осведомителями, заключается именно в том, чтобы сложить гигантскую мозаику из мельчайших частиц, которые несущественны сами по себе, но вместе с тысячью прочих обретают смысл. Большевики привыкли к таким приемам». Я отметил, что слушателям стало не по себе, и продолжил: «В Харькове, в Киеве мы неоднократно фиксировали случаи, когда после романтических свиданий солдаты и офицеры исчезали, а потом обнаруживались их страшно изуродованные тела. И не забывайте о болезнях. Наши медицинские службы, опираясь на советские статистические сводки, сообщают, что девяносто процентов русских баб больны гонореей, а пятьдесят – сифилисом. Множество наших солдат уже подхватили инфекцию, и, приезжая в отпуска, они заражают жен и подруг; врачи Рейха крайне встревожены и говорят об эпидемии. Подобное осквернение расы, если не бороться с ним беспощадно, в короткие сроки обернется Entdeutschung, вырождением германцев и порчей нашей крови».
Моя речь явно впечатлила Партенау. К сказанному я ничего не добавил, пока ему довольно и этого. Назавтра он нашел меня за книжкой среди кипарисов и фруктовых деревьев в чудесном парке санатория: «Послушайте, то, что вы вчера рассказали, – правда?» – «Конечно! Сущая правда». – «А что же, по-вашему, делать? Вы понимаете…» Он покраснел, смутился, но желание говорить перевесило. «Вы понимаете, – снова приступил он, – уже скоро год, как мы здесь, без отпусков в Германию, это очень тяжело. У мужчин же есть определенные потребности…» – «Полностью согласен, – я взял наставительный тон. – Тем более что мастурбация, по мнению всех специалистов-медиков, тоже сопряжена с риском. Некоторые утверждают, что это лишь симптом душевного расстройства, но не его причина; другие, например великий Сакс, убеждены, что речь идет о вредной привычке, ведущей к дегенерации». – «Вы сведущи и в медицинских вопросах», – поразился Партенау. «Ну, я, сами понимаете, не профессионал, но медициной интересуюсь, читаю книги». – «А что вы читаете сейчас?» Я показал ему обложку: «„Пир“. Вы читали?» – «Должен признаться, нет». Я закрыл томик и протянул ему: «Возьмите. Я уже выучил это наизусть».
Стало совсем тепло, казалось, вот-вот начнется купальный сезон, но море все никак не прогревалось. В воздухе пахло весной, в ожидании ее прихода всех охватило нетерпение. Я взял Партенау с собой на прогулку в ливадийский летний дворец Николая II, пострадавший от пожара во время военных действий, но все равно прекрасный фасадами, то упорядоченными, то асимметричными, и очаровательными внутренними двориками во флорентийском и арабском стиле. Оттуда по залитой солнцем Царской тропе, проложенной между деревьев, мы поднялись на нависающую над Ореандой скалу; с нее открывался изумительный вид на побережье, на все еще покрытые снегом горные вершины, высившиеся над Севастопольским шоссе, за которым далеко внизу угадывалось изящное здание нашего санатория – белый крымский гранит, местами почерневший от дыма, блестел на солнце. Погода с утра задалась, взбираясь наверх, мы вспотели, я снял куртку. Западнее, на отвесной скале мыса Ай-Тодор, красовалось «Ласточкино гнездо», архитектурная фантазия в духе Средневековья, воплощенная незадолго до революции немецким бароном, нефтяным магнатом. Я предложил Партенау дойти до замка, он не возражал. Я двинулся по тропе, идущей над обрывом. Внизу море мерно плескалось о скалы; над нашими головами искрились белоснежные пики гор. Чудесный аромат вереска и сосен пропитывал воздух. «Знаешь, – начал вдруг Партенау, – я прочитал твою книгу». Совсем недавно мы перешли с ним на «ты». «Очень любопытно. Я и раньше слышал, что сексуальные извращения были распространены у греков, но и представить себе не мог, что тут целая идеология…» – «Да, они не одно столетие размышляли на эту тему. И для них это вопрос не только сексуальности, но всего образа жизни, таких важных ее составляющих, как дружба, воспитание, философия, политика, военное ремесло, наконец». Я замолчал. Перекинув куртки через плечо, мы продолжали путь. Партенау снова заговорил: «Еще в детстве на уроках Закона Божия мне внушали, что это отвратительно и чудовищно. И отец со мной об этом беседовал, говорил, что гомосексуалисты попадут в ад. Я помню, он еще ссылался на святого Павла: „Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам… И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог“. Я вчера вечером перечитал это место». – «А вспомни-ка, что об этом говорит Платон: „Всякое дело таково, что совершаемое само по себе, оно ни прекрасно, ни постыдно“. Я поделюсь с тобой своими мыслями на этот счет: христианские предрассудки, христианские запреты – по сути, еврейские суеверия. Павел, до крещения Савл, еврейский раввин, не смог нарушить закон, как и многие другие. Причина очевидна: евреи жили в окружении языческих племен, и во многих из них жрецы в ходе религиозных церемоний совершали ритуальные действия, носившие гомосексуальный характер. И распространено это было достаточно широко. Геродот описывает подобные обычаи у скифов, населявших эту местность и всю украинскую степь. Он упоминает энареев, скифских жрецов, разграбивших храм Афродиты в Аскалоне, за что богиня наказала их «женской болезнью». По его словам, это колдуны с женскими повадками, и он называет их андрогинами, то есть муже-женщинами, и сообщает, что они имели месячные. Но, скорее всего, Геродот просто неверно истолковал колдовские обряды. Я слышал, нечто подобное можно и по сей день наблюдать в Неаполе, праздники там носят порой совершенно языческий характер, и в ходе их встречается обряд, когда юноша рожает куклу. Заметь, кстати, скифы – предки готов, живших здесь в Крыму до миграции на запад. Не в обиду будь сказано рейхсфюреру, но есть веские основания полагать, что готы тоже не были чужды гомосексуальной любви, пока находящиеся под влиянием иудаизма священники не отвратили их от нее». – «Я ничего подобного не знал. Но все-таки наше мировоззрение, Weltanschauung, осуждает гомосексуализм. В „Гитлерюгенде“ нам читали лекции на эту тему, да и в СС всегда внушали, что это преступление против Volksgemeinschaft, народного сообщества». – «То, о чем ты говоришь, – это, как мне кажется, пример превратного толкования идей национал-социализма или попытки замаскировать какие-то особые интересы. Мне хорошо известны взгляды рейхсфюрера, но ведь он, как и ты, из суровой католической среды и, несмотря на твердую приверженность национал-социалистической идеологии, так и не сумел избавиться от некоторых католических предрассудков и потому смешивает несовместимое. Ты, конечно, понимаешь, что под словом „католическое“ я подразумеваю „еврейское“, „еврейские законы“. Наше Weltanschauung, если в нем разобраться хорошенько, отнюдь не отвергает любовь между мужчинами – наоборот, и я тебе это докажу. Прежде всего, обрати внимание: фюрер лично ни разу не затрагивал этой проблемы». – «Но после тридцатого июня он сурово наказал Рёма и кое-кого еще как извращенцев». – «Для наших добропорядочных трусоватых бюргеров такое основание было в высшей степени убедительным, что прекрасно осознавал фюрер. Но тебе наверняка неизвестно, что до тридцатого июня фюрер неизменно защищал Рёма; в недрах Партии находилось немало таких, кто не одобрял его поступков, но фюрер отказывался их слушать и отвечал кляузникам: партия – не пансион благородных девиц, а организация испытанных бойцов». Партенау рассмеялся. «После тридцатого июня, – продолжил я, – когда выяснилось, что многие сторонники Рёма, например Хейнес, одновременно являются его любовниками, фюрер испугался, что гомосексуалисты, подобно евреям, создадут своего рода государство в государстве, некую секретную коалицию в собственных, а не в народных интересах – какой-нибудь Союз сексуальных меньшинств, наподобие Союза чернокожих. Вот почему возникла необходимость разоблачения Рёма. Но дело тут в политике, а вовсе не в идеологии. С точки зрения истинного национал-социализма братскую любовь должно воспринимать как цементирующую составляющую Volksgemeinschaft, воинственного и созидательного. Платон, по-своему, конечно, выразил сходную мысль. Ты помнишь рассуждения Павсания, когда он порицает другие народы, которые, так же как и евреи, стыдятся влечения мужчины к мужчине: „Ведь у варваров, при их тирании, любовь постыдна в той же мере, в какой постыдна философия и гимнастика… Итак, где принято, что постыдно оказывать ласки любящим, там это произошло от худого качества законодателей, от своекорыстия правителей и от слабости подвластных“. Один мой друг-француз считает Платона первым настоящим писателем-фашистом». – «Да, но все же! Гомосексуалисты женоподобны, ты сам говоришь, они – муже-женщины. Ты что, хочешь, чтобы государство терпело мужчин, не способных стать солдатами?» – «Ты заблуждаешься. Ошибочно сравнивать мужественного солдата и женоподобного извращенца. Последние, конечно, существуют, но они скорее продукт вырождения и разложения, охвативших наши города, влияния евреев, тех, кто находится под воздействием иудаизма или запутался в сетях приходских священников и пасторов. История показывает, что элита, лучшие воины всегда любили мужчин. Они обзаводились женами, поддерживавшими порядок в доме и рожавшими детей, но их чувства безраздельно принадлежали товарищам. Посмотри на Александра! И Фридрих Великий, пусть этого и не желают признавать, был таким же. У греков можно обнаружить даже вот что: в Фивах создали „Священный отряд“ из трехсот мужей, пользовавшихся славой лучших воинов. Отряд состоял из пар любовников; когда один из пары старел и удалялся на покой, его избранник становился любовником воина помоложе. Сражаясь плечом к плечу, они возбуждали друг в друге храбрость и воинский дух, и это делало их непобедимыми; никто из них не осмелился бы повернуться спиной к противнику и бежать с поля боя в присутствии любимого, они вдохновляли друг друга на подвиги. В битве при Херонее весь отряд полег под копьями македонян царя Филиппа – достойный пример нашим ваффен-СС. Похожий феномен мы наблюдаем и в наших фрайкорах; ветераны, те, кто почестнее, признáются. Понимаешь, к этому вопросу надо подходить, опираясь на накопленные знания. Ты же не станешь спорить, что созидатель – только мужчина: женщина дарит жизнь, растит и кормит, но не создает ничего нового. Блюер, философ, в свое время близкий к людям из фрайкоров и даже воевавший в их рядах, показал, что любовь между мужчинами, побуждающая к соперничеству в отваге, благородстве и добродетелях, помогает и на войне, и в становлении государства, по сути являющегося укрупненной моделью армии, мужского социума. То есть можно говорить о высшей форме развития для мужчин высокоинтеллектуальных. Женские объятия оставим массе, стаду, они не для лидеров. Ты помнишь речь Федра: „То же самое замечаем и в возлюбленном: и он особенно стыдится любимого, когда попадается в деле постыдном. Поэтому если бы представился какой способ составить город или войско из влюбленных и возлюбленных, то они как нельзя лучше управляли бы им, воздерживаясь от всего постыдного и уважая друг друга. Сражаясь вместе, они и при своей малочисленности одерживали бы победу, можно сказать, над всеми людьми“. Несомненно, именно этот текст вдохновил фиванцев». – «А этот Блюер, о котором ты рассказывал, с ним что?» – «Я думаю, он еще жив. В „период борьбы“, Kampfzeit, им в Германии зачитывались, и, несмотря на монархические убеждения, его ценили в правых кругах, в том числе и национал-социалистических. После, мне кажется, его начали слишком отождествлять с Рёмом и с 1934-го запретили публиковать. Но рано или поздно его реабилитируют. И вот еще что я хотел бы тебе сказать: даже сегодня национал-социализм идет на чрезмерные уступки церковникам. Все это осознают, фюрер от этого страдает, но, пока идет война, не позволяет себе открыто выступить против них. Обе церкви до сих пор сохраняют огромное влияние на бюргерские умы, и мы вынуждены это терпеть. Но вечно так продолжаться не будет: после победы мы вновь обрушимся на внутреннего врага, разорвем удавку и избавимся от морального гнета. Когда Германия будет свободна от евреев, настанет время очиститься и от их пагубных идей. Подожди, многие вещи еще предстанут в новом свете». Я закончил, Партенау молчал. Дорога змеилась вдоль скал и спускалась к морю; мы в молчании побрели по узкому пустынному пляжу. «Хочешь, искупаемся?» – спросил я. «Море, небось, ледяное». – «Да уж, наверняка холодное, но русские и зимой плавают. И прибалты тоже. Чтобы кровь текла быстрее». Мы разделись, я с разбега бросился в море; Партенау с криками устремился за мной; холодная вода обжигала, мы орали, хохотали, боролись и кувыркались в волнах, потом выскочили на берег. Я расстелил куртку, лег на живот, Партенау – рядом. Тело еще не обсохло и горело, я кожей ощущал капли воды и мягкое солнечное тепло. Я долго противился сладострастному желанию посмотреть на Партенау, потом повернулся к нему, белая кожа блестела от морской соли, а лицо пошло красными пятнами, веки плотно сомкнуты. Когда мы одевались, он взглянул на мой член: «Ты что, обрезанный? – удивился он и залился румянцем. – Извини». – «Да ничего. Подростковая инфекция, такое случается довольно часто». До «Ласточкиного гнезда» оставалось еще два километра, нам пришлось снова лезть на скалы. Наверху за зубчатой башней, на балконе прямо над морем находилось маленькое кафе, совершенно пустое; внутрь самого здания мы не попали, но все компенсировали портвейн и грандиозная панорама побережья, гор и Ялты, спрятавшейся в глубине белой, туманной бухты. Мы выпили несколько стаканов, разговаривали мало. Партенау, бледный, задумчивый, тяжело дышал после подъема. До Ялты мы добрались попутным грузовиком вермахта. Игра тянулась еще пару дней; но наконец все разрешилось желанным для меня образом. По большому счету особых усилий я и не прилагал. Крепкое тело Партенау не таило никаких сюрпризов, когда он трахался, его рот превращался в черную, круглую дыру; его кожа имела приторный, слегка тошнотворный запах, безумно меня возбуждавший. Как я опишу свои ощущения человеку, незнакомому с ними? Вначале, когда входят, порой бывает неприятно, особенно если там сухо. Но когда уже внутри, о, как хорошо, вы не можете даже представить, как хорошо! Спина выгибается, низ живота словно заполняет расплавленный, сверкающий синий свинец, горячая волна медленно поднимается по позвоночнику, достигает головы, топит сознание. Очевидно, такой мощный эффект возникает благодаря контакту вводимого члена с недоразвитым «мужским» клитором, простатой, находящейся в непосредственной близости от прямой кишки. У слабого пола, если мои анатомические познания верны, ее отделяют от клитора детородные органы, и большинство женщин не получают удовольствия от анального секса, а если и занимается им, то просто для разнообразия. У нас все иначе; я часто говорю себе, что простата и война – два божьих дара, полученных мужчиной в утешение за то, что он не рожден женщиной.
Однако я никогда не увлекался мальчиками. В юности, еще совсем ребенком, я любил девочку – однажды я рассказывал об этом Томасу, но кое о чем все-таки умолчал. Наша история началась на корабле, как у Тристана и Изольды. За несколько месяцев до этого моя мать познакомилась в Киле с французом, господином Моро. Отец отсутствовал уже около трех лет. Моро владел небольшим предприятием на юге Франции и приезжал в Германию по делам. Не знаю, что там между ними было, но через некоторое время Моро появился вновь и просил мать переехать к нему. Она согласилась. Она умело построила разговор с нами, расхвалила прекрасный климат, море и сытную еду. Последний аргумент оказался особенно привлекательным: Германия переживала великую инфляцию, и, не очень – в силу возраста – понимая, что это такое, ощущали мы ее сполна. Мы с сестрой ответили: «Здорово, но что же будет, когда вернется папа?» – «Он напишет нам, и мы вернемся тоже». – «Обещаешь?» – «Обещаю».
Моро жил в Антибе, у самого моря, в просторном, немного обветшавшем доме со множеством укромных уголков, настоящем родовом гнезде. Хорошее питание, блюда, щедро сдобренные оливковым маслом, чудесное, теплое апрельское солнышко, в Киле такое увидишь разве что в июле, привели нас в полный восторг. Моро, человек грубый, но отнюдь не тупой, всячески старался завоевать если не нашу любовь, то хотя бы симпатию. Тем же летом он арендовал у знакомого парусник и устроил для нас круиз к островам Леран и дальше к Фрежюсу. Вначале я мучился морской болезнью, но скоро оправился; на ту, о которой, собственно, речь, качка не действовала. Мы сидели на носу корабля и смотрели на пенящуюся воду, потом обернулись друг к другу… мощный рокот волн, горечь нашего детства, один взгляд, – и что-то сотворилось, что-то непоправимое: любовь, сладкая, горькая, до самой смерти. Но пока это был только взгляд.
Так продолжалось недолго. Не сразу, возможно годом позже, мы открыли все прелести любви, и безграничная радость осветила нашу жизнь. А потом, как я уже говорил, нас застукали. Скандал следовал за скандалом, мать обзывала меня свиньей и дегенератом, Моро плакал, счастью наступил конец. Через несколько недель, к началу школьных занятий, нас определили в католические пансионы за сотни километров друг от друга, – с небес сквозь землю в ад, в многолетний кошмар, который в известном смысле длится и поныне. Неудовлетворенные, злые наставники, осведомленные о моих грехах, заставляли меня часами стоять на коленях на ледяной плитке в часовне и мыться разрешали лишь холодной водой. Бедный Партенау! Меня тоже воспитывала церковь, только гораздо жестче. Имея отца-протестанта, католиков я презирал и раньше, а подобное обращение уничтожило слабые ростки моей наивной детской веры, и вместо того, чтобы раскаяться, я научился ненавидеть.
Атмосфера в школе была болезненно-извращенной. По ночам старшие мальчики усаживались на край кровати и совали мне руку между ног, а получив от меня пощечину, со смехом поднимались и уходили, но в душевой, после занятий спортом, подбирались ко мне и быстро терлись членом о мою задницу. Наставники тоже иногда приглашали учеников в кабинет на исповедь и, запугивая или обещая подарки, принуждали к различным непотребствам. Неудивительно, что несчастный Жан Р. решил повеситься. Отвращение переполняло меня, мне казалось, что я весь в грязи. Помощи ждать было неоткуда: отец никогда бы этого не допустил, но я не знал, где его искать.
Я отказывался подчиняться гнусным домогательствам, а посему подвергался изощренным издевательствам как взрослых воспитанников, так и преподобных братьев. Они лупили меня по малейшему поводу, заставляли прислуживать себе: чистить костюмы, полировать обувь. Однажды ночью я внезапно проснулся: по сторонам кровати стояли трое и дрочили прямо над моим лицом; я даже не успел среагировать, мне их мерзостью залепило глаза. Спастись в такой ситуации можно было единственным способом – выбрать себе защитника. В коллеже существовал определенный ритуал: младшего называли опущенный, старший должен был оказывать ему знаки внимания, которые можно было пресечь на месте, в противном случае старший получал право проявить настойчивость. Но я еще не спекся и предпочитал терзаться и мечтать об утраченной любви. Один странный случай все изменил. По соседству спал Пьер С., мой ровесник. Ночью меня разбудил его голос. Не бормотанье, нет, слова звучали громко и четко, но было понятно, что говорит он во сне. Сам я не вполне проснулся, но притом, что не смогу точно воспроизвести услышанное, отчетливо помню пронзивший меня ужас. Прозвучало же примерно следующее: «Нет, еще нет, хватит» или: «Так слишком, пожалуйста, только наполовину». Если разобраться, его просьбы имели двоякий смысл, но глубокой ночью я истолковал их однозначно. Я похолодел, съежился под одеялом и заткнул уши. До сих пор я не перестаю удивляться силе мгновенно охватившего меня страха. Вскоре мне стало ясно, что эта выраженная словами бесстыжесть, о которой обычно молчат, нашла отклик в глубине моей души, и спавшие там ее сестры пробудились и вскинули безобразные головы с горящими глазами. Постепенно я убедил себя, что если не могу быть с ней, то какая, собственно, разница с кем? И вот как-то раз на лестнице меня догнал один парень: «На физкультуре ты во время борьбы оказался надо мной, а шортики-то у тебя широкие, так что я все видел». Он, семнадцатилетний, мускулистый, лохматый, здоровый, любому дал бы острастку. «Хорошо!» – крикнул я и побежал по ступенькам. С тех пор проблем у меня поубавилось. Этот парень, Андре Н., делал мне маленькие подарки и время от времени затаскивал в туалет. Иногда его тело, молодое, потное, припахивало дерьмом, как будто он плохо подтерся. От вечно грязных туалетов разило мочей и дезинфицирующей кислотой, по сей день запах мужчины и спермы ассоциируется для меня с немытыми толчками, облупленной штукатуркой, смрадом фенола и урины. Сперва он меня только щупал или я брал у него в рот. Позже ему захотелось большего. Я знал, как все происходит, мы занимались этим с ней, когда у нее установились месячные, она получала удовольствие, так почему бы и мне теперь не попробовать? Кроме того, думал я, так я стану ближе к ней; мне удастся почувствовать то же, что чувствовала она, трогая, обнимая, облизывая меня, подставляя мне свои узкие бедра. Мне было больно, наверное, я тоже причинял ей боль, я медлил, а потом, совокупляясь, воображал, что совокупляется и испытывает яркий мощный оргазм она, и даже почти забыл, насколько мое удовлетворение жалко и ограниченно в сравнении с ее женским, безбрежным, как океан, наслаждением.
Постепенно все превратилось в привычку. Я смотрел на девушек, представлял, что сосу их молочные грудки, трусь членом о влажную промежность, и говорил себе: зачем, ведь ее нет рядом и никогда не будет. Лучше мне стать ею, а другим – мной. Этих других я не любил, как я вам уже объяснил. Мои рот, руки, член, задница вожделели порой страстно, до потери пульса, их рук, членов, ртов, но и только. Нет, я вовсе не бесчувственный. Я любовался красивым обнаженным телом Партенау, и мной овладевала смутная тревога. Я гладил его грудь, притрагивался к соску, к шраму, и мне мерещилось, что металл снова кромсает его кожу; целовал губы и видел, как его челюсть сносит огненным взрывом гранаты; спускаясь между ног и прижимаясь щекой к великолепным гениталиям, знал: где-то уже заготовлена бомба, чтобы разнести их на куски. Его сильные руки, упругие ляжки не укрыть от опасности, все частички этого столь желанного тела уязвимы. Через месяц, неделю или уже завтра восхитительная плоть в один миг может превратиться в мясо, кровавую обугленную массу, а эти зеленые глаза навеки потухнут. Иногда мне не хватало его до слез. Но когда, окончательно выздоровев, он уехал, я ни капельки не расстроился. Он погиб на следующий год под Курском.
Оставшись в одиночестве, я или читал, или бродил по окрестностям. В саду санатория цвели яблони, распускались и расточали в воздухе тяжелые, перебивающие друг друга ароматы бугенвиллии, глицинии, лилии, альпийского ракитника. Ежедневно я отправлялся на прогулку в Ботанический сад к востоку от Ялты. Его парки располагались амфитеатром на фоне неизменно прекрасной заснеженной Яйлы, позволяя отовсюду любоваться синим простором моря, у горизонта почти серым. В дендрарии указатели вели к фисташковому дереву, росшему здесь более тысячи лет, и насчитывавшему пять веков тису; в розарии Верхнего парка цвели две тысячи сортовых кустов, над только раскрывшимися розами гудели пчелы, как в моем детстве – над лавандой; теплицы Приморского парка с субтропическими растениями были повреждены, хотя и несильно, там в полном умиротворении, повернувшись лицом к морю, я устраивался с книгой. Однажды, возвращаясь через город, я посетил домик Чехова, небольшую, уютную белую дачку, где большевики устроили музей. Судя по табличке, дирекция особенно гордилась стоявшим в гостиной пианино, на котором играли Рахманинов и Шаляпин, а вот меня потрясла смотрительница Маша, восьмидесятилетняя сестра Чехова, неподвижная, немая, сидевшая, сложив руки на коленях, на простом деревянном стуле при входе. Я знал, что ее жизнь, как и моя, сломана несбыточным. Продолжала ли она и сейчас, сидя передо мной, мечтать о том, кто мог бы находиться рядом, о фараоне, о своем дорогом умершем брате и муже?
Как-то вечером, уже в конце моего отпуска, я пошел в ялтинское казино, разместившееся в здании, напоминавшем дворец в стиле рококо, немного обшарпанном, но не потерявшем своей прелести. На широкой лестнице, ведущей в зал, я столкнулся с оберфюрером СС, которого хорошо знал. Я отступил в сторону и, встав навытяжку, отдал честь, он ответил мне рассеянно, но, спустившись на две ступеньки, остановился, резко обернулся и просиял: «Доктор Ауэ! Я вас сразу не узнал». Это был Отто Олендорф, мой начальник в ведомстве в Берлине, теперь возглавлявший айнзатцгруппу «Д». Он проворно поднялся ко мне, пожал руку и поздравил с повышением по службе. «Какая неожиданность! Что вы здесь делаете?» Я вкратце объяснил ему. «О, вы работали с Блобелем! Сочувствую. В голове не укладывается, зачем в СС принимают душевнобольных, да еще и поручают им командование». – «Во всяком случае, – ответил я, – штандартенфюрер Вейнман произвел на меня впечатление человека серьезного». – «Я его почти не знаю. Он служил в штатсполицай, верно?» Он секунду пристально смотрел на меня и затем предложил: «А почему бы вам не остаться со мной? Моему начальнику службы три в группенштабе нужен помощник. Прежний подцепил тиф и уехал в Германию. У меня хорошие отношения с доктором Томасом, он не откажет в вашем переводе». Предложение застало меня врасплох: «Я должен сразу принять решение?» – «Нет… а впрочем, да!» – «Тогда, если бригадефюрер Томас не станет возражать, я согласен». Олендорф улыбнулся и снова пожал мне руку. «Замечательно. Сейчас я тороплюсь, а завтра приезжайте ко мне в Симферополь, поговорим о деталях и все уладим. Вы не заблудитесь, найдете нас рядом с АОК, если что, спросите. Приятного вечера!» Он сбежал вниз, помахал мне и исчез. Я прошел в бар, заказал коньяку. Олендорфа я ценил очень высоко, беседы с ним всегда доставляли мне живейшее удовольствие; перспектива попасть в его ведомство стала нечаянной удачей. Это был человек незаурядного острого ума, без сомнения, один из умнейших среди национал-социалистов и один из самых бескомпромиссных; это его свойство создало ему немало врагов, но на меня он оказал большое влияние. В первый раз я увидел Олендорфа в Киле, на конференции, и его доклад совершенно меня поразил. Он говорил пространно, выразительно, четко выделяя самое важное сильным, хорошо поставленным голосом, лишь изредка бросая взгляд на листок с заметками; начал с разгромной критики итальянского фашизма, виновного, по его мнению, в обожествлении государства и не учитывающего интересов людей; национал-социализму, по его мнению, наоборот, следовало опираться именно на Volksgemeinschaft. Хуже всего, – подчеркивал Олендорф, – что Муссолини систематически ликвидирует административные и политические институты, сдерживающие власть имущих. Это прямо ведет к тоталитарному варианту этатизма, при котором ни власть, ни злоупотребление властными полномочиями не знают ограничений. Основной принцип национал-социализма – ценить жизнь каждого индивидуума и Volk в целом. При фашизме личность нивелируется, люди для государства становятся объектами, а само государство – единственной доминирующей реальностью. И в нашей партии есть те, кто пытается внедрить фашизм в национал-социализм. Взяв власть, национал-социализм в некоторых областях отклонился от намеченного пути и использовал устаревшие методы, чтобы преодолеть временные трудности. Чуждые нашему движению тенденции особенно отчетливо проявились в пищевой и тяжелой промышленности, где национал-социализм использовался лишь как прикрытие, и дефицитные средства государственного бюджета употреблялись на бесконтрольное расширение производства. Чрезмерные амбиции, тщеславие, отличающие отдельные блоки Партии, тоже крайне осложняли ситуацию. Другая смертельная для национал-социализма опасность заключалась в том, что Олендорф назвал большевистским уклоном, в первую очередь в коллективистских настроениях Германского трудового фронта, ДАФ. Лей непрестанно поносит средний класс, стремясь уничтожить малое и среднее предпринимательство, подлинную социальную базу немецкой экономики. Но не надо забывать, подчеркивал Олендорф, что мерилом всех изменений в сфере политической экономики должен быть человек; экономика, и тут уместно обратиться к марксистскому анализу, является определяющим фактором человеческой судьбы. Мы признаем, продолжал он, что экономический порядок национал-социализма еще не установился. Но политика национал-социализма во всех сферах, экономических, социальных и конституционных, обязана ориентироваться на главный свой объект – человека и Volk. Коллективистские тенденции в экономической и социальной политике, равно как и абсолютистские – в конституционной, мешают двигаться в нужном направлении. Мы, студенты, будущее национал-социализма, завтрашняя элита Партии, должны оставаться верными ее генеральной линии и руководствоваться ее идеями во всех поступках и решениях.
Никогда я не слышал такой едкой критики положения дел в современной Германии. Олендорф – кстати, он был немногим старше меня – пришел к подобным выводам после долгих размышлений и глубокого, скрупулезного анализа ситуации. Впрочем, как я узнал позднее, в 1934 году, во время обучения в университете в Киле, из-за язвительных выпадов по поводу продажности национал-социализма, его арестовывали и допрашивали в гестапо; скорее всего, именно это испытание побудило Олендорфа вступить в службу безопасности. Он вкладывал высокий смысл в то, чем занимался, и считал свою работу необходимой для претворения идей национал-социализма в жизнь. После конференции он предложил мне сотрудничество, но я имел несчастье сделать глупое замечание о задачах осведомителя: «Ну, короче, доносчик». Олендорф сухо заметил: «Нет, господин Ауэ, речь идет не о доносительстве. Мы не просим вас стучать, нам наплевать, рассказывает ли ваша домработница антипартийные анекдоты. Нас интересует сам анекдот, ведь это показатель настроений народа. Отделы гестапо достаточно компетентны, чтобы обнаружить врагов государства, это не входит в обязанности службы безопасности, органа в большей степени информирующего». Потом, в Берлине, я постепенно вернул себе его расположение, во многом благодаря посредничеству профессора Хёна, распрощавшегося с СД, но охотно общавшегося с Олендорфом. Иногда мы вместе пили кофе, Олендорф даже приглашал меня к себе, чтобы поговорить об опасности последних ошибок Партии и поделиться своими мыслями о возможности их преодоления и исправления. В тот период Олендорф еще не полностью посвятил себя СД, он занимался научными исследованиями в университете Киля и позже приобрел огромный авторитет в рейхсгруппе «Хандель», в отделе по делам торговли. Когда я наконец завербовался в СД, Олендорф, как и доктор Бест, стал мне покровительствовать. Обостряющийся конфликт с Гейдрихом и сложные отношения с рейхсфюрером ослабили его позиции, но не помешали занять в формировавшейся РСХА пост амтсшефа III, начальника управы имперской службы безопасности. В Претче все судачили о причинах перевода Олендорфа в Россию; говорили, что он неоднократно отказывался, пока Гейдрих, заручившись поддержкой рейхсфюрера, не заставил его принять назначение, чтобы ткнуть носом в грязь.
На следующее утро я на армейском автобусе добрался до Симферополя. Олендорф принял меня с обычной вежливостью, без лишней сердечности, но приветливо и обходительно. «Я вчера забыл вас спросить, как поживает фрау Олендорф?» – «Кете? Прекрасно, спасибо. Мне ее, конечно, очень не хватает, но Krieg ist Krieg». Ординарец подал нам великолепный кофе, и Олендорф принялся вводить меня в курс дела. «Увидите, работа вам понравится. Вы больше не будете организовывать карательные операции, оставим это спецкомандам; в любом случае можно считать, что Крым уже judenrein, и с цыганами тоже почти покончено». – «С цыганами? – перебил я его удивленно. – На Украине мы не применяли последовательных мер в отношении них». – «Я уверен, – ответил он, – что цыгане не менее, если не более, опасны, чем евреи. На всех войнах цыгане шпионили или служили связными. Вспомните рассказы Рикарды Хух или пьесы Шиллера о Тридцатилетней войне». Он помолчал. «На первых порах вы займетесь изучением проблемы. Весной мы планируем наступление на Кавказ – я сообщаю вам секретные сведения и рекомендую держать их при себе, – а поскольку регион нам малоизвестен, я хотел бы составить справочное пособие для группенштаба и спецкоманд, где особое внимание уделялось бы этническим меньшинствам, их отношениям друг с другом и советской властью. В целом мы намерены применить те же методы, что и при оккупации Украины, сформировать новый рейхскомиссариат; и, вне всякого сомнения, свое слово должны сказать СП и СД, а чем более аргументированно они выступят, тем вероятнее, что их услышат. Ваш непосредственный начальник штурмбанфюрер доктор Зейберт является еще и начальником штаба подразделения. Пойдемте, я вас познакомлю и с ним, и с гауптштурмфюрером Ульрихом, который позаботится о вашем переезде».
Близко Зейберта я не знал; в Берлине в СД он возглавлял департамент Д (экономика). Серьезный, искренний, сердечный человек, превосходный экономист, получивший образование в университете Геттингена, здесь он, как, впрочем, и Олендорф, явно чувствовал себя не на месте. Преждевременное облысение у него еще усилилось после отъезда из Германии; но, несмотря на высокий с залысинами лоб, на озабоченное выражение лица, на старый шрам, рассекавший подбородок, в нем сохранилось что-то юношеское, мечтательное. Он встретил меня дружелюбно, представил другим коллегам, а затем, когда Олендорф нас оставил, проводил в кабинет Ульриха, показавшегося мне придирчивым, мелочным бюрократом. «Оберфюрер несколько легкомысленно относится к процедуре оформления, – желчно заметил он. – Вообще-то сначала требуется послать запрос в Берлин, затем дождаться решения. Нельзя же вот так брать людей с улицы». – «Оберфюрер нашел меня не на улице, а в казино», – возразил я. Он снял очки и, прищурившись, взглянул на меня: «Позвольте, гауптштурмфюрер, вы шутите?» – «Вовсе нет. Если вы и вправду думаете, что наша затея трудноосуществима, я доложу об этом оберфюреру и вернусь в свое подразделение». – «Нет, нет, нет, – он почесал кончик носа. – Просто дело сложное, поймите. Столько возни с бумагами! Но, так или иначе, оберфюрер уже отправил курьера к бригадефюреру Томасу. Когда мы получим от него ответ, и если этот ответ окажется положительным, я перешлю документы в Берлин. На все это понадобится время. Возвращайтесь пока в Ялту и зайдите ко мне в конце отпуска, не раньше».
Доктор Томас дал согласие быстро. Пока Берлин не утвердил мой перевод, я был «временно откомандирован» из зондеркоманды 4-а в айнзатцгруппу «Д». Мне даже не пришлось возвращаться в Харьков, не завершенные мной дела Штрельке переслал почтой. В Симферополе мне предоставили квартиру на улице Чехова в сотне метров от группенштаба в красивой городской усадьбе начала века, из которой выселили прежних обитателей. Я с удовольствием погрузился в изучение Кавказа, начал со специальной литературы, исторических очерков, рассказов путешественников, антропологических сочинений, написанных, к сожалению, главным образом до революции. Здесь, конечно, неуместно пускаться в подробности: пусть тот, кого интересует этот волшебный край, отправляется в библиотеку или, если пожелает, в архивы Федеративной Республики, где, при определенном везении и упорстве, имеет шанс найти мои отчеты с пометкой М.А., завизированные Олендорфом или Зейбертом. Мы имели смутное представление насчет обстановки на советском Кавказе. Западных путешественников пускали сюда только до двадцатых годов; с тех пор сведения, предоставляемые нашим Auswärtiges Amt, Министерством иностранных дел, стали, мягко говоря, скудными. Информацию мне пришлось буквально собирать по крохам. В моем распоряжении находилось несколько номеров немецкого научного журнала «Caucasica», содержавших в основном статьи по лингвистике, очень специальные, однако даже из них я узнал немало полезного, и VII управление заказало в Берлине полный комплект. В советское время тоже было написано множество научных трудов по кавказской тематике, но они никогда не издавались по-немецки, да и далеко не все удалось достать; мне удалось найти переводчика, не совсем идиота, и я поручил ему прочитать имевшиеся в наличии книги и подготовить для меня обзор, выделив самое главное. Говоря языком разведки, мы владели достаточной информацией о нефтяной промышленности, инфраструктуре, коммуникациях и экономике, но сведения об этнических или политических отношениях в наших досье отсутствовали. Некий штурмбанфюрер Куррек из VI управления присоединился к группе для осуществления проекта Шелленберга «зондеркоманда Цеппелин»: в шталагах и офлагах Куррек вербовал активистов-антисоветчиков, как правило, представителей малых народностей, для дальнейшего шпионажа и провокаций в тылу у русских. Но программа только набирала обороты и результатов пока не приносила. Олендорф поручил мне вести консультации с абвером. Отношения оберфюрера с АОК, в начале кампании очень натянутые, заметно наладились после того, как командование там принял фон Манштейн, заменивший генерала фон Шоберта, погибшего в сентябре в авиакатастрофе. Но вот найти общий язык с начальником штаба оберстом Вёлером оберфюреру не удавалось: тот упорно считал спецкоманды не более чем отрядами тайной военной полиции и отказывался обращаться к Олендорфу по званию, а это было серьезным оскорблением. Зато деловые связи с контрразведкой в лице майора Эйслера и – главным образом – майора Ризена упрочились, особенно теперь, когда айнзатцгруппа принимала активное участие в борьбе с партизанами. Итак, я встретился с Эйслером, а тот уже переадресовал меня к специалисту, лейтенанту доктору Фоссу. Фосс, приятный человек примерно моего возраста, был по сути дела не офицером, а ученым, прикомандированным к абверу на время кампании. Он закончил, как и я, Берлинский университет, и был не антропологом или этнологом, а лингвистом, и эта профессия, вскоре я в этом убедился, позволяет, выйдя из узких рамок фонетики, морфологии или синтаксиса, сформировать собственное оригинальное Weltanschauung. Я нашел Фосса в маленьком кабинете, где он читал, положив ноги на стол, заваленный грудами книг и бумагами. Когда я постучал в распахнутую дверь кабинетика, Фосс, даже не поздоровавшись, хотя перед старшим по званию должен был встать, сразу предложил: «Хотите чаю? У меня есть настоящий чай». Не дожидаясь ответа, он позвал: «Ганс! Ганс!», а затем, проворчав: «Да куда же он запропастился?», отложил книгу, поднялся, прошел мимо меня и пропал в коридоре. Через мгновение со словами: «Порядок. Вода греется» он появился вновь и бросил мне: «Что вы там остановились как вкопанный? Входите». Фосс с его узким, тонким лицом, живыми глазами, светлыми волосами, выбритыми по бокам и взлохмаченными на макушке, напоминал подростка, только что окончившего коллеж. Но форму, явно сшитую у хорошего портного, он носил элегантно и непринужденно. «Да, здравствуйте! Какими судьбами?» Я рассказал ему о целях своего визита. «Значит, СД заинтересовалась Кавказом. С чего бы? Мы намереваемся захватить его?» Увидев мою озадаченную физиономию, он рассмеялся. «Ну, не надо притворяться! Поверьте, я в курсе и, собственно, поэтому здесь. Я занимаюсь индогерманскими и индоиранскими, а также и кавказскими языками. Иными словами, то, что меня интересует, находится именно на Кавказе; а тут я попросту теряю время. Я изучил татарский, но это не совсем моя тема. К счастью, в библиотеке я обнаружил прекрасные научные издания. По мере продвижения наших войск у меня составляется целая коллекция интереснейших трудов, которую я собираюсь потом отослать в Берлин». Он рассмеялся. «Если бы мы не воевали со Сталиным, то заказали бы все у него. Обошлось бы дорого, но наверняка дешевле, чем война». Ординарец принес кипяток, Фосс вытащил из ящика чай. «К сожалению, не могу предложить вам молока. Сахару?» – «Нет, спасибо». Он приготовил две чашки, подал одну мне, плюхнулся на прежнее место и, задрав ногу, прижал колено к груди. Стопка книг наполовину закрывала его лицо, и я передвинул стул. «Итак, что же вам рассказать?» – «Все». – «Все! У вас много свободного времени». Я улыбнулся: «Да. Хватает». – «Замечательно. Тогда начнем с языков, я же лингвист. Вам, конечно, известно, что с Х века арабы называли Кавказ „Гора языков“. И это действительно так. Уникальный феномен. Единого мнения о точном количестве этих языков не существует, до сих пор ведутся споры по поводу диалектов, особенно дагестанских, но их порядка пятисот. Если говорить о группах или семьях, начнем с индоиранских языков: это армянский, совершенно удивительный, осетинский, особенно интересующий меня, и татский. Не считая, естественно, русского. Далее – тюркские, распространенные по горному хребту: карачаевский, балкарский, ногайский и кумыкский на севере, азербайджанский и месхетинский диалект на юге. Ближе всего к турецкому азербайджанский, но он сохранил древние персидские заимствования, которых в современном, очищенном Камалем Ататюрком языке нет. Эти народы – остатки турецко-монгольских орд, захвативших регион в ХIII веке, или потомки последующих переселенцев. Так, Крымом долгое время правили ханы из Ногайской орды. Вы видели их дворец в Бахчисарае?» – «К сожалению, нет. Фронтовая зона». – «А, ну да. Я ведь получал специальное разрешение. И жилища первобытного человека там очень впечатляют». Он сделал глоток. «На чем мы остановились? Ах, да. Но самая любопытная – кавказская, или иберокавказская, семья. Я вас сразу предупреждаю: картвельский, или грузинский, не имеет никакого отношения к баскскому. Эта идея, выдвинутая Гумбольдтом, упокой Господи его великую душу, муссируется и поныне, хотя в корне неверна. Термин иберо– соотносится только с южной кавказской группой. Впрочем, уверенности в родстве кавказских языков нет. Таково предположение – базовый постулат советских лингвистов, – но на самом деле их общее происхождение недоказуемо. В лучшем случае можно выделить подгруппы, внутри которых наблюдается генетическое единство. Касательно южно-кавказской группы, то есть картвельского, сванского, мегрельского и лазского языков, подобные выводы вполне обоснованны. То же мы можем сказать и о западной группе кавказских языков, исключив, – тут он с присвистом отхлебнул чай, – немного сбивающие с толку абхазские диалекты; что же до абазинского, адыгейского, кабардино-черкесского, убыхского, почти уже исчезнувшего, – крошечная группка его носителей осталась в Анатолии, – по сути дела речь идет об одном языке с ярко выраженными диалектными вариантами. Такая же ситуация с нахским, среди множества вариантов имеющим два главных – чеченский и ингушский. В Дагестане, наоборот, все чрезвычайно запутано. Тут выделяют аварский, андийские языки, дидойский, или цезский, лакский и лезгинский, при этом одни ученые усматривают в них родство с нахскими языками, другие – нет; и мнения о взаимосвязях внутри подгрупп весьма противоречивы. Например, под вопросом родство кубачинского и даргинского, или происхождение хиналугского, который, как и арчинский, кое-кто считает языком вне группы». Я мало что понимал, но слушал завороженно. И чай был очень вкусный. Наконец я спросил: «Извините, вы знаете все эти языки?» Он захохотал: «Вы шутите! Тут жизни не хватит. И без практики в регионе это нереально. Нет, у меня удовлетворительное теоретическое знание картвельского, и я частично изучил другие языки, в основном западно-кавказской группы». – «Так все же – сколько языков вы знаете?» Он опять засмеялся. «Говорить на языке и уметь читать и писать далеко не одно и то же, а разбираться в фонологии и морфологии – третье. Возвращаясь к западно-кавказским, или адыгским языкам, тут я проработал систему согласных (но гораздо меньше гласных звуков) и имею общее представление о грамматическом строе. При этом поддерживать беседу я не способен. Однако если принять во внимание, что повседневный язык ограничивается пятьюстами словами и элементарными конструкциями, то мне не составит труда заговорить на любом языке в течение десяти-пятнадцати дней. Хотя у каждого языка свои особенности, которые следует хорошенько изучить, если хочешь владеть им свободно. Если хотите, язык как научный объект и язык как средство коммуникации – две разные вещи. Четырехлетний абхазский мальчик произносит немыслимо сложные звуки, которые я никогда не воспроизведу правильно, но зато я могу сделать разбор слова и описание, например, простых альвео-палатальных или лабиализованных фонем, что, впрочем, останется совершенно непонятным для мальчика – носителя языка, не умеющего его анализировать». Он на мгновение задумался. «Я вот однажды изучил систему согласных одного из койсанских языков, но лишь для того, чтобы сравнить ее с убыхской. Убыхский – удивительный язык одного из адыгейских, или черкесских, как принято называть их у нас в Европе, племен, в тысяча восемьсот шестьдесят четвертом полностью изгнанного русскими за пределы Кавказа. Выжившие обосновались в Оттоманской империи, но под влиянием турецкого и черкесских диалектов почти утратили свой язык. Его первое краткое описание принадлежит немцу, Адольфу Дирру. Это был великий человек, родоначальник изучения кавказских языков: ежегодно за время отпуска он выучивал по одному языку. К несчастью, во время Мировой войны Дирр застрял в Тифлисе, откуда все-таки вырвался, но лишился большей части рукописей, в том числе и заметок об убыхском языке, составленных в Турции в тысяча девятьсот тринадцатом году. Сохранившиеся материалы он опубликовал в двадцать седьмом, я нахожу их просто поразительными. По его стопам пошел француз Дюмезиль, и в тысяча девятьсот тридцать первом году появляется составленное им полное описание кавказских языков. Кстати, в убыхском количество согласных колеблется между восемьюдесятью и восемьюдесятью тремя, смотря как считать. Многие годы полагали, что это мировой рекорд. Но потом оказалось, что в некоторых чадских языках, например в марги, их еще больше. Однако окончательно вопрос не решен».
Я отставил чашку: «Все это на редкость интересно, лейтенант. Но я вынужден задать вам более практические вопросы». – «О, конечно, извините! Вам ведь важно понять национальную политику большевиков. Тем не менее мой экскурс отнюдь не бесполезен, потому что политика строилась именно на языковом факторе. При царизме было намного проще: завоеванное коренное население могло жить практически по-прежнему, если не бунтовало и платило налоги. Знать имела возможность получить русское воспитание, и многие ее представители полностью обрусели – кстати, среди русских дворян немало ведущих свое происхождение с Кавказа, и количество их сильно возросло после женитьбы Ивана IV на кабардинской княжне Марии Темрюковне. В конце прошлого века русские ученые, в их числе я назвал бы Всеволода Миллера, который был еще и превосходным лингвистом, начали изучать эти народы, прежде всего с этнологической точки зрения, и создали выдающиеся работы. Большинство можно найти в Германии, а часть даже переведена на немецкий; но есть еще неизвестные или выходившие малым тиражом монографии, которые я надеюсь отыскать в библиотеках автономных республик. После революции и гражданской войны советская власть, вдохновляемая трудами Ленина, постепенно выработала совершенно новую национальную политику: Сталин, в то время народный комиссар по делам национальностей, сыграл здесь первостепенную роль. Эта политика удивительным образом сочетала, с одной стороны, объективный научный опыт таких великих знатоков Кавказа, как Яковлев и Трубецкой; с другой – интернациональную коммунистическую идеологию, изначально отрицающую этнический фактор, и, наконец, взаимоотношения и настроения народов в конкретных регионах. Установка большевиков кратко формулируется так: народ, или, как они выражаются, национальность, объединяется языком и территорией. Придерживаясь этого принципа, они пытались создать для евреев, говорящих на своем языке – идише, но не имеющих собственной территории, Биробиджанскую автономную область на Дальнем Востоке, но, похоже, этот эксперимент не слишком удался, и евреи переселяться туда не захотели. Дальше, по демографическому признаку большевики выстроили сложную иерархическую лестницу административных автономий, определив для каждого уровня свод прав и ограничений. Наиболее многочисленные национальности, армяне, грузины, так называемые азербайджанцы, украинцы и белорусы, получили для своих территорий статус ССР, Советских Социалистических Республик. В Грузии даже обучение в университетах и публикация весьма значимых научных работ возможны на картвельском языке. Так же обстоит дело и с армянским. Замечу, что это два древнейших литературных языка с богатой традицией и что письменность у армян и грузин появилась гораздо раньше, чем у русских, и даже еще до славянской азбуки Кирилла и Мефодия. Месроп, если вы позволите мне небольшое отступление, который в начале пятого столетия создал армянский и грузинский алфавиты – притом, что это два совершенно разных языка, – был, по-видимому, гениальным лингвистом. Его грузинский алфавит полностью фонематический. Чего никак не скажешь о кавказских алфавитах, изобретенных советскими лингвистами. Предполагают, что Месроп придумал алфавит кавказских албанов, но следов и доказательств, увы, не осталось. Возвращаясь непосредственно к нашей теме, мы увидим следующий уровень – автономные республики, такие, как Кабардино-Балкария, Чечено-Ингушетия и Дагестан. Поволжские немцы тоже получили было этот статус, но вы наверняка в курсе, что затем все они были депортированы, а автономия ликвидирована. Далее идут автономные области. Ключевой момент – наличие литературного языка. Чтобы получить собственную республику, народ обязательно должен был иметь литературный язык, иными словами, письменность. В эпоху революции ни один кавказский язык, кроме картвельского, как я вам уже объяснял, не соответствовал подобному требованию. В XIX веке предпринимались попытки создания письменности для этих языков, правда, исключительно для научного пользования, помимо того существуют аварские надписи, выполненные арабскими буквами и датируемые десятым или одиннадцатым веком, и все. И советские лингвисты справились с удивительной, грандиозной задачей: взяв за основу вначале латинские буквы, а затем кириллицу, они создали алфавиты для одиннадцати кавказских и множества тюркских языков, в том числе сибирских. С научной точки зрения эти алфавиты заслуживают серьезной критики. Кириллица плохо сочетается с упомянутыми языками: немного видоизмененные латинские буквы, которые пытались ввести в двадцатые годы, или даже арабские подошли бы больше. Любопытное исключение представляет абхазский, для него выбрали модифицированный грузинский алфавит, однако по причинам далеким от лингвистики. Обязательный переход к кириллице сопровождался совершенно гротескными перегибами, употреблением диакритических знаков, диграфов, триграфов и даже тетраграфов, чтобы обозначить, например, глухой придыхательный лабиализованный увулярный плозив в кабардинском». Он схватил листочек бумаги, что-то нацарапал на обороте, протянул мне, показал надпись КХЪУ: «Вот это – одна буква. Это не менее смешно, чем наш способ передачи русского Щ, – он взялся за перо – schtsch, французский, впрочем, еще хуже – chtch. К тому же новые орфографии весьма сомнительны. Абхазские аспираты и эйективы переданы очень приблизительно. Месроп пришел бы в ужас. Советские ученые основывались на том, что каждый язык должен иметь собственный алфавит, и это самое ужасное. Так возникли абсурдные языковые ситуации, например, буква Щ у кабардинцев соответствует звуку ш, а у адыгов – ч, хотя это по сути один язык; по-адыгейски ш передается сочетанием ЩЪ, по-кабардински ч – буквой Ш. Подобная участь постигла и тюркские языки, почти в каждом из них свой вариант отображения мягкого г. Разумеется, сделано это было умышленно: во главу угла ставилась не лингвистика, а политика, очевидно преследовавшая цель как можно сильнее разобщить соседние народы. Вот вам и ключ к пониманию ситуации: соседей вынуждали прекратить взаимодействия по сетевому принципу, «по горизонтали», заменяя его другим: параллельным сосуществованием и вертикалью власти, играющей роль высшего судьи в конфликтах, которые сама и провоцирует. Однако, завершая разговор об алфавитах, добавлю, что, несмотря на все мои замечания, это грандиозное достижение, важнейший шаг на пути просвещения. В течение пятнадцати, а то и десяти лет народы, до тех пор вообще не имевшие письменности, получили газеты, книги и журналы. Дети учились читать сперва на родном языке, а потом уже на русском. Это потрясающе!»
Фосс продолжал, а я поспешно записывал самое главное. Но гораздо сильнее, чем его познания, меня пленило его отношение к этим познаниям. Интеллектуалы, с которыми я общался до сих пор вроде Олендорфа или Хена, всегда стремились узнать что-то новое, а в беседе пытались или изложить свои идеи, или – в ходе ее – развить их. С Фоссом все было иначе: знание жило в нем, было для него неким живым существом, дарило ему чувственное наслаждение, словно любовница; Фосс погружался в него и всегда обнаруживал нечто новое, уже присутствовавшее, но еще не освоенное, – таково чистое удовольствие ребенка, который учится открывать и закрывать двери, наполнять ведерко песком, а потом высыпать его. Это удовольствие, эта радость передавались слушателю, речи Фосса с их причудливыми поворотами и неожиданными хитросплетениями даже заставляли его порой заливаться счастливым смехом отца, наблюдающего, как его ребенок в десятый раз с радостным хохотом распахивает и снова захлопывает дверь. Я неоднократно навещал Фосса, и он принимал меня с неизменной любезностью и энтузиазмом. Вскоре нас связала та стремительно зарождающаяся искренняя дружба, которая возникает на войне или в других экстремальных ситуациях. Мы часто бродили по шумным, залитым солнцем улицам Симферополя в разномастной толпе немецких солдат, румын и венгров, усталых добровольных помощников, смуглых татар в тюрбанах и розовощеких украинских крестьян. Фосс знал все чайханы города и непринужденно болтал на разных диалектах с веселыми хозяевами, угодливо извиняющимися за плохое качество подаваемого нам зеленого чая. Однажды Фосс вытащил меня в Бахчисарай полюбоваться прелестным маленьким дворцом крымских ханов, построенным в XVI веке русскими и украинскими пленниками под руководством итальянских, персидских и оттоманских архитекторов. Потом мы намеревались посмотреть Чуфут-Кале, иудейскую крепость, пещерный город в известковых скалах, основанный в VI веке и в разное время населявшийся разными народами, последним, давшим месту персидское имя, были караимы, еврейская раскольничья секта, на представителей которой, объяснил я Фоссу, принятые в 1937-м Министерством внутренних дел Германии расовые законы не распространялись. Точно так же здесь, в Крыму, к караимам не применялись специальные меры СП. «Скорее всего, караимы Германии предъявили царские грамоты, включая указ Екатерины Великой, удостоверяющие, что по происхождению они не являются иудеями, а иудаизм приняли довольно поздно. Министерские эксперты подтвердили подлинность документов». – «Да, мне рассказывали об этом, – с легкой улыбкой сказал Фосс. – Вот ведь хитрецы!» Я собрался выяснить, что ему известно о них, но он уже сменил тему. День выдался на славу. Жара еще не наступила; с высоты каменистых утесов вдалеке мы видели море, темно-серое пространство под бледным, чистым небом. С юго-запада доносились приглушенные, отражавшиеся от гор монотонные звуки канонады: батареи обстреливали Севастополь. Грязные, оборванные татарчата играли среди развалин или пасли коз; многие с любопытством наблюдали за нами, но сразу убегали, когда Фосс заговаривал на их наречии.
По воскресеньям, если меня не загружали работой, я брал «опель», и мы отправлялись в Евпаторию на пляж, причем зачастую я вел машину сам. Весна была в разгаре, с каждым днем становилось все жарче, ехать приходилось осторожно: голые мальчишки, загорелые и тощие, валялись прямо на плавящемся асфальте и неугомонными стайками, будто воробьи, выпархивали из-под колес приближающихся машин. В Евпатории можно было полюбоваться красивейшей мечетью, самой большой в Крыму, созданной известным оттоманским архитектором Синаном в XVI веке, довольно любопытными развалинами, да еще грязевым стоячим озером; но раздобыть портвейна или даже просто чая не удавалось. Поэтому в городе мы задерживались и ездили на пляжи, где иногда пересекались с солдатами, отдыхавшими после боев под Севастополем. Они резвились как дети, голышом, в воде мелькали их белые тела, с загорелыми лицами, шеями и руками, потом они, мокрые, валялись на песке, впитывая благословенное тепло, изгоняющее зимнюю стужу. Но нередко берег пустовал. Вид заброшенных советских пляжей с рваной парусиной разноцветных зонтиков, лавками, заляпанными птичьим пометом, железными облупленными кабинками, из которых торчали головы и ноги переодевавшихся детей, доставлял мне странное удовольствие. Нашим излюбленным местом стал пляж в южной части города. Очутившись там впервые, мы увидели с полдюжины коров, которые бродили вокруг застрявшего в песке выкрашенного в яркие цвета рыбацкого судна и невозмутимо щипали свежую траву, густым покровом одевшую дюны, не обращая никакого внимания на белокурого мальчугана, лавировавшего между ними на разваливающемся велосипеде. С другой стороны узкого залива доносилась грустная русская песня, по-видимому, из синей халупы на шатком пирсе, где качались на волнах привязанные обтрепанным канатом три убогие лодки. Все в этом заброшенном уголке дышало спокойствием. Мы запаслись свежим хлебом и красными прошлогодними яблоками, чтобы закусывать водку; море было холодное, бодрящее. Справа от нас стояли два старых, запертых на висячий замок бювета и почти развалившаяся спасательная вышка. За несколько проведенных здесь часов мы перекинулись лишь парой слов. Фосс читал; я не спеша попивал водку и время от времени залезал в море; одна из коров вдруг, неизвестно почему, пустилась по берегу галопом. Возвращаясь через рыбацкую деревеньку к машине, припаркованной выше, я заметил стадо гусей, один за другим они подныривали под калитку, а последний, зажав в клюве зеленое яблочко, изо всех сил старался догнать собратьев.
С Олендорфом я тоже виделся часто. По работе я в основном сталкивался с Зейбертом; но ближе к вечеру, если Олендорф не был сильно занят, я заходил к нему в кабинет на чашку кофе. Оберфюрер пил кофе безостановочно, только им он и питается, утверждали злые языки. Казалось, что он одновременно занимался множеством дел, не всегда, впрочем, имеющих отношение к спецгруппе. Повседневную работу выполнял Зейберт; он контролировал офицеров группенштаба, регулярно проводил собрания с командующим штабом или контрразведкой 11-й армии. По вопросам официальным с Олендорфом приходилось общаться через его адъютанта, оберштурмфюрера Хайнца Шуберта, потомка великого композитора, человека чрезвычайно добросовестного, хотя и несколько ограниченного. А наши личные встречи с Олендорфом отчасти напоминали общение профессора со студентом вне университета, я никогда не заговаривал о работе, и обсуждали мы проблемы теоретические или идеологические. Однажды я завел с ним разговор о евреях. «Евреи! – воскликнул он. – Будь они прокляты! Они гораздо хуже гегельянцев!» Он улыбнулся – редкий случай – и продолжил своим ясным, музыкальным, чуть-чуть резким голосом: «Позволю себе заметить, еще Шопенгауэр совершенно справедливо распознал в марксизме извращенное евреями учение Гегеля. Так ведь?» – «Я хотел бы спросить, что вы думаете о наших операциях», – рискнул я. «Вы имеете в виду уничтожение еврейского населения, я правильно понял?» – «Да. Должен признаться, это заставляет меня задуматься». – «Задуматься это заставляет всех, – возразил он категорически. – И меня в том числе». – «И все же, каково ваше мнение?» – «Мнение?» Он выпрямился, прижал сложенные вместе ладони к губам; взгляд, обычно пронизывающий, словно заволокло туманом. Я никак не мог привыкнуть к Олендорфу в военной форме, для меня он по-прежнему оставался гражданским лицом и виделся мне только в строгих, отличного кроя костюмах. «Это ошибка, – произнес он наконец, – но ошибка необходимая». Он наклонился вперед и облокотился о стол. «Сейчас я вам объясню. Пейте кофе. Подобные действия ошибочны хотя бы потому, что являются результатом нашей неспособности найти более рациональное решение. Но они необходимы, потому что в нынешней ситуации евреи представляют для нас огромную, неотвратимую опасность. И если фюрер приказал прибегнуть к крайним мерам, то лишь потому, что его вынудили к этому нерешительность и некомпетентность людей, уполномоченных заниматься этой проблемой». – «Что вы подразумеваете под нашей неспособностью найти рациональное решение?» – «Я вам отвечу. Вы, конечно, помните, как после взятия власти все безответственные и истеричные партийцы вдруг завопили, требуя радикальных мер, и сколько было предпринято противозаконных или вредоносных действий, вроде безумных затей Штрейхера. Фюрер очень мудро притормозил неконтролируемые акции и выбрал легальный путь, приведший в тысяча девятьсот тридцать пятом к принятию расовых законов, в целом вполне удовлетворительных. Но даже это не помогло достичь согласия по еврейскому вопросу между мелочными бюрократами, готовыми утопить любое начинание в потоке документации, и психопатами, поддерживающими разовые операции из каких-то личных интересов. Отсутствие координации и привело к погромам тридцать восьмого года, нанесшим Германии непоправимый ущерб, – вполне логичное развитие событий! И только когда СД серьезно озаботилась проблемой, появилась альтернатива всякого рода самодеятельным начинаниям. В результате долгого изучения и всестороннего обсуждения вопроса мы смогли сформировать и внедрить единую политику: ускоренное переселение. И сегодня я уверен, что такое решение могло удовлетворить всех, и воплотить его в жизнь не составляло труда даже после аншлюса. Структуры, созданные и для этих целей, и собственно для освоения средств, незаконно собранных евреями на финансирование эмиграции их неимущих единоверцев, функционировали очень эффективно. Вы, возможно, помните маленького подхалима, наполовину австрийца, подчиненного Кнохена, а затем Берендса?» – «Вы о штурмбанфюрере Эйхмане? Разумеется, мы встречались в прошлом году в Киеве». – «Да, именно. Так вот он в Вене прекрасно все организовал. Процесс пошел отлично». – «Да, но не забывайте о Польше. И ни одна страна не выразила готовности принять три миллиона евреев». – «Точно. – Олендорф выпрямился, покачал ногой. – И тем не менее даже сейчас не исчерпаны способы поэтапного преодоления трудностей. Бесспорно, идея с повсеместным переселением в гетто имела катастрофические последствия; но, мне кажется, поведение Франка во многом этому благоприятствовало. Промах состоял еще и в стремлении сделать все и сразу: репатриировать этнических немцев, одновременно решив и еврейский, и польский вопрос. Поэтому и возник хаос». – «Да, но, с другой стороны, требовалось незамедлительно вернуть фольксдойчей на родину: никто ведь не знал, сколько еще времени Сталин готов с нами сотрудничать. Он мог закрыть границы в любой момент. Впрочем, поволжских немцев так и не удалось спасти». – «Мы бы добились этого, я полагаю, но они сами не захотели ехать. И жестоко ошиблись, доверившись Сталину. Они чувствовали себя защищенными своим автономным статусом, верно? Но, однако же, вы правы: надо было начинать с фольксдойчей. Речь шла только о присоединенных территориях, без генерал-губернаторства. Если бы все захотели действовать сообща, то нашли бы средство перевезти евреев и поляков из Вартегау и Данцига в Западной Пруссии в генерал-губернаторство и освободить место репатриантам. Но тогда мы бы посягнули на существующие ныне рубежи нашего национал-социалистического государства – наглядное доказательство того, что организация национал-социалистической администрации не отвечает политическим и социальным запросам нашего общества. В Партии полно коррупционеров, отстаивающих собственные интересы. Поэтому любой спор, любые разногласия неминуемо приводят к ожесточенному конфликту. В случае с репатриацией гауляйтеры присоединенных областей вели себя просто вызывающе, а генерал-губернаторство реагировало в том же духе. Каждый обвинял другого в желании превратить его округ в настоящий отстойник. А СС, курировавшая весь процесс, не обладала достаточной властью, чтобы в приказном порядке урегулировать ситуацию. На каждом этапе кто-нибудь обязательно выступал с несуразным предложением или оспаривал указания рейхсфюрера, используя личные отношения с фюрером. И поныне наше государство остается абсолютным, национал-социалистическим Führerstaat только в теории; на практике – и положение лишь ухудшается – это форма плюралистической анархии. Фюрер, разумеется, решает все, но он не вездесущ, а наши гауляйтеры научились прекрасно интерпретировать его приказы, переиначивать их и действовать по собственному усмотрению, заявляя при этом во всеуслышание, что следуют его воле».
Мы немного отклонились от еврейской темы. «Ах да, избранный народ. Несмотря на все препятствия, следовало бы отыскать приемлемые решения. Например, после нашей победы над Францией СД при содействии Министерства иностранных дел серьезно рассматривала вариант Мадагаскара. А до тех пор планировалось собрать евреев вокруг Люблина в огромной резервации, где они жили бы спокойно, не угрожая Германии; но генерал-губернаторство было категорически против, и Франк, воспользовавшись своими связями, запорол проект. Выбор Мадагаскара был совершенно обоснован. Этот вопрос изучался, как раз там и хватило бы места всем евреям, находящимся в зоне нашего влияния. Подготовка шла полным ходом, и служащих государственной полиции перед командировкой на Мадагаскар даже успели привить от малярии. В основном этой программой занималось Четвертое управление, гестапо, но СД поставляла идеи и сведения, я читал их рапорты». – «Почему же все сорвалось?» – «Да просто потому, что британцы совершенно необдуманно отказались признать наше подавляющее превосходство и подписать с нами мирный договор! А от этого зависело слишком многое. Во-первых, Франция должна была уступить нам Мадагаскар, такой пункт должен был фигурировать в договоре, во-вторых, Англия предоставила бы нам флот, понимаете?»
Олендорф прервался, чтобы попросить у ординарца еще один кофейник. «И касательно России первоначальные замыслы были менее масштабными. Все думали, что кампания завершится быстро, и рассчитывали сделать как в Польше, то есть обезглавить лидеров, интеллигенцию, большевистскую верхушку и прочих, представляющих опасность. Сама по себе задача отвратительная, но жизненная и логичная, принимая во внимание и неумеренность аппетитов большевизма, и его неразборчивость в средствах. После победы мы бы еще раз взвесили аргументы и приняли окончательное универсальное решение, определив еврейскую резервацию, например, на Севере или в Сибири или отправив их в Биробиджан, почему нет?» – «Задача не из приятных, как ни крути, – сказал я. – Осмелюсь спросить, почему вы согласились? При ваших заслугах и способностях вы нужнее в Берлине». – «Бесспорно, – живо подхватил он. – Я – не военный и не полицейский, и работа сбира мне не подходит. Но таков прямой приказ, и я обязан подчиниться. И потом, я же вам объясняю, мы думали, что война продлится пару месяцев, не дольше». Меня удивила его искренность; так откровенно мы никогда еще не беседовали. «А приказ фюрера об уничтожении, Vernichtungsbefehl?» – не отступал я. Олендорф помолчал. Ординарец принес кофе; Олендорф предложил мне еще чашку. «Спасибо, мне достаточно». Он погрузился в задумчивость. Потом ответил, медленно и тщательно подбирая слова. «Vernichtungsbefehl ужасен. Парадоксально, но он почти повторяет повеление Бога в Ветхом Завете, не правда ли? Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него; и предай заклятию все, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Вы знаете это место – из Первой книги Самуила. Получив приказ, я сразу его вспомнил. Я вам уже говорил, я полагаю, что мы совершили ошибку, что следовало проявить сообразительность и благоразумие и найти решение более… гуманное, скажем так, согласующееся с совестью немцев и национал-социалистов. В этом отношении мы потерпели полный провал. Но ведь надо еще считаться с реальностью военного времени. Война продолжается, и изо дня в день враждебная сила у нас в тылу укрепляет противника и ослабляет нас. Война идет тотальная, задействованы все силы Германии, и, чтобы победить, мы должны использовать любые средства, любые. И вот именно это ясно понял фюрер: он разрубил гордиев узел сомнений, подозрений и разногласий. Он пошел на это – а он поступает так и в остальном, – чтобы спасти Германию, осознавая, что, если тысячам немцев уготована гибель, можно и нужно посылать на смерть евреев и других наших врагов. Евреи молятся и радеют о нашем поражении, и пока мы не одержали верх, мы не имеем права греть на груди змею. Для нас, тех, кто сегодня обременен столь трудной задачей, долг перед народом, наш долг настоящих национал-социалистов – повиноваться. Даже если покорность – нож, перерезающий глотку воле человека, как говорил святой Иосиф Купертинский. Мы не смеем ослушаться, ведь и Авраам принял немыслимое решение: принести своего сына Исаака в жертву Богу. Вы читали Кьеркегора? Он называл Авраама „рыцарем веры“, который готов был пожертвовать не только сыном, но и всеми своими нравственными нормами. То же происходит и с нами, вы согласны? Мы должны свершить Авраамово жертвоприношение».
Олендорф, я почувствовал это, предпочел бы не вступать в свою должность, но кому в наше время выпадает счастье делать то, что нравится? Он все понимал, согласился, осознавая, на что идет, и показал себя требовательным и ответственным командующим. В отличие от моей прежней айнзатцгруппы, где быстро отказались от малопрактичного метода, он настоял, чтобы расстрелы проводились специально выделенными военными взводами, и часто посылал офицеров, в основном Зейберта и Шуберта, проверять, следует ли команда его директивам. Он старался пресекать даже мелкие кражи и нарушения, которые позволяли себе солдаты, занимавшиеся расстрелами, и, наконец, строжайше запретил бить осужденных или издеваться над ними; Шуберт говорил, что указания оберфюрера соблюдаются четко, насколько возможно. Помимо того, Олендорф постоянно находился в поиске каких-то умеренных и благоразумных решений. Прошлой осенью при поддержке вермахта для сбора урожая под Николаевым он организовал бригаду еврейских ремесленников и фермеров; этот эксперимент пришлось прекратить по непосредственному распоряжению рейхсфюрера, но я знал, что Олендорф об этом сожалел и в узком кругу называл приказ ошибкой. В Крыму он приложил массу усилий, чтобы наладить контакт с татарами, и весьма в этом преуспел. В январе, когда неожиданное наступление советских войск и взятие Керчи подорвали наши позиции в Крыму, татары по собственной инициативе выделили в распоряжение Олендорфа десятую часть мужского населения для обороны нашей линии фронта. Кроме того, они активно помогали СП и СД в борьбе с партизанами, передавая нам тех, кого им удавалось захватить, или убивая их на месте. Армия ценила сотрудничество татар, так что усердие Олендорфа помогло наладить отношения с АОК, весьма непростые после конфликта с Вёлером. Однако Олендорф все равно чувствовал себя не на месте, и я ничуть не удивился, что после смерти Гейдриха он сразу принялся хлопотать о возвращении в Германию. Гейдрих был ранен в Праге 29 мая и умер 4 июня; на следующий день Олендорф вылетел в Берлин на его похороны; вернулся он уже во второй половине месяца в чине бригадефюрера СС, заручившись обещанием, что в ближайшее время ему найдут замену, и сразу начал серию прощальных поездок. Однажды вечером он вкратце рассказал мне, что происходило в Берлине; через четыре дня после смерти Гейдриха рейхсфюрер вызвал на совещание Олендорфа и других начальников управлений, Мюллера, Штрекенбаха и Шелленберга, чтобы обсудить будущее РСХА и поразмыслить, в состоянии ли РСХА, лишившись Гейдриха, оставаться независимой организацией. Рейхсфюрер счел, что не следует торопиться с выбором преемника Гейдриха; временно исполнять его обязанности он намеревался сам, оставаясь при этом как бы в стороне; подобное решение подразумевало присутствие всех начальников управлений в Берлине, а контроль над ними возлагался на Гиммлера. Олендорф испытывал явное облегчение; и даже обычная его сдержанность не могла полностью скрыть приподнятого настроения. Но мало кто это замечал среди общего волнения и суеты: мы собирались развернуть большую летнюю кампанию на Кавказском направлении. Операция «Блау» началась 28 июня с наступления на Воронеж под командованием фон Бока; два дня спустя в Симферополь на смену Олендорфу прибыл оберфюрер доктор Вальтер Биркамп. Олендорф уезжал не один: Биркамп привез собственного адъютанта, штурмбанфюрера Тилеке, предусматривалось, кроме того, что в течение лета сменится бóльшая часть группенштаба и офицеров, возглавляющих команды. В начале июля Олендорф, воодушевленный падением Севастополя, произнес перед нами пламенную прощальную речь, со свойственным ему благородством подчеркнув величие и сложность нашей смертельной битвы с большевизмом. Биркамп, который до прибытия в Крым провел несколько лет в Бельгии и Франции, а до того служил в своем родном Гамбурге, где он возглавлял крипо, и в Дюссельдорфе, тоже обратился к нам с краткой речью. Он выразил радость по поводу своего нового назначения: «Для мужчины работа на востоке, к тому же в условиях войны, ни с чем не сравнимый стимул», – заявил он. Биркамп имел юридическое адвокатское образование, но и во время выступления, и на последовавшем за ним приеме от него за версту разило полицейским. Ему было около сорока, приземистый, коротконогий, с хитроватым выражением лица, он не тянул на интеллектуала, несмотря на степень доктора, а его речь зачастую представляла собой смесь гамбургского диалекта с жаргоном СП. Но при всем при этом он производил впечатление человека дельного и решительного. После этого вечера я видел Олендорфа лишь однажды, на банкете, устроенном АОК в честь взятия Севастополя, сначала он общался с армейскими офицерами, затем долго обсуждал что-то с фон Манштейном, но все-таки, улучив момент, пожелал мне удачи и пригласил к себе, как только я окажусь в Берлине.
Фосс тоже уехал, его внезапно перевели в АОК к генерал-оберсту фон Клейсту, чьи танки уже пересекли границу Украины и прорывались к городку Миллерово, и я временами чувствовал себя одиноко. Биркамп полностью погрузился в реорганизацию команд, некоторые предстояло расформировать, чтобы затем образовать в Крыму постоянные структуры СП и СД. Что до Зейберта, то и он готовился покинуть свой пост. Летом во внутренних областях Крыма установилась удушающая жара, и я старался проводить как можно больше времени на пляжах. Я съездил в Севастополь, где уже работала одна из наших команд: длинный причал Южной бухты загромождали еще дымящиеся обломки портовых сооружений, мимо сновали люди в штатском, изможденные, перепуганные, шла эвакуация. Под ногами у солдат, выпрашивая хлеб, вертелись худющие, грязные мальчишки; румыны отвешивали им подзатыльники или давали пинка сапогом под зад. Я спустился в подземные казематы порта, где Красная Армия разместила цеха по производству оружия и боеприпасов, большинство было демонтировано или сожжено огнеметами. Во время решающего сражения в этих казематах и в расщелинах скал комиссары подрывали себя вместе с собственными солдатами и горожанами, искавшими там укрытия, – и вместе с приблизившимися слишком сильно немцами. Тем не менее все советские офицеры и чиновники высшего ранга успели еще до падения города покинуть его на субмаринах, в наши руки попали только простые солдаты и разного рода мелкие сошки. Обломки разрушенных укреплений усеяли каменистые возвышенности, окружавшие город и огромную Северную бухту; поворотные бронебашни с орудиями калибром 30,5 сантиметров были уничтожены нашими 80-сантиметровыми снарядами сверхтяжелого железнодорожного орудия «Дора»; длинные покореженные стволы русских пушек смотрели теперь в бок или целились в небо. В Симферополе АОК 11 паковал вещи; фон Манштейн, назначенный генерал-фельдмаршалом, выдвигался со своим военным штабом на Ленинград. О Сталинграде тогда еще, конечно, никто не говорил: он был целью второго порядка.
В начале августа айнзатцгруппа тронулась в путь. Наши войска, реорганизованные в две группы армий – «А» и «Б», – только что после жестоких боев вторично захватили Ростов; танки пересекли Дон и продвигались по Кубанской степи. Биркамп прикрепил меня к форкоманде группенштаба, которую отправил через Мелитополь и Ростов догонять 1-ю танковую дивизию. Наш небольшой отряд быстро миновал перешеек и огромный Татарский котлован, приспособленный большевиками под противотанковый ров, за Перекопом повернул и двинулся по Ногайской степи. Жара стояла невообразимая, пот с меня лил градом, пыль серой маской липла к лицу; но в предрассветные часы, перед самым восходом на медленно голубеющем небе возникала чудесная игра нежнейших красок, и я чувствовал себя счастливым. Наш проводник, татарин, делал частые остановки и молился, а я использовал такие моменты, чтобы выбраться из машины с отчаянно бранящимися офицерами, размять ноги и покурить. Степь по обеим сторонам дороги была покрыта сетью пересохших речек, ручьев и балок, крутых глубоких оврагов. Вокруг, сколько хватал глаз, не попадалось ни деревца, ни пригорка; лишь столбы англо-иранской телеграфной линии, построенной в начале века Сименсом, нарушали монотонность пейзажа. Вода в колодцах была соленая, кофе получался с солоноватым привкусом, суп пересоленным. Многие офицеры, объевшиеся дынь, страдали теперь диареей, что создавало дополнительные задержки. От Мариуполя на Таганрог и дальше на Ростов вела ужасная прибрежная дорога. Гауптштурмфюрер Реммер, офицер СП, возглавлявший форкоманду, два раза разрешал привал на широких пляжах, покрытых галькой и пожелтевшей травой, чтобы люди могли окунуться в воду; сидя на раскаленных камнях, мы высыхали за несколько минут; потом одевались и снова отправлялись в путь. В Ростове нас принял штурмбанфюрер доктор Кристман, сменивший Зетцена на посту руководителя зондеркоманды 10-а. Он только что завершил массовый расстрел евреев в так называемом Змеином овраге на другой стороне Дона и уже направил форкоманду в павший накануне Краснодар. Там в распоряжении V армейского корпуса оказалась целая куча советской документации. Я просил Кристмана распорядиться, чтобы бумаги скорее проанализировали и представили мне сведения о функционерах и членах партии, тогда я смог бы внести дополнения в секретное досье, переданное мне Зейбертом в Симферополе для его будущего преемника. В нем на бумаге «бибельдрук» мелкими буквами были напечатаны имена, адреса и часто даже номера телефонов убежденных коммунистов, беспартийной интеллигенции, ученых, профессоров, писателей и известных журналистов, директоров и служащих государственных предприятий, председателей колхозов и совхозов всего Кубанско-Кавказского региона, там содержались даже списки их родственников и друзей, описания внешности и некоторое количество фотографий. Кристман информировал нас о перемещении подразделений: зондеркоманда 11 под командованием доктора Брауне, близкого приятеля Олендорфа, вместе с 13-й танковой дивизией вошла в Майкоп. Перштерер со своей зондеркомандой 10-б ждал в Тамани, а 12-я айнзатцкоманда уже расположилась в Ворошиловске. Там же до взятия Грозного намеревался обосноваться и группенштаб. Сам Кристман согласно ранее намеченному плану готовился перевести гаупткоманду в Краснодар. Посмотреть Ростов мне не удалось: Реммер спешил и приказал трогаться в путь сразу после обеда. За широким Доном, через который наши инженеры соорудили отличный понтонный мост, на многие километры простирались поля с созревшей кукурузой, постепенно терявшиеся в просторах пустынной Кубанской степи. Дальше на восток тянулся Маныч, который многие географы считают условной границей между Европой и Азией, – длинная неровная полоса озер, лиманов и речек, прерываемая водохранилищами с колоссальными плотинами. О наступлении головных колонн 1-й танковой дивизии, грузовиков и артиллерии под прикрытием танков можно было безошибочно судить и за пятьдесят километров по столбам пыли на фоне синего неба, за которыми лениво плыл черный дым сожженных деревень. Нам изредка попадались колонны грузовиков со снабжением или отряды подкрепления, следовавшие в их арьергарде. В Ростове Кристман знакомил нас с копией депеши фон Клейста, позже ставшей знаменитой: «Передо мной нет врагов, за мной нет резерва». Эта бескрайняя степь кого угодно могла лишить душевного равновесия. Продвигались мы с трудом: танки превратили дороги в море мелкого песка, наши машины постоянно застревали, и стоило выйти наружу, ты увязал в песке по колено. Наконец, под Тихорецком, появились поля подсолнухов – ряды желтых головок, повернутых к солнцу, предвестников воды. А потом мы попали в казачий рай на Кубани. Теперь дорога бежала вдоль полей кукурузы, пшеницы, ячменя, гречихи, табака, вдоль бахчей, лугов, поросших чертополохом высотой с лошадь с розовыми и фиолетовыми цветами, а над всем этим – бескрайнее небо, бледное, тихое и безоблачное. Станицы здесь были богатые, в каждом хозяйстве росли сливы, абрикосы, яблони, груши, виноград, помидоры, дыни, имелись птичники и свинарники. Когда мы делали привал, нас встречали гостеприимно, несли хлеб, яичницу, жареные свиные ребра, зеленый лук и ледяную колодезную воду. Дальше наш путь лежал на Краснодар, где мы застали форкомандофюрера Лотара Хаймбаха. Реммер отдал приказ о трехдневном отдыхе, чтобы просмотреть и обсудить конфискованные документы, которые срочно переводили к его приезду по распоряжению Кристмана. Чтобы участвовать в этом, из Майкопа прибыл доктор Брауне. Затем наша форкоманда взяла курс на Ворошиловск.
Город, расположенный на возвышенности, в окружении полей и садов, мы увидели издалека. По обочинам дороги громоздились перевернутые машины, тяжелые орудия, подорванные танки; вдали, на железнодорожных путях, еще горели сотни товарных вагонов, веселые языки пламени плясали в воздухе. В прежние времена этот город назывался Ставрополь, в переводе с греческого «город креста» или, может быть, «город-перекресток»; он был основан на пересечении старых дорог, ведущих на север, а в XIX веке, в период усмирения горцев, служил плацдармом для русских войск. Теперь, превратившись в провинциальный городок, мирный, сонный, он развивался не слишком бурными темпами, а потому не был обезображен, как множество ему подобных, отвратительными советскими пригородами. От вокзала поднимался платановый парк, по обе стороны которого тянулись бульвары; ниже я заметил прекрасное, в стиле модерн, здание аптеки, из дверной рамы и круглых окон взрывом выбило стекла. В город уже прибыл штаб айнзатцкоманды-12, так что нас временно разместили в гостинице «Кавказ». Штурмбанфюрер доктор Мюллер, шеф айнзатцкоманды, отвечал за подготовку встречи группенштаба, но, по сути, еще ничего сделано не было; из-за того, что ожидалось прибытие Генерального штаба группы армий «А», царила неразбериха, и оберст Гартунг из фельдкомендатуры не торопился нас расквартировать: айнзатцкоманда уже заняла кабинеты в Доме Красной Армии, напротив НКВД, но группенштаб планировали подселить к ОКХГ, командованию группы армий. Между тем форкоманда не бездействовала. В газовую камеру грузовика «заурер» отправили более шестисот пациентов психиатрической больницы, потенциальных возмутителей спокойствия. Их решили было расстреливать, но произошел несчастный случай: один больной принялся бегать кругами, а гауптшарфюрер, долго выбиравший подходящий момент, ухитрился выстрелить в него в ту самую минуту, когда на линии прицела оказался унтер-офицер, и пуля, попав в голову сумасшедшего и пройдя навылет, ранила офицера в руку. В газовую камеру были отправлены и наиболее заметные и активные местные евреи, предварительно вызванные в бывшее бюро НКВД. За городом, возле скрытого от глаз хранилища авиационного топлива, форкоманда расстреляла многочисленных советских пленных; тела потом сбросили в подземные склады.
12-я айнзатцкоманда не собиралась задерживаться в Ворошиловске: за ней закрепили зону, которую русские называют КМВ, Кавказские Минеральные Воды, – целое созвездие небольших курортных городков, рассеянных между потухшими вулканами и прославившихся целебными источниками и грязевыми ваннами, так что сразу после занятия региона ей предстояло выдвинуться в Пятигорск. Доктор Биркамп и группенштаб приехали неделей позже нас; в итоге вермахт все же выделил нам комнаты для проживания и кабинеты в отдельном крыле внушительного комплекса зданий, предоставленного командованию группы армий; в переходе из одного крыла здания в другое воздвигли стену, но столовая осталась общей, и восхождение альпийских стрелков на Эльбрус, самую высокую точку Кавказа, мы праздновали вместе с вермахтом. Доктор Мюллер и его команда покинули Ворошиловск, передав под руководство Вернера Клебера тайлькоманду для завершения чисток в городе. Биркамп ждал бригадефюрера Геррета Корсемана, нового главу СС и полиции в регионе Кубань – Кавказ. Преемника Зейберту до сих пор не прислали, и его обязанности пока исполнял гауптштурмфюрер Прилль. Именно он откомандировал меня в Майкоп.
Дымка, постоянно окутывающая летом Кавказские горы, не давала возможности любоваться ими издали, увидеть их во всей красе можно было, лишь оказавшись у подножия. Я обогнул их крутые отроги у Армавира и Лабинской; за пределами казачьих земель крыши домов украшали зеленые с белыми полумесяцами османские флаги, так мусульмане приветствовали наше появление. Майкоп, один из крупнейших нефтяных центров Кавказа, вплотную обступали горы и защищала глубокая река Белая, на которую с высоты меловых скал глядел Старый город. Ведущее в город шоссе шло вдоль железнодорожных путей, блокированных тысячами вагонов с добром, которое не успели вывезти большевики. Перейдя чудом уцелевший мост, мы оказались в городе, расчерченном на квадраты длинными, прямыми, совершенно одинаковыми улицами, проложенными по обе стороны Парка культуры с разрушающимися гипсовыми бюстами героев труда. Брауне, которому шишковатый лоб, нависающий над круглым лицом, придавал некоторое сходство с лошадью, принял меня предупредительно. Я почувствовал, что, хотя он и готовился оставить свой пост в ближайшие недели, ему приятно видеть одного из последних в группе «людей Олендорфа». Его весьма беспокоила ситуация с нефтяными вышками Нефтегорска: незадолго до взятия этого города абвер, стремясь захватить скважины неповрежденными, внедрил на его территорию специальное подразделение «Шамиль», состоявшее из кавказских горцев и действовавшее под видом батальона НКВД; операция провалилась, и русские взорвали вышки, можно сказать, у нас перед носом. Однако наши инженеры немедля взялись за их восстановление, и в Нефтегорск уже начали слетаться стервятники из «Континентальной нефти». Все чиновники, участвовавшие в четырехлетнем плане Геринга, пользовались поддержкой Арно Шикеданца, рейхскомиссара региона Кубань – Кавказ. «Вам наверняка известно, что своим назначением Шикеданц обязан министру Розенбергу, вместе с которым он учился в лицее в Риге. Затем они поссорились. Поговаривают, что примирил школьных товарищей герр Кернер, статс-секретарь рейхсмаршала Геринга, и Шикеданц вошел в совет администрации „Континентальной нефти“, акционерного общества, созданного по инициативе рейхсмаршала для эксплуатации нефтяных месторождений Кавказа и Баку». Брауне считал, что установление гражданского управления на Кавказе чревато возникновением ситуации еще более хаотической и бесконтрольной, чем на Украине, где гауляйтер Кох творил что хотел, отказываясь сотрудничать не только с вермахтом и СС, но даже со своим собственным министерством. «Единственный положительный момент для СС – это то, что генералкомиссарами Владикавказа и Азербайджана Шикеданц утвердил офицеров СС: хотя бы в этих районах сложностей не будет».
Три дня я работал с Брауне, помогая приводить в порядок документы, оформлять отчеты о передаче дел и время от времени выпивая стакан паршивого местного вина в кабачке, принадлежавшем старому горцу с лицом, изрезанным морщинами. Именно тогда – не скажу, что случайно, – я познакомился с бельгийским офицером, командиром легиона «Валлония», Люсьеном Липпером. Вообще-то мне хотелось встретиться с Леоном Дегреллем, лидером движения «Рекс», воевавшим где-то поблизости; в Париже Бразийак с восторгом рассказывал мне о нем. Но гауптман абвера, к которому я обратился, рассмеялся мне в лицо: «Дегрелль? Увидеть его мечтают все. Он самый знаменитый унтер-офицер нашей армии – это точно. Но он на фронте, а уж там-то припекает! На прошлой неделе, во время внезапной атаки, едва не погиб генерал Рупп. Бельгийцы потеряли много народу». Вместо Дегрелля гауптман познакомил меня с Липпером, молодым офицером, худощавым и улыбчивым, мятая, залатанная форма фельдграу была ему великовата. Сидя под яблоней в упомянутой мной забегаловке, мы обсуждали бельгийскую политику. Липпер, профессиональный военный, артиллерист, вступил в Валлонский легион вермахта, руководствуясь антикоммунистическими убеждениями, но остался настоящим патриотом и сетовал, что – вопреки прежним обещаниям – легионеров вынудили надеть немецкий мундир. «Люди были просто вне себя, Дегреллю едва удалось навести порядок». Вступая в Легион, Дегрелль думал, что политический авторитет обеспечит ему офицерские погоны, но вермахт отказал наотрез: опыта нет. Липпер посмеивался по этому поводу. «Как бы то ни было, на фронт он отправился – простым пулеметчиком. Впрочем, выбора-то у него практически не было, в Бельгии его дела шли не слишком гладко». Повышение он получил в первой же, столь неудачной для батальона операции у Громовой Балки – за проявленную отвагу. «Досадно, что он мнит себя политическим лидером, понимаете? Решил вот самостоятельно вести переговоры о судьбе Легиона, но так ведь не делается. В конце концов, он всего лишь унтер-офицер». Теперь Дегрелль грезил о включении Легиона в ваффен-СС. «Прошлой осенью он встречался с вашим генералом Штейнером, и голова у него кругом пошла. Что до меня, я категорически против. Если он добьется своего, я попрошу отставки». Лицо его стало серьезным: «Не обижайтесь, я не имею ничего против СС. Но я – военный, а в Бельгии военные не занимаются политикой. Это не наша задача. Да, я роялист, я патриот, я антикоммунист, но я не национал-социалист. Когда я записывался в Легион, меня уверяли, что такой шаг ничуть не противоречит клятве верности королю, которую я принес и которой я связан, что бы там ни говорили. Остальное, все эти политические игры с фламандцами, не мое дело. Ваффен-СС – не регулярная армия, а партийное формирование. Дегрелль уверяет, что право голоса и место в новом европейском обществе получат только те, кто сражается на стороне Германии. Я согласен. Но преувеличивать не стоит». Я улыбнулся: несмотря на всю его горячность, Липпер, честный, прямой, мне нравился. Я добавил ему вина и незаметно сменил тему: «Вы, наверное, первые бельгийцы, воюющие на Кавказе». – «Заблуждаетесь!» – расхохотался Липпер и пустился в повествование о невероятных приключениях дона Хуана Галена, героя бельгийской революции 1830 года, дворянина, наполовину фламандца, наполовину испанца, бывшего наполеоновского офицера, за вольнодумство заключенного в тюрьму инквизиции в Мадриде при Фердинанде VII. Ему удалось бежать, и, бог весть как, он оказался в Тифлисе, где генерал Ермолов, возглавлявший русскую армию на Кавказе, сделал его комендантом. «Он сражался с чеченцами, вообразите себе», – смеялся Липпер. Я тоже рассмеялся, он был мне очень симпатичен. Вскоре он уехал; АОК 17 готовил нападение на Туапсе, стремясь взять под контроль начало нефтепровода, и Легион, в составе 97-й егерской дивизии, участвовал в этом. Прощаясь, я пожелал ему удачи. Липпер, как и его соотечественник Хуан Гален, покинул Кавказ живым и невредимым, удача отвернулась от него вдали отсюда: в конце войны я узнал, что его убили в феврале 1944-го, в боях под Черкассами. Легион «Валлония» был развернут в штурмовую бригаду СС в июне 1943 года, но Липпер счел невозможным бросить солдат и в течение восьми месяцев дожидался своего преемника. Дегрелль, напротив, хладнокровно переступил через всех и вся; во время последнего разгромного сражения он оставил своих людей у Любека на произвол судьбы, а сам улетел в Испанию на личном самолете министра Шпеера. Хотя его заочно и приговорили к смерти, он каким-то образом вывернулся из серьезных неприятностей. Бедный Липпер на его месте сгорел бы со стыда.
Я вернулся в Ворошиловск, в то время как наши войска сражались за Моздок, важный военный центр русских. Линия фронта шла теперь вдоль рек Терек и Баксан, 3-я пехотная дивизия готовилась, перейдя Терек, двинуться на Грозный. Наша деятельность активизировалась: в Краснодаре зондеркоманда 10-а ликвидировала триста пациентов районных психиатрических больниц – взрослой и детской; доктор Мюллер планировал в районе КМВ масштабную акцию и уже учредил в каждом городе Еврейские советы; евреи Кисловодска во главе с неким дантистом так спешили, что, еще не получив соответствующего распоряжения, притащили нам ковры, украшения, теплую одежду. В Ворошиловск, как раз в канун моего возвращения, прибыл со своим штабом глава СС и полиции региона Кубань – Кавказ Корсеман и пригласил нас послушать его приветственную речь. О Корсемане, ветеране фрайкоров и СА, большую часть времени служившем в главном ведомстве орпо и довольно поздно, перед самой войной, вступившем в СС, мне рассказывали еще на Украине. Болтали, что Гейдрих не одобрял кандидатуры Корсемана и считал его смутьяном из СА, но Корсемана поддержали Далюге и фон дер Бах-Зелевски, а рейхсфюрер провел его по всем уровням должностной лестницы, прежде чем сделать ХССПФ, главой СС и полиции. На Украине он уже практически выполнял эти функции «по специальному назначению», но при этом оставался в тени Прютцмана, в ноябре 1941-го сменившего Йекельна на посту главы СС и полиции региона Россия – Юг. Таким образом, кампания на Кавказе давала Корсеману возможность, которой до сих пор ему не предоставлялось, – полностью проявить свои дарования. Что, видимо, и подогревало тот плещущий через край энтузиазм, с которым он обратился к нам. СС, – чеканил он, – должна не только проводить карательные операции и осуществлять меры по обеспечению безопасности, но и решать созидательные задачи, и айнзатцгруппа может и обязана усиленно ей помогать: в разъяснительной работе среди коренного населения, в борьбе с инфекционными заболеваниями, в восстановлении санаториев для раненых бойцов ваффен-СС, в экономической сфере. В первую очередь это, конечно, добыча нефти, но нельзя забывать и о других полезных ископаемых, а этому до сих пор не уделялось должного внимания, – вот эти предприятия СС и могла бы взять под контроль. Он особо выделил тему отношений с вермахтом: «Вы все, конечно, осведомлены о проблемах, в начале кампании крайне осложнявших работу айнзатцгрупп. Отныне, во избежание каких-либо трений, контакты СС с ОКХГ и АОК регулируются моим ведомством. Ни один офицер СС, находящийся под моим командованием, не имеет права выходить за рамки повседневного рабочего общения и вести прямые переговоры по важным вопросам с вермахтом. Самовольство я буду пресекать беспощадно, предупреждаю сразу». Эта необычная суровость, проистекающая, скорее всего, из неуверенности новичка, еще не освоившегося в должности, не помешала присутствующим оценить красноречие и обаяние Корсемана, и в целом его речь произвела положительное впечатление. Позже, на вечеринке младших офицеров, Реммер предложил объяснение излишнему бюрократизму Корсемана: тот переживал, что почти не имеет реальной власти. Действительно, соблюдая принцип двойной субординации, айнзатцгруппа отчитывалась непосредственно перед РСХА, что позволяло Биркампу отменять нецелесообразные, с его точки зрения, распоряжения Корсемана, то же самое касалось экономистов СС из административно-экономической службы и, разумеется, ваффен-СС, подчинявшихся вермахту. Большинство ХССПФ, чтобы обрести вес и усилить собственные позиции, использовали свои батальоны орпо, но Корсеман еще не заимел такой опоры и фактически играл роль ХССПФ «без определенных полномочий»: он мог отдавать приказы, но Биркамп, если не хотел, не обязан был их исполнять.
Доктор Мюллер разворачивал в регионе КМВ операцию, и Прилль попросил меня поехать туда с инспекцией. Мне казалось это несколько странным: я не возражал против проверок, но Прилль, по-моему, делал все, чтобы спровадить меня из Ворошиловска. Мы со дня на день ждали доктора Лееча, заступавшего на должность Зейберта, и, вероятно, Прилль, состоявший со мной в одном звании, тревожился, что я обойду его, сыграю на знакомстве с Олендорфом, стану плести интриги, и в результате меня назначат заместителем Лееча. Настоящий идиотизм, если, конечно, он действительно так считал: у меня никогда не было амбиций такого рода, так что бояться Приллю было нечего. А может, все это мне примерещилось? Ответить на этот вопрос я затруднялся, ведь иерархические хитросплетения в СС по-прежнему оставались для меня тайной за семью печатями; интуиция и советы Томаса были бы здесь для меня бесценны. Но Томас был далеко, а друзей я в нашей группе не завел. По правде говоря, я с трудом находил общий язык с людьми такого типа. Их вытащили из самых разных ведомств РСХА, и большинство из них были карьеристами, рассматривавшими работу в айнзатцгруппе как отличный трамплин, не более того; почти все они относились к карательным операциям как к обычной работе и не задавались вопросами, мучившими солдат и офицеров в первый год. На их фоне я выглядел занудным интеллектуалом и держался особняком. Это меня не огорчало: я никогда не нуждался в дружбе людей ограниченных и неотесанных. Тем не менее ухо приходилось держать востро.
До Пятигорска я добрался ранним утром. Сентябрь только-только наступил, и в серо-голубом небе еще висело летнее пыльное марево. У самых Минеральных Вод шоссе из Ворошиловска пересекает железнодорожное полотно, затем поворачивает и идет вдоль него, а потом начинает петлять между пятью высокими вулканическими куполами, давшими имя Пятигорску. Въезжают в город с севера, огибая гору Машук; дорога сделала подъем, и внезапно прямо под ногами я увидел город, а ниже – усеченные конусы других вулканов. Айнзатцкоманда разместилась в восточной части города у подножия Машука в одном из санаториев начала века; АОК фон Клейста реквизировал огромный дом отдыха «Лермонтов», а СС успела получить Военный санаторий, предназначавшийся под лазарет для ваффен-СС. Где-то поблизости воевал «Лейбштандарт», и я со щемящей тоской вспомнил Партенау, но ворошить прошлое – последнее дело, к тому же я сознавал, что не стану предпринимать попытки, чтобы разыскать его. Пятигорск почти не пострадал; после короткой стычки с отрядом самообороны местного завода город взяли без боя. Путь военным машинам то и дело преграждали повозки, а иногда и верблюды, создавая пробки, которые приходилось ликвидировать с помощью фельджандармов, с руганью раздававших направо и налево удары дубинок. По безупречно ровным рядам автомобилей и мотоциклов у гостиницы «Бристоль», глядящей на замечательный парк «Цветник», я сразу определил: здесь расположилась фельдкомендатура; контора айнзатцкоманды находилась ниже, на бульваре Кирова, в старинном двухэтажном здании. Деревья бульвара скрывали его красивый фасад; я разглядел керамический растительный орнамент под лепными фигурками херувимов, сидящих на голубях и увенчанных корзинами цветов; еще выше я заметил попугая в кольце и печальное девичье личико. Справа во внутренний двор вела арка. Мой шофер остановился рядом с грузовиком «заурер», я предъявил документы охране. Доктор Мюллер был занят, меня принял оберштурмфюрер доктор Больте, офицер государственной полиции. Его сотрудники сидели в залитых светом просторных залах с высокими потолками и широкими окнами в деревянных рамах; доктор Больте устроил себе кабинет в симпатичной круглой комнатке под самой крышей одной из башен, с двух сторон примыкающих к зданию. Сухим деловым тоном он посвятил меня в подробности операции: ежедневно в соответствии с графиком и расчетами Еврейских советов по железной дороге вывозились евреи того или иного города Кавминвод – все сразу или отдельными партиями; плакаты, приглашавшие их явиться «для переселения на Украину», отпечатал вермахт, который предоставлял также поезд и конвоиров; евреев привозили в Минеральные Воды и сгоняли на стекольную фабрику, затем чуть дальше к советскому противотанковому рву. В реальности работы оказалось больше, чем мы предполагали: в Кавминводах обнаружилось множество евреев с Украины и из Белоруссии, а еще преподаватели и студенты Ленинградского университета, в числе которых были и евреи, и партийные, и просто опасные личности, скажем интеллектуалы. Заодно айнзатцкоманда уничтожила выявленных коммунистов и комсомольцев, и, кроме того, цыган, обнаруженных в тюрьмах уголовников, работников и пациентов большинства санаториев. «Понимаете, – объяснял мне Больте, – здесь идеальная инфраструктура для нашей администрации. Например, посланники рейхскомиссара попросили нас освободить санаторий Народного комиссариата нефтяной промышленности в Кисловодске». Акция проводилась успешно: в первый же день покончили с евреями в Минводах, затем в Ессентуках и Железноводске; назавтра был запланирован Пятигорск, а последними на очереди были евреи Кисловодска. В каждом случае приказ об эвакуации объявлялся за два дня до запланированного расстрела. «Между городами нет связи, и поэтому они ни о чем не догадываются». Больте предложил мне проверить ход операции вместе с ним; но я ответил, что прежде мне надо посетить другие города КМВ. «Не смогу вас сопровождать: я нужен штурмбанфюреру Мюллеру». – «Ничего страшного. Только одолжите мне человека, который знает сотрудников ваших тайлькоманд».
Дорога из города ведет на запад и огибает Бештау, самый высокий из всех пяти вулканов; внизу извивается речка Подкумок, серая и мутная. По правде говоря, никаких важных дел в других городах у меня не было, в путь гнало простое любопытство, к тому же я вовсе не горел желанием присутствовать на операции. При советской власти Ессентуки превратился в заурядный промышленный городишко; я встретился там с офицерами тайлькоманды, поинтересовался, как идут дела, но задерживаться не стал. Кисловодск, наоборот, мне очень понравился, старый курорт на водах, очаровательный в своей старомодности, более зеленый и привлекательный, чем Пятигорск. Ванны помещались в необычном здании начала века, выстроенном в стиле индийского храма; там я попробовал воду нарзан, приятную, шипучую, но чуть резковатую. Прогулявшись по обширному парку, я вернулся в Пятигорск.
Офицеры обедали в общей столовой санатория. Разговоры в основном вертелись вокруг военных сводок, и большинство присутствовавших были полны оптимизма. «Теперь, когда танки Швеппенбурга пересекли Терек, – утверждал Винс, желчный помощник Мюллера, фольксдойч, покинувший Украину в двадцать четыре года, – наши силы скоро подтянутся к Грозному. Баку – вопрос времени. Многие из нас отпразднуют Рождество дома». – «Танки генерала Швеппенбурга застряли на одном месте, гауптштурмфюрер, – вежливо возразил я. – Им едва удалось создать плацдарм. Сопротивление советской армии в Чечено-Ингушетии гораздо мощнее, чем мы ожидали». – «Ба, – рыгнул жирный, краснорожий унтерштурмфюрер Пфейфер, – это их последний рывок. Их дивизии обескровлены. Они выставили незначительный заслон, рассчитывая нас обмануть, но при первой же серьезной атаке сломаются или бросятся наутек, как кролики». – «Почему вы так думаете?» – удивился я. «Так все говорят в АОК, – ответил за него Винс. – С лета они взяли совсем немного пленных как в здешних местах, так и в Миллерово. И сделали вывод, что большевики исчерпали все резервы, как, собственно, и предвидело наше высшее командование». – «Мы тоже подробно обсуждали эти вопросы и в группенштабе, и с ОКХГ, – возразил я. – Там все иного мнения. Некоторые полагают, что большевики, понеся ужасающие потери в прошлом году, усвоили урок и поменяли стратегию: они специально отводят перед нами войска, чтобы перейти в контрнаступление, когда наши линии сообщения станут чрезмерно протяженными и потому уязвимыми». – «Вы настоящий пессимист, гауптштурмфюрер», – набив рот курицей, проворчал Мюллер, глава команды. «Я – не пессимист, штурмбанфюрер, – отозвался я. – Просто констатирую, что мнения расходятся, вот и все». – «А вы действительно думаете, что наши линии окажутся чрезмерно протяженными?» – поинтересовался Больте. «Зависит от того, с чем мы столкнемся в реальности. Фронт группы армий „Б“ растянулся вдоль Дона, где советские плацдармы сохраняются от Воронежа, который русские удерживают, несмотря на все наши усилия, до Сталинграда». – «Сталинграду недолго осталось, – отрезал Винс, допивая кружку пива. – В прошлом месяце наши люфтваффе раздавили их оборону, 6-й армии остается лишь подчистить». – «Возможно. Но справедливости ради отмечу, что, поскольку все наши войска сосредоточены у Сталинграда, фланги группы армий „Б“ на Дону и в степи защищены только союзниками. И вы не хуже меня знаете, что румынские или итальянские дивизии не идут ни в какое сравнение с немецкими, а венгры, пусть и хорошие солдаты, но ведь у них нет ничего – ни техники, ни обмундирования. Здесь, на Кавказе, то же самое: у нас не наберется такого количества людей, чтобы организовать непрерывную линию обороны на возвышенностях. Фронт рассредоточен по Калмыцкой степи между двумя группами армий; степь контролируется лишь патрулями, и мы не застрахованы от неприятных сюрпризов». – «Вот тут, – вмешался доктор Штрошнайдер, огромного роста человек с кустистыми усами, почти полностью скрывавшими его рот, он руководил тайлькомандой, выделенной для Буденновска, – гауптштурмфюрер Ауэ совершенно прав. Степь – открытое незащищенное пространство. Любое дерзкое нападение ослабило бы наши позиции». – «О, – ухмыльнулся Винс, снова наполнивший свою кружку, – все равно это как укусы комара. Если они нападут на наших союзников, то в немецких „тисках“ ситуация быстро нормализуется». – «Надеюсь, вы правы», – буркнул я. «Так или иначе, – назидательно произнес доктор Мюллер, – фюрер всегда сумеет указать верный путь всем реакционным генералам». Да, вот уж особое восприятие! Постепенно разговор перекинулся на сегодняшнюю операцию. Я слушал молча. Как всегда не обошлось без историй о поведении приговоренных, которые молились, плакали, пели «Интернационал» или не издавали ни звука, и рассуждений о проблемах организации и о реакции наших солдат. Их болтовня нагоняла на меня тоску: даже опытные вояки без конца повторяли одно и то же, в потоке бахвальства и пошлости невозможно было уловить и проблеска нормального человеческого чувства. Хотя один офицер все-таки привлек мое внимание грубостью и ожесточенностью, с которой он поносил евреев. Этого человека, начальника Четвертого управления спецкоманды, гауптштурмфюрера Турека, человека неприятного, я уже видел в группенштабе. Турек принадлежал к тем довольно редким убежденным, циничным антисемитам вроде Штрейхера, которых мне доводилось встречать в айнзатцгруппах; в СП и СД считали, что основанием антисемитизма должны служить размышления и осмысленные выводы, а не голые эмоции. Между тем Турек очень походил на еврея: кудрявые черные волосы, крупный нос, чувственные губы; многие за спиной насмешливо называли его «еврей Зюсс», другие болтали, что в нем течет цыганская кровь. Скорее всего, он страдал от этого с детства и использовал малейший повод, чтобы подчеркнуть свое арийское происхождение. «Я знаю, что по внешности не скажешь», – начинал Турек повествование о том, как перед недавней женитьбой ему составили подробное генеалогическое древо, и выяснилось, что род его прослеживается до XVII века; потом Турек даже заказал свидетельство, подтверждающее, что он – «чистокровный ариец и способен порождать немецкое потомство». Все это я хорошо понимал и готов был даже посочувствовать ему, но то, что он творил, не вписывалось ни в какие рамки. Как я слышал, во время экзекуций Турек насмехался над обрезанными членами осужденных, приказывал раздевать женщин догола и орал, что больше никогда их еврейские вагины не произведут ублюдков. Олендорф не потерпел бы такого поведения, а Биркамп закрывал на это глаза; Мюллеру следовало бы давно приструнить гауптштурмфюрера, но он не проронил ни слова. Турек болтал теперь с Пфейфером, командовавшим на операциях взводами; Пфейфер потешался над фортелями Турека и подбадривал его. Мне стало противно, и, не дождавшись десерта, я извинился и поднялся к себе в комнату. Донимавшие меня на Украине приступы тошноты возобновились с Ворошиловска или чуть раньше. Вырвало меня, правда, лишь однажды, но всякий раз, пытаясь справиться с подступающей дурнотой, я закашливался, наливался краской и старался поскорей уйти.
Назавтра я вместе с другими офицерами с самого утра отправился в Минводы инспектировать операцию. Я наблюдал за прибытием поезда и выгрузкой: евреи, считавшие, что их везут на Украину, не понимали, почему им велят выходить, но сохраняли спокойствие. Во избежание беспорядков опознанных коммунистов держали отдельно. В огромном, битком набитом пыльном цеху стекольной фабрики евреев заставляли сдать одежду, скарб, личные вещи и ключи от квартир. Поднялось волнение, усилившееся оттого, что пол был усеян битым стеклом, и люди, сняв обувь, резали ступни. Я указал на это доктору Больте, но тот лишь пожал плечами. Подгоняемые ударами служащих орпо, испуганные, в одном исподнем, евреи торопились сесть, женщины пытались угомонить детей. На улице дул легкий ветерок, но солнце так нагрело стеклянную крышу, что атмосфера внутри была как в теплице. Ко мне подошел человек почтенных лет, в хорошем костюме, в очках и с усиками. Он держал на руках совсем маленького мальчика. Снял шляпу и обратился ко мне на прекрасном немецком: «Герр офицер, могу я вам кое-что сказать?» – «Вы отлично владеете немецким», – отозвался я. «Я учился в Германии, – с достоинством, даже с некоторым высокомерием сообщил он. – В некогда великой стране». Наверное, профессор из Ленинграда, подумал я. «Что вы хотите?» – сухо спросил я. Мальчик, обхватив его за шею, смотрел на меня большими голубыми глазами. На вид – года два, не больше. «Я знаю, что вы здесь творите, – невозмутимо произнес человек. – Мерзость. Я просто желаю вам выжить на войне, а после и через двадцать лет с криками просыпаться каждую ночь. Надеюсь, что вы не сможете смотреть на своих детей, не вспоминая наших, убитых вами». Он повернулся ко мне спиной и, не дожидаясь ответа, отошел. Мальчик продолжал пристально смотреть на меня из-за его плеча. Больте подскочил ко мне: «Какая наглость! Как он посмел? Вы должны прореагировать». Я отмахнулся. Зачем? Больте не хуже меня знает, что сделают и с этим человеком, и с его мальчиком. Его намерение нас оскорбить естественно. Я направился к выходу. Отряд орпо окружил группу евреев в нижнем белье и погнал к противотанковому рву в километре отсюда. Я проводил их взглядом. Ров находился достаточно далеко, так что выстрелы сюда не доносились, но люди наверняка догадывались об уготованной им судьбе. «Вы едете?» – окликнул меня Больте. Наша машина обогнала группу, которую только увели; люди дрожали от холода, женщины прижимали к себе детей. Наконец мы достигли рва. Стоявшие без дела солдаты зубоскалили, слышался шум, крики. Я протиснулся между солдатами и увидел Турека, лупившего лопатой извивающегося на земле полуголого человека. Возле него валялись два окровавленных трупа; в стороне под охраной конвоиров замерли парализованные ужасом евреи. «Отребье! – ревел Турек, выпучив глаза. – Ползи, жид!» Турек ударил его по голове ребром лопаты, череп раскололся, обрызгав кровью и мозгами сапоги гауптштурмфюрера, выбитый глаз отлетел на несколько метров. Солдаты смеялись. Я в два прыжка оказался рядом с Туреком и резко тряхнул его: «Вы ополоумели! Прекратите сейчас же». Я побледнел и дрожал. Турек в бешенстве повернулся ко мне, подняв лопату, потом опустил, вырвался. Его тоже трясло: «Не суйтесь, куда не просят», – огрызнулся Турек. Он побагровел, вращал зрачками, обливался потом. Отбросил лопату и зашагал прочь. Приблизившийся ко мне Больте отрывисто приказал оцепеневшему, тяжело дышавшему Пфейферу убрать тела и продолжать расстрел. «Вам не следовало вмешиваться», – упрекнул он меня. «Но позвольте, такого рода вещи недопустимы!» – «Возможно, но команду возглавляет штурмбанфюрер Мюллер. А вы здесь лишь наблюдатель». – «Ладно, а где же действительно штурмбанфюрер Мюллер?» Все еще дрожа, я возвратился к машине и распорядился отвезти меня в Пятигорск. Мне хотелось закурить, но пальцы по-прежнему тряслись, я долго не мог справиться с зажигалкой. Когда я все же в этом преуспел, я выбросил сигарету в окошко после нескольких затяжек. Навстречу нам двигалась колонна евреев; я заметил, как подросток выскочил из шеренги, схватил мой окурок и занял свое место.
Мюллера в Пятигорске я так и не нашел. Часовой без всякой уверенности предположил, что Мюллер отправился в АОК; некоторое время я колебался, ждать его или нет, и все-таки решил ехать, чтобы рапортовать о случившемся прямо Биркампу. Я заскочил в санаторий забрать вещи и отправил шофера в АОК за бензином. Конечно, решение уехать не попрощавшись было не слишком правильным, но никакого желания увидеться с Мюллером я не испытывал. В Минеральных Водах мы, не останавливаясь, миновали фабрику, расположенную недалеко от шоссе, под горой, за железнодорожными путями. По возвращении в Ворошиловск я составил отчет, выделив, прежде всего, технические организационные моменты операции, но вставил в него фразу о «возмутительных проступках офицеров, тех, кто должен служить примером». Я знал, что этого будет достаточно. И действительно, на следующий день в мой кабинет заглянул Тилеке и предупредил, что меня вызывает Биркамп. Прилль, прочитавший отчет, принялся было расспрашивать меня, но я отказался отвечать, объяснив, что дело касается лишь коменданта. Биркамп вежливо поздоровался, предложил сесть, поинтересовался, что произошло; Тилеке тоже присутствовал при беседе. Я, как можно более спокойно, рассказал им о случившемся. «И что же, по-вашему, следовало бы предпринять?» – осведомился Тилеке, когда я закончил. «Я считаю, штурмбанфюрер, подобными случаями должен заниматься SS-Gericht, трибунал СС и полиции, – отчеканил я. – Или хотя бы психиатры». – «Вы преувеличиваете, – возразил Биркамп. – Гауптштурмфюрер Турек отличный офицер, очень способный. Его негодование, его гнев на евреев, этих холуев сталинского режима, вполне справедливы. И потом вы сами признаете, что не застали начала. Без сомнения тут не обошлось без провокации». – «Даже если евреи вели себя дерзко или пытались бежать, реакция Турека недостойна офицера. Нельзя допускать подобного, особенно перед солдатами». – «Вот здесь вы, безусловно, правы». Они с Тилеке с минуту переглядывались, потом Биркамп обернулся ко мне: «В ближайшее время я планирую съездить в Пятигорск. Я лично выясню подробности у гауптштурмфюрера Турека. Благодарю вас за информацию».
Штурмбанфюрер доктор Лееч, сменивший Зейберта, прибыл в тот же день в сопровождении оберштурмбанфюрера Пауля Шульца, назначенного на пост доктора Брауне в Майкопе; но с Леечем встретиться я не успел, так как Прилль велел мне поспешить в Моздок на проверку зондеркоманды 10-б, недавно там обосновавшейся. «Таким образом, вы познакомитесь со всеми командами, – прибавил он. – И по возвращении отчитаетесь перед штурмбанфюрером». Путь до Моздока через Минводы и Прохладный занимал примерно шесть часов; я наметил отъезд на завтрашнее утро, но с Леечем так и не увиделся. Шофер разбудил меня перед рассветом. Мы уже миновали плоскогорье Ворошиловска, когда взошло солнце, мягко осветив поля и сады и обозначив вдалеке первые вулканы КМВ. После Минеральных Вод обсаженная липами дорога шла по отрогам Кавказской гряды, как обычно едва различимой, на сером небе угадывались только округлости покрытого снегом Эльбруса. К северу от дороги тянулись поля, там и сям попадались убогие мусульманские деревушки. Мы вынуждены были тащиться за колонной грузовиков рольбана, обогнать ее не было никакой возможности. Обстановка в Моздоке была напряженная, военная техника перегораживала пыльные улицы; я припарковал «опель» и пешком отправился искать штаб-квартиру LII корпуса. Меня принял чрезвычайно возбужденный офицер абвера: «Вы что, не слышали? Сегодня утром отстранен от должности генерал-фельдмаршал Лист». – «Но почему?» – воскликнул я. Лист, новичок на Восточном фронте, продержался месяца два. Мой собеседник пожал плечами: «Мы вынуждены были уйти в оборону после неудавшегося прорыва на правом берегу Терека. Очевидно, наверху нас не поняли». – «А почему вы не наступали?» Он взмахнул руками: «Нам не хватило людей, вот и все! Разделение группы армий «Юг» на две части – фатальная ошибка. Теперь у нас нет необходимых резервов ни для той, ни для другой цели. Наши войска по-прежнему топчутся возле Сталинграда». – «И кого же назначили на место фельдмаршала?» Он горько усмехнулся: «Вы не поверите: фюрер взял его обязанности на себя!» «Фюрер принял личное командование группой армий? Правда?» – изумился я. «Именно. Я не понимаю, как он рассчитывает с этим управиться: ОКХГ в Ворошиловске, а фюрер в Виннице. Но он же гений и непременно найдет выход». Его тон стал еще более язвительным. «Он уже возглавляет Рейх, вермахт и сухопутные войска. А теперь вот и группу армий. Что дальше, как вы полагаете? Может быть, он примется командовать армией, потом корпусом, а затем и дивизией. А закончит тем, с чего начинал, – станет ефрейтором». – «Вы слишком дерзки», – холодно заметил я. «Старина, – возразил он, – а не пойти ли вам к черту? Вы – на фронте, и полномочия СС здесь прекращаются». Вошел ординарец. «Вот вам проводник, – кивнул офицер. – Удачного дня». Я вышел, не прощаясь. Я был ошеломлен и встревожен: то, что наступление на Кавказе, на которое сделана такая ставка, пробуксовывает, представлялось мне дурным знаком. Время против нас. Приближается зима, а полная победа, Endsieg, остается недосягаемой, словно волшебные вершины Кавказских гор. Но как бы то ни было, успокаивал я себя, Сталинград скоро падет, и тогда высвободятся силы для продвижения вперед на Кавказе.
Зондеркоманда устроилась в наполовину разрушенном крыле советской военной базы; часть помещений была вполне пригодна для работы, другие давно стояли заколоченными. Меня проводили к начальнику команды, щуплому австрийцу с подстриженными, как у фюрера, усиками, штурмбанфюреру Алоису Перштереру. Он служил в СД, был начальником одного из управлений в Гамбурге, где в то самое время Биркамп руководил крипо; но дружеских отношений они, кажется, не сохранили. Перштерер коротко обрисовал мне ситуацию: в Прохладном тайлькоманда расстреляла кабардинцев и балкарцев, связанных с большевистскими властями, евреев и партизан; в Моздоке LII корпус передал им несколько подозрительных личностей, но ничего серьезного пока не предпринималось. Имеются сведения об областном еврейском колхозе; идут поиски, меры примут. Тем не менее партизан в этих краях не так уж много, а коренное население в зоне боевых действий, насколько можно судить, настроено к красным враждебно. Я полюбопытствовал, как складываются его отношения с вермахтом. «Даже не скажу, что средне, – отозвался он, помолчав. – Они нас просто игнорируют». – «Да, их занимает только срыв наступления». Я переночевал в Моздоке на раскладушке в одном из кабинетов и утром двинулся в обратный путь. Перштерер звал меня в Прохладный посмотреть, как работает грузовик с газовой камерой, но я лишь вежливо поблагодарил. В Ворошиловске я представился доктору Леечу, офицеру в возрасте, с узким прямоугольным лицом, седеющими волосами и недовольно надутыми губами. Он прочел мой рапорт и теперь хотел поговорить со мной лично. Я поделился с ним впечатлениями о состоянии духа людей вермахта. «Да, – признал он наконец, – вы совершенно правы. Именно поэтому я думаю, что очень важно укрепить наши связи с ними. Отношениями с ОКХГ я займусь сам, но, кроме того, считаю нужным направить дельного офицера-координатора в Пятигорск в контрразведку АОК и собирался попросить вас потрудиться на этом посту». Я с минуту колебался, задаваясь вопросом, сам ли он додумался до этого или же эту мысль подал ему в мое отсутствие Прилль. В конце концов я отважился: «Меня не слишком жалуют в 12-й айнзатцкоманде. Я поссорился с одним из их офицеров, боюсь, как бы не возникли дополнительные сложности». – «Не волнуйтесь. Вы нечасто будете контактировать с ними. Поселитесь в АОК, а докладывать обо всем будете непосредственно мне».
Итак, я снова очутился в Пятигорске. Квартиру мне предоставили в некотором отдалении от центра, в санатории у подножия Машука, это была самая высокая часть города. Французское окно выходило на балкончик, откуда видны были маленькая китайская беседка и редкие деревья на голой вершине горы Горячей, равнина, а за ней – вулканы, окутанные туманом. Наклонившись и подавшись вперед, над крышей я мог увидеть и часть горы Машук, мимо которой почти вровень со мной проплывали облака. Ночью прошел дождь, воздух был свежим и ароматным. Перед тем как отправиться в АОК на встречу с оберстом фон Гильсой и его коллегами, я решил прогуляться. Длинная мощеная аллея поднималась по склону горы от центра города, за памятником Ленину приходилось идти вверх по крутым ступеням, выше, за ваннами, за рядами молодых дубков и пахучих сосен, склон делался более пологим. По левую руку от меня остался санаторий «Лермонтов», где разместились фон Клейст и его штаб. Аллея перешла в широкую дорогу, огибавшую Машук и связывавшую несколько санаториев, здесь я повернул к небольшому павильону «Эолова арфа», откуда открывалась роскошная панорама южной части равнины, на которой какими-то фантастическими горбами высились вулканы – один, еще один, и еще, и еще, потухшие, безобидные. Справа на влажных крышах домов, утопавших в зелени, блестело солнце; вдалеке бродили тучи, скрывавшие Кавказский хребет. За моей спиной раздался радостный голос: «Ауэ! И давно вы тут?» Я оглянулся: ко мне спешил улыбающийся Фосс. Я горячо пожал ему руку. «Я только что приехал. Меня прикрепили к АОК в качестве офицера связи». – «О, прекрасно! Я ведь тоже в АОК. Вы уже обедали?» – «Нет еще». – «Тогда за мной. Как раз поблизости, внизу, имеется отличная закусочная». Он зашагал по узкой каменистой тропе, высеченной в скале, я за ним. В верхней части ущелья, разделяющего гору Горячую и Михайловский отрог Машука, высилась длинная галерея с колоннами розового гранита в итальянском стиле, удивительным образом сочетающем легкость и основательность. «Академическая галерея», – указал мне Фосс. «Ах! – воскликнул я, оживившись. – Это же бывшая Елизаветинская галерея! Там Печорин впервые увидел княжну Мери». Фосс расхохотался: «Так вы знаете Лермонтова? В Пятигорске его читают все». – «Конечно! Когда-то я не расставался с „Героем нашего времени“». Дорога привела нас к крылу галереи с минеральным источником внутри. Изувеченные солдаты, бледные, слабые, прохаживались или сидели на скамьях напротив длинного Провала, глядящего на город; русский садовник пропалывал тюльпаны и красные гвоздики, высаженные вдоль просторной каменной лестницы, спускающейся к улице Кирова, на дно впадины. Между деревьев вырисовывались медные блестящие крыши купален, теснившихся на Горячей Горе. За ней с трудом можно было различить вулкан. «Вы идете?» – поторопил меня Фосс. «Минуту». Я вошел в галерею, чтобы взглянуть на источник, но был разочарован: помещение было пустым, вода текла из обычного крана. «Кафе за поворотом», – сообщил Фосс. Он свернул под арку, отделявшую левое крыло от центральной части галереи; позади стена образовывала со скалой обширный грот, где расставили столики и табуретки. Мы сели, в дверях появилась хорошенькая девушка. Фосс перекинулся с ней парой слов по-русски. «Шашлыка сегодня нет. Зато есть котлеты по-киевски». – «Чудесно». – «Закажете минеральную воду или пиво?» – «Пожалуй, пиво. Оно хоть свежее?» – «Более или менее. Но предупреждаю, это вам не немецкое пиво». Я закурил и облокотился о стену, наслаждаясь прохладой; по скале сочилась вода, две маленькие яркие птички что-то клевали на земле. «Нравится вам Пятигорск?» – спросил Фосс. Радость от встречи с ним заставляла меня улыбаться. «Я еще почти не видел его». – «Для тех, кто любит Лермонтова, это настоящее место паломничества. Большевики создали в его доме маленький очаровательный музей. Если у вас выдастся свободный день, можем туда сходить». – «Охотно. А вы знаете, где находится место дуэли?» – «Печорина или Лермонтова?» – «Лермонтова». – «На поляне за Машуком. И конечно же, отмечено ужасным памятником. И представьте себе, мы отыскали одну его родственницу». Я засмеялся: «Шутите». – «А вот и нет. Мадам Евгения Акимовна Шан-Гирей. Очень старая. Наш генерал положил ей пенсию, значительно превышающую советскую». – «Она знала поэта?» – «Нет, разумеется. Госпожа Шан-Гирей родилась спустя десять или пятнадцать лет после смерти Лермонтова, столетие которой, кстати говоря, русские готовились отмечать как раз в день нашего вторжения». Официантка вернулась с тарелками и приборами. «Котлетой» оказались куриные рулетики в сухарях, начиненные сливочным маслом, на гарнир – фрикасе из лесных грибов с чесноком. «Изумительно. И даже пиво весьма приличное». – «А что я вам говорил? При любом удобном случае забегаю сюда. И народу всегда немного». Я ел молча, абсолютно довольный. «Вы сильно загружены?» – «Скажем, у меня есть время для науки. В прошлом месяце я обследовал Пушкинскую библиотеку в Краснодаре и наткнулся на интереснейшие вещи. В основном исследования о казаках, но, кроме того, я отыскал грамматики кавказских языков и редкие труды Трубецкого. Меня скоро откомандируют в Черкесск, а там наверняка найдутся книги об адыгах и карачаевцах. Моя мечта – откопать где-нибудь убыха, не утратившего родного языка. Но пока, к сожалению, мои попытки успехом не увенчались. Еще я придумываю тексты для АОК». – «Какого рода?» – «Пропагандистские лозунги. Их привязывают к самолету, кружащему над горами. Я уже сочинил воззвания на карачаевском, кабардинском и балкарском, проконсультировавшись с их носителями; получилось презабавно: „Горцы, раньше вы имели все, но советская власть вас обобрала! Примите немецких братьев, прилетевших из-за гор подарить вам свободу!“ И так далее». Мы оба прыснули. «Кроме того, я изготовлял удостоверения, которые отправляют партизанам, приглашая перейти к нам. Наши обещали принять их как союзников в общей борьбе против иудео-коммунизма. Евреи, затесавшиеся среди партизан, должно быть, от души повеселились. Эти пропуска действительны до конца войны». Девушка убрала со стола, принесла два кофе по-турецки. «Ну здесь и изобилие!» – воскликнул я. «Вот именно. Рынки работают, да и в магазинах есть продукты». – «Не то что на Украине». – «Да. Есть небольшой шанс, что ситуация не повторится». – «Вы о чем?» – «О, определенные изменения неминуемы». Мы заплатили и вернулись через арку. Раненые бродили по галерее и мелкими глотками пили воду. «Она и вправду целебная?» – полюбопытствовал я, кивнув на стакан. «Да, этот регион как раз ею и славится. Знаете, ведь ванны здесь принимали задолго до русских. Вы слышали имя Ибн-Баттута?» – «Арабского путешественника? Да, вроде бы слышал». – «Он оказался в Пятигорске около тысяча триста семьдесят пятого года, а перед этим побывал в Крыму у татар, где, между прочим, успел жениться. Татары тогда жили огромными кочевыми лагерями, в просторных крытых кибитках, где устраивались даже мечети и лавки. Каждое лето с началом жары крымский хан Ногай со своим городом на колесах пересекал Перекопский перешеек и останавливался здесь. Ибн-Баттута восхищался лечебными свойствами сероводородных вод и подробно описал этот край, назвав его Биш-даг, или Бештау, „пять гор“, – это то же самое, что по-русски Пятигорск». Я засмеялся с удивлением: «А какова дальнейшая судьба Ибн-Баттута?» – «Дальнейшая? Он так и странствовал, проехал Дагестан и Афганистан, чтобы потом достичь Индии. В Дели он стал судьей – кади и семь лет служил Мухаммеду Туглаку, сумасбродному и неуравновешенному султану, пока не впал в немилость. Позднее он был кади на Мальдивах, добрался до Цейлона, Индонезии и Китая. А затем возвратился домой, в Марокко, чтобы перед смертью написать книгу».
Вечером в столовой я убедился, что Пятигорск – действительно место встреч: сидя за столом с другими офицерами, я заметил доктора Хоенэгга, того самого веселого и несколько циничного военного врача, с которым я познакомился в поезде Харьков – Симферополь. Я поспешил поздороваться с ним: «Не могу не отметить, герр оберст-арцт, что генерал фон Клейст окружает себя лучшими людьми». Он встал, пожал мне руку: «Да, но я не при генерал-оберсте фон Клейсте, а по-прежнему в 6-й армии с генералом Паулюсом». – «Тогда почему вы в Пятигорске?» – «ОКХ решил воспользоваться инфраструктурой КМВ и организовать общеармейскую медицинскую конференцию. Обменяться информацией, иными словами, порассказать об ужасных случаях из собственной практики». – «Убежден, что по этой части вы заткнете за пояс всех остальных». – «Слушайте, я ужинаю с коллегами, но потом, если вы не против, приглашаю вас к себе на коньяк». Я поужинал с офицерами абвера. Люди они были трезвомыслящие, симпатичные, но настроенные не менее критично, чем их товарищ из Моздока. Кое-кто утверждал, что если мы в ближайшее время не возьмем Сталинград, то проиграем войну; фон Гильса потягивал французское вино и не спорил. После ужина я в одиночестве прогулялся по парку «Цветник» за Лермонтовской галереей, причудливым, бледно-голубым павильоном в средневековом стиле с остроконечными башенками и розовыми, красными и белыми арочными окнами, – как ни странно, здесь такая эклектика казалась вполне уместной. Какое-то время я курил, рассеянно глядя на увядшие тюльпаны, после чего поднялся по склону до санатория и постучал к Хоенэггу. Он валялся на диване, разутый, скрестив руки на толстом, круглом животе. «Извините, что не встаю». Он кивком указал на столик. «Коньяк там. Плеснете мне?» Я наполнил стаканчики, протянул ему один и опустился на стул, закинув ногу на ногу. «Ну и что же самое ужасное из вашей практики?» Он отмахнулся: «Человек, конечно!» – «Я имел в виду медицинские случаи». – «Ужасные случаи в медицинской практике интереса не представляют. Но иногда сталкиваешься с тем, что просто уму непостижимо и совершенно переворачивает представления о возможностях нашего бедного организма». – «Например?» – «Небольшой осколок ранит солдата в икру, задевая артерию, и солдат, оставаясь в строю, умирает за две минуты, вся кровь вытекает в сапог, а он этого даже не замечает. У другого пуля проходит навылет от виска до виска, и что же? Встает и сам является в медпункт». – «Мы – пыль и прах», – заключил я. «Точно». Я попробовал коньяк – армянский, сладковатый на вкус, но пить можно. «Вы уж простите, – произнес он, не поворачивая головы, – но я не нашел „Реми-Мартэн“ в этом диком городе. Так вот, возвращаясь к нашей теме: почти всем моим коллегам известны подобные казусы. Впрочем, ничего особо нового тут нет: я читал мемуары военного врача Великой армии, он описывает похожие факты. Но все-таки мы теряем слишком много людей. С тысяча восемьсот двенадцатого года успешно развивалась не только военная медицина, но и механизмы уничтожения. И мы всегда отстаем. Но мало-помалу мы совершенствуемся, не побоюсь сказать, что Гатлинг сделал больше для современной хирургии, чем Дюпюитрен». – «Но вы творите настоящие чудеса». Он вздохнул: «Может быть, может быть. Знаете, я теперь не могу смотреть на беременных женщин. Меня слишком удручает мысль, что ждет их плод». – «Умирает лишь то, что рождается, – продекламировал я. – У рождения долг перед смертью». Он даже вскрикнул, подскочил и залпом проглотил коньяк. «Вот что мне в вас нравится, гауптштурмфюрер! Член СД, цитирующий Тертуллиана, а не Розенберга или Ганса Франка, – это необыкновенно приятно. Но я слегка покритикую ваш перевод. Mutuum debitum est nativitati cum mortalitate, я бы перевел так: „Рождение должно смерти, а смерть рождению“ или еще лучше: „Рождение и смерть взаимные кредиторы“». – «Вы, безусловно, правы. Я всегда был сильнее в греческом. У меня есть друг, лингвист, я спрошу у него». Доктор снова протянул мне свой стакан, я подлил ему коньяку. «К вопросу о морали, – пошутил он, – вы продолжаете убивать бедных беззащитных людей?» Я, не поднимаясь, протянул ему стакан. «Следуя вашей философии, доктор, я перестал страдать. И не забывайте, теперь я только офицер связи, чему очень рад. Я лишь наблюдаю и ни в чем не участвую, предпочитаю именно такую позицию». – «Хорошего врача из вас не получилось бы. Наблюдению без практики грош цена». – «Потому-то я и выбрал профессию юриста». Я поднялся и открыл балкон. Воздух был теплый, но звезд не было видно, я ощутил приближение дождя. В листве шумел легкий ветерок. Я повернулся, Хоенэгг, расстегнув мундир, снова растянулся на диване. «Единственное, что могу вам сказать, – я остановился перед ним, – некоторые из моих дорогих коллег здесь отъявленные мерзавцы». – «Ни секунды не сомневаюсь. Это общий недостаток тех, кто практикует, не наблюдая. То же самое происходит и с медиками». Я машинально крутил в пальцах свой стаканчик и вдруг ощутил собственное ничтожество, а вслед за тем ужасную тяжесть. Я допил коньяк: «Вы тут надолго?» – «У нас предполагается две сессии: сейчас мы обсуждаем ранения, а в конце месяца соберемся, чтобы поговорить о заболеваниях. День будет посвящен венерологическим инфекциям, два следующих – вшам и чесотке». – «Тогда мы еще увидимся. Доброй ночи, доктор». Мы пожали друг другу руки. «Вы простите меня, если я полежу», – обронил он.
Коньяк Хоенэгга оказался плохим дижестивом: едва я вошел к себе в комнату, как меня вырвало. Позывы начались настолько внезапно, что я не успел даже добежать до ванной. Ужин уже переварился, я легко все очистил; теперь невыносимо разило отвратительной кислятиной; лучше бы рвало сразу после еды, процесс шел мучительнее и труднее, но, по крайней мере, во рту не пахло, ну или оставался привкус пищи. У меня мелькнула мысль вернуться к Хоенэггу, пропустить еще стаканчик и заодно проконсультироваться с ним; но вместо этого я прополоскал рот, выкурил сигарету и завалился спать. Назавтра мне обязательно надо было явиться в штаб команды с визитом вежливости: ждали оберфюрера Биркампа. Я пришел к одиннадцати часам. С бульвара хорошо видны были зубчатые гребни Бештау, возвышающегося над городом подобно идолу-хранителю; дождь прекратился, но воздух был по-прежнему свежим. В штабе меня проинформировали, что Мюллер занят разговором с Биркампом. Я ждал на крыльце, наблюдая, как шофер смывает грязь с бампера и колес «заурера». Я еще не видел, как он устроен, и, заметив, что задняя дверь открыта, из любопытства приблизился и заглянул внутрь. Смрад, зловонные лужи блевотины, экскрементов и мочи заставили меня отпрянуть, я зашелся в кашле. Шофер сказал что-то по-русски, я разобрал: «Каждый раз грязный», но смысла не понял. Боец орпо, наверняка фольксдойче, слонявшийся поблизости, перевел мне: «Он жалуется, что все время так, герр гауптштурмфюрер, очень грязно, но скоро кузов должны переделать, пол наклонят и посередине сделают небольшой люк. Убирать станет проще». – «Он русский?» – «Кто, Зайцев? Казак, герр гауптштурмфюрер, их здесь полно». Я поднялся на крыльцо и закурил, но тут меня вызвали, и сигарету пришлось выкинуть. Мюллер принимал меня вместе с Биркампом. Поздоровавшись, я сообщил Мюллеру, с какой целью меня командировали в Пятигорск. «Да-да, – подтвердил Мюллер, – оберфюрер мне уже все объяснил». Мюллер и Биркамп задавали вопросы, а я рассказывал об упаднических настроениях среди армейских офицеров. Биркамп пожал плечами: «Солдаты всегда были пессимистами. И раньше еще, в Рейнской области и Судетах, они вели себя совершенно по-бабски. Они так и не осознали, насколько сильны воля фюрера и национал-социализм. Меня интересует другое: вы в курсе истории о военном управлении?» – «Нет, оберфюрер. О чем речь?» – «Распространился слух, что фюрер ратует за смену гражданской администрации на Кавказе на военную. Но официального подтверждения мы не имеем. В ОКХГ от разъяснений уклоняются». – «Я постараюсь узнать в АОК, оберфюрер». Мы обменялись еще парой фраз, и меня отпустили. В коридоре я столкнулся с Туреком. Он смерил меня презрительным взглядом и процедил: «А, Papiersoldat, воин бумажного фронта! А ты времени даром не теряешь». По-видимому, Биркамп успел побеседовать с ним. Улыбнувшись, я любезно ответил: «Гауптштурмфюрер, я всегда к вашим услугам». Он злобно посмотрел на меня и скрылся в одной из комнат. Ну вот, подумал я, до чего легко нажить себе врага.
В АОК я добился встречи с фон Гильсой и задал ему вопрос, интересовавший Биркампа. «Верно, это обсуждается, – признал Гильса, – но детали мне пока неизвестны». – «И что же тогда произойдет с рейхскомиссариатом?» – «Учреждение рейхскомиссариата отсрочено». – «А почему представители СП и СД ни о чем не осведомлены?» – «Не могу вам сказать. Я сам жду дополнительной информации. Вы ведь знаете, что такие вещи в ведении ОКХГ. Биркампу следовало обратиться непосредственно к ним». Я покинул кабинет с ощущением, что фон Гильса о многом умалчивает. Затем я составил короткое донесение Леечу и Биркампу. Собственно, именно в этом и заключалась моя нынешняя работа: абвер направлял мне копии своих отчетов, связанных, главным образом, с партизанским движением, я дополнял их сведениями, почерпнутыми из разговоров – по большей степени в столовой, и отсылал в Ворошиловск; взамен я получал отчеты для Гильсы и его коллег. Таким образом, рапорты о деятельности 12-й айнзатцкоманды, базировавшейся в пятистах метрах от АОК, вначале уходили в Ворошиловск, затем, вместе с донесениями зондеркоманды 10-б (прочие команды действовали в зоне операций или в тылу 17-й армии), частично возвращались ко мне, а я уже передавал их в контрразведку. Само собой разумеется, айнзатцкоманда все это время поддерживала и прямые отношения с АОК. Работы у меня было не слишком много, и я охотно этим пользовался: Пятигорск оказался очень приятным городом с множеством весьма любопытных мест. В компании интересующегося всем на свете Фосса я посетил краеведческий музей, расположенный напротив почты и парка «Цветник», чуть ниже гостиницы «Бристоль». Там экспонировалась прекрасная коллекция, собранная Кавказским горным обществом, ассоциацией натуралистов-любителей, отчаянных энтузиастов, десятилетиями привозивших из экспедиций соломенные чучела, минералы, черепа, растения, засушенные цветы; кроме того, в музее хранились предметы из древних могильников и языческие каменные идолы; трогательные черно-белые фотографии элегантных, в галстуках, твердых стоячих воротничках и канотье, господ, стоявших на крутой горной вершине; и, наконец, живо напомнившие мне отцовский кабинет витрины с бабочками. Витрины занимали целую стену, и каждый из сотен экземпляров сопровождался ярлыком с научным названием, местом обитания, датой поимки и именем поймавшего. Здесь были бабочки из Кисловодска, Адыгеи, Чечни, даже из Дагестана и Аджарии, пойманные в 1923, 1915, 1909 годах. По вечерам мы иногда забредали в недавно открытый вермахтом Театр оперетты, еще одно причудливое здание, украшенное гирляндами и квадратными панно из красной керамики с изображениями книг, свитков и музыкальных инструментов, а затем ужинали или в офицерской столовой, или в кафе, или в казино, бывшей «Ресторации», где Печорин встретился с княжной Мери и где, как сообщала табличка, которую перевел мне Фосс, Лев Толстой праздновал свое двадцатипятилетие. При большевиках там размещался Государственный центральный бальнеологический институт, об этом извещала впечатляющая надпись, выполненная золочеными буквами на фронтоне, прямо над массивными колоннами. Надпись вермахт оставил на месте, но вернул зданию первоначальное предназначение, и здесь опять пили сухое кахетинское вино, ели шашлык и даже дичь. Именно здесь я познакомил Фосса с Хоенэггом, и они целый вечер напролет обсуждали названия болезней в пяти языках.
К середине месяца депеша из группы армий несколько прояснила ситуацию. Фюрер на самом деле одобрил учреждение военной власти в регионе Кубань – Кавказ, руководство принимала ОКХГ-А во главе с генералом кавалерии Эрнстом Кестрингом. Министерство по делам Восточных территорий, Ostministerium, выбрало для будущей администрации высокопоставленное лицо, однако создание рейхскомиссариата было отложено на неопределенное время. Неожиданностью стал и приказ ОКХ, отданный ОКХГ-А, о формировании для казаков и горных народов автономных территориальных единиц; колхозы прекращали существование, принуждение к работам запрещалось – это был полный отказ от политики, проводившейся нами на Украине. Слишком умно, чтобы быть правдой, думал я. Меня срочно потребовали в Ворошиловск на совещание: глава ХССПФ намеревался обсудить новые постановления. Присутствовали все начальники команд и почти все их помощники. Корсеман нервничал. «Уму непостижимо, фюрер принял решение еще в начале августа, а меня о нем уведомили только вчера. Возмутительно!» – «По-видимому, ОКХ опасается активности СС», – начал Биркамп. «Но почему же? – жалобно возразил Корсеман. – Мы же так плодотворно сотрудничаем». – «СС долго налаживала контакты с назначенным рейхскомиссаром. Теперь все ее труды насмарку». – «Ходят слухи, – подхватил заменивший Брауне Шульц, за упитанность прозванный поросенком, – что вермахт контролирует нефтяные скважины в Майкопе». – «Мне бы хотелось обратить ваше внимание, бригадефюрер, – добавил Биркамп, адресуясь к Корсеману, – на то, что, если полномочия этих „местных органов самоуправления“ будут утверждены, они станут проверять деятельность полиции в своих округах. Это, с нашей точки зрения, неприемлемо». Некоторое время разговор продолжался в том же духе, и все сошлись на том, что СС просто-напросто одурачили. Наконец нас распустили с указанием собрать как можно больше информации.
В Пятигорске с некоторыми офицерами команды у меня постепенно сложились вполне сносные отношения. Хоенэгг уехал, и, кроме офицеров абвера, я общался лишь с Фоссом. По вечерам в казино я иногда сталкивался с офицерами СС, Турек, естественно, со мной не разговаривал. Что касается доктора Мюллера, то, услышав однажды, как он рассуждает о преимуществах расстрелов перед газовыми камерами, я решил, что разговаривать нам с ним, в общем-то, не о чем. А вот среди младших офицеров попадались, пусть зачастую и нудные, но вполне приличные люди. Однажды вечером, когда мы с Фоссом пили коньяк, к нам подошел оберштурмфюрер доктор Керн, я пригласил его присоединиться и представил Фоссу. «О, вы лингвист из АОК!» – воскликнул Керн. «Так точно», – весело откликнулся Фосс. «Потрясающая удача, – радовался Керн, – именно с вами я хотел обсудить один спорный случай. Мне говорили, что вы хорошо знаете народы Кавказа». – «Более или менее», – признал Фосс. «Профессор Керн преподает в Мюнхене, – перебил я. – Он специалист по мусульманской истории». – «Крайне интересная тема», – согласился Фосс. «Да, я семь лет провел в Турции и кое в чем разбираюсь», – ободрился Керн. «А как вас занесло сюда?» – «Как всех, меня мобилизовали. Я уже тогда был членом СС и сотрудником СД, а затем очутился в айнзатцгруппе». – «Понял. Так о каком случае вы говорили?» – «Ко мне привели молодую женщину. Рыжая, очень красивая, просто обворожительная. Соседки донесли на нее как на еврейку. Она мне предъявила полученный в Дербенте советский паспорт, в графе „национальность“ стояло татка. Я сверился с картотекой: наши эксперты считают, что таты ассимилировались с Bergjuden, горскими евреями. Но женщина уверяла, что я ошибаюсь и таты – тюркский народ. Я приказал ей произнести что-нибудь на родном наречии: необычный диалект, сложный для восприятия, но, несомненно, тюркский. В общем, я ее отпустил». – «А вы уловили слова или обороты, которые она употребляла?» Последовал целый диалог на турецком. «Нет-нет, так не может быть… возможно, вот так?» – допытывался Фосс, и они продолжали непонятный для меня разговор. Наконец Фосс заявил: «То, что я слышу, напоминает тюркский диалект, использовавшийся на Кавказе как средство межнационального общения до того, как большевики ввели обязательное изучение русского. Я читал, что он сохранился в Дагестане и именно в Дербенте. Но там на нем говорят все. А вы записали ее имя?» Керн вытащил из кармана блокнот, полистал: «Вот. Цокота Нина Шауловна». – «Цокота? – Фосс нахмурился. – Чуднó». – «У нее фамилия мужа», – уточнил Керн. – «Теперь ясно. А скажите мне, если она – еврейка, как вы с ней поступите?» Керн опешил: «Ну, мы тогда… мы…» Он не мог скрыть растерянности. Я поспешил ему на помощь: «Ее бы переселили». – «Ясно», – повторил Фосс. Он ненадолго задумался и снова обратился к Керну: «Насколько я помню, у татов собственный язык, относящийся к иранской группе и не имеющий ничего общего с кавказскими или тюркскими языками. Существуют таты – мусульмане, насчет живущих в Дербенте я точно не знаю, но наведу справки». – «Спасибо, – поблагодарил Керн. – Вы думаете, мне следовало ее арестовать?» – «Нет. Я уверен, что вы всегда действуете правильно». Керн успокоился, он не почувствовал иронии в словах Фосса. Мы еще немного поболтали, и Керн простился. Фосс озадаченно смотрел ему вслед. «Своеобразные у вас коллеги», – обронил он наконец. «Почему?» – «Их вопросы иногда приводят в замешательство». Я пожал плечами: «Они выполняют свою работу». Фосс покачал головой: «Ваши методы порой смахивают на самоуправство. Впрочем, меня это не касается». Он явно был раздражен. «Когда мы сходим в Музей Лермонтова?» – поинтересовался я, желая изменить тему. «Когда угодно. В воскресенье?» – «И если будет хорошая погода, вы мне покажете место дуэли».
По поводу новой военной администрации поступали разные, порой противоречивые сведения. Генерал Кестринг разместил свою штаб-квартиру в Ворошиловске. Кестринг был уже немолод и успел уйти в отставку, но был снова призван на службу, мои собеседники из абвера утверждали, что генерал еще полон сил, и звали его Мудрой Совой. Кестринг родился в Москве, в 1918 году руководил военной миссией в Киеве при гетмане Скоропадском, дважды назначался военным атташе нашего посольства в Москве, и на сегодняшний день был одним из лучших экспертов по России. Оберст фон Гильса устроил мне встречу с прежним консулом в Тифлисе, а ныне представителем Министерства по делам Восточных территорий при Кестринге, доктором Отто Бройтигамом. В круглых очках, крахмальном воротничке и коричневой форме с золотым партийным значком на груди, Бройтигам казался чопорным; держался отстраненно, почти холодно, но при этом произвел на меня приятное впечатление – в отличие от большинства «золотых фазанов». Фон Гильса объяснил мне, что Бройтигам занимает высокий пост в политическом департаменте министерства. «Я очень рад видеть вас, – сказал я, пожимая Бройтигаму руку. – Без сомнения, вы сможете наконец пролить свет на сложившуюся ситуацию». – «Я уже встречался с бригадефюрером Корсеманом в Ворошиловске, и мы долго беседовали. Разве айнзатцгруппе об этом не известно?» – «Разумеется, известно! Но я буду признателен, если вы уделите несколько минут и мне, потому что есть ряд вопросов, которые меня весьма интересуют». Я проводил его в мой кабинет и предложил выпить, но Бройтигам вежливо отказался. «Полагаю, в министерстве разочарованы решением о временном прекращении формирования рейхскомиссариата», – начал я. «Вовсе нет. Напротив, мы считаем, что распоряжение фюрера – единственный шанс скорректировать гибельную политику, которую мы проводим в этой стране». – «В смысле?» – «Вам известно, что при назначении обоих рейхскомиссаров с министром Розенбергом не проконсультировались и Министерство по делам Восточных территорий, как бы так выразиться, не осуществляет надзора за ними. Поэтому не наша вина, что гауляйтеры Кох и Лозе творили, что им в голову взбредет; ответственность за это ложится на тех, кто их поддерживал. Именно благодаря их необдуманным, нелепым действиям Министерство Восточных территорий прозвали Министерством хаоса, Chaostministerium». Я улыбнулся, но Бройтигам оставался серьезным. «Да, – согласился я, – я пробыл год на Украине, и политика рейхскомиссара Коха создавала нам немало проблем. Зато он отлично умел вербовать партизан». – «Так же как и гауляйтер Заукель и его приспешники. Именно этого мы и стремимся избежать здесь. Судите сами, нельзя обращаться с кавказскими племенами, как с украинцами, они взбунтуются и уйдут в горы. А мы никогда не достигнем конечной цели. Русские в прошлом веке потратили тридцать лет, чтобы подчинить имама Шамиля. Мятежников насчитывалось от силы несколько тысяч, но для их усмирения русским потребовалось триста пятьдесят тысяч солдат!» Он сделал паузу и продолжил: «С самого начала кампании министр Розенберг, так же как и политический департамент министерства, придерживается четкой линии: только союз с народами Востока, угнетенными большевиками, позволит Германии сокрушить сталинскую систему. До сегодняшнего момента эта восточная стратегия, назовем ее Ostpolitik, не находила поддержки: фюрер всегда на стороне тех, кто думает, что Германия сможет самостоятельно выполнить свою задачу, порабощая народы, которые она должна освобождать. И назначенный рейхскомиссар Шикеданц лил воду на эту мельницу – несмотря на давнюю дружбу с министром. Но трезвые умы вермахта, в первую очередь генерал-квартирмейстер Вагнер, пытаются не допустить на Кавказе украинской катастрофы. Их инициатива – оставить регион под контролем военных – кажется нам оправданной, тем более что генерал Вагнер настоятельно потребовал привлечь на Кавказ наиболее прозорливых сотрудников министерства, и мое присутствие здесь тому доказательство. И мы, и вермахт получили уникальную возможность продемонстрировать, что Ostpolitik – единственная приемлемая политика. Если наш план реализуется успешно, то мы сумеем исправить ошибки Украины и Остланда». «Ставки велики», – откликнулся я. «Несомненно». – «А назначенному рейхскомиссару Шикеданцу не обидно оказаться не у дел? У него ведь тоже есть покровители». Бройтигам презрительно отмахнулся; его глаза сверкнули за стеклами очков: «Никто и не спросил его мнения. Да, собственно, рейхскомиссар Шикеданц слишком поглощен изучением эскизов своего будущего дворца в Тифлисе и обсуждением количества портиков, чтобы, как мы, детально изучать проблемы управления». – «Я понимаю». Я помолчал секунду: «Еще вопрос. Какую роль новая администрация определит СП и СД?» – «Роль службы безопасности, вне всякого сомнения, очень важна. Но теперь, чтобы не тормозить шаги в правильном направлении, СП надлежит координировать свои действия с группой армий и нашими военными властями. Одним словом, как я уже рекомендовал бригадефюреру Корсеману, с кавказскими национальными меньшинствами и казаками надо проявить деликатность. Среди них, конечно, есть субъекты, сотрудничавшие с коммунистами, но скорее из желания защитить интересы своего народа, чем по убеждению. Нельзя применять к ним те же меры, что и к комиссарам или сталинским аппаратчикам». – «И наконец, ваше мнение по поводу еврейской проблемы?» Он вскинул руку: «Это абсолютно другое дело. Совершенно очевидно, что евреи остаются одной из опор большевистской системы». Он встал, чтобы попрощаться. «Спасибо, что нашли время для разговора со мной», – поблагодарил я, стоя на крыльце и пожимая ему руку. «Не за что. Я уверен, мы должны сохранить хорошие отношения и с СС, и с вермахтом. Чем яснее будут для вас наши намерения, тем лучше пойдут дела». – «Не сомневайтесь, что в своем отчете руководству я изложу именно эту точку зрения». – «Отлично! Вот моя визитная карточка. Хайль Гитлер!»
Фосса, которому я пересказал нашу с Бройтигамом беседу, она немало позабавила. «Давно пора! Вот уж поистине, только неудачи заставляют шевелить мозгами!» Мы, как договаривались, встретились в воскресенье ближе к полудню у фельдкомендатуры. Мальчишки толпились у ограды, не в силах оторвать глаз от припаркованных там мотоциклов и амфибии «швиммваген». «Партизаны!» – вопил солдат-резервист, размахивая дубинкой, но стоило ему отогнать мальчишек от ограды, как они приклевались к ней с другой стороны. Пока мы поднимались по улице Карла Маркса к музею, я закончил свой рассказ о встрече с Бройтигамом. «Лучше поздно, чем никогда, – прокомментировал Фосс, – но, на мой взгляд, ничего не получится. Мы уже слишком испорчены. Возня с военной администрацией – не более чем отсрочка исполнения. Через шесть или десять месяцев они вынуждены будут отказаться от своей затеи, и тогда шакалы, все эти Шикеданцы, Кернеры, Заукели, сорвутся с привязи, и снова начнется бардак. Проблема, понимаете ли, еще и в том, что мы не имеем навыков в колонизаторстве. Еще до Великой войны мы плохо управляли своими африканскими владениями. А потом вовсе их лишились и растеряли даже небольшой опыт, накопленный колониальными властями. Сравните с англичанами: залюбуешься, с какой тонкостью и ловкостью они правят своей империей и эксплуатируют ее. Как искусно используют метод кнута и пряника: если надо, бьют, но всегда предложат пряник и до, и после каждого удара. Даже большевики в этом отношении дадут нам фору: несмотря на всю свою жестокость и дикость, они создали миф о братстве народов, и этим их империя держится. Войска, остановившие нас на Тереке, состояли в основном из грузин и армян. Я разговаривал с пленными армянами, они чувствуют себя советскими гражданами и готовы без колебаний сражаться за СССР. И мы ничего лучшего им взамен не предложили». Мы подошли к зеленой двери музея, я постучал. Через несколько минут приоткрылись находившиеся рядом ворота, выглянул старик крестьянин, морщинистый, в кепке, узловатые пальцы и борода пожелтели от махорки. Фосс обменялся с ним парой слов, старик отворил ворота пошире. «Он сказал, что музей закрыт, но кто хочет посмотреть, может зайти. В библиотеке поселились немецкие офицеры». Мы оказались посреди мощеного дворика с симпатичными, белеными известью постройками вокруг; справа наружная лестница вела на второй этаж, возведенный над сараем; там находилась библиотека. На фоне неба вздымался могучий, вечный Машук, за восточный склон зацепились лоскутья облаков. Внизу слева виднелся садик с беседкой, увитой виноградом, и домики с камышовой кровлей. Фосс по ступеням вскарабкался в библиотеку. Полки лакированного дерева занимали столько места, что развернуться можно было с трудом. Старик семенил за нами, и я протянул ему три сигареты; лицо его смягчилось, но он остался в дверях, не выпуская нас из поля зрения. Фосс изучал книги за витринами, но ничего не трогал. Мое внимание привлек небольшой, мастерски написанный маслом портрет Лермонтова: поэт был изображен в красном доломане, украшенном эполетами и золотым позументом, влажные губы, в глазах удивление и смятение, которое вот-вот обернется гневом и ужасом или язвительной насмешкой. В другом углу висел портрет-гравюра, я с трудом расшифровал надпись на кириллице: Мартынов, убийца Лермонтова, второй Дантес, причинивший ущерб русской литературе. Фосс попытался отодвинуть стекло в одной из полок, но замок помешал. Старик что-то прошамкал, и Фосс перевел: «Хранитель музея бежал. У какой-то служительницы есть ключи, но сегодня она отсутствует. Жаль, здесь прекрасные книги». – «Вы зайдете еще раз». – «Разумеется. А сейчас дед покажет нам квартиру Лермонтова». Через двор и садик мы подошли к одной из невысоких построек. Старик толкнул дверь. Внутри было темно, но свет из открытой двери давал возможность рассмотреть помещение: отштукатуренные белые стены, простую мебель. Мы увидели красивые восточные ковры и сабли, висевшие на гвоздях. Узкий диван казался очень неудобным. Фосс приблизился к письменному столу, погладил поверхность. Старик опять что-то забормотал. «За этим столом Лермонтов написал „Героя нашего времени“», – глубокомысленно произнес Фосс. «Прямо здесь?» – «Нет, в Санкт-Петербурге. Когда создавался музей, государство передало этот стол сюда». Больше ничего достойного внимания мы не обнаружили. Солнце заволокло тучами. Фосс поблагодарил старика, а я отсыпал ему еще сигарет. «Надо сюда вернуться, побеседовать с кем-нибудь, кто сможет рассказать побольше, – решил Фосс. – Кстати, – прибавил он уже у ворот, – я забыл вам сообщить: приехал профессор Оберлендер». – «Оберлендер? Мы знакомы. Я видел его в Лемберге в начале кампании». – «Отлично. Я предлагаю поужинать с ним». На улице Фосс свернул налево к длинной, выстланной плитами аллее, начинавшейся у памятника Ленину. Мы продолжали подниматься, я уже задыхался. Вместо того чтобы двинуться к «Эоловой арфе» и Академической галерее, Фосс пошел вдоль Машука по шоссе, о котором я и не подозревал. Небо быстро темнело, я боялся, что хлынет дождь. Мы миновали санатории, асфальт кончился, дальше тянулась широкая проселочная дорога. Место было безлюдным: нам попался только крестьянин на повозке, звяканье упряжи перемежалось мычанием вола и скрежетом плохо подогнанных колес; и снова пусто. Немного дальше, слева, мы увидели облицованный кирпичом вход в пещеру. Щурясь, мы вглядывались в темноту; путь в тоннель преграждала железная решетка. «Это Провал, – изрек Фосс. – Воронка с гротом, а на дне – серное озеро». – «Не здесь ли Печорин встретил Веру?» – «Не уверен. Разве не у грота под „Эоловой арфой“?» – «Надо проверить». Облака плыли вровень с нашими головами: казалось, что, подняв руку, коснешься воздушных клубов. Небо заволокло тучами, а нас теперь обволакивала тишина, нарушаемая лишь скрипом песка под ногами. Дорога плавно поднималась, и вскоре мы очутились в тумане. Мы с трудом различали огромные деревья, росшие по обочинам; воздух стал разреженным, мир исчез. Вдалеке куковала кукушка, встревоженно, жалобно. Мы шагали молча. Долго. То тут, то там виднелись смутные очертания каких-то зданий; потом снова начался лес. Облака рассеивались, сквозь серую завесу забрезжили робкие лучи, внезапно все прояснело, засияло солнце. Дождь так и не пошел. Справа от нас, над деревьями вырисовывались гребни Бештау; через двадцать минут мы добрались до памятника. «По другой стороне гораздо быстрее, – признался Фосс. – Мы сделали солидный крюк». – «Да, но совсем не зря». Белый обелиск на неухоженной лужайке представлял мало интереса: перед монументом, воздвигнутым благодарными потомками, трудно было вообразить себе выстрелы, кровь, хриплые крики, ярость смертельно раненного поэта. Рядом стояли немецкие машины; ниже, у леса, разместили столы и лавки, там сейчас ели солдаты. Для очистки совести я изучил бронзовый медальон и надпись на стеле. «Я однажды наткнулся на фотографию временного памятника тысяча девятьсот первого года, – поведал мне Фосс. – Диковинная деревянная ротонда, полукруглая, с высоченной тумбой, на которую водрузили гипсовый бюст. Чрезвычайно забавно». – «Думаю, им просто средств недоставало. А не подкрепиться ли нам?» – «Охотно, здесь жарят отличный шашлык». Мы обогнули площадку и спустились к закусочной. Две машины были отмечены специальными знаками айнзатцкоманды; за одним из столиков я заметил знакомых офицеров. Нам помахал Керн, я ответил на приветствие, но подходить не стал: с ним вместе сидели Турек, Больте и Пфейфер. Мы устроились на грубых табуретках немного поодаль, возле деревьев. Нас обслуживал горец с плохо выбритыми щеками, пышными усами и в ермолке. «Свинины нет, – перевел Фосс, – только баранина. Но зато есть водка и компот». – «Превосходно». До нас доносились обрывки разговоров. Турек покосился на нас и принялся что-то оживленно втолковывать Пфейферу. Между столиков крутились цыганята. Один из них подскочил к нам: «Хлеб, хлеб», – ныл он, протягивая черную от грязи руку. Горец принес нам хлеба, я дал кусок цыганенку, он тут же запихал его в рот. Потом с неприличным жестом показал на лес: «Сестра, сестра, красавица». Фосс расхохотался и бросил пару фраз, обративших мальчишку в бегство. Через минуту цыганенок разыграл ту же сцену перед офицерами СС. «Как вы думаете, кто-нибудь пойдет?» – спросил Фосс. «Не на глазах же у всех», – уверил я. И действительно, Турек отвесил ребенку такую оплеуху, что тот отлетел и покатился по траве. Затем он притворился, что вынимает пистолет, и мальчишка ринулся в кусты. Горец, колдовавший над длинным металлическим ящиком на ножках, вернулся к нам с двумя шампурами, положил мясо на хлеб, принес напитки и стаканы. Водка чудесно сочеталась с сочным шашлыком, и мы отдали ей должное, запивая все компотом из моченых ягод. Солнце освещало луг, верхушки сосен, памятник и склон возвышавшегося над всем этим Машука; облака испарились и уже не заслоняли его. Я снова подумал о Лермонтове, лежавшем на траве в нескольких шагах отсюда, смертельно раненном в грудь из-за вскользь отпущенной шутки об одежде Мартынова. В отличие от своего героя Печорина, Лермонтов выстрелил в воздух; его противник – нет. О чем размышлял Мартынов у трупа врага? Он воображал себя поэтом, и он, конечно, прочел «Героя нашего времени», он познал горечь критики и ревность к чужой славе, он понимал, что останется в истории лишь как убийца Лермонтова, второй Дантес, причиняющий ущерб русской литературе. Возможно, он удовлетворил бы свое честолюбие на другом поприще, но он мечтал творить и достичь успеха. Быть может, он просто завидовал таланту Лермонтова? Быть может, решил, что лучше оставить по себе память недобрую, чем никакой? Я попытался вспомнить его портрет, но тщетно. А Лермонтов? Что он почувствовал, когда, разрядив пистолет в воздух, увидел, что Мартынов целится ему в сердце, – разочарование, безысходность, гнев? Или иронизировал, равнодушно пожал плечами и взглянул на сосны, освещенные солнцем? Есть мнение, что Пушкин намеренно искал смерти и спровоцировал собственное убийство; если и с Лермонтовым дело обстояло так же, то навстречу гибели он ринулся радостно, глядя ей прямо в глаза, тем самым показав разницу между собой и Печориным. И то, что Блок написал о Пушкине: «Его убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха», в полной мере относится и к Лермонтову. Я тоже страдал от отсутствия воздуха, но солнце, шашлыки и веселая доброжелательность Фосса вдруг позволили мне вздохнуть свободно. Мы заплатили горцу карбованцами рейхскомиссариата и снова тронулись в путь на Машук. «Предлагаю зайти на старое кладбище, – не унимался Фосс. – Там на месте захоронения Лермонтова тоже есть стела». После дуэли друзья похоронили поэта в Пятигорске; через год, кстати, за сто лет до нашей оккупации города, приехала бабушка и увезла останки в свое имение под Пензой, чтобы он покоился рядом с матерью. Я охотно согласился сопровождать Фосса. Мимо нас, страшно пыля, промчались две машины с возвращавшимися офицерами. В первой за рулем сидел Турек, ненавидящий взгляд, который я поймал на себе, добавил ему сходства с евреем. Машины двигались прямо, а мы взяли левее и теперь поднимались на Машук по длинной боковой дороге. После мяса, водки и солнца я ощущал тяжесть, меня разобрала икота, я сошел на обочину и скрылся в лесу. «Все в порядке?» – спросил Фосс, когда я вернулся. Я неопределенно кивнул и зажег сигарету. «Ничего серьезного. Остаточные симптомы болезни, которую я подцепил на Украине. Время от времени накатывает». – «Вам надо проконсультироваться с врачом». – «Да, наверное. Доктор Хоенэгг должен скоро приехать, я подумаю». Фосс дождался, пока я докурю, пропустил меня вперед. Мне стало жарко, я снял пилотку и китель. Наверху дорога делала большую петлю, открывая чудесный вид на город и равнину. «Санатории – прямо, – сказал Фосс, – а на кладбище нужно идти через сады». На крутом склоне с пожухлой травой росли фруктовые деревья; мул на привязи обнюхивал землю в поисках падалицы. Мы спустились, слегка скользя, чтобы срезать путь, но заблудились в довольно густом лесу. Я надел китель: ветки и колючий кустарник царапали руки. Наконец, вслед за Фоссом, я выбрался к тропке, протоптанной у каменной стены. «Это точно здесь, – обнадежил Фосс. – Сделаем круг». С тех пор как нас обогнали машины, мы не встретили ни души, казалось, что мы одни в целом мире; но вот в нескольких метрах от нас появился босоногий мальчик, погонявший осла и не обративший на нас ни малейшего внимания. Двигаясь вдоль стены, мы вышли на небольшую площадь с православной церковью. У крыльца на стульчике женщина в черном продавала цветы; из церкви выходили люди. На пригорке за оградой в полумраке раскидистых крон находилось кладбище. Мы двинулись по вымощенной булыжником дорожке между старых могил, затерянных в сухостоях, папоротнике и колючем кустарнике. Сквозь ветви проникали солнечные лучи, и в островках света над увядшими цветами порхали крошечные белые и коричневые бабочки. Потом дорожка свернула, деревья поредели, и перед нами открылась юго-западная равнина. В тени листвы за узорной решеткой стоял обелиск, указывающий место первого погребения Лермонтова. Тишину нарушал лишь стрекот цикад и шелест ветра. Рядом находились захоронения родственников Лермонтова, Шан-Гиреев. Я осмотрелся: вдали глубокие зеленые балки, разрезавшие землю, тянулись вплоть до скалистых отрогов. Глыбы вулканов, казалось, упали с неба; на горизонте угадывались снега Эльбруса. Неутомимый Фосс бродил где-то рядом, а я примостился на ступеньке у стелы и снова погрузился в размышления о Лермонтове: такова судьба поэтов – сначала убивают, потом чтят.
Мы возвращались в город через Верхний рынок, где крестьяне грузили на мулов и телеги непроданных кур, фрукты, овощи. Вокруг сновали торговцы семечками, чистильщики обуви; мальчишки с деревянными тележками на колесах от детских колясок караулили запоздавших пехотинцев: вдруг да попросят довезти багаж. Возле бульвара Кирова за каменной оградой выстроились ряды свежих крестов: в красивом сквере с памятником Лермонтову теперь хоронили немецких солдат. Недалеко от парка «Цветник» громоздились руины старого православного храма, взорванного в 1936 году НКВД. «Не правда ли, любопытно, – рассуждал Фосс, указывая на груды обломков, – немецкую церковь они не тронули, наши верующие до сих пор ее посещают». – «Да, но зато большевики уничтожили три окрестные деревни, где проживали фольксдойче, которых царь пригласил сюда на поселение еще в восемьсот тридцатом. В прошлом году их всех депортировали в Сибирь». Но Фосса больше занимала лютеранская церковь. «Вы знаете, что ее построил солдат? Некий Кемпфер, воевавший под знаменами Евдокимова против черкесов, а затем здесь и обосновавшийся». Рядом с входом в парк располагалась двухэтажная деревянная галерея с башенками, футуристическими куполами и лоджией вокруг верхнего этажа. Там стояли несколько столиков, и тем, кто мог платить, подавали турецкий кофе и сладости. Фосс выбрал место со стороны главной парковой аллеи, над лавками, где по вечерам играли в шахматы небритые, ворчливые старики. Я заказал кофе и коньяк, кроме того, нас угостили лимонным пирогом; дагестанский коньяк оказался еще слаще армянского, но как нельзя лучше соответствовал и пирогу, и моему хорошему настроению. «Как ваша научная работа?» – обратился я к Фоссу. Он рассмеялся: «Я еще не отыскал убыха, но добился явного прогресса в кабардинском. Жду не дождусь, когда наши займут Орджоникидзе». – «Вот как?» – «Я вам уже говорил, кавказские языки не основная моя специальность. По-настоящему меня занимают так называемые индогерманские языки и в особенности иранские. А осетинский – совершенно потрясающий иранский язык». – «И почему же?» – «Вам известно географическое положение Осетии: если другие народы не кавказского происхождения осели на отрогах или по периметру Кавказа, то осетины очутились на проходе, прямо у Дарьяла, где русские построили свою Военно-Грузинскую дорогу от Тифлиса до Владикавказа, нынешнего Орджоникидзе. Хотя осетины и переняли у соседей-горцев обычаи и манеру одеваться, это, безусловно, позднейшие влияния. Есть основания полагать, что овсы, или осетины, – потомки аланов и скифов; а если это так, то их язык – живая ветвь древнего скифского языка. И еще: в тысяча девятьсот тридцатом году Дюмезиль издал сборник осетинских легенд о сказочных героях-полубогах Нартах. Дюмезиль обнаружил соответствия между этими легендами и верованиями скифов, о которых мы знаем из трудов Геродота. Русские ученые занимаются этими проблемами с конца прошлого века, библиотеки и институты Орджоникидзе наверняка ломятся от потрясающих материалов по данной теме, недоступных в Европе. Я сильно надеюсь, что во время штурма их не сожгут». – «В общем, насколько я вас понял, осетины – это Urvolk, пранарод, истинные арийцы». – «„Истинный“, „чистокровный“ – слова, которые часто употребляют, но которыми столь же часто злоупотребляют. Скажем так: язык осетин архаичен и крайне интересен с лингвистической точки зрения». – «А что вы имеете против понятия „истинный, чистый“?» Он пожал плечами: «Это все абсурд и фантазии, психологическая и политическая подмена научного понятия. Вот, к примеру, немецкий: веками, еще до Мартина Лютера, утверждалось, что наш язык – прародитель, что в нем, в отличие от романских языков, отсутствуют заимствованные корни. Теологи в своем безумии доходили до того, что провозглашали немецкий языком Адама и Евы, от которого позже отпочковался иврит. Но подобные теории абсолютно беспочвенны, ведь даже если корни в немецком „автохтонны“ – в действительности же все они восходят к языкам индоевропейских кочевников, – то его грамматика структурирована по подобию латыни. С давних пор наше культурное сознание находится во власти идеи превосходства немецкого языка над другими европейскими, мы гордимся его способностью самостоятельно формировать и пополнять лексический запас. Так, восьмилетний немец знает все корневые морфемы и может образовать и понять любое слово, даже самое редкое или научное, чего не умеют, например, французские дети, вынужденные тратить много времени, чтобы запомнить сложные, производные от латыни и греческого термины. Эта идея заводит нас слишком далеко и в представлениях о самих себе: наша страна единственная в Европе, название которой не связано ни с местностью, ни с именем племени, как у англов или франков; Deutschland – земля „народа как такового“; deutsch – субстантивированное прилагательное от древненемецкого Tuits – „народ“. Именно поэтому все соседи называют нас по-разному: Allemands, Germans, Duits, по-итальянски Tedeschi – тоже, кстати, от Tuits, или здесь, в России, „немцы“, то есть „немые“, те, кто не владеет речью, те, кого греки звали „варвары“. Истоками нашей расовой и национальной идеологии являются давние амбиции. Что, добавлю, не нам одним свойственно: в тысяча пятьсот шестьдесят девятом году Горопиус Беканус, фламандский автор, приписывал нидерландскому статус древнейшего языка мира и проводил аналогии с праязыками Кавказа, отца народов». Фосс расхохотался. Мне хотелось продолжить дискуссию о расовых теориях, но он уже прощался: «Мне пора. Что насчет ужина с Оберлендером, если он, конечно, освободится?» – «Охотно». – «Тогда встречаемся в казино. Около восьми». Фосс сбежал по лестнице, а я продолжал сидеть и наблюдать за стариками, игравшими в шахматы. Приближалась осень: солнце уже спускалось за Машук, окрашивая его хребет розовым и бросая сквозь листву деревьев оранжевые отблески на серые отштукатуренные стены стоящих вдоль бульвара домов.
В семь тридцать я уже был в казино. Фосс еще не пришел, я взял коньяку и решил устроиться за столиком в нише, в отдалении от остальных. Спустя несколько минут на пороге возник Керн, обвел взглядом зал и направился ко мне. «Гауптштурмфюрер! Я вас искал». Он снял пилотку, сел и огляделся, явно нервничая и смущаясь. «Гауптштурмфюрер. Я должен сообщить вам кое-что, что, думаю, касается непосредственно вас». – «Да?» Он помедлил: «Они… Вас все чаще замечают в компании лейтенанта вермахта. Это… как бы лучше выразиться? Порождает слухи». – «И какого же свойства?» – «Слухи… скажем так, опасные слухи. Те, что прямо ведут в концентрационный лагерь». – «Понятно, – я сохранял хладнокровие. – И подобного рода слухи распространяются небезызвестными нам людьми?» Керн побледнел: «Большего я вам сказать не могу. Я нахожу все это постыдным, низким. Я только хотел предупредить вас, чтобы вы действовали… пресекли бы… чтобы дальше не шло». Я встал и протянул ему руку: «Спасибо за информацию, оберштурмфюрер. Я игнорирую и презираю трусов, предпочитающих грязные сплетни и увиливающих от разговоров начистоту». Он пожал мне руку в ответ: «Я понимаю вашу реакцию. Но все же не теряйте бдительности». Я сидел, и меня трясло от бешенства: вот какую игру они затеяли! Кроме всего прочего, это была полнейшая чушь. Я уже объяснял: я не привязываюсь к любовникам; дружба – совсем, совсем другое. На этом свете я люблю лишь одну особу, и пусть она не со мной, мне этой любви вполне достаточно. Но тупым сволочам типа Турека и его приятелей такие категории недоступны. И я решил отомстить; я еще не знал как, но не сомневался, что случай подвернется. Керн – честный малый, хорошо, что он предупредил меня: будет время поразмыслить.
Из раздумий меня вывело только появление Фосса с Оберлендером. «Добрый вечер, профессор, – я за руку поздоровался с Оберлендером, – немало воды утекло с нашей последней встречи». – «Да-да, и столько всего приключилось после Лемберга. А как другой молодой офицер, что работал с вами?» – «Гауптштурмфюрер Хаузер? Он, наверное, так и остался в группе „С“. С тех пор как мы расстались, новостей о нем нет». Мы перебрались в ресторан, Фосс заказывал. Нам налили кахетинского вина. Оберлендер казался уставшим. «Я слышал, что вам поручили командование новым специальным подразделением?» – поинтересовался я у него. «Да, командой Bergmann, „Горец“. У меня в подчинении кавказцы-горцы». – «Какой национальности?» – оживился Фосс. «Да все есть. Карачаевцы и черкесы, разумеется, но еще и ингуши, авары, лаки, которых вербовали в шталагах. И даже один сван». – «Потрясающе! Я бы с удовольствием с ним поговорил». – «Тогда поезжайте в Моздок. Они там сейчас участвуют в операции против партизан». – «А у вас, случайно, нет убыхов?» – лукаво спросил я. Фосс захихикал. «Убыхов? Нет, не уверен. А кто они?» Фосс еле сдерживал смех, Оберлендер озадаченно взглянул на него. Я, из последних сил сохраняя серьезность, продолжил: «Это навязчивая идея доктора Фосса. Он считает, что вермахт непременно должен вести проубыхскую политику, чтобы восстановить естественный баланс в распределении власти среди кавказских народов». Фосс поперхнулся вином и чуть его не выплюнул. Я тоже еле сдерживался. Ничего не понимающий Оберлендер занервничал: «Не совсем понимаю, о чем вы», – произнес он сухо. Я пустился в объяснения: «Речь идет о кавказском народе, изгнанном русскими. В Турцию. А до того под их влиянием находилась значительная часть здешних земель». – «Они мусульмане?» – «Разумеется». – «Тогда мы обязательно включим помощь убыхам в рамки Ostpolitik». Фосс, весь красный, вскочил и, пробормотав извинения, удрал в туалет. Оберлендер опешил: «Что с ним?» Я похлопал себя по животу. «Ах да, – чуть успокоился Оберлендер. – Здесь такое случается. На чем я остановился?» – «На нашей промусульманской политике». – «А, да. Конечно, это традиционная политика Германии. То, что мы пытаемся внедрить здесь, по сути, продолжение панисламистских идей Людендорфа. Уважая культурные и общественные законы ислама, мы приобретаем важных союзников. Вдобавок мы соблюдаем интересы Турции, которая крайне важна для нас, особенно если мы, обогнув Кавказ, соберемся захватить англичан с тыла, со стороны Сирии и Египта». Фосс овладел собой и вернулся. «Если я правильно уяснил, – сказал я, – идея в том, чтобы объединить все кавказские народы, в первую очередь тюркоязычные, в гигантское исламское движение против большевизма». – «Идея действительно такова, но ее еще не одобрило высшее руководство. Многие опасаются возрождения пантюркизма, которое может усилить авторитет Турции в регионе и нести угрозу нашим завоеваниям. Министр Розенберг под влиянием этого Никурадзе склоняется скорее к оси Берлин – Тифлис». – «А что думаете вы сами?» – «Сейчас я пишу статью о Германии и Кавказе. Вам, наверное, известно, что после расформирования „Нахтигаль“ я работал в качестве абверофицера при рейхскомиссаре Кохе, старинном друге Кенигсберга. Но Кох крайне редко бывал на Украине, и его подчиненные, а именно Даргель, относились к делу безответственно. Поэтому-то я и уехал. В своей статье я пытаюсь доказать, что в захваченных районах нам необходимо сотрудничать с местным населением, и тогда при вторжении и оккупации мы избежим крупных потерь. Именно так должна строиться промусульманская или протюркская политика. Разумеется, последнее слово остается за властью, и только за ней». – «Мне казалось, что одна из задач операций на Кавказе – убедить Турцию участвовать в войне на нашей стороне?» – «Конечно. Если мы дойдем до Ирака или Ирана, она так и поступит. Саракоглу осторожен, но он не захочет упустить шанс получить обратно территории, некогда принадлежавшие Оттоманской империи». – «Да, но не станет ли он покушаться на наше жизненное пространство?» – поинтересовался я. «Нет. Мы стремимся создать континентальную империю; какой смысл обременять себя дальними владениями, да и средств у нас нет. Естественно, мы сохраним за собой нефтяные ресурсы Персидского залива, а остальные британские колонии на Ближнем Востоке передадим Турции». – «А что нам взамен готова дать Турция?» – осведомился Фосс. «Она может стать для нас чрезвычайно полезной. Возьмем, к примеру, ее географическое положение: использование турецких баз помогло бы нам полностью избавить Средний Восток от британского присутствия. Кроме того, она могла бы выделить войска для войны с коммунистами». – «Да, – подхватил я, – Турции давно пора прислать нам полк убыхов». Фосс, уже не в состоянии контролировать себя, захохотал. Оберлендер рассердился: «Да что такое, в конце концов, с этими убыхами? Я что-то не понимаю». – «Я же сказал: навязчивая идея доктора Фосса. Он уже потерял надежду, строчит рапорт за рапортом, но командование не желает признать стратегическую важность убыхов. Здесь ставят на карачаевцев, кабардинцев и балкар». – «Да, но почему доктор Фосс смеется?» – «Да, действительно, почему? – строго обратился я к Фоссу и заверил Оберлендера: – Думаю, это нервное. Давайте-ка, доктор Фосс, глотните вина». Фосс выпил немножко и постарался взять себя в руки. «Я не специалист в данном вопросе и не берусь судить», – заявил Оберлендер. Потом повернулся к Фоссу: «Я бы с удовольствием ознакомился с вашими материалами об убыхах». Фосс судорожно закивал головой: «Доктор Ауэ, – взмолился он, – я буду вам крайне признателен, если вы смените тему». – «Как угодно. Да, собственно, вот и еда». Нам накрыли стол. Оберлендер был явно раздражен; у Фосса горели щеки. Чтобы не затягивать молчание, я спросил у Оберлендера: «Успешно ли „Горец“ борется с партизанами?» – «В горах мои солдаты – грозная сила. Некоторые ежедневно приносят нам отрезанные головы или уши. А на равнинах они не лучше наших людей. Сжигают деревни вокруг Моздока. Я пытался объяснить, что нельзя делать такие вещи постоянно, но в них это сидит – просто атавизм! И еще серьезно стоит вопрос дисциплины, главным образом дезертирства. Такое впечатление, что по большей части они вербовались, чтобы попасть домой; как только мы оказались на Кавказе, случаи бегства сразу участились. Я приказал расстрелять перед строем тех, кого удалось поймать, надеюсь, остальных это несколько отрезвило. У меня ведь в основном чеченцы и дагестанцы, а их земли пока в руках большевиков. Кстати, вы слышали об антисоветском восстании в Чечне? В горах». – «Да, разговоры были, – ответил я. – Специальное подразделение при айнзатцгруппе сбросило парашютный десант с заданием войти в контакт с повстанцами». – «Очень интересно, – отозвался Оберлендер. – Я слышал, большевики подавили мятеж и приняли крайне жесткие карательные меры. Но нам такая ситуация выгодна. Как бы мне узнать подробности?» – «Советую обратиться к оберфюреру Биркампу, в Ворошиловск». – «Обязательно. А у вас что? Много хлопот с партизанами?» – «Не особенно. Есть один отряд, который свирепствует под Кисловодском. „Лермонтов“. Здесь принято, что ни попадя, называть „Лермонтов“». Теперь Фосс рассмеялся от души: «Бурную деятельность они развили?» – «Откровенно говоря, нет. Прячутся в горах, спускаться боятся. В основном добывают сведения для Красной Армии. Например, посылают мальчишек считать мотоциклы и грузовики перед фельдкомендатурой». Мы заканчивали ужин. Оберлендер рассказал еще об Ostpolitik и новой военной администрации: «Генерал Кестринг – отличная кандидатура. Я уверен, под его руководством эксперимент пройдет удачно». – «Вы знакомы с доктором Бройтигамом?» – спросил я. «С Бройтигамом? Конечно же. Мы нередко обмениваемся соображениями по тем или иным поводам. Очень умный, преданный делу человек». Оберлендер допил кофе и извинился. Мы попрощались, и Фосс вышел проводить его. Я остался курить. «Вы просто невыносимы», – заметил Фосс, снова усаживаясь за стол. «Почему же?» – «Сами прекрасно знаете». Я пожал плечами: «По-моему, ничего обидного». – «Оберлендер наверняка подумал, что мы над ним потешались». – «Да ведь так оно и есть, мы над ним потешались. Но учтите: он в этом никогда не признается, смелости не хватит. Вы не хуже меня знаете психологию профессоров. Если он открыто заявит о своей некомпетентности в убыхском вопросе, то лишится репутации „кавказского Лоуренса“». Когда мы покинули казино, на улице моросил дождик. «Ну, вот и осень», – сказал я, как бы про себя. Привязанная у фельдкомендатуры лошадь фыркала и отряхивалась. Часовые кутались в клеенчатые плащи. Вниз по проспекту Карла Маркса бежали тонкие ручейки. Ливень усиливался. Перед санаторием, в котором мы жили, мы пожелали друг другу доброй ночи. Войдя в комнату, я распахнул балконную дверь и долго слушал, как капли стучат по балкону и железным крышам, шуршат по листьям деревьев, по траве, по влажной земле.
Три дня дождь лил не переставая. Санатории заполнялись ранеными из Малгобека и Сагопши, наступление наших войск на Грозный захлебнулось в отчаянном сопротивлении. Корсеман наградил орденами добровольцев из финского батальона дивизии СС «Викинг», красавцев-блондинов, несколько деморализованных потерями, понесенными батальоном в долине Джурука, под Нижним Курпом. На Кавказе приступила к работе военная администрация. В начале октября согласно декрету генерал-квартирмейстера Вагнера шесть казачьих станиц со 160 000 жителей получили новый статус «самоуправления»; во время большого праздника в Кисловодске предполагалось официально провозгласить Карачаевскую автономию. Вместе с другими старшими офицерами СС я снова был вызван в Ворошиловск к Корсеману и Биркампу. Корсеман волновался по поводу ограничения полномочий СС на автономных территориях, но намеревался продолжать и укреплять политику сотрудничества с вермахтом. А вот Биркамп был просто вне себя; сторонников Ostpolitik он окрестил царистами и балтийскими баронами: «Эта хваленая Ostpolitik – просто-напросто возрождение Тауроггена». Биркамп нервничал оттого, намекнул мне Лееч в частной беседе, что численные показатели массовых расстрелов, проводимых подразделениями СС, не превышали теперь нескольких десятков в неделю: все евреи оккупированных территорий были ликвидированы, за исключением ремесленников, сапожников и портных, оставленных в живых по решению вермахта; а партизаны и коммунисты попадали к нам в руки не часто. Что до национальных меньшинств и казаков, иными словами – основной части населения, то теперь они были практически неприкосновенны. Мне позиция Биркампа представлялась ущербной, но понять его я мог: в Берлине об эффективности работы айнзатцгрупп судили по цифрам, а снижение активности могли списать на просчеты командующего. Тем не менее группа не бездействовала. В Элисте, на границе Калмыцкой степи, сформировали зондеркоманду «Астрахань», названную в честь города, который рассчитывали взять в ближайшее время; в Краснодарском районе, покончив с задачами первостепенной важности, зондеркоманда 10-а в газовой камере грузовика «заурер» уничтожила пациентов психиатрических лечебниц, больных гидроцефалией и дегенератов. Из Майкопа 17-я армия повела наступление на Туапсе, и зондеркоманда-11 приняла участие в ожесточенной борьбе с партизанскими отрядами, развернувшейся в горах, участке и без того опасном, а из-за непрекращающихся дождей ставшего вдобавок непроходимым. Десятое октября, день моего рождения, я отметил в ресторане с Фоссом, ничего ему, впрочем, не сказав; назавтра мы с большей частью АОК отправлялись в Кисловодск на Ураза-байрам, праздник разговения, завершающий месяц Рамадан. Торжество организовали с размахом. За городом был разбит огромный лагерь; морщинистый старик, карачаевский имам, голосом твердым и ясным произносил общую молитву, и в такт его речитативу плотные ряды кепок, ермолок, меховых шапок то одновременно опускались к земле, то вновь поднимались на фоне окружающих холмов. Затем со сцены, украшенной германскими и мусульманскими флагами, Кестринг и Бройтигам провозгласили независимость Карачаевского округа. Громкоговоритель ПК разносил их голоса по всей округе, и после каждой фразы раздавались одобрительные восклицания и ружейные залпы. Фосс, скрестив руки за спиной, переводил обращение Бройтигама; Кестринг зачитал свое по-русски, после чего молодые карачаевцы в порыве восторга подхватили его на руки и принялись качать и подбрасывать в воздух. Бройтигам представил всем кади Байрамукова, крестьянина-антисоветчика, нового главу округа; старик в черкеске, бешмете и высоченной папахе из белой овчины чинно поблагодарил Германию за освобождение от русского ига. Мальчик провел перед сценой прекрасного белого кабардинского коня, спину которого покрывал разноцветный дагестанский ковер-сумак. Конь храпел. Старик пояснил, что это подарок карачаевского народа немецкому правителю Адольфу Гитлеру; Кестринг выразил признательность и заверил, что жеребца обязательно доставят фюреру в Винницу на Украину. Затем юноши в национальных костюмах – под гиканье мужчин, радостные вскрики женщин и ружейные выстрелы – подняли на плечи Кестринга и Бройтигама. Раскрасневшийся Фосс с живейшим интересом наблюдал за происходящим. Мы последовали за толпой: на краю поля под навесами группа женщин хлопотала у длинных столов, ломившихся от угощений. В чугунных котлах тушились в бульоне куски баранины невероятных размеров, на столах красовались вареные куры, дикий чеснок, икра и манты, кавказские пельмени; карачаевские женщины, среди которых было немало красивых и веселых, подавали гостям все новые и новые блюда; пока старшие сидели и ели, юноши, перешептываясь, теснились в стороне. Кестринга и Бройтигама усадили под балдахином вместе со старейшинами, перед ними топтался конь, о котором, похоже, забыли, он натягивал привязь, пытаясь дотянуться до блюд на столе и вызывая смех присутствующих. Музыканты затянули долгую заунывную песню под аккомпанемент небольших, резко звучавших струнных инструментов, чуть позже к ним присоединились ударные, и понеслась неистовая, зажигательная мелодия; по указанию тамады образовался круг, и молодые горцы, красивые, мужественные, благородные, принялись плясать лезгинку, а потом – с изумительной ловкостью – танцы с кинжалами. Алкоголя не было, но большинство гостей-немцев, пунцовые от мяса и бешеного веселья, потные, взбудораженные, казались пьяными. Сложные трюки приветствовались выстрелами, доводившими возбуждение до предела. У меня сердце выпрыгивало из груди; мы с Фоссом топали ногами, хлопали в ладоши, я, как сумасшедший, орал в толпе зрителей. Когда стемнело, праздник продолжался уже при свете факелов; уставшие гости возвращались к столам выпить чаю и перекусить. «Ostpolitik в действии! – прокричал я Фоссу. – Такое убедило бы кого угодно».
Между тем вести с фронта поступали отнюдь не утешительные. Вопреки ежедневным военным сводкам об окончательном прорыве обороны противника в Сталинграде, абвер сообщал, что 6-я армия оказалась в окружении в центре города. Офицеры, приезжавшие из Винницы, подтверждали, что в главном управлении Генерального штаба царит уныние, фюрер почти не разговаривает с генералами Кейтелем и Йодлем и даже не допускает их больше к своему столу. Фосс время от времени передавал мне невеселые слухи, бродившие среди военных: фюрер на грани нервного срыва, подвержен приступам ярости, его решения противоречивы и нелогичны; генералы теряют терпение. Все это, конечно, было преувеличено, но, памятуя о положениях главы «Моральное состояние вермахта», я не мог не признать, что появление подобных слухов в армии тревожно само по себе, Хоенэгг вернулся, но поскольку его конференция проходила в Кисловодске, я с ним еще не виделся; спустя несколько дней он прислал мне приглашение на ужин. Фосс отправился в Прохладный в III бронетанковый корпус: фон Клейст готовил новое наступление на Нальчик и Орджоникидзе, и Фосс следовал за ним, чтобы контролировать сохранность библиотек и институтских архивов.
Тем же утром ко мне в кабинет постучался лейтенант Ройтер, помощник фон Гильсы: «У нас тут казус, в котором должны разобраться вы. Старик какой-то явился по доброй воле, говорит какие-то странности и заявляет, что еврей. Оберст предложил, чтобы вы его допросили». – «Если это еврей, отправляйте его в айнзатцкоманду». – «Да, разумеется. Но вы не желаете на него взглянуть? Уверяю вас, это любопытно». Ординарец привел рослого старика с длинной белой, но все еще густой бородой. На нем была черная черкеска, мягкие кожаные туфли с галошами, которые носят кавказские крестьяне, и красивая, расшитая фиолетовыми, голубыми и золотыми нитями ермолка. Я указал ему на стул и раздраженно спросил у ординарца: «Он ведь наверняка говорит только по-русски? Где толмач?» Старик пристально посмотрел на меня и сказал на классическом греческом, правда, с сильным акцентом: «Я вижу, ты человек образованный, стало быть, должен владеть греческим». Пораженный, я отослал ординарца и ответил: «Да, я учил греческий. А как получилось, что ты его знаешь?» Он не обратил ни малейшего внимания на вопрос. «Мое имя Нахум бен Ибрагим из Магарамкента, Дербентской губернии. При русских я взял фамилию Шамильев, в честь великого Шамиля, вместе с которым сражался мой отец. А к тебе как обращаться?» – «Я – Максимилиан. Из Германии». – «Кто твой отец?» Я улыбнулся: «Какое тебе дело до моего отца, старик?» – «А как, по-твоему, выяснить, с кем я беседую, если мне ничего неизвестно о твоем отце?» В его греческом встречались совершенно необычные конструкции, но понимал я все. Я назвал имя отца, старик удовлетворенно кивнул. Потом я ему заметил: «Ты, должно быть, очень стар, если твой отец воевал с Шамилем». – «Мой отец погиб у Дарго, убив десятки русских, и увенчал себя славой. Он был очень набожный, и Шамиль уважал его религию и всегда повторял, что мы, даг-чуфуты, ближе к Богу, чем мусульмане. Я помню день, когда в мечети Ведено он так и заявил своим мюридам». – «Невероятно! Ты не мог видеть Шамиля лично. Покажи паспорт». Он протянул мне книжечку, я быстро пролистал страницы. «Ну вот, смотри сам! Здесь указано, что ты родился в тысяча восемьсот шестьдесят шестом. В то время Шамиль уже содержался в плену у русских, в Калуге». Он спокойно забрал у меня документы и сунул во внутренний карман. Хитро прищурился, в его глазах поблескивали искорки смеха. «И ты хочешь, чтобы дербентский чиновник, – старик употребил русское слово, – бедняга, даже не окончивший начальной школы, знал год моего рождения? Он и не спрашивал меня, просто прибавил к дате выдачи паспорта семьдесят лет. Но я гораздо старше и родился еще до того, как Шамиль поднял восстание. Я уже был мужчиной, когда у аула Дарго отца убили русские собаки. Я бы занял его место рядом с Шамилем, если бы уже не изучал Закон, и Шамиль убедил меня, что воинов и так достаточно, а ему нужны ученые мужи». Я не знал, что и думать, в словах старика звучала твердая убежденность, но ведь это совершенно невероятно: выходило, что ему, по меньшей мере, сто двадцать лет. «А греческий-то у тебя откуда?» – снова приступил я. «Дагестан – не Россия, офицер. Самые образованные в мире люди, мусульмане и евреи, жили в Дагестане, пока их безжалостно не поубивали русские. К нашим мудрецам за советом ехали из Аравии, Туркестана и даже Китая. И даг-чуфуты не имеют ничего общего с грязными евреями из России. Родной язык моей матери – фарси, а вокруг все говорили по-турецки. Я выучил русский, чтобы вести торговлю, ведь как наставлял рабби Элиезер, мыслями о Боге желудок не наполнишь. Арабским я овладел с имамами в медресе Дагестана, а греческий и иврит выучил по книгам. Мне незнаком язык польских евреев, этот искаженный немецкий». – «Ты действительно человек просвещенный». – «Не смейся надо мной, meirakion [25]. Я тоже знаю ваших Платона и Аристотеля. Но я их читал вместе с трудами Моисея де Леона, вот в чем огромная разница». Я уже несколько минут сосредоточенно рассматривал его подстриженную квадратом бороду и выбритую верхнюю губу. Она привлекла мое внимание: под носом вместо обычной ямочки было совершенно гладкое место. «Почему у тебя такая губа? Я ни разу такого не видел». Он дотронулся пальцем: «Это? Когда я появился на свет, ангел не запечатал мне уста. Поэтому я помню все, что происходило до моего рождения». – «Я не понимаю тебя». – «Но ведь ты же образованный. О рождении ребенка написано в книге малых мидрашей. Сначала родители совокупляются. Так возникает капля, в которую Бог вдыхает дух человеческий. Утром ангел приносит каплю в рай, а вечером в ад, затем показывает, где она будет жить на земле и где будет похоронена, когда Бог снова призовет ее дух к Cебе. Далее написано так, извини, что выходит путано, но мне приходится переводить с иврита, которого ты не знаешь: Ангел помещает каплю в материнское лоно, Cвятой, да пребудет Он благословен, запирает за ней двери и засовы. Святой, да пребудет Он благословен, говорит ей: „Ты дойдешь сюда и не дальше“. И ребенок остается во чреве матери девять месяцев. Затем написано: ребенок ест то, что ест его мать, пьет то, что пьет его мать, но не испражняется, потому что, сделай он это, мать его умрет. И далее: и когда наступает момент его появления на свет, предстает пред ним ангел и говорит: „Выходи, пришел момент твоего рождения“. И дух ребенка отвечает: „Я уже говорил тому, кто предо мной, что доволен миром, в котором жил“. Ангел же отвечает ему: „Мир, в который я веду тебя, прекрасен“. И еще: „Помимо воли твоей ты рос в теле матери и помимо воли твоей родился и придешь в мир“. Тогда ребенок принимается плакать. А почему он плачет? Потому что вынужден покинуть мир, в котором жил раньше. И только он выходит, ангел стукает его по носу и гасит свет над его головой, ангел выводит ребенка вопреки его воле, и ребенок забывает все, что видел до того. И, родившись, сразу начинает плакать. Вот что рассказывается об ударе по носу: ангел запечатывает губы ребенка, и эта печать оставляет след. Но забывает ребенок постепенно. Однажды, уже очень давно, я среди ночи застал своего трехлетнего сына у колыбели младшей сестры: „Расскажи мне о Боге, – просил он, – а то я забываю“. Вот почему человеку потом приходится все узнавать о Боге заново по книгам, вот почему люди становятся злыми и убивают друг друга. Но меня ангел вывел и не запечатал губы, как ты уже заметил, поэтому я помню все». – «То есть тебе известно, где тебя похоронят?» – воскликнул я. Он широко улыбнулся: «Именно поэтому я у тебя». – «Это далеко отсюда?» – «Нет, если хочешь, могу показать». Я встал, взял пилотку: «Идем».
Я обратился к Ройтеру с просьбой дать мне в сопровождение фельджандарма; он отослал меня к командиру роты, а тот приказал какому-то ротвахмистру: «Ханнинг! Следуй за гауптштурмфюрером и выполняй все, что он тебе велит». Ханнинг надел каску, перекинул винтовку через плечо; он, наверное, разменял уже пятый десяток; при ходьбе на его узкой груди подпрыгивал большой железный полумесяц. «Нам еще понадобится лопата», – добавил я. На улице я повернулся к старику: «Так куда нам?» – «Туда», – он указал пальцем на Машук, вершину которого окутывали облака, так что казалось, будто гора выплевывает клубы дыма. Мы в сопровождении Ханнинга с лопатой на плече пересекли городские улицы и добрались до самой последней, той, что опоясывает склон; старик двинулся направо, в сторону Провала. Вдоль дороги высились ели, и в одном месте между деревьев петляла тропинка. «Туда», – сказал старик. «Ты и вправду никогда здесь не бывал?» – поинтересовался я. Он лишь пожал плечами. Мы поднимались по крутому серпантину. Старик бодро и уверенно шагал впереди, из-за моей спины слышалось тяжелое, шумное дыхание Ханнинга. Деревья кончились, ветер разогнал облака. Чуть погодя я обернулся. На горизонте четко вырисовывалась Кавказская гряда. Ночной дождь смыл наконец надоевшую летнюю дымку, открыв чистые, величественные горы. «Хватит мечтать», – одернул меня старик. Я очнулся. Мы карабкались по склону еще около получаса. Мое сердце бешено колотилось, мы с Ханнингом еле переводили дух, а старик был свеж, как молодое деревце. В конце концов мы добрались до покрытого травой выступа, расположенного в каких-нибудь ста метрах от вершины. Старик стал у края, глядя вдаль. Пожалуй, именно теперь я впервые увидел Кавказ. Мощная, высокая, чуть наклоненная стена горных вершин тянулась в обе стороны горизонта, и мне чудилось, что, прищурившись, справа можно будет различить уступы, спускающиеся в Черное море, а слева – в Каспийское. Голубые склоны венчали нежно-желтые и алебастровые гребни; на их фоне возвышался белый Эльбрус, похожий на огромную перевернутую чашу молока; над Осетией возвышался Казбек. Это было прекрасно, как музыка Баха. Зачарованный, я не в силах был произнести ни слова. Старик показал рукой на восток: «Там, за Казбеком, Чечня, а за ней Дагестан». – «А где же твоя могила?» Он обвел глазами площадку, сделал несколько шагов, топнул и произнес: «Здесь». Я снова посмотрел на горы: «Неплохо для последнего пристанища, верно?» – сказал я. Старик радостно заулыбался: «Правда?» Я уже стал сомневаться, а не издевается ли он надо мной. «Ты действительно знал?» – «Разумеется!» – оскорбился старик. Но мне почудилось, что он усмехнулся в бороду. «Тогда рой», – распорядился я. «Рой? Да как тебе не стыдно, meirakiske [26]? Ты представляешь, сколько мне лет? Я мог бы быть дедом твоего деда! Я тебя скорее прокляну, чем буду рыть». Я пожал плечами и обратился к Ханнингу, поджидавшему рядом с лопатой наготове. «Ройте, Ханнинг». – «Рыть, гауптштурмфюрер? Что рыть?» – «Могилу, ротвахмистр. Тут». Он мотнул головой: «А старик? Он сам не может?» – «Нет. Давайте, приступайте». Ханнинг положил каску и винтовку на траву и направился к указанному месту. Поплевал на ладони и начал рыть. Старик любовался горами. Я прислушивался к шелесту ветра, смутному шуму города под нами, стуку лопаты, улавливал звук падающих комьев земли и вздохи Ханнинга. Я взглянул на старика: повернувшись лицом к горам и солнцу, он что-то шептал. Я снова перевел взгляд на горы. Бесконечную тонкую игру света, переливы сине-голубых красок, оттенявших склоны, можно было сравнить с длинной музыкальной вариацией, ритм ей сообщали горные пики. Ханнинг расстегнул ворот полевого кителя, снял куртку, работал он методично и уже вырыл яму по колено. Старик весело спросил у меня: «Ну, как продвигается дело?» Ханнинг прервал работу и облокотился на рукоятку. «Недостаточно, гауптштурмфюрер?» – задыхаясь, пробормотал он. Яма казалась достаточно длинной, а вот глубина едва достигала полуметра. «Нормально для тебя?» – спросил я у старика. «Ты шутишь! Ты вздумал похоронить меня, Нахума бен Ибрагима, в могиле, достойной лишь бедняков! Ты же не nepios» [27]. – «Увы, Ханнинг. Придется вам рыть еще». – «Скажите, гауптштурмфюрер, – спросил меня Ханнинг, вновь берясь за дело, – вы с ним на каком языке общаетесь? Ведь это не русский». – «На греческом». – «Так старик что – грек?! Я думал, он еврей». – «Вы ройте, ройте». Он выругался и принялся копать. Минут через двадцать он снова остановился, уже совершенно обессиленный. «Вообще-то, гауптштурмфюрер, нас тут двое, и я не самый молодой». – «Вылезайте и дайте мне лопату». Я тоже снял пилотку и китель и сменил Ханнинга. Надо сказать, в рытье могил я был не силен. Мне понадобилось немало времени, чтобы приноровиться. Старик наклонился ко мне: «Скверно ты справляешься. Сразу видно, что ты проводил жизнь за книгами. У нас даже раввины умеют строить дома. Но парень ты неплохой. Правильно, что я выбрал тебя». Я продолжал копать, землю теперь приходилось выбрасывать довольно высоко, часть ее сыпалась обратно. «Ну, теперь сойдет?» – крикнул я. «Еще немного. Я мечтаю о могиле, удобной, как материнское лоно». – «Ханнинг, – позвал я, – ваш черед». Ханнинг подал мне руку, чтобы я выбрался из ямы, которая была уже по грудь. Пока Ханнинг махал лопатой, я оделся и закурил и снова, как завороженный, уставился на горы. Старик тоже не сводил с них глаз. «Знаешь, я ведь очень горевал, что мне не суждено покоиться в родной долине у Самура, – произнес он. – Но сейчас я оценил мудрость ангела. Здесь прекрасно». – «Да», – согласился я и покосился на винтовку Ханнинга, валявшуюся на траве рядом с каской. Теперь, когда над землей торчала только голова ротвахмистра, старик счел глубину достаточной. Я помог Ханнингу вылезти. «Что дальше?» – полюбопытствовал я. «Ты должен опустить меня в яму. А как же? Ты же не рассчитываешь, что Бог поразит меня молнией?» Я отчеканил: «Ротвахмистр Ханнинг! Наденьте форму и расстреляйте этого человека». Ханнинг побагровел, сплюнул и чертыхнулся. «В чем дело?» – «При всем уважении к вам, гауптштурмфюрер, для выполнения специальных задач мне необходим приказ моего командира». – «Лейтенат Ройтер отдал вас в мое распоряжение». Ханнинг колебался. «Ну, ладно», – выдавил он. Отряхнул брюки, напялил куртку и каску, пристегнул бляху и взял винтовку. Старик, улыбаясь, сидел на краю могилы лицом к горам. Ханнинг вскинул винтовку и прицелился ему в затылок. «Подождите!» Ханнинг опустил винтовку, старик вполоборота повернулся ко мне. «А мою могилу ты тоже видел?» – заторопился я. Он расплылся в улыбке: «Да». У меня перехватило дыхание, я побледнел и почувствовал необычайное смятение. «И где же?» Он усмехнулся: «Этого я тебе не скажу». – «Стреляйте!» – крикнул я Ханнингу. Он поднял ствол и пальнул. Старик моментально упал, словно марионетка, у которой перерезали веревочки. Я приблизился и нагнулся над ямой: он валялся на дне, словно бесформенный мешок, голова на бок, и по-прежнему ухмылялся в бороду, забрызганную кровью; в глазах, смотревших на край могилы, тоже читалась насмешка. Меня передернуло. «Засыпьте яму», – сухо велел я Ханнингу.
У подножия Машука я отослал Ханнинга в АОК, а сам пошел через Академическую галерею в Пушкинские ванны, частично открытые вермахтом для выздоравливающих солдат. Там я скинул одежду и погрузился в горячую, коричневатую сероводородную воду. Ванну я принимал долго, потом растирался под холодным душем. Мои физические и душевные силы полностью восстановились: кожу украшали красные и белые полосы, я ощущал бодрость, легкость. Я вернулся к себе на квартиру и целый час лежал на диване, скрестив ноги, лицом к балконной двери. Потом переоделся и, закурив, спустился в АОК за машиной, зарезервированной еще утром. По пути я любовался вулканами и нежно синеющими склонами Кавказа. При въезде в Кисловодск дорога пересекала Подкумок; внизу крестьяне вброд переправлялись через реку на повозках; последнюю – простую доску, положенную на колеса, – тянул верблюд с толстой шеей и клочковатой шерстью. На город спускались осенние сумерки. Хоенэгг поджидал меня в казино. «Прекрасно выглядите», – воскликнул он. «Я прямо-таки заново родился, а вот день у меня выдался необычный». – «Сейчас вы мне расскажете». На углу стола в ведрах со льдом охлаждалось белое вино из Пфальца. «Вот попросил жену прислать». – «Вы, доктор, маг и чародей». Он откупорил первую бутылку: холодное вино покалывало язык, оставляя приятное фруктовое послевкусие. «Как ваша конференция?» – спросил я. «Очень хорошо. Мы уже разобрали ситуации с холерой, тифом, дизентерией и приступили к обсуждению больного вопроса – обморожений». – «Ну, до этого пока далеко». – «Вот именно – пока. А что у вас?» Я рассказал ему историю о старом горском еврее. «Настоящий мудрец этот Нахум бен Ибрагим. Нам есть чему позавидовать», – заметил Хоенэгг, когда я закончил. «Вы совершенно правы». Наш стол был придвинут к перегородке, за которой располагались отдельные кабинеты; оттуда доносился гул голосов и хохот. Я выпил еще вина. «Тем не менее, – констатировал я, – признаюсь, мне сложно его понять». – «Отчего же, – возразил Хоенэгг, – мне кажется, есть три возможных способа восприятия нашего абсурдного существования. Первый демонстрируют массы, hoi polloi, отказывающиеся замечать, что жизнь всего лишь шутка. Вот они и не иронизируют над ней, а работают, копят, жуют, испражняются, блудят, плодятся, стареют, словно волы в упряжке, и подыхают идиотами. Их большинство. Другие, и я в их числе, отдают себе отчет, что жизнь – фарс, и имеют мужество смеяться над ней, так поступают еще даосы или ваш еврей. Третьи, и это, если я не ошибся в диагнозе, как раз ваш случай, видят, что жизнь – шутка и страдают из-за этого. Я тут наконец прочитал вашего Лермонтова, – и он процитировал по-русски: „а жизнь… такая пустая и глупая шутка“». По-русски я уже понимал и поэтому добавил: «Ему бы следовало еще приписать: грубая». – «Это ему наверняка приходило в голову, но тогда нарушился бы стихотворный размер». – «Эти третьи понимают вашу позицию». – «Да, но принять ее не могут». Голоса за перегородкой зазвучали отчетливо: официантка оставила дверь открытой. Я узнал вульгарные интонации Турека и его дружка Пфейфера. «Баб надо гнать из СС!» – возмущался Турек. «Вот именно! Он должен сидеть в концлагере, а не позорить военный мундир», – вторил Пфейфер. «Да, – вмешался еще кто-то, – но нужны доказательства». – «Их засекли вместе на днях у Машука, – сказал Турек. – Они сошли с дороги и углубились в лес, чтобы заняться своими мерзостями». – «Вы уверены?» – «Слово офицера». – «А если вы обознались?» – «Да Ауэ находился от меня на том же расстоянии, что вы сейчас». Все вдруг замолчали. Турек медленно обернулся и увидел меня на пороге. От его багрового лица отхлынула кровь. Пфейфер, сидевший напротив него, позеленел. «Досадно, что вы так легко бросаете на ветер слово офицера, гауптштурмфюрер, – бесстрастно и твердо выговорил я. – Так оно быстро обесценивается. Однако еще не поздно взять обратно ваши гнусные заявления. Я вас предупреждаю: если вы откажетесь, то мы будем драться». Турек вскочил, резко отбросив стул. Губы его нелепо кривились, и потому выглядел он еще более растерянным и неуверенным в себе, чем обычно. Он посмотрел на Пфейфера: тот подбадривающе кивнул. «Ничего я забирать не стану», – с усилием выдавил Турек. Пойти до конца он не решался. Меня трясло, но я продолжил спокойно и внятно: «Вы в этом уверены?» Я старался его спровоцировать, разозлить и отрезать ему пути к отступлению. «Меня не так просто убить, как безоружного еврея, уверяю вас». Обстановка накалилась. «СС оскорбляют!» – заорал Пфейфер. Мертвенно-бледный Турек молчал и вращал глазами, как взбесившийся бык. «Ну что же, прекрасно. Я скоро пришлю к вам своего человека», – подытожил я, щелкнул каблуками и вышел из ресторана. Хоенэгг догнал меня на лестнице: «То, что вы устроили сейчас, неразумно. Вам, наверное, Лермонтов голову вскружил». Я пожал плечами. «Доктор, я считаю вас благородным человеком. Вы будете моим секундантом?» Теперь пожал плечами он: «Если хотите. Но это глупо». Я дружески похлопал его по руке. «Не волнуйтесь! Все образуется. Не забудьте вино, нам оно понадобится». Хоенэгг повел меня в свою комнату, где мы и допили первую бутылку. Я рассказал ему о себе, о дружбе с Фоссом: «Фосс очень мне нравится. Удивительный человек! Но между нами нет ничего, даже отдаленно напоминающего то, что навыдумывали эти свиньи». Потом я отправил Хоенэгга с поручением в тайлькоманду, а в его отсутствие открыл вторую бутылку, курил и наблюдал, как закатные лучи играют на деревьях в парке и склонах Малого седла. Хоенэгг возвратился примерно через час. «Я вас предупреждаю еще раз, – он отхлебнул из бокала, – они затеяли грязное дело». – «Это как?» – «Я вошел в подразделение и услышал, как они спорят. Я пропустил начало, говорил толстяк: „Таким образом, мы не подвергаемся риску, эти люди иного и не заслуживают“. Потом ваш противник – это тот ведь, что похож на еврея? – воскликнул: „А его секундант?“ Ему ответили: „Тем хуже для секунданта“». Потом я вошел, и они замолчали. Мое мнение: они просто готовятся нас убить. А вы еще рассуждаете о чести СС». – «Не тревожьтесь, доктор. Я приму меры безопасности. Вы обо всем с ними условились?» – «Да. Мы встречаемся завтра в шесть вечера у выезда из Железноводска и отправляемся на поиски какой-нибудь укромной балки. В смерти одного из вас обвинят партизан, орудующих в окрестностях». – «Да, точно, пустовский отряд. Отлично придумано. Но не пойти ли нам поужинать?»
В Пятигорск я вернулся, наевшись и напившись до отвала. За ужином Хоенэгг был мрачен: я понимал, что он не одобряет моих действий и вообще всей этой истории. Я же находился в странном возбуждении, у меня словно груз свалился с плеч. Турека я убил бы с удовольствием, но следовало подумать, как избежать расставленной им и Пфейфером ловушки. Через час после моего возвращения ко мне постучали. Ординарец из айнзатцкоманды протянул мне бумагу. «Извините, что побеспокоил вас так поздно, герр гауптштурмфюрер. Но это срочный приказ из группенштаба». Я вскрыл письмо: Биркамп вызывал меня и Турека к себе в восемь часов. Кто-то проболтался. Я отпустил ординарца и рухнул на диван. Такое ощущение, что я проклят: мне как будто запрещено совершать благородные поступки! Мне казалось, что я прямо вижу, как старый еврей смеется надо мной в своей могиле на выступе Машука. Обессиленный, я разрыдался и уснул в слезах, даже не раздевшись.
Утром в назначенное время я явился в Ворошиловск. Турек приехал отдельно. В одиночестве мы навытяжку стояли рядом перед кабинетом Биркампа. Биркамп высказался прямо: «Господа! До меня дошли сведения, что вы публично осыпáли друг друга оскорблениями, недостойными офицеров СС, и решить ваш спор намереваетесь строго возбраняемым уставом способом, который вдобавок может лишить подразделение двух ценных и незаменимых членов. Потому что, не извольте сомневаться, оставшийся в живых незамедлительно предстанет перед трибуналом СС и полиции и получит высшую меру или срок в концентрационном лагере. Напоминаю, что ваша первостепенная задача – служить фюреру и народу, а не собственным страстям и амбициям: вы считаете, что вправе распоряжаться собственной жизнью, – отлично, тогда отдайте ее за Рейх. Итак, я пригласил вас сюда, чтобы вы принесли друг другу извинения и примирились. Я настаиваю, выполняйте приказ». Ни я, ни Турек не произнесли ни слова. «Гауптштурмфюрер?» – обратился Биркамп к Туреку, тот молчал. Биркамп повернулся ко мне: «А вы, гауптштурмфюрер Ауэ?» – «Я очень уважаю вас, оберфюрер, но я лишь отвечал на нападки гауптштурмфюрера Турека. Я полагаю, что ему следует извиниться первому, иначе я буду вынужден защищать свою честь, какие бы последствия мне не грозили». Биркамп вновь обратился к Туреку: «Гауптштурмфюрер, правда ли, что ссору затеяли вы?» Турек до скрипа стиснул зубы: «Да, оберфюрер, – наконец буркнул он, – это так». – «Тогда я вам приказываю извиниться перед гауптштурмфюрером доктором Ауэ». Турек крутанулся на четверть оборота, щелкнул каблуками и вытянулся передо мной; я сделал то же самое. «Гауптштурмфюрер Ауэ, – глухо, с расстановкой промолвил он, – я прошу вас принять мои извинения за несправедливые обвинения по отношению к вам. Я выпил лишнего и не владел собой». – «Гауптштурмфюрер Турек, – сердце у меня застучало, – я принимаю ваши извинения и тоже прошу у вас прощения за свою несдержанность». – «Отлично, – сухо сказал Биркамп, – теперь подайте друг другу руки». Я пожал влажную ладонь Турека. После этого мы повернулись к Биркампу. «Господа, я не знаю, что вы наговорили сгоряча, меня это не интересует. Я рад, что инцидент исчерпан. Но если подобное повторится, я отправлю вас обоих в штрафной батальон ваффен-СС. Ясно? Идите».
Я покинул кабинет Биркампа и пошел к доктору Леечу. Фон Гильса сообщил мне, что самолет разведки вермахта облетел Шатойский район и на сделанных им снимках видно множество разрушенных деревень; однако в IV воздушном корпусе утверждали, что их летчики не совершали налетов на Чечню, и разрушения объясняли бомбардировками советской авиации, что как раз и подтверждало слухи о подавлении масштабного чеченского восстания. «Куррек уже высадил в горах парашютный десант, – сказал Лееч, – о котором с тех пор ничего неизвестно. То ли они дезертировали, то ли их убили или захватили в плен». – «Вермахт полагает, что мятеж в советском тылу способствовал бы успеху наступления на Орджоникидзе». – «Возможно. Но, по-моему, его уже подавили, если нечто подобное вообще имело место. Сталин так бы не рисковал». – «Безусловно. Не могли бы вы меня проинформировать, если поступят новости от штурмбанфюрера Куррека?» На выходе я неожиданно встретился с Туреком; опершись на дверной косяк, он беседовал с Приллем. Парочка прекратила разговор и провожала меня взглядом. Я вежливо поздоровался с Приллем и отправился обратно в Пятигорск.
В тот же вечер я увиделся с Хоенэггом, он совершенно не был расстроен. «Такова действительность, мой дорогой друг, – заявил он мне. – Это отобьет у вас охоту играть в романтического героя. Лучше пропустим по стаканчику». Но мне происшедшее не давало покоя. Кто же все-таки донес на нас Биркампу? Наверняка один из товарищей Турека, испугавшийся скандала. Или кто-то среди них, знавший о ловушке, хотел сорвать подлый план? Вряд ли совесть замучила самого Турека. Интересно, что они с Приллем замышляют теперь: определенно ничего хорошего.
Впрочем, бурно развивающиеся события вскоре отодвинули всю эту историю на второй план. III танковый корпус фон Макензена при поддержке люфтваффе атаковал Орджоникидзе; в конце октября наши войска сломили сопротивление советской армии и буквально за два дня взяли город. Танки двинулись дальше на восток. Я заказал машину, чтобы съездить сначала в Прохладный к Перштереру, а затем в Нальчик. Моросил дождь, но особых затруднений на дороге не было, лишь после Прохладного появились колонны грузовиков рольбана с продовольствием. Перштерер намеревался перевести штаб командования в Нальчик и направил туда форкоманду заниматься расквартированием. Город пал быстро, и нам удалось арестовать многих партийных функционеров и прочих неблагонадежных типов; кроме того, здесь было множество евреев и советских чиновников, как русских, так и местных. Я напомнил Перштереру правила поведения с кавказцами, выработанные вермахтом: ни в коем случае не портить с ними отношения и в ближайшее время создать Кабардино-Балкарский автономный округ. В Нальчике я заглянул в военную комендатуру, там кипела работа. Развороченные бомбардировками люфтваффе дома дымились под дождем. Я отыскал Фосса, разбиравшего стопки книг в каком-то пустом помещении; видно было, что он в восторге от своих находок. «Посмотрите-ка», – сказал он, протягивая мне потрепанную книгу на французском. Заглавие на обложке гласило: «Народности Кавказа, северно-черноморских земель и области Каспийского моря в X веке, или Путешествия Абу-эль-Касима», издано в Париже в 1828 году неким Константином Мураджой Оссоном. Я вернул ему книгу с видом живейшего одобрения: «Богатая у вас добыча?» – «Да, не жалуюсь. Бомба попала в библиотеку, но потери невелики. Зато ваши коллеги нацелились забрать ценные экземпляры для СС. Я пытался уточнить, что именно их интересует, но специалистов здесь нет, а сами они толком не знают. Тогда я предложил полку с томами Маркса по политэкономии. Но они ответили, что нужно проконсультироваться с Берлином. На том и расстались». Я засмеялся: «Мой долг – помешать вам». – «Да, наверное. Но вы же не станете». Потом я рассказал о ссоре с Туреком, Фосс счел ситуацию ужасно комичной: «Вы хотели драться за меня на дуэли? Доктор Ауэ, вы неисправимы. Что за чушь!» – «Не из-за вас: оскорбили меня». – «И доктор Хоенэгг согласился быть вашим секундантом?» – «Не слишком охотно». – «Я удивлен. Мне казалось, он разумный человек». Я несколько обиделся на Фосса; он, конечно, заметил, что я помрачнел, и захохотал: «Не дуйтесь! Помните, что грубияны и невежды сами себя наказывают».
Я не мог остаться на ночь в Нальчике, так как торопился в Пятигорск составлять рапорт. На следующий день меня вызвал фон Гильса. «Гауптштурмфюрер, у нас в Нальчике возникала проблема, касающаяся и СП». Он объяснил мне, что зондеркоманда уже начала расстреливать евреев возле ипподрома: с русскими евреями, в основном коммунистами и партийными аппаратчиками, вопрос ясен, но кроме них есть еще местные евреи, кавказские, так называемые горские. Один из их старейшин встречался с Селимом Шадовым, кабардинским адвокатом, которого наша военная администрация назначила главой будущей автономии; Шадов в свою очередь попросил аудиенции у генерал-оберста фон Клейста и доказывал, что представители этой диаспоры по происхождению не евреи, а горцы, которые приняли иудаизм, как их соседи кабардинцы приняли ислам. «По словам Шадова, горские евреи питаются, одеваются, женятся по обычаям прочих кавказцев и не владеют ни ивритом, ни идишем. Они живут в Нальчике более ста пятидесяти лет и говорят, помимо собственного языка, на кабардинском и балкарском. Господин Шадов предупредил генерал-оберста, что кабардинцы не допустят гибели своих братьев и горские евреи не должны подвергаться репрессиям и носить желтую звезду». – «И что же генерал-оберст?» – «Вам известно, что на Кавказе вермахт проводит политику, цель которой наладить контакты с национальными антикоммунистическими меньшинствами. И выполнение столь важной задачи не должно сорваться из-за пустяка. Безусловно, безопасность наших военных превыше всего. Но если эти люди – не евреи по крови, то, вероятно, они и не опасны. Вопрос тонкий и требует изучения. Вермахт создаст специальную комиссию и вынесет заключение. А пока генерал-оберст просит полицию безопасности не предпринимать никаких действий против горской группы. Естественно, СП вольна иметь собственное мнение по этой проблеме, и вермахт его учтет. Я думаю, что ОКХГ передаст дело генералу Кестрингу. В конце концов, речь о так называемой зоне самоуправления». – «Да, герр оберст. Я все себе отметил и передам рапорт выше». – «Благодарю. Буду вам очень признателен, если вы попросите оберфюрера Биркампа письменно подтвердить, что СП пока воздержится от операций без согласования с вермахтом». – «Zu Befehl, герр оберст».
Я связался с оберштурмбанфюрером Германом, с прошлой недели заменившим доктора Мюллера, и ввел его в курс дела. «Биркамп вот-вот придет, – ответил Герман, – ждем вас в штабе подразделения». Биркамп, оказывается, уже был обо всем осведомлен. «Это совершенно неприемлемо! – отрубил он. – Вермахт слишком много себе позволяет. Защищать евреев – прямое посягательство на авторитет фюрера». – «Прошу прощения, оберфюрер, насколько я понял, вермахт просто не уверен, что эти люди действительно евреи. Если выяснится обратное, то ОКХГ ни в коем случае не станет препятствовать СП в выполнении необходимых мер». Биркамп пожал плечами: «Вы слишком наивны, гауптштурмфюрер. Вермахт что захочет, то и докажет. Они просто нашли еще один предлог помешать работе СП». – «Извините, – вмешался Герман, за строгостью его тонкого лица проглядывала мечтательность, – вы уже сталкивались с чем-то подобным?» – «Мне известно только о частных случаях. Надо бы разобраться», – сказал я. «Ко всему прочему, – прибавил Биркамп, – ОКХГ пишет, что, по словам Шадова, мы ликвидировали деревню горских евреев под Моздоком, и требует от меня письменных объяснений». Герман с трудом улавливал суть. «А это действительно так?» – поинтересовался я. «Послушайте, я же не помню наизусть список наших операций… Я поговорю со штурмбанфюрером Перштерером, это его сектор». – «Но, как тут ни крути, речь о евреях, и упрекать Перштерера не в чем», – выразил свое мнение Герман. «Вы еще плохо знакомы с вермахтом, оберштурмбанфюрер. Они используют малейшую возможность, чтобы ткнуть нас носом в грязь». – «А что думает бригадефюрер Корсеман?» – осторожно поинтересовался я. Биркамп снова передернул плечами: «Бригадефюрер считает, что нужно избегать лишних трений с вермахтом. Переубеждать его бесполезно». – «Мы можем привлечь наших экспертов», – предложил Герман. «Отличная идея, – одобрил Биркамп. – Как вам кажется, гауптштурмфюрер?» – «В распоряжении СС имеется достаточно документов по данной проблеме, – подтвердил я. – Если потребуется, мы, конечно, подключим наших специалистов». Биркамп кивнул. «И если я не ошибаюсь, гауптштурмфюрер, именно вы готовили материалы о ситуации на Кавказе для моего предшественника?» – «Так точно, оберфюрер. Но горскими евреями я не занимался». – «Да, и все же вы ознакомлены с материалами. И, судя по вашим рапортам, разбираетесь в национальных вопросах. Вот и займитесь данной проблемой, хорошо? Проанализируйте информацию и составьте ответ вермахту. Я дам вам ряд поручений, вы сориентируетесь. Безусловно, на каждом этапе вы можете обращаться ко мне или доктору Леечу». – «Zu Befehl, оберфюрер. Буду стараться». – «И вот еще гауптштурмфюрер…» – «Да, оберфюрер?» – «В ваших отчетах не слишком увлекайтесь теорией, ладно? Стремитесь не упускать из виду интересы СП». – «Zu Befehl, оберфюрер».
Группенштаб хранил все наши материалы в Ворошиловске. Я составил короткий отчет для Биркампа и Лееча по результатам: они были ничтожны. В одном справочнике 1941 года, выпущенном Институтом страноведения под названием «Перечень национальностей, проживающих в СССР», Bergjuden причислялись к настоящим евреям. Недавно появившаяся брошюра СС содержала дополнительные подробности: «Восточные, смешанные народы, выходцы из Индии или других мест, но по происхождению иудеи, проникшие на территорию Кавказа в VIII веке». И наконец, я наткнулся на более детальную разработку, заказанную СС Институту Ванзее. Содержащийся в ней вывод касался в большей степени русских, а не горских евреев и формулировался так: «Кавказские евреи не ассимилировались». Автор сообщал, что евреи-горцы, или дагестанские евреи (даг-чуфуты), как и грузинские (картвели эбраэли), мигрировали в первые века от рождества Христа из Мидии, Палестины и Вавилонии, и, не ссылаясь на источники, подытоживал: «Независимо от того, какое мнение более объективно, все евреи, в том числе и горская диаспора, представляют собой чужеродные элементы кавказского населения». На обложке Четвертое управление сделало пометку, что при выявлении в зонах операций Weltanschauungsgegner, идеологических противников данное заключение должно служить руководством для айнзатцгрупп. Назавтра я дождался возвращения Биркампа и передал ему рапорт. «Прекрасно, прекрасно, – похвалил Биркамп, пробежав бумагу глазами. – Вот ваш командировочный ордер для вермахта». – «А что говорит штурмбанфюрер Перштерер по поводу деревни, упомянутой Шадовым?» – «Говорит, что так и есть, двадцатого сентября в том районе они уничтожили еврейский колхоз. Но он понятия не имел, горские это евреи или нет. Еще в наше подразделение в Нальчике приходил еврейский старейшина. Тут зафиксирована беседа с ним». Я прочел документ, который протянул мне Биркамп: старейшина, некий Маркел Шабаев, одет в черкеску и каракулевую высокую папаху, изъясняется по-русски, утверждает, что несколько тысяч татов, проживающих в Нальчике, – это народ иранского происхождения, которых русские по ошибке назвали горскими евреями. «По мнению Перштерера, Шабаев станет искать заступничества у Шадова, – добавил Биркамп, явно уставший от всего этого. – Я полагаю, вы должны с ним встретиться».
Через два дня фон Гильса, крайне озабоченный, принял меня в своем кабинете. «В чем дело, герр оберст?» – спросил я. Он указал на огромную карту на стене: «Танки генерал-оберста фон Макензена остановлены. Советская армия оказывают сопротивление у Орджоникидзе, а там уже выпал снег. И русские всего лишь в семи километрах от города». Фон Гильса проследил длинную синюю линию, петляющую, поднимающуюся и пропадающую в песках Калмыцкой степи. «Под Сталинградом тоже никакого движения. Наши солдаты измождены. Если ОКХ не пришлет в скором времени подкрепление, то мы останемся здесь зимовать». Я промолчал, и фон Гильса сменил тему: «Вам удалось прояснить что-нибудь касательно Bergjuden?» Я объяснил, что на основании документов СС их следует признать евреями. «Наши эксперты противоположного мнения, – возразил Гильса. – Как и доктор Бройтигам. Генерал Кестринг предлагает организовать завтра в Ворошиловске совещание по этому поводу и надеется на участие СС и СП». – «Хорошо. Я проинформирую оберфюрера». Я позвонил Биркампу, и тот сказал, что участие в совещании примет, и попросил меня присутствовать тоже. Я отправился в Ворошиловск с фон Гильсой. Серое небо нависало низко, но дождем не проливалось, вершины вулканов прятались за кудрявыми, растрепанными, причудливыми облаками. Подавленный фон Гильса был по-прежнему погружен в мрачные размышления. Еще одно наше наступление закончилась неудачей. «Я думаю, фронт парализован». Особенно беспокоил фон Гильсу Сталинград: «Наши позиции очень уязвимы. Военные навыки союзников весьма посредственны, их действия не эффективны. Мощный удар позволит большевикам совершить прорыв, что сильно ослабит позиции 6-й армии». – «Вы и правда думаете, что наши противники имеют необходимый для наступления резерв? Их потери при Сталинграде огромны, и сейчас они бросают все силы, чтобы только удержать город». – «Никто точно не знает, какими силами располагают большевики, – произнес фон Гильса. – С самого начала войны мы преуменьшали их потенциал. Вот и здесь, наверное, мы их недооцениваем».
Совещание проходило в конференц-зале ОКХГ. Кестринг пришел со своим адъютантом Гансом фон Биттенфельдом и двумя офицерами штаба «берюк»-а фон Рока. Бройтигам и офицер абвера при ОКХГ тоже присутствовали. Биркамп привел с собой Лееча и помощника Корсемана. Кестринг начал заседание с напоминания о режиме военной администрации на Кавказе и принципах самоуправления. «Народы, увидевшие в нас освободителей и принявшие наше дружеское покровительство, прекрасно знают своего врага, и нам надо научиться их слушать» – эту фразу он произнес медленно, со скрытым намеком. «С точки зрения абвера, – принялся растолковывать фон Гильса, – этот вопрос напрямую связан с безопасностью в тыловых зонах. Если Bergjuden инициируют беспорядки, прячут саботажников или пособничают партизанам, то, естественно, с ними надо поступать так же, как и с прочими врагами. Но если они ведут себя тихо, то ни к чему прибегать к карательным мерам, провоцируя остальные племена». – «Я со своей стороны замечу, – Бройтигам немного гнусавил, – что надо воспринимать внутренние отношения кавказских народов в совокупности. Кто для горцев Bergjuden – братья или инородцы? И не будем забывать, что господин Шадов защищал их очень горячо». – «У господина Шадова, скажем так, могут быть свои, политические причины, которых нам не понять, – парировал Биркамп. – Но я соглашусь с рассуждениями доктора Бройтигама, хотя не могу принять выводы, которые он на их основании делает». Затем Биркамп зачитал выдержки из моего рапорта, обратив особое внимание на заключение Института Ванзее. «Все рапорты об операциях наших айнзатцкоманд группы армий „А“ подтверждают, что ненависть к евреям носит массовый характер. Все наши действия, осуществляемые против них, как приказ носить желтую звезду, так и меры более суровые, снискали полное понимание и, не побоюсь сказать, горячую поддержку населения. К тому же многие наверху недовольны спадом активности в нашей борьбе с евреями и требуют от нас большей решительности». – «Если речь идет о недавно перебравшихся сюда русских евреях, то вы абсолютно правы, – с живостью возразил Бройтигам. – Но мы сомневаемся, что подобная позиция допустима по отношению к пресловутым Bergjuden, проживающим здесь веками». Бройтигам обернулся к Кестрингу: «У меня есть копия доклада профессора Эйлера для Министерства иностранных дел. Он считает, что Bergjuden – потомки кавказцев, иранцев и афганцев и, несмотря на то, что исповедуют иудаизм, евреями не являются». – «Прошу прощения, – перебил Нот, офицер абвера при ОКХГ, – но как же они стали приверженцами иудейской религии?» – «Вот это не совсем понятно, – Бройтигам постучал карандашом по столу. – Возможно, под влиянием хазар, обратившихся в иудаизм в VIII веке». – «А может быть, как раз Bergjuden обратили хазар в иудаизм?» – предположил Экхардт, человек Корсемана. Бройтигам поднял руку: «Именно это нам и предстоит выяснить». Вновь раздался неторопливый, глубокий голос Кестринга: «Извините, но разве мы не сталкивались с подобной ситуацией еще в Крыму?» – «Бесспорно, герр генерал, – сухо сказал Биркамп. – Но это было при моем предшественнике. Думаю, гауптштурмфюрер Ауэ детально нас проинформирует». – «Конечно, герр оберфюрер. Помимо спора о караимах, еврейское происхождение которых в тысяча девятьсот тридцать седьмом опровергло Министерство внутренних дел, полемика возникла вокруг крымчаков, позиционировавших себя как тюркский народ, довольно поздно принявший иудаизм. Наши специалисты изучили этот вопрос и установили, что крымчаки – итальянские евреи, проникшие в Крым между XV и XVI веками и ассимилированные турками». – «И что потом?» – поинтересовался Кестринг. «Коль скоро было доказано, что они евреи, то и поступили с ними соответственно, герр генерал». – «Понимаю», – вкрадчиво ответил он. «С вашего позволения, – вмешался Биркамп, – в Крыму мы тоже сталкивались с Bergjuden. Во Фрайдорфе, под Евпаторией, находился еврейский колхоз. Bergjuden из Дагестана переехали туда в тридцатые годы по инициативе небезызвестной международной организации „Джойнт“. По окончании следствия их расстреляли в марте текущего года». – «Возможно, вы несколько поторопились. Как и с ликвидацией колхоза под Моздоком». – «Ах да, действительно, – воскликнул Кестринг так, словно только сейчас вспомнил нечто важное, – не могли бы вы просветить нас на этот счет, оберфюрер?» Биркамп, проигнорировав замечание Бройтигама, повернулся к Кестрингу: «Да, герр генерал. К сожалению, наши документы не вносят желаемой ясности, поскольку зондеркоманда прибыла в Моздок еще в ходе нашего наступления и безотлагательно приступила к операциям, не все они отражены должным образом в документах. По словам штурмбанфюрера Перштерера, в этом районе наводило порядок и подразделение „Горец“ профессора Оберлендера. Вполне возможно, деревню уничтожили они». – «Их батальон под нашим контролем, – запротестовал Нот из Абвера. – Мы бы знали». – «Как называлась деревня?» – спросил Кестринг. «Богдановка, – Бройтигам сверился с записями. – Господин Шадов утверждает, что там расстреляли и утопили в колодцах четыреста двадцать крестьян. Все они из Нальчика из клана горских евреев с фамилиями типа Мишиев, Абрамов, Шамильев: их гибель породила в городе страшное волнение, и не только среди самих Bergjuden, но и среди горячо сочувствующих им кабардинцев и балкарцев». – «Жаль, – сдержанно ответил Кестринг, – что Оберлендер уехал, нам уже не удастся уточнить подробности». – «Конечно, – продолжил Биркамп, – операцию могла провести и моя команда. В конце-то концов, инструкции, по которым она действует, вполне однозначны. Хотя я все-таки не уверен, что это мои люди». – «Это уже не столь важно, – успокоил его Кестринг, – главное теперь решить вопрос с Bergjuden, которых в Нальчике…» – он взглянул на Бройтигама. «Шесть-семь тысяч», – завершил тот. «Именно. Решение должно быть беспристрастным, научно обоснованным, учитывать проблему безопасности тылов, – он кивнул на Биркампа, – и наше стремление тесно сотрудничать с местным населением. Таким образом, точка зрения нашей комиссии станет во многом определяющей». Фон Биттенфельд пролистал пачку бумаг: «На нас работает лейтенант доктор Фосс, пользующийся, несмотря на молодой возраст, уважением в научных кругах Германии. Ему в помощь мы выпишем антрополога или этнолога». – «Я тоже связался с министерством, – сказал Бройтигам. – Они пришлют специалиста по еврейской проблеме из Франкфуртского института и постараются найти еще кого-нибудь в институте доктора Франка в Мюнхене». – «Я уже запрашивал заключение научного департамента РСХА, – сообщил Биркамп. – Но думаю, нам тоже понадобится эксперт. А пока я поручаю исследование присутствующему здесь гауптштурмфюреру доктору Ауэ, специалисту СС по кавказским народностям». Я вежливо поклонился. «Отлично, отлично, – одобрил Кестринг. – Итак, мы встретимся вновь, когда получим результаты от наших и ваших ученых консультантов. Что в итоге позволит нам, я надеюсь, выбрать верный путь. Господа, благодарю вас за внимание». Члены совещания встали, с шумом отодвигая стулья. Бройтигам взял Кестринга под локоть и увлек для беседы в сторону. Офицеры друг за другом покидали конференц-зал, но Биркамп, Лееч и Экхардт, теребивший в руках фуражку, задержались: «Они пустили в ход тяжелую артиллерию. Нам необходимо срочно отыскать хорошего специалиста, иначе у нас нет шансов». – «Я посоветуюсь с бригадефюрером, – пообещал Экхардт. – Не исключено, что в окружении рейхсфюрера в Виннице найдется человек, который нам нужен. А если нет, то надо пригласить его из Германии».
Фосс, по словам фон Гильсы, все еще находился в Нальчике; мне необходимо было с ним увидеться, и я воспользовался первой же оказией. За рекой Малкой земля уже покрылась тонким слоем снега; перед Баксаном небо внезапно потемнело, налетел порывистый ветер, в свете фар бешено закружились крупные снежные хлопья. Мгновенно все исчезло: горы, поля, деревья; встречные машины, как ревущие чудовища, выскакивали из-за поворотов, в буран еле различимых. Еще в прошлом году я раздобыл шерстяную шинель, и пока не мерз, но вряд ли ее хватит надолго. Надо бы, подумал я, раздобыть теплую одежду. В Нальчике я застал Фосса за книгами в помещении военной комендатуры; он повел меня в столовую, где мы устроились за столиком с клетчатой клеенкой, на котором красовалась ваза с пластмассовым букетом. Принесли эрзац-кофе, омерзительный напиток, который я пытался разбавить молоком; Фосс, похоже, ничего не замечал. «Вы переживаете, что наше наступление потерпело неудачу? – спросил я. – Я имею в виду, что вы намеревались заняться поисками материалов». – «Да, конечно, отчасти. Но у меня много работы и здесь». Фосс казался мне необычно сдержанным и слегка растерянным. «Генерал Кестринг поручил вам принять участие в комиссии по проблеме Bergjuden?» – «Да, и я слышал, что вы в ней представляете СС». Я усмехнулся: «В какой-то степени. Оберфюрер Биркамп объявил меня знатоком по кавказским делам. Кстати, уж не вы ли ввели его в заблуждение?» Фосс улыбнулся и отхлебнул кофе. «Мне интересно ваше мнение», – продолжил я. «Мнение? На сегодняшний день проблема обозначена совершенно некорректно. Бесспорно только то, что эти люди говорят на одном из иранских языков, исповедают иудаизм и живут по обычаям кавказских горцев. Вот и все». – «Да, но у них же есть происхождение». Фосс пожал плечами: «У всех оно есть, и очень часто истинное происхождение не имеет ничего общего с принятым мнением. Мы уже спорили на эту тему. Свидетельства о татах теряются в глубине веков. Даже если таты действительно потомки евреев из Вавилона – точнее, одного из исчезнувших Израилевых колен, – то с течением времени они настолько смешались с прочими народами, что нелепо обсуждать, какая в них течет теперь кровь. В Азербайджане таты – мусульмане. Кто они – евреи, принявшие ислам? Или, тоже вполне вероятно, евреи-переселенцы, женившиеся на женщинах из иранских или языческих племен, чьи дети позже обратились в разные религии? Определить нереально». – «Однако, – не уступал я, – ведь науке известны признаки, на основании которых можно делать выводы?» – «Да, множество и самых разных. Возьмем их язык. Я уже достаточно общался с татами и точно его классифицирую. К тому же я прочел книгу Всеволода Миллера на эту тему. Так вот, здесь мы наблюдаем черты западно-иранского диалекта наряду с влиянием иврита и тюркских языков. Заимствования из иврита – это в первую очередь религиозная лексика, и то со многими включениями: например, синагога на татском – «нимаз», еврейская Пасха – «низану», а Пурим – «хомону», это все названия персидские. До советской власти алфавит татов представлял собой разновидность ивритского, но их книги уничтожили во время реформ. Теперь татский передается латиницей, в Дагестане на этом языке печатают газеты и обучают детей. Итак, если, как предполагают многие, таты происходят от халдеев или евреев, переселившихся из Вавилона после разрушения Первого храма, то по логике вещей они должны говорить на диалекте, производном от иранского, близком языку пехлеви эпохи династии Сасанидов. Но татский является новым иранским диалектом, возникшим после X века и родственным языкам дари, белуджскому или курдскому. Таким образом, мы, ничуть не искажая фактов, делаем вывод об их относительно недавней миграции с дальнейшим обращением в другую веру. Но, конечно, если задаться целью, легко доказать и обратное. И для меня совершенно непостижимо, почему все это увязывается с проблемой безопасности нашей армии. Разве не следует судить объективно, исходя из действительного положения вещей и учитывая отношение татов к нам?» – «Речь просто о расовой проблеме, – возразил я. – Мы знаем, что существуют низшие расовые группы, например евреи, наделенные характерными особенностями и посему являющиеся потенциальными преступниками, разносчиками большевистской заразы, ворами, убийцами. Естественно, не все евреи поголовно. Но на войне, во время оккупации и с нашими ограниченными ресурсами, немыслимо заниматься каждым случаем индивидуально. Мы вынуждены относить к группе риска их всех. Конечно, возникают перегибы, но их не избежать в чрезвычайной ситуации». Фосс, грустный, подавленный, уставился в чашку с кофе: «Доктор Ауэ, я всегда полагал, что вы человек умный и рассудительный. Но даже если все, что вы только что сказали, правда, объясните, пожалуйста, что вы вкладываете в термин „раса“. Потому что для меня это научное понятие слишком смутно и абстрактно». – «Тем не менее следует признать, что расы существуют, и наиболее авторитетные наши ученые их изучают и пишут об этом. Вы же сами знаете. Наши антропологи – лучшие в мире расовые теоретики». Фосс неожиданно взорвался: «Они шарлатаны! У них даже нет конкуренции в серьезных университетах других стран, где их дисциплина не интересна и не преподается. Им платят деньги и публикуют их исключительно по соображениям политическим!» – «Доктор Фосс, я очень уважаю ваше мнение, но вы несколько забываетесь, разве нет?» – мягко перебил я. Фосс ударил рукой по столу, чашки и вазочка с искусственными цветами подпрыгнули, некоторые солдаты обернулись на шум и громкие восклицания Фосса: «Эта философия ветеринаров, как окрестил ее Гердер, эксплуатирует все понятия лингвистики, единственной на сегодняшний день науки об истории человечества, располагающей широкой теоретической базой и научными доказательствами. Вы понимаете, – он понизил голос и заговорил горячо и быстро, – вы понимаете, что такое научная теория? Теория не есть факт: это средство, позволяющее делать предположения и выдвигать новые гипотезы. Теория хороша, если, во-первых, достаточно проста и, во-вторых, ее положения подвергаются проверке. Физика Ньютона определила орбиты планет: если наблюдать положение Земли или Марса с интервалом в несколько месяцев, то они движутся по тем траекториям, которые описаны в теории. Однако ученые констатировали, что орбита Меркурия немного отличается от ньютоновских расчетов. Теория относительности Эйнштейна с точностью описывает эти отклонения: то есть она более совершенна, чем теория Ньютона. Но в Германии, некогда самой крупной научной державе мира, теорию Эйнштейна заклеймили как еврейскую науку и отвергли без каких-либо других обоснований. Это абсурдно, а мы еще упрекаем большевиков в создании псевдонауки, служащей Партии. В лингвистике, например, сравнительное изучение индо-германской грамматики позволило создать учение о фонологических мутациях, на котором строятся дальнейшие гипотезы. Уже в тысяча восемьсот двадцатом году Бопп проследил связи греческого и латыни с санскритом. Если по тем же правилам анализировать иранский, то его дериваты обнаруживаются в гэльском. Все сопоставимо и доказуемо. Отличная теория, хотя постоянно требующая доработки и исправлений. А у расистской антропологии нет теории. Она выделяет расы и создает их иерархию, не опираясь ни на какие критерии. Все попытки биологических обоснований провалились. Черепной указатель – полная чушь: после десятилетий измерений углов и сведéния в таблицы самых разнообразных признаков так никто и не сумел отличить с абсолютной уверенностью череп еврея от черепа немца. Что до генетики Менделя, она дает прекрасные результаты в опытах с простыми организмами, но к человеку, за исключением, пожалуй, подбородка Габсбургов, практически неприменима. Вот какова истинная картина, и поэтому тем, кто формулировал наши знаменитые расовые законы, не к чему апеллировать, кроме различий в вероисповедании наших прадедов! Существует версия, что в прошлом веке евреи были чистой расой, но она совершенно беспочвенна. Даже вы должны это понимать. А кто такой чистокровный немец, вообще неизвестно, не в обиду вашему рейхсфюреру СС будет сказано. В итоге расистская антропология, не способная ничего вычленить, эксплуатирует лингвистические категории. Шлегель, высоко ценивший Гумбольдта и Боппа, опираясь на их труды об индоиранском праязыке, развил идею о пранароде и ввел в употребление термин Геродота «арийцы». Та же история с евреями: стоило лингвистам выделить семитскую языковую семью, расисты тут же ухватились за это, но здесь они абсолютно непоследовательны, ведь Германия налаживает контакты с арабами, и фюрер официально приглашает великого муфтия Иерусалима! Язык – культурное явление и, конечно, оказывает влияние на мировоззрение и поведение. Гумбольдт понял это уже давно. Но язык можно поменять, культуру, кстати, тоже, только гораздо медленнее. В Китайском Туркестане тюркоязычные мусульмане из Урумчи и Кашгара внешне напоминают иранцев, еще точнее, ассирийцев. Их предки мигрировали с запада и прежде говорили на индоиранском диалекте, потом были завоеваны тюрками-уйгурами, ассимилировались, переняли чужой язык и частично традиции. Теперь этот народ составляет культурную группу, обособленную от казахов, киргизов, китайцев-мусульман, которых еще называют хуэйцы, и индоиранских мусульман, например таджиков. Но идентифицировать его представителей удается только по языковому и религиозному признакам, а также по обычаям, способам ведения хозяйства и чувству принадлежности своему клану. Как видите, роль здесь играет приобретенный опыт, а не врожденные особенности. С кровью передаются сердечные заболевания, но не склонность к предательству и преступности. В Германии сейчас изучают кошку с отрезанным хвостом и хотят доказать, что у нее родятся бесхвостые котята; и такие вот идиоты получают кафедры в университетах только за то, что носят черные мундиры с серебряными пуговицами! В СССР, напротив, несмотря на все политическое давление, Марр и его коллеги создали блестящие и объективные, по крайней мере на уровне теории, лингвистические работы, потому что, – он постучал пальцами по клеенке, – есть данность, вот как этот стол. Я презираю всех этих Гансов Гюнтеров, всех этих Монтадонов и им подобных. И если для вас они авторитет в решении вопроса жизни и смерти людей, то с тем же успехом вы можете наобум стрелять по толпе». Во время длинной тирады Фосса я не проронил ни слова. Потом с расстановкой начал: «Доктор Фосс, я и не догадывался, что в вас столько страсти. Концепции ваши провокаторские, и я не разделяю всех ваших взглядов. Я думаю, что вы недооцениваете некоторых идеалистических установок нашего мировоззрения, весьма далеких от философии ветеринаров, как вы изволили выразиться. Я не готов сию минуту достойно вам ответить, мне надо поразмыслить. И через несколько дней, я надеюсь, мы возобновим нашу беседу, если вы не против». – «Охотно, – Фосс как-то сразу сник. – Извините, я погорячился. В последнее время только и слышишь сплошные глупости и дикости, и молчать уже очень трудно. Естественно, я не вас имею в виду, а в первую очередь кое-кого из моих коллег. Единственные мои желание и чаяния, чтобы, когда улягутся страсти, немецкая наука вновь обрела место, с таким трудом завоеванное для нее людьми утонченными, проницательными, усердными и порой неприспособленными к жестокой действительности».
Аргументы Фосса отнюдь не оставили меня равнодушным: если и впрямь Bergjuden сами себя причисляют к кавказским горцам и, более того, таковыми их считают соседи, то, какая бы еще кровь ни текла в их жилах, к нам они, скорее всего, отнесутся лояльно. Нельзя обходить вниманием социальные и культурные факторы; нужно, к примеру, выяснить, поддерживают ли они советскую власть. В Пятигорске из разговора со старым татом я понял, что даг-чуфуты на дух не принимают русских евреев и, вероятно, их ненависть распространяется и на всю сталинскую систему. Не менее важно проанализировать отношение других племен к Bergjuden, нельзя полагаться только на слова Шадова: вполне возможно, что евреи и здесь паразитируют. По пути в Пятигорск я мысленно прокручивал в голове монолог Фосса. Нет, так рьяно отрицать расовую антропологию – это чересчур; безусловно, методы требуют усовершенствования, и я тоже не сомневаюсь, что многие бездари построили карьеру лишь благодаря связям в Партии: в Германии таких трутней расплодилось великое множество, и, по мнению некоторых членов СД, борьба с ними является одной из наших задач. Но Фосс, несмотря на весь свой талант, высказывался слишком категорично, по молодости, конечно. Все гораздо сложнее, чем он воображает. Я не имел достаточного запаса знаний, чтобы критиковать его, но мне представлялось, что, если человек верит в идею великой Германии и нации, остальное приложится. Что-то доказуемо, а что-то надо просто принять на веру.
В Пятигорске меня уже ждала первая телеграмма из Берлина. Седьмое Управление получило ответ профессора Киттеля: «Вопрос сложный, изучайте на месте». Малоутешительно. Зато департамент VII Б-1 подготовил документацию, которую вскоре должна была доставить авиапочта. Фон Гильса проинформировал меня, что специалист вермахта уже в пути, а за ним едет и наш человек от Розенберга. Я между тем решил озаботиться зимней одеждой. Рейтер из вермахта любезно предоставил в мое распоряжение еврея-портного. Худощавый старик с длинной бородой снял мерки, я заказал ему длинное, серое, из дубленой шкуры барана пальто с выпушкой на воротнике, по-русски шубу, и сапоги на меху, а шапку из чернобурой лисы (прошлогодняя давно потерялась) купил сам на Верхнем рынке. Многие офицеры ваффен-СС взяли привычку нашивать на шапки череп, мне это не особо нравилось, но я спорол с одного из своих мундиров погоны и знак отличия СД, чтобы пришить их к пальто.
Периодически меня мучила дурнота и рвота; к тому же болезнь усугубляли тревожные сны. Обычно все образы утром исчезали, вместо них оставались непроницаемая чернота и подавленность. Но порой мрак вдруг рассеивался, и тогда с потрясающей отчетливостью выступали жуткие видения. Так, на вторую или третью ночь в Нальчике я открыл дверь: в сумерках, посреди пустой комнаты, на четвереньках стоял Фосс, из его голой задницы вытекало дерьмо. В диком волнении я схватил газету «Известия», чтобы подтереть коричневую жижу, становившуюся все гуще и темнее. Я старался не испачкаться, но липкая отвратительная масса покрывала бумагу, пальцы, руки до локтя. Меня выворачивало, я бросился в ванную отмываться; но дерьмо лилось не переставая. Проснувшись, я попытался интерпретировать ночной кошмар, но, видимо, еще находился в полудреме, потому что мысли, уже, как мне казалось, прояснившиеся, снова стали путаться. По каким-то признакам я вдруг понял, что человек на четвереньках – я сам, а вытирает меня отец. И что там пишут в «Известиях»? Уж не о татском ли вопросе? Отчет из департамента VII Б-1, отправленный неким советником высшей военной администрации, доктором Фюсслейном, не облегчил ситуации; усердия Фюсслейна хватило лишь на то, чтобы скомпоновать отрывки из «Еврейской энциклопедии». Там излагались и очень интересные вещи, но, увы, мнения были противоречивы и не позволяли сделать однозначных выводов. Но я все же почерпнул оттуда нечто новое: горские евреи впервые упоминались Биньямином из Туделы, путешествовавшим по Кавказу примерно в 1170-м году, Петахия Регенсбургский утверждал, что они персидского происхождения и появились на Кавказе в XII веке. В 1254-м Вильгельм Рубрук обнаружил еврейские поселения у восточного массива недалеко от Астрахани. А один грузинский текст 314 года свидетельствует, что евреи, говорившие на иврите, переняли древний иранский язык (фарси или татский) после завоевания Закавказья персами, смешавшегося у них и с ивритом, и с местными наречиями. Лишь грузинские евреи, которых Кох называет гурия (возможно, слово, производное от Иберия), говорят на диалекте картвельского и не владеют татским. Что касается Дагестана, Дербент-наме сообщает, что уже в VIII веке завоевавшие его арабы встречают там евреев. Современные исследования только усложнили дело. Да, есть от чего впасть в отчаяние; я отважился переслать все без комментариев Биркампу и Леечу, настаивая на том, чтобы срочно пригласили эксперта.
Снег прекратился на пару дней, потом повалил опять. В столовой тихо и взволнованно переговаривались офицеры. Англичане при Эль-Аламейне разбили Роммеля, чуть позже в Северной Африке высадился англо-американский десант; германская армия, в свою очередь, оккупировала свободную зону Франции, а затем поспешно повернула из Виши в Африку, чтобы там соединиться с нашими союзниками. «Только бы на Кавказе нам повезло больше», – прокомментировал фон Гильса. Но перед Орджоникидзе наши войска были вынуждены держать оборону: линия фронта растянулась с юга от Чегема и Нальчика к Чиколе и Гизель-дере и поднималась вдоль Терека к северу до Малгобека; внезапно большевики перешли в наступление и заняли Гизель. Дальше последовали еще более неожиданные события. Я даже не сразу понял, что произошло, так как офицеры абвера перекрыли вход в зал с картами и отказывались отвечать на вопросы. «Мне очень жаль, – извинился Рейтер. – Ваш комендант должен сам переговорить с ОКХГ». К вечеру выяснилось, что русские перешли в контрнаступление и на Сталинградском фронте, но на каком именно участке, я не допытался: офицеры АОК, напряженные, мрачные, упорно не желали вступать в беседу. Лееч по телефону сообщил, что ОКХГ реагирует так же: в группенштабе знали не больше моего и просили в срочном порядке передавать поступающие сведения. Назавтра ничего не изменилось, и я рассорился с Рейтером, который холодно заявил мне, что в обязанности АОК не входит информировать нас об операциях, не относящихся к зоне полномочий СС. Но слухи распространялись быстро, и офицеры их уже не пресекали; я несколько часов общался с шоферами, курьерами и младшими офицерами и, сопоставив факты, стал хорошо представлять себе всю опасность происходящего. Я перезвонил Леечу, тот уже был в курсе дела; однако по-прежнему ничего не было известно об ответном ударе вермахта. Румынские армии потерпели поражение на Дону, к западу от Сталинграда, и на юге, в Калмыцкой степи. Между тем красные нацеливались охватить 6-ю армию с тыла. Разобраться и понять, откуда у них взялся мощный резерв, у меня времени не было, ситуация развивалась стремительно. Чтобы не попасть в окружение, 6-й армии надо было немедленно отступать, но она не двигалась. Двадцать первого ноября фюрер, видимо потерявший терпение, назначил генерал-оберста фон Клейста фельдмаршалом и передал ему командование группой армий «А»; генерал-оберст фон Макензен занял место фон Клейста во главе 1-й танковой армии. Фон Гильса информировал меня об этом официально и намекнул, что положение у нас катастрофическое, похоже, он и впрямь совершенно пал духом. На другой день, в воскресенье, две советские дивизии соединились у Калача-на-Дону, взяв в тиски 6-ю и часть 4-й танковой армии. Все гудели: крушение, массовые потери, хаос; каждое более или менее определенное известие опровергало предыдущее. Наконец ближе к вечеру Рейтер пригласил меня к фон Гильсе, тот по карте продемонстрировал мне положение дел. «Решение не отводить 6-ю армию принято лично фюрером», – добавил он. Наши дивизии оказались в гигантском «котле», абсолютно отрезанными от остальных, но продолжали удерживать территорию от Сталинграда почти до самого Дона. Обстоятельства складывались не в нашу пользу, но паникеры сильно преувеличивали: потери немецких войск в живой силе и технике были не слишком велики и, самое главное, они сохраняли сплоченность; к тому же прошлогодний опыт Демянска убеждал, что в «котле» можно продержаться сколь угодно долго, получая обеспечение с воздуха. «Скоро начнется операция по деблокированию», – заверил фон Гильса. Утром на совещании у Биркампа высказывалась та же оптимистическая версия. Корсеман всех обнадежил: рейхсмаршал Геринг дал слово фюреру, что люфтваффе в состоянии снабжать 6-ю армию, генерал Паулюс прибыл в свой штаб в Гумраке, чтобы руководить действиями внутри «котла», а из Витебска вызвали генерал-фельдмаршала фон Манштейна, который займется формированием новой группы армий «Дон» и подготовит прорыв обороны противника. Последняя новость всех особенно обрадовала. После взятия Севастополя фон Манштейн считался лучшим стратегом вермахта, если кто и мог выправить ситуацию, так это именно он.
Тем временем долгожданный эксперт все-таки прибыл. Из-за того что в конце октября рейсхфюрер вместе с фюрером покинул Винницу и вернулся в Восточную Пруссию, Корсеман обратился напрямую в Берлин, и Главное управление по вопросам расы и переселения направило к нам женщину, доктора Везело, знатока иранских языков. Биркамп был страшно недоволен: он рассчитывал на специалиста по расовым вопросам из Четвертого управления, но оказалось, что им направить сюда некого. Я, как мог, успокоил Биркампа, заверив его, что анализ языковой ситуации в регионе должен принести блестящие результаты. Доктор Везело летела из Киева специальным рейсом до Ростова, но дальше вынуждена была добираться поездом. Когда я приехал встретить ее на вокзал в Ворошиловске, она оживленно беседовала со знаменитым писателем Эрнстом Юнгером. Юнгер, усталый с дороги, но все равно элегантный, был в форме гауптмана вермахта, Везело – в штатском, в жакете и длинной серой юбке грубой шерсти. Представляя меня Юнгеру, она просто светилась от гордости за свое новое знакомство: они случайно оказались в одном купе в Кропоткине, и она сразу сообразила, кто перед ней. Я пожал писателю руку и хотел было рассказать ему о том, какое влияние оказали на меня его книги, особенно «Рабочий», но Юнгера уже оттеснили офицеры ОКХГ. Везело в умилении махала ему вслед. Она была худощавая, с совсем маленькой грудью, но весьма мощными бедрами, вытянутым лошадиным лицом и светлыми волосами, стянутыми на затылке в пучок. Взгляд прячущихся за очками глаз какой-то растерянный и одновременно недобрый. Мы вскинули руки в нацистском приветствии. «Извините, что я в штатском, – отчеканила она, – мне приказали выехать так срочно, что я не успела заказать форму». – «Это не имеет значения, – любезно ответил я. – Но вы будете мерзнуть. Я озабочусь поисками пальто для вас». Моросил дождь, улицы развезло; по дороге Везело без умолку говорила о Юнгере, прибывшем из Франции в инспекционную поездку, в дороге они беседовали о древнеиранских надписях, и Юнгер восхищался ее познаниями. Я проводил Везело к Леечу, и тот объяснил ей ее задачу; после обеда он попросил меня позаботиться о ней, устроить ее в Пятигорске и помогать в работе. В машине она снова заговорила о Юнгере, но потом переключилась на события в Сталинграде: «Слухи ходят самые разные. Так что же там происходит на самом деле?» Я передал ей то, что мне было известно. Она сосредоточенно слушала и произнесла тоном, не допускающим возражений: «Я уверена, что речь идет о блестящем плане нашего фюрера, врага заманят в ловушку и уничтожат одним махом раз и навсегда». – «Вы совершенно правы». В Пятигорске я поселил ее в санатории, показал ей все документы и свои отчеты. «В нашем распоряжении имеются и русские источники». – «К сожалению, – сухо заметила она, – я не читаю по-русски. Впрочем, ваших материалов вполне достаточно». – «Отлично. Когда закончите, отправимся в Нальчик».
Доктор Везело не носила обручального кольца и, похоже, не испытывала ни малейшего интереса к окружавшим ее красавцам военным. Тем не менее за два последующих дня посетителей у меня оказалось гораздо больше, чем обычно: ее неприветливость и бестактность не останавливали офицеров абвера, и даже у обычно игнорировавших меня офицеров вермахта вдруг обнаружились веские причины заглянуть в кабинет. Все спешили приветствовать нашу специалистку, а она рылась в бумагах и в ответ лишь рассеянно здоровалась или слегка кивала, за исключением тех случаев, когда входил старший по званию. Лишь один раз, когда молодой лейтенант фон Опен, прищелкнув каблуками, галантно обратился к ней: «Позвольте мне, фрейлейн Везело, пожелать вам приятного времяпрепровождения. Добро пожаловать к нам на Кавказ…» – она подняла голову и перебила его: «Фрейлейн доктор Везело, пожалуйста». Фон Опен опешил, покраснел и, пробормотав извинения, ретировался, фрейлейн доктор уже снова погрузилась в чтение. Я еле сдерживал смех, наблюдая за этой пуритански-чопорной старой девой, но при этом отнюдь не глупой и не лишенной человеческих чувств. Все прелести ее характера я испытал на себе, когда поинтересовался, как продвигаются исследования. «Не понимаю, зачем я здесь, – сурово ответила Везело, – все абсолютно ясно». Я не перебивал. «Язык в интересующем нас вопросе не играет никакой роли, – продолжала она. – Обычаи, строго говоря, тоже. Евреи останутся евреями, несмотря на все их попытки ассимилироваться. Возьмите евреев Германии, они говорят по-немецки, одеваются, как все западные бюргеры, но за крахмальными манишками еврейства не спрячешь. Гульфик любого еврейского промышленника, – брякнула она, – прикрывает обрезанный член. И здесь ситуация точно такая же. Не понимаю, над чем, собственно, мы ломаем голову». Я оставил без внимания допущенную ею скабрезность, хотя она дала мне повод заподозрить, что под ее непроницаемой сдержанностью таятся подавленные страсти и темные желания, и лишь позволил себе заметить, что, принимая во внимание обычаи мусульман, указанный ею признак вряд ли может кого-либо убедить. Она одарила меня презрительным взглядом: «Я выражаюсь образно, гауптштурмфюрер. За кого вы меня принимаете? Просто хочу сказать, что чуждые элементы всегда будут оставаться чуждыми. И докажу вам это на месте».
С каждым днем становилось все холоднее, а между тем моя шуба еще не была готова. Для Везело Рейтер раздобыл теплое пальто на подкладке, которое, правда, было ей великовато, а мне приходилось довольствоваться меховой шапкой. Это не нравилось Везело: «Головной убор не по уставу, гауптштурмфюрер!» – воскликнула она, в первый раз увидев меня в шапке. «Устав утвердили до нашей кампании в России, – заметил я вежливо, – и никто еще не знал, какие здесь будут условия. И, обращаю ваше внимание, у вас пальто тоже неформенное». Она лишь пожала плечами. Я надеялся, что, пока она копается в документах, мне удастся съездить в Ворошиловск и встретиться с Юнгером, но ничего из этого не вышло, и я вынужден был выслушивать разглагольствования Везело. Наконец настал момент, когда мне пришлось сопровождать ее в Нальчик. По пути я заикнулся о Фоссе, члене комиссии вермахта. «Доктор Фосс? – произнесла она задумчиво. – Действительно, он человек известный. Но его работы сейчас очень критикуют в Германии. Интересно было бы с ним встретиться». Я тоже очень рассчитывал поговорить с Фоссом, но наедине или уж по крайней мере без этой нордической стервы; мне не терпелось продолжить давешний спор, и потом меня, признаюсь, очень тревожил недавний сон, а разговор с Фоссом – без упоминания отвратительных подробностей, разумеется, – помог бы пролить свет на некоторые моменты. В Нальчике я сперва зашел в штаб зондеркоманды. Перштерер отсутствовал, но нас принял Вольфганг Рейнхольц, офицер команды, тоже занимающийся проблемой Bergjuden. Рейнхольц сообщил, что эксперты вермахта и Министерства по делам восточных территорий уже уехали. «Шабаев, представитель горских евреев, имел с ними беседу, а потом показал им колонку». – «Колонку? – встрепенулась Везело. – Это еще что такое?» – «Еврейский квартал. Он расположен южнее центра города, между вокзалом и рекой. Вы тоже его посетите. По моим сведениям, – Рейнхольц повернулся ко мне, – Шабаев заблаговременно велел вынести из домов ковры, кровати, кресла, чтобы скрыть богатство Bergjuden, и угощал наших специалистов шашлыком. Они так ни в чем и не разобрались». – «А вы почему не вмешались?» – возмутилась Везело. «Тут возникают некоторые сложности, фрейлейн доктор, – ответил Рейнхольц. – Юрисдикция. В настоящий момент нам запрещено предпринимать что-либо в отношении кавказских евреев». – «Ну, меня-то, – Везело поджала губы, – смею вас заверить, на мякине не проведешь».
Рейнхольц позвал двух людей из орпо за Шабаевым, затем угостил Везело чаем; я позвонил в военную комендатуру Фоссу, но его не оказалось на месте, и мне пообещали, что он свяжется со мной, когда возвратится. Рейнхольц, как, впрочем, и все, уже прослышал о приезде Юнгера и теперь расспрашивал Везело о национал-социалистических убеждениях писателя; она ничего о них не знала, но вроде бы слышала, что Юнгер не состоит в Партии. Наконец появился Шабаев, старик с окладистой бородой, одетый как кавказский горец. «Маркел Авгадулович», – отрекомендовался он. Держался Шабаев сдержанно и уверенно, говорил по-русски с акцентом, но у переводчика, похоже, не возникало сложностей. Везело указала ему на стул и перешла на язык, которого никто из нас не знал. «Я владею диалектами, довольно близкими к татскому, – объяснила она. – Суть моей беседы с Шабаевым я потом изложу». Мы с Рейнхольцем решили выпить чаю в соседней комнате. Он заговорил о ситуации в регионе; успехи большевиков при Сталинграде спровоцировали волнения среди кабардинцев и балкарцев, а в горах снова активизировались партизаны. ОКХГ планировал как можно скорее провозгласить регион автономией, ликвидировать колхозы и совхозы в горных областях (за исключением тех, что располагались в долинах Баксана и Терека и считались русскими) и, чтобы успокоить людей, раздать землю местному населению. Через полтора часа появилась Везело: «Старик покажет нам квартал и свой дом. Вы со мной?» – «Охотно. А вы, Рейнхольц?» – «Да, там стоит побывать еще раз: кормят вкусно». И мы на машине, под конвоем трех чинов орпо, отправились к Шабаеву. В просторных смежных комнатах кирпичного дома с широким внутренним двором почти не было мебели. Нас попросили снять обувь и пригласили присаживаться на потрепанные подушки, лежавшие на полу, две женщины расстелили перед нами длинную клеенчатую скатерть. В комнату проскользнули ребятишки и теперь толпились в углу, тараща на нас огромные глазищи, перешептываясь и хихикая. Шабаев сел напротив нас, женщина примерно его возраста, в цветном платке, обвязанном вокруг головы, разливала чай. В помещении было холодно, и я не стал снимать пальто. Шабаев что-то сказал на своем языке. «Он извиняется за плохой прием, – перевела Везело, – нас не ждали. Его жена приготовит чай. Он позвал соседей, чтобы мы могли поговорить и с ними». – «Чай, – уточнил Рейнхольц, – означает „есть до отвала“. Я надеюсь, вы успели проголодаться». Вошел какой-то мальчик и, сказав хозяину несколько слов, снова выскочил во двор. «Я не поняла», – занервничала Везело. Она обменялась парой фраз с Шабаевым. «Он говорит, это сын соседа. Они разговаривали по-кабардински». Очень красивая девушка в платке и платье с глухим воротом принесла из кухни стопку лавашей и тарелки. Потом они с женой Шабаева принялись расставлять миски с творогом, сухофруктами, конфетами в серебряных обертках. Шабаев разламывал лаваш и передавал нам теплые, душистые, с хрустящей корочкой куски. В дверях появился старик в папахе и мягких сапогах, за ним другой, они заняли места рядом с хозяином. Шабаев всех представил. «Тот, что слева, – тат-мусульманин, – начала Везело. – Шабаев пытается мне доказать, что лишь немногие таты исповедуют иудаизм. Я должна с ними поговорить». И она пустилась в долгие прения со вторым стариком. Мне стало скучно, я лениво жевал и разглядывал комнату с голыми свежепобеленными стенами. Дети в молчании слушали разговор и внимательно разглядывали нас. Жена Шабаева и девушка вернулись с блюдами вареной баранины в чесночном соусе и мучными шариками-кнели. Я принялся за еду, в то время как Везело продолжала дискуссию. Потом подали куриный шашлык, хозяйка положила его весь на один из лавашей, остальные лаваши Шабаев раздал вместо тарелок и стал острым кавказским ножом, кинжалом, снимать для каждого из нас мясо с шампуров. Следом подоспела долма, виноградные листья, фаршированные рисом и мясом, которую я любил намного больше вареного мяса и поэтому воздал ей должное, Рейнхольц не отставал, а вот Везело к угощению не притронулась, и Шабаев попенял ей на это. К нам присоединилась жена Шабаева и, эмоционально жестикулируя, стала сокрушаться, что Везело ничего не ест. «Фрейлейн доктор, – я решил передохнуть, – а где они спят?» Везело обратилась к жене Шабаева: «Она уверяет, что прямо здесь, на досках». – «Врет, мне кажется», – встрял Рейнхольц. «Она жалуется, что их матрасы при отступлении украли большевики». – «Может, и правда», – заметил я Рейнхольцу, тот рвал зубами шашлык и только пожал плечами. Девушка по мере надобности подливала нам чай, сначала черную заварку из маленького чайничка, а потом кипяток. Когда мы наелись, женщины убрали остатки, сняли скатерть; Шабаев ненадолго вышел и вернулся в сопровождении мужчин, державших музыкальные инструменты; он усадил их в ряд у стены напротив стайки детей. «Он предлагает нам послушать татскую национальную музыку, посмотреть танцы и убедиться, что они те же, что и у других кавказских горцев», – пояснила Везело. Самодеятельный ансамбль состоял из тара, напоминавшего гитару с длинным грифом, саза, с грифом покороче, глиняного горшка с отверстиями, в которые дудят с помощью тростинки, и ручных барабанов. «„Саз“ – тюркское название», – вставила Везело, демонстрируя свои познания. Музыканты наигрывали разные мотивы, а девушка, прислуживавшая нам за столом, сдержанно, но удивительно грациозно танцевала перед нами. Остальные мужчины хлопали в такт. Новые гости входили, опускались на пол или стояли, опершись о стену, – женщины в юбках до земли, малыши, жавшиеся к ногам взрослых, мужчины в национальной одежде или в потертых костюмах, некоторые даже в рабочих куртках и фуражках. Одна женщина, не прикрываясь, кормила грудью ребенка. Какой-то юноша, высокий, гордый, пластичный, скинул пиджак и тоже пустился в пляс. Все это очень походило на праздник в Кисловодске; большинство мелодий, веселых и пьянящих, отличал непривычный для моего уха синкопированный ритм. Старик затянул жалобную песню, аккомпанируя себе на банджо с двумя струнами, которые он защипывал плектром. Еда и чай привели меня в состояние дремотного умиротворения и полного довольства, действо казалось мне красочным, люди добросердечными и радушными. Музыка смолкла. Шабаев произнес короткую речь, которую Везело не стала переводить; потом нам вручили подарки: Везело – огромный восточный ковер, сотканный вручную, двое мужчин раскатали его перед нами, а потом опять сложили, а нам с Рейнхольцем – два кинжала в ножнах черного дерева с серебром. Кроме того, Везело получила от жены Шабаева серебряные серьги и кольцо. Потом все толпой ринулись во двор провожать нас, Шабаев торжественно жал нам руки. «Благодарит за то, что мы дали ему возможность показать гостеприимство татов, – отчеканила Везело. – Извиняется за скромный прием, просит покарать большевиков, ограбивших его народ».
«Цирк, да и только!» – негодовала она в машине. «Это пустяки по сравнению с тем, что они устроили для комиссии вермахта», – подлил масла в огонь Рейнхольц. «А подарки! – не унималась Везело. – Что они вообще вообразили? Подкупить офицеров СС? Типично еврейская тактика». Я молчал: Везело меня раздражала, она явно судила предвзято, а я считал, что здесь требуется совершенно иной подход. В штабе зондеркоманды она рассказала, что старик, сосед Шабаева, хорошо знает Коран, мусульманские молитвы и обычаи, хотя, по ее мнению, это все равно ничего не доказывало. В кабинет постучался ординарец и доложил Рейнхольцу: «Звонят из военной комендатуры. У нас кто-то спрашивал лейтенанта Фосса?» – «Да, я». Он проводил меня в переговорную. Мне ответил незнакомый голос: «Вы оставляли сообщение для лейтенанта Фосса?» – «Да», – я растерялся. «Должен вас огорчить, Фосс ранен и не может с вами связаться». Сердце у меня упало: «И серьезно?» – «Боюсь, что да». – «Где он?» – «Здесь, в медпункте». – «Я сейчас буду». Я повесил трубку, вернулся в кабинет, где сидели Везело и Рейнхольц. «Мне надо в военную комендатуру», – я натягивал шинель. «Что стряслось?» – заволновался Рейнхольц: я, видимо, страшно побледнел. «Скоро вернусь», – пробормотал я и бросился за порог. Вечерело, мороз крепчал. Я шел пешком, впопыхах забыв шапку, и быстро продрог. Ускорив шаг, я поскользнулся на замерзшей луже, схватился за столб, не упал, но ушиб руку. От холода непокрытую голову сжимало, как в тисках, пальцы в карманах коченели. Меня колотила дрожь. Я недооценил расстояние до комендатуры: когда я, дрожа как осиновый лист, добрался туда, уже наступила ночь. «Я с вами разговаривал по телефону?» – спросил офицер, появившийся в коридоре, где я тщетно пытался согреться. «Да. Что случилось?» – «Не совсем понятно. Привезли Фосса горцы, на телеге, запряженной волами. Он был на юге, в кабардинском ауле. По словам свидетелей, ходил по домам и расспрашивал жителей об их языке. Сосед предполагает, что Фосс уединился с девушкой, а ее отец их застал. Люди слышали выстрелы: на месте обнаружили раненого Фосса и мертвую девушку. Отец исчез. Тогда они доставили Фосса сюда. Такова, по крайней мере, их версия. Но, разумеется, придется провести расследование». – «Как он?» – «Очень плохо. Ему разрядили обойму в живот». – «Я могу его посетить?» Офицер рассматривал меня с нескрываемым удивлением. «Вообще-то, к СС это не имеет отношения», – замялся он. «Фосс – мой друг». Офицер все еще колебался, потом бросил: «Тогда идите. Но предупреждаю, дело – дрянь».
Он повел меня по недавно выкрашенным в серый и бледно-зеленый цвет коридорам. Просторный зал занимали ряды коек, на которых лежали больные и раненые, я поискал глазами Фосса. К нам торопливо подошел врач в белом, кое-где запятнанном халате, надетом поверх формы: «Кто?» – «Он хотел бы повидать лейтенанта Фосса, – офицер кивнул на меня. – Я вас оставлю. У меня полно работы». – «Спасибо за помощь», – поблагодарил я. «Сюда. Мы его изолировали», – врач указал на дверь в глубине зала. «Я могу с ним поговорить?» – спросил я. «Он вас не услышит». Врач пропустил меня вперед. Фосс, укрытый одеялом, метался и стонал, на зеленоватом лице проступили капельки пота, веки были плотно сомкнуты. Я приблизился к кровати и позвал: «Фосс». Он не реагировал. Нет, он даже не стонал, с губ его слетали какие-то невнятные, как лепет ребенка, слова на таинственном и только ему одному ведомом языке, словно он рассказывал, что с ним происходит. Я подступил к врачу: «Он выберется?» Тот отрицательно покачал головой: «Я в толк не возьму, как он до сих пор-то жив». Я повернулся к Фоссу. Бред, вдруг показавшийся мне попыткой рассказать о собственной агонии, продолжался. Меня охватил леденящий ужас, так иногда во сне силишься что-то растолковать, а тебя не понимают. Но тут все было понятно. Я убрал Фоссу прядь со лба, мой друг вздрогнул, посмотрел на меня невидящими глазами, не узнал. Его уже затягивало в ту темную воронку, из которой никогда не всплывают на поверхность, но дна ее он еще не достиг. Он бился в конвульсиях, из груди теперь рвался нечеловеческий, звериный крик. На какое-то время Фосс затихал и только втягивал воздух сквозь стиснутые зубы. Потом все повторялось заново. Я кинулся к врачу: «Он страдает. Вколите ему морфин». Врач смутился: «Уже вкалывали». – «Да, но надо еще». Я взглянул ему прямо в глаза, врач колебался, постучал ногтем по зубам. «Морфин у меня почти кончился, – признался он наконец. – Мы отправили все запасы в Миллерово, 6-й армии. А то, что осталось, я берегу для операций. Он все равно скоро умрет». Я не отводил от него взгляда. «Вы не можете мне приказывать», – добавил врач. «Я не приказываю, я прошу», – отрезал я. Он побелел. «Хорошо, гауптштурмфюрер. Вы правы… я сделаю инъекцию». Я не двигался. «Сейчас же, при мне». Лицо его на мгновение перекосилось. Я повернулся к Фоссу: губы его беспрестанно шевелились, с них слетали странные, неестественные, пугающие звуки. Они напоминали какой-то первобытный зов, но то была именно речь, она не говорила ничего и выражала лишь свое собственное исчезновение. Врач приготовил шприц, оголил Фоссу руку, нащупал вену и ввел морфин. Фосс понемногу успокоился, задышал ровно. Иногда из глубины его измученного тела выплескивался стон, и я почему-то вспомнил, как волной на берег выбрасывает бакен. Врач оставил нас вдвоем. Я погладил Фосса по щеке, чуть прикасаясь кончиками пальцев, и тоже вышел. Вид у врача был смущенный и вместе с тем недовольный. Я сухо поблагодарил его, щелкнул каблуками, вскинул руку. Врач не ответил, и я молча удалился.
До зондеркоманды меня подбросили на машине вермахта. Везело и Рейнхольц по-прежнему болтали в кабинете, Рейнхольц выдвигал аргументы в пользу тюркского происхождения Bergjuden. При виде меня он запнулся: «О, герр гауптштурмфюрер. А мы тут голову ломаем, куда вы пропали. Я договорился, чтобы вы заночевали здесь, возвращаться уже слишком поздно». – «Я остаюсь на несколько дней, – объявила Везело, – мне еще надо кое-что прояснить для себя». – «А я еду в Пятигорск сегодня, – безразличным тоном ответил я, – у меня накопилось много дел. Партизан здесь нет, я могу сам сесть за руль». Рейнхольц пожал плечами: «Это нарушение инструкций подразделения, гауптштурмфюрер. Но, впрочем, воля ваша». – «Я поручаю вам доктора Везело. Свяжитесь со мной, если что-нибудь понадобится». Везело сидела нога на ногу, явно чувствовала себя как дома и, похоже, была очень довольна своей командировкой; мой отъезд не вызвал у нее никаких эмоций. «Спасибо за участие, гауптштурмфюрер, – произнесла она. – И кстати, я могу встретиться с доктором Фоссом?» Я уже стоял в дверях, с шапкой в руке. «Нет». И не дожидаясь ее реакции, скрылся за дверью. Моему шоферу явно не хотелось ехать в темноте, но он примолк, когда я почти грубо повторил приказ. Дорога заняла много времени: Лемпер, шофер, боялся гололедицы и ехал медленно. Царила полнейшая темнота, опасность воздушного налета заставляла нас двигаться с потушенными фарами; и только время от времени перед нами вдруг возникал освещенный пост дорожного патруля. Я рассеянно вертел кинжал, подаренный Шабаевым, курил одну сигарету за другой и бездумно глядел в черную пустую ночь.
Следствие подтвердило рассказ жителей деревни о гибели лейтенанта доктора Фосса. В доме, где развернулась драма, обнаружили его испачканный кровью блокнот с заметками по грамматике и артикуляции согласных кабардинского языка. Мать девушки билась в истерике и клялась, что не видела мужа со дня преступления. Соседи рассказывали, как он, прихватив карабин, орудие убийства, бежал в горы, наверное, чтобы принять абрек, кавказский обет отказа от родных, или присоединиться к партизанскому отряду. К генералу фон Макензену явилась делегация старейшин аула: они церемонно извинялись, заверяли в глубочайшем почтении и дружеских чувствах к германской армии и преподнесли ковры, бараньи шкуры и украшения в подарок семье покойного. Обещали найти убийцу и казнить или выдать нашему суду; несколько мужчин, остававшихся в ауле, уже рыскали по горам в поисках преступника. Горцы боялись карательных мер, но фон Макензен заверил старейшин, что коллективного наказания не последует. Я знал, что Шадов просил об этом Кестринга. Наши солдаты сожгли дом виновного, был обнародован закон, запрещающий контакты немцев с кавказскими женщинами, и дело быстро закрыли.
Комиссия вермахта завершила изучение проблемы Bergjuden, и Кестринг намеревался организовать конференцию в Нальчике и сделать это безотлагательно, поскольку в ОКХГ стремились разобраться в этом деле до формирования национального кабардино-балкарского Совета и создания автономного округа, намеченного на 18 декабря в праздник Курбан-байрама. Везело закончила свою работу и составляла рапорт; Биркамп собрал всех в Ворошиловске, чтобы еще раз обговорить нашу позицию. После нескольких достаточно мягких снежных дней температура понизилась до 20 градусов, но у меня, к счастью, уже были шуба и сапоги – одежда, конечно, громоздкая и сковывающая движения, но зато очень теплая. В Ворошиловск мы с Везело отправились вместе, откуда ей предстояло выехать в Берлин. Биркамп вызвал в группенштаб Перштерера и Рейнхольца, кроме того, на совещании присутствовали Лееч, Прилль и штурмбанфюрер Хольсте, начальник IV/V подразделения. «По моим сведениям, – начал Биркамп, – вермахт и этот доктор Бройтигам не желают применять карательные меры по отношению к горским евреям, чтобы не портить отношения с кабардинцами и балкарцами. Вермахт будет настаивать на нееврейском происхождении Bergjuden в расчете на поддержку Берлина. Мы не должны допустить непростительной ошибки. Bergjuden – евреи, а потому чуждые элементы среди коренного населения, и значит, они неизменно остаются источником опасности для нашей армии, шпионами и мятежниками. У нас нет никаких сомнений в необходимости радикальных действий. Но чтобы успешно дискутировать с вермахтом, нам требуются веские аргументы». – «Я думаю, герр оберфюрер, не составит особого труда доказать справедливость наших суждений, – пропищала Везело. – Жаль, что я лично не смогу участвовать в прениях, но я подготовила исчерпывающие ответы по всем важным пунктам, что позволит вам опровергнуть возражения вермахта и Министерства восточных территорий». – «Отлично. Научную часть вашего доклада изложит гауптштурмфюрер Ауэ, а я выскажу соображения СП касательно безопасности». Пока он разглагольствовал, я пролистал составленный Везело список цитат и доводов, подтверждающих древнее происхождение Bergjuden и то, что они на самом деле чистокровные евреи. «Разрешите, оберфюрер, у меня есть ряд замечаний к работе доктора Везело. Ее досье заслуживает высоких похвал, но она оставляет без внимания документы, оспаривающие нашу точку зрения. А эксперты вермахта и восточного министерства не преминут сослаться на них. Поэтому я считаю нашу научную базу довольно слабой». – «Гауптштурмфюрер Ауэ, – вмешался Прилль, – вы, вероятно, слишком много времени проводили с вашим другом лейтенантом Фоссом. Чувствуется его влияние на вас». Я смерил Прилля взглядом – так вот о чем он шушукался тогда с Туреком! «Вы заблуждаетесь, гауптштурмфюрер. Я просто пытался предупредить, что существующие научные выкладки звучат недостаточно убедительно и рискованно лишь на их основе выстраивать наше заключение». – «Фосса, кажется, убили?» – перебил Лееч. «Да, партизаны или те же евреи, – ввернул Биркамп. – Досадно, конечно. Но я знаю, что Фосс активно работал против нас. Гауптштурмфюрер, я разделяю ваши сомнения, однако вы должны суметь вычленить главное и не увязнуть в деталях. Интересы СП и СС ясны, и только их и надо учитывать». – «В любом случае, – сказала Везело, – Bergjuden уже продемонстрировали свое еврейское лицемерие. Они даже пытались нас подкупить». – «Точно, – согласился Перштерер. – Сколько раз притаскивали в подразделение шубы, одеяла, кастрюли как будто в помощь нашим войскам, а помимо этого всучивали нам ковры, дорогие кинжалы и украшения». – «Но мы же не дураки», – обронил явно скучавший Хольсте. «Да, и не забывайте, что они так же ведут себя с вермахтом», – вставил Прилль. Беседа какое-то время продолжалась в том же духе, и наконец Биркамп подытожил: «На конференцию в Нальчике приедет бригадефюрер Корсеман. Я думаю, что, если мы четко выразим нашу позицию, командование группы армий не станет открыто ее оспаривать. В конце концов, мы заботимся об их безопасности. Штурмбанфюрер Перштерер, поручаю вам незамедлительно начать подготовку к операции, стремительной и эффективной. Как только мы получим зеленый свет, мы должны будем действовать быстро. И лучше завершить все к Рождеству, чтобы я внес цифры в годовой отчет».
После совещания я распрощался с Везело. Она горячо жала мне руку. «Гауптштурмфюрер Ауэ, вы не можете даже себе представить, как я счастлива внести свою лепту в общее дело. Здесь, на Востоке, для вас война – повседневность, а мы в Берлине, в своих кабинетах, нечасто вспоминаем о смертельной опасности, угрожающей Родине, о трудностях и лишениях фронтовой жизни. Только очутившись здесь, я все это глубоко осознала. Я навечно сохраню воспоминания о вас в моем сердце. Удачи, удачи! Хайль Гитлер!» Лицо Везело сияло, она находилась в каком-то странном возбуждении. Я вскинул руку в приветствии и ушел.
Юнгер до сих пор находился в Ворошиловске и, говорят, принимал поклонников своего творчества; на днях он должен был выехать с инспекцией под Туапсе в дивизии Руоффа. Но я больше не испытывал желания встретиться с ним. По дороге в Пятигорск я размышлял о Прилле. Он явно старался мне навредить; непонятно только с чего: я никогда с ним не ссорился, а он отчего-то занял сторону Турека. Прилль близко общался с Биркампом и Леечем и легко сумел бы настроить их против меня. Дело Bergjuden также могло сыграть против меня: я ни на чем не настаивал, но стремился к честному разрешению научного спора и не понимал Биркампа, одержимого идеей уничтожить татов; неужели он сам настолько искренне верил в их еврейство? Документы, например, не давали стопроцентных доказательств принадлежности Bergjuden к еврейской нации, их внешность и поведение не выдавали в них евреев, в быту они ничем не отличались от кабардинцев, балкарцев или карачаевцев. Те тоже вручали нам роскошные подарки, таков кавказский обычай, так что коррупция здесь ни при чем. Для меня же теперь главное – быть начеку. Малейшая неуверенность – и меня упрекнут в слабости, а Прилль и Турек воспользуются любым моим промахом.
В Пятигорске я узнал, что армия Гота, сформированная из частей 4-й танковой армии, двигалась в направлении Котельникова к котлу, рассчитывая осуществить прорыв. Офицеры настроены были оптимистично, и их комментарии служили для меня своеобразным дополнением к официальным сводкам и слухам; судя по всему, как и под Москвой, фюрер принял решение обороняться до последнего. Но как бы то ни было, я занимался докладом о горских евреях, и все остальное отошло на второй план. Я перечитывал отчеты и заметки и постоянно вспоминал нашу беседу с Фоссом; перебирая в уме факты, я спрашивал себя: что бы он об этом сказал, что принял бы, а что отбросил? Доклад получился не слишком объемный. Персидское происхождение горских евреев представлялось мне более вероятным, чем хазарская гипотеза; но сейчас я был не готов делать окончательные выводы. Мне страшно не хватало Фосса, единственного человека, с которым мы могли все серьезно обсудить; других же, неважно, откуда – из вермахта или СС, интересовала только политика, а не объективность и научная достоверность.
Конференция состоялась в середине месяца, незадолго до Курбан-байрама. Народу было много, вермахт в срочном порядке отремонтировал бывший зал партсобраний, посередине водрузили огромный овальный стол с выбоинами от осколков снарядов, повредивших крышу. Вначале все оживленно спорили, Кестринг считал, что делегации должны выступать по очереди: военная администрация, абвер, АОК, Министерство восточных территорий и СС, что казалось абсолютно логичным, но Корсеман потребовал давать слово в соответствии с воинским званием. В итоге Кестринг уступил, и мы расселись следующим образом: Корсеман справа от Кестринга, дальше Биркамп, а я в конце стола, напротив Бройтигама, всего лишь гауптмана запаса, и гражданского эксперта из ведомства Розенберга; Кестринг открыл собрание, пригласили Селима Шадова, главу национального кабардино-балкарского Совета, который произнес длинную речь о древней традиции добрососедства и взаимопомощи, о дружбе и смешанных браках между кабардинцами, балкарцами и татами. Шадов, полноватый, в наглухо застегнутом пиджаке из блестящей ткани, с обрюзгшим лицом, мужественности которому отчасти придавали густые усы, говорил по-русски медленно, и Кестринг сам переводил патетическое обращение кабардинского оратора. Когда тот закончил, Кестринг встал и по-русски (теперь уже нам переводил толмач) заверил, что мы учтем мнение национального Совета, и выразил надежду, что решение вопроса удовлетворит все стороны. Я взглянул на Биркампа, сидевшего через четыре стула от Корсемана: он положил фуражку рядом с бумагами и слушал Кестринга, нервно барабаня пальцами по столу; Корсеман царапал ручкой отметину от пули. Потом Шадова вывели из зала, и генерал занял свое место, так и не прокомментировав диалог. «Начнем с докладов экспертов, – предложил он. – Доктор Бройтигам?» Бройтигам указал на человека в штатском слева от меня, у него была желтоватая кожа, обвисшие усики, прилизанные жирные волосы, обсыпанные перхотью, как и плечи, которые он судорожно отряхивал. «Позвольте представить вам доктора Рерля, специалиста по восточному иудаизму Франкфуртского института по еврейским вопросам». Рерль чуть оторвал задницу от стула, слегка поклонился и принялся монотонно бубнить: «Я думаю, перед нами остатки тюркского племени, принявшего иудаизм одновременно с хазарской знатью и позже, около Х или ХI века, в период падения Хазарской империи, бежавшего на восток Кавказа. Там это племя смешалось с татами, горцами, говорившими на иранском диалекте, и часть из них обратилась в ислам, ну а часть так и не отказалась от веры Моисея и ее обрядов, в дальнейшем претерпевших значительные изменения». Рерль перешел к примерам: в татском слова, составляющие основу языка, то есть обозначающие еду, людей, животных, по преимуществу являются тюркскими заимствованиями. Потом Рерль пересказал то немногое, что известно об истории иудаизации хазар. Некоторые вещи вызвали у меня неподдельный интерес, но Рерль говорил путано, и не упустить нить его рассуждений было сложно. Особенно интересной мне показалась информация, связанная с именами собственными: в частности, у Bergjuden в качестве имен собственных используются названия еврейских праздников Ханука и Песах, примером может служить русифицированная фамилия Ханукаев, ничего подобного не наблюдается ни у евреев-ашкеназов, ни у сефардов, зато характерно для хазар. Так, имя собственное Ханука дважды встречается в «Киевском письме», рекомендательном письме городской хазарской общины, относящемся к началу X века; один раз на могильном камне в Крыму и еще раз – в списке хазарских правителей. По мнению Рерля, Bergjuden, несмотря на их язык, оказываются все же ближе к ногайцам, калмыкам и балкарцам, чем к евреям. После Рерля выступал глава экспертной комиссии вермахта, краснолицый Вайнтроп: «Мои аргументы не идут вразрез с точкой зрения уважаемого коллеги доктора Рерля. Доказательства влияния кавказских евреев на хазар – сведений о хазарах, правда, очень мало – так же многочисленны, как и доказательства обратного влияния. Например, в документе „Кембриджский Аноним“, предположительно датированном X веком, сообщается, что „армянские евреи заключали браки с жителями этих земель – речь идет о хазарах – смешивались с неверными, перенимали их обычаи, сражались на их стороне и стали с ними единым народом“. Автор говорит о евреях Ближнего Востока и хазарах, но Арменией он называет, естественно, не современную Армению, а Великое Армянское царство, то есть почти все Закавказье и приличную часть Анатолии…» Вайнтроп продолжал в том же духе; доводы его были достаточно противоречивы. «Опираясь на этнологические наблюдения, мы констатируем, что между татами и их соседями-мусульманами, и даже христианами-осетинами, нет большой разницы. Однако Bergjuden не отошли и от язычества: они верят в демонов, носят обереги от злых духов и прочая и прочая. Подобные практики существуют среди горцев-мусульман, у так называемых суфиев, это, например, культ мертвых или ритуальные танцы, то есть несомненные пережитки язычества. Уровень жизни Bergjuden и в городе, и в ауле, что мы посетили, тот же, что и у остальных горцев, нет ни малейших оснований предполагать, что Bergjuden примкнули к иудео-большевизму, чтобы улучшить свое положение. Напротив, они даже беднее кабардинцев. Во время шабата женщины и дети сидят отдельно от мужчин, как предписано кавказской, а не еврейской традицией. А на свадьбах, например на той, где мы оказались в числе сотен приглашенных кабардинцев и балкарцев, Bergjuden, мужчины и женщины, танцевали вместе, что строжайше запрещено иудейскими законами». – «Итак, ваши заключения?» – спросил Биттенфельд, адъютант Кестринга. Вайнтроп провел ладонью по седым коротко стриженным волосам: «Трудно сказать что-либо определенное об их происхождении: сведения противоречивы. Для нас очевидно, что Bergjuden полностью ассимилировались, если хотите, превратились в метисов, процент еврейской крови у них ничтожен». – «Однако, – перебил Биркамп, – они упорно цепляются за свою иудейскую религию, которую веками хранят в первозданном виде». – «Ну, не в первозданном, герр оберфюрер, не в первозданном, – добродушно возразил Вайнтроп. – Наоборот, в очень даже измененном. Они уже не знают Талмуда, если вообще когда-либо его знали. А эти их языческие суеверия? Да они, как и караимы, почти еретики. Ашкеназы их презирают и брезгливо называют „быками“». – «А что по этому поводу думает СС?» – слащавым тоном произнес Кестринг, оборачиваясь к Корсеману. «Вопрос крайне важный, – сказал Корсеман. – Я передаю слово оберфюреру Биркампу». Биркамп зашуршал бумагами. «К сожалению, нашему специалисту доктору Везело пришлось вернуться в Берлин. Сейчас вашему вниманию, герр генерал, будет представлен ее исчерпывающий отчет, где как раз и отражено наше мнение: Bergjuden – чуждые, крайне опасные элементы, способные причинить серьезный вред нашим войскам, и мы, чтобы предотвратить угрозу, должны реагировать активно и безжалостно. Нас, прежде всего, интересует проблема безопасности, а не теоретические изыскания, наши заключения опираются на анализ научной документации, который проводила доктор Везело, но отличаются от выводов присутствующих здесь экспертов, и я попросил бы гауптштурмфюрера доктора Ауэ ознакомить присутствующих с нашей точкой зрения». Я поклонился: «Благодарю, оберфюрер. Для большей ясности я дифференцировал сведения по уровням. Итак, мы имеем исторические материалы, язык как живой документ, затем результаты физической и культурной антропологии и, наконец, этнологические исследования доктора Вайнтропа и доктора Везело. Исторические источники свидетельствуют, что евреи проживали на Кавказе задолго до обращения хазар». Я процитировал Биньямина из Туделы и еще несколько древних хроник, в том числе и «Дербент-наме». «В IX веке Эльдад ха-Дани посетил Кавказ и отметил, что евреи-горцы прекрасно знают Талмуд…» – «Они утратили это знание!» – воскликнул Вайнтроп. «Абсолютно утратили, но нельзя отрицать, что некогда талмудисты азербайджанских городов Дербента и Шемахи пользовались огромным авторитетом. Впрочем, здесь речь скорее о более позднем феномене: в восьмидесятые годы прошлого века один еврейский путешественник, Иуда Черный, высказал предположения, что евреи появились на Кавказе еще до разрушения Первого храма и вплоть до XIV века жили изолированно ото всех под покровительством персов. Только после завоевания татарами Персии Bergjuden вступили в тесный контакт с евреями из Вавилона, открывшими для них Талмуд. Именно в этот период Bergjuden перенимают раввинские традиции и учения. Однако прямые доказательства отсутствуют. Древнее происхождение Bergjuden нагляднее всего подтверждают археологические находки в Азербайджане, например руины Чуфут-Тебэ, „еврейский холм“, или Чуфут-Кабур, „еврейская могила“. Что касается языка, то наблюдения доктора Везело подтверждают выводы покойного доктора Фосса: это новый – то есть образовавшийся не раньше VIII или IX, а может быть, и X века – западный иранский диалект. Таким образом, наши эксперты оспаривают гипотезу Пантюхова, вслед за Катрфажем полагавшего, что Bergjuden – прямые потомки халдеев. Катрфаж к тому же считал, что лезгины, сваны и хевсуры тоже имеют еврейские корни; с грузинского „Khevis Uria“ переводится как „еврей из долины“. Рассуждения барона Петера Услара более логичны: по его мнению, переселение евреев на Кавказ в течение двух тысяч лет происходило постоянно, причем иммигранты каждой волны в большей или меньшей степени интегрировались в местные племена. Языковые трансформации объясняются смешанными браками евреев и татов, проникших сюда позже. Таты же во времена Ахеменидов образовывали на Кавказе военные поселения и защищали весь узкий проход Дербента от кочевников с севера». – «Евреи – воины? – пробурчал оберст из АОК. – Не смешите меня». – «Ничего смешного, – возразил Бройтигам. – До Рассеяния евреи имели долгую и славную военную традицию – загляните в Библию. Или вспомните, как они сопротивлялись римлянам». – «Да-да, об этом пишет Иосиф Флавий», – добавил Корсеман. «Это действительно так, бригадефюрер», – удостоверил Бройтигам. «Итак, – продолжил я, – совокупность приведенных фактов как будто опровергает версию о хазарском происхождении татов. А вот предположение Всеволода Миллера, что именно Bergjuden обратили хазар в иудаизм, кажется более правдоподобным». – «Это именно то, о чем говорил я, – вмешался Вайнтроп. – Но вы с вашими лингвистическими аргументами ведь тоже не отрицаете вероятность „гибридизации“». – «Как жаль, что мы лишились доктора Фосса, – вздохнул Кестринг. – Он отлично разбирался в лингвистике». – «Да, – с грустью поддержал его фон Гильса, – мы скорбим по Фоссу, это невосполнимая потеря для нас». – «Немецкая наука, – поучительно заметил Рерль, – тоже платит высокую цену иудео-большевизму». – «Да, но в случае с несчастным Фоссом уместнее говорить о различии культур», – вставил Бройтигам. «Господа, господа, – призвал к порядку Кестринг. – Мы отвлеклись. Гауптштурмфюрер?» – «Спасибо, герр генерал. К сожалению, физическая антропология не слишком помогает разобраться в существующих и столь разнообразных версиях. Позвольте ознакомить вас с данными, опубликованными в тысяча восемьсот восемьдесят седьмом году великим ученым Эркертом в книге „Кавказ и его народы“. Итак, черепной указатель: азербайджанские татары – семьдесят девять целых четыре десятых процента (мезокефалия), грузины – восемьдесят три и пять десятых (брахикефалия), армяне – восемьдесят пять и шесть десятых (долихокефалия) и Bergjuden – восемьдесят шесть целых семь десятых процента (долихокефалия)». – «Ха! – не удержался Вайнтроп. – Как у мекленбуржцев!» – «Тише, – попросил Кестринг. – Не надо перебивать гауптштурмфюрера». – «Далее. Длина черепа: калмыки – шестьдесят два процента, грузины – шестьдесят семьцелых девять десятых, Bergjuden – шестьдесят семь целых и девять десятых, армяне – семьдесят одна целая одна десятая. Лицевой указатель: грузины – восемьдесят шесть и пять десятых процента, калмыки – восемьдесят семь, армяне – восемьдесят семь и семь десятых и Bergjuden – восемьдесят девять. Наконец, носовой указатель: на нижнем уровне Bergjuden – шестьдесят две целых четыре десятых процента, на верхнем калмыки – семьдесят пять и три, впечатляющая разница. Грузины и армяне где-то посередине». – «Что это означает? – спросил оберст из АОК. – Я не понимаю». – «Это означает, – Бройтигам записывал цифры и быстро калькулировал в уме, – что если форму черепа принимать за основной критерий определения степени развития расы, то Bergjuden – самые развитые среди кавказских народов». – «Такова же идея Эркерта, – подтвердил я. – Однако в наши дни подобный подход если и не отвергнут совсем, то уж точно не в чести. Наука идет вперед». Я на секунду повернулся к Биркампу: он мрачно смотрел на меня и постукивал карандашом по столу. Потом махнул, чтобы я продолжал. Я углубился в документы: «Культурная антропология дает нам огромное количество данных. Мне понадобилось бы слишком много времени, чтобы привести их полностью. Но мы можем сделать общий вывод, что Bergjuden полностью усвоили обычаи горцев, и в первую очередь канлы и ишкиль, то есть кровную месть. Известно, что великие татские воины сражались против русских на стороне имама Шамиля. До русской колонизации они по преимуществу занимались сельским хозяйством, выращивали виноград, рис, табак и различные зерновые». – «Непохоже на евреев, – подчеркнул Бройтигам. – Евреи избегают такого тяжелого физического труда, как земледелие». – «Верно, герр доктор. Позже, в эпоху Российской империи, экономические обстоятельства все-таки вынудили их стать ремесленниками, кожевниками, ювелирами, оружейниками, ткачами ковров и торговцами. Но это процессы недавние, и часть Bergjuden по-прежнему остаются крестья- нами». – «Как те, которых ликвидировали недалеко от Моздока, да? – припомнил Кестринг. – Мы до сих пор не выяснили, как все произошло». Биркамп почернел. Я не смутился: «Однако не менее убедительно и то, что за исключением участия в нескольких восстаниях, поднятых Шамилем, большинство Bergjuden Дагестана, вероятно из-за гонений со стороны мусульман, в войнах на Кавказе поддерживали русских. После победы царское правительство наградило их, уравняв в правах с остальными кавказскими народами и дав доступ к административным должностям. И тут, разумеется, возникла знакомая нам ситуация, когда евреи ловко использовали предоставленные им возможности. Но необходимо подчеркнуть, что при большевиках все права были у них отобраны. В Нальчике, столице Кабардино-Балкарской автономной республики, все посты, кроме занятых русскими или евреями-коммунистами, распределены между представителями обеих титульных наций. Bergjuden не представлены в администрации, за исключением нескольких мелких чиновников и служащих архива. Интересно также проанализировать ситуацию в Дагестане». Я закончил, зачитав этнологические выкладки Везело. «Ваша информация не идет вразрез с нашей», – удивился Вайнтроп. «Да, герр майор. Скорее дополняет ее». – «Напротив, – задумчиво пробормотал Рерль, – то, что вы сказали, несовместимо с версией хазарского или тюркского происхождения Bergjuden. Между тем мне она кажется очень убедительной. Даже ваш Миллер…» Кестринг кашлянул: «Нас впечатлила эрудиция специалистов СС, – елейным тоном произнес он, обращаясь к Биркампу, – по-моему, ваши выводы во многом совпадают с позицией вермахта, не правда ли?» Биркамп явно злился и нервничал, но сдерживался: «Герр генерал, мы убеждены, что чисто научные заключения слишком абстрактны. К ним не следует апеллировать, забыв о фактах, выявленных в ходе работы СП и позволяющих утверждать, что перед нами опасный расовый враг». – «Извините, герр оберфюрер, – подал голос Бройтигам, – я в этом сомневаюсь». – «Потому что вы – гражданское лицо и не можете рассуждать как военный, герр доктор, – сухо оборвал его Биркамп. – Не случайно фюрер доверил безопасность Рейха СС. И не надо игнорировать вопрос Weltanschauung». – «Никто не посягает на полномочия СП и СС, оберфюрер, – неторопливо, внушительно ответил Кестринг, – вы оказываете неоценимую помощь вермахту. Отныне, однако, военная администрация, тоже, кстати, созданная по приказу фюрера, должна учитывать все аспекты проблемы. По политическим соображениям не вполне обоснованные действия против Bergjuden повредили бы нам. И надо иметь веские причины, чтобы такие действия предпринимать. Оберст фон Гильса, насколько, по мнению абвера, серьезную угрозу представляют Bergjuden?» – «Мы уже обсуждали эту тему во время первого совещания в Ворошиловске, герр генерал. Абвер пристально следит за татами. На сегодняшний день мы не уличили их ни в попытке мятежа, ни в контактах с партизанами, ни в шпионаже, ни в чем. Если бы все народы вели себя так же спокойно, наша задача значительно упростилась бы». – «СП как раз считает: не стоит ждать, когда преступление совершится, лучше предотвратить его», – Биркамп терял терпение. «Безусловно, – согласился фон Биттенфельд, – но в чрезвычайной ситуации, прежде чем действовать, надо взвесить все преимущества и риски». – «Одним словом, – снова вступил Кестринг, – в настоящий момент Bergjuden для нас не опасны?» – «Нет, герр генерал, – заверил фон Гильза. – С точки зрения абвера, нет». – «Остается расовый вопрос, – продолжил Кестринг. – Мы выслушали множество мнений, но я думаю, вы все признаете, что ни аргументы в пользу еврейского происхождения Bergjuden, ни контраргументы не были вполне убедительны». Он сделал паузу, потер щеку. «Мне кажется, у нас мало информации. Нальчик не является естественной средой обитания этих людей, что, конечно, искажает перспективу. Я предлагаю отложить решение вопроса до захвата нами Дагестана. Там, на родине татов, наши специалисты наверняка обнаружат недостающие сведения. И мы соберем новую комиссию». Он повернулся к Корсеману: «Что вы думаете по этому поводу, бригадефюрер?» Корсеман колебался, искоса взглянул на Биркампа, помолчал и наконец произнес: «У меня нет возражений, герр генерал. Мне кажется, таким образом будут удовлетворены интересы всех сторон, СС в том числе. Верно, оберфюрер?» Биркамп немного помедлил с ответом: «Ну, если вы так полагаете, бригаденфюрер». – «Естественно, – Кестринг был сама любезность, – пока мы не спустим с них глаз. Оберфюрер, ваша зондеркоманда не должна терять бдительности. Если обнаружатся попытки мятежа или контакты с партизанами, им крышка. Доктор Бройтигам?» Бройтигам гнусавил сильнее, чем обычно: «Министерство по делам восточных территорий согласно с вашим предложением и находит его разумным, герр генерал. Нам остается поблагодарить специалистов, а некоторые из них даже проделали долгий путь из Рейха, за великолепную работу». – «Конечно, конечно, – оживился Кетсринг. – Доктор Рерль, майор Вайнтроп, гауптштурмфюрер Ауэ, мы признательны вам и вашим коллегам». Раздались аплодисменты. Потом все разом задвигали стульями, зашуршали бумагами. Бройтигам обогнул стол и подошел пожать мне руку: «Отличная работа, гауптштурмфюрер». Потом обратился к Рерлю: «Безусловно, хазарская теория еще не опровергнута». – «О, увидим в Дагестане. Я уверен, что там мы отыщем новые подтверждения, как и сказал генерал. В Дербенте сохранилось множество археологических памятников». Я наблюдал за Биркампом, он догнал Корсемана и принялся втолковывать ему что-то, не повышая голоса, но энергично жестикулируя. Кестринг стоя беседовал с фон Гильсой и оберстом из АОК. Я перекинулся парой фраз с Бройтигамом, сложил документы и направился в коридор, к Биркампу и Корсеману. Биркамп злобно уставился на меня: «Я думал, что вы уважаете интересы СС, гауптштурмфюрер». Я не стушевался: «Герр оберфюрер, я привел все доказательства их принадлежности к еврейской расе». – «Вы могли бы выражаться яснее, без двусмысленностей». – «В чем вы упрекаете доктора Ауэ, оберфюрер? – прервал его Корсеман. – Он выступил достойно. Даже генерал дважды похвалил его». Биркамп пожал плечами: «Я начинаю подозревать, что Прилль все-таки прав». Я не ответил. Участники собрания покидали зал. «У вас будут для меня еще какие-нибудь распоряжения, оберфюрер?» – спросил я напоследок. Он неопределенно махнул рукой: «Нет, не теперь». Я отдал честь и вышел за фон Гильсой.
На улице было морозно и тихо, воздух сухой, бодрящий, колкий. Я глубоко вдохнул и ощутил, как ледяная струя обожгла легкие. Мороз и тишина. Фон Гильса сел в машину с оберстом из АОК, я устроился впереди. Мы обменялись несколькими замечаниями, потом замолчали. Я обдумывал услышанное: ярость Биркампа вполне объяснима. Кестринг сыграл с нами дурную шутку. Все присутствовавшие в зале прекрасно знали, что у вермахта нет шансов занять Дагестан. Некоторые, – но, вероятно, не Корсеман и не Биркамп, – даже опасались, как бы группе армий «А» вообще не пришлось в скором времени оставить Кавказ. Если Готу и удастся соединиться с Паулюсом, то лишь для того, чтобы отвести войска 6-й армии за Чир или даже в низовье Дона. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять: позиция группы армий «А» становилась в этом случае непригодной для обороны. Кестринг по этому поводу наверняка имел определенные соображения. В складывающейся ситуации не следовало конфликтовать с горцами из-за каких-то Bergjuden: узнав о приближении Красной Армии, они могли взбунтоваться, стремясь – правда, с некоторым опозданием – продемонстрировать большевикам свою лояльность и патриотизм, и нам следовало любой ценой избежать такого развития событий. Отступление в зонах, население которых настроено враждебно и готово к партизанской войне, обернулось бы катастрофой. Нужно было дать гарантии и льготы дружественным народам и заручиться их поддержкой. Не думаю, что Биркамп осознавал подобные тонкости. В погоне за цифрами и рапортами он, полицейский до мозга костей, совершенно утратил способность широко мыслить. Недавно в отдаленном от Краснодара районе айнзатцкоманда ликвидировала санаторий для детей, больных туберкулезом. Большинство детей были кавказцами. Национальные советы отчаянно протестовали, возникшие на этой почве столкновения стоили жизни многим нашим солдатам. Байрамуков, глава карачаевской администрации, даже угрожал фон Клейсту массовыми вооруженными выступлениями. Фон Клейст отправил гневное письмо Биркампу, но тот, по слухам, отреагировал с удивительным безразличием, он явно не понял, в чем проблема. Корсеман, более внимательный к аргументам военных, вынужден был вмешаться и заставил Биркампа направить айнзатцкомандам новые инструкции. Кестрингу, таким образом, не оставили выбора. Биркамп ехал на конференцию, готовый к борьбе, но Кестринг заодно с Бройтигамом уже знали расклад, и обмен мнениями превратился в спектакль для непосвященных. Выступи там Везело собственной персоной, будь мой доклад более тенденциозен – это не изменило бы ровным счетом ничего. Кестринг придумал блестящий, беспроигрышный ход с Дагестаном: решение основывалось на выводах выступавших, и Биркамп не мог привести никаких обоснованных возражений; сказать правду, усомниться, что мы сумеем занять Дагестан, было невозможно: Кестринг тут же обвинил бы Биркампа в пораженчестве. Мастерский удар, подумал я с восхищением и горечью, не зря военные прозвали Кестринга «старым лисом». Я ждал неприятностей: Биркамп, потерпевший фиаско, наверняка спустит на кого-нибудь всех собак, и я был, в общем-то, самой подходящей кандидатурой. Я работал старательно и с энтузиазмом, но, как и в парижской командировке, не разобрался в правилах игры, докапывался до истины там, где это было совершенно не нужно, где всех интересовала только политика. Прилль и Турек теперь без труда могли натравить на меня Биркампа. Но, по крайней мере, Фосс меня одобрил бы. Увы, Фосс погиб, и я снова остался один.
Наступал вечер. Иней покрыл ветви, провода, столбы, заборы, густую траву, оголившиеся поля. Мир вокруг вдруг стал нереальным, безжизненным в этой фантастической, пугающей хрустальной белизне. Я посмотрел на горы: горизонт заслоняла длинная синяя стена Кавказа. Где-то над Абхазией, если я не ошибался, заходило солнце, лучей не было видно за горами, но чудесные нежные отблески, розовые, желтые, оранжевые, сиреневые, медленно скользили от одной заснеженной вершины к другой. У меня перехватило дух от такой пронзительной красоты, почти одушевленной и в то же время отрешенной от человеческой суеты. Понемногу солнце погрузилось в море за горами, краски потухли, снег из голубого стал бело-серым и тихо светился в ночи. Фары нашей машины выхватывали из темноты заиндевевшие деревья, похожие теперь на сказочные существа. Мне казалось, что я очутился в той волшебной стране, которую помнят дети и откуда нет возврата.
Я не заблуждался на счет Биркампа: нож гильотины упал даже быстрее, чем я ожидал. Через четыре дня после конференции оберфюрер вызвал меня в Ворошиловск. Накануне в Нальчике во время празднования Курбан-байрама было объявлено о создании Кабардино-Балкарской автономии, но я на церемонии не присутствовал; Бройтигам выступил там с торжественной речью, и горцы щедро одарили офицеров кинжалами, коврами, рукописными экземплярами Корана. Что касается Сталинградского фронта, то, по слухам, танки Гота застряли на реке Мышковой, в шестидесяти километрах от котла. Между тем в районе севернее Дона советская армия вновь атаковала итальянские войска, обратив их в бегство; теперь русские танки представляли реальную угрозу аэродромам, откуда самолетам люфтваффе до сих пор удавалось переправлять снабжение в котел. Офицеры абвера по-прежнему не давали точной информации, и судить об истинном положении дел, даже собрав все возможные слухи, было сложно. Я посылал в группенштаб отчеты обо всем, что мне удавалось разузнать, и не сразу сообразил: мои старания особо никому не нужны. В конце концов я получил из Генерального штаба Корсемана список уполномоченных СС, назначенных на должности в кавказские регионы, Грозный, Азербайджан, Грузию, и – в качестве дополнения – статью о кок-сагызе, которого много вокруг Майкопа; рейхсфюрер рекомендовал всерьез заняться разведением этого растения, чтобы производить каучук из его корней. Я спрашивал себя, неужели у Биркампа столь же искаженное представление о ситуации; в любом случае его приказ явиться в Ворошиловск меня очень тревожил. По дороге я пытался найти аргументы в свою защиту, выработать некую стратегию, но не преуспел в этом, поскольку понятия не имел, что меня ждет.
Разговор оказался коротким. Биркамп даже не пригласил меня сесть, я так и стоял навытяжку. Он протянул мне бумагу, я в недоумении спросил: «Что это?» – «Приказ о вашем переводе. Ответственному за полицейские структуры в Сталинграде срочно потребовался офицер СД. Прежнего убили две недели назад. Я уведомил Берлин, что группенштаб имеет возможность сократить персонал, и там одобрили ваш перевод. Мои поздравления, гауптштурмфюрер. Вам очень повезло». – «Я хотел бы поинтересоваться, почему вы предложили именно мою кандидатуру, оберфюрер?» Биркамп, не скрывавший своей неприязни, ухмыльнулся: «В моем штабе я желаю видеть офицеров, понимающих, что от них требуется, без лишних объяснений, в противном случае им лучше заняться чем-то другим. Я надеюсь, что служба в СД в Сталинграде станет для вас хорошим уроком. К тому же, позвольте заметить, ваше двусмысленное поведение спровоцировало распространение мерзких слухов в подразделении. Некоторые даже настаивали на вмешательстве трибунала СС. Я из принципа не обращаю внимания на сплетни, тем более касающиеся такого политически грамотного офицера, как вы, но я никогда не допущу, чтобы скандал повредил репутации моей группы. На будущее советую не давать повода к толкам подобного рода. Вы свободны». Мы вскинули руки в нацистском приветствии. Мой путь по коридору вел мимо кабинета Прилля; тот с усмешкой пялился на меня из-за открытой двери. Я задержался на пороге и улыбнулся широко, радостно, как ребенок. Прилль помрачнел и смутился. Я молчал и продолжал улыбаться. В руке я все еще держал командировочное предписание. Наконец я вышел на улицу.
Было по-прежнему холодно, но меня спасала шуба, и я немного прошелся пешком. Снег не чистили, дорога замерзла и скользила. На углу у гостиницы «Кавказ» я стал невольным зрителем странной сцены: немецкие солдаты выносили из здания манекены в наполеоновской форме. Гусары в киверах и пунцовых, фисташковых или светло-желтых доломанах, драгуны в зеленых мундирах с малиновым кантом, гвардейцы в синих шинелях с золотыми пуговицами, ганноверцы, красные, как раки, хорватский улан в белом с алым галстуком. Одни солдаты загружали их в кузов с тентом, другие привязывали веревками. Я направился к фельдфебелю, руководившему операцией: «Что здесь происходит?» Он отдал честь и ответил: «Это Краеведческий музей, герр гауптштурмфюрер. Мы вывозим коллекцию в Германию. Приказ ОКХГ». Я еще несколько минут наблюдал за ними и повернул к своей машине. Я не выпускал из рук путевой лист. Finita la commedia.
Куранта
Путь из Минвод на север оказался тяжелым: на железной дороге царила полнейшая неразбериха, мне пришлось сделать множество пересадок. В грязных вокзальных помещениях сотни солдат подпирали стены или валялись на вещмешках в ожидании, что им плеснут немного супа или чего-то, отдаленно его напоминающего, прежде чем отправить неизвестно куда. Если удавалось, я пристраивался где-нибудь в углу лавки и проваливался в сон, из которого меня выдергивал очередной совершенно ошалевший начальник вокзала. В Сальске меня наконец определили в ростовский поезд с солдатами и снаряжением для армии Гота. Новые соединения формировались – бессистемно и в спешке – из отпускников, которых перехватывали по пути в Рейх на пространстве от Люблина до Познани и возвращали в Россию; из совсем юных призывников, не прошедших даже ускоренной подготовки; из едва оправившихся после лазарета раненых, а также из солдат 6-й армии, выживших после поражения в «котле». Немногие отдавали себе отчет в серьезности ситуации, что, впрочем, было не удивительно: наши сводки упорно замалчивали правду и сообщали лишь об активной деятельности в секторе Сталинграда. Разговаривать мне не хотелось, я пристроил багаж, забился в угол купе и устремил рассеянный взгляд в окно, которое иней разрисовал причудливыми растениями. Я старался ни о чем не думать, но горькие мысли и жалость к себе одолевали меня. Лучше бы Биркамп поставил меня перед строем, – возмущался я в душе, – а не лицемерил по поводу того, что русская зима в «котле» послужит мне хорошим уроком. Слава богу, – напоминал я себе, – у меня хоть есть шуба и сапоги. Я действительно не понимал, чему могут научить кусочки горячего металла, впивающиеся в тело. Расстрелянных евреев или коммунистов эти кусочки точно ничему не научат, раз они уже убиты, хотя у нас по этому поводу произносится множество благоглупостей. Большевики в качестве наказания используют штрафбат, где практически невозможно выжить больше нескольких недель – мера жесткая, но честная, как вообще-то все, что они делают. И тут, не говоря уж о бесчисленных дивизиях и танках, они имеют перед нами явное преимущество: знают, по крайней мере, как и когда им действовать.
Железнодорожные пути были перегружены, нас часами держали на запасных путях, в соответствии с инструкциями неведомых далеких инстанций мы пропускали другие составы. Иногда я пересиливал себя и шел размяться и глотнуть холодного воздуха. Снег, сухой и твердый, хрустел под ногами, я, пряча лицо от обжигающего ветра, смотрел на белые, безжизненные просторы, на вагоны с посеребренными изморозью окнами. Народ из поезда выходил редко – только подышать или по большой нужде, многие страдали поносом. Мной овладевали нелепые желания – запахнуть плотнее шубу, лечь в сугроб и, пока поезд не тронется, замереть, спрятаться под тонким слоем снежной ваты, затаиться в мягком коконе, уютном, как материнское лоно, однажды так жестоко отторгшее меня. Приступы уныния пугали меня, и, с трудом подавляя их, я принимался гадать, с чем они связаны. Прежде со мной подобного практически не случалось. Страх, да, допустим. Хорошо, но страх чего? С перспективой смерти я смирился, и, кстати, задолго до наших операций на Украине. Может, моя тоска – иллюзия, ширма, которую мозг использует, чтобы скрыть примитивные животные инстинкты? Тоже вероятно. А возможно, меня пугала мысль об ожидающей меня ловушке: очутиться в котле, в огромной западне под открытым небом, означало потерять надежду на возвращение. Я хотел служить и, переступая через себя, совершал из чувства долга перед Нацией вещи ужасные, отвратительные, а в итоге я – изгой, меня изолировали от общества и сослали к брошенным на произвол судьбы и обреченным на смерть. Надеяться на атаку Гота? Сталинград не Демянск, наши силы иссякли значительно раньше 19 ноября, мы, могущественные, свято верившие в стремительную победу, уже использовали абсолютно все резервы. Сталин, коварный осетин, применил против нас тактику предков-скифов, которые, по словам Геродота, отступали, завлекая врага в свою землю, подстерегали вражеских воинов, когда те добывали себе пищу, то и дело нападали на них по ночам. Скифы же, замечая замешательство персов, поступали следующим образом, стараясь как можно дольше удержать персов в своей стране и терзая их нуждой и лишением всего необходимого. Скифы оставляли часть своих стад вместе с пастухами, а сами уходили в другое место. Персы же приходили, захватывали скот, каждый раз при этом гордясь своей удачей. Это повторялось довольно часто, пока в конце концов Дарий не оказался в затруднительном положении [28].Поняв это, продолжает Геродот, скифские цари отправили Дарию загадочное послание, странные дары: птицу, мышь, лягушку и пять стрел. А вот нас ждали не дары и послания, но лишь поражение, безысходность, гибель. Посещали ли меня эти мысли уже тогда, в дороге? Или они появились позже, ближе к развязке, или даже после войны? Не исключено, что я прозрел именно между станциями Сальск и Котельниково: доказательств, подтверждающих мои догадки, искать не приходилось, достаточно было оглядеться кругом, да и уныние мое располагало к подобным выводам. Расшифровать теперь ход моих мыслей так же сложно, как сон, оставивший утром лишь смутный неприятный осадок, или беспорядочное переплетение линий, которые я, словно ребенок, чертил на заиндевевшем окне купе.
В Котельниково, отправном пункте наступления Гота, прямо перед нашим поездом разгружали другой, мы застряли на долгие часы. Здание маленького деревенского вокзала обветшало, кирпич местами отвалился, между путями тянулись убогие бетонированные платформы; на вагонах в наших составах стояли чешские, французские, бельгийские, датские, норвежские маркировки: мы теперь скребли по сусекам Европы. Я прислонился к распахнутой двери вагона, закурил и принялся наблюдать за снующей туда-сюда толпой. Наши солдаты всех видов войск, русские и украинские полицаи с повязками со свастикой на рукаве, хиви с тупыми рожами, разрумянившиеся на морозе крестьяне, предлагавшие купить соленья или тощих кур. Немцы были в теплых шинелях или шубах, русские – в основном в телогрейках с дырами, из которых часто торчали клочки соломы или газет. И вся эта разношерстная шатия-братия сновала, толкалась, переругивалась, галдела у меня под ногами. Прямо передо мной с грустью прощались два рослых пехотинца; за ними плелся худой, трясущийся от холода русский мужичонка в одном пиджаке и с аккордеоном. Мужичонка подходил к группе солдат и полицаев, те ругались, отпихивали его или просто отворачивались. Когда он поравнялся со мной, я вынул из кармана мелкую купюру и протянул ему. Я думал, что мужик продолжит путь, но он спросил, мешая русские и немецкие слова: «Что желаешь? Народную, популярную или казачью?» Я не понял, о чем он, и пожал плечами: «Сам выбирай». Он на минуту замешкался, а потом заиграл казачью песню, я часто слышал ее на Украине, жуткая история девицы, которую похитили казаки, за косы привязали к сосне и сожгли заживо, но припев там задорный: «Ой ты, Галю, Галю молодая…» Это было замечательно. Мужик пел, подняв ко мне лицо: его голубые глаза, хмельные и слезящиеся, блестели, рыжеватая бороденка подрагивала, но низкий, сильный, хоть и осипший от дурного табака голос звучал удивительно чисто. Мужик выводил куплет за куплетом, казалось, конца этому не будет. Щелкали под пальцами клавиши аккордеона. Все на перроне замерли и с удивлением смотрели и слушали, красота незатейливой мелодии заворожила даже тех, кто только что с руганью отгонял его. От деревни по тропке гуськом спускались три толстые колхозницы, вязаные белые шерстяные платки закрывали лица, как треугольные маски. Аккордеонист загородил им дорогу, они, плавно покачиваясь, обходили его, как лодочки утес, а он, не прерывая песни, пританцовывал вокруг них. Потом бабы засеменили дальше, с трудом протискиваясь сквозь толпу, за мной в тамбуре теснились солдаты, высыпавшие из купе, чтобы лучше слышать музыканта. А тот пел и пел, и никому не хотелось, чтобы песня оборвалась. Наконец мужичонка замолчал и, не рассчитывая на дополнительное вознаграждение, побрел к следующему вагону, и тут же внизу под ступенькой, на которой я стоял, началось движение, народ быстро рассредоточился и вернулся к прежним заботам.
Наконец объявили посадку. На перроне фельджандармы проверяли документы и отсылали людей к разным сборным пунктам. Меня отправили в кабинет к одному из служащих вокзала, младшему офицеру, он окинул меня усталым взглядом и сказал: «Сталинград? Понятия не имею. Здесь сейчас армия Гота». – «Мне приказано явиться к вам, и отсюда меня должны доставить на аэродром». – «Аэродромы на противоположном берегу Дона. Вам надо в штаб». Другой фельджандарм определил меня в грузовик, ехавший в штаб армии. Там в итоге я нашел более или менее осведомленного офицера: «В Сталинград летают из станицы Тацинская. Но обычно, чтобы соединиться с 6-й армией, офицеры следуют в Новочеркасск, где располагается Генеральный штаб группы армий „Дон“. Мы совершаем рейсы до Тацинской каждые три дня. Я никак не соображу, почему вы тут оказались. Ладно, попытаемся сделать для вас что-нибудь». Он проводил меня в комнату, где стояли двухъярусные кровати. И вернулся только через несколько часов: «Порядок. Тацинская высылает за вами „шторх“. Пойдемте». Шофер повез меня за город по дороге, проложенной прямо в снегу. Потом я ждал в какой-то сараюшке, отапливаемой печкой, и пил эрзац-кофе с младшими офицерами люфтваффе. Идея воздушного моста со Сталинградом глубоко их удручала: «Мы ежедневно теряем пять-десять машин, а наши в Сталинграде, похоже, пухнут с голода. Если генерал Гот не прорвет блокаду, им крышка». – «На вашем месте, – дружески посоветовал второй, – я бы не слишком туда торопился». – «А вы не можете ненароком заблудиться?» – добавил его приятель. Маленький «Физелер-Шторх» приземлился, чуть покачиваясь. Пилот даже не удосужился заглушить мотор, проехал до конца полосы, развернулся и приготовился к взлету. Один из офицеров люфтваффе помог мне погрузить вещи. «Хорошо, что вы хотя бы тепло одеты», – шум пропеллеров перекрывал его голос. Я забрался на борт и сел за пилотом. «Спасибо, что прилетели!» – крикнул я. «Не за что! – заорал он в ответ. – Уже привык работать таксистом». Я еще не успел пристегнуть ремни, как самолет поднялся в воздух и взял направление на север. Вечерело, но небо было ясное, и я впервые видел землю с высоты. До самого горизонта расстилалось ровное белое полотно, лишь кое-где его поверхность пересекали прямые, как стрела, трассы. В закатных лучах, омывающих степь, балки казались бездонными черными провалами. На магистральных перекрестках стояли полуразрушенные деревни, дома без крыш уже занесло снегом. Потом мы летели над Доном, огромный извивающийся змей сливался с равнинной белизной, и разглядеть его можно было только благодаря синеватым бокам, холмы на правом берегу отбрасывали тень. Гигантский красный шар солнца опускался все ниже и ниже, но снег оставался холодным, светло-голубым. Полет наш проходил гладко, под монотонный гул пропеллеров, внезапно «шторх» резко взял влево, прямо под нами я увидел ряды больших транспортных самолетов, и вот уже колеса шасси коснулись утрамбованной полосы, и «шторх», подпрыгивая, покатился к ангару. Пилот выключил мотор и кивнул на длинное малоэтажное здание: «Туда. Вас уже ждут». Я поблагодарил и быстро зашагал к двери, над которой горела электрическая лампочка. На аэродром тяжело приземлился «юнкерс». С наступлением ночи температура стремительно падала, лицо от мороза горело, словно от пощечин, дыхание перехватывало. Внутри младший офицер показал, где оставить багаж, и проводил меня в приемную, гудевшую как улей. Обер-лейтенант люфтваффе поздоровался, проверил мои документы: «К сожалению, – сказал он, – на сегодня рейсы заполнены. Я могу определить вас в утренний самолет. Кстати, у нас имеется еще один пассажир». – «Вы летаете по ночам?» Он удивленно посмотрел на меня: «Конечно. А почему нет?» Я покачал головой. Меня с вещами отвели в общую спальню, находившуюся в другом помещении. «Постарайтесь поспать», – посоветовал мне на прощанье обер-лейтенант. В спальне никого не было, но на одной из кроватей лежал чей-то чемодан. «Это офицера, который едет с вами, – объяснил мой провожатый, – он, наверное, в столовой. Вы голодны, герр гауптштурмфюрер?» Я проследовал за ним в комнату с желтоватой тусклой лампочкой под потолком, где за столами на табуретках сидели, ели и тихо переговаривались пилоты, диспетчеры и прочий персонал. В углу в одиночестве притулился Хоенэгг. Увидев меня, он расхохотался: «Дорогой гауптштурмфюрер! Каких глупостей вы еще успели натворить?» Я расцвел от радости и, раздобыв большую тарелку горохового супа, хлеб и чашку суррогатного чая, устроился напротив него. «Уж не злополучной ли дуэли я обязан удовольствием встретить вас вновь? – голос у Хоенэгга был веселый, приятный. – Я бы себе никогда не простил». – «Почему вы так говорите?» Он, с видом одновременно сконфуженным и лукавым, ответил: «Должен признаться, что я выдал ваш план!» – «Вы!» – я не знал, что делать: плакать или смеяться. Хоенэгг напоминал нашкодившего мальчишку. «Да. Но позвольте прежде заметить, что идея у вас возникла идиотская, в духе совершенно неуместного немецкого романтизма. И потом, не забывайте, они готовили нам ловушку. Я не хотел, чтобы меня убили вместе с вами». – «Доктор, вы скептик. Мы бы не попали впросак». Я в двух словах рассказал ему о ссоре с Биркампом, Приллем и Туреком. «Ну, не стоит унывать, – заключил Хоенэгг. – Уверен, что вы приобретете весьма интересный опыт». – «Вот и мой оберфюрер так считает. Но я не согласен». – «Вы не умеете философски относиться к жизни. Вот уж не думал». – «Да, я, вероятно, изменился. А вы, доктор, почему здесь?» – «Один бюрократ в Германии, врач-теоретик, решил, что надо непременно воспользоваться случаем и изучить, как плохое питание влияет на солдат. В штабе 6-й армии его фантазию не поддержали, но Главное командование настаивало. И мне поручили столь увлекательное исследование. Если честно, несмотря на все обстоятельства, мне самому это любопытно». Я ткнул ложечкой в его круглое пузо: «Надеюсь, что вам не грозит стать объектом собственных наблюдений». – «Грубо, гауптштурмфюрер. Доживите до моих лет, а там шутите. Кстати, что слышно про нашего юного друга-лингвиста?» Я поднял глаза на Хоенэгга: «Он погиб». Доктор помрачнел: «О! Мне очень жаль». – «Мне тоже». Я доел суп и теперь пил чай, отвратительный, несладкий, но по крайней мере утоляющий жажду. Потом закурил. «Не хватает вашего рислинга, доктор», – улыбнулся я. «У меня еще есть бутылка коньяка, – утешил он. – Но ее мы прибережем и разопьем уже в котле». – «Доктор, никогда не загадывайте на завтра, не прибавляя: если будет воля Божья». Он кивнул: «Да, гауптштурмфюрер, проповедовать – ваше истинное призвание. Идемте спать».
Спал я плохо, в шесть утра меня разбудил младший офицер. В столовой было пусто и холодно, обхватив жестяную чашку руками в попытках согреться, я даже не замечал горького вкуса чая. Затем нас отвели в промерзший ангар, где в томительном ожидании мы прохаживались туда-сюда среди ящиков с запчастями и промасленных самолетов. Дыхание образовывало во влажном воздухе облачка пара, обволакивающие лицо. Наконец появился пилот: «Сейчас заправимся – и в путь, – пообещал он. – К несчастью, для вас нет парашютов». – «А они нужны?» – поинтересовался я. Он усмехнулся: «Теоретически, если нас собьет советский истребитель, мы должны успеть выпрыгнуть. В действительности так никогда не бывает». Небольшой грузовик довез нас до «Юнкерса-52», стоявшего на краю взлетной полосы. Ночью небо затянуло плотными, словно вата, облаками, но теперь на востоке сквозь них пробивался свет. Несколько человек грузили на борт ящики, пилот усадил нас на узкую банкетку и объяснил, как пристегнуться. Место перед нами занял коренастый механик, саркастически ухмыльнулся и больше не обращал на нас внимания. Радио шипело, до нас доносились обрывки фраз, разные голоса. Пилот, перешагивая через ящики и мешки, закрепленные толстой веревкой, прошел в кабину, что-то проверил. «Хорошо, что вы улетаете сегодня, – бросил он нам невзначай. – Красные уже у самой Скосырской, к северу отсюда. Скоро лавочку прикроют». – «И вы эвакуируете аэродром?» Он скривился и отвернулся к штурвалу. «Вы же знаете наш обычай, гауптштурмфюрер, – вступил Хоенэгг. – Не отступать, пока всех не убьют». Один за другим загудели, заработали моторы. Самолет мелко трясся; все дрожало: сиденья, стена за спиной, на полу дребезжал разводной ключ. «Юнкерс» медленно покатился по полосе, совершил пол-оборота, набрал скорость, приподнял хвост и тяжело оторвался от земли. Мы не догадались привязать чемоданы, и они поехали вперед, Хоенэгг завалился на меня. Я посмотрел в иллюминатор: мы утонули в тумане, я с трудом различал пропеллер. Вибрация мучительно отзывалась в теле. Потом мы вырвались из туч, холодный свет восходящего солнца разливался по стальному синему небу и бескрайним грядам облаков, похожим на степные балки. Ледяной воздух щипал кожу, внутренняя обшивка салона заиндевела, я запахнул плотнее шубу, съежился. Хоенэгг, руки в карманах, голова опущена, вроде бы спал; последовать его примеру мне мешала жуткая тряска. К счастью, мы стали снижаться, самолет скользнул по облачным вершинам, нырнул, и опять вокруг потемнело. Сквозь монотонный шум пропеллеров послышался глухой взрыв, или это мне только показалось? Пару минут спустя пилот крикнул нам: «Питомник!» Я толкнул Хоенэгга, он тут же очнулся, протер стекло иллюминатора. Мы уже выбрались из мглы, под нашим крылом расстилалась степь. А дальше начинался хаос: белую равнину уродовали огромные грязно-коричневые пятна, кратеры, образовавшиеся от взрывов, повсюду громоздились груды покореженного металла, припорошенные снегом. Самолет стремительно шел вниз, но аэродрома я не видел. Посадка, скачок, остановка. Механик уже отстегнулся: «Быстрее, быстрее», – торопил он. Я отчетливо услышал взрыв, волна снега ударила в борт и иллюминаторы. Я лихорадочно дернул ремень. Самолет стоял, накренившись, механик распахнул дверцу и сбросил лестницу. Пилот не глушил мотора. Механик подхватил наши вещи и без лишних церемоний выкинул наружу, потом яростно замахал, чтобы мы поскорее спускались. Порыв ветра с мелким колючим снегом ударил в лицо. У самолета суетились закутанные с головы до ног люди, подкладывали колодки под шасси, открывали люки. Я скатился по лестнице, отыскал чемодан. Фельджандарм с автоматом наперевес приветствовал меня и приказал следовать за ним, я крикнул: «Подождите, подождите!» Хоенэгг спешил за мной. В десятке метров от нас разорвался снаряд, но никто даже не обратил на это внимания. Снег расчистили, по обочинам дороги высились сугробы; неподалеку в оцеплении вооруженных фельджандармов, на груди которых тускло поблескивали металлические бляхи, топтались люди. Мы с нашим сопровождающим направлялись к ним, вблизи я разглядел, что большинство солдат в бинтах, перевязках или опираются на самодельные костыли, двое распластались на носилках, у всех к шинелям были приколоты учетные карточки раненых. По сигналу они кинулись к самолету. Началось нечто невообразимое: выход за колючую проволоку перекрыли, перепуганные солдаты толкались, вопили, умоляли, махали перебинтованными руками, доказывали что-то фельджандармам, те орали и грозили автоматами. Новый взрыв, совсем рядом, фонтаны снега, раненые попадали на землю, но фельджандармы не потеряли хладнокровия. Позади нас раздались крики, задело несколько человек, разгружавших самолет, их оттаскивали в сторону, солдаты еще кидали с борта мешки и ящики, а раненые – те, кого пропустили за кордон, – лезли по лестнице, отпихивая друг друга. Сопровождавший нас фельджандарм сделал предупредительный выстрел и, работая локтями, начал продираться сквозь обезумевшую, стонущую толпу, я старался не отставать и тащил за собой Хоенэгга. Мы вышли к рядам обледеневших палаток и темным входам в бункеры, дальше перед нами вырос целый лес вышек, антенн, проводов вплотную припаркованных передвижных радиостанций; на краю взлетной полосы образовалась огромная свалка развороченной техники: из-под снега торчали разбитые самолеты, сожженные грузовики, танки, смятые машины. Нас уже встречали офицеры, мы обменялись приветствиями. К Хоенэггу подошли два военных врача, моим собеседником оказался молодой лейтенант абвера, он представился и поздравил меня с благополучным прибытием: «Мне поручили позаботиться о вас, сейчас найду машину и отвезу вас в город». Я должен был расстаться с Хоенэггом: «Доктор!» Я сжал его ладони. «Мы непременно увидимся, – с жаром ответил он. – Котел не слишком велик. Если загрустите, жду в гости, выпьем коньяку». Я развел руками: «Думаю, доктор, мы скоро расправимся с вашим коньяком». Я последовал за лейтенантом. Около палаток я заметил какие-то странные кучи, припорошенные снегом. Время от времени со стороны аэродрома доносились глухие взрывы. Вот медленно вырулил наш «юнкерс». Мы с лейтенантом остановились посмотреть, как он взлетит. Мела сильная вьюга, я щурился, чтобы не ослепнуть. «Юнкерс» приготовился, развернулся, моментально разогнался, резкий поворот, еще один в опасной близости от гигантского сугроба, колеса оторвались от полосы, завыли моторы, самолет поднялся и, покачиваясь, скрылся за непроницаемой толщей облаков. Я снова взглянул на кучи и лишь теперь понял, что это трупы, уложенные, как дрова в поленнице, застывшие зеленовато-бронзовые лица, жесткая щетина, уголки губ, ноздри, глазницы подернуты ледяной коркой. Сотни мертвецов. Я спросил у лейтенанта: «Вы их не хороните?» «Невозможно: земля как каменная, а взрывчатку тратить нельзя. Мы даже траншеи не роем». Мы отправились дальше, гладкие накатанные колеи были такими скользкими, что легче было идти прямо по снегу. Лейтенант привел меня к низким длинным постройкам, за бункеры я принял наполовину закопанные вагоны, у стен и на крышах которых лежали мешки с песком, ко входу спускались выдолбленные в земле ступени. Лейтенант пропустил меня вперед, внутри в коридоре суетились офицеры, купе приспособили под кабинеты, лампочки горели слабо, все тонуло в желтоватой мути, холода не ощущалось, где-то, наверное, топили печку. Лейтенант убрал папки и бумаги с нижней полки купе и пригласил меня присесть. Окна, заваленные мешками и снегом, украшали неумело вырезанные из цветной бумаги рождественские гирлянды. «Хотите чаю? Больше предложить вам нечего», – сказал лейтенант. Я согласился. Он вышел. Я снял шапку, расстегнул шубу и вытянулся на кушетке. Лейтенант принес две чашки эрзац-пойла, свою он пил, стоя в проходе. «Не повезло вам, – робко начал он, – прямо в канун Рождества сюда». Я пожал плечами и подул на кипяток: «Для меня Рождество не слишком много значит». – «А здесь оно для нас очень важно». Он показал на украшения: «Люди в предвкушении праздника. Надеюсь, что красные дадут нам передышку. Впрочем, слишком на это рассчитывать не приходится». Меня удивили его слова: Гот планировал соединиться с 6-й армией, и ее офицерам следовало бы заниматься подготовкой к отступлению, а не к Рождеству. Лейтенант посмотрел на часы: «Передвижения строго ограничены, в город вас отправят после полудня, раньше никак нельзя». – «Отлично. А вы не в курсе, куда мне, собственно, обращаться?» Он опешил: «Вероятно, в городскую комендатуру. Там все офицеры СП». – «Я еду в ведомство фельдполицайкомиссара Мёрица». – «Тогда точно туда». Он замялся: «Отдыхайте. Я вернусь за вами». Буквально через несколько минут в купе вошел другой офицер, рассеянно поздоровался со мной и принялся печатать. Я выбрался в коридор, но там толкалось много народу. Я почувствовал, что проголодался, но поесть мне никто не предлагал, а просить не хотелось. Я выходил курить на улицу, где слышен был рокот самолетов, а порой и грохот взрывов, затем возвращался в купе и ждал дальше под монотонный стрекот пишущей машинки.
Лейтенант появился только к пяти. Меня уже мутило от голода. Он кивнул на мой чемодан: «Машина отправляется». Я последовал за ним к «опелю» с цепями на колесах; за рулем, к моему удивлению, сидел офицер. «Удачи», – пожелал лейтенант и отдал честь. «Счастливого Рождества», – сказал я. В машину набилось пять человек в шубах, места практически не осталось, мне не хватало воздуха. Прижавшись щекой к заледеневшему стеклу, я подышал на него в надежде хоть что-нибудь разглядеть. Машина тронулась, трясло жутко. Дорога с множеством указателей, прибитых к кольям, доскам и даже лошадиным ногам, торчащим копытами вверх ногам мертвых лошадей, была ужасно скользкой, цепи не помогали, «опель» то и дело заносило на поворотах; чаще всего офицер ловко выруливал, но иногда мы застревали в сугробе, вылезали наружу и толкали машину. Я знал, что аэродром «Питомник» находится почти в центре «котла», но мы не сразу очутились в Сталинграде, кружили по окрестностям, высаживали офицеров в разных пунктах, их место тут же занимали другие. Ветер усилился, завьюжило, мы медленно, словно на ощупь, пробирались сквозь буран. Наконец показались разрушенные дома, кирпичные трубы и осыпавшиеся стены. Пурга немного утихла, и я прочел на предупреждающей табличке: СТАЛИНГРАД – ВЪЕЗД ЗАПРЕЩЕН – СМЕРТЕЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ. Я спросил у своего соседа: «Это шутка?» Он мрачно посмотрел на меня: «Нет. Отчего же?» Дорога, петляя, шла вниз по склону, превращенный в развалины город находился теперь под нами – обугленные от взрывов остовы огромных зданий с черными зияющими дырами вместо окон. На шоссе кое-как в спешке расчистили от обломков узкий коридор для транспорта. Воронки от снарядов занесло снегом, если мы попадали туда колесом, амортизаторы не смягчали удара. Повсюду нам встречались опрокинутые сожженные машины, грузовики, столкнувшиеся немецкие и русские танки. На улицах то и дело попадались патрули и – поразительно! – штатские, жалкие, в лохмотьях, в основном женщины, тащившие ведра или мешки. «Опель», гремя цепями, въехал на длинный мост, наши умудрились отремонтировать его подручными средствами: внизу на путях, под снегом, простаивали сотни вагонов, и уцелевшие, и искореженные бомбами. Степная тишина, которую нарушал лишь гул двигателя, скрежет цепей или вой ветра, здесь сменилась непрекращающимся шумом – близкие и отдаленные взрывы, сухой треск противотанковых пушек ПАК, пулеметная дробь. После моста мы взяли левее, вдоль железнодорожного полотна и бесхозных товарных составов. В парке справа покосило все деревья; снова черные, безмолвные руины, стены домов, обрушившиеся на тротуары, или фасады, за которыми, как за театральными декорациями, была пустота. Дорога огибала огромный, дореволюционной постройки вокзал, некогда покрашенный желтой и белой краской; площадь перед ним превратилась в кладбище сожженных, вспоротых прямым попаданием снарядов машин. Наша машина свернула на длинную улицу, по диагонали пересекающую город: выстрелы раздавались теперь чаще, впереди клубились черные дымовые столбы, но где фронт, я не мог определить. Снова разбомбленная площадь, необозримая, безлюдная, потом мы по периметру объехали сквер с фонарями. Офицер припарковал машину у внушительных размеров здания с полукруглой колоннадой, изрешеченной пулями, и квадратными окнами без стекол, флаг со свастикой вяло трепыхался на древке под крышей. «Вам сюда», – закурив, сказал шофер. Я выкарабкался из «опеля», вытащил чемодан из багажника. У колонн стояли вооруженные автоматами солдаты, но никто не сделал шага навстречу. Я захлопнул багажник, шофер сразу нажал на газ, резко крутанул руль, и вот уже машина на большой скорости, грохоча цепями, устремилась обратно к вокзалу. Я разглядывал опустошенную площадь: в самом ее центре располагался фонтан, фигуры детей, то ли из гипса, то ли из камня, словно бросали вызов войне и разрухе. Я подошел к колоннам, солдаты отдали честь, но не пропустили меня, я с удивлением заметил у них белые повязки хиви. Один, по-немецки, коверкая слова, попросил у меня бумаги, я предъявил свой зольдбух, воинскую книжку. Он тщательно изучил ее, вернул, отсалютовал и что-то по-украински сказал своему напарнику. Тот сделал знак следовать за ним. Осколки стекла и куски штукатурки, усеивавшие ступени парадной лестницы, скрипели под моими сапогами, внутрь мы попали через широкую пробоину без дверных створок. Сразу перед нами выстроились ряды розовых пластмассовых манекенов, наряженных в платья, синие рабочие блузы, двубортные пиджаки; приняв изящные позы, куклы с продырявленными головами лукаво улыбались, разводя руками. За ними в полумраке высились полки с хозяйственными товарами, разбитые и перевернутые прилавки, засыпанные побелкой и щебнем, вешалки с платьями в горошек и бюстгальтерами. Украинец вывел меня из лабиринтов магазина-фантома к подвальной лестнице, охрана из хиви по приказу моего спутника расступилась. Мы спустились, лампочки горели слабо, по коридорам и подсобным помещениям сновали офицеры и солдаты вермахта, одетые кто во что горазд – и в форменные шинели, и в серые ватные телогрейки, и в русские шинели с немецкими нашивками. Чем дальше мы продвигались, тем становилось жарче, воздух был спертый, влажный, я буквально обливался потом в своей шубе. Еще ниже располагался просторный, с высокими потолками, зал заседаний, освещенный люстрой с множеством стеклянных подвесок и заставленный мебелью в стиле Людовика XVI, на столе с картами и документами расставлены были хрустальные бокалы; из граммофона, водруженного на ящики с французским вином, сквозь помехи и хрипы неслась ария Моцарта. Офицеры работали в тренировочных штанах, тапочках и даже спортивных трусах, на меня никто не обратил внимания. В коридоре за залом я наконец увидел людей в форме СС: украинец ушел, к Мёрицу меня проводил уже унтерштурмфюрер.
Фельдполицайкомиссар Мёриц, коренастый, похожий на бульдога, в круглых очках, брюках на подтяжках и заляпанной майке, принял меня довольно сухо: «Вы, однако, припозднились. Я три недели прошу, чтобы мне кого-нибудь прислали. Ладно, Хайль Гитлер». Комиссар протянул мне руку, едва не задев низко болтавшуюся лампу, на пальце у него блеснуло массивное серебряное кольцо. Я смутно припоминал: в Киеве наше подразделение сотрудничало с тайной полевой полицией, и мне, скорее всего, доводилось пересекаться с Мёрицем. «Я получил назначение четыре дня назад, герр комиссар. Быстрее добраться не мог». – «У меня нет к вам претензий. Это все чертовы бюрократы. Садитесь». Я снял шубу и шапку, с трудом нашел место в тесном, захламленном кабинете. «Вам известно, что я не офицер СС, моя группа тайной военной полиции подчиняется АОК. Но я, как советник криминальной полиции, руковожу всеми полицейскими структурами котла. Ситуация щекотливая, но мы неплохо уживаемся. Ликвидациями занимаются фельджандармы или мои украинцы-добровольцы. Сначала их было восемьсот, теперь меньше: боевые потери. Оставшиеся распределены между двумя комендатурами – нашей и той, что на юге от Царицы. В котле вы – единственный офицер СД, вам придется исполнять разные задачи. Мой начальник четвертого управления объяснит все подробнее и позаботится о вас. Он – штурмбанфюрер СС, в случаях крайней необходимости докладывайте ему обо всем, он составит для меня рапорт. Удачи».
Я подхватил шубу и чемодан под мышку, отыскал в коридоре унтерштурмфюрера: «Подскажите, где начальник службы IV?» – «Идите за мной». В маленькую комнатку втиснули несколько письменных столов, на которых теперь громоздились кипы документов, папок, досье, повсюду на свободных пятачках стояли свечи. Один из офицеров оторвал взгляд от бумаг: это был Томас. «О, – весело воскликнул он, – не слишком же ты спешил». Он встал из-за стола, дружески похлопал меня по плечу. Я смотрел на него, не в силах произнести ни слова, потом выдавил: «Что ты здесь делаешь?» Томас развел руками; как обычно, он выглядел безупречно, свежевыбрит, волосы уложены бриллиантином, мундир застегнут на все пуговицы, грудь в орденах. «Я тут по доброй воле, дорогой. Ты привез нам еды?» Я вытаращил глаза: «Еды? Нет, зачем?» Он изобразил ужас: «Ты явился из тыла в Сталинград без продуктов? Тебе не стыдно? Ты не в курсе происходящего?» Я кусал губы, не понимая, шутит он или нет: «Если честно, я не подумал. Я считал, что у СС есть все, что нужно». Томас вернулся за стол, голос его звучал насмешливо: «Присядь на какой-нибудь ящик. Уясни себе, СС не контролирует ни самолеты, ни их грузы. Мы все получаем от АОК, наш паек составляет… – он порылся в столе и вытащил листок, – двести граммов мяса, преимущественно конины, двести граммов хлеба и двадцать граммов маргарина или жира на человека в день. Бессмысленно говорить, – продолжил он, откладывая бумажку, – что мужчину такой порцией не накормишь». – «Но ты вроде не голодаешь», – заметил я. «Да, к счастью, некоторые из нас более дальновидны, чем ты. К тому же наши добровольные помощнички из украинцев весьма расторопны, особенно когда не задаешь им лишних вопросов». Я достал из кармана кителя сигареты, закурил. «Ну, хотя бы курево у меня есть». – «А! Вот это правильно! Итак, ты что – поссорился там с Биркампом?» – «Да, вроде того. Недоразумение». Томас наклонился вперед и погрозил мне пальцем: «Макс, я годами без устали твержу тебе: будь разборчивее в связях. Однажды это плохо кончится». Я кивнул на дверь: «Да, пожалуй, уже кончилось. Но, тем не менее, и ты тут». – «И что? Меня здесь все устраивает, за исключением жратвы. Зато потом будут награды, почет, высокие должности e tutti quanti [29]. Мы превратимся в настоящих героев и сможем щеголять медалями в лучших салонах. И даже твои проделки забудутся». – «Похоже, ты упускаешь одну деталь: между тобой и салонами затесалась Советская армия. Манштейн идет, да никак не дойдет». Томас скривился: «Вечно ты со своими упадническими настроениями. Кстати, тебя плохо проинформировали: Манштейн не придет вообще, уже несколько часов назад он приказал Готу отходить. Итальянский фронт рушится, и там он нужнее, иначе мы потеряем Ростов. В любом случае, даже если бы он добрался до нас, приказа о выходе из окружения не последует. А без приказа Паулюс никогда с места не двинется. Что касается истории с Готом, все это, если хочешь моего мнения, для легковерных. Манштейну надо успокоить совесть. Да и фюреру тоже. Я, признаюсь тебе, никогда не рассчитывал на Гота. Дай закурить». Я дал ему сигарету, поднес спичку. Он глубоко затянулся, откинулся на спинку стула. «Незаменимых офицеров, специалистов вывезут под занавес. В списке Мёриц, я, конечно, тоже. Другие останутся: кто-то же должен удерживать позиции. В общем, дело дрянь. Это касается и наших украинцев: они знают, что обречены, и потому страшно озлоблены и торопятся отомстить за себя». – «Но тебя могут убить и раньше. И даже во время отъезда: я видел, сколько самолетов здесь уничтожено». Томас широко улыбнулся: «Ну, дорогой, ты говоришь о профессиональных рисках. С тем же успехом можно и под машину угодить на Принц-Альбрехтштрассе». – «Я рад, что ты не утратил цинизма». – «Макс, милый, я сто раз тебе растолковывал, что национал-социализм – джунгли, где отношения организуются строго по дарвиновским принципам. Выживает или самый сильный, или самый приспособленный. Но ты по-прежнему отказываешься мне верить». – «У меня просто другой взгляд на вещи». – «И что в результате? Ты в Сталинграде». – «А ты правда ходатайствовал о переводе сюда?» – «До окружения, разумеется. Вначале тут все шло нормально. А у меня не было ни малейшего желания командовать подразделением СП и СД в какой-нибудь украинской дыре. Сталинград открывал новые интересные перспективы. Игра стоит свеч, только бы выкрутиться из переделки. А если не повезет… – Томас беспечно хохотнул, – c’est la vie [30]». – «Восхищаюсь твоим оптимизмом. А что готовит будущее мне?» – «Тебе? Боюсь, у тебя проблем побольше. Вряд ли ты в числе незаменимых, коль тебя сослали в Сталинград, – уж поверь мне. Я подумаю, как включить тебя в списки на вывоз, но ничего не гарантирую. А если не получится, всегда есть шанс отправиться на родину в числе раненых. О них позаботятся в первую очередь. Но будь осторожен! Смотри, чтобы тебя не ранили тяжело: вывозят лишь тех, кто оклемается и опять ринется в бой. Кстати, теперь солдаты специально наносят себе телесные повреждения. И поразительно, до чего же они хитры на выдумку! С конца ноября мы расстреливаем наших больше, чем русских. „Чтобы придать храбрости другим“, – как сказал Вольтер об адмирале Джоне Бинге». – «То есть тебе нечем меня обнадежить…» Томас отмахнулся: «Нет, нет! Не обижайся. Я так просто болтаю. Ты перекусил?» Я уже отчаялся получить хоть что-нибудь, и тут в животе у меня так сильно заурчало, что Томас рассмеялся. «Честно говоря, маковой росинки с утра во рту не было. На аэродроме „Питомник“ меня не угощали». – «Да, гостеприимство потихоньку исчезает. Давай я покажу тебе, куда положить вещи. Спать будешь в моей комнате, хочу понаблюдать за тобой попристальнее».
После обеда я почувствовал себя лучше. Пока я хлебал бульон с тонкими волокнами мяса, Томас вкратце обрисовал мои задачи: собирать слухи, сплетни, толки и докладывать о моральном настрое солдат, бороться с пропагандой русских, следить за осведомителями из гражданских лиц, в том числе и за детьми, которые бегают туда-сюда через линию фронта. «Учти, это палка о двух концах, – объяснял Томас, – они передают русским столько же информации, сколько и нам. Часто лгут. Но иногда и помогают». В узкой комнате еле помещались двухъярусные железные нары, на ящике из-под боеприпасов стоял эмалированный таз, на стене приладили потрескавшееся зеркальце для бритья. Томас принес мне зимний комбинезон, на одну сторону белый, а если вывернуть – серо-зеленый, типичный продукт немецкой изобретательности. «Надевай, когда будешь выходить в город, – посоветовал он мне. – Твоя шуба хороша для степи, но здесь в ней тебе будет неудобно». – «Прогуляться можно?» – «Даже нужно. Я тебе дам провожатого». Томас отвел меня на пункт охраны, где наши украинские пособники играли в карты, попивая чай. «Иван Васильевич!» Головы подняли сразу трое, Томас вызвал одного к нам в коридор. «Вот Иван. Один из моих лучших помощников. Я поручаю тебя ему». Томас обратился к Ивану по-русски, дал ему какие-то указания. Иван, хлипкий, светловолосый, скуластый, слушал внимательно. Томас повернулся ко мне: «Иван не слишком дисциплинированный, но очень надежный и город знает как свои пять пальцев. Без него никуда не ходи, делай все, что он тебе велит, без лишних „почему“ и „зачем“. Он немного говорит по-немецки, так что друг друга вы поймете. Capisce? [31] Я Ивану сказал, что отныне он твой личный телохранитель и отвечает за тебя головой». Иван поздоровался со мной и пошел к напарникам. Я ужасно устал. «Ну, тебе надо отдохнуть, – сжалился Томас. – Завтра вечером празднуем Рождество».
В первую ночь в Сталинграде, как сейчас помню, мне снова приснилось метро. Станция с множеством соединенных между собой уровней, гигантский лабиринт стальных балок и лестниц, приставных, отвесных, закрученных спиралью. Поезда прибывали на платформы и с оглушительным грохотом мчались дальше. Я не взял билета и боялся контролеров, поэтому решил спуститься на несколько уровней и юркнул в отъезжающий поезд, который с нарастающей скоростью понесся вниз почти вертикально, затормозил внезапно, но не остановился на перроне, а поменял направление и с жутким шумом опрокинулся в глубокую пропасть, озарявшуюся яркими вспышками света. Проснулся я опустошенным, огромным усилием воли заставил себя умыться и побриться. Тело чесалось – только бы уберечься от вшей! Несколько часов подряд я изучал карту города и документы, Томас помогал мне сориентироваться: «Русские удерживают узкую прибрежную полосу. Сначала, когда река подернулась льдом, но еще не совсем замерзла, они были у нас в ловушке, теперь река у них за спиной стоит, и они взяли нас в кольцо. Вот тут наверху Красная площадь, в прошлом месяце нам удалось – смотри ниже, вот здесь, – расколоть их фронт надвое и занять позицию на Волге, где прежде располагался их десантный мост. Если бы хватало боеприпасов, мы бы без труда лишили русских снабжения, но нам приказано стрелять, лишь когда они атакуют. Их солдаты беспрепятственно передвигаются по реке даже средь бела дня. Все, что касается организации тыла и материально-технического обеспечения, их склады, госпитали, артиллерия находятся на другом берегу. Время от времени туда наведываются наши бомбардировщики – „штуки“, так только, чтобы подразнить. Русские прочно обосновались в квартале вдоль реки, недалеко от нас и за ними остается огромный нефтеперегонный завод и площади до подножия сто второго холма, древнего татарского кургана, который мы брали и теряли уже десятки раз. За этот сектор отвечает сотая стрелковая дивизия, австрияки, разбавленные хорватским полком. За заводом тянутся отвесные скалы, спускающиеся к реке, русские сосредоточили там инфраструктуру, тоже неуязвимую, наши снаряды пролетают над ними, не достигая цели. Мы пытались уничтожить их туннельную систему, взорвав нефтехранилища, но русские потушили пожар и моментально все восстановили. В их распоряжении также большая часть химического завода „Лазурь“ и прилегающая территория, которую из-за окружающих ее дорог называют „Теннисная Ракетка“. Дальше на север заводы в основном наши, кроме зоны литейного производства „Красный Октябрь“. От этого пункта река до Спартаковки, что на северной границе котла, в наших руках. Город закреплен за пятьдесят первым корпусом генерала Зейдлица, но район фабрик и заводов – за одиннадцатым корпусом. На юге та же ситуация: русские окопались на полосе шириной не более ста метров, но отрезать хоть пядь нам никак не удается. Русло Царицы практически разделяет город на две части, нам достался обрывистый берег с пещерами, где теперь размещен наш главный госпиталь. За вокзалом сталаг, которым управляет вермахт, у нас – небольшой лагерь в колхозе на хуторе Вертячий – арестовываем гражданских, но расстреливаем не сразу. Что еще? В подвалах есть бордели, сам найдешь, если тебе интересно. Иван подскажет. Но предупреждаю, девки почти все вшивые». – «Кстати, про вшей…» – «А что, привыкай. Смотри». Томас расстегнул мундир, засунул руку за пазуху, поскреб и вытащил пригоршню мелких серых насекомых, стряхнул их на печку, где от жара они стали подпрыгивать и лопаться. Томас невозмутимо продолжил: «С горючим колоссальные проблемы. Шмидт, начальник штаба армии, тот, что заменил Хайма, – помнишь? – контролирует резервы, и в том числе даже наши, и отпускает бензин по капле. Короче, увидишь: всем тут заправляет Шмидт, а Паулюс лишь марионетка. В результате транспортные передвижения запрещены. От сто второго холма и до южного вокзала все ходят пешком; на дальние расстояния ловят попутки вермахта. Вермахт осуществляет регулярное патрулирование между секторами». Информации было много, но Томас проявлял терпение. Ближе к полудню стало известно, что на рассвете пала Тацинская; люфтваффе потребовалось дождаться появления русских танков, чтобы приступить к вывозу контингента, в результате потери составили 72 самолета, то есть около десяти процентов летательной техники. Томас показал мне цифры по объему полученного продовольствия – дела обстояли просто катастрофически. В прошлую среду, 19 декабря, 154 самолета доставили в котел 289 тонн, но в некоторые дни груз составлял 20, а то и 15 тонн, хотя АОК требовал минимум 700 тонн ежедневно, а Геринг твердо обещал 500. «Ему бы самому не мешало посидеть несколько недель на диете в котле», – сухо констатировал Мёриц на конференции, где офицерам объявили о взятии Тацинской. Планировалось перенести базу люфтваффе в Сальск на триста километров от котла, в пределе радиуса действия «Юнкерсов-52». Рождество ожидалось веселое.
Днем, поев супу и галет, я решил: пора браться за работу. С чего начать? Моральный дух войск? Почему бы и нет? Я не сомневался, что дух этот оставляет желать лучшего, но хотел утвердиться в своем мнении. Для того чтобы понять, как настроены солдаты вермахта, надо было выйти в город; вряд ли Мёрица интересовало моральное состояние солдат, меня окружавших, то есть украинских аскарисов. Идея покинуть бункер пугала меня, но не отсиживаться же все время в убежище. Кроме того, мне хотелось осмотреть город. Освоившись, я наверняка почувствую себя лучше. После недолгих раздумий я надел комбинезон серо-зеленой стороной, но по недовольной физиономии Ивана догадался, что совершил ошибку. «Сейчас снег идет. Выверни белой стороной наружу». Я смолчал, хотя его «тыканье» меня коробило, и без возражений переоделся, да еще по указанию Томаса нацепил каску: «Ты убедишься, что это просто необходимо». Иван протянул мне автомат, я покрутил оружие, сильно сомневаясь, что сумею им воспользоваться, но, тем не менее, вскинул его на плечо. Снаружи свирепствовал ветер, снег валил крупными хлопьями, с крыльца универмага невозможно было различить фигуры детей, украшавшие фонтан. После влажной духоты бункера я взбодрился на свежем морозном воздухе. «Куда?» – спросил Иван. Я и сам смутно представлял и брякнул наугад: «К хорватам»; с утра мне о них рассказывал Томас. «Далеко отсюда?» Иван проворчал что-то в ответ и двинулся по длинной улице, направо, наверное, к вокзалу. В городе оказалось относительно спокойно, но я вздрагивал даже от дальних, приглушенных снежной завесой залпов, не осмеливался по примеру Ивана идти посередине тротуара и жался к стенам домов. Я ощущал себя голым, уязвимым, как краб без панциря, меня внезапно пронзила мысль, что за полтора года, проведенных в России, я впервые нахожусь под огнем. От гнетущего страха тело стало ватным, мысли путались. Я сказал «страх», но нет, тогдашние мои ощущения не были обычным, реальным страхом, это была почти физическая мука, зуд, свербящий во всем теле. Пытаясь отвлечься, я стал смотреть по сторонам. Фасады рухнули при бомбежке, открыв внутренности зданий, которые теперь, словно белой пудрой, присыпало снегом. Ряды квартир, диорама повседневной жизни с предметами, поражавшими своей несуразностью: велосипед на стене третьего этажа; на четвертом, в комнате, оклеенной обоями в цветочек, нетронутое зеркало и репродукция «Незнакомки» Крамского в синих тонах; зеленый диван, с которого безвольно свисает рука мертвой женщины, на пятом. Обманчивое затишье вскоре нарушилось, в крышу ударил снаряд: я присел, сжался, стало ясно, почему Томас настаивал на каске: на меня посыпался каскад щебенки, кирпича, черепицы. Подняв голову, я увидел, что Иван даже не нагнулся, лишь прикрыл глаза рукой. «Пойдем, – сказал он, – ерунда». Я прикинул расстояние до реки и линии фронта и понял, что дома частично нас защищают: снаряды, чтобы упасть на улицу, должны перелететь крыши, то есть вероятность взрыва на земле невелика. Слабое, однако, утешение. Мы вышли к руинам железнодорожных депо и складов, Иван рысью пересек площадь и через раздвижную железную дверь, напоминавшую крышку консервной банки, проник в одно из складских помещений. Я помедлил немного, потом полез за ним. Пробрался сквозь горы ящиков, содержимое которых давным-давно уже разворовали, обогнул обрушившуюся внутрь крышу и выбрался на свободу через дыру в кирпичной стене; на снегу у лаза отпечаталось множество следов. Тропинка пролегала вдоль депо, на откосе стояли товарные поезда, я заметил их еще накануне с моста; на вагонах, кроме пробоин от пуль и гранат, красовались рисунки и надписи на русском и немецком, и смешные, и скабрезные. На одной карикатуре, особенно удачной, Сталин и Гитлер слились в объятиях, а Рузвельт и Черчилль стояли сбоку и дрочили. Не имея возможности выяснить, наши это рисовали или красные, я решил не упоминать ее в рапорте. Вдалеке замаячил патруль, поравнялся с нами и без слов и приветствий проследовал мимо. Измученные, желтые, заросшие щетиной лица, руки втиснуты в карманы, сапоги с плетенными из соломы огромными галошами или обмотанные тряпками, солдаты еле тащились, потом скрылись за сугробами. Повсюду: в вагонах, на рельсах – я замечал застывшие силуэты мертвецов, понять, немцы они или русские, было трудно. Взрывы смолкли, передышка. И вдруг впереди снова раздались выстрелы, треск пулеметов, замелькали огненные вспышки. За спиной остались последние железнодорожные постройки и еще один жилой район, мы очутились на заснеженном поле, слева возвышался огромный круглый холм, и периодически – после взрывов – над его вершиной, словно над вулканом, клубился черный дым. «Мамаев курган», – кивнул Иван, свернул налево и прошмыгнул в какую-то дверь.
В пустых комнатах на полу, прислонясь к стене, подобрав колени к груди, сидели солдаты. На нас они смотрели ничего не выражающим взглядом. Мы с Иваном проходили какие-то помещения, внутренние дворики, ныряли в переулки, наконец, видимо отдалившись от линии фронта, вышли на очередную улицу. Постройки здесь, скорее всего рабочие бараки, были максимум в два этажа; снова обрушенные, перевернутые вверх дном, обгоревшие здания, но не такие страшные, как на въезде в город. Копошение, шаги, шум иногда выдавали присутствие людей, продолжавших жить среди руин. Ветер не унимался, на вершине кургана, справа от нас, за домами, раздавался грохот канонады. Иван вел меня мимо каких-то палисадников с погребенными под снегом заборами и калитками. Вокруг ни души, но дорога утрамбована, значит, пользовались ею часто. Иван спрыгнул в балку, мы спустились по склону, курган исчез из поля зрения. В овраге не так сильно дуло, медленно падали белые хлопья, и вдруг все ожило, фельджандармы преградили нам путь, за ними я увидел сновавших туда-сюда солдат. Я показал документы, жандармы отдали честь и пропустили нас, я заметил, что восточный откос балки, граничащий с курганом и фронтом, испещрен черными, укрепленными досками и брусьями бункерами, штольнями, откуда торчали дымящие, собранные из консервных банок, трубы печей. В эти норы троглодитов солдаты вползали на четвереньках и выползали оттуда задом. В овраге двое разделывали топором на деревянном чурбане замороженную лошадиную тушу, кое-как отколотые куски кидали в котел с кипящей водой. Дальше дорога разветвлялась, минут через двадцать мы оказались в другой балке с бункерами. Мы огибали курган, к нему на некотором расстоянии друг от друга поднимались неглубокие траншеи; то здесь, то там нам попадались танки, зарытые в землю почти до ствола и теперь выполняющие функцию осадно-полевых орудий. От пронзительного, резкого свиста русских гранат, разрывавшихся рядом со рвами, у меня сжимались внутренности, каждый раз я еле сдерживался, чтобы не броситься на землю, и старался брать пример с Ивана, плевавшего на опасность. Постепенно я освоился и начал воспринимать происходящее как увлекательное приключение, предел мечтаний восьмилетнего мальчишки: шумы, пиротехнические эффекты, таинственные маршруты, я почти смеялся от восторга, я словно попал на прекрасную детскую площадку и опять играл в любимейшую свою игру, но тут внезапно Иван сбил меня с ног и подмял под себя. Жуткий взрыв сотряс белый свет, снаряд разорвался так близко, что барабанные перепонки чуть не лопнули, нас накрыло землей вперемешку со снегом. Я пытался сжаться в комок, но Иван потрепал меня по плечу и поднял, буквально в тридцати метрах от нас на дне балки лениво курился черный дымок, пыль и пепел медленно ложились на снег, в воздухе разлился едкий запах пороха. Сердце мое отчаянно колотилось, тяжесть сковала ноги, я хотел сесть, но тело не слушалось. А Иван невозмутимо почистил форму, потом, пока я оттирал рукава, тщательно отряхнул мне спину. Мы тронулись дальше. Теперь я считал свою затею абсолютно идиотской: что я тут забыл? Я, вероятно, не совсем еще осознавал, что это не Пятигорск. Наконец мы выбрались из балок, перед нами расстилалось пустынное, дикое плоскогорье с возвышающимся на заднем плане курганом. На вершине, занятой нашими войсками, беспрерывно гремели орудия, частота залпов гипнотизировала меня: возможно ли, что там, под шквалом огня и пуль, остаются люди? Я, в одном или двух километрах оттуда, и то испытывал ужас. Наша тропинка петляла между заснеженными холмами, то тут, то там ветер обнажал пушки, задранные к небу, погнутую дверь грузовика, колеса опрокинутой машины. Мы опять уперлись в железную дорогу, поездов на этом участке не было, рельсы терялись где-то в необозримой степной дали, расстилавшейся за курганом, и я испытал мистический ужас, увидев колонну Т-34, вырулившую из-за насыпи и движущуюся вдоль полотна. Равнину перерезал еще один овраг, я за Иваном скатился по склону вниз, словно погружаясь в надежное тепло родительского дома. Те же бункеры, солдаты, перепуганные, оцепеневшие от холода. Я мог бы остановиться в любой момент, расспросить людей и вернуться назад, но безропотно следовал за Иваном, будто именно он знал, что мне надо делать. Длинная балка кончилась, мы снова оказались в жилой зоне, дома здесь снесли до основания или сожгли дотла, даже печные трубы не уцелели. На улицах ни пройти, ни проехать – везде завалы, разбитые танки, штурмовые и артиллерийские орудия, и наши, и советские. Околевшие лошади нелепо раскорячились, запутавшись в упряжи переломанных повозок; под снегом в странных позах, врасплох застигнутые смертью, застыли до весенней оттепели трупы. Иногда нам попадался патруль; фельджандармы на контрольных пунктах, где условия были получше, чем у солдат, разрешали пройти, лишь дотошно изучив наши документы. Иван выбрался на довольно широкую улицу, навстречу нам брела закутанная в два пальто и шаль женщина с полупустым мешком на плече. Я посмотрел ей в лицо – и не скажешь, сколько ей лет, двадцать или пятьдесят. Обломки взорванного моста устилали дно глубокого лога, на востоке через его устье к реке вел другой, очень высокий мост, непонятно, каким образом уцелевший. Сначала мы спускались, цепляясь за разломанные сваи, карабкались по бетонным плитам и потом выбрались по противоположному склону наверх. В нише, под обрушенным настилом моста, разместился пост фельджандармерии. «Хорваты?» – спросил их Иван. По словам фельджандармов получалось, что это совсем рядом. Мы опять оказались в жилом квартале, повсюду заброшенные доты, красные предупреждающие щиты «ВНИМАНИЕ! МИНЫ!», обрывки колючей проволоки; траншеи, проложенные между зданиями, уже наполовину засыпало снегом, а еще недавно здесь был участок боевых действий. Иван тащил меня дальше по переулкам, стараясь держаться ближе к стенам, на углу он махнул мне: «Ты кого хочешь видеть?» Меня раздражало его тыканье. «Не знаю. Офицера». – «Подожди». Он скрылся в каком-то корпусе, стоявшем немного поодаль, потом появился в сопровождении солдата, который что-то ему растолковывал, указывая на улицу. Иван жестом подозвал меня, я подошел. Иван вытянул руку в направлении реки, откуда несся дробный треск зениток и пулеметов: «Там „Красный Октябрь“. Русские». Мы проделали большой путь – теперь мы находились около одного из последних заводов, занятых большевиками. Вокруг громоздились постройки, вероятно служившие общежитиями для рабочих. Иван остановился у барака, поднялся на крыльцо из трех ступеней и обменялся парой фраз с охранником. Тот отдал мне честь, посторонился, я прошел в коридор. Внутри в темных каморках – окна были забиты досками, заложены кирпичами или просто занавешены тряпками – ютились солдаты. Многие спали, прижавшись друг к другу, порой по нескольку человек под одним одеялом. От их дыхания в воздухе образовывались маленькие облачка пара. Смрад стоял ужасный, воняло сразу всеми выделениями мужского тела, но особенно мочой и гнусным приторным запахом поноса. В вытянутой просторной комнате, вероятно, бывшей столовой, у печки толклись люди. Иван кивнул на офицера, сидевшего на низкой лавке, на серо-зеленом рукаве немецкого кителя у него, как и у остальных, имелась нашивка в белую и красную шашечку. Большинство присутствующих знали Ивана и затеяли с ним беседу на смеси украинского и хорватского, приправленного матерными словами («пичка», «пизда», «пиздец» есть во всех славянских языках и запоминаются легко). Я подошел к офицеру, он встал, приветствуя меня. Я щелкнул каблуками, отсалютовал, потом спросил: «Вы говорите по-немецки?» – «Да, да». Он с удивлением смотрел на меня: действительно, на моей новой форме отсутствовали знаки отличия. Я представился. За спиной у офицера висели убогие рождественские украшения: гирлянды из газет, жестяные звезды и прочие поделки солдат украшали елку, намалеванную углем на стене. Был здесь и прекрасно выполненный рисунок, на котором изображены были ясли, но не в хлеву, а в разрушенном доме, среди обугленных руин. Я подсел к офицеру. Этот молодой обер-лейтенант командовал 369-м пехотным полком хорватского соединения. Часть его людей обороняла фронтовую зону перед заводом «Красный Октябрь», другие пока отдыхали тут в бараке. В течение нескольких дней русские не предпринимали ничего особенного, разве что время от времени палили из гранатометов, но, как считали хорваты, только для острастки. Напротив траншей русские установили громкоговорители и целыми днями крутили музыку, и грустную, и веселую, которая периодически прерывалась призывами сдаться или дезертировать. «На пропаганду солдаты почти не обращают внимания, ведь на записи произносит все это серб, но вот музыка приводит их в жуткое уныние». Я поинтересовался, случались ли попытки дезертирства. Офицер ответил уклончиво: «Иногда… но мы делаем все, чтобы им помешать». И сразу с энтузиазмом принялся рассказывать мне про подготовку к Рождеству: командующий дивизией, австриец, обещал выделить дополнительную пайку, сам он припас бутылку сливовицы (отец гнал) и рассчитывает распить ее с солдатами. Но пуще всего ему хотелось бы получить новости о Манштейне. «Манштейн на подходе, верно?» О том, что наступление Гота не состоится, войскам, естественно, не сообщали, и теперь настал мой черед увиливать от ответа: «Будьте наготове», – позорно соврал я. Офицер, прежде, видимо, элегантный и симпатичный молодой человек, сейчас выглядел жалко, как побитая собака. Говорил он, с трудом подбирая слова, словно с трудом соображал. Мы коротко обсудили проблемы снабжения продовольствием, и я собрался уходить. Опять я задавался вопросом, какого черта мне здесь надо: о чем таком, что я не прочитал бы в разных рапортах, мог проинформировать меня офицер, находящийся, по сути, в изоляции? Безусловно, я видел бедственное положение солдат, их изможденность и отчаяние, но я об этом знал и раньше. По дороге я предвкушал беседу о политических мотивах, побудивших хорватов принять сторону Германии, об идеологии усташей, но сейчас осознавал, что все бессмысленно, ненужно, глупо, – наверное, обер-лейтенант и ответить бы не сумел, его теперь заботили только мысли о еде, доме, семье, плене или скорой смерти. Я вдруг ощутил усталость и отвращение и самому себе казался лицемерным идиотом. «Счастливого Рождества», – с улыбкой пожелал офицер, пожимая мне руку. Его люди смотрели на меня с глубочайшим равнодушием. «И вам счастливого Рождества», – выдавил я. Я кликнул Ивана и вышел, жадно вдыхая холодный воздух. «Куда сейчас?» – поинтересовался Иван. Я прикинул: уж если я добрался сюда, то, по крайней мере, должен увидеть хоть один из аванпостов. «У нас есть возможность приблизиться к линии фронта?» Иван пожал плечами: «Как пожелаешь, шеф. Но надо спросить офицера». Я вернулся в столовую, офицер по-прежнему сидел на лавке, тупо уставившись на печку. «Я могу проинспектировать вашу передовую позицию, обер-лейтенант?» – «Если вам угодно». Он подозвал солдата, отдал ему приказ по-хорватски. Потом обратился ко мне: «Вас проводит гаупт-фельдфебель Нишич». Внезапно меня осенило, я предложил обер-лейтенанту закурить, он просиял и медленно потянулся за сигаретой. Я потряс пачку: «Возьмите больше». – «Спасибо, спасибо. Еще раз веселого Рождества». Я угостил и гаупт-фельдфебеля, тот поблагодарил: «Хвáла» – и бережно спрятал сигарету в портсигар. Я взглянул на молодого офицера: в ладони зажаты три сигареты, лицо светится неподдельной детской радостью. Долго ли мне ждать, подумал я, чтобы превратиться в нечто ему подобное? На глаза навернулись слезы. Я вышел за гаупт-фельдфебелем, который повел нас сначала по улице, потом через подворотни, и дальше – по какому-то складскому помещению. Мы уже вступили на территорию завода, где царили чудовищные беспорядок и разруха. В земляном полу на складе прорыли траншею, куда мы спустились вместе с гаупт-фельдфебелем. Стену напротив изрешетили пули, сквозь дыры струился дневной, вобравший белизну снега свет, разбавляя в серо-зеленый полумрак огромного пустого пространства. От центральной траншеи к углам склада расходились боковые окопы, поменьше и не особо ровные; но я и там никого не увидел. Мы пролезли под стеной, траншея пересекала двор и терялась в развалинах административного здания из красного кирпича. Нишич и Иван пригнулись, чтобы не высовываться, я старательно повторял все за ними. Впереди все как-то странно стихло, только вдалеке, правее, слышались отдельные выстрелы и короткие залпы. В административном здании было темно и воняло еще хлеще, чем в бараке, где спали солдаты. «Вот», – спокойно сказал Нишич. Опять подвал, свет проникал сюда только через люки и зазоры в кирпичной кладке. Появившийся из мрака человек заговорил по-хорватски с Нишичем. «У них тут случилась стычка с врагом. Русские пытались просочиться. Они парочку убили», – с запинками перевел Нишич на немецкий. Потом подробно описал мне диспозицию: где минометы, где пулеметы МГ 08/15, где установили легкие автоматические пушки, разъяснил, каков их радиус поражения и где остаются «мертвые углы». Меня не слишком трогала эта тема, но я не перебивал Нишича, да и не знал, чем, собственно, интересоваться. «А пропаганда?» – спросил я. Нишич перевел слова солдата: «После боя прекратилась». Мы немного помолчали. «Можно ли посмотреть линии укреплений?» – осведомился я, показывая, что явился сюда не просто так. «Идемте со мной». Я прошел погреб и вскарабкался по лестнице, засыпанной штукатуркой и осколками кирпича. Иван, с автоматом под мышкой, замыкал шествие. Пройдя коридор, мы оказались в комнате, окна которой были завалены кирпичом или досками, но через множество отверстий пробивался свет. В другой комнате, прислонясь к стене, сидели солдаты с пулеметом. Нишич указал мне дыру, проделанную между мешками с песком, подпертыми балками. «Вот, глядите. Но недолго. У русских отличные снайперы, вроде бы женщины». Я опустился на колени и медленно вытянул голову, щель была узкая, и я ничего не видел, кроме бесформенных развалин. И тут я услышал крики, где-то слева, – вот долгий хриплый вой внезапно оборвался и возобновился с новой силой. Вокруг ни единого шороха, лишь эти надрывные вопли. Молодой парень, орал он пронзительно, истошно, – скорее всего, ранен в живот, подумал я. Я наклонился, увидел его голову и верхнюю часть туловища. Он кричал, пока хватало дыхания, останавливался, сглатывал воздух и начинал снова. Не зная русского, я понимал, что он звал: «Мама! Мама!» Невыносимо. «Что это такое?» – задал я Нишичу идиотский вопрос. «Один из недавних молодцов». – «Почему не прикончите?» Нишич смерил меня презрительным взглядом: «Мы не можем тратить патроны на ерунду», – произнес он наконец. Я сел к стене, как солдаты. Иван оперся о дверной косяк. Никто не проронил ни звука. А парень снаружи по-прежнему надрывался: «Мама! Я не хочу! Я не хочу! Мама! Я хочу домой!», больше я ничего не сумел понять. Я съежился, обнял колени руками. Нишич, сидевший на корточках, не спускал с меня глаз. Я хотел заткнуть уши, но взгляд Нишича словно парализовал меня. Крик мальчишки вонзался в мозг, как нож в густую липкую грязь, кишащую червями и паразитами. Я спрашивал себя, стал бы я плакать по матери в такой момент? Ее образ рождал во мне волну ненависти и отвращения. Я годами с ней не встречался, и желания у меня не возникало, звать ее на помощь мне бы и в голову не пришло. И тем не менее я смутно догадывался, что кроме этой матери существует другая, мать того ребенка, каким я был, пока что-то навсегда не сломалось во мне. Вот ее я бы звал, корчась в муках. «Не надо вам было сюда приходить, – грубо отрезал Нишич. – Незачем. И опасно. В любой момент может что-нибудь случиться». Нишич уставился на меня с явной враждебностью. Автомат он держал за приклад, палец на спусковом крючке. Я посмотрел на Ивана: он тоже приготовился и взял на прицел Нишича и двух солдат. Нишич проследил за моим взглядом, зыркнул на Ивана, на его оружие и сплюнул на землю. «Лучше бы вам вернуться». Раздался сухой треск, я подпрыгнул, короткий взрыв, наверняка граната. На миг крики прекратились, потом возобновились, однообразные, душераздирающие. Я поднялся. «Да. В любом случае мне надо добраться до центра. Уже поздно». Иван посторонился, пропустил меня и Нишича и пошел следом, до последней минуты, пока мы не оказались в коридоре, не выпуская из поля зрения двух солдат. Мы молча возвращались по той же траншее; в бараке, где располагался полк, Нишич ушел, не попрощавшись со мной. Снег перестал, облака рассеялись, на стремительно темнеющем небе я увидел луну, белую, круглую. «Мы успеем до ночи?» – спросил я Ивана. «Да. Даже быстрее получится. Часа полтора». Вероятно, где-то срежем путь. Я чувствовал себя опустошенным, старым и никчемным. Вообще-то гаупт-фельдфебель был прав.
По дороге мою душу терзало воспоминание о матери, грязное, развязное, как пьяная баба. Такого со мной давно уже не было. В Крыму, рассказывая Партенау о матери, я выбирал ничего не значащие эпизоды. Теперь это были мысли совсем иного рода, горькие, с осадком ненависти и стыда. Когда все началось? С рождения? Возможно, я не простил ей самого факта своего рождения, того факта, что она присвоила себе право произвести меня на свет? Странно, но ее грудное молоко вызывало у меня сильнейшую аллергию, и я, как она со смехом рассказывала позднее, довольствовался бутылочкой, с тоской глядя, как сосет материнскую грудь моя сестра-близняшка. Конечно, в раннем детстве я, как все дети, любил мать. До сих пор помню нежный женский запах ее ванной комнаты, вызывавший у меня такое восторженное оцепенение, словно я вновь оказывался в материнском лоне. Как я теперь понимаю, то была смесь теплого пара, духов, мыла, а еще, быть может, запаха ее вагины и испражнений; и хотя мать не разрешала мне залезать в ванну, когда мылась, я садился на унитаз и испытывал блаженство от ее близости. Потом все изменилось. Но когда именно и почему? Я не сразу стал винить ее в исчезновении отца, мысль об этом возникла у меня гораздо позже, после того как мать продалась Моро. Хотя, пожалуй, и до встречи с ним она порой вела себя так, что я просто выходил из себя. Возможно, из-за отъезда отца? Кто ее знает, но временами действительно казалось, что от горя она повредилась рассудком. Однажды вечером в Киле она совершенно одна отправилась в портовый кабак и там, среди иностранцев, докеров и моряков, напилась. Не исключено, что она даже сидела на столе, задрав юбку и раздвинув ноги. Как бы то ни было, дело кончилось скандалом: респектабельную даму вышвырнули на улицу, и дама упала в лужу. Домой ее, мокрую, расхристанную, в грязном платье притащил полицейский; я думал, что умру со стыда. Несмотря на нежный возраст – лет десять от силы, – у меня руки чесались ее прибить, и ведь она не смогла бы даже защититься, но тут вмешалась сестра: «Пожалей ее. Она страдает. Не сердись, она этого не заслуживает». Я долго не мог успокоиться. Но даже в тот момент ненависти к ней я еще не испытывал, только унижение. Ненависть родилась позднее, когда она вычеркнула из памяти отца и пожертвовала детьми, чтобы отдаться иностранцу. Разумеется, все развивалось не в один день, постепенно. Моро, как я уже говорил, был неплохим мужиком и поначалу очень старался, чтобы мы с сестрой его приняли. Однако он всегда был ограниченным типом, пленником тупых буржуазных и либеральных убеждений, рабом страсти к моей матери, кстати, скоро выяснилось, что она даже похотливее своего муженька, а он превратился в исполнителя ее прихотей. Потом произошла та ужасная катастрофа, и меня отправили в коллеж. У нас случались и обычные конфликты, например когда я заканчивал лицей. Мне предстоял экзамен на бакалавра, и надо было определяться с будущим. Я интересовался философией и литературой, но мать категорически не соглашалась: «Тебе нужно зарабатывать. Или ты надеешься всю жизнь прожить за счет других? Выучись, а потом делай что хочешь». Моро тоже посмеялся надо мной: «Что? Учительствовать десять лет в заброшенном городке? Трехгрошовый писателишка, подыхающий с голоду? Ты не Руссо, малыш, вернись на землю». Господи, как же я их ненавидел! «Ты должен освоить настоящую профессию, – внушал мне Моро. – А после пожелаешь стихи писать на досуге, твое дело. Но, по крайней мере, получать ты будешь достаточно, чтобы прокормить свою семью». Так продолжалось неделю с лишним; побег не изменил бы ничего: при попытке к бегству меня сразу поймали бы. Пришлось уступить. Они решили определить меня в Свободную школу политических наук, которая обеспечивала пост советника в высших государственных органах, в Счетной палате, в Финансовой инспекции. Я стал бы государственным служащим, чиновником, представителем элиты, надеялись они. «Будет трудно, – объяснял Моро, – тебе надо проявить упорство», но у него есть знакомства в Париже, он мне поможет. Да, все пошло не так, как они рассчитывали: французские чиновники сейчас служили моей стране, а я застрял среди ледяных руин Сталинграда, где мне и предстоит подохнуть. Сестре повезло больше, особых надежд на нее не возлагали: девочка, что с нее взять! Ей достаточно было лишь приобрести некоторый лоск, чтобы нравиться будущему мужу. Ей разрешили уехать в Цюрих изучать психологию у некоего доктора Карла Юнга, с тех пор изрядно прославившегося.
Самое ужасное уже стряслось. Где-то весной 1929 года – я еще находился в коллеже – я получил письмо от матери. Она сообщала, что ходатайствовала об официальном признании моего отца мертвым, поскольку давным-давно не имела от него никаких известий, а ее неоднократные запросы в немецкие консульства ничем не увенчались. С момента его исчезновения прошло семь лет, так что суд удовлетворил ее прошение, и теперь она собирается замуж за Моро, человека порядочного и щедрого, заменившего нам отца. Ее мерзкое послание привело меня в ярость. В ответном письме я осыпал ее оскорблениями: отец не умер, писал я, и их страстного желания недостаточно, чтобы его убить. Если она захотела продаться мерзкому ничтожному коммерсанту-французу – пожалуйста, но что касается меня, я буду рассматривать этот брак как незаконный и считать их двоеженцами. Я лишь надеюсь, что они не станут навязывать мне в дальнейшем своего ублюдка, которого я заранее ненавижу. Мать поступила совершенно разумно, не ответив на мою обличительную тираду. Я сумел получить приглашение богатых родителей одного моего приятеля провести лето у них и в Антибе не появился ни разу. Мать и Моро поженились в августе, приглашение я порвал и спустил в унитаз, не поехал я к ним и на следующие школьные каникулы. Наконец им все-таки удалось меня зазвать, но это уже совсем другая история. К тому времени моя непримиримая ненависть созрела, расцвела, налилась, я почти наслаждался ею, сложенный костер ждал спички. Но мстил я как умел – мелко и низко: я дрочил на фотографию матери или просил своих любовников кончать на нее. Делал я вещи и похуже. В просторном доме Моро я затевал диковинные, замысловатые эротические игры, вдохновляясь при этом «марсианскими» романами Берроуза (автора любимого мной в детстве «Тарзана»), которые я глотал с тем же увлечением, что и греческих классиков. Я запирался в большой ванной наверху, включал воду, чтобы не привлекать внимания, и давал волю воображению. Меня захватывали в плен зеленые многорукие воины с планеты Барсум, раздевали догола, связывали и вели к трону прекрасной марсианской принцессы с медной кожей, надменной и невозмутимой. Потом я, используя кожаный ремень, как наручники, и, воткнув в задницу бутылку или палку от щетки, извивался на холодной плитке пола: полдюжины мускулистых безмолвных телохранителей по очереди насиловали меня на ее глазах. Но бутылки и щетки причиняли боль, и я стал использовать толстые немецкие сосиски, которые обожал Моро. Затем я тщательно мыл их и, вытерев насухо, клал обратно в холодильник. Утром я отказывался от своей порции, ссылаясь на отсутствие аппетита, и с тайным злорадством наблюдал, с какой охотой поедают сосиски Моро и мать. Впрочем, происходило все это еще до их свадьбы, когда я регулярно к ним наведывался. По правде говоря, дело было не только в их союзе. А мое поведение – жалкое мщение беспомощного, обиженного ребенка. Повзрослев, я отвернулся от них, уехал в Германию и перестал отвечать на письма матери. Тем не менее оказалось достаточно пустяка, крика раненого, чтобы все опять разом всплыло, потому что на самом деле и не исчезало никогда и шло не от людей и повседневных забот, а из мира сокровенного, закрытого; и война, вдруг распахнув его двери, с хриплым диким криком дала разверзнуться бездне, освободила зловонную топь, опрокинула установленный порядок, законы и обычаи, принудила людей убивать друг друга, вновь задавила тяжестью прошлого, игом, от которого они мучительно избавлялись. Мы возвращались вдоль рельсов с брошенными вагонами, я полностью погрузился в свои мысли и не заметил долгую дорогу вокруг кургана. Твердый снег, скрипевший под сапогами, отливал голубым под бледной луной, освещавшей наш путь. Еще через четверть часа мы добрались до универмага; ходьба взбодрила меня, и я почти не чувствовал усталости. Иван небрежно кивнул на прощанье и отправился к землякам, прихватив мой автомат. В просторном зале заседаний, под огромной люстрой, реквизированной в театре, офицеры штадткомендатуры пили и хором пели: «Тишь и покой ночью святой». Один из них протянул мне бокал, я опрокинул его залпом, хотя это было отличное красное французское вино. В коридоре я столкнулся с Мёрицем, он с изумлением спросил: «Вы выходили?» – «Да, герр комиссар. Я ознакомился с частью наших позиций и составил представление о городе». Лицо его потемнело: «Не надо рисковать собой понапрасну. Я еле вас заполучил, и если вас сразу убьют, то я уже не найду вам замену». – «Zu Befehl, герр комиссар». Я отдал честь и пошел переодеться. Чуть позже Мёриц выставил офицерам две бутылки коньяка, специально припасенные к празднику; он представил меня новым коллегам: Лейббандту, Дрейеру, Фопелю, офицеру-информатору, гауптштурмфюреру фон Альфену, Херцогу, Цумпе. Цумпе и Фопель, унтерштурмфюрер, которого я видел накануне, работали с Томасом. Был там и Вейднер, возглавлявший городское гестапо, подчиненный Томаса. Мы выпили за фюрера и окончательную победу, Endsieg, и пожелали друг другу счастливого Рождества. Праздник получился скромный и сердечный, и мне, честно говоря, эта атмосфера нравилась больше, чем сентиментальные или религиозные излияния солдат. В полночь мы с Томасом из любопытства пошли на мессу в большой зал. Там царило экуменическое согласие – католический священник и протестантский пастор служили по очереди, и верующие двух конфессий молились вместе. Некоторые из наших украинцев тоже молились, Томас объяснил, что это униаты из Галиции, в отличие от своих православных братьев празднующие Рождество одновременно с нами. Ивана среди них я не заметил. После мессы мы вернулись допить коньяк, потом я внезапно ощутил страшную усталость и ушел спать. Мне опять снилось метро – два параллельных пути проходили между ярко освещенными платформами и пересекались дальше в тоннеле за огромными разделительными столбами из бетона, но стрелочный перевод сломался, и бригада женщин в оранжевой спецодежде, среди которых была негритянка, лихорадочно его ремонтировала, а поезд, набитый пассажирами, уже отъезжал от станции.
Я наконец начал работать системно и конструктивно. В рождественское утро разразился снежный буран, и мы лишились надежд на дополнительную поставку провизии, в этот момент русские пошли в наступление в северо-восточном секторе и в направлении заводов, отбили у нас несколько километров, уничтожив более тысячи двухсот наших солдат. Согласно рапортам, особенно велики были потери среди хорватов, в списках погибших значился гаупт-фельдфебель Нишич. Carpe diem [32]! Надеюсь, он все же успел выкурить сигаретку. Что до меня, я занимался тем, что изучал многочисленные рапорты и писал свои. Рождество не слишком повлияло на настроение солдат, судя по донесениям и письмам, вскрытым цензурой, большинство сохраняли непоколебимую веру в фюрера и победу, но при этом мы ежедневно расстреливали дезертиров или тех, кто умышленно наносил себе телесные повреждения. Некоторые дивизии с виновными расправлялись самостоятельно, другие поручали это нам; казни проходили во дворе за зданием, где располагалось гестапо. Нам также передавали гражданских, арестованных фельджандармерией, мародеров или подозреваемых в шпионаже. Через несколько дней после Рождества я столкнулся в коридоре с украинцами, тащившими на расстрел двух грязных сопливых мальчишек, те чистили сапоги нашим офицерам, а ночью спускались в канализационную систему, пробирались к русским и рассказывали обо всем увиденном. У одного из них нашли русскую медаль, мальчишка утверждал, что это его награда, но, скорее всего, он просто ее украл или снял с убитого. Им было, по-видимому, лет по двенадцать-тринадцать, хотя выглядели они на десять, не больше. Пока Цумпе, руководивший взводом, вводил меня в курс дела, оба смотрели на меня огромными, умоляющими глазами, словно я мог спасти их. Это вывело меня из равновесия, мне хотелось заорать: «Чего вам от меня надо? Вы сейчас умрете, и что с того? Я тоже здесь умру, и все здесь умрут. Такова плата за пребывание здесь!» Чтобы прийти в себя, мне потребовалось несколько минут; позже Цумпе рассказал, что перед казнью они плакали, но не переставали выкрикивать: «Да здравствует Сталин!» и «Ура, победа!» «Поучительная история, верно?» – спросил я, и Цумпе удалился, немного озадаченный.
Я начал встречаться с так называемыми осведомителями, кого-то приводил Иван или кто-нибудь еще из украинцев, прочие приходили сами. И женщины, и мужчины были вонючими, грязными, вшивыми, в общем, вид имели самый плачевный; я сам уже успел заразиться вшами, но от запаха этих людей меня тошнило. Мне все они казались не агентами, а обыкновенными попрошайками: поставляемая ими информация была или бесполезной, или не поддавалась проверке, а взамен они получали от меня луковицу или мороженую картошку, которую на подобные случаи я хранил в особом ящике – настоящей черной кассе. Я совершено не понимал, каким образом мне следовало трактовать их доносы, изложи я их абверу, нас бы просто-напросто высмеяли. В конце концов я создал отдельную рубрику, назвал ее «Различные неподтвержденные факты» и каждые два дня посылал отчет Мёрицу.
Информация, связанная с подрывающей моральный дух нехваткой продовольствия, интересовала меня больше всего. Не составляло секрета, хотя вслух об этом не говорилось, что с определенного момента мы практически перестали кормить советских пленных в шталаге, и среди них были зафиксированы случаи каннибализма. «Вот их истинное лицо», – презрительно бросил Томас, когда я попытался обсудить с ним эту проблему. Никто не сомневался, что немецкий солдат, в каком бы положении он ни оказался, не докатится до подобного. Поэтому известие о каннибализме в одной из рот, оборонявших западную границу котла, повергло высшее руководство в шок. А уж после выяснения обстоятельств дело предстало и вовсе чудовищным. Солдаты, доведенные голодом до крайности, но по-прежнему ярые приверженцы Weltanschauung, не могли решить, кого съесть – русского или немца? В основе мучившей их идеологической проблемы лежали сомнения, правильно ли употребить в пищу славянина, большевистского недочеловека. Не навредит ли его мясо немецким желудкам? С другой стороны, съесть павшего товарища недостойно, ведь если нет возможности похоронить павших за Heimat, надо хотя бы воздавать им уважение. После жарких споров они пришли к разумному компромиссу и выбрали хиви. Итак, они убили одного, и обер-ефрейтор, в прошлом мясник из Мангейма, приступил к свежеванию. Остальные хиви перепугались, троих застрелили при попытке к бегству, но четвертый добрался-таки до командного пункта полка, где рассказал офицерам о случившемся. Сначала ему не поверили, но следствие доказало его правоту: ротные не сумели полностью уничтожить останки жертвы, и на месте обнаружили грудину и часть кишок и внутренних органов, которые, очевидно, сочли непригодными к употреблению. Задержанные солдаты не отрицали своей вины, по их словам, мясо напоминало свинину и превосходило по вкусу конину. Мясника и четырех зачинщиков казнили в обстановке строгой секретности, и дело замяли, но оно породило сильнейшее беспокойство в штабах. Мёриц попросил меня подготовить подробный рапорт о ситуации с продовольствием: он подозревал, что официальные сведения сильно расходятся с реальностью. Я решил навестить Хоенэгга.
На этот раз я хорошенько продумал маршрут. Я уже посещал с Томасом подразделение контрразведки; после моей вылазки к хорватам, Мериц приказал предварительно заполнять путевой лист, если я соберусь куда-нибудь пойти в одиночестве. Я позвонил в «Питомник» на пост доктора Ренольди, главного врача штаба 6-й армии, где мне сообщили, что Хоенэгг находится в центральном полевом госпитале в Гумраке. Там ответили, что Хоенэгг отправился в котел, в итоге я отыскал его в станице Ракотино, на юге котла, в секторе 376-й дивизии. Чтобы организовать поездку туда, я обзвонил разные штабы. Дорога занимала полдня, так что мне предстояло заночевать или в Ракотине, или в Гумраке. Мёриц не возражал. До Нового года оставалось еще несколько дней, с Рождества температура держалась около минус двадцати пяти, и я решил надеть шубу, меня не испугало даже то, что в ней могли завестись вши. Они донимали меня ужасно: несмотря на все мои усилия, ежевечерний осмотр и чистку одежды, мой живот, подмышки, ноги с внутренней стороны были красными от укусов, которые я расчесывал до крови. К этому присоединилась диарея, несомненно, от плохой воды и нерегулярного питания: баночная ветчина или французский паштет через день и водянистая похлебка с кониной. В штабе был пусть и загаженный, но туалет, а вот в пути меня ожидали серьезные проблемы.
Я поехал без Ивана: в котле он был мне не нужен, к тому же места в машинах были строго ограничены. На одной машине я добрался до Гумрака, другая доставила меня в «Питомник», где я несколько часов прождал попутки на Ракотина. Снег прекратился, но небо было серым, как разбавленное молоко, самолеты из Сальска прибывали нерегулярно. Беспорядок царил невообразимый, раненые кидались к каждому приземлившемуся самолету, падали, давили друг друга, фельджандармы стреляли в воздух, пытаясь оттеснить отчаявшихся людей. Я перекинулся парой фраз с курившим чуть поодаль пилотом «Хейнкеля-111», он был мертвенно бледен и, в смятении наблюдая за происходящим, шептал: «Немыслимо, немыслимо…» «Вы знаете, – обратился он ко мне, прежде чем уйти, – по вечерам, возвратившись в Сальск живым, я плачу, как ребенок». От такого простого признания у меня закружилась голова, отвернувшись от пилота и обезумевшей толпы, я разрыдался, на морозе слезы застывали на щеках, я оплакивал детство, то время, когда снег вызывал бесконечную радость, когда город был пространством, приспособленным для жизни, а лес еще не превратился в место, удобное для расстрела людей. За моей спиной, словно одержимые или бешеные собаки, завывали раненые, их вопли почти заглушали гул моторов. «Хейнкель», в отличие от следовавшего за ним «юнкерса», взлетел беспрепятственно. Бомбардировка возобновилась, а «юнкерс» – то ли его бак халтурно заправили горючим, то ли один из двигателей не завелся из-за холода – через несколько секунд, после того, как шасси оторвались от полосы, не успев набрать скорость, завалился на бок. Пилот попытался выровнять его, но крен оказался слишком большим, «юнкерс» упал на крыло и взорвался в сотне метров от полосы, на мгновение озарив степь гигантским огненным шаром. Из бункера, где я укрылся от бомбардировки, мне все было видно как на ладони, и снова я чуть на расплакался. Наконец меня позвали к машине, но это произошло уже после того, как артиллерийский снаряд попал в разбитую на аэродроме палатку с ранеными, разметав во все стороны куски человеческой плоти и оторванные конечности. Поскольку я оказался поблизости, мне пришлось помогать в разборе окровавленных обломков и вытаскивать оставшихся в живых. В какой-то момент я поймал себя на том, что внимательно изучаю размотанные на алом снегу кишки молодого солдата со вспоротым животом, стараясь прочесть знаки прошлого и будущего, и подумал, что все это начинает смахивать на жуткую черную трагикомедию. В тщетных попытках успокоиться я курил сигарету за сигаретой, невзирая на то, что запас их был весьма ограниченным, и каждые пятнадцать минут бегал в туалет. Мы тронулись, но уже через десять минут я попросил остановить машину и ринулся за сугроб. Путаясь в шубе, я испачкал подол, принялся очищать его снегом, но лишь отморозил пальцы. Я вернулся в машину, прижался к дверце и закрыл глаза, мечтая хоть ненадолго забыться. Я тасовал воспоминания, как карты старой потертой колоды, тщетно пытаясь вытянуть одну, которая хоть на миг воскресила бы в моем воображении образы прошлого – увы, они улетучивались, растворялись или оставались мертвыми. Даже сестра, последнее мое прибежище, сейчас виделась мне деревянной куклой. Если бы не сидящие рядом офицеры, я бы расплакался.
Едва мы достигли места назначения, опять повалил снег, в сером воздухе весело затанцевали легкие хлопья – легко было поверить, что огромная безлюдная белая степь на самом деле волшебная страна хрустальных, невесомых, как снежинки, беззаботных фей, чей смех тихонько звенит в шуме ветра. Но стоило вспомнить, насколько степь была осквернена, сколько боли, горя и страха разлито по ней, как иллюзия разбивалась вдребезги. Я наконец нашел Хоенэгга в Ракотине, в убогой, наполовину занесенной снегом избе, он что-то печатал на портативной машинке при свече, воткнутой в гильзу от противотанкового снаряда. Хоенэгг поднял голову и не выказал ни малейшего удивления: «Ишь ты! Гауптштурмфюрер. Что вас сюда привело?» – «Вы». Он провел рукой по лысому черепу: «Не подозревал, что я такой желанный. Но предупреждаю сразу: если вы больны, то явились ко мне напрасно, я занимаюсь только теми, кем вообще-то уже поздно заниматься». Я сделал над собой усилие и парировал: «Лишь одной болезнью, передающейся половым путем и неизлечимой, ее название – жизнь». Он скривился: «Мало того, что вид у вас бледный, теперь вы еще и шутите банально. Я видал вас в лучшей форме. Осадное положение не идет вам на пользу». Я снял шубу, повесил ее на гвоздь, без приглашения уселся на грубо сколоченную табуретку и прислонился спиной к стене. Комнату отапливали еле-еле, пальцы у Хоенэгга были синие. «Продвигается ли ваша работа, доктор?» Он пожал плечами: «Понемногу. Генерал Ренольди не слишком приветливо меня встретил, очевидно, мою миссию он считает абсолютно бесполезной. Я не обижаюсь, но лучше бы он свое мнение выразил раньше, когда я еще не уехал из Новочеркасска. Кстати замечу, он неправ: моя работа не завершена, но предварительные результаты поразительны». – «Именно это я и приехал с вами обсудить». – «СД интересуется питанием?» – «СД интересуется всем, доктор». – «Ладно, дайте мне закончить рапорт. Потом я схожу за так называемым супом в так называемую столовую, и мы поговорим за якобы едой». Он похлопал себя по круглому брюшку: «Сейчас я вроде как на оздоровительной диете. Но не хотелось бы, чтобы она затянулась». – «У вас хотя бы есть дополнительные резервы». – «Полнота ни о чем не говорит. Худые неврастеники вашего типа протянут дольше, чем крупные и сильные. Не мешайте мне работать. Вы же не торопитесь?» Я воздел руки: «Вы знаете, доктор, принимая во внимание исключительную важность всего, что я делаю для будущего Германии и 6-й армии…» – «Я так и предполагал. Тогда вы переночуете здесь, а завтра утром мы вместе вернемся в Гумрак».
В деревне Ракотино было неестественно тихо. Мы находились меньше чем в километре от линии фронта, но с самого приезда я слышал всего несколько выстрелов. В гулкой тишине раздавался лишь стрекот машинки, от чего становилось особенно жутко. Хорошо хоть колики у меня прекратились. Хоенэгг сложил бумаги в портфель, встал и натянул потрепанную шапку. «Дайте мне вашу солдатскую книжку, – велел он, – я пойду за супом. У печки вы найдете немного дров, но используйте их как можно экономнее, ведь нам надо протянуть до утра». Он вышел, а я захлопотал возле печки. Действительно, запас дров был невелик: несколько отсыревших кольев из ограждения с остатками колючей проволоки. Я расщепил один, и мне наконец удалось зажечь огонь. Хоенэгг вернулся с миской супа и внушительным куском солдатского хлеба, Komissbrot. «Мне очень жаль, – оправдывался он, – но они отказались выдать вам пайку без письменного приказа командования танкового корпуса. Так что поделим, что имеем». – «Не переживайте, – ответил я, – я это предвидел». Я подошел к шубе и вынул из карманов кусок хлеба, сухие галеты и мясо в консервной банке. «Чудесно! – воскликнул доктор. – Приберегите консервы на вечер, у меня есть луковица, устроим праздник. А на обед вот что». Он вытащил из мешочка кусок сала, завернутый в советскую газету. Карманным ножом порезал хлеб на куски и откромсал два больших ломтя сала, разложил все на печке, поставил туда же миску с супом. «Извините, но кастрюли у меня нет». Пока сало скворчало, доктор убрал пишущую машинку и расстелил на столе газету. Теплый черный хлеб из муки грубого помола с подтаявшим салом показался мне чрезвычайно вкусным. Хоенэгг хотел угостить меня супом, но я отказался, сославшись на проблемы с желудком. Доктор нахмурился: «Понос?» Я покачал головой. «Берегитесь дизентерии. В обычное время ее вылечить несложно, но здесь она уносит людей за несколько дней. Полное обезвоживание и смерть». Он объяснил мне, какие правила гигиены необходимо соблюдать. «Но сейчас это трудновыполнимо», – возразил я. «Да, вы правы», – грустно согласился Хоенэгг. Пока мы доедали бутерброды с салом, он рассказывал о вшах и тифе. «Мы уже столкнулись с несколькими случаями, больных стараются изолировать, – рассказывал он. – Но скоро вспыхнет эпидемия, ее не избежать. И это будет настоящая катастрофа. Люди передохнут, как мухи». – «По-моему, они и теперь довольно быстро умирают». – «А вы знаете, что творят товарищи на линии фронта нашей дивизии? Они включают на всю мощь запись тикающих часов, а потом гробовой голос объявляет по-немецки: „Каждые семь секунд в России умирает один немец!“ – и снова – тик-так, тик-так. И так по полдня. Очень впечатляюще». И хотя цифры, по сравнению с теми, что я указал в начале своих воспоминаний, были несколько преувеличены, я понимал, в какой ужас они приводят людей, загибающихся от холода и голода, пожираемых паразитами, похороненных в бункерах под снегом и заледеневшей землей. Я в свою очередь рассказал Хоенэггу историю о премудрых каннибалах. Тот отпустил единственный комментарий: «Если судить по хиви, которых я периодически осматриваю, наесться ими нельзя». И мы перешли к цели моей командировки. «Я пока объездил не все дивизии, – сообщил доктор, – но уже могу констатировать, что ситуация не везде одинакова, и объяснения этому я не нахожу. Я вскрыл тридцать трупов, результаты неопровержимы: больше, чем у половины, обнаружены симптомы крайнего истощения. В общем, практически полное отсутствие жировой прослойки под кожей и вокруг внутренних органов, слизь в брыжейке, увеличенная печень, бескровные бледные органы, вместо красного и желтого костного мозга стекловидная субстанция, атрофия сердечного мускула, но с расширением желудочка и правого ушка. Проще говоря, тело, получающее недостаточно пищи, начинает само себя пожирать, чтобы найти необходимые калории; когда все резервы исчерпаны, организм перестает функционировать, как машина, в которой кончился бензин. Феномен известный, но вот что любопытно: несмотря на прискорбное сокращение рациона, еще слишком рано для такого количества случаев. Офицеры в один голос уверяют меня, что продовольствие поставляется штабом армии регулярно и солдатам ежедневно выдается положенная пайка, содержащая тысячу килокалорий. Мало, конечно, и все же что-то, люди должны были бы ослабевать, цеплять болезни и так называемые оппортунистические инфекции, но не умирать от голода. Поэтому мои коллеги ищут другие причины: переутомление, стресс, психологический шок. Но выглядит это неубедительно. Вот мои препарированные трупы как раз не врут». – «И что же вы в итоге думаете?» – «Не знаю. Видимо, есть целый комплекс причин, но в таких условиях трудно распознать каждую по отдельности. Я подозреваю, что способность разных организмов правильно расщеплять питательные вещества, переваривать их, если хотите, нарушается из-за побочных факторов, давления или недосыпа. Естественно, есть и очевидные случаи: люди страдают жутчайшей диареей и даже те крохи, что они съедают, не задерживаются в желудке и выходят почти не переваренными, и прежде всего это касается тех, кто питается пресловутым Wassersuppe. Некоторые продукты, распределяемые в полках, вредны, например, мясо в консервах, что вы привезли, очень жирное и иногда убивает людей, неделями не получавших ничего, кроме хлеба и супа, их организм не переносит такого испытания, сердце начинает работать учащенно и в итоге отказывает. И кстати, по-прежнему нам присылают масло, замороженное и расфасованное в блоки. Солдатам нечем разжечь костер, они рубят масло топором и сосут куски, что опять-таки провоцирует убийственную диарею. Если вам интересно, то у трупов, что я получаю, полные штаны дерьма, которое, к счастью, успевает замерзнуть: в конце солдаты уже не в силах их снимать. И заметьте, это те, кого подбирают на поле боя, о больницах я уж молчу. Итак, вернемся к моей теории, хоть доказать и сложно, но мне она кажется вполне допустимой. Холод и усталость пагубно влияют на метаболизм». – «А страх?» – «Разумеется, страх тоже. В этом мы уже убедились в Мировую войну: во время интенсивных бомбардировок сердце не выдерживает, молодых, хорошо накормленных, здоровых солдат находят потом мертвыми и без единой царапины. Но здесь бы я скорее говорил не о первопричине, а об отягчающих факторах. Еще раз повторю, мне надо продолжить исследования. Уверен, для 6-й армии в них большой пользы не будет, но утешаю себя тем, что мой труд послужит науке, и эта мысль помогает мне подниматься по утрам, да еще, пожалуй, салют, который наши друзья напротив дают как по расписанию. Котел – гигантская лаборатория, настоящий рай для ученого. В моем распоряжении столько трупов, сколько я пожелаю, и в отличном состоянии, правда, иногда их довольно тяжело разморозить. Я вынужден просить бедных ассистентов проводить ночь у печки, переворачивая мертвецов с боку на бок. Недавно в Бабуркине ассистент заснул, на следующее утро я обнаружил, что интересующий меня объект поджарился с одной стороны и не оттаял с другой. Теперь идемте, нам пора». – «Пора? Почему пора?» – «Увидите». Хоенэгг собрал портфель, взял машинку, надел пальто и перед выходом задул свечу. На дворе стояла ночь. Он привел меня к балке за деревней и вперед ногами пролез в бункер, почти незаметный под снегом. Там, на низких скамеечках, вокруг свечи сидели трое офицеров. «Добрый вечер, господа, – поздоровался Хоенэгг. – Знакомьтесь, гауптштурмфюрер доктор Ауэ, почтивший нас визитом». Я пожал офицерам руки, табуреток больше не было, и я уселся прямо на ледяную землю, подстелив под себя подол шубы. Но даже через мех я чувствовал холод. «Советский командир по ту линию фронта – человек исключительно пунктуальный, – заметил мне Хоенэгг. – Где-то с середины месяца он три раза в день обстреливает наш сектор ровно в половине шестого, в одиннадцать и шесть тридцать. В промежутках дает несколько минометных ударов. Отличные условия для работы». И действительно, спустя три минуты я услышал пронзительный вой, вслед за которым совсем рядом прогремели мощные взрывы, стреляли сталинские «катюши». Бункер дрожал, снег засыпал вход, с потолка падали комья земли. Слабый огонек свечи трепетал, отбрасывая на измученные, плохо выбритые лица офицеров уродливые тени. Опять раздались залпы, прерываемые короткими сухими взрывами танковых и артиллерийских снарядов. Грохот превратился в бешеное, неуправляемое существо, живущее собственной жизнью, заполнившее пространство, ломившееся в заблокированную дверь бункера. Шанс быть похороненным заживо едва не заставил меня вскочить на ноги и броситься бежать. На десятой минуте бомбардировка резко прекратилась, но грохот, ощущение его присутствия и давления долго еще не рассеивались, не покидали меня. От резкого запаха кордита щипало в носу и глазах. Один из офицеров руками разгреб выход, и мы выползли наружу. Деревня, расположенная ниже балки, была разрушена, как будто над ней пронесся ураган. Полыхал пожар, но я быстро определил, что снаряды попали всего в несколько изб: в основном противник вел огонь по позициям. «Вот проблема, – комментировал Хоенэгг, отряхивая мою шубу от снега и земли, – они никогда не целятся в одно и то же место, а очень было бы удобно. Пойдемте взглянем, не уничтожено ли наше убогое пристанище». Лачуга уцелела, даже печка еще не остыла. «Не хотите ли чаю?» – спросил сопровождавший нас офицер. Он повел нас в другую избу, внутри ее разделяла перегородка, в первой комнате у печки примостились два офицера. «Здесь, в деревне, хорошо, – заметил наш провожатый. – После каждого обстрела мы собираем дрова. А вот на позициях у людей ничего нет. Малейшее ранение – и они умирают от болевого шока, обморожений или потери крови. Их редко успевают переправить в госпиталь». Офицер, готовивший эрзац-чай, носил Железный крест. Я угостил присутствующих сигаретами, эффект был такой же, как давеча у хорватов. Потом один офицер достал засаленную колоду: «Вы играете?» Я отрицательно покачал головой, а Хоенэгг согласился, офицер раздал карты для партии в скат. «Карты, сигареты, чай… – усмехнулся третий, который до сих пор не проронил ни слова. – Почти как дома». – «Раньше, – добавил первый, – мы играли в шахматы. Но теперь сил нет». Офицер с Железным крестом разлил чай по железным кружкам с вмятинами. «К сожалению, ни молока, ни тем более сахара предложить не могу». Мы выпили чаю, они начали играть. На пороге появился унтер-офицер и что-то шепотом сообщил офицеру с Железным крестом. «В деревне, – сердито передал он нам, – четверо убитых и тринадцать раненых. Вдобавок захвачены вторая и третья роты». Он повернулся ко мне, вид у него был и возмущенный, и растерянный: «Вы состоите в информационной службе, герр гауптштурмфюрер, внесите же ясность! Откуда у них столько оружия, пушек и снарядов? Уже полтора года мы их преследуем и травим. Их гнали от Буга до Волги, разрушили их города, уничтожили заводы… Откуда же, черт побери, все эти танки и минометы?» Он чуть не плакал. «Подобного рода сведения не в моей компетенции, – спокойно ответил я. – Вражеский военный потенциал – дело абвера и Fremde Heere Ost [33]. На мой взгляд, силы противника недооценили еще в начале кампании. К тому же им удалось эвакуировать большую часть заводов. Их производственная мощь на Урале огромна». Офицер вроде бы хотел продолжить беседу, но, похоже, сил у него не было. Он молча сел за карты. Затем я принялся расспрашивать их о русской пропаганде. Офицер, который нас пригласил, поднялся, прошел за перегородку и принес мне два листочка бумаги: «Вот что они нам присылают». На одном русские напечатали незамысловатый немецкий стишок под названием «Подумай о своем ребенке!», подписанный неким Эрихом Вайнертом; другой заканчивался цитатой: Немецким солдатам или офицерам, сдавшимся в плен, Красная Армия должна сохранять жизнь (приказ № 55 народного комиссара обороны И. Сталина). Работа, надо сказать, отличная: и стиль, и печать превосходные. «И что, действует?» Офицеры переглянулись. «К сожалению, да», – наконец признался третий. «Невозможно запретить людям читать листовки», – добавил офицер с Железным крестом. «Недавно, – снова вступил третий, – во время атаки русских целый батальон решил капитулировать без единого выстрела. К счастью, вмешался другой батальон и атаку отбил. Красные отступили, но прихватить с собой пленников даже и не подумали, многих убили еще в бою, а мы расстреляли остальных». Лейтенант с Железным крестом мрачно взглянул на товарища, тот притих. «Я могу захватить это с собой?» – я указал на листовки. «Да, если желаете. Мы их держим для весьма прозаических целей». Я сложил бумажки и сунул в карман кителя. Хоенэгг завершил партию и встал: «Идемте?» Мы поблагодарили трех офицеров и вернулись в избу Хоенэгга, где я приготовил скромный ужин: мясные консервы с поджаренными дольками лука. «Извините, гауптштурмфюрер, но коньяк у меня в Гумраке». – «Ну, тогда в следующий раз». Мы обсудили здешних офицеров. Хоенэгг рассказал, какие странные навязчивые идеи появляются у некоторых из них, к примеру, обер-лейтенант из 44-й дивизии приказал полностью разобрать избу – а там, между прочим, проживал десяток его подчиненных, – чтобы протопить баню и нагреть воды, потом долго мылся, брился, надел форму и пустил пулю в рот. «Доктор, – ввернул я, – вы же не забыли, что по-латыни глагол obsidere значит и „осаждать“, и „охватывать“? А Сталинград – город, которым овладело безумие». – «Давайте ложиться спать. Утром нас разбудят без особых церемоний». У Хоенэгга был матрас и спальный мешок, для меня он раздобыл два одеяла, а сверху я еще укрылся шубой. «Вы должны посмотреть, как я устроился в Гумраке, – сказал он, укладываясь. – У меня там теплый бункер со стенами, обитыми деревом, и чистые простыни. Люкс». Чистые простыни! Вот таков теперь предел мечтаний, подумал я. Горячая ванна и чистые простыни. Неужели я умру, так и не приняв ванны? Да, вполне возможно, и сейчас в избе Хоенэгга мне это казалось более чем вероятным. Снова безудержно хотелось плакать. Такое со мной теперь часто случалось.
По возвращении в Сталинград я на основе переданных Хоенэггом цифр составил рапорт, который, как мне рассказал Томас, пришелся не по вкусу Мёрицу: тот прочел его не отрываясь и потом молча вернул бумагу Томасу. Томас собирался переправить отчет непосредственно в Берлин. «Ты можешь это сделать без санкции Мёрица?» – удивился я. Томас пожал плечами: «Я офицер государственной, а не военной полиции и волен делать то, что считаю нужным». Впрочем, я и так уже понял, что наше положение довольно независимо. Я лишь изредка получал конкретные указания от Мёрица, и, в общем-то, был предоставлен сам себе. Я не раз задавался вопросом, зачем он меня выписал. Томас поддерживал прямые контакты с Берлином, не знаю, через какой именно канал, и всегда оказывался в курсе дальнейших действий. За первые месяцы оккупации города СП совместно с фельджандармерией ликвидировали евреев и коммунистов, после чего приступили к депортации гражданского населения, всех трудоспособных, почти шестьдесят пять тысяч, отправили в Германию на принудительные работы, так что теперь нам практически нечем было заняться. Тем не менее Томас развивал бурную деятельность, день за днем он собирал информацию у офицеров разведки, расплачиваясь сигаретами и консервами. Я же не придумал ничего лучшего, чем реорганизовать сеть осведомителей. Лишил довольствия тех, кто казался мне бесполезным, а другим объявил, что жду от них большего. По совету Ивана я, прихватив с собой толмача, предпринял вылазку в центр, в подвалы разрушенных домов, где оставались старухи, не захотевшие покидать свои жилища. Большинство из них нас ненавидели и с нетерпением ждали возвращения, как они выражались, «наших». Тем не менее несколько картофелин и особенно удовольствие поговорить хоть с кем-нибудь развязывали бабкам язык. Информацией, интересной для военных, они, разумеется, не располагали, но, проведя месяцы здесь, за линией советского фронта, рассказывали много интересного о силе духа солдат, о мужестве и вере в Россию и о надеждах, которые всколыхнула война, – на либерализацию режима, упразднение совхозов и колхозов, отмену трудовой книжки, мешающей свободному передвижению по стране. Одна из старух, Маша, с упоением рассказывала мне о генерале Чуйкове, которого уже прозвали «героем Сталинграда». С самого начала сражений он оставался на правом берегу, когда мы подожгли резервуары с нефтью, едва сумел спастись и, не дрогнув, целую ночь простоял среди огненных потоков на выступе скалы. Все перед ним преклонялись, а я даже не слышал раньше этого имени. Я узнал, что наши солдаты, случалось, находили у этих женщин кратковременное убежище, перекусывали чем придется, разговаривали, спали. В этой фронтовой зоне царил невообразимый хаос, развороченные здания постоянно обстреливались русской артиллерией, ее залпы доносились с противоположного берега Волги. Наш путь с Иваном, досконально знавшим все укромные уголки, в основном пролегал под землей, мы перемещались из подвала в подвал, порой даже спускались в канализационные коллекторы. Иногда, наоборот, поднимались на верхние этажи, если по причинам, ведомым только ему, Иван находил, что так будет безопаснее. Мы проходили квартиры с покореженными черными потолками и лоскутами обгоревших штор, с голым кирпичом и осыпающейся штукатуркой за оборванными обоями; в комнатах царил разгром: каркасы никелированных кроватей, вспоротые диваны, опрокинутые буфеты, детские игрушки. Мы перебирались по доскам, перекинутым через пробоины в полу, ползли по страшным открытым коридорам, и везде кирпичные стены казались кружевными из-за изрешетивших их пуль. Иван не обращал внимания на снаряды, но испытывал суеверный страх перед снайперами, я, наоборот, ужасно боялся взрывов и еле сдерживался, чтобы не пригибаться. Снайперов я, по неопытности, не опасался, и Ивану не раз приходилось оттаскивать меня в сторону от опасного места, хотя мне казалось, что никакой угрозы нет. Иван убеждал меня, что снайперы – женщины, и он якобы собственными глазами видел труп самой знаменитой из них, победительницы советской спартакиады 1936 года. Любопытно, что он ничего не слышал о сарматах, обитавших некогда в низовьях Волги и происходивших, если верить Геродоту, от браков амазонок со скифами. Сарматы посылали своих женщин сражаться наравне с мужчинами и возводили гигантские курганы вроде Мамаева. Посреди всего этого отчаяния и разрухи мне доводилось общаться с солдатами; некоторые встречали меня в штыки, другие радовались, третьи оставались равнодушными. Мне рассказывали о Rattenkrieg – «крысиной войне» – за руины, когда коридор, потолок, стена превращались в линию фронта, когда вслепую, в пыли и дыму, бросали гранаты, когда живые задыхались в пекле пожаров, а мертвые заваливали лестницы, площадки, пороги квартир, когда терялось понятие времени и пространства и война уже напоминала абстрактную, трехмерную игру в шахматы. Вот каким образом нашим войскам иногда удавалось продвинуться к Волге на две, три улицы, но не дальше. Теперь настала очередь русских: каждый день, как правило, на заре или вечером, они яростно атаковали наши позиции, особенно заводы, впрочем, и центр города тоже. Боеприпасы, без того строго расходовавшиеся, заканчивались, выжившие после этих атак падали без сил; днем русские прогуливались на виду у наших, зная, что тем запрещено стрелять. Люди теснились в подвалах, кишащих крысами, отвратительные твари, потеряв всякий страх, бегали и по живым, и по мертвым, а по ночам грызли уши, носы или пальцы на ногах измученных спавших солдат. Однажды я оказался на втором этаже какого-то дома; на улице разорвалась мина, и через несколько мгновений я услышал безудержный смех. Я выглянул в окно и среди обломков увидел мужской торс: немецкий солдат, которому взрывом оторвало обе ноги, хохотал во все горло. По щебню и доскам растекалась лужа крови. От этого зрелища у меня волосы дыбом встали, опять скрутило живот; я выставил Ивана и прямо в гостиной спустил штаны. Во время этих вылазок, если у меня случались позывы, я испражнялся где попало: в коридорах, кухнях, спальнях, иногда случалось примоститься на уцелевшем среди руин унитазе, правда, не всегда соединенном с трубой. Еще летом в огромных, теперь разрушенных домах жили повседневной, рутинной жизнью тысячи семей и даже не подозревали, что скоро на их супружеских постелях будут вповалку по шесть человек спать солдаты, будут подтираться их шторами и простынями, убивать друг друга лопатами на кухнях, сваливать трупы в ванных. Здесь меня затопляла щемящая, горькая тоска, и сквозь ее толщу один за другим, как утопленники после кораблекрушения, всплывали из памяти образы прошлого. Картины в основном жалкие, постыдные. К примеру, незадолго до моего одиннадцатилетия, через два месяца после нашего переезда к Моро, мать определила меня в интернат в Ницце. В нем не было ничего ужасного, учителя заурядные, кроме того, по четвергам после полудня и на выходные я возвращался домой. Позднее я горько сожалел об интернате, но тогда я его ненавидел. В ту пору у меня был легкий немецкий акцент, ведь до переезда в Антиб мы говорили по-французски только с матерью. К тому же я был щуплым и невысоким для своего возраста. Но на сей раз я твердо решил не допустить, чтобы товарищи превратили меня в мишень для насмешек и издевательств, как это случилось в Киле. Компенсируя комплексы, я вел себя с учителями нарочито вызывающе и дерзко. В классе я стал шутом, перебивал учителей язвительными комментариями или ехидными вопросами, так что одноклассники покатывались со смеху. Многие свои выходки, порой достаточно жестокие, я тщательно репетировал заранее. Главной жертвой я выбрал одного учителя, застенчивого, женоподобного, он преподавал английский, носил галстук-бабочку, молва приписывала ему разные непотребства, которые я вслед за остальными, совершенно не представляя, о чем идет речь, считал гнусностью. По этим причинам и из-за слабости его натуры я сделал из него козла отпущения и постоянно унижал перед классом до тех пор, пока он в приступе бессильного бешенства не влепил мне пощечину. При воспоминании об этом я и сейчас сгораю от стыда, потому что давно понял, что обращался с несчастным так же беспардонно, как впоследствии не раз обходились со мной. Именно в этом и заключается различие между слабыми и теми, кого называют сильными. И первых, и вторых мучают тревога, страх, сомнения, но слабые все осознают и страдают, а сильные пытаются ничего не замечать и ополчаются на слабых, чья очевидная уязвимость угрожает их шаткой уверенности в себе. Таким образом, слабые угрожают сильным и провоцируют насилие, убийства, безжалостные расправы. А вот когда роковая неудержимая жестокость оборачивается против сильных, стена их самоуверенности дает глубокие трещины, и они начинают понимать, что их ждет, и видят, что им крышка. Так произошло с солдатами 6-й армии, гордыми, надменными, давившими русские дивизии, грабившими мирное население, истреблявшими неблагонадежных, как мух: теперь же, помимо советской артиллерии и снайперов, холода, болезней и голода, их убивала медленно поднимающаяся из глубин души волна. И меня она тоже затопляла, ядовитая и зловонная, как вытекавшее из моих кишок дерьмо со сладковатым дурманящим запахом. Любопытная встреча, которую мне устроил Томас, еще раз подтвердила мою теорию. «Побеседуй кое с кем, пожалуйста», – попросил Томас, просунув голову в узкий закуток, служивший мне кабинетом. Твердо помню, что было это в последний день 1942 года. «С кем?» – «С политруком, вчера его задержали возле заводов. Мы выжали из него все, что могли, абвер тоже, но я прикинул, что тебе было бы интересно с ним пообщаться, подискутировать об идеологии, прощупать, что творится в башках наших противников сейчас. Ты более проницательный, чем я, и справишься лучше. Кстати, он отлично знает немецкий». – «Если ты полагаешь, что есть необходимость». – «Не теряй времени на военные вопросы: тут мы уже постарались». – «Он раскололся?» Томас пожал плечами, неопределенно улыбнулся: «Ну, как сказать… Он крепкой породы, хотя и не молод. Попозже мы, наверное, опять за него возьмемся». – «Я понял. Ты хочешь, чтобы он размяк». – «Именно. Воздействуй на него убеждением, намекни на будущее его детей».
Конвоир украинец привел ко мне человека в наручниках. На нем была короткая желтая куртка танкиста, грязная, правый рукав оторван по шву, часть лица ободрана, глаз с другой стороны почти полностью закрывал синий отек, но когда его брали, он, похоже, был свежевыбрит. Украинец швырнул его на школьный стульчик перед моим столом. «Сними с него наручники, – приказал я, – и жди в коридоре». Украинец пожал плечами, снял наручники и вышел. «Симпатичные у нас изменники Родины, правда?» – пошутил арестованный. По-немецки он говорил чисто, хотя и с акцентом. «Когда будете отступать, прихватите их с собой». – «Мы не отступим», – сухо возразил я. «Тем лучше. Нам не придется бежать следом, чтобы их расстрелять». – «Я – гауптштурмфюрер доктор Ауэ, – сказал я. – А вы?» Он слегка поклонился, не вставая со стула: «Правдин Илья Семенович, к вашим услугам». Я вытащил пачку сигарет из последних запасов: «Вы курите?» Он улыбнулся, я заметил, что двух зубов у него не хватает. «Почему шпики всегда предлагают закурить? Каждый раз при задержании меня угощают сигаретами. И я, признаться, не отказываюсь». Я протянул ему одну, он, нагнувшись, прикурил. «Ваше звание?» – спросил я. Он не спеша выпустил дым, блаженно вздохнул: «Ваши солдаты мрут от голода, а офицеры, как я посмотрю, балуются хорошими сигаретами. Я комиссар полка. Но недавно нам присвоили военные звания, и я получил подполковника». – «Вы – член Партии, но не офицер Красной Армии». – «Так точно. А вы? Вы тоже из гестапо?» – «Из СД. Это несколько разные вещи». – «Я знаю разницу. Много ваших успел допросить». – «И как же вы, коммунист, могли сдаться в плен?» Он помрачнел: «Во время наступления рядом со мной разорвался снаряд, меня контузило в голову». Он показал ободранную щеку. «Потерял сознание. Видимо, товарищи приняли меня за мертвого. В себя пришел у ваших. Ну да что тут поделаешь», – печально заключил он. «Политрук, да еще и высокий военный чин, на передовой – редкость, разве нет?» – «Командира убили, и я должен был сплотить людей. Но вообще-то я с вами согласен: солдаты нечасто видят партийное руководство на линии огня. Многие пользуются своими привилегиями. Но подобные злоупотребления мы исправим». Он осторожно кончиками пальцев потрогал фиолетовый синяк возле заплывшего глаза. «Тоже взрыв?» – осведомился я. Он опять улыбнулся беззубым ртом: «Нет, это уже ваши коллеги. Вам ведь хорошо известны их методы». – «Ваш НКВД пользуется теми же». – «Абсолютно. Я и не жалуюсь». Я выдержал паузу. «Сколько вам лет, позвольте спросить?» – наконец продолжил я. «Сорок два. Я родился вместе с новым веком, как ваш Гиммлер». – «То есть вы участник революции?» Он хохотнул: «Конечно. Я сражался за большевиков с пятнадцати лет. Входил в совет рабочих депутатов в Петрограде. Вы не можете представить, что это была за эпоха! Мощный ветер свободы». – «Многое, однако, изменилось». Он задумался. «Да. Верно. Русский народ оказался не готов к свободе, столь безоговорочной и незамедлительной. Но мы достигнем цели, шаг за шагом. Сначала мы его воспитаем». – «А где вы выучили немецкий?» Он снова улыбнулся: «Самостоятельно, в шестнадцать лет, у военнопленных. Позже Ленин лично отправил меня к немецким коммунистам. Только вообразите, я познакомился и с Либкнехтом, и с Люксембург! Удивительные люди. И после Гражданской войны я еще не раз посещал Германию, тайно, чтобы завязать контакты с Тельманом и другими товарищами. Вы не представляете себе, что у меня за жизнь была. В тысяча девятьсот двадцать девятом я работал переводчиком у ваших офицеров, приезжавших на учения в Россию испытывать новое оружие и новые тактические разработки. Мы у вас многое переняли». – «Да, но не применили опыт в реальности. Сталин уничтожил всех офицеров, усвоивших наши методы, начиная с Тухачевского». – «Мне очень жаль Тухачевского. По-человечески, так сказать. С политической точки зрения я не имею права осуждать Сталина. Возможно, совершена ошибка. Но большевики тоже не застрахованы от ошибок. Важно то, что мы находим силы постоянно осуществлять чистку собственных рядов, избавляться от уклонистов и коррумпированных элементов. А вот вы не настолько сильны: ваша Партия гниет изнутри». – «Да, у нас есть проблемы. СД осведомлена о них лучше, чем кто-либо, и мы стараемся сделать Партию и нацию лучше». Он усмехнулся: «В итоге разница между нашими системами не слишком велика. По крайней мере в том, что касается основных принципов». – «Странное для коммуниста заявление». – «Не слишком, если вдуматься. Действительно, чем отличается национал-социализм от социализма в отдельно взятой стране?» – «Тогда почему мы вовлечены в борьбу не на жизнь, а на смерть?» – «Вы ее затеяли, а не мы. Мы были готовы к компромиссам. Подобная история уже произошла однажды с христианами и евреями: вместо того чтобы объединиться с народом Божьим, с которым у них столько общего, и единым фронтом выступить против язычников, христиане, разумеется, из зависти подпали под языческое влияние и ополчились, себе во вред, на свидетелей истины. Обернулось это большой бедой». – «Следуя вашей аналогии, евреи – это вы, верно?» – «Конечно. В конце концов, вы у нас все позаимствовали, в том числе в искаженных, карикатурных формах. Я говорю не о символах, о красном знамени и Первом мая. Я имею в виду основные понятия вашего Weltanschauung». – «В каком же смысле?» Он начал считать по пальцам, по русскому обычаю загибая их с мизинца один за другим: «Там, где коммунизм провозглашает бесклассовое общество, вы проповедуете народное сообщество, Volksgemeinschaft, – по сути, абсолютно то же устройство, только в пределах ваших границ. Если Маркс видел носителя правды в пролетариате, вы решили приписать эту роль так называемой арийской расе, пролетарской расе, воплощению Добра и нравственности, впоследствии вы подменили классовую борьбу войной немецкого пролетариата против капиталистических государств. И в экономике ваши идеи есть не что иное, как уродливое копирование наших ценностей. Я хорошо знаю вашу политическую экономию, потому что перед войной по партийному заданию переводил статьи из специализированных журналов. Маркс создает теорию прибавочной стоимости, а ваш Гитлер заявляет: Немецкая марка, не имеющая эквивалента в золоте, ценнее золота. Его несколько туманное изречение прокомментировал Дитрих, правая рука Геббельса: национал-социализм понял, что самым надежным фундаментом для валюты является вера в производительные силы Нации и в руководителей государства. В результате деньги для вас превратились в фетиш, показатель производственного потенциала вашей страны, – тотальное заблуждение налицо. Ваши отношения с крупными капиталистами отвратительно лицемерны, особенно после реформ министра Шпеера: высшие чины продолжают ратовать за свободное предпринимательство, но вся ваша промышленность подчиняется плану, и собственные доходы предприятий не превышают шести процентов, а все, что сверх того, присваивает государство». Политрук замолчал. «Да, у национал-социализма есть промахи», – ответил я. Потом коротко изложил тезисы Олендорфа. «Да, – произнес Правдин, – я знаком с его работами. Но Олендорф тоже идет по ложному пути. Вы не последовали марксистскому учению, а извратили его. Замещение класса расой, приведшее к вашему пролетарскому расизму, – нонсенс, абсурд». – «Не более чем ваше понятие непрерывной классовой борьбы. Классы – историческая данность; они образовались в определенный момент и так же исчезнут, растворятся, гармонично, без кровопролития впишутся в Volksgemeinschaft. Раса же – данность биологическая, естественная, а значит, непреложная». Правдин поднял руку: «Слушайте, я же не спорю, это вопрос веры, здесь бесполезно прибегать к логике и разумным аргументам. Но вы должны согласиться со мной хотя бы в одном пункте – при всех весьма значимых различиях наши мировоззрения базируются на общем принципе: обе идеологии по характеру детерминистские. Но у вас расовый детерминизм, а у нас – экономический, но детерминизм. И вы, и мы верим, что человек не выбирает судьбу, она навязана природой или историей, и делаем отсюда вывод, что существуют объективные враги, что отдельные категории людей могут и должны быть истреблены на законном основании, просто потому, что они таковы, а не из-за их поступков или мыслей. И тут разница только в том, кого мы зачисляем в категорию врагов: у вас – евреи, цыгане, поляки и, насколько мне известно, душевнобольные, у нас – кулаки, буржуазия, партийные уклонисты. Но, в сущности, речь об одном и том же: и вы, и мы отвергаем homo economicus, то есть капиталиста, эгоиста, индивидуалиста, одержимого иллюзиями о свободе, нам предпочтителен homo faber [34]. Или, говоря по-английски, not a self-made man but a made man [35], ведь коммуниста, собственно, как и вашего прекрасного национал-социалиста, надо выращивать, обучать и формировать. И человек сформированный оправдывает безжалостное уничтожение тех, кто не обучаем, оправдывает НКВД и гестапо, садовников общества, с корнем вырывающих сорняки и ставящих подпорки полезным растениям». Я протянул ему еще одну сигарету и тоже закурил: «Для большевика вы широко мыслите». Он горько улыбнулся: «Все из-за того, что мои старые товарищи, и немецкие, и другие, оказались в опале. Когда лишаешься власти, то находится время, а главное, желание размышлять». – «Вот так объясняется, что человек с вашим прошлым занимает довольно скромную должность?» – «Конечно. Видите ли, я раньше был близок к Радеку, правда, не к Троцкому, – поэтому жив еще. А продвижение по карьерной лестнице меня не волнует, уж поверьте. Я служу Родине и Партии, и я счастлив умереть за них. Но думать мне это не мешает». – «Но если вы считаете, что наши системы идентичны, то почему воюете с нами?» – «Я не говорил, что они идентичны. И вы достаточно умны, чтобы это понимать. Я старался показать вам, что наши идеологические системы одинаково функционируют. Но содержание, естественно, разное: классы и раса. Я отношусь к вашему национал-социализму как к ереси марксизма». – «И в чем, по вашему мнению, преимущество большевистского мировоззрения перед национал-социалистическим?» – «В том, что мы хотим счастья всему человечеству, а вы, эгоисты, только немцам. Если я не немец, то у меня при всем желании нет шанса вписаться в ваше общество». – «Да, но если бы вы, как я, например, родились в буржуазной семье, то тоже не могли бы стать большевиком, и каковы бы ни были ваши личные убеждения, оставались бы объективным врагом». – «Да, тоже правда, но тут дело в полученном воспитании. А вот ребенок буржуя, внук буржуя, рожденный в социалистической стране, вырастет хорошим, настоящим, вне всяких подозрений коммунистом. Когда-нибудь бесклассовое общество будет реальностью и классы растворятся в коммунизме. Теоретически коммунизм можно построить во всем мире, а национал-социализм нет». – «Теоретически – вот именно. Но вы не в состоянии ничего доказать и в реальности совершаете страшные преступления во имя утопии». – «Я не собираюсь напоминать, что ваши преступления и того хуже. Я просто скажу, что если мы и не можем убедить тех, кто отказывается верить в справедливость марксизма, в наших благих намерениях, то мы покажем и докажем тщетность конкретно ваших. Ваш биологический расизм постулирует неравенство, утверждая, что есть расы более сильные и значимые, чем другие, а самая сильная и значимая – немецкая. Но когда Берлин станет похож на этот город, – он поднял палец к потолку, – и когда наши солдаты разобьют лагерь на Унтер-ден-Линден, вы, по меньшей мере, вынуждены будете признать – во имя спасения вашей расистской веры, – что славянская раса сильнее германской». Я не показал своего замешательства: «Вы еле удержали Сталинград и искренне полагаете, что способны взять Берлин? Вы шутите?» – «Я не предполагаю, я уверен. Сравните хотя бы военный потенциал с обеих сторон. Даже не принимая в расчет второй фронт, который наши союзники скоро откроют в Европе. Вам крышка». – «Мы будем биться до последнего патрона». – «Никто не сомневается, но вы все равно проиграете. И Сталинград станет символом вашего поражения. Впрочем, не совсем заслуженно. Потому что, на мой взгляд, вы проиграли войну еще в прошлом году, когда вас удержали под Москвой. Мы потеряли территории, города, людей – это все восполнимо. Но Партия не дрогнула, и ваша единственная надежда рухнула. Впрочем, даже если бы вы взяли Сталинград, ничего бы не изменилось. А вы могли бы захватить Сталинград, если бы не допустили столько ошибок, вы нас просто недооценили. Было совсем неочевидно, что вы здесь потерпите поражение, и мы полностью разгромим вашу Шестую армию. Ну, хорошо, допустим, вы победили в Сталинграде, что с того? Наши ведь и в Ульяновске, и в Куйбышеве, и в Москве, и в Свердловске. Мы бы вам устроили то же самое, но чуть дальше. Разумеется, выглядело бы это менее символично, тут же город Сталина. Но кто такой Сталин, если разобраться? И какой нам, большевикам, прок в его славе и отсутствии чувства меры? Что для нас, умирающих здесь каждый день, его постоянные звонки Жукову? Не Сталин дает людям мужество бросаться на ваши пулеметы. Конечно, вождь необходим, нужен кто-то, чтобы координировать действия, но им может быть любой другой партиец. Сталин не является незаменимым, так же как Ленин или я. Наша стратегия здесь – стратегия здравого смысла. И наши солдаты, наши большевики продемонстрировали бы такое же мужество и в Куйбышеве. Несмотря на многочисленные военные промахи, наши Партия и народ непобедимы. Теперь ситуация будет развиваться в обратном направлении. Ваши уже приступили к эвакуации Кавказа. Наша окончательная победа не вызывает сомнений». – «Не исключено. Но какой ценой для вашего коммунизма? – возразил я. – Сталин с начала войны обращается не к коммунистическим, а к национальным идеалам, единственным по-настоящему вдохновляющим людей. Он вновь ввел в армии царские порядки времен Суворова и Кутузова и, кстати, вернул золотые погоны, которые в семнадцатом году в Петрограде ваши товарищи приколачивали гвоздями офицерам к плечам. В карманах у ваших погибших, даже у высших офицеров, мы находим спрятанные иконы. Более того, из наших источников мы знаем, что националистические идеи открыто высказываются в высших кругах Партии и армии, Сталин и партийная верхушка насаждают великорусский дух, культивируют антисемитские настроения. Вы тоже начинаете не доверять своим евреям, а они же не класс». – «То, что вы сказали, к сожалению, правда, – признался он грустно. – Тяготы войны возрождают давние пережитки. Но не надо забывать состояние русского народа до девятьсот семнадцатого года, его невежество, отсталость. Меньше чем за двадцать лет мы сумели его воспитать и исправить, срок сжатый. После войны мы продолжим выполнять нашу задачу и постепенно исправим все ошибки». – «Мне кажется, вы заблуждаетесь. Проблема не в народе, а в ваших руководителях. Коммунизм – маска, натянутая на прежнее лицо России. Ваш Сталин – царь, Политбюро – бояре и аристократы, алчные и эгоистичные, ваши партийные кадры – чиновники, те же, что при Петре и Николае. Та же пресловутая российская автократия, вечная нестабильность, ксенофобия, абсолютная неспособность разумно управлять государством, террор вместо консенсуса и настоящей власти, наглая коррупция, только принявшая другие формы, некомпетентность и пьянство. Прочтите переписку Курбского с Иваном Грозным, прочтите Карамзина, Кюстина. Основной признак вашей истории никогда не изменить: унижение, из поколения в поколение, от отца к сыну. Испокон века, и особенно с эпохи монгольского ига, все вас унижают, и политика вашего правительства состоит не в том, чтобы бороться с униженностью и ее причинами, а в том, чтобы спрятать ее от остального мира. Петербург Петра не что иное, как потемкинская деревня, не окно, прорубленное в Европу, а театральная декорация, установленная, чтобы спрятать от Запада нищету и грязь. Но унижать можно лишь тех, кто терпит унижение; и лишь униженные способны унижать других. Униженные тысяча девятьсот семнадцатого, от Сталина до мужика, навязывают свой страх и унижение другим. Потому что в этой стране униженных царь, какой бы властью он ни обладал, беспомощен, его воля тонет в болотах и топях его администрации. Перед царем все кланяются, а за его спиной воруют и плетут заговоры, все льстят начальству и вытирают ноги о подчиненных, у всех рабское мышление, ваше общество сверху донизу пропитано рабским духом, главный раб – это царь, который не может ничего сделать с трусостью и униженностью своего рабского народа и от бессилия убивает, терроризирует и унижает его еще больше. И каждый раз, когда в вашей истории возникает переломный момент, реальный шанс разорвать порочный круг, чтобы создать новую историю, вы его упускаете: и перед свободой, вашей свободой семнадцатого года, о которой вы говорили, все – и народ, и вожди – отступают и возвращаются к уже выработанным рефлексам. Конец НЭПа, провозглашение социализма в отдельно взятой стране тому доказательство. Однако надежды пока еще не угасли, и потребовались чистки. Нынешнее возрождение державности является логическим завершением этого процесса. Русский, вечно униженный, избавляется от собственной неполноценности, идентифицируя себя с абстрактной славой России. Русский может работать по четырнадцать часов в сутки на промерзшем заводе, всю жизнь есть черный хлеб и капусту и обслуживать лоснящегося от жира хозяина, который называет себя марксистом-ленинцем, но раскатывает на лимузине с шикарными цыпочками, попивая французское шампанское, – русскому все равно, главное, чтобы наступили времена Третьего Рима. А каким уж будет Третий Рим, христианским или коммунистическим, совершенно неважно. Что касается директора завода, он трясется за свое место, льстит начальнику, дарит дорогие подарки, а если все же директора выгоняют, то вместо него сажают такого же, жадного, невежественного, униженного и презирающего рабочих, потому что прежде всего он служит пролетарскому государству, а не людям. Однажды, конечно, с применением насилия или нет, но коммунистический фасад рухнет. И тогда мы увидим прежнюю немытую Россию. Если вы даже победите, то выйдете из этой войны еще большими национал-социалистами и империалистами, чем мы, но ваш социализм, в отличие от нашего, пустой звук; остается национализм, за который вы и будете цепляться. В Германии и других капиталистических странах утверждают, что коммунизм погубил Россию, но я думаю, что наоборот, Россия погубила коммунизм. Сама идея прекрасна, и кто знает, как бы повернулись события, если бы революцию делали в Германии, а не в России? Если бы ее возглавили уверенные в себе немцы, ваши друзья Роза Люксембург и Карл Либкнехт? Я полагаю, что все обернулось бы катастрофой, потому что обострились бы наши внутренние специфические конфликты, которые пытается разрешить национал-социализм. Хотя кто знает? Одно не вызывает сомнений: опыт коммунизма, предпринятый вами, обречен на провал. Его можно сравнить с медицинским опытом, проведенным в нестерильной среде, – все результаты насмарку». – «Вы отличный диалектик, поздравляю, вы как будто прошли коммунистическую школу. Но я слишком устал, чтобы спорить с вами. В любом случае это только слова. Ни вы, ни я не увидим описанного вами будущего». – «Кто знает? Вы – комиссар высокого ранга. Вполне вероятно, что вас отправят в лагерь для дальнейших допросов». – «Вы смеетесь надо мной, – резко перебил он. – Места в ваших самолетах строго ограничены, кто станет вывозить мелкую сошку? Я прекрасно знаю, что меня не сегодня завтра расстреляют. Но мне наплевать». Он опять взял шутливый тон: «Вы читали французского писателя Стендаля? Тогда вы наверняка помните его изречение: Видно, только смертный приговор и выделяет человека. Это единственная вещь, которую нельзя купить [36]. Я расхохотался; Правдин тоже посмеивался. «Откуда вы такое выудили?» – выдавил я наконец. Он пожал плечами: «А, ну конечно: я же ничего, кроме Маркса, не читаю!» – «Жаль, что у меня нечего выпить, – сказал я. – Я бы охотно предложил вам стаканчик, – и добавил уже серьезно: – Еще мне жаль, что мы – враги. При других обстоятельствах мы бы нашли общий язык». – «Может быть, – задумчиво протянул он, – но, может, и нет». Я встал, подошел к двери и позвал украинца. Потом вернулся к столу. Комиссар поднялся, попытался приладить оторванный рукав. Я протянул ему пачку с оставшимися сигаретами. «Спасибо, – поблагодарил он. – А спички у вас есть?» Я отдал ему коробок. Украинец ждал на пороге. «Разрешите не пожимать вам руку», – комиссар смотрел на меня, иронично улыбаясь. «Пожалуйста», – отозвался я. Украинец схватил его под руку, Правдин сунул сигареты и спички в карман куртки. «Зачем ему пачка? – пронеслось у меня в голове. – У него времени не будет ее выкурить, украинцам все достанется».
Я не стал писать рапорт о нашей беседе: о чем, собственно, докладывать? Вечером офицеры собрались, чтобы отметить Новый год и допить припасенные кое у кого бутылки. Но праздник получился невеселый, после обычных тостов разговор не клеился, присутствующие разбрелись по углам и пили молча. Я пытался было пересказать Томасу разговор с Правдиным, но он перебил меня: «Я понимаю, что тебя это занимает, но не забывай, что теоретические разглагольствования не по моей части». Я по какой-то необъяснимой застенчивости не спросил Томаса, что сделали с комиссаром. На следующее утро я проснулся до зари, впрочем, сюда, в подземелье, свет не проникал, меня жутко лихорадило. Бреясь, я внимательно разглядывал свои глаза, сосуды вроде не полопались, в столовой заставил себя проглотить суп и чай, но к хлебу не притронулся. Сидеть в кабинете, читать и составлять отчеты мне стало невмоготу, воздуха не хватало, и я решил, не спрашивая Мёрица, навестить помощника Томаса Фопеля, получившего ранение. Иван, как всегда без возражений, вскинул винтовку на плечо. На улице потеплело и было непривычно влажно, снег под ногами превратился в грязное месиво, солнце пряталось за толстым слоем облаков. Фопеля, наверное, определили в госпиталь, расположившийся чуть ниже, в здании городского театра. Снаряды разбомбили крыльцо, выбили тяжелые деревянные двери; внутри огромного фойе среди обломков мрамора и взорванных колонн валялись десятки трупов, санитары поднимали тела из подвалов и складывали здесь, чтобы потом сжечь. Жуткая вонь, поднимавшаяся из подвальных помещений, заполняла фойе. «Я тут подожду», – объявил Иван у главного входа и принялся скручивать папиросу. Я всегда удивлялся его спокойствию, но сейчас вдруг почувствовал острую жалость: если у меня было множество шансов погибнуть, то у него – ни единого остаться в живых. А он невозмутимо курил. Я направился к лестнице. «Не приближайтесь к трупам», – посоветовал санитар, оказавшийся рядом со мной. Он показал пальцем, я повернул голову: темная, бесформенная масса копошилась на груде мертвецов и, отделяясь от нее, сновала между обломков. Я вгляделся, у меня ком к горлу подкатил – вши бежали с остывающих тел в поисках новых хозяев. Я осторожно обогнул кучу и спустился вниз, санитар за моей спиной издевательски хмыкнул. Под подвальными сводами меня словно мокрым одеялом облепил густой смрад, нечто живое, принимающее разнообразные формы, заползающее в ноздри и горло, состоящее из крови, гангрены, гниющих ран, запаха влажного дерева и шерсти, пропитанной потом, мочой, почти приторным поносом, рвотой. Я со свистом вдыхал воздух через рот, с усилием сдерживая рвотные позывы. Раненые и больные рядами лежали на одеялах или прямо на холодном бетонном полу; стоны и крики эхом отражались от сводчатых потолков, пол покрывал толстый слой грязи. Несколько врачей и санитаров в запачканных халатах медленно продвигались вдоль рядов, старательно отыскивая место, куда поставить ногу, чтобы не наступить ненароком на агонизирующих людей. Я понятия не имел, как в этом хаосе искать Фопеля. Потом прикинул, где находится операционная, и вошел без стука. Плиточный пол там тоже был заляпан кровью и грязью, слева от меня на банкетке сидел, вытаращив пустые глаза, человек без руки. На столе лежала светловолосая женщина – скорее всего, из штатских, всех наших медсестер уже давно вывезли – голая, со страшными ожогами на животе и под грудью и ампутированными до колен ногами. Картина потрясла меня; я заставил себя отвернуться и не смотреть на раздутые половые органы между культей. Вошел врач, я попросил проводить меня к раненому из СС. Врач жестом пригласил меня следовать за ним и повел в маленькую комнату, где на раскладушке примостился полураздетый Фопель. Ему осколком задело руку, Фопель был просто счастлив: теперь он имел право уехать. Я, побледнев от зависти, разглядывал его перевязанное плечо, вот так я, наверное, смотрел на сестру, сосавшую материнскую грудь. Фопель курил и болтал, он получил Heimatschuss, бурно, как ребенок, радовался такой удаче и не мог угомониться – невыносимо! Он постоянно щупал, словно талисман, карточку VERWUNDETE [37], приколотую к карману наброшенного на плечи кителя. Уходя, я пообещал переговорить с Томасом о его отъезде. Фопелю очень повезло: по званию его никогда бы не включили в списки вывозимых незаменимых специалистов, а мы отлично понимали, что СС нечего надеяться даже на лагеря для военнопленных, русские расправлялись с эсэсовцами, как мы с коммунистами и работниками НКВД. Выйдя наружу, я вспомнил Правдина и задался вопросом, сохранял бы я на его месте присутствие духа. Я предпочел бы самоубийство тому, что ожидало меня у большевиков. Но я сомневался, что у меня хватит на него мужества. Я больше, чем когда-либо, чувствовал себя загнанной в угол крысой и не мог смириться с тем, что все закончится вот так, в грязи и разрухе. Меня опять трясло от температуры, я с ужасом подумал, а ведь не много надо, чтобы и я тоже очутился здесь и лежал в вонючем подвале, в ловушке собственного тела, до тех пор, пока не придет черед и меня не вытащат ко входу, чтобы избавиться от моих вшей. В фойе я обошел Ивана стороной, решил подняться по широкой лестнице в зал. До войны это, видимо, был роскошный зал с балконами и велюровыми креслами; теперь потолок, в который угодила бомба, почти полностью обрушился, в центре зрительских рядов, между сидений, заваленных щебнем и снегом, торчала люстра. Из любопытства и желания оттянуть возвращение назад, я полез исследовать верхние ярусы. Там тоже шли бои: в стенах сделали пробоины для огневых точек, пол в коридорах был усеян отстрелянными гильзами и пустыми ящиками из-под боеприпасов; на балконе два убитых русских солдата, которых никто не потрудился снести в фойе, разлеглись в креслах, словно ожидая начала все время откладывающейся пьесы. Через дверной проем в глубине одного из проходов я пробрался на мостик над сценой: большая часть осветительных приборов и механизмов для смены декораций были повреждены. Я долез до самой кровли: над залом зияла пустота, но над сценой потолок уцелел, и крыша, изрешеченная пулями, держалась на балочной конструкции. Я рискнул выглянуть в дырку: снаружи от черных развалин кое-где поднимался дым, чуть севернее разворачивалось ожесточенное сражение, слышался характерный вой невидимых штурмовиков. Я искал глазами Волгу, мечтал ее увидеть хотя бы раз, но она пряталась за руинами, а здание театра располагалось недостаточно высоко. Я отвернулся: этот заброшенный чердак напомнил мне чердак в огромном доме Моро в Антибе. Когда я возвращался из интерната в Ницце, мы с сестрой не расставались ни на минуту. Каждый раз мы заново обследовали все закутки дома и неизменно забредали на чердак. Мы приволокли туда из гостиной граммофон с ручкой и куклы сестры, разных зверюшек, кошку, жабу, ежа; натягивали простыню между балками и разыгрывали пьесы и оперы. Любимым нашим представлением была «Волшебная флейта» Моцарта: лягушка исполняла роль Папагено, ежик – Тамино, кошка – Памины, а кукла – Царицы ночи. Сейчас я, не моргая, стоял посреди разгромленного театра, и мне чудилось, что звучит музыка и я вовлечен в захватывающий кукольный спектакль. Опять у меня страшно скрутило живот, я снял брюки и присел; сидя на корточках, пока текло говно, я витал где-то далеко, я видел море, волны за кормой, двоих детей – себя самого и сестру-близняшку Уну, – устроившихся на носу корабля, вспоминал, как встречались украдкой наши взгляды и руки, грезил о безграничной любви, что шире синего моря и сильнее боли растраченных лет. Ослепительный солнечный блеск, благословенная бездна. Спазмы, диарея, холодный пот лихорадки, страх – все стерлось, растворилось в нежданно нахлынувших воспоминаниях. Не надевая штанов, я улегся в пыли и обломках, и прошлое расцвело передо мной, как весенний цветок. Нам нравилось, что на чердак, в отличие от погреба, всегда проникал свет. Даже когда крыша не пробита шрапнелью, день струится в маленькие окошки или в щелки между черепицей или поднимается от лестницы, ведущей с этажей; никогда на чердаке не бывает полностью темно. И в том рассеянном, мягком, пятнами ложащемся свете мы играли и обучались вещам, которым должны были обучиться. Кто знает, как это случается? Наверное, мы в библиотеке Моро наткнулись на запретные брошюры, спрятанные среди других книг, а может, все произошло естественно, в процессе игры и нечаянных открытий. Тем летом мы остались в Антибе, но по субботам и воскресеньям отправлялись на берег моря в домик, снятый Моро возле Сен-Жан-Кап-Фера. Там мы играли в поле, в черном сосновом бору и у зарослей кустарника, дрожавшего от стрекота цикад и гудения пчел в лаванде, ее аромат заглушал запахи розмарина, тимьяна, смолы и примешивающуюся к ним в конце лета сладость инжира, которым мы объедались до тошноты. Дальше по морю от крутых скал, окаймлявших зубчатый берег, мы вплавь или на лодке добирались до маленького отлогого островка. Там, голые, как дикари, ныряли и железной ложкой соскребали присосавшихся к подводным камням морских ежей; добыв несколько штук, мы вскрывали их карманным ножиком и прямо из скорлупок заглатывали липкие оранжевые икринки, мусор выкидывали в море, потом терпеливо кончиком ножа выковыривали впившиеся в пальцы иголки и мочились на ранки. Иногда, особенно когда дул мистраль, море штормило, и высоченные волны с шумом разбивались о скалы, возвращение на берег оборачивалось опасной игрой, требовавшей всей нашей детской отваги и ловкости. Однажды я вынырнул из воды, ожидая отлива, чтобы добраться до скалы, но внезапно меня накрыла волна и протащила по острым камням, я сильно поцарапался, кровь, смешиваясь с морской водой, текла ручейками. Сестра кинулась на меня, повалила на траву и целовала ссадины, слизывая, как голодная кошечка, кровь и соль. Мы пребывали в эйфории, придумали тайный язык, позволявший нам, при матери и Моро, сообщать друг дружке о совершенно недвусмысленных желаниях. Это был возраст чистоты и невинности, прекрасный, счастливый. В наших маленьких, тонких, загорелых телах жила свобода; мы плавали, как морские котики, бегали по лесам, как лисы, голыми катались по пыльной земле, извиваясь и сливаясь воедино, ни мальчик, ни девочка, две сплетенные в клубок змейки.
По ночам у меня поднималась температура, я, завернувшись в одеяло, дрожал на верхнем ярусе кровати, над Томасом, меня заедали вши и мучили смутные видения из прошлого. Осенью, с началом учебного года, почти ничего не менялось. В разлуке мы с сестрой мечтали друг о друге и ждали момента, когда снова соединимся. У нас была обычная, открытая жизнь, как у всех остальных детей, и сокровенное, принадлежащее только нам двоим, огромное, шире, чем шар земной, пространство, которое ограничивало только наше воображение. С течением времени декорации менялись, но мелодия нашей любви по-прежнему звучала в прекрасном и неистово страстном ритме. На зимние каникулы Моро повез нас в горы, в те годы этот вид отдыха был редкостью. Отчим снял шале у одного русского аристократа, хозяин оборудовал в пристройке парную, никто из нас прежде ничего подобного не видел, но он объяснил, как ею пользоваться, и Моро просто влюбился в русскую баню. Ближе к вечеру, после катания на лыжах и санках или пешей прогулки, Моро потел в парной добрый час, но все же не решался выбежать на улицу и поваляться в снегу, как это делали мы, правда, мама заставляла нас закутываться с ног до головы в банные халаты. Сама она не любила парилку и даже не заходила туда. Но, оставшись дома вдвоем, днем, если родители шли в город, или вечером, если они спали, мы проникали в остывшую комнатку, скидывали одежду и наши тельца превращались в отражение друг друга. Иногда мы забирались в пустые встроенные шкафы под скатом большой крыши шале, где невозможно было встать в полный рост, и усаживались там или лежали, ласкаясь и обнимаясь, рабы друг друга и властелины мира.
Днем я пытался обрести шаткое равновесие, но лихорадка и диарея не давали мне покоя и отвлекали от действительности, хоть и тяжелой и полной страданий. Меня вдобавок мучила тупая боль в левом ухе, под кожей, внутри раковины. Я тер больное место мизинцем, но облегчения не наступало. Так, в прострации, завернувшись в грязную шубу, напевая под нос одну и ту же монотонную мелодию и вызывая в воображении картины прошлого, я проводил долгие унылые часы в кабинете. Ангел распахнул дверь, вошел, он принес горящие угли, выжигающие все грехи; но вместо того, чтобы коснуться моих губ, он запихнул мне угли в рот; и если я теперь оказывался на улице, то, вдыхая морозный воздух, горел заживо. Я удерживался на ногах, конечно, было не до смеха, но мой взгляд, я знаю точно, оставался невозмутимым, да, даже когда огонь опалял веки, проникал в ноздри и застилал глаза. Когда всполохи гасли, я видел вещи удивительные, неожиданные. На улице, чуть идущей под откос, по обочинам которой громоздились разбомбленные машины и грузовики, я заметил на тротуаре человека, опирающегося рукой о фонарный столб. Грязному, небритому солдату в лохмотьях, подвязанных веревочками и прихваченных булавками, до колена отрезало ногу, из свежей, открытой раны ручьем текла кровь; человек держал то ли консервную банку, то ли оловянный стаканчик под культей, собирал кровь и быстро выпивал ее, чтобы избежать чрезмерной кровопотери. Действия свои он выполнял методично и точно, ужас сжал мне горло. Я не врач и не имею права вмешиваться, – сказал я себе. К счастью, мы находились недалеко от театра, и я кинулся вдоль длинных темных тесных коридоров, крысы прыснули у меня из-под ног и поскакали прямо по раненым: «Доктор! Мне нужен доктор!» – кричал я; санитары провожали меня потухшим, усталым взглядом, никто не отвечал. Наконец я нашел доктора, тот, совершенно измотанный, сидел на табуретке возле печки, медленно пил чай и не сразу отреагировал на мою истерику, его раздражала моя настойчивость, но он все же пошел за мной. Безногий человек на улице уже упал. Он ослабевал с каждой минутой, но сохранял самообладание. На обрубке проступило что-то вроде беловатой пены, смешивавшейся с кровью и, наверное, с гноем; другая нога тоже кровоточила, казалось, вот-вот от нее отвалятся куски. Доктор опустился на колени и невозмутимо, профессионально принялся обрабатывать отвратительные раны; поведение доктора повергло меня в шок, даже не то, что он мог дотрагиваться до этих кошмарных язв, а то, что он не проявлял при этом ни жалости, ни отвращения; мне было дурно. Врач хлопотал над раненым, потом посмотрел на меня, и я понял, что он хотел сказать: солдат долго не протянет, вся помощь для виду, чтобы облегчить агонию и последние минуты ускользающей жизни. Все так и было, поверьте. Однажды Иван отвел меня в огромное здание, недалеко от линии фронта, на Республиканской улице, где прятался русский дезертир. Дезертира мы не нашли, я бродил по комнатам, жалея, что согласился пойти, и вдруг в коридоре раздался пронзительный детский смех. Я выскочил из квартиры – никого, но спустя мгновение на лестнице появилась целая орда девочек, диких, бесстыдных, хватали меня, проскальзывали у меня между ног, задирали юбки, показывали грязные задницы и вприпрыжку неслись на верхний этаж, а потом они гурьбой мчались со смехом вниз. Они напоминали маленьких жадных крыс, страдавших бешенством матки. Одна из них пристроилась на ступеньке на уровне моей головы и раздвинула ноги, демонстрируя гладкий лобок. Другая, подкравшись, укусила меня за палец, я схватил ее за волосы и дернул к себе, чтобы дать пощечину, но третья девочка сзади просунула мне руку между ног, а та, которую я держал, извивалась и наконец вырвалась и помчалась по коридору. Я попытался было ее догнать, но она исчезла. Я остановился, посмотрел на закрытые двери, потом сделал резкий прыжок, распахнул одну и тотчас отпрянул, чтобы не выпасть во двор: за дверью была пустота, я захлопнул створку за мгновение до того, как русские продырявили ее очередью из пулемета. Я бросился на пол, в проеме взорвалась противотанковая граната, меня оглушило и засыпало штукатуркой, обломками досок и старыми газетами. Я в панике пополз прочь и откатился в квартиру без двери на противоположной стороне коридора. Из первой комнаты я, пытаясь отдышаться, услышал звуки фортепиано; с автоматом наготове я прошел в спальню: внутри на неубранной постели лежал труп русского, и какой-то гауптман в шапке, закинув ногу на ногу, сидел на табуретке и слушал граммофон. Я не узнал мелодию и спросил, что это. Он дождался конца легкой пьески с навязчивой ритурнелью и, перевернув пластинку, прочел название: «Дакен, „Кукушка“». Потом покрутил ручку граммофона, достал другую пластинку из оранжевого бумажного конверта и опустил иглу. «Здесь уж вы не ошибетесь». Действительно, Моцарт, «Турецкое рондо», бравурность сочетается с романтической серьезностью, наверняка пианист – славянин. «Кто играет?» – поинтересовался я. «Рахманинов, композитор. Знаете?» – «Немного. Он, оказывается, еще и исполнитель». Гауптман протянул мне стопку конвертов. «Наш друг, видимо, был страстным меломаном, – он указал на кровать. – И, судя по подбору и количеству пластинок, в хороших отношениях с Партией». Я изучил этикетки – все на английском, пластинки привезены из Соединенных Штатов: Глюк, Скарлатти, Бах, Шопен в исполнении Рахманинова, его собственные пьесы. Записи были сделаны в первой половине двадцатых годов, но переизданы, судя по всему, недавно. В коллекции имелись и русские пластинки. Моцарт закончился, офицер поставил Глюка, фортепианную обработку отрывка из «Орфея и Эвридики» – нежная, пронзительно печальная музыка. Я подбородком кивнул на кровать: «Почему вы от него не избавитесь?» – «А зачем? Ему и здесь хорошо». Я дослушал пластинку и спросил гауптмана: «Скажите, вам тут не попадалась девчонка?» – «Нет, а что? Вам, что ли, нужна? Музыка гораздо лучше». Я развернулся и вышел. В коридоре я открыл следующую дверь, укусившая меня девочка, присев на корточки, писала на ковер. Она подняла на меня блестящие глаза, вытерла ладонью промежность и, прежде чем я успел среагировать, протиснулась между моих ног и с хохотом понеслась по лестнице. Я опустился в кресло и уставился на мокрое пятно, расплывшееся по ковру с цветами, я еще не очухался после взрыва, музыка болью отдавалась в нарывающем ухе. Я осторожно сунул палец в раковину, вытащил его и задумчиво вытер желтоватый гной об обивку. Потом высморкался в занавеску; тем хуже для девчонки, достанется ей по заслугам от кого-нибудь другого. Я отправился в подвал универмага к врачу, он подтвердил, что в ухе инфекция, худо-бедно вычистил его, наложил компресс, но больше ничем не мог мне помочь. Сейчас мне сложно сказать, какой это был день: я не уверен, началось ли уже на западе котла масштабное наступление русских; я перестал ориентироваться во времени и не помню всех деталей нашей коллективной агонии. Я стал плохо слышать, и, когда ко мне кто-то обращался, голос собеседника доносился словно издалека, из-под воды, я не всегда понимал, что мне хотят сказать. Томас, по-видимому, заметил, что я стремительно теряю почву под ногами, и прилагал усилия, чтобы я окончательно не заблудился на дороге, ведущей к безумию. Но он уже сам с трудом верил в смысл и важность происходящего. Он брал меня с собой, чтобы я отвлекался: кое у кого из офицеров разведки, которых мы посещали, еще оставались армянский коньяк или шнапс, и пока Томас разговаривал с ними, я пропускал стаканчик, погружался в себя и снова плутал в лабиринтах, наполненных гулом голосов. Однажды, возвращаясь с Томасом с прогулки, я заметил на углу улицы вход в метро, а я-то и не знал, что в Сталинграде есть метро! Почему мне не показали его на плане? Я потянул Томаса за рукав, тыча пальцем в направлении ступенек, терявшихся в темноте, и сказал: «Давай, Томас, взглянем на метро поближе». Он ответил мне ласково, но твердо: «Нет, Макс, не теперь, пойдем». Я настаивал: «Пожалуйста. Мне очень хочется посмотреть». Я канючил, ныл, во мне росла смутная тревога, меня непреодолимо влекло в ту дыру, в метро, но Томас категорически отказывался идти туда. Я уже готов был заплакать, как ребенок, которого лишают игрушки. И в этот момент рядом с нами разорвался артиллерийский снаряд, меня опрокинуло взрывной волной. Когда дым рассеялся, я сел, встряхнулся, отыскал глазами Томаса: он лежал на снегу, к его пальто, забрызганному кровью, прилепились комья земли, из живота вылезли дымящиеся кишки, похожие на длинных, склизких, гладких змей. Я в оторопи смотрел на Томаса, а он поднялся, как-то рывками, не координируя движения, словно ребенок, который только учится ходить, потом засунул в живот руку в перчатке, принялся выуживать и кидать в сугроб осколки шрапнели. Они были раскалены и прожигали перчатки, после каждого вытащенного куска Томас грустно обсасывал пальцы; железки, падая в снег, шипели и испускали маленькое облачко пара. Наверное, несколько последних застряли особенно глубоко, и, чтобы их достать, Томас залез в свои внутренности всей пятерней. Он, собирая кишки, аккуратно подтягивая их к себе и наматывая на руку, говорил мне с кривой ухмылкой: «Думаю, еще осталась пара штук, но слишком маленькие». Он запихнул обратно клубок внутренностей и прикрыл сверху дырку в животе лоскутами кожи. «Можешь одолжить мне шарф?», – спросил он; как истинный денди, Томас носил исключительно свитер с горлом. Я, мертвенно бледный, молча, протянул ему шарф. Томас заправил шарф под лохмотья формы, тщательно обернул им поясницу и завязал крепкий узел на животе. Потом обхватил свое творение рукой, встал на ноги, пошатываясь, оперся на мое плечо. «Черт, – пробормотал он, качнувшись, – однако, больно». Он приподнялся на цыпочки, несколько раз подпружинил и даже рискнул подпрыгнуть. «Ладно, вроде держится». Со всем достоинством, возможным при подобных обстоятельствах, Томас подобрал края разорванной формы и прижал к ране. Липкая кровь более или менее прочно склеила их. «Ну, тут уж больше ничего не предпримешь. Иголку с ниткой сейчас не сыскать, конечно». Томас хрипло рассмеялся, но тут же лицо его исказилось от боли. «Вот свинство, – вздохнул он, потом, взглянув на меня, прибавил, – Бог мой, да ты позеленел».
Я больше не упрашивал, чтобы мы поехали на метро, проводил Томаса в Универмаг и ждал, чем все закончится. Русские при наступлении на западе котла сильно потеснили наши позиции. Через несколько дней мы эвакуировали «Питомник», при этом из-за жуткого, не поддающегося описанию бардака тысячи раненых остались в ледяной степи; к городу стекались войска, даже Генштаб в Гумраке готовился к отъезду. Вермахт выгнал нас из бункера универмага и временно переселил в бывшее здание НКВД, прежде красивое, с огромным стеклянным куполом, теперь, естественно, разбитым вдребезги, и полом из шлифованного гранита. Подвалы там уже были заняты санитарной частью, и нам пришлось довольствоваться разрушенными кабинетами на первом этаже, да и за них-то пришлось бороться со штабом Зейдлица (так в отеле все хотят проживать в номерах с видом на море). Но вся эта суета совершенно меня не трогала, последние события я воспринимал с полным безразличием, потому что в руки мне случайно попала совершено потрясающая вещь – томик Софокла. Его разодрали надвое, наверное, хотели поделить, и, к сожалению, издание было переводное, но включало мою любимую «Электру». Я блаженствовал, погрузившись в стихи, забыв о приступах лихорадки, сотрясавших мое тело, и о гное, сочившемся из-под компресса. В интернате, куда меня заточила мать, я, спасаясь от царящих вокруг тупости и грубости, с головой ушел в учебу. Особенно мне нравился греческий, во многом благодаря нашему преподавателю, молодому священнику, о котором я уже говорил. Мне тогда еще не исполнилось пятнадцати, но я часами торчал в библиотеке, терпеливо и увлеченно, строчку за строчкой разбирая «Илиаду». В конце учебного года наш класс организовал постановку трагедии, как раз «Электры», приспособив для этого спортивный зал. Меня выбрали на главную роль. На мне было белое платье, сандалии и парик с черными кудрями, взглянув на себя в зеркало, я увидел в нем Уну и едва не лишился чувств. Мы уже почти год были в разлуке. На сцене я полностью отдался ненависти и любви, ощущал себя юной девой, ничего не замечал и не слышал. Когда я простонал: «Меня с собою, брат мой, погубил ты», слезы полились из моих глаз. Появился Орест, одержимый Эриниями, и я кричал, ободрял Ореста и толкал его на убийство, на этом прекрасном, возвышенном языке: «Коль ты силен, еще раз!», «Тотчас убей, убитого же тело могильщикам достойным предоставь от взора нашего подальше» [38]. Когда представление завершилось, я не слышал ни аплодисментов, ни поздравлений отца Лабури, я рыдал: резню во дворце Атридов я воспринимал как кровопролитие в моем собственном доме.
Томас, оправившись после того несчастного случая, журил меня по-приятельски, но я не обращал на это внимания. Чтобы подшутить над ним, я, оторвавшись от Софокла, процитировал Жозефа де Местра: «Что есть проигранная битва? Это битва, которую считают проигранной». Томас обрадовался и приказал написать изречение на плакате, который потом повесили в коридоре: похоже, мой друг даже получил похвалу от Мёрица, и афоризм дошел до самого генерала Шмидта, тот даже вознамерился сделать его девизом для армии, но, по слухам, Паулюс возражал. По обоюдному согласию ни я, ни Томас больше не заикались об эвакуации; хотя все знали, что это вопрос ближайших дней, и избранные счастливцы вермахта уже уезжали. Я погрузился в апатию; лишь навязчивый страх заразиться тифом заставлял меня иногда шевелиться, я не удовлетворялся тщательным осмотром глаз и губ и раздевался, пытаясь отыскать черные пятна на теле. Диарея меня больше вообще не волновала, наоборот, присаживаясь на вонючие унитазы, я даже обретал некое спокойствие, я бы с удовольствием, как раньше в детстве, закрылся в туалете с книжкой на пару часов, но поскольку не было ни света, ни двери, мне оставалась только сигарета из последних запасов. Температура теперь почти не спадала, я чувствовал себя, как в теплом коконе, внутри которого мог притаиться, свернувшись, и еще я пребывал в безумном упоении от собственной нечистоты, пота, иссохшей кожи, воспаленных век. Я неделями не брился, и редкая рыжеватая бородка отлично соответствовала сладостному ощущению грязи и неопрятности. Больное ухо гноилось, порой в нем словно гудел колокол или выла далекая сирена, а порой я вообще ничего не слышал. После захвата «Питомника» на несколько дней наступило затишье; потом где-то с двадцатого января методическое уничтожение котла возобновилось (эти даты я восстановил по книгам, а не по памяти, потому что календарь превратился для меня в абстрактное понятие, непрочное воспоминание о прошлой жизни). После короткого потепления в начале года столбики термометров стремительно упали ниже 25 или 30 градусов. Слабого огня, который зажигали в пустых баках из-под горючего, не хватало для обогрева раненых; в городе солдаты оборачивали член тряпкой, чтобы помочиться, вонючий кулек бережно хранили в кармане; а другие пользовались случаем и подставляли опухшие обмороженные руки под теплую струю. Такого рода подробности мне сообщали наши вяло функционирующие армейские механизмы; я тоже, как сомнамбула, читал, классифицировал рапорты и присваивал им номера; но уже некоторое время сам ничего не писал. Когда Мёрицу требовалась информация, я наугад вытаскивал один из докладов абвера и отсылал ему. Наверное, Томас объяснил Мёрицу, что я болен: тот подозрительно смотрел на меня, но молчал. Кстати о Томасе, он так и не вернул мне шарф, и теперь на улице у меня мерзло горло: но я выходил, не мог терпеть душную вонь помещений. Меня занимало быстрое выздоровление Томаса: он хорошо выглядел, и когда я, вопросительно приподняв брови и кося глазами на его живот, поинтересовался: «Ну, как, все в порядке?» Он очень удивился и ответил: «Да, отлично, а с чего бы было плохо?» Меня лихорадило постоянно, и раны не заживали, вот бы узнать секрет Томаса. Числа двадцатого-двадцать первого я вышел во двор покурить, Томас ко мне присоединился. День был ясный, морозный; солнце рвалось сквозь пробоины фасадов, отражалось на сухом снегу, вспыхивало, ослепляло, а там, куда лучи не проникали, лежали свинцовые тени. «Ты слышишь?» – спросил Томас, но я не слышал, в ухе звенело. «Иди сюда». Он потянул меня за рукав. Мы обогнули дом, и нашим глазам предстало неожиданное зрелище: несколько солдат, закутавшись в шинели и одеяла, стояли у пианино прямо посреди улицы. Солдат, примостившись на низеньком стульчике, играл, другие внимательно слушали, странно, но до меня не доносилось ни звука, я очень огорчился: ведь я тоже хотел наслаждаться музыкой и имел на это право, как и все остальные. К нам направлялись украинцы: я узнал Ивана, который приветствовал меня взмахом руки. Боль в ухе не давала мне покоя, я почти ничего не слышал: голос Томаса, находившегося рядом со мной, звучал невнятным бульканьем. Мне казалось, что жизнь превратилась в немое кино, жуткое и гнетущее. Я в отчаянии сорвал компресс и сунул мизинец в ушной проход, поток гноя хлынул мне в ладонь и потек по воротнику шубы. Наступило небольшое облегчение, но слух так и не вернулся; если я поворачивал ухо в направлении пианино, мне казалось, что я слышу шум воды; со вторым ухом дела обстояли не лучше; в отчаянии я отвернулся и медленно пошел прочь. Солнце светило так ярко, что на разрушенных фасадах прорисовывались мельчайшие детали. Почувствовав, что у меня за спиной началась суматоха, я обернулся. Томас и Иван энергично махали мне, солдаты глядели на меня изумленно. Не понимая, чего они хотят, и смущенный общим вниманием, я махнул им рукой и продолжил путь. Что-то легонько ударило меня в лоб – камушек или насекомое, я пощупал ушиб, на пальце показалась капелька крови. Я вытер ее и зашагал в сторону реки, в уверенности, что она где-то близко. В этом секторе наши войска, я знал, удерживали берег; до сих пор я не видел знаменитой Волги и теперь был полон решимости хоть раз до отъезда из города полюбоваться ею. В перевернутом вверх дном городе, среди тихих опустевших развалин, освещенных холодным январским солнцем, еле угадывались улицы; вокруг было очень спокойно, я наслаждался; впрочем, даже если бы и стреляли, я бы не услышал. Морозный воздух бодрил. Гной больше не сочился, это вселяло надежду, что мне удалось уничтожить очаг инфекции; я был в хорошем настроении и полон сил. За последними домами пролегала заброшенная железная дорога, рельсы которой уже точила ржавчина. Дальше простиралась огромная белая река, скованная льдами, а еще дальше берег, который мы так и не сумели занять, ровный, тоже белый и словно необитаемый. В окрестностях – ни души, я не заметил ни окопов, ни огневых точек, линия фронта, наверное, располагалась выше. Я сбежал по крутому песчаному склону и очутился у реки. Сначала нерешительно, потом более уверенно ступил на припорошенный снегом лед, сделал шаг – теперь я шел по Волге и радовался, как ребенок. От легкого ветерка взвивались надо льдом снежинки и, поблескивая на солнце, плясали у моих ног, словно блуждающие огоньки. Передо мной во льду зияла темная, довольно широкая дыра, наверняка сюда упал снаряд крупного калибра; в ней струилась зеленоватая от солнца вода, свежая, манящая; я наклонился и намочил руку, вода была нехолодная. Я зачерпнул пригоршню, вымыл лицо, ухо, затылок, потом сделал несколько глотков. Снял шубу, аккуратно свернул ее, положил вместе с каской на лед, потом, глубоко вдохнув, нырнул. Вода, светлая, ласковая, по-матерински согревала меня. Быстрое течение создавало водовороты, и скоро меня затащило под лед. Что только не проплывало рядом со мной в полупрозрачной зеленой воде: лошади, ноги которых течение приводило в движение так, что, казалось, они скачут; огромные, почти плоские рыбы-падальщицы; завернутые в странные коричневые плащ-палатки трупы русских с раздутыми лицами; лохмотья одежды и формы; дырявые знамена, развевающиеся на древке; колесо от машины, вероятно пропитанное маслом. Меня толкнуло чье-то тело и продолжило путь; на солдате была немецкая форма; пока он удалялся, я успел разглядеть и лицо, и светлые танцующие кудри, это был улыбающийся Фосс. Я попытался его поймать, но меня отнесло течением, а когда я выплыл, Фосс уже исчез. Лед образовывал надо мной матовый потолок, но воздух в легких не кончался, и я спокойно двигался дальше мимо затопленных барж, где сидели в ряд красивые молодые мужчины, так и не выпустившие винтовки из рук, в их колышущихся волосах сновали мелкие рыбешки. Впереди вода медленно светлела, зеленые столпы опускались в лунки во льду, разрастались в лес, а потом, по мере того как лед утолщался, сливались друг с другом. Я всплыл, чтобы набрать воздуха. Меня задела льдина, я погрузился обратно, проплыл немного и опять поднялся на поверхность. Здесь лед на реке не вскрылся. Вверх по течению, слева от меня, по волнам на боку плыло догоравшее русское судно. Несмотря на солнце, с неба падали большие сверкающие снежные хлопья и тотчас таяли на воде. Я, помогая себе руками, развернулся: город, вытянувшийся вдоль берега, скрыла плотная завеса черного дыма. Над головой, истошно крича, кружили чайки и посматривали на меня с удивлением, а может, уже караулили жертву, потом они отлетели в сторону и устроились на ледяной глыбе – интересно, неужели они добрались сюда из Астрахани? У самой воды суетились воробьи. Я медленно поплыл к левому берегу. Наконец почувствовал дно и вышел на сушу. Эту сторону реки покрывал мелкий песок, образовывавший невысокие дюны, дальше за ними простиралась равнина. По логике вещей я должен был оказаться у Красной Слободы, но кругом было пусто: ни артиллерийских орудий, ни окопов, ни деревень, ни солдат. Жалкие деревца торчали на верхушках дюн или на спуске к Волге, несшейся бурным потоком за моей спиной; где-то запела коноплянка, уж проскользнул у меня между ступней и зарылся в песок. Я карабкался по дюнам и изучал местность: передо мной раскинулась почти голая степь, земля пепельного цвета, припорошенная снегом, то там, то сям островки густой, коричневой, низкой травы и пучки полыни; на юге горизонт загораживала стена тополей, наверняка высаженная вдоль оросительного канала; больше я ничего не видел. Я пошарил в кармане кителя, достал пачку, но сигареты отсырели. Намокшая одежда липла к телу, но я не мерз, воздух был теплый и мягкий. Я вдруг ощутил усталость (все-таки плыл я долго), упал на колени и принялся рыть пальцами сухую землю, схваченную морозом. Наконец мне удалось выкопать несколько комьев, и я жадно сунул их в рот. Вкус был немного острый, минеральный, но земля, смешанная со слюной, насыщала, словно я был растением, давала жизнь моим волокнам и несла мне печаль; как мне хотелось, чтобы земля стала мягкой, теплой, жирной и таяла у меня во рту, чтобы я мог улечься в могилу, схорониться в ней! У кавказских горцев существует странный погребальный обряд: они роют вертикальную яму глубиной в два метра, затем в ней под углом выкапывают нишу, туда набок, лицом к Мекке, кладут мертвеца – без гроба, в одном саване. Потом нишу замуровывают кирпичом или, если семья бедная, досками; яму засыпают, а из оставшейся земли сооружают продолговатый холмик: иными словами, тело находится не в самой могиле, а рядом. Вот, подумал я, когда мне рассказали об этом обычае, именно в такой могиле я бы хотел упокоиться. Но сейчас у меня не было ни помощника, чтобы рыть, ни лопаты, ни даже ножа: и, примерно определив направление восхода, я двинулся в путь. Я шел по равнине, огромной, безлюдной – ни живых на земле, ни мертвых под землей; долго шел под выцветшим небом, сколько часов, неизвестно (мои часы, как у всех в вермахте показывавшие берлинское время, не выдержали купания, и стрелки теперь навечно замерли на одиннадцати сорока семи). То тут, то там мелькали алые маки, единственные яркие точки в унылом пейзаже, но когда я сорвал один цветок, он посерел и рассыпался горсткой пепла. Вдруг вдалеке замаячило что-то непонятное. Приблизившись, я с удивлением констатировал, что это длинный белый дирижабль, парящий над огромным курганом. По склону кургана прогуливались какие-то люди: трое из них отделились от группы и заспешили ко мне. Когда они подошли достаточно близко, я увидел, что поверх костюмов у них надеты белые блузы с немного старомодными стоячими воротничками и черными галстуками, а один вдобавок напялил шляпу-котелок. «Добрый день, господа», – поздоровался я вежливо. «Здравствуйте, мсье», – ответил мне по-французски человек в шляпе. И еще спросил, что мне здесь надо, я на том же языке, как мог, объяснил ситуацию. Двое других покачали головами. Когда я замолчал, человек в шляпе предложил: «В таком случае вам надо пойти с нами, доктор захочет с вами побеседовать». – «Если пожелаете. А что за доктор?» – «Доктор Сардина, начальник нашей экспедиции». Они подвели меня к подножию кургана; три толстых каната удерживали дирижабль, который колыхался от легкого бриза в пятидесяти метрах над нашими головами, под длинным массивным овалом цеппелина висела двухъярусная металлическая лодка. Еще один тонкий кабель служил, видимо, для телефонной связи; мой провожатый что-то быстро сообщил в трубку, лежавшую на складном столике. Люди на кургане копали, измеряли глубину, делали расчеты. Я снова задрал голову: из лодки медленно, покачиваясь на ветру, опускалась корзина. У самой земли ее ухватили и привели в равновесие двое мужчин. Корзина была большая, из ивовых прутьев и круглых жестких креплений; человек в котелке открыл дверцу и знаком велел мне садиться, после чего сам присоединился ко мне. Трос потянули вверх, корзина тяжелыми рывками отделилась от земли; ее почти не болтало, но у меня все-таки началась морская болезнь, и я вцепился в борт; мой спутник лишь придерживал рукой шляпу. Я смотрел на степь: куда ни кинуть взгляд, ни деревца, ни дома, только на самом горизонте выступала какая-то шишка, очередной курган, вероятно.
Корзина через люк въехала внутрь лодки, в зал; оттуда я с сопровождающим поднялся по винтовой лестнице, а потом спустился по длинному коридору. Все здесь было из алюминия, олова, латуни и прочного полированного дерева: очень красивая машина, честное слово. Человек в котелке остановился у обитой тканью двери и нажал на маленькую кнопку. Дверь открылась, он жестом велел мне войти, а сам остался снаружи.
Я очутился в просторной комнате с окном по периметру и скамьей под ним, из мебели тут были этажерки и в центре прямоугольный стол, заваленный всякой всячиной: книги, карты, глобусы, чучела животных, макеты фантастических аппаратов, астрономические, оптические, навигационные приборы. Между этими предметами тихонько ступала кошка с глазами разного цвета. У края стола скорчился на стуле маленький человечек в белой блузе; он крутанулся на сиденье в мою сторону. Его откинутые назад волосы с проседью мне показались грязными и спутанными; пряди придерживали очки в крупной оправе, сдвинутые на лоб. На его плохо выбритом одутловатом лице застыло злобное, неприятное выражение. «Входите! Входите…» – просипел он. Указал на скамью: «Садитесь». Я обогнул стол и сел, скрестив ноги. Человечек брызгал слюной, когда говорил; к его блузе прилипли остатки еды. «Вы так молоды!..» – воскликнул он. Я чуть повернул голову и через окно посмотрел на голую степь, потом снова на человечка: «Я – гауптштурмфюрер доктор Максимилиан Ауэ, к вашим услугам», – представился я, вежливо поклонившись. «А! – каркнул он. – Доктор! Доктор! Доктор чего?» – «Доктор права, мсье». – «Адвокат!» – он спрыгнул со стула. «Адвокат! Гнусное отродье… проклятое! Вы хуже евреев! Хуже ростовщиков! Хуже роялистов!..» – «Я не адвокат, мсье. Я юрист, эксперт по конституционному праву и офицер СС». Он вдруг успокоился и, подпрыгнув, снова уселся на стул: коротенькие ножки болтались в нескольких сантиметрах от пола. «Немногим лучше…» Он задумался. «Я тоже доктор. Но… в одной очень полезной области. Сардина, я – Сардина, доктор Сардина». – «Очень приятно, доктор». – «А вот мне пока не очень. Что вы здесь делаете?» – «В вашем аэростате? Ваши коллеги пригласили меня». – «Пригласили… пригласили… замечательное слово. Особенно для этого региона». – «Хорошо, я просто гулял». – «Вы гуляли… скажите пожалуйста! С какой целью?» – «Сам не знаю, куда я шел и зачем. Честно говоря, я немного заблудился». Он, обеими руками ухватившись за подлокотники, нагнулся вперед и спросил недоверчиво: «Вы уверены?.. У вас действительно не было определенной цели?» – «Поверьте, нет…» Он заворчал: «Поверьте, поверьте… а не выискиваете ли вы что-нибудь… уж не за мной ли… следите?! Не подосланы ли моими завистливыми конкурентами?!» Он сам себя распалял. «Каким образом вы сумели нас найти?» – «На равнине ваш летательный аппарат видно издалека». Но человечек не унимался: «А вы случайно не шпион Финкельштейна?.. Или Красшильда? Завистливые жиды… надутые тщеславием… подхалимы! Лизоблюды! Чистильщики ботинок! Фальсификаторы дипломов и результатов…» – «Разрешите вам заметить, доктор, вы, вероятно, не слишком часто читаете газеты. Иначе вы бы знали, что немец, да к тому же офицер СС, вряд ли поступит на службу к евреям. Я не знаком с господами, которых вы упомянули, но если бы я с ними встретился, то моим долгом в первую очередь было бы их арестовать». – «Да… да… – согласился он и потер нижнюю губу, – возможно, так и есть…» Он порылся в кармане блузы и вынул небольшой кожаный кисет; желтыми от никотина пальцами выудил щепотку табака и принялся скручивать папиросу. Поскольку он, похоже, не собирался меня угощать, я достал свою пачку: сигареты высохли, я покатал в пальцах, помял одну, и получилось то, что надо. Спички же совершенно размокли; я покосился на стол, но коробка среди хлама не увидел. «Не дадите огня, доктор?» – попросил я. «Один момент, молодой человек, один момент…» Он закончил возиться с сигаретой, взял со стола довольно большой оловянный куб, сунул сигарету в отверстие и нажал на кнопочку. Подождал. Через несколько минут, показавшихся мне довольно долгими, раздалось коротенькое «щелк»; человечек вытащил зажженную сигарету, затянулся и выдохнул маленькие облачка дыма: «Изобретательно, да?» – «Очень, но, по-моему, немного медленно». – «Сопротивление мешает нагреву. Дайте вашу сигарету». Он повторил операцию, попыхивая сигаретой; теперь щелк послышался быстрее. «Единственный мой грех… – пробормотал он, – единственный! С остальным… покончено! Алкоголь… яд! Не говоря о половых связях… О, эти самки жадные! Размалеванные! Сифилитички! Высасывающие гений мужчины… кромсающие его душу!.. А уж о вечной опасности оплодотворения и говорить нечего… Чтобы ты ни предпринимал, его не избежать, самки всегда подсуетятся… вот мерзость! Упрямые, вертлявые уродки! Шлюхи еврейские, готовые нанести смертельные удар! Течка! Запахи! И так круглый год! Долг ученого – повернуться к ним спиной. Заковать себя в непроницаемый панцирь равнодушия… воли… Noli me tangere [39]». Он стряхивал пепел прямо на пол, я последовал его примеру. Белая кошка потерлась лбом о секстант. Внезапно Сардина опустил очки на нос и уставился на меня: «Вы тоже ищете край света?» – «Что, извините?» – «Край света! Край света! Не притворяйтесь наивным. Что еще могло вас привести сюда?» – «Я не знаю, о чем вы говорите, доктор». Лицо его исказилось, он соскочил со стула, обежал стол, схватил какой-то предмет и запустил мне в голову. Я его еле поймал. Это был конус на подставке, раскрашенный, как глобус, в верхней части располагались континенты, внизу на плоском сером основании стояла надпись: TERRA INCOGNITA [40]. «Ну, будете утверждать, что никогда не видели ничего подобного?» Сардина вернулся на место, скрутил вторую папиросу. «Никогда, – подтвердил я. – Что это?» – «Земля! Болван! Лицемер! Предатель!» – «Мне, правда, жаль, доктор. В школе меня учили, что земля круглая». Человечек страшно зарычал: «Вздор! Бредни!.. Средневековые, изжившие себя теории… Суеверие! Вот! – заорал он, тыча папиросой в конус, который я до сих пор держал в руках. – Вот истина! И я вам докажу! Сейчас мы движемся к Краю». Действительно, я почувствовал, что кабина слегка вибрирует. Я выглянул в окно: дирижабль поднял якорь и постепенно набирал высоту. «А когда мы там окажемся, – осторожно поинтересовался я, – ваш аппарат перелетит через Край?» – «Не прикидывайтесь! Тугодум, а еще считаетесь образованным человеком… Раскиньте мозгами! Дураку ясно, что за Краем нет гравитационного поля! Иначе мы бы уже давным-давно доказали то, что и так не вызывает сомнений!» – «Но как же в таком случае вы будете действовать?..» – «В том-то вся сила моего гения, – лукаво прищурился он. – Дирижабль содержит еще один аппарат». Он встал, подвинул ко мне стул: «Я объясню. Все равно вы теперь останетесь с нами. Вы, Неверующий, превратитесь в Свидетеля. На Краю света мы приземлимся, сдуем шар, здесь над нами находится специальное отверстие, потом сложим и уберем шар в предназначенный для этих целей отсек. Снизу выпустим гнущиеся, подвижные лапы (всего их восемь), заканчивающиеся мощными клешнями. – Он, сжимая и разжимая пальцы, норовил показать, как работают клешни. – Эти клешни способны цепляться за любую поверхность. И благодаря им мы пройдем по Краю света как насекомое, как паук. Но пройдем! Есть чем гордиться… Вы только вообразите! Трудности… военное время… и построить такой аппарат?.. А сделки с оккупантами?.. С вьючными ослами из Виши, опившимися минеральной водой?.. С заговорщиками… Всей этой баландой, приправленной кретинами, микроцефалами, карьеристами? И с евреями! Да, мсье немецкий офицер, даже с евреями! У человека науки не должно быть угрызений совести… Он, если нужно, и с дьяволом контракт заключит». Где-то внутри аэростата завыла сирена. Человечек вскочил: «Мне надо идти. Ждите меня здесь». В дверях он повернулся: «Ни до чего не дотрагивайтесь!» Я остался в одиночестве, поднялся со стула, сделал несколько шагов по комнате. Протянул руку, чтобы погладить кошку с разноцветными глазами, но та ощетинилась и зашипела. Я еще раз изучил все предметы на длинном столе, кое-какие повертел в руках, полистал книгу, потом встал коленями на скамью, чтобы полюбоваться пейзажем. Река, пересекавшая степь, чуть извивалась и блестела на солнце. Мне померещилась какая-то точка, движущаяся по волнам. В глубине комнаты у окна стояла подзорная труба на треножнике. Я припал к ней глазом, покрутил колесико, чтобы отрегулировать резкость, и начал искать реку; определив ее местоположение, я стал вести прибор по течению, чтобы засечь ту точку. Это же лодка, но фигуры не различить. Я получше настроил фокус. В центре лодки сидела обнаженная девушка с цветами в волосах, впереди и сзади гребли два отвратительных существа с человеческими туловищами и тоже голые. Волосы у девушки были черные, длинные. Сердце у меня учащенно забилось, я пытался рассмотреть ее лицо, но черты расплывались. Мало-помалу во мне окрепла уверенность: девушка – Уна, моя сестра. Куда же она направляется? За ней следовали другие лодки, украшенные цветочными гирляндами, все это напоминало свадебную процессию. Мне необходимо встретиться с ней. Но как? Я бросился вон из кабины, побежал через ступеньку вниз по винтовой лестнице: в помещении для корзины находился караульный. «Доктор? – выдохнул я. – Где он? Мне надо к нему». Мужчина сделал знак следовать за ним, привел меня в носовую часть корабля и впустил в контрольный отсек, где у большого круглого окна суетились люди в белых блузах. Сардина восседал в кресле на возвышении перед панелью приборов. «Что вы хотите?» – грубо спросил он меня. «Доктор… я должен покинуть корабль. Вопрос жизни и смерти». – «Невозможно! – заверещал он. – Невозможно! Я понял. Вы – шпион! Агент!» Он обратился к караульному: «Арестуйте его! Закуйте в кандалы!» Охранник схватил меня за руку; недолго думая, я ударил его в подбородок и прыгнул к двери. Несколько человек кинулись за мной, но проем был слишком узкий, чтобы все разом в него протиснулись, это их задержало. Я понесся по винтовой лестнице уже через три ступеньки и притаился наверху: вскоре передо мной появилась первая голова, того человека в котелке, я пнул его ногой и опрокинул назад, он кубарем, со страшным грохотом, покатился по ступеням, увлекая за собой остальных. Я слышал вопли Сардины. Я наугад дернул дверь: зал с картами, кабины, столовая. В конце коридора я наткнулся на комнатушку с лестницей; люк, вероятно, для ремонтных работ, выходил из фюзеляжа на поверхность летательного аппарата; в комнатушке еще были металлические шкафы, я распахнул один, там висели парашюты. Мои преследователи приближались; я быстро надел парашют и стал взбираться по лестнице. Люк открылся легко: наверх через корпус дирижабля вел огромный вертикальный цилиндр, на крестообразные скобы которого был натянут брезент. Рассеянный свет пробивался сквозь ткань, а внутри на одинаковом расстоянии друг от друга висели лампочки; через иллюминаторы из прозрачной резины я разглядел баллонеты с водородом. Я полез дальше. Шахта, закрепленная прочной арматурой, была выше двенадцати метров, я быстро запыхался. В какой-то момент я обернулся: из люка уже показался котелок, потом туловище. За мной, размахивая пистолетом, карабкался человек. Он не стрелял из опасения повредить баллонеты. За ним виднелись и другие преследователи, но двигались они так же медленно, как я. Через каждые четыре метра в шахте имелась площадка для отдыха, но я не мог терять ни минуты и, уже в полном изнеможении, преодолевал ступень за ступенью. В отчаянии я больше не поднимал глаз, мне казалось, что эта длиннющая лестница никогда не кончится, но вот я уперся в люк на самом верху. Подо мной раздавалось металлическое бряцание, люди в котелках не отставали. Я крутанул ручку люка, рванул его и высунулся: холодный ветер ударил в лицо. Это была верхняя точка гигантского жесткого дирижабля. Я выбрался из шахты, выпрямился в полный рост; увы, у меня не было никакой возможности закрыть люк снаружи. Аэростат вибрировал, из-за этого и из-за сильного ветра я с трудом удерживал равновесие. Шатаясь из стороны в сторону, я направился в хвостовую часть, на ходу проверяя, хорошо ли зафиксирован парашют. В отверстии люка появился котелок, я бросился бежать; прочная эластичная ткань корпуса пружинила под ногами; грохнул выстрел, пуля просвистела мимо уха; я споткнулся, покатился, но вместо того чтобы попытаться встать, решил: будь что будет. Второй выстрел. Скат становился все круче и круче, я скользил все быстрее, стараясь вытягивать ноги вперед, а потом, приняв уже почти вертикальное положение, упал в пустоту, болтая руками и ногами в потоках ветра, как марионетка. Передо мной стеной вырастала коричнево-серая степь. Я ни разу не прыгал с парашютом, но знал, что надо потянуть стропы; мне стоило больших усилий прижать руки к бокам, я нащупал кольцо и дернул; рывок был такой резкий, что заломило затылок. Теперь я спускался гораздо медленнее, ногами вниз; я ухватился за ремень и задрал голову; белый купол закрывал небо и прятал от меня дирижабль. Я поискал реку: она должна протекать в нескольких километрах. Лодки блестели на солнце, и я в уме прикинул, за какое время можно их догнать. Земля приближалась, я сдвинул ноги, мне было очень страшно. Потом я почувствовал сильный толчок, сотрясший все мое тело, я запнулся, парашют, надуваемый ветром, тащил меня за собой, наконец мне удалось затормозить и встать. Я отстегнул ремни и снял парашют, который покатился по земле. Посмотрел на небо: дирижабль спокойно удалялся. Я сориентировался и потрусил к реке.
Дирижабль исчез. Почему-то мне чудилось, что степь поднимается: я утомился, спотыкался о пучки сухой травы, но заставлял себя идти вперед. До реки я добрался на последнем издыхании и тут только понял, что нахожусь на вершине отвесной скалы примерно в двадцати метрах над берегом; внизу потоки воды закручивались в быстрые водовороты; прыгать нельзя, сойти тоже нельзя. Надо было мне приземляться на другом берегу, почти ровном, с удобным спуском к воде. Слева от меня, выше по течению, двигалась процессия. За резной гондолой, которая везла мою сестру, следовали музыканты с гирляндами на шеях и играли на флейтах, струнных инструментах и барабанах пронзительную праздничную мелодию. Сестра была выше тех двух существ, что гребли, и я отлично ее видел; она сидела по-турецки, прикрыв грудь длинными волосами. Я сложил руки рупором и несколько раз выкрикнул ее имя. Она вскинула голову, молча, равнодушно посмотрела на меня и не отводила взгляда, пока лодка медленно скользила мимо; я орал, как сумасшедший, звал ее, но она не реагировала, а потом и вовсе отвернулась. Процессия неспешно удалялась, меня охватило отчаяние. Я хотел броситься вдогонку, и вдруг у меня прихватило живот; я лихорадочно стянул брюки, но вместо дерьма из моей задницы выползали живые пчелы, пауки и скорпионы. Анус жгло огнем, но я понимал, что необходимо избавиться от насекомых, и продолжал тужиться, пауки и скорпионы разбегались, пчелы взлетали, я стискивал зубы, чтобы не выть от боли. Вдруг послышался какой-то шорох, я обернулся: мальчики-близнецы, похожие как две капли воды, молча таращились на меня. Откуда они взялись, черт возьми? Я вскочил, оделся, но они уже уходили. Я окликнул близнецов, кинулся за ними, однако догнать не смог и долго еще их преследовал.
В степи оказался еще один курган. Мальчики взобрались на него и спустились с другой стороны. Я обежал холм кругом, но дети исчезли. «Где вы, мальчики?» – кричал я. Внезапно я осознал, что потерял из виду реку и даже с высоты кургана не могу определить, где она; солнце заволокло серыми тучами, сориентироваться не удавалось; я, как идиот, дал себя отвлечь! Надо срочно найти мальчиков. Я еще раз обежал курган и приметил углубление: на ощупь обнаружил в нем дверь, постучал, дверь распахнулась, я вошел, передо мной был длинный коридор с еще одной дверью в самом конце. Я еще раз постучал, и меня впустили. Теперь я очутился в просторном, освещенном масляными лампами зале с высоченными сводами – снаружи курган не казался мне таким огромным. В глубине зала стояла кровать с балдахином, пузатый карлик играл в какую-то игру среди ковров и подушек; рядом нес караул тощий великан с черной треугольной повязкой на глазу; сморщенная старуха в платке что-то мешала в большом, украшенном орнаментом котле, подвешенном в углу к потолку. Дети словно испарились. «Здравствуйте, – вежливо сказал я. – Вы не видели случайно двух мальчиков?» Потом уточнил: «Близнецов». – «А! – воскликнул карлик. – Посетитель! Ты умеешь играть в нарды?» Я подошел к кровати и увидел, что он разыгрывает партию в триктрак, правая рука против левой: каждая по очереди бросала кости и двигала красные и белые фишки. «Я вообще-то ищу свою сестру, – признался я. – Очень красивую девушку с темными волосами. Она плывет в лодке». Карлик, не прекращая игры, взглянул на кривого, потом обратился ко мне: «Ее везут сюда. Мы с братом женимся на ней. Надеюсь, она так же красива, как об этом говорят». Он сладострастно осклабился и быстро сунул руку в штаны. «Если ты ее брат, нам ты будешь шурин. Садись и выпей чаю». Я, скрестив ноги, присел на подушку напротив доски с нардами; старуха принесла мне чашку вкусного горячего чая, и не эрзаца, а настоящего, который я с удовольствием выпил. «По мне бы лучше, если вы не женитесь на ней», – сказал я наконец. Карлик продолжал играть. «Не хочешь нашей свадьбы, сыграй со мной. Никто не соглашается сыграть со мной». – «Почему же?» – «Из-за моих условий». – «Каких условий? – любезно поинтересовался я. – Объясните, я ведь их не знаю». – «Если я выиграю, я тебя убью, и если проиграю, убью». – «Ладно, без разницы, играем». Я наблюдал, что делает карлик, на триктрак это не было похоже. В начале партии фишки располагали на краю доски, вместо того, чтобы класть их столбиками по две, три и пять; съесть фишку противника нельзя, передвинуть на место, которое та занимает, тоже нельзя. «Это не по правилам триктрака», – возразил я. «Слушай-ка, парень, ты уже не в Мюнхене». – «Я не из Мюнхена». – «Ну, из Берлина. Мы играем в нарды». Я опять стал присматриваться: основной принцип понять вроде несложно, но наверняка имелся какой-то подвох. «Хорошо, давай сыграем». Действительно, все оказалось сложнее, чем на первый взгляд, но я скоро разобрался и выиграл партию. Карлик вскочил, вынул длинный нож и сказал: «Сейчас я тебя убью». – «Успокойтесь. Если бы я проиграл, вы бы могли меня убить, но я выиграл, зачем же вам меня убивать?» Он поразмыслил и снова сел: «Ты прав. Сыграем еще». Карлик победил. «Что скажешь? Я тебя точно убью». – «Я промолчу, я проиграл, убейте меня. Но не кажется ли вам, что надо разыграть третью партию, чтобы мы были квиты?» – «Ты прав». На этот раз я опять выиграл. «Теперь вы должны отдать мне мою сестру». Карлик вспрыгнул, повернулся спиной, наклонился и пукнул мне в лицо. «Фу, какая мерзость!» – возмутился я. Карлик скакал на месте, пукал при каждом прыжке и напевал: «Я – Бог и делаю что хочу, я – Бог и делаю что хочу. Теперь, – прибавил он, – я тебя убью». – «Поистине, вас ничего не спасет, вы дурно воспитаны». Я встал с подушек, отвернулся и вышел. Вдали появилось огромное облако пыли. Я взобрался на курган, чтобы лучше видеть: это были всадники. Они приблизились, разделились на две группы и построились рядами друг напротив друга у входа в курган, образовав длинную аллею. Я мог прекрасно рассмотреть близстоящих; странно, но лошадей словно водрузили на колеса. Приглядевшись, я понял, что спереди и сзади туловища животных были насажены на мощные брусья, упиравшиеся в подставку на колесах, а ноги свободно болтались в воздухе; всадников тоже пронзали колья, острые концы которых торчали из головы или рта: грубо сработано, честно говоря. Каждую повозку толкали голые рабы, завершив расстановку, они все уселись в стороне. Я внимательно смотрел на всадников и вдруг опознал в них украинцев Мёрица. Они тоже добрались сюда и разделили уготованную им участь? А может, впечатление мое было ложным. Ко мне присоединился кривой великан. «Не годится при любом раскладе убивать тех, кто играет с вами» – упрекнул его я. «Ты прав. Поэтому у нас и гости бывают нечасто. Я запрещу своему брату так поступать». Опять подул легкий ветерок и развеял пыль, поднятую повозками. «Что это?» – поинтересовался я, указывая на всадников. «Почетный караул. Для нашей свадьбы». – «Да, но я выиграл две партии из трех. Вы должны отдать мне сестру». Великан печально уставился на меня единственным глазом: «Ты никогда не получишь сестру». У меня от нарастающего ужаса перехватило дыхание. «Почему?» – воскликнул я. «Потому что так не годится», – ответил он. Вдалеке показались фигуры, под ногами у них взметались клубы пыли, которые быстро уносил ветер. Моя сестра, по-прежнему обнаженная, шла в окружении музыкантов и двух отвратительных существ. «А нормально ли, что она идет вот так, голая, на виду у всех?» – в ярости закричал я. Великан продолжал пялиться на меня: «А почему бы нет? В конце концов, она же не девственница, но, однако, мы на ней женимся». Я хотел спуститься с кургана ей навстречу, но тут, как из-под земли, выскочили мальчики-близнецы и загородили мне дорогу. Я попытался обойти их, но они мешали и не пропускали меня. Я в гневе замахнулся на мальчиков. «Не бей их!» – взревел кривой. Я, теряя самообладание, обернулся к нему: «А кто они, собственно, такие?» Великан не произнес ни слова. По аллее, между рядами всадников, насаженных на колья, медленно приближалась моя сестра.
Сарабанда
Почему все вокруг белое? Степь не была такой белой. Я тонул в белизне. Может быть, прошел снегопад, и я, как раненый солдат или как брошенный флаг, валялся теперь на снегу? Как бы то ни было, холода я не чувствовал. Хотя, честно говоря, судить мне было сложно, ведь я существовал совершенно отдельно от собственного тела. Я попытался уловить какое-нибудь конкретное ощущение: вот, во рту привкус грязи. Но мой рот превратился в широкую дыру, и его больше не поддерживала челюсть. На грудь, казалось, навалилась каменная глыба, я пытался разглядеть ее, но безуспешно. Рассыпался на куски, не иначе, – подумал я. Бедное мое тело! Мне захотелось лечь на него сверху, прижать к себе, как холодной ночью прижимают любимого ребенка.
Посреди этого бесконечного белого пространства кружился ослепительный огненный шар. Странно, но пламя не растопляло белизну. Невозможно было смотреть на него, невозможно отвернуться и избавиться от его навязчивого присутствия. Мной овладела паника: как же я вообще буду справляться с ногами, если мне не удастся их найти? Сколько времени я так провел, я не сумел бы ответить, не меньше, чем период вынашивания ребенка. По крайней мере, достаточный срок, чтобы сделать некоторые наблюдения; например, мало-помалу я осознал, что вся эта белизна неоднородна, имеет множество оттенков; чтобы их обозначить – как эскимосы обозначают различные состояния льда, – понадобилось бы создать новый словарь, точный и тонко нюансированный, как у якутов для описания состояний льда. Это еще, наверное, зависело от текстуры; но доказательства подобной точки зрения оказывались столь же слабыми, как мои обездвиженные пальцы. Я слышал звуки, напоминающие отдаленные раскаты. Я решил зацепиться за одну деталь, прерывистость белого, и выждать, пока оно не поддастся мне. Путем длительных и невероятно тяжелых усилий мне удалось различить прямой угол. Ну, еще усилие! Я двигался по стороне угла, ее продолжением стал другой угол, потом третий; эврика! Это же рама, и теперь я обнаруживал новые и новые рамы, все белые, и белизну за ними, и белизну внутри них: так быстро до конца не добраться, отчаивался я. Надо выстроить гипотезу. Речь о современном искусстве? Но четкие прямоугольники рам разбивали неясные, размытые, хотя тоже белые формы. Бог мой, до чего трудно дается расшифровка, работы непочатый край. Однако мое упорство постепенно приносило результаты: в действительности белую протянувшуюся вдаль поверхность пересекали борозды и холмы, наверное, степь с высоты самолета (с дирижабля вид иной). Какой успех! Я очень гордился собой. Еще одно усилие – и я разгадаю тайну этой всепоглощающей белизны, так мне казалось. Но неожиданная катастрофа резко оборвала мои исследования: огненный шар потух, и я погрузился в темноту, густой, удушающий мрак. Бороться было бесполезно; я кричал, но из моих раздавленных легких не вырывалось ни звука. Я знал, что не умер, потому что смерть не могла быть черной; это было нечто похуже: клоака, непроницаемое болото; вечность сошла бы за мгновение в сравнении со временем, что я там провел.
Приговор все-таки сняли: медленно рассеялась бесконечная чернота мира. С чудесным возвращением света я стал четче видеть; мне, новому Адаму, вернули (или просто дали) способность называть вещи именами: стена, окно, молочное небо за стеклом. Я завороженно наблюдал волшебный спектакль, потом стал распознавать все, на что только падал взгляд: дверь, ручка, тусклая лампочка под абажуром, ножка кровати, одеяла, руки с проступившими венами, без сомнения, мои. Дверь открылась, на пороге возникла женщина в белом, но с ней в мир проник цвет, что-то красное, яркое, как кровь на снегу; пораженный этим, я разрыдался. «Почему вы плачете?» – голос ее звучал мелодично, бледные прохладные пальцы погладили меня по щеке. Я понемногу успокоился. Она сказала еще что-то, но слов я не разобрал; чувствуя, как она возится с моим телом, я в ужасе прикрыл глаза и так хоть отчасти обрел власть над этой ослепляющей белизной. Позже появился мужчина в возрасте, том самом, о котором говорят «в годах», – седой зрелый мужчина: «А, вы проснулись!» – воскликнул он радостно. О чем это он? Я бодрствую целую вечность; я вообще забыл о сне. Возможно, мы с ним подразумеваем разные вещи. Он сел рядом, бесцеремонно поднял мне веко и посветил в глаз. «Отлично, отлично», – повторял он, удовлетворенный своей жестокой выходкой. Наконец он тоже исчез.
Мне потребовалось время, чтобы связать воедино разрозненные впечатления и понять, что я попал в лапы представителей медицины. Я вынужден был запастись терпением и безропотно позволял себя теребить; не только женщины, санитарки, совершали неслыханные, бессовестные манипуляции с моим телом, но и врачи, солидные, серьезные люди с отеческим голосом, которые постоянно входили ко мне в окружении молодых людей в халатах, без зазрения совести приподнимали меня, поворачивали туда-сюда мою голову и обсуждали мое состояние, как будто речь шла о манекене. Удовольствия мне все это не доставляло, но протестовать я не мог: артикуляция, как, впрочем, и другие способности, у меня не восстановилась. Но в один прекрасный день я абсолютно отчетливо обругал господина из толпы свиньей, однако тот не рассердился, наоборот, улыбнулся и зааплодировал: «Браво, браво». Я приободрился, осмелел и в следующие визиты начал снова: «Негодяй, ублюдок, вонючка, жид». Врачи важно кивали, а юнцы делали пометки в блокнотах; в итоге меня приструнила санитарка: «Вы бы все-таки повежливее». – «Да, действительно, вы правы. Мне надо обращаться к вам фрау?» Она провела маленькой ручкой без кольца у меня перед глазами, весело возразила: «Фрейлейн» – и испарилась. Руки у этой санитарки были необычно твердыми и ловкими для девушки: когда мне требовалось испражняться, она меня переворачивала, ждала, а потом без малейшей брезгливости подтирала меня, движения ее были уверенные, приятные, так мать моет ребенка; казалось, она (наверняка еще девственница) только этим всю жизнь и занималась. Мне доставляло наслаждение просить ее о подобной услуге. Кроме того, она и другие санитарки меня кормили, вливая бульон с ложечки в рот; я бы, конечно, предпочел бифштекс с кровью, но не решался заказать его, ведь, как я уже понял, здесь был отнюдь не отель, а больница, и пациент есть пациент, буквально: страдающий.
То есть, вероятно, у меня что-то случилось со здоровьем, но при каких обстоятельствах, неизвестно; свежесть простыней, покой и стерильность помещения свидетельствовали о том, что я находился не в Сталинграде, – или же ситуация изменилась кардинально. Действительно, в конце концов мне сказали, что я в Хоенлихене, на севере Берлина, в больнице немецкого Красного Креста. Никто не мог объяснить, как я сюда попал; меня привезли в фургоне и велели позаботиться обо мне, вопросов медперсонал не задавал, просто выполнял свою работу, а мне и подавно не до того, на ноги бы встать.
В один прекрасный день поднялась жуткая суматоха: дверь распахнулась, в мою палату набились люди, на сей раз не в белом, а в черном. Память моя вдруг ожила, и после некоторого усилия в самом низкорослом из них я узнал рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Его окружали офицеры СС, рядом стоял незнакомый мне великан с грубым, лошадиным, словно вырубленным топором лицом, исполосованным шрамами. Гиммлер остановился возле меня и произнес короткую речь гнусавым, менторским голосом; с другой стороны кровати эту сцену фотографировали и снимали на камеру. Из обращения рейхсфюрера я почти ничего не понял; на поверхность сознания всплывали лишь отдельные слова: офицер-герой, честь СС, честное, мужественное отношение, но связной истории, в которой бы я разглядел себя, из них не складывалось. Я с трудом мог соотнести эти выражения с собственной персоной, и тем не менее смысл происходящего был очевиден: говорили обо мне, все эти люди собрались сейчас в тесной комнатушке из-за меня. В толпе я заметил Томаса; он приветствовал меня дружеским жестом, но пообщаться нам не удалось. Завершив выступление, рейхсфюрер повернулся к офицеру в круглых массивных очках в черной оправе, который что-то поспешно ему протянул. Потом рейхсфюрер наклонился ко мне, я с нарастающим ужасом смотрел на пенсне, комичные усики, жирные короткие пальцы с грязными ногтями; он явно намеревался положить мне на грудь какой-то предмет, я увидел булавку и испугался, что он меня уколет; лицо рейхсфюрера приблизилось, на мой испуг он абсолютно не реагировал, в то время как я с трудом переводил дух от его терпкого, как запах вербены, дыхания, а он еще и влажный поцелуй запечатлел на моей щеке. Затем он выпрямился и вскинул руку в салюте; присутствующие последовали его примеру, вокруг моей кровати взметнулся лес рук – черных, белых, коричневых. Я потихоньку, чтобы не привлекать внимания, тоже поднял руку, что возымело определенный эффект: все развернулись и заспешили к выходу, и вот уже я, совершенно измученный, остался в одиночестве, потеряв надежду снять с груди странную холодную штуковину.
Теперь с чужой помощью я уже мог сделать несколько шагов, что позволяло мне добраться до туалета. Если я сосредотачивался, тело потихоньку повиновалось моим приказам, поначалу с трудом, потом уже без сопротивления; только левая рука по-прежнему отказывалась участвовать в общем соглашении; я шевелил пальцами, но ни сжать их в кулак, ни разжать у меня не получалось. Впервые за долгое время я увидел в зеркале собственное отражение, но себя не узнал и чем пристальнее всматривался в свое лицо, тем более чужим оно мне казалось. Должно быть, моему черепу мешала расколоться белая повязка, уже кое-что и немало, но недостаточно, чтобы я продвинулся в своих умозрениях, лицо напоминало мозаику из хорошо подогнанных, но разнородных фрагментов. Наконец один из врачей сообщил, что мне пора покинуть больницу: дескать, вы выздоровели, мы сделали для вас все, что могли, теперь вас отправят на восстановление в другое место, – пояснил он мне. Выздоровел! Удивительно, а я даже не знал, что был ранен. Оказывается, пуля прошла голову навылет. По невероятной случайности – терпеливо растолковывали мне – я не только выжил, все обошлось без осложнений; неподвижность левой руки и легкий нервный тик сохранятся еще на некоторое время, но потом тоже пропадут. От этого известия я впал в оцепенение: мои непривычные странные ощущения имели, оказывается, вполне конкретную объяснимую причину, впрочем, мне никак не удавалось принять их, они представлялись мне сомнительными и несерьезными. Если это и есть уразумение, то я бы, как Лютер, назвал его продажной девкой дьявола; повинуясь спокойным хладнокровным командам врачей, она задирала передо мной юбку, под которой ничего не было. То же самое я сказал бы и о своей бедной голове: дыра есть дыра и ничто, кроме дыры. Когда бинты сняли, я констатировал: смотреть особо не на что, на лбу лишь маленькая круглая отметина, прямо над правым глазом; на затылке еле различимая, как меня убеждали, шишка; а между ними под отросшими волосами послеоперационный шрам. Если верить врачам, в моей голове образовалась дыра, узкий, цилиндрический коридор, закрытый волшебный колодец, куда нет доступа мыслям, а если это правда, тогда все изменилось, да и как могло оно остаться прежним? Мое восприятие мира должно было теперь формироваться вокруг этой дыры. Единственное, что, пожалуй, не вызывало у меня сомнений: я проснулся, и больше уже ничто не будет прежним. Пока я раздумывал над этой волнующей проблемой, за мной пришли, положили меня на носилки и погрузили в машину «скорой помощи»; одна из санитарок заботливо сунула мне в карман футляр с медалью, той, что меня наградил рейхсфюрер. Меня перевезли в Померанию, на остров Узедом; там, около Свинемюнде, на берегу моря, находилось роскошное просторное здание санатория СС. Моя комната, очень светлая, выходила на море, днем медсестра подвозила меня в кресле-каталке к огромному окну, чтобы я полюбовался свинцово-серыми балтийскими волнами, стремительными играми чаек, мокрым холодным песчаным пляжем с черными пятнами гальки. Коридоры и комнаты общего пользования регулярно дезинфицировали карболкой, я обожал этот резкий запах, живо напоминавший мне о сладостных грехах юности; длинные, почти прозрачные и оттого казавшиеся голубыми кисти медсестер, нежных блондинок-северянок, тоже пахли карболкой, и пациенты прозвали девушек карболовыми мышками. Эти ощущения и запахи вызывали у меня эрекции, но купавшая меня медсестра улыбалась и с невозмутимым спокойствием намыливала член губкой, как прочие части тела. Эти эрекции немало удивляли меня, длились они иногда подолгу, хотя кончить я так ни разу и не смог. Для меня даже ежедневный восход солнца превратился в явление неожиданное, сумасшедшее, не поддающееся разгадке; а уж что касается тела – пока это было слишком сложно, заново вещи постигаются медленно, шаг за шагом.
Размеренная жизнь на прекрасном холодном голом острове, где почти не было растительности и преобладали серые, желтые, голубые тона, пришлась мне по душе. Навестивший меня Томас принес бутылку французского коньяка и Ницше в дорогом издании, но, к сожалению, мне запретили и пить, и читать, да я и не смог бы: смысл содержания ускользал, буквы прыгали. Я поблагодарил Томаса и спрятал подарки в комод. К знакам различия на воротнике его элегантной черной формы, четырем ромбам, вышитым серебряной нитью, прибавились две полоски, а погоны украсила звезда: Томас получил звание оберштурмбанфюрера СС, меня, по его словам, тоже повысили. Оказывается, рейхсфюрер сообщил эту новость во время награждения, но я этого не запомнил. Я стал национальным героем, «Дас Шварце Кор» опубликовала статью обо мне; награда, на которую я даже не удосужился взглянуть, оказалась Железным крестом 1-й степени. Я совершенно не понимал, чем мог заслужить такие почести, а Томас, веселый, оживленный, уже делился со мной информацией и сплетнями: Шелленберг все же занял место Йоста во главе Шестого управления, стараниями вермахта Беста выпроводили из Франции, но фюрер назначил его полномочным представителем в Дании; рейхсфюрер в итоге решился-таки заменить убитого Гейдриха обергруппенфюрером Кальтенбруннером (тем великаном в шрамах, которого я видел рядом с ним в своей палате). Имя мне почти ни о чем не сказало; я знал, что он был руководителем оберабшнита [41] СС «Дунай» и его считали человеком непримечательным; тем не менее Томас радовался выбору рейхсфюрера. Кальтенбруннер был его земляком, говорил на том же диалекте и уже пригласил его на ужин. Самого Томаса произвели в помощники группенляйтера Панцингера, заместителя Мюллера. Если честно, эти подробности не слишком меня занимали, но я заново учился проявлять вежливость и потому поздравил Томаса, очень довольного и сложившимися обстоятельствами, и самим собой. С большим юмором он описал мне траур по 6-й армии; по официальной версии, все, от Паулюса до последнего ефрейтора, стояли насмерть; в действительности в бою убили только генерала Гартманна, и только один Штемпель предпочел самоубийство; двадцать два других, среди них и Паулюс, попали в советский плен. «Вот увидишь, – беззаботно сказал Томас, – их там вывернут наизнанку». Радиостанции Рейха на три дня отменили программы и транслировали траурную музыку. «Ужаснее всего был Брукнер, Седьмая симфония. Без остановки. Некуда деваться. Я думал, с ума сойду». Потом он рассказал, что произошло со мной: я внимательно слушал, но соотнести услышанное с реальностью не получалось; это был просто рассказ, достоверный, без сомнения, но не более; набор фраз, соединенных в произвольном и непостижимом порядке, не лишенный логики, которая, впрочем, имела мало общего с той, что позволяла мне дышать соленым воздухом Балтики, кожей ощущать ветер, когда меня вывозили на прогулку, зачерпывать суп из тарелки и подносить ложку ко рту, а в определенный момент тужиться, чтобы освободить кишечник. По рассказу, я привожу его без изменений, я покинул Томаса и солдат и, не обращая ни малейшего внимания на их крики, направился к линии фронта русских, в опасную зону; остановить меня они не успели, раздался выстрел, единственный, и я упал как подкошенный. Иван отважно, рискуя собой, оттащил меня в укрытие, в него тоже стреляли, но пуля только пробила рукав. Что касается меня – и тут версия Томаса совпадала с объяснениями доктора из Хоенлихена, – я получил ранение в голову, но, к удивлению всех, хлопотавших вокруг, дышал. Меня отнесли в медсанчасть; тамошний врач заявил, что сделать ничего не может, но так как я упорно продолжал дышать, отправил меня в Гумрак, где находилось лучшее хирургическое отделение котла. Томас реквизировал машину и сам отвез меня туда, – единственное, чем он мог помочь мне. В тот же вечер он получил приказ об отъезде. А на следующий день перед наступлением русских решили эвакуировать и Гумрак, где после падения «Питомника» была главная взлетная полоса. Томас вылетал из Сталинграда, рейсы оттуда были редкими, но полностью еще не отменялись; коротая время в ожидании, он забрел в походный лазарет, разместившийся под тентами, и наткнулся на меня, без сознания, с перевязанной головой, но все еще дышавшего, тяжело, как кузнечные мехи. Санитар за сигарету рассказал Томасу, что меня прооперировали в Гумраке, точно он ничего не знал, потом началась атака, и чуть позже артиллерийский снаряд попал прямо в операционный блок, хирург погиб, а я уцелел, и меня, как офицера, обязаны были лечить; при эвакуации меня определили в машину и доставили сюда. Томас попробовал взять меня с собой в самолет, но фельджандармы воспротивились, потому что края моей карточки раненого обвели красным, что означало «нетранспортабельный». «Я не мог задерживаться, мой самолет улетал. И опять начался обстрел. Тогда я отыскал некоего типа в безнадежном состоянии и поменял его карточку без помет на твою. Все равно он бы не выкарабкался. Я оставил тебя с другими ранеными на аэродроме и ушел. Тебя погрузили в ближайший самолет, один из последних. Ты бы видел их лица, когда я приземлился в Мелитополе. Никто не хотел мне руки пожать: вшей боялись. Лишь Манштейн со всеми здоровался. Среди прибывших в основном были офицеры танковых войск. Что неудивительно, ведь списки для Мильха составлял Хубе. Никому нельзя доверять». Я откинулся на подушки и закрыл глаза. «А кроме нас кто еще выбрался?» – «Кроме нас? Только Вейднер – помнишь? – из гестапо. Мёриц тоже получил распоряжение эвакуироваться, но с тех пор о нем ни слуху ни духу. Неизвестно, смог ли он вообще покинуть Сталинград». – «А тот парень? Твой коллега, который был счастлив, что его ранило?» – «Фопель? Его эвакуировали еще до того, как ты попал в переделку, но его „хейнкель“ на взлете подбил штурмовик». – «А Иван?» Томас достал серебряный портсигар: «Можно закурить? Да? Иван? Ну, он, естественно, остался. Уж не думаешь ли ты, что кто-то уступил бы украинцу место, предназначенное немцу?» – «Я не знаю. Он ведь тоже воевал за нас». Томас затянулся сигаретой и улыбнулся: «Твой идеализм здесь некстати. Как я посмотрю, ты не угомонился, даже схлопотав пулю в лоб. Радуйся, что сам жив остался». Радоваться, что живешь? По-моему, это так же нелепо, как радоваться тому, что родился.
Раненые прибывали каждый день – из отбитых советскими войсками Курска, Ростова, Харькова, из тунисского Кассерина. Рассказы вновь прибывших проясняли гораздо больше, чем военные сводки. Сводки нам передавались через маленькие громкоговорители в помещениях для отдыха, и обычно их предваряла увертюра к кантате Баха «Господь – твердыня наша». Вермахт использовал аранжировку Вильгельма Фридемана, незадачливого сына Иоганна Себастьяна, прибавившего к совершенной оркестровке отца три трубы и литавры, – повод для меня достаточный, чтобы при первых аккордах бежать из комнаты, не выслушав следующий за ними поток уклончивых и невнятных сообщений, длившийся иногда по двадцать минут. Не я один испытывал отвращение к этим передачам: во время их трансляции я постоянно заставал за уборкой на террасе одну и ту же медсестру. Однажды она мне рассказала, что об окружении 6-й армии и о ее разгроме большинство немцев узнало одновременно, и это никак не способствовало укреплению морального духа нации. Люди открыто обсуждали и критиковали ситуацию; в Мюнхене даже вспыхнул было студенческий мятеж, о чем я, понятное дело, узнал не по радио и не от медсестры, а от Томаса: на новом месте его хорошо информировали о подобного рода событиях. На улицах разбрасывали листовки антиправительственного содержания, на стенах домов малевали пораженческие лозунги; гестапо вынуждено было принять жесткие меры, зачинщиков, по большей части молодых, сбившихся с верного пути людей, схватили и казнили. К прочим катастрофическим последствиям вполне можно причислить громкое возвращение доктора Геббельса на политическую авансцену: радиотрансляцию его заявления о тотальной войне из Дворца спорта мы вынуждены были прослушать полностью: в санатории СС к таким вещам, увы, относились всерьез.
Заполнившие палаты молодцы из ваффен-СС теперь вызывали жалость: многие лишились рук, ног или даже челюстей, и им, разумеется, было не до веселья. Но я с удивлением отметил, что большинство из них, вопреки здравому смыслу и невзирая на реальное положение дел, сохранили полную веру в Endsieg, окончательную победу, и благоговейное отношение к фюреру. Многие немцы, хотя, конечно, далеко не все, сопоставив факты и планы передвижения войск, уяснили ситуацию и делали объективные выводы. Я беседовал на эту тему с Томасом, и он поведал мне, что есть люди, например Шелленберг, отдающие себе отчет в том, к каким последствиям могут привести подобные умозаключения, и готовые в случае надобности предпринять соответствующие меры. Со своими товарищами по несчастью я, разумеется, не обсуждал ничего: какой смысл разочаровывать их, лишать того, что придает смысл загубленным жизням. Я набирался сил, уже мог самостоятельно одеваться и под крики чаек гулять по обдуваемому ветрами пляжу, и левая рука начинала слушаться. В конце месяца (шел февраль 1943 года) главврач после очередного осмотра спросил, в состоянии ли я покинуть заведение: мест катастрофически не хватает, да и мне лучше было бы долечиться в семье. Я вежливо объяснил, что домой не тороплюсь, но если он того хочет, я уеду и остановлюсь в городе, в какой-нибудь гостинице. По медицинским показаниям мне полагалось еще три месяца отпуска. Я купил билет на поезд и отправился в Берлин. Снял номер в отличной гостинице «Эден» на Будапестштрассе, просторный люкс с гостиной, спальней и роскошной ванной комнатой, облицованной плиткой; горячую воду здесь не перекрывали, каждый день я по часу принимал ванну, а потом красный как рак, с бьющимся сердцем валялся на кровати. В моем номере был узкий французский балкон, выходивший на зоопарк, по утрам за чашкой чая я с удовольствием наблюдал, как сторожа кормят зверей. Номер был недешевый, но я разом получил деньги за двадцать один месяц, а со страховыми выплатами сумма скопилась весьма симпатичная, так что я вполне мог позволить себе некоторые излишества. Я заказал у портного Томаса прекрасную черную форму, пришил к ней погоны штурмбанфюрера и повесил награды. Кроме Железного креста и креста «За военные заслуги», меня с небольшим опозданием наградили еще двумя, правда, менее почетными медалями: за ранение в зимнюю кампанию сорок первого – сорок второго и медалью от НСДАП, которую давали почти всем. При всей своей нелюбви к форме я вынужден был признать, что выгляжу в ней импозантно, и с удовольствием прогуливался по городу в чуть сдвинутой набекрень фуражке и с перчатками в руках; и кто бы, встретив меня, подумал, что я всего-навсего бюрократ? Со времени моего отъезда город несколько изменился. Меры против воздушных налетов англичан изуродовали его: огромный цирковой тент из маскировочной сетки с кусками ткани и еловыми ветками закрывал Шарлоттенбургштрассе от Бранденбургских ворот до середины Тиргартена, даже днем на улице царил полумрак; колонна Победы сменила листовое золото на отвратительную коричневую краску и сетчатую накидку; на Адольф-Гитлер-платц и еще кое-где соорудили бутафорские дома, громадные театральные декорации, мимо которых проезжали машины и трамваи. Напротив моего отеля прямо над зоопарком возвышалась словно переместившаяся сюда из дурного сна огромная фантастическая конструкция – средневековое укрепление из бетона щетинилось пушками, готовыми защитить людей и животных от британских «воздушных убийц», любопытно было бы увидеть такого монстра в действии. Следует, однако, признать, что тогдашние налеты, вызывавшие панику у населения, оказались сущими пустяками по сравнению с тем, что ожидало нас позже. Почти все хорошие рестораны закрыли из-за тотальной мобилизации; Геринг пытался уберечь «Хорхер», любимое свое заведение, и даже выставил охрану, но Геббельс, на правах гауляйтера Берлина, организовал всплеск стихийного народного гнева, во время которого там перебили стекла; Геринг вынужден был уступить. Мы с Томасом – и не мы одни – немало позубоскалили по поводу этого инцидента: за отсутствием «сталинградской» диеты рейхсмаршалу не помешало бы небольшое воздержание. К счастью, Томас знал частные клубы, которых не коснулись новые ограничения, здесь можно было отведать устриц и омаров, стоивших дорого, но подававшихся в изобилии, выпить шампанского, во Франции оно стало дефицитным, а в Германии нет; рыбы, к сожалению, не было нигде и пива тоже. Антураж некоторых заведений был весьма необычным в сложившейся ситуации: в «Золотой подкове» гостей обслуживала негритянка, а на маленькой арене клиентки могли взобраться на лошадь и продемонстрировать публике ножки; в «Жокей-клубе» оркестр играл американскую музыку, танцевать запрещалось, но бар украшали портреты голливудских звезд, в том числе Лесли Говарда.
Я, впрочем, быстро ощутил, что веселье, обуявшее меня по возвращении в Берлин, поверхностное; внутри же все было ужасно хрупко, словно я был сделан из какого-то ломкого, непрочного материала и мог рассыпаться от малейшего дуновения. Мелочи будничной жизни, с которыми мне приходилось сталкиваться, толкучка в трамвае или электричке, смех элегантной дамочки, хруст с удовольствием переворачиваемых газетных листов ранили меня не хуже острого осколка. Мне казалось, что дырка у меня в голове стала третьим глазом и этот глаз не выносит ослепительного света, обращен в сумрак, наделен даром видеть обнаженное лицо смерти, зреть его в каждом лице из плоти, за белой, здоровой кожей, в улыбках и в радостных взглядах. Катастрофа уже произошла, а они не хотели отдать себе в этом отчета, потому что катастрофа, сама мысль о предстоящей катастрофе способна все уничтожить до срока. В общем-то, – повторял я с горькой обреченностью, – покой существует только первые девять месяцев. Потом архангел с огненным мечом гонит вас во врата с надписью «Lasciate ogni speranza» [42], и отныне единственное ваше желание – вернуться, но назад пути нет, и время безжалостно толкает вас вперед, а в конце нет ничего, решительно ничего. Мои размышления оригинальными не назовешь, так думал любой солдат, затерявшийся в снегах на Восточном фронте, прислушивавшийся к тишине, знавший, что смерть близко, и постигший бесконечную ценность каждого вздоха, каждого удара сердца, морозного запаха, ломкого воздуха, чуда дневного света. Но чем дальше от фронта, тем толще слой моральной грязи, и при виде довольных горожан у меня перехватывало дыхание и хотелось кричать. Я отправился к парикмахеру и вдруг перед зеркалом испытал необъяснимый страх. Белые стены, стерильная чистота, новый, модный и очень дорогой салон; два других кресла тоже заняты клиентами. Парикмахер закутал меня в черный длинный халат, сердце мое отчаянно билось, внутренности затопил влажный холод, кончики пальцев покалывало. Я взглянул на свое отражение: лицо спокойное, но за этим спокойствием пустота, ужас выжег все. Я прикрыл глаза, мастер терпеливо щелкал ножницами у моего уха. На обратном пути я подумал: да, продолжай себя убеждать, что все идет хорошо, кто знает, может, и убедишь. Но обрести душевное равновесие мне никак не удавалось. Зато от приступов тошноты, рвоты, расстройства пищеварения, которые мучили меня на Украине и в Сталинграде, не осталось и следа. Просто на улицах возникало ощущение, что я иду по стеклу, готовому в любой момент брызгами разлететься у меня из-под ног. Жизнь требовала повышенного, утомлявшего меня внимания к окружающим вещам. В одном из тихих переулков рядом с Ландверканалом я нашел на подоконнике первого этажа длинную женскую перчатку из синего атласа и, не раздумывая, прихватил с собой. Я попытался ее натянуть, разумеется, безуспешно, но текстура ткани привела меня в восторг. Я представил руку, которую скрывала эта перчатка, и ощутил чрезвычайное возбуждение. Хранить перчатку я не собирался, но мне хотелось оставить ее на окне с кованой железной решеткой, желательно в старом доме, а на той улице находились лишь лавчонки с глухими заколоченными витринами. Наконец, прямо возле моего отеля, я обнаружил нужное окно. Ставни были закрыты; я осторожно положил перчатку на карниз, как дар, как милостыню. За два дня ставни никто так и не открыл, перчатка лежала на прежнем месте, тайный, неясный знак, что-то сообщающий мне, но что?
Томас наверняка догадывался о моем душевном состоянии: я довольно скоро перестал ему звонить и не предлагал поужинать вместе. Честно говоря, я предпочитал слоняться по городу, наблюдать с балкона за львами, жирафами и слонами в зоопарке или нежиться в своей роскошной ванне, бессовестно расходуя горячую воду. Как-то раз Томас, в похвальной попытке меня развлечь, попросил меня встретиться с молодой женщиной, секретаршей фюрера, которая проводила в Берлине отпуск и почти никого в городе не знала. Из вежливости я не стал отказываться и повел ее ужинать в отель «Кемпински»: блюда здесь носили идиотские патриотические названия, но кухня осталась превосходной, а мои медали избавляли меня от разговоров о пайковом распределении довольствия. Девушка, звали ее Грета В., с жадностью накинулась на устриц, одна за другой они исчезали за рядами ее ровных зубов – в Растенбурге, судя по всему, кормили не очень хорошо. «Еще! – воскликнула она. – К счастью, мы не обязаны есть то же самое, что фюрер». Пока я разливал вино, она рассказывала, что в декабре Цайтцлер, новый начальник Генерального штаба, возмущенный грубой ложью Геринга о продовольственном снабжении котла, начал демонстративно заказывать в ресторанах лишь то, что поставлялось солдатам 6-й армии, и стремительно похудел. Тогда фюрер приказал ему прекратить нездоровые выходки, но шампанское и коньяк все-таки запретили. Она говорила, а я тем временем разглядывал ее: внешность у нее была довольно необычная. Тяжелая, слишком крупная челюсть, лицо вроде бы нормальное, но кровавый штрих помады на губах выдавал тщательно скрываемые, похотливые желания. Руки подвижные, пальцы красные от плохого кровообращения; кость тонкая, хрупкая, словно у птицы; на левом запястье я заметил странный след, словно от браслета или наручников. Я находил ее элегантной, темпераментной и вместе с тем лицемерно-фальшивой. Вино развязало ей язык, и я будто невзначай поинтересовался повседневной жизнью фюрера. Девушка тут же принялась непринужденно болтать: по вечерам фюрер выступает с многочасовыми докладами, его монологи до того однообразны, скучны, бессодержательны, что секретари, ассистенты и помощники договорились слушать их по очереди и даже установили специальный график, ведь речи фюрера заканчиваются лишь под утро. «Конечно, – прибавила она, – фюрер – гений, спаситель Германии. Но война его выматывает». По вечерам, часов в пять, после совещаний и до ужина, фильмов и ночного чая, фюрер пьет кофе с секретарями; в эти моменты, в исключительно женском окружении, он более приветлив – ну, по крайней мере, так было до Сталинграда – он шутил, подтрунивал над девицами и не заводил речи о политике. «А с вами он флиртует?» – спросил я игриво. Она посерьезнела: «О нет, никогда!» Потом Грета начала расспрашивать меня про Сталинград; слушая мое откровенное и полное желчного сарказма повествование, она сначала смеялась до слез, а потом почувствовала себя неловко и оборвала меня на полуслове. Я проводил ее до гостиницы у вокзала Анхальтер Банхоф, она пригласила меня подняться пропустить стаканчик, но я вежливо отказался: моя галантность тоже имела границы. Как только мы расстались, меня охватило лихорадочное волнение – зачем я потратил столько времени? Для чего мне сплетни и кулуарные пересуды о нашем фюрере? Какой мне интерес выкаблучиваться перед размалеванной девкой, которой, по сути, от меня надо только одно? Лучше бы меня не трогали. Но даже в моем отеле (подчеркну, первого класса!) о покое можно было лишь мечтать: этажом ниже гремел праздник, музыка, крики, смех пробивались сквозь пол, давили мне на грудь. Лежа в темноте, я думал о солдатах 6-й армии: больше месяца прошло, как сдались наши последние соединения; выживших, гнивших от глистов и лихорадки, гнали в Сибирь или Казахстан как раз сейчас, когда я с трудом вдыхал ночной воздух Берлина; их крики другого рода, им не до музыки и не до смеха. И не только им, все, целый мир корчился от боли, разве ж это повод для веселья, во всяком случае, не теперь, надо хоть немного выждать, должно пройти прилично времени. Меня душил нарастающий тошнотворный страх и злоба. Я встал, откопал в выдвижном ящике стола служебный пистолет, проверил, заряжен ли он, и положил его обратно. Взглянул на часы: два ночи. Надел форменный китель (я лежал не раздеваясь) и, не застегиваясь, спустился в вестибюль. Попросил в регистратуре телефон и набрал номер съемной квартиры Томаса: «Извини, что поздно». – «Ничего страшного. Что случилось?» Я сообщил ему о намерении убить соседей. К моему удивлению, Томас отреагировал без обычной иронии и очень серьезно сказал: «Это естественно. Твои соседи – мерзавцы и шкурники. Но если ты будешь стрелять в это сборище, неприятностей не оберешься». – «Что ты предлагаешь?» – «Поговори с ними. Если они не угомонятся, примем меры. Я вызову помощь». – «Хорошо. Я пойду». Я повесил трубку и спустился по лестнице, сразу нашел пресловутую дверь и постучал. Мне открыла красивая высокая женщина в вечернем платье, немного растрепанная, с блестящими глазами. «Да?» За ее спиной грохотала музыка, до меня донесся звон бокалов, взрывы хохота. «Это ваш номер?» – спросил я с колотящимся сердцем. «Нет. Подождите». Она обернусь: «Дикки! Дикки! Тебя спрашивает какой-то офицер». Вышел подвыпивший человек в пиджаке: «Да, герр штурмбанфюрер? – обратился он ко мне. – Что вам угодно?» Подчеркнуто любезный, глуховатый голос выдавал в нем настоящего аристократа. Я слегка поклонился и сдержанно произнес: «Я живу в номере над вами. Я вернулся из Сталинграда, где получил опасное ранение и где погибли почти все мои товарищи. Ваше веселье меня нервирует. Я хотел спуститься и вас убить, но сначала позвонил другу, который посоветовал мне попробовать с вами договориться. Вот я и пришел с вами поговорить. Будет лучше для нас всех, если вы не заставите меня спускаться снова». Мужчина побледнел: «Нет, нет… – и крикнул через плечо: – Гофи! Выключи музыку! Выключи!» Снова обернувшись ко мне, он сказал: «Извините нас. Мы немедленно прекращаем». – «Спасибо». Поднимаясь к себе, я с удовлетворением слушал его команды: «Всё! Закончили. Расходимся!» Я не напугал его, нет, мне удалось задеть его за живое, он просто вдруг все понял, и ему стало стыдно. Теперь в моей комнате воцарилась тишина; лишь изредка ее нарушал шум проезжавшей мимо машины, да в зоопарке трубил страдавший бессонницей слон. Тем не менее я никак не мог успокоиться: мои действия казались теперь театральной инсценировкой, поначалу мной двигало бессознательное, но искреннее побуждение, затем я себя вел словно персонаж низкопробной пьески. Вот в этом-то и заключалась моя проблема: я придирчиво и непрестанно наблюдал за собой, а как под прицелом безжалостной камеры можно сказать искреннее слово, сделать верное движение? Я все время играл какую-то роль; даже размышления стали для меня еще одним способом видеть собственное отражение, я, жалкий Нарцисс, вечно прихорашивался, но при этом не обманывался на собственный счет. Прежде Уне удавалось вытащить меня из моей раковины; с тех пор как я потерял Уну, я постоянно следил за собой ее (как мне казалось) взглядом, на самом же деле этот взгляд был, увы, лишь моим собственным. Без тебя я не я – и это сущий ужас, смертельный, не имевший ничего общего с чудесными детскими страхами, наказание без суда и следствия.
Тогда же, в первые дни марта 1943-го, меня пригласил на чай доктор Мандельброд.
Я довольно давно знал Мандельброда и его компаньона, герра Леланда. Когда-то, после Мировой войны – или еще до нее, я не имею возможности проверить, – у них работал мой отец (если не ошибаюсь, дядя тоже выполнял для них сдельную работу). Постепенно я понял, что их отношения выходили за рамки отношений между начальством и сотрудником: после исчезновения отца доктор Мандельброд и герр Леланд помогали матери в поисках и, по-видимому, хотя уверенности у меня нет, даже поддерживали ее финансово. Они участвовали в моей жизни и позднее. В 1934 году, намереваясь порвать с матерью и уехать в Германию, я обратился к Мандельброду, давно уже являвшемуся уважаемым членом нашего Движения, и он поддержал меня, предложил помощь. Именно он убедил меня продолжить учебу – но уже в Германии и на ее благо, а не во Франции – и организовал мне учебу в университете Киля и вступление в СС. Фамилия его звучала на еврейский манер, но он, как и министр Розенберг, был чистым немцем, из древнего прусского рода, ну, может, с незначительной примесью славянской крови. Герр Леланд, по происхождению британец, отрекся от своей родины в силу германофильских убеждений еще задолго до моего рождения. Мандельброд и Леланд были промышленниками, но точный род их деятельности определить сложно. Они заседали во многих административных советах, в частности в концерне «И.Г. Фарбен», финансировали разные предприятия, никому не отдавая предпочтения. Их считали влиятельными фигурами в металлургической и химической отраслях (оба занимали высокие посты в «Имперской группе промышленности»). К тому же они были близки к Партии и с самого начала субсидировали ее; по словам Томаса – мы разговаривали с ним об этом еще до войны – Мандельброд и Леланд имели должности в канцелярии фюрера, но не подчинялись Филиппу Боулеру [43]; их допускали и в высшие сферы партийной канцелярии. И наконец, рейхсфюрер СС присвоил им звание почетных группенфюреров СС и членов «Круга друзей рейхсфюрера СС»; при этом Томас почему-то утверждал, что не СС имеет на них влияние, а скорее наоборот. Известие о моих отношениях с Мандельбродом и Леландом произвело на него огромное впечатление, похоже, он даже немного позавидовал, что у меня есть такие покровители. Тем не менее их интерес к моей карьере не был постоянным: когда в 1939 году после неудачного рапорта меня, так сказать, «задвинули», я хотел с ними встретиться, но время было смутное, и отклика на свою просьбу я ждал несколько месяцев; меня пригласили на ужин только в момент вторжения во Францию. Герр Леланд по своему обыкновению в основном молчал, доктор Мандельброд рассуждал о политической ситуации; о моей работе никто не заикнулся, а сам я не осмелился заговорить на эту тему. С тех пор мы не виделись. Приглашение Мандельброда застало меня врасплох – зачем я ему понадобился? По такому случаю я надел новую форму и все награды. Их личные кабинеты занимали два последних этажа красивого здания на бульваре Унтер-ден-Линден рядом с Академией наук и штаб-квартирой Reichsvereinigung Kohle, Национальной ассоциации по добыче угля и угольной промышленности, где они тоже играли немаловажную роль. Таблички при входе не было. В вестибюле мои документы проверила молодая женщина с длинными темными волосами, стянутыми в пучок, в сером, без знаков отличия, но сшитом на манер военной формы костюме: ботинки и мужские брюки вместо юбки. Удостоверившись, что все в порядке, она повела меня к лифту, открыла дверцу ключом, висевшим у нее на шее на цепочке, и, не проронив ни слова, поднялась со мной на последний этаж. Здесь я еще ни разу не был: в тридцатые годы Мандельброд и Леланд сидели по другому адресу, да и встречи наши проходили чаще всего в ресторанах или фешенебельных отелях. Мы оказались в просторной приемной, с мебелью из дерева и темной кожи, в качестве декоративных элементов тут использовали светлый полированный металл и матовое стекло – сдержанно и элегантно. Женщина-провожатая удалилась, другая, одетая точно так же, взяла у меня пальто и аккуратно повесила его на вешалку. Потом попросила сдать табельное оружие, красивыми, наманикюренными пальцами взяла мой револьвер, при этом движения ее были на удивление привычными, положила его в ящик и заперла на ключ. Затем, не заставляя меня ждать, она открыла передо мной двустворчатую, обитую кожей дверь. В глубине огромной комнаты за широким столом красного, с рыжеватыми отблесками дерева спиной к вытянутому матовому окну, сквозь которое пробивался слабый молочный свет, сидел доктор Мандельброд. Мне показалось, что со времени нашего последнего свидания он еще раздобрел. Многочисленные кошки разгуливали по коврам или спали на кожаных стульях и диванах и на бюро. Толстым, похожим на сосиску пальцем он указал мне на канапе слева у низкого столика: «Здравствуй, здравствуй. Присаживайся, я сейчас». Меня всегда поражало, что в этом полностью заплывшем жиром теле живет такой прекрасный мелодичный голос. Зажав фуражку под мышкой, я пересек комнату и сел в кресло, согнав бело-полосатую кошку, та не обиделась и скользнула под стол в поисках нового теплого местечка. Я осмотрелся: стены обиты кожей, декор выдержан в том же стиле, что и в приемной, и ни картин, ни фотографий, ни даже портрета фюрера. Низкая столешница чудесно инкрустирована, сложный рисунок драгоценного дерева защищало толстое стекло. Строгий, спокойный вид кабинета портили только клочья кошачьей шерсти, приставшие к мебели и коврам. И к тому же запах здесь стоял отвратительный. Одна из кошек, задрав хвост и мурлыча, терлась о мои ноги, я пытался отпихнуть ее мыском сапога, но она не обращала на это никакого внимания. Между тем Мандельброд нажал какую-то кнопку: в стене справа приоткрылась едва заметная дверь, и вошла третья женщина, одетая как две ее предшественницы, но с очень светлыми волосами. Она остановилась за Мандельбродом, чуть потянула его назад, потом развернула и повезла вдоль стола ко мне. Я поднялся. Мандельброд действительно растолстел еще сильнее: если раньше он передвигался в обычном кресле-каталке, то теперь невозмутимо, как слоноподобный восточный идол, восседал в широченном кресле, закрепленном на платформе с колесиками, впрочем, женщина толкала все это сооружение без видимых усилий, очевидно, оно работало на электричестве. Она подкатила кресло к низкому столику, и я обогнул его, чтобы пожать Мандельброду руку; доктор еле дотронулся до меня кончиками пальцев, женщина между тем неслышно убралась туда, откуда появилась. «Садись, пожалуйста», – полушепотом, не напрягая своего красивого голоса, произнес Мандельброд. На нем был теплый шерстяной костюм, галстука не разглядеть за манишкой жировых складок, свисавших с шеи. Вдруг он испустил неприличный звук, вслед за которым разлилась вонь; я с трудом сохранил невозмутимый вид. На колени Мандельброду прыгнула кошка, он чихнул, принялся ее гладить, чихнул снова, кошка подскакивала от каждого чиха, напоминавшего маленький взрыв. «У меня аллергия на этих бедных зверюшек, – всхлипнул он, – но я их обожаю». Женщина вернулась с подносом, двигаясь уверенно и спокойно, она разложила чайные приборы на низеньком столике, зафиксировала на подлокотнике кресла Мандельброда полочку, наполнила две чашки и снова исчезла, тихо, незаметно, по-кошачьи. «Есть сахар, молоко, – сказал Мандельброд. – Клади себе. Я ничего не буду». Он несколько мгновений пристально смотрел на меня: в его заплывших жиром глазках прыгали хитрые огоньки. «А ты изменился, – констатировал он. – Восток пошел тебе на пользу. Ты возмужал. Отец гордился бы тобой». Его слова задели меня за живое. «Вы думаете?» – «Не сомневаюсь. Ты прекрасно справился с работой: рейхсфюрер лично отметил твои рапорты. Он показал нам альбом, который ты подготовил в Киеве: твой командующий хотел присвоить себе все лавры, но мы-то знаем, что идея была твоей. Впрочем, это ладно. А вот твои рапорты, особенно последних месяцев, и правда исключительно интересны. По моему мнению, у тебя впереди блестящее будущее». Он замолчал, взглянул на меня, потом спросил: «Как твоя рана?» – «Хорошо, герр доктор. Все зажило, но еще требуется отдых». – «А после?» – «Вернусь к службе, естественно». – «И что ты намереваешься делать?» – «Точно не знаю. Будет зависеть от того, что предложат». – «Все зависит только от тебя, что захочешь, то и получишь. Сделаешь правильный выбор, двери перед тобой распахнутся, уверяю». – «Что вы имеете в виду, герр доктор?» Он медленно поднес чашку к губам, подул и шумно отхлебнул чай. Я тоже отпил немножко. «Насколько мне известно, в России ты занимался еврейским вопросом, да?» – «Да, герр доктор, – я слегка смутился. – Но и другими тоже». Впрочем, Мандельброд уже продолжал, спокойно, чуть нараспев: «С позиции, на которой ты находился, конечно, нереально постичь масштаб проблемы и пути ее решения. До тебя, разумеется, дошли определенные слухи, и они небеспочвенны. С конца тысяча девятьсот сорок первого года было решено, по мере возможности, осуществить данную задачу во всех европейских странах. Программа в действии с прошлой весны. Мы уже достигли значительных успехов, но до ее завершения еще далеко. И здесь есть место для таких людей, как ты, энергичных и талантливых». Я почувствовал, что краснею: «Благодарю за доверие, герр доктор. Но вынужден сказать, что как раз данная работа давалась мне чрезвычайно тяжело, это выше моих сил. Теперь я надеюсь сосредоточиться на вещах, соответствующих моим знаниям, например конституционном праве или же юридических отношениях с европейскими странами. Строительство новой Европы – вот поле деятельности, которое по-настоящему меня привлекает». Пока я говорил, Мандельброд допил чай; опять появилась светловолосая амазонка, пересекла комнату, налила доктору вторую чашку и испарилась. Мандельброд сделал глоток. «Мне понятно, почему ты колеблешься, – проговорил он после паузы. – Зачем браться за трудные задачи, если для этого есть другие? Вполне в духе времени. В прошлую войну было иначе. Чем сложнее и опаснее предстояла задача, тем больше находилось людей, стремившихся ее выполнить. Твой отец, например, считал, что трудность – побуждающая причина взяться за дело и блестяще довести его до конца. И дед твой был той же закалки. Но, к сожалению, до сих пор, несмотря на усилия фюрера, немцы вязнут в слабоволии, страхе, уступчивости». Слова Мандельброда, оскорбительные по сути, хлестнули меня как пощечина, но гораздо важнее для меня было другое. «Извините, герр доктор. Верно ли я понял, что вы знали моего деда?» Мандельброд поставил чашку: «Конечно. Он тоже с нами сотрудничал в самом начале. Удивительный человек». Мандельброд махнул пухлой рукой в сторону бюро. «Подойди туда». Я подчинился. «Видишь сафьяновую папку с документами? Подай-ка мне». Я принес Мандельброду папку. Он положил ее на колени, открыл, вытащил старую, уже пожелтевшую фотографию и протянул мне: «Взгляни». Три фигуры на фоне тропических деревьев. В центре женщина – личико сердечком, щеки еще по-детски пухлые; мужчины в светлых летних костюмах, у того, что слева, в галстуке, лицо узкое с несколько расплывшимися чертами и на лоб упала непослушная прядь волос; у мужчины справа воротничок рубашки расстегнут, остроугольное лицо словно высечено из драгоценного камня, а жесткий, с искрой неуемного веселья взгляд не удалось спрятать даже за тонированными очками. «И кто из них мой дед?» – я был очарован и вместе с тем взволнован. Мандельброд ткнул пальцем в человека в галстуке. Я присмотрелся: глаза – в отличие от товарища – почти прозрачные, в них ничего не прочтешь. «А женщина?» – спросил я, уже догадываясь. «Твоя бабушка. Ее звали Ева. Прелестная, изумительная женщина». Бабушку я не знал, она умерла задолго до моего рождения, а редкие визиты к деду стерлись из памяти, потому что я тогда был еще совсем маленький. Дед умер вскоре после исчезновения отца. «И кто же другой мужчина?» Мандельброд просиял ангельской улыбкой. «Не узнаешь?» Я пристальнее взглянул на фотографию и воскликнул: «Невероятно!» Он по-прежнему улыбался: «Почему? Или ты полагаешь, что я всегда выглядел так, как сейчас?» Я сконфуженно промямлил: «Нет, нет, я не то хотел сказать, герр доктор! Но ваш возраст… Если судить по фотографии, то вы ровесник моего деда». Еще одна кошка, прогуливавшаяся по ковру, ловко запрыгнула на спинку кресла, взобралась к Мандельброду на плечо и потерлась о его огромную голову. Он опять чихнул. «По правде говоря, – признался он между приступами чиха, – я гораздо старше его. Просто хорошо сохранился». Я с жадным любопытством уставился на фотографию: сколько всего она могла бы мне рассказать! И робко попросил: «Можно, я возьму ее, герр доктор?» – «Нет». Я с сожалением вернул фотографию, он вложил ее в папку и велел мне убрать все обратно в бюро. «Твой отец был истинным национал-социалистом, – заявил Мандельброд, когда я снова сел, – и еще до возникновения Партии. Люди той эпохи жили под влиянием ложных идей: в их понимании национализм – это патриотизм в узком смысле слова, слепой, местечковый, усугубляемый тяжелыми внутриполитическими конфликтами; а социализм для их противников означал ложное представление об интернациональном равноправии классов и классовой борьбе внутри каждой отдельно взятой нации. Твой отец был одним из первых в Германии, кто понял, что взаимоуважение и равенство должны распространяться на всех членов нации и исключительно в ее недрах. В ходе истории все великие государства, в своем роде, были националистическими и социалистическими. Вспомни Темучина, нищего изгоя, сумевшего на основе национальной идеи объединить монгольские племена и завоевать мир и ставшего «владыкой-океаном», Чингисханом [44]. Я убедил рейхсфюрера прочесть книгу о нем, и он был поражен. Обладая огромной, не ведающей жалости мудростью, монголы все сметали на своем пути, чтобы затем вести новое строительство на здоровой основе. Вся инфраструктура Российской империи, весь фундамент, на котором немцы при царях, тоже немцах, создали различные институты – дороги, деньги, почту, администрацию, таможни, был заложен монголами. Лишь когда монголы испортили чистоту своей нации, из поколения в поколение находя себе жен среди чужеземцев, к тому же часто среди несториан, то есть христиан, самых близких к евреям, их империя развалилась и погибла. С китайцами другой случай, но не менее поучительный: они не выходят за пределы Срединной империи, но поглощают и растворяют без следа любой народ, вторгающийся на ее территорию, каким бы могущественным он ни был, топят его в безбрежном океане китайской нации. Они очень сильны. Мы покончим с русскими, но китайцы всегда будут стоять у нас на пути. Японцы не смогут противостоять Китаю, хотя сегодня и тешат себя иллюзией о своем превосходстве. Впрочем, если даже и не в ближайшем будущем, то лет через сто или двести нам все равно придется столкнуться с китайцами. А до тех пор не надо позволять им крепнуть, воспринимать идеи национал-социализма и применять его к их собственной ситуации. Знаешь ли ты, кстати, что термин „национал-социализм“ придумал еврей, предтеча сионизма, Моисей Гесс? Прочти как-нибудь его книгу „Рим и Иерусалим“ и убедишься. Очень познавательно. И это не случайность: что есть более völkisch, народного, чем сионизм? Они, как и мы, признали, что не может существовать Volk, народа, и Blut, крови, без Boden, почвы, и, следовательно, необходимо вернуть евреев на их землю, Землю Израиля, Eretz Israel, очищенную от других рас. Понятно, это изначальный постулат иудеев. Евреи – первые настоящие национал-социалисты, и уже три тысячи пятьсот лет, с тех самых пор, как Моисей дал им Закон, чтобы навеки разъединить с остальными народами. Все наши великие идеи, Земля как обетование и оплот, понятие избранного народа и чистоты крови, мы черпали у евреев и должны иметь благоразумие признать это. Именно потому греки, эти вырождающиеся демократы, путешественники, космополиты, ненавидели евреев и сперва стремились уничтожить их, а позднее, опираясь на исказившее иудаизм учение Павла, пытались подорвать иудейскую религию изнутри, оторвав ее от земли и крови и сделав католической, то есть всеобщей, и отменить все законы, служившие защитным барьером для сохранения чистоты еврейской крови: запреты на определенную пищу, обрезание. Именно поэтому из всех наших врагов евреи – самые ярые, самые опасные; единственные, кого действительно стоит ненавидеть. По сути дела это наши единственные соперники. Русские слабы, невзирая на попытки спесивого грузина навязать им „национал-коммунизм“, они остаются ордой без всякого ядра. Островитяне, британцы и американцы, гнилые, разлагающиеся, продажные. А вот евреи! Кто, как не они, в эпоху научного прогресса, опираясь на тысячелетнюю интуицию своего униженного, но непобежденного народа, заново открыли расовую истину? Дизраэли – еврей. Гобино всему научился у него. Не веришь? Посмотри сам». Он показал на книжный шкаф рядом с бюро: «Там посмотри». Я снова встал и направился к этажерке: многочисленные издания Дизраэли соседствовали на полках с книгами Гобино, Ваше де Лапужа, Дрюмона, Чемберлена, Герцля и других. «Кого, доктор? Тут их много». – «Без разницы, любого. Они все говорят об одном и том же. Возьми „Конингсби“ [45]. Ты ведь читаешь по-английски? Страница двести третья. Начни с But Sidonia and his brethren… Читай вслух». Я нашел отрывок и прочел: «Но Сидония и его собратья могли претендовать на превосходство, которое саксонцы и реки и оставшиеся кавказские народы утратили. Иудеи – раса без примесей… Раса без примесей исключительной организации, аристократия в чистом виде». – «Замечательно. Теперь страница двести тридцать первая. The fact is, you cannot destroy… Он, конечно, говорит о евреях». – «Невозможно уничтожить чистую расу кавказского происхождения – это факт. Физиологическая непреложность, простой закон природы, разрушивший планы египетских и ассирийских царей, римских императоров и христианских инквизиторов. Ни один уголовный закон, никакая физическая мука не в состоянии сделать так, чтобы высшая раса растворилась в низшей или была ею уничтожена. Смешанные расы-преследователи исчезнут, гонимая чистая раса останется». – «Вот! Только подумай, что этот человек, этот еврей, был премьер-министром королевы Виктории! Создал Британскую империю! Еще не обретя известности, выдвигал подобные тезисы перед христианским парламентом! Иди сюда. Ну-ка, налей мне чаю». Я подошел, наполнил чашку. «Из любви и уважения к твоему отцу я помогал тебе, Макс, следил за твоей карьерой, поддерживал, когда мог. И ты теперь обязан воздать должное ему и его и твоей расе. На этой Земле есть место только для одного избранного народа, призванного править другими: либо это будут они, как того хотят евреи Дизраэли и Герцль, либо мы. Поэтому нам надо истребить их до последнего, уничтожить на корню. И десятка уцелевших будет достаточно, да если и двое останутся, мужчина и женщина, через сто лет мы нарвемся на ту же проблему, и все придется начинать заново». – «Могу я вас спросить, герр доктор?» – «Давай, давай, мальчик». – «Какую, собственно, роль играете в этом деле вы?» – «Ты имеешь в виду я и Леланд? Довольно сложно объяснить. Мы не занимаем официальных должностей. Мы… мы выступаем на стороне фюрера. Ты понимаешь, фюреру хватило мужества и ясности мысли, чтобы принять историческое, судьбоносное решение, но, разумеется, практическая часть вопроса его не касается. Таким образом, между решением и его реализацией, порученной рейхсфюреру СС, существует огромное пространство. В определенном смысле мы ориентируемся не на приказы фюрера, а на потребности этого пространства». – «Я не совсем разобрался. Но чего вы ждете от меня?» – «Ничего, кроме одного: чтобы ты до конца следовал дорогой, которую сам выбрал». – «Если честно, я не могу наверняка ответить, какая дорога моя. Мне нужно подумать». – «О, думай! Думай. И потом позвони мне. Мы вернемся к нашему разговору». Очередная кошка упорно лезла ко мне на колени, оставляя клочья светлой шерсти на черных брюках, пока я не прогнал ее. Мандельброд, расслабленный, уже в полудреме, нисколько не смущаясь, опять с шумом выпустил газы – у меня аж дыхание сперло. Открылась главная дверь, вошла девушка из приемной, видимо, нечувствительная к запаху. Я поднялся: «Спасибо, герр доктор. Мое почтение герру Леланду. До скорого свидания». Огромная ладонь продолжала гладить кошку, единственное доказательство, что Мандельброд еще не погрузился в сон. Я подождал минуту, но, похоже, он больше не хотел говорить, и я покинул кабинет в сопровождении девушки, беззвучно закрывшей за нами двери.
Рассказывая доктору Мандельброду о своем интересе к проблемам европейских отношений, я не кривил душой, просто умолчал кое о чем: в действительности у меня в голове уже сформировались конкретные планы на будущее. Не знаю точно, как я к этому пришел, не иначе как бессонной ночью в отеле «Эден». Настало время сделать что-то и для себя, пора подумать о своем будущем, – размышлял я. То, что предлагал Мандельброд, не соответствовало моим желаниям. Но я сомневался, удастся ли мне эти желания реализовать. Через два или три дня после беседы на Унтер-ден-Линден я позвонил Томасу. Он предложил встретиться, но не у себя в конторе на Принц-Альбрехтштрассе, а на соседней Вильгельмштрассе, где находился штаб СД и СП. Дворец принца Альбрехта, который с 1934 года государство арендовало для СС, был полной противоположностью находившемуся чуть выше огромному, помпезному неоклассицистическому Министерству воздушного транспорта Геринга: небольшой классический палаццо XVIII века, бережно и со вкусом отреставрированный в XIX веке Шинкелем. Я хорошо знал дворец; там, до моего отъезда в Россию, находилось мое ведомство, и я немало часов провел в дворцовых садах, шедевре гармоничной асимметрии и разнообразия, созданном Ленне. С улицы фасад закрывали деревья и высокая колоннада; когда я проходил мимо, охранники в красных с белым будках приветствовали меня, а в проходной у цветников мои документы проверили, после чего проводили до самой приемной. Томас уже ждал: «Прогуляемся? Тепло». Сад, куда мы спустились по ступенькам, украшенным керамическими цветочными горшками, тянулся до отеля «Европахаус» на Асканишерплатц – гигантского модернистского куба, странно контрастирующего со спокойными изгибами аллей, петляющих между вскопанными газонами, круглыми прудиками и голыми деревьями, на которых едва проклюнулись почки. Вокруг не было ни души. «Кальтенбруннер здесь не бывает, – заметил Томас, – так что нам не помешают». Гейдрих, правда, любил этот сад, но никто, кроме тех, кого он сам приглашал, не смел сюда заходить. Мы не спеша прогуливались по дорожкам, и я передал Томасу суть своей беседы с Мандельбродом. «Он преувеличивает, – отрезал Томас, дослушав меня. – Евреи, безусловно, представляют определенную проблему, и надо ей заниматься, но это не самоцель. Задача ведь не в том, чтобы убивать людей, а в том, чтобы управлять всем народом, и физическое уничтожение – лишь один из способов управления. Оно не должно превращаться в навязчивую идею. Перед нами множество других, не менее серьезных задач. Ты действительно думаешь, что он верит всему, что говорит?» – «Да, у меня сложилось такое впечатление. Почему ты спрашиваешь?» Томас на мгновение замолчал; гравий скрипел под нашими сапогами. «Видишь ли, – продолжил он, – для большинства антисемитизм – инструмент. Это конек фюрера, а стало быть, лучший способ втереться к нему в доверие – принять участие в решении еврейского вопроса, в этом случае ты поднимешься по карьерной лестнице гораздо быстрее, чем занимаясь, скажем, „Свидетелями Иеговы“ или гомосексуалистами. В этом смысле можно утверждать, что антисемитизм стал девизом национал-социалистического государства. Ты помнишь, что я тебе говорил в ноябре тридцать восьмого, после Хрустальной ночи?» Да, тот разговор я помнил. С Томасом, находившимся в состоянии тихого бешенства, мы встретились в баре на следующий день после бесчинств, устроенных молодчиками из СА. «Придурки! – рявкнул Томас, проскользнув в отдельную кабинку, где я его дожидался. – Жалкие придурки!» – «Кто, штурмовики?» – «Хоть ты-то не будь придурком! Штурмовые отряды действовали не сами по себе». – «А кто же им приказал?» – «Геббельс. Мерзкий хромой карлик! Годами слюной исходил от желания встрять в еврейский вопрос. Но тут он обосрался». – «Тебе не кажется, что просто наступило время конкретных поступков? В конце концов…» Томас горько усмехнулся: «Конечно, надо что-то делать. Евреям пора испить свою чашу, причем до дна. Но не так. Не по-идиотски. Ты хоть себе представляешь, во что это обойдется?» Мой непонимающий взгляд раззадорил Томаса, и он затараторил: «Кому, по-твоему, принадлежат разбитые витрины? Евреям? Нет, они просто арендуют помещения, а ответственность при нанесении урона всегда лежит на хозяине. И не забудь про страховые компании. Возмещать ущерб немецким собственникам немецкой недвижимости, и, кстати, еврейским собственникам тоже, должны немецкие компании. В противном случае немецкой страховой системе грозит крах. Дальше – стекло. Такие оконные стекла не производятся в Германии. Их поставляет Бельгия. Сейчас ущерб только оценивается, но по предварительным подсчетам он составит около половины годового объема экспорта. И заплатить бельгийцам надо наличными. И это в тот момент, когда нация направляет все силы на создание независимой, самообеспечивающейся экономики, на перевооружение! О да, в нашей стране есть законченные кретины, – глаза его метали молнии, он плевался словами. – Но вот что я тебе скажу. Со всем этим теперь покончено. Фюрер официально поручил вопрос рейхсмаршалу, а в реальности толстяк все переложит на нас, на Гейдриха и на нас. И никто из этих партийных болванов не осмелится вмешаться. Мы наведем порядок. Многие годы мы двигались к Окончательному решению и теперь готовы действовать. Чисто, эффективно. Рационально. Наконец-то мы сможем делать все, как надо».
Томас уселся на лавку, закинул ногу на ногу, протянул мне портсигар из серебра с первоклассными сигаретами с блестящим фильтром. Я взял одну, поднес Томасу огня, но садиться не захотел. «Окончательное решение, о котором ты тогда говорил, в тот период связывали с эмиграцией. С тех пор положение вещей сильно изменилось». Прежде чем ответить, Томас выпустил клубок дыма: «Это верно. Как верно и то, что надо уметь меняться вместе с временами. Но не превращаться при этом в кретина. А риторика предназначается людям второго, а то и третьего разряда». – «Я не об этом. Я хочу сказать, что наше участие совершенно не обязательно». – «Ты бы охотнее занялся чем-то другим?» – «Да. Я устал». Настал мой черед затянуться сигаретой – прекрасный, ароматный, благородный табак. «Меня всегда в тебе поражало полнейшее отсутствие амбиций, – заметил Томас. – Я знаю десяток человек, которые убили бы и мать и отца за возможность лично побеседовать с таким человеком, как Мандельброд. Вообрази только, он ведь обедает с фюрером! А ты капризничаешь. Ты, по крайней мере, знаешь, чего хочешь?» – «Да. Я бы вернулся во Францию». – «Во Францию!» Томас призадумался. «Действительно неглупо, с твоими-то контактами и знанием языка. Хотя все не так просто. Во Франции пост начальника СД и полиции безопасности занимает Кнохен, мой хороший знакомый. Но мест мало, а желающих много». – «Я тоже знаю Кнохена и в подчиненные к нему не стремлюсь. Мне нужна должность, чтобы заниматься политическими отношениями». – «То есть в посольстве или при Militärbefehlshaber [46]. Но я слышал, что после ухода Беста вермахт, а тем паче Абец [47] не слишком жалует СС. Наверное, тебе проще найти подходяще место при Оберге, командующем СС и полицией. Первое управление здесь вряд ли поможет: нужно обращаться напрямую в Главное управление СС по личному составу, но там у меня никого нет». – «А если бы предложение исходило от Первого управления, это помогло бы делу?» – «Вероятно». Томас сделал последнюю затяжку и небрежно швырнул окурок на клумбу. «При Штрекенбахе проблем бы вообще не возникло. Но он, как и ты, слишком много думает и уже сыт по горло». – «Где он сейчас?» – «В ваффен-СС. Командует на фронте девятнадцатой латышской дивизией». – «А кто его заменил? Я не в курсе». – «Шульц». – «Шульц? Какой?» – «Ты разве не помнишь? Тот Шульц, который возглавлял подразделение в группе „Ц“ и еще в самом начале просил о переводе. Трусоватый, усики смешные». – «А, этот! Я с ним никогда не пересекался. Вроде он вполне вменяемый». – «Наверное, я не знаком с ним лично, но с группенштабом он не ладит. До войны он был банкиром, улавливаешь? А со Штрекенбахом я успел послужить в Польше. И потом Шульца назначили недавно, он сейчас будет особенно стараться. В первую очередь чтобы загладить свои грешки. Вывод: если ты подашь официальное прошение, тебя отправят куда угодно, только не во Францию». – «И что ты мне посоветуешь?» Томас встал, и мы медленно пошли дальше. «Слушай, я посмотрю, прикину. Вопрос сложный. И ты сам тоже подумай, ладно? Ты хорошо знаешь Беста: он часто бывает в Берлине, поинтересуйся его мнением. С ним легко связаться через Министерство иностранных дел. Но на твоем месте я бы не отказывался от других вариантов. Война идет. Тут не всегда есть выбор».
Прежде чем попрощаться, Томас попросил меня об услуге: «Я хотел бы, чтобы ты кое с кем встретился. С одним статистиком». – «Из СС?» – «Официально он является инспектором по статистике при рейхсфюрере СС. На самом деле он чиновник и даже не состоит в Альгемайне-СС [48]». – «Странно, да?» – «Не слишком. Рейхсфюреру, безусловно, был нужен кто-то со стороны». – «И что я должен рассказать этому статистику?» – «Он сейчас готовит для рейхсфюрера новый рапорт, общие данные о сокращении еврейской нации, и оспаривает цифры, представленные айнзатцгруппами. Я уже с ним встречался, однако неплохо бы и тебе с ним поговорить. Ты ближе к теме». Томас чиркнул в записной книжке адрес и телефон, вырвал страничку: «Его контора здесь неподалеку, в штабе СС, но он постоянно торчит у Эйхмана [49]. Догадываешься почему? Там собраны все архивы по делу. Здание теперь полностью в их распоряжении». Я взглянул на адрес: Курфюрстенштрассе. «О, рядом с моим отелем! Отлично». Беседа с Томасом не прибавила мне бодрости духа, я словно увяз в болоте, но решил не поддаваться унынию, взять себя в руки и заставил себя набрать номер статистика, доктора Корхера. Его секретарь назначил мне время. Отдел IV-B-4 занимал красивый, конца прошлого века, четырехэтажный дом из тесаного камня: другие отделения гестапо, насколько мне известно, не имели таких помещений; видимо, сфера деятельности отдела IV-B-4 была чрезвычайно обширной. По широкой мраморной лестнице я поднялся в вестибюль, плохо освещенный и похожий на склеп; Гофман, секретарь, уже ждал меня, чтобы проводить к Корхеру. «Внушительные площади», – заметил я, идя уже по другой лестнице. «Да. Здесь раньше располагалась жидомасонская ложа, которую, естественно, разогнали». Он привел меня к Корхеру в кабинет, малюсенькую комнатку, заваленную ящиками и папками: «Извините за беспорядок, штурмбанфюрер. Это временное пристанище». Доктор Корхер, невысокий угрюмый человек в штатском, не отсалютовал, а просто пожал мне руку. «Садитесь, пожалуйста», – произнес он, когда Гофман скрылся за дверью. Корхер попытался хотя бы частично освободить стол от бумаг, но потом решил оставить все как есть. «Оберштурмбанфюрер замечательно относился к документам, – проворчал он, – никакой систематизации». Он перестал рыться в папках, снял очки и протер глаза. «Оберштурмбанфюрер Эйхман здесь?» – спросил я. «Нет, он в командировке, вернется через несколько дней. Оберштурмбанфюрер Аузер уже объяснил вам, над чем я работаю?» – «В общих чертах». – «В любом случае поздновато вы явились. Я уже почти закончил рапорт и сдам его в ближайшие дни». – «Тогда чем могу быть полезен?» – отреагировал я довольно раздраженно. «Вы же служили в айнзатцгруппе, да?» – «Да. Начинал в подразделении». – «В каком?» – перебил он. «В IV-А». – «А… Блобель. Высокие результаты». Я не понимал, говорит он серьезно или иронизирует. «Потом я служил в группенштабе „Д“, на Кавказе». Он поморщился: «Ну, это меня интересует гораздо меньше. Показатели там низкие. Расскажите о IV-А». – «Что именно?» Корхер полез под стол, вынырнул с картонным ящиком и плюхнул его передо мной. «Вот рапорты группы „Ц“. Я со своим помощником доктором Плате скрупулезно изучил их. И констатировал престранные вещи: иногда, как, в частности, по Киеву, цифры поражают точностью – двести восемьдесят один, тысяча четыреста семьдесят два или тридцать три тысячи семьсот семьдесят один; а иногда данные округляют, причем порой те же самые подразделения. Мы обнаружили и явные противоречия. Например, в городе, где насчитывалась тысяча двести евреев, согласно рапортам, специальные меры были применены к двум тысячам. И так далее. Поэтому меня интересуют способы подсчета. Я имею в виду практические способы, использовавшиеся на местах». – «Вам следовало бы обратиться непосредственно к штандартенфюреру Блобелю. Думаю, он бы вас проинформировал лучше, чем я». – «Штандартенфюрер Блобель снова на Восточном фронте, и связаться с ним, к сожалению, нельзя. Но, знаете ли, у меня имеются кое-какие соображения. И я уверен, что ваши показания лишь подтвердят их. Для начала расскажите мне о Киеве. Цифра приводится огромная и, что любопытно, не округленная». – «Ничего удивительного. Наоборот, чем масштабнее была акция, чем больше средств выделялось для ее реализации, тем проще было производить подробные подсчеты. В Киеве создали плотное оцепление. Жертв… ну, то есть осужденных, делили на группы ровно по двадцать или тридцать человек, сейчас уже не вспомню, прямо возле места операции. Кому-нибудь из младших офицеров поручали считать и записывать количество групп, проходивших мимо его поста. В первый день остановились ровно на двадцати тысячах». – «И что же, ко всем, проходившим мимо поста, были применены специальные меры?» – «В принципе, да. Разумеется, кто-то мог притвориться мертвым, а потом бежать под покровом ночи. Но это единицы». – «А мелкие операции?» – «Ответственность за их проведение лежала на начальнике тайлькоманды, он же делал подсчеты и передавал цифры в штаб. Штандартенфюрер Блобель всегда настаивал на точности данных. Касательно случая, о котором вы говорили, когда уничтожили больше евреев, чем предварительно указывалось, я объясню: с нашим наступлением многие евреи бежали в леса и степь. Тайлькоманда соответствующим образом поступала с оставшимися на месте и двигалась дальше. Долго прятаться евреи не могли: украинцы вышвыривали их из деревень, партизаны расстреливали. И тогда голод потихоньку гнал евреев обратно, они возвращались в свои города и деревни, зачастую еще и с другими беженцами. Когда к нам поступала соответствующая информация, мы проводили повторную акцию и уничтожали еще некоторое количество. Но евреи продолжали стекаться. Некоторые деревни мы объявляли judenfrei по три, четыре, пять раз, потому что евреи появлялись там снова и снова». – «Ясно. Занимательная теория». – «Если я вас правильно понимаю, вы полагаете, что группы раздували цифры?» – меня задел его тон. «Откровенно говоря, да. Конечно, по разным причинам, и продвижение по службе – лишь одна из них. Другая – бюрократическая. В статистике такое часто встречается: организации выводят некую цифру, берут ее неизвестно откуда, но воспроизводят и передают дальше, не подвергая со временем ни проверке, ни изменению. Ее называют „цифра с потолка“. Однако от группы к группе, от подразделения к подразделению показатели расходятся. Хуже всего дело обстоит с айнзатцгруппой „Б“. Крупные нестыковки есть и у отдельных подразделений группы „Д“». – «Речь о сорок первом или сорок втором годе?» – «В основном о сорок первом. Начало года и затем Крым». – «Да, я на короткий период очутился в Крыму, но в операциях не участвовал». – «А что говорит ваш опыт в четвертом А?» Прежде чем ответить, я на мгновение задумался: «Я не сомневаюсь в честности офицеров. Но вначале организация была плохая, и, возможно, цифры иногда получались приблизительные». – «Так или иначе, особой роли это не играет, – поучительно заметил Корхер. – Айнзатцгруппы представляют лишь часть общих показателей. Даже отклонение в десять процентов вряд ли сильно исказило бы суммарный результат». Я почувствовал, как что-то сжалось у меня в груди, не давая дышать. «У вас есть цифра по всей Европе, герр доктор?» – «Да, конечно. До тридцать первого декабря тысяча девятьсот сорок второго года». – «Вы можете назвать мне ее?» Он уставился на меня сквозь очки: «Разумеется, нет. Это секретные данные, герр штурмбанфюрер». Мы еще немного побеседовали о работе подразделения; вопросы Корхер задавал четкие, въедливые. В конце он меня поблагодарил. «Мой рапорт адресован лично рейхсфюреру, – объявил он. – Если потребуется и ваши полномочия это позволят, вы с ним ознакомитесь». Он проводил меня до самого выхода из здания: «Удачи! Хайль Гитлер».
Зачем я приставал к Корхеру с идиотскими, ненужными расспросами? Меня-то каким образом это касается? Я проявил нездоровое любопытство, о чем теперь очень сожалел. Мне нужно концентрироваться на позитивных моментах: национал-социализму предстоит большое строительство, вот где я должен приложить свои силы. Только евреи, unser Unglück, наше наказание, преследовали меня, как дурной сон на рассвете, навязчиво прокручивающийся в голове. В Берлине, кстати, евреев уже почти не осталось: недавно вывезли так называемых «защищенных» – евреев, работавших на военных заводах. Но мне суждено было увидеть свой дурной сон еще раз и в совершенно невероятных обстоятельствах.
Двадцать первого марта, в День памяти героев, фюрер произнес речь. Это было его первое появление перед широкой публикой после поражения при Сталинграде, и я, подобно многим, ждал его выступления с тревогой и нетерпением: что он скажет, как будет выглядеть? Потрясение после катастрофы еще не прошло, слухи повсюду клубились самые разные. Мне очень хотелось присутствовать на выступлении. Я видел фюрера лично лишь один раз, больше десяти лет назад, хотя, конечно, неоднократно слышал его по радио и видел в кинохронике. Это произошло во время моего первого возращения в Германию, летом 1930 года, перед взятием власти. Я выклянчил поездку у матери и Моро взамен на согласие продолжить учебу. Я сдал выпускной экзамен (правда, без оценки, поэтому, чтобы поступить в Свободную школу политических наук, вынужден был посещать подготовительное отделение), и они меня отпустили. Путешествие получилось чудесное, я вернулся вдохновленный и зачарованный. Я отправился в Германию в компании двоих лицейских друзей, Пьера и Фабриса. Не имея никакого представления о Wandervögel [50], мы шли практически по их следам, порой весь день напролет ходили по лесам, разговаривали, а ночью разжигали маленький костер и укладывались спать прямо на земле, на подстилку из сосновых игл. Потом мы спустились к Рейну, путешествовали по городам и добрались до Мюнхена, где я долгими часами торчал в Пинакотеке или просто слонялся по улочкам. Германия тем летом опять бурлила: последствия прошлогоднего краха американской биржи давали о себе знать весьма ощутимо; намеченные на сентябрь выборы в рейхстаг должны были решить будущее нации. Все политические партии развили активную агитационную деятельность, выступления, парады, иногда доходило до рукоприкладства и довольно серьезных потасовок. В Мюнхене на фоне прочих особо выделялась одна партия – НСДАП, о которой я тогда услышал впервые. Итальянских фашистов я уже видел в кинохронике, и для НСДАП они, похоже, являлись образцом. При этом идеи национал-социалистов были сугубо германскими, и их вождь, бывший солдат-фронтовик Мировой войны, говорил об обновлении Германии, о немецком величии, о славном и многообещающем будущем немцев. Вот за что – думал я, провожая взглядом колонны национал-социалистов, – четыре долгих года сражался мой отец: за то, чтобы в итоге его и всех его товарищей предали, за то, чтобы потерять свою землю, свой дом. Вот к чему питал отвращение Моро, примерный радикал-социалист и французский патриот, который каждый год поднимал бокал в день рождения Клемансо, Фоша и Петена. Вождь НСДАП собирался держать речь в Bräukeller [51], я отправил своих французских приятелей в нашу крошечную гостиницу, а сам остался. Толпа оттеснила меня в глубину зала, я еле слышал выступавших. Что же касается фюрера, я запомнил лишь, как он отчаянно жестикулировал и как прядь волос постоянно падала ему на лоб. Я абсолютно уверен, что, если бы мой отец был там, он сказал бы то же, что и фюрер; если бы отец был жив, он наверняка стоял бы на эстраде рядом с этим человеком в числе его первых соратников и – кто знает? – даже оказался бы на его месте. Кстати, когда фюрер на секунду замер, мне показалось, что я улавливаю сходство между ним и отцом. Когда я возвращался домой, передо мной впервые забрезжила надежда, что существует другой путь, вместо того узкого, убийственного, начертанного для меня матерью и ее муженьком, что мое будущее здесь – с несчастным немецким народом, народом отца и моим тоже.
С тех пор многое изменилось. Фюрер полностью сохранял доверие нации, но вера в окончательную победу потихоньку испарялась. Люди ругали высшее командование, прусскую аристократию, Геринга и его люфтваффе; я знал, что и вермахт осуждает фюрера за привычку вмешиваться. В СС шушукались: после Сталинграда у фюрера началась депрессия, он ни с кем не разговаривает; когда Роммель в начале месяца пытался убедить фюрера в необходимости эвакуировать войска из Северной Африки, тот слушал не понимая. Народная молва, судя по рапортам СД, которые получал Томас, в поездах, трамваях, очередях и вовсе разносила откровенные бредни: вермахт заточил фюрера в резиденции в Берхтесгадене, фюрер потерял рассудок, его содержат под охраной и обкалывают наркотиками в больнице СС, а на публике появляется его двойник и так далее. Выступление фюрера должно было проходить в Цейхгаузе, старом арсенале в конце Унтер-ден-Линден. У меня, ветерана Сталинграда, получившего ранение и имевшего награды, проблем с приглашением не возникло; я звал с собой Томаса, но он, смеясь, ответил: «Я не в отпуске, работы по горло». Я пошел один. Меры безопасности предприняли беспрецедентные; в приглашении значилось, что вход с табельным оружием запрещен. Некоторые, конечно, боялись возможного воздушного рейда британцев: их «Москито» уже атаковали нас в январе в самый День взятия власти, было много жертв. Тем не менее стулья расставили во дворе Цейхгауза под огромным стеклянным куполом. Я сел где-то посередине, между каким-то оберст-лейтенантом, увешанным орденами, и человеком в штатском с золотым значком члена Партии на отвороте пиджака. Отзвучали вступительные речи, и на эстраде появился фюрер. Я вытаращил глаза: мне показалось, что у него на голове и на плечах поверх простой, защитного цвета военной формы наброшено большое бело-синее молитвенное покрывало раввина. Фюрер сразу начал говорить – быстро, почти без интонаций. Я изучал стеклянную крышу: быть может, все дело в причудливой игре света? Я отлично видел его фуражку, но мне мерещилось, что по вискам до лацканов свисают длинные пейсы, а на лбу – филактерии, или тфилин, маленькая кожаная коробочка со стихами Торы внутри. Когда фюрер поднял руку, я тут же углядел у него на рукаве другую кожаную коробочку; и что это торчит из-под кителя – уж не белые ли кисти молитвенной накидки, которую евреи называют малый талит? Я был в смятении. Обернулся на соседей: они торжественно внимали, один чиновник усердно кивал головой. Никто ничего не замечает? Я единственный свидетель невероятного зрелища? Я перевел взгляд на правительственную трибуну: Геринг, Геббельс, Лей, рейхсфюрер, Кальтенбруннер, другие известные руководители и высокие чины вермахта невозмутимо сидят за фюрером, смотрят или ему в спину, или в зал. Наверное, с ужасом догадался я, тут повторяется история нового платья короля: все видят, что король голый, но молчат, надеясь, что правду скажет другой. Нет, – урезонивал я сам себя, – без сомнения, у меня галлюцинации, с моим ранением такое вполне возможно. Но я же чувствую, что с головой у меня полный порядок! Я сидел довольно далеко от эстрады, свет падал на фюрера сбоку; несомненно, это просто оптический обман! Тем не менее накидка не исчезала. А может, это мой «третий глаз» играет со мной злую шутку? По крайней мере, ничего общего со сном в этом не было. Не исключено, что я сошел с ума. Фюрер быстро закончил речь, и вот уже я, путаясь в собственных мыслях, оказался в толпе, спешащей к выходу. Фюреру еще предстояло посетить организованную в залах Цейхгауза выставку военных трофеев, захваченных у большевиков, потом обойти почетный караул и возложить венок у Нойе-Вахе; пригласительная карточка предписывала мне следовать за ним, но я был совершенно сбит с толку и взволнован. Я постарался отделиться от толпы и направился вверх по улице к станции городской железной дороги. Пересек улицу и устроился в кафе под аркадой Кайзер-галереи, заказал шнапс, опрокинул рюмку, потом вторую. Пытаясь разобраться в увиденном, я терял нить размышлений, мне вдруг стало тяжело дышать, я расстегнул воротник, выпил еще. Мне пришло в голову, что есть верное средство развеять сомнения: вечером в кино в хронике покажут отрывки выступления фюрера, у меня появился шанс разобраться в ситуации. Я попросил принести газету с расписанием сеансов: в девятнадцать часов, совсем скоро, «Дядюшка Крюгер». Я купил сэндвич и пошел в Тиргартен. Было еще холодно, и народу под голыми деревьями гуляло мало. Предположения самого разного рода крутились в моей голове, я с нетерпением ждал начала фильма, хотя перспективы что-либо увидеть или не увидеть представлялись мне одинаково зыбкими. К семи часам я подошел к кинотеатру, занял очередь в кассу. Люди, стоявшие передо мной, обсуждали речь, которую, вероятно, уже передали по радио, я жадно прислушивался. «Он опять все свалил на евреев, – возмущался довольно худой господин в шляпе, – только я не понимаю, как можно обвинять евреев, если их больше нет в Германии?» – «Ну, нет, Dummkopf [52], – ответила вульгарная на вид женщина с завивкой-перманентом на обесцвеченных волосах, – дело тут в международном еврействе». – «Да, – возразил мужчина, – но если международное еврейство так влиятельно, то почему оно здесь не спасло своих братьев по крови?» – «Они нас наказывают бомбардировками, – высказалась худощавая дамочка с волосами с проседью. – Вы же в курсе, что они недавно натворили в Мюнстере? Все для того, чтобы заставить нас страдать. Будто мы и так недостаточно страдаем за наших фронтовиков». – «А по-моему, возмутительно, – настаивал пузан с красной физиономией, одетый в серый в полоску костюм, – что он даже не упомянул Сталинград. Стыд и срам». – «О, не говорите мне про Сталинград, – взмолилась травленая блондинка. – У моей несчастной сестры там сын Ганс в семьдесят шестой дивизии. Она с ума сходит, не знает даже, жив мальчик или нет». – «По радио сообщали, – вмешалась дамочка с проседью, – что там все погибли. И еще сообщали, что солдаты сражались до последнего патрона». – «А ты, бедняжка, веришь сводкам? – усмехнулся мужчина в шляпе. – Мой кузен, полковник, рассказывал, что многих наших взяли в плен. Тысячи, а может, сотни тысяч». – «То есть бедняжка Ганс мог попасть в плен?» – спросила блондинка. «Вполне мог». – «А что же он тогда не пишет? – ехидно поинтересовался толстый бюргер. – От наших пленных из Англии и Америки письма приходят, Красный Крест способствует». – «Действительно, – подхватила женщина с мышиным личиком. – Как, по-вашему, они будут писать, если официально значатся в списках погибших. Они-то пишут, да наши письма не доставляют». – «Позвольте, – вмешался новый собеседник, – тут вы правы. Моя свояченица, сестра жены, получила письмо с фронта за подписью: немецкий патриот, в котором сообщалось, что ее муж-танкист жив. На нашей линии фронта под Смоленском русские разбросали листовки с мелко отпечатанными списками имен, информацией для семей и адресами. Наши солдаты их подбирают и пишут анонимные письма или просто отсылают саму листовку». К беседе присоединился подстриженный по-военному мужчина: «Как бы то ни было, пленные, даже если они есть, долго не протянут. Большевики погонят их в Сибирь и замучают до смерти на строительстве каналов. Ни один из наших не вернется. Впрочем, после всего, что мы сделали, это будет справедливо». – «Что значит „после всего, что мы сделали?“» – живо отреагировал толстяк. Травленая блондинка заметила меня и вытаращилась на мою форму. Человек в шляпе опередил военного: «Фюрер сказал, что с начала войны у нас пятьсот сорок две тысячи убитых. Вы этому верите? Я думаю, он просто врет». Блондинка толкнула его локтем в бок и покосилась на меня. Мужчина проследил за ее взглядом, покраснел и забормотал: «Ну, правда, ему могут передавать не все цифры…» Остальные тоже посмотрели на меня и замолчали. Я сохранял бесстрастный, отсутствующий вид. Потом толстяк попытался сменить тему, но очередь зашевелилась и продвинулась к кассе. Я взял билет и занял место в зале. Вскоре свет погас, пошли новости, речь фюрера поставили в самом начале. Пленка была зернистая, кадры прыгали, обрывались, видимо, и фильм монтировали, и копии делали в спешке. Мне по-прежнему мерещилось полосатое покрывало на голове и плечах фюрера, а больше, кроме его усиков, я ничего толком не различал. Мои мысли разбегались во все стороны, как прыскают стайки испуганных рыб перед водолазом. Фильма я практически не видел, это была какая-то англофобская ахинея, и неотступно думал о том, что видел днем, – нет, это же полный бред! Я понимал: в реальности такое невозможно, но в то же время не хотел верить, что у меня галлюцинации. Что сотворила пуля с моей головой? Необратимо исказила мир или же вправду у меня открылся третий глаз, способный видеть обычно скрытые вещи? Когда сеанс закончился, на улице уже стемнело, пора бы поужинать, но есть не хотелось. Я вернулся в отель и заперся в номере. В течение трех дней я никуда не выходил.
В дверь постучали, я открыл: рассыльный передал, что оберштурмбанфюрер Хаузер оставил мне сообщение. Я попросил вынести тарелки с остатками еды, которую заказывал накануне, и, прежде чем спуститься позвонить, принял душ и причесался. Вернер Бест в Берлине, сообщил мне Томас, и готов встретиться со мной сегодня вечером в отеле «Адлон». «Ты будешь?» Я поднялся к себе, наполнил ванну горячей водой, погрузился в кипяток и не вылезал, пока не почувствовал, что легкие вот-вот разорвутся. Потом попросил прислать парикмахера, побрился и в указанный час явился в «Адлон». Я нервно крутил в руках бокал «Мартини» и, провожая взглядом гауляйтеров, дипломатов, офицеров СС высшего ранга, богатых аристократов, которые назначали здесь свидания или останавливались, будучи проездом в Берлине, думал о Бесте. Как такой человек, как Вернер Бест, отреагировал бы, если бы я признался, что видел фюрера в покрывале раввина? Бест, несомненно, порекомендовал бы мне обратиться к врачу. Впрочем, возможно, он разъяснил бы мне холодно, что так было надо. Любопытный тип. Я познакомился с ним летом 1937 года, Томас просил его о помощи, когда меня арестовали в Тиргартене; впоследствии Бест ни разу не намекнул на тот случай. После моего поступления на службу он продолжал мной интересоваться, хотя я был моложе лет на десять, неоднократно приглашал поужинать, обычно вместе с Томасом и кем-нибудь из офицеров СД, как-то раз с Олендорфом, который пил много кофе и мало говорил, а иногда мы встречались тет-а-тет. Бест был человеком удивительно конкретным, сдержанным, объективным и в то же время страстно преданным идеалам. Едва познакомившись с Бестом, я сразу заметил, что Томас Хаузер подражает ему, а позже убедился: это касается почти всех молодых офицеров СД, восхищавшихся им в большей степени, чем Гейдрихом. Бест в тот период проповедовал так называемый героический реализм. «Имеет значение не то, ради чего ведется борьба, а то, как она ведется» – цитировал он Юнгера, чьи книги читал с жадностью. Для Беста национал-социализм являлся не столько политической позицией, сколько образом жизни, суровым и радикальным, где смешивались воедино способность к объективному анализу и готовность действовать. Высшая мораль – объяснял он нам – состоит в преодолении традиционных запретов во благо народа. В этом отношении Kriegsjugendgeneration, «поколение военной молодежи», к которому принадлежал и он, и Олендорф, и Сикс, и Кнохен, и Гейдрих, отличается от предыдущего junge Frontgeneration, «поколения молодых фронтовиков», переживших войну. Большинство гауляйтеров и руководителей Партии, в том числе Гиммлер, и Ганс Франк, и Геббельс, и Дарре тоже представляли Kriegsjugendgeneration, но Бест обвинял их в идеализме, сентиментальности, наивности и отсутствии реального взгляда на вещи. «Военная молодежь», не заставшая ни войну, ни даже выступлений фрайкоров, выросла в смутные годы Веймара и в противовес тогдашнему хаосу выработала радикальный, народный подход к национальным проблемам. Молодые люди примкнули к НСДАП не из-за ее идейных разногласий с другими народными партиями двадцатых годов, а потому, что НСДАП не погрязла в теориях, внутрипартийных дрязгах и бесконечной, пустопорожней болтовне, а сконцентрировалась на организации, массовой пропаганде и активных действиях, естественным путем заняв лидирующее положение. И именно СД стала воплощением непримиримой, объективной, честной позиции Партии. Наше поколение – тут Бест имел в виду наших с Томасом ровесников – еще окончательно не сформировалось: оно достигло зрелости при национал-социализме, но пока не сталкивалось с настоящими трудностями. И мы должны готовиться к их преодолению, выработать жесткую самодисциплину, учиться борьбе за нацию и, если понадобится, уничтожать врагов, без ненависти и злобы, планомерно, оперативно, осмысленно, а не так, как приучились эти тевтонские бонзы, привыкшие действовать так, будто до сих пор ходят в звериных шкурах. Вот такие настроения господствовали в СД в эру профессора доктора Альфреда Сикса, возглавлявшего и отделение, в котором я начал работать, и одновременно факультет зарубежной экономики в университете. Человеком он был желчным, скорее неприятным, чаще говорил о расово-биологической политике, чем об экономике. Он исповедовал те же методы, что и Бест, и пользовался авторитетом среди молодых людей, завербованных в течение нескольких лет Хёном, – молодых волков СД. Среди них были Шелленберг, Кнохен, Берендс, Альквэн, конечно, Олендорф и ныне менее известные Мельхорн, Гюрке, убитый в бою в 1943 году, а также Леммель, Тауберт. Все они были деятельными, собранными, обладали ясным умом, в Партии их недолюбливали, а я, вступив в СД, мечтал стать таким, как они. Впрочем, теперь я не уверен, что хочу этого. После опыта, полученного на Востоке, у меня создалось впечатление, что идеалистов СД вытеснили полицейские, бездушные чиновники, сторонники насилия. Я не знал, что думает Бест об Endlösung, но не испытывал желания ни расспрашивать его, ни даже затрагивать эту тему, ни тем более делиться собственным неоднозначным мнением.
Бест, в нарядной черной форме с двойным рядом серебряных пуговиц и широкими лацканами из белого бархата, появился лишь через полчаса. Мы для порядка обменялись официальным приветствием, после чего он энергично жал мне руку, извиняясь за опоздание: «Я был у фюрера. Даже не успел переодеться». Пока мы поздравляли друг друга с повышением, к нам подошел метрдотель, приветствовал Беста и провел нас за зарезервированный столик в отдельной кабинке. Я заказал второй «Мартини», Бест – бокал красного вина. Его интересовала моя деятельность в России, я отвечал, не вдаваясь в детали: все равно Бест лучше, чем кто-либо, понимал, что такое айнзатцгруппа. «А теперь?» Я поделился с ним своим планом. Бест терпеливо слушал, кивал; на высоком выпуклом лбу, блестевшем в свете люстр, осталась красная вмятина, след от фуражки, которую он положил на банкетку. «Да, помню, – наконец произнес он. – Вас давно интересовало международное право. Почему вы ничего не публиковали?» – «Откровенно говоря, у меня никогда не было такой возможности. В РСХА, после вашего ухода, мне доверяли только вопросы конституционного и уголовного права, а на фронте заниматься этим нереально. Зато я приобрел прекрасные практические знания о наших методах оккупации». – «Не думаю, что Украина – лучший тому пример». – «Разумеется, нет, – согласился я. – Никто не понимает, почему Коху позволили распоясаться. Просто катастрофа». – «Это одно из нарушений функций национал-социализма. В отличие от нас, Сталин в таких случаях гораздо более принципиален. Но я надеюсь, что у людей, подобных Коху, нет будущего. Вы читали номер „Фестгабе“, изданный нами к сорокалетнему юбилею рейхсфюрера?» Я покачал головой: «К сожалению, нет». – «Я вам передам экземпляр. Там я развиваю теорию Grossraum, основываясь на понятии народного, völkish; статьи вашего бывшего профессора Хёна и Штукарта из Министерства внутренних дел освещают эту же тему. Леммель тоже высказался по этому поводу, но в другом издании. Речь идет о том, что пора прекратить критический разбор работ Карла Шмитта и одновременно выдвинуть на передний план СС как движущую силу в строительстве Нового европейского порядка. Рейхсфюрер, при поддержке таких людей, как мы, мог бы быть главным архитектором. Но он упустил свой шанс». – «Что же произошло?» – «Трудно сказать. То ли рейхсфюрер поглощен проектами по восстановлению немецкого Востока, то ли перегружен другими задачами. Естественно, свою роль сыграло и участие СС в решении демографических проблем на Востоке. Здесь отчасти и кроется причина, по которой я решил покинуть РСХА». Я почувствовал, что в его последнем утверждении не хватало искренности. Еще в тот период, когда я защитил диссертацию (о совместимости позитивной государственной власти с понятием Volksgemeinschaft) и поступил в СД на условиях полной занятости, у Беста, которому я помогал проводить юридические экспертизы, начались проблемы, и в первую очередь с Шелленбергом. Шелленберг и в личных беседах, и письменно обвинял Беста в излишнем бюрократизме, ограниченности, называл его чернильным адвокатом, буквоедом. Гейдрих, как говорят, придерживался такого же мнения, по крайней мере, он полностью развязал руки Шелленбергу. Бест, со своей стороны, критиковал полицию за пренебрежение должностными правами. Конкретный пример: он настаивал на том, чтобы служащие СД, прикомандированные к СП, как, например, мы с Томасом, действовали в рамках общегосударственных административных правил и процедур, а все руководители отделов обязательно имели юридическое образование. Гейдрих же называл все это детским садом, и Шелленберг не прекращал своих нападок. Помню, Бест тогда поразил меня своим замечанием: «Вы знаете, несмотря на ненависть к тысяча семьсот девяносто третьему году, иногда я чувствую, как мне близок Сен-Жюст, сказавший: „Меня меньше пугает суровый нрав или заблуждения одних, чем изворотливость других“». Все это происходило весной накануне войны; о событиях осени, уходе Беста, моих собственных переживаниях, я уже писал. Мне всегда было ясно, что Бест старается видеть положительный момент в своих служебных перипетиях. «Во Франции и теперь в Дании, – рассказывал он, – я пытаюсь изучить практические аспекты этих теорий». – «И как продвигается работа?» – «Во Франции хорошо восприняли идею администрации, осуществляющей общий контроль. Но мы часто сталкивались с вмешательством вермахта, проводившего собственную политику, и Берлина, который пошел нам наперекор в историях с заложниками. И потом, конечно, одиннадцатое ноября всему положило конец. На мой взгляд, это была грубейшая ошибка. Ну, ладно! Зато из Дании я надеюсь сделать образцовый протекторат». – «Вашу работу хвалят». – «О, у меня есть серьезные критики! Вы же знаете, я лишь в начале пути. Однако помимо текущих задач очень важно сформировать общее видение послевоенной ситуации. На сегодняшний момент все наши средства ad hoc [53] несогласованны. И фюрер посылает весьма противоречивые сигналы о своих намерениях. Поэтому так трудно давать какие-либо конкретные обещания». – «Я прекрасно понимаю, что вы под этим подразумеваете». Я кратко рассказал Бесту о Липпере, о надеждах, которыми он делился со мной во время нашей беседы в Майкопе. «Да, отличный пример, – откликнулся Бест. – Но вы должны осознавать, что и другие обещают фламандцам то же самое. И теперь уже рейхсфюрер с подачи обергруппенфюрера Бергера занялся внедрением собственной политики и создает национальные легионы ваффен-СС, что не совместимо или, во всяком случае, не согласуется с политикой Министерства иностранных дел. Проблема состоит в следующем: поскольку фюрер лично не вмешивается, каждый проводит свою политику. Нет общего мнения, и, как следствие, нет и по-настоящему расовой политики. Истинным национал-социалистам мешают выполнять их работу, направлять и возглавлять Volk; вместо этого члены партии, Parteigenossen, распределяют между собой вотчины, чтобы править там, как заблагорассудится». – «То есть вы сомневаетесь, что члены Партии являются подлинными национал-социалистами?» Бест поднял палец вверх: «Подождите! Не путайте членов Партии с партийными товарищами. Между членами Партии, вами, мной, и Parteigenossen существует разница. Национал-социалист должен верить в идею. А поскольку идея общая, все настоящие национал-социалисты работают в одном направлении, во благо народа. Но вы же не возьметесь утверждать, что эти люди, – Бест обвел рукой зал, – настоящие национал-социалисты? Партийный товарищ обязан карьерой Партии, отстаивает свое место в ее недрах и защищает ее позицию в полемике, возникающей с другими иерархическими структурами, не учитывая при этом интересы народа. В самом начале Партия замышлялась как механизм, сила, мобилизующая народ; теперь же она превратилась в бюрократическую машину, не отличающуюся от других. Некоторые из нас уже давно полагают, что СС в состоянии прийти ей на смену. Да и сейчас еще не поздно. Но и СС тоже поддается опасным искушениям». Мы выпили немного; мне хотелось вернуться к волнующей теме. «Что вы думаете о моем намерении? – наконец спросил я. – Мне кажется, что именно во Франции с моим прошлым, знанием страны и течений французской мысли я мог бы быть наиболее полезен». – «Наверное, вы правы. Сложность в том, и вам это известно, что СС во Франции несколько вне игры и выполняет исключительно полицейские функции. Я подозреваю, что у Militärbefehlshaber мое имя не слишком вам поможет. У Абеца – и того менее: он не выносит вторжения в свою епархию. Но если вы тверды в своем решении, свяжитесь с Кнохеном. Он непременно вас вспомнит». – «Да, дельный совет», – выдавил я. Не на то я рассчитывал! Бест продолжал: «Вы можете сослаться на мою рекомендацию. А Дания? Не пойдет? Я нашел бы для вас хорошую должность». Я старался скрыть растущее замешательство: «Я очень вам благодарен за предложение. Но у меня уже есть конкретные представления, связанные с положением во Франции, и я намереваюсь, если удастся, их расширить и углубить». – «Я вас понял. Если передумаете, звоните». – «Конечно». Бест глянул на часы. «Я ужинаю с министром, мне срочно надо переодеться. Если я надумаю что-нибудь по поводу Франции или услышу о достойной позиции, то непременно оповещу вас». – «Буду очень признателен. И еще раз спасибо, что уделили мне время». Бест допил бокал и ответил: «Мне было приятно. С тех пор как я покинул РСХА, именно этого мне не хватает больше всего: возможности открыто дискутировать с людьми, близкими по убеждениям. В Дании приходится постоянно быть начеку. До свидания, хорошего вечера!» Я проводил Беста, мы расстались на улице у бывшего посольства Великобритании. Меня взволновали последние слова Беста, я смотрел вслед его машине, катившей по Вильгельмштрассе, потом повернулся и пошел к Бранденбургским воротам и Тиргартену. Человек, близкий по убеждениям? Когда-то, несомненно, так оно и было, а где они теперь, мои четкие и твердые убеждения? Я словно наяву видел, как они тихо снуют вокруг меня: но то, что я ловил, моментально выскальзывало из пальцев, будто сильный, проворный угорь.
Вот Томас – тот действительно человек с убеждениями, причем эти убеждения определенно способствовали удовлетворению его амбиций и желаний. Вернувшись в отель, я обнаружил записку: Томас звал меня на балет. Я перезвонил, чтобы извиниться; но он прервал меня на полуслове: «Ну, как прошла беседа?», потом принялся объяснять, почему он в свою очередь не может ничего сделать. Я внимательно слушал и, улучив удобный момент, отказался от приглашения. Томас возмутился: «Ты одичал. Тебе полезно выходить». В итоге я согласился, хотя идти мне ужасно не хотелось. Все русские балеты были, естественно, запрещены, давали дивертисменты Моцарта, «Гавот» и балетные номера из «Идоменея», а потом «Безделушки». Оркестром дирижировал Караян, восходящая звезда, еще не затмивший в ту пору славу Фуртвенглера. Я встретился с Томасом у служебного входа: кто-то из его друзей предоставил нам свою личную ложу. Организовано все было прекрасно. Услужливые гардеробщицы, приняв шинели и фуражки, проводили нас в буфет, где мы в компании музыкантов и старлеток студии Геббельса, которых Томас сразу очаровал своими остроумием и элегантностью, выпили аперитив. Когда нас привели в ложу, расположенную у самой сцены над оркестровой ямой, я прошептал: «Не желаешь ангажировать какую-нибудь?» Томас пожал плечами: «Смеешься? Чтобы после пролечиться у хорошего доктора, надо быть, как минимум, группенфюрером». Вопрос сорвался у меня с губ машинально, я вовсе не хотел поддеть его, просто меня все раздражало и ничего не хотелось, но спектакль постепенно захватил меня. Лишь несколько метров отделяли нас от танцоров, и, глядя на них, я чувствовал себя жалким, изможденным, несчастным, словно вновь ощущал холод и ужасы войны. Артисты, ослепительные в своих блестящих костюмах, совершали прыжки и пируэты, сверкающие, великолепные тела приводили меня в восторг, я испытывал бешеное возбуждение, впрочем, без надежды и цели, не собираясь ничего предпринимать. В первом антракте я ринулся в бар и, возбужденный, вспотевший в своей форме, хлопнул несколько бокалов и прихватил бутылку с собой в ложу. Томас весело поглядывал на меня и тоже пил, но медленнее. Дама, сидевшая в ложе напротив нас, все время изучала меня в бинокль. У меня бинокля не было, и хорошенько рассмотреть ее я не мог, но она явно не сводила с меня глаз, и, в конце концов, это начало действовать мне на нервы. Во втором антракте я не стал знакомиться с дамой, а продолжил пить с Томасом в закрытом для публики буфете. Когда началось третье действие, я радовался, как ребенок, аплодировал, хотел даже послать цветы какой-нибудь из танцовщиц, но не мог решить, которой именно. К тому же я не знал их имен, не знал, как представиться и вообще боялся попасть впросак. Дама по-прежнему следила за мной, но мне уже было наплевать. Я пил и смеялся. «Ты прав, – сказал я Томасу, – идея оказалась отличной». Все меня завораживало и пугало. Мне не удавалось разгадать красоту танцоров, телесную, красоту почти отвлеченную, асексуальную, без различий между мужчинами и женщинами: такая красота меня почти возмущала. После балета Томас затащил меня на какую-то улочку в районе Шарлоттенбурга; перешагнув порог заведения, я, к своему ужасу, понял, что попал в дом терпимости, но отступать было поздно. Я налегал на выпивку и бутерброды, пока Томас отплясывал с полуголыми девицами, которые явно видели его не впервые. Кроме нас тут еще сидели офицеры и штатские. Крутились американские пластинки, неистовый, истерический джаз заглушал резкий смех проституток. Большинство из них были в цветастом шелковом нижнем белье, мягкие, податливые, белые телеса, которые лапал Томас, вызывали у меня тошноту. Одна девка попыталась пристроиться у меня на коленях, я легонько толкнул ее рукой в голый живот, но она была настойчива, наконец я грубо выругался, и она обиделась. Я чувствовал себя совершенно разбитым, страдал от всего этого блеска и шума. Томас со смехом налил мне очередной стакан: «Если она тебе не понравилась, незачем скандалить, есть же другие». Он раскраснелся и махал рукой: «Выбирай, выбирай, я плачу». Чтобы он отстал, я, держа за горлышко недопитую бутылку, вышел с первой попавшейся девкой. В ее комнате было тихо. Она помогла мне снять китель и начала расстегивать пуговицы на рубашке, но я остановил ее и усадил рядом. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Эмили», – она сделала ударение на последнем слоге – на французский манер. «Расскажи мне что-нибудь, Эмили». – «Какую же историю вы хотите?» – «О твоем детстве». Я замер при первых же ее словах: «У меня была сестра-близняшка. Она умерла в десять лет. У нас обеих была острая ревматическая лихорадка, а потом сестра умерла от уремии, вода поднималась, поднималась… Сестра задохнулась». Девица порылась в ящике, вытащила две фотографии в рамках. Одна запечатлела стоящих бок о бок близняшек с огромными глазами и ленточками в косах, вторая – покойницу в гробике, украшенном тюльпанами. «Эту фотографию повесили дома. С того самого дня мать ненавидела тюльпаны, их запах. Еще она повторяла: „Я потеряла ангела и осталась с дьяволом“. С тех пор, ненароком заметив свое отражение в зеркале, я думала, что вижу умершую сестру. Если я возвращалась из школы бегом, то мать впадала в ярость, поэтому я всегда старалась замедлить шаг». – «Как же ты здесь очутилась?» Но утомленная девица уже заснула на диване. Я облокотился на стол и время от времени отхлебывал из стакана. Она встрепенулась: «Ох, извините! Я сейчас разденусь». Я улыбнулся и ответил: «Не нужно». Присел на кушетку, положил ее голову себе на колени и погладил по волосам: «Ну, поспи немного».
В отеле «Эден» меня ждала новость: «Фрау фон Юкскюль, – пояснил портье. – Здесь номер телефона, по которому вы можете ей позвонить». Я поднялся в номер, не снимая кителя, в отчаянии рухнул на диван. Зачем она нашла меня после стольких лет? Почему сейчас? Я не сумел бы ответить, хочу ли я опять встретиться с ней; но я знал, что, если она этого хочет, отказаться от встречи так же невозможно, как перестать дышать. Ночью я почти не спал: меня одолели воспоминания. В отличие от солнечных, ярких, счастливых грез, нахлынувших на меня в Сталинграде, они тонули в холодном блеске белой, горькой луны. Весной, вернувшись с горнолыжного курорта, мы возобновили игры на чердаке, наши голые тела блестели в пыльных столпах света, среди игрушек, груды чемоданов и вешалок со старой одеждой, за которыми мы прятались. Я был бледен после зимы, на моем теле еще не росли волосы, а у нее между ног уже темнел пушок и крошечные бугорки слегка деформировали так нравившуюся мне ровную, гладкую грудь. Но средства повернуть время вспять не существует. Было по-прежнему холодно, мы мерзли, покрывались мурашками. Она вскарабкалась на меня, но по внутренней стороне ляжек у нее потекла тоненькая струйка крови. Она плакала: «Начинается, начинается вырождение». Я обнимал ее своими худыми руками и тоже плакал. Нам еще не исполнилось и тринадцати лет. Жуткая несправедливость: я хотел быть таким же, как она; почему у меня не шла кровь, – тогда мы страдали бы вместе! Почему мы не похожи? Игры продолжались, эякуляция у меня еще не наступала; вероятно, тогда мы и стали приглядываться друг к другу и к себе самим внимательнее, чем раньше, и между нами уже возникала дистанция, к сожалению, непреодолимая, хотя именно это, видимо, и заставляло нас форсировать события. И вот произошло то, что должно было произойти: беловатая липкая слизь на ладони, на ногах. Я показал пятна Уне. Она поразилась и испугалась, ведь ей уже объяснили, что к чему. Впервые мы заметили, что чердак мрачный, грязный, затянут паутиной. Я попытался поцеловать ее округлившуюся грудь, но она опустилась на колени и подставила мне узкую девичью попку. В ванной матери она захватила кольдкрем: «Держи, – сказала она. – Так ничего не случится». Я гораздо отчетливее запомнил едкий, одуряющий запах крема, чем свои ощущения. Тогда мы еще балансировали между райской невинностью и грехопадением.
Я позвонил Уне ближе к полудню, голос ее не дрогнул: «Мы в отеле „Кайзерхоф“». – «Ты свободна?» – «Да. Мы можем встретиться?» – «Я заеду за тобой». Она ждала в холле, встала, увидев меня. Я снял фуражку, она осторожно коснулась моей щеки. Потом отступила на шаг, осмотрела меня, кончиком пальца постучала по круглому значку со свастикой на кителе: «Форма тебе, пожалуй, идет». Я молча глядел на нее: не изменилась, уже зрелая женщина, конечно, но такая же красивая. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я. «У Берндта дела с нотариусом. Я подумала, что ты, наверное, в Берлине, и решила тебя повидать». – «Как ты меня нашла?» – «Друг Берндта из ОКВ позвонил на Принц-Альбертштрассе, и ему сообщили твой адрес. Какие планы?» – «У тебя есть время?» – «Целый день». – «Тогда поехали в Потсдам. Пообедаем, погуляем в парке».
Выдался один из этих первых чудесных погожих деньков в году. Воздух потеплел, под пока еще бледными лучами солнца набухали почки. В поезде мы едва перекинулись парой слов; она сидела с отстраненным видом, а я, говоря откровенно, страшно боялся. Она глядела на мелькавшие за окном еще голые деревья Груневальда, а я любовался ее лицом. Обрамленное тяжелыми, черными как смоль волосами, оно казалось полупрозрачным, под нежной молочной кожей ясно рисовались голубые венки. Одна шла от виска к уголку глаза, а потом словно длинный шрам змеилась по щеке. Я представил кровь, медленно пульсирующую под этим покровом, плотным, глубоким, как опаловые краски фламандского мастера. У основания шеи расходилась другая сеточка прожилок, покрывала нежную ключицу и пряталась под трикотажной кофтой, обнимая ее груди – как две большие ладони. Что касается глаз, я видел лишь их отражение в окне на коричневом фоне сомкнутых стволов, темных, недосягаемых, отрешенных. В Потсдаме я знал хороший ресторанчик рядом с Гарнизонскирхе. Колокола грустно вызванивали какой-то мотив из Моцарта. «Идеи Геббельса Потсдама не коснулись», – прокомментировал я, обнаружив, что ресторан работает; впрочем, и в Берлине большинство ресторанов уже принимали посетителей. Я заказал вина и поинтересовался здоровьем своего шурина. «Все нормально», – лаконично ответила она. Уна с мужем приехали в Берлин на несколько дней; затем они направляются в швейцарский санаторий, где фон Юкскюля ждет курс лечения. После некоторых колебаний я решил расспросить Уну о ее житье-бытье в Померании. «Мне не на что жаловаться, – утверждала она, подняв на меня светлые глаза. – Фермеры Берндта приносят нам еду, у нас есть все необходимое. Иногда даже рыба перепадает. Я много читаю, гуляю. Кажется, что война где-то далеко». – «Она приближается», – произнес я с нажимом. «Ты же не думаешь, что они дойдут до Германии?» Я пожал плечами: «Все возможно». Мы по-прежнему разговаривали натянуто, холодно, я не знал, как покончить с этим отчуждением, хотя Уне, похоже, было все равно. Мы немного выпили и закусили. Наконец, как будто смягчившись, она начала: «Я слышала, ты был ранен. От друзей Берндта из вермахта. Мы живем достаточно уединенно, но связи сохраняем. Подробности мне не сообщали, но я разволновалась. Судя по твоему виду, ничего серьезного». Я с расстановкой поведал ей свою историю и показал дырку. Уна выронила прибор и побледнела; рука протянулась ко мне и тут же упала на стол. «Прости меня! Я не знала». Я дотронулся до ее запястья, она слегка отстранилась. Я молчал. О чем говорить: того, что хотел, того, что должен был, я все равно сказать не мог. Кофе в ресторане не оказалось; мы пообедали, и я расплатился. На улицах Потсдама царило спокойствие: военные, женщины с колясками, немногочисленные машины. Мы молча направились к парку. Вошли через сад Марли, тишина вокруг нас сгустилась еще больше; порой вдалеке мы замечали парочку или раненых на костылях и в креслах-каталках. «Ужасно, – прошептала Уна. – Что натворили?» – «Необходимость», – возразил я. Она не ответила: вот так мы и перекидывались редкими фразами. Белки почти не боялись людей и скакали по газонам; одна, справа от нас, подбежала к девочке, взяла у нее из рук кусочек хлеба и, отскочив назад, принялась грызть, девчушка радостно засмеялась. В прудах плавали, спускались на воду, взлетали кряквы и разные другие утки – прямо перед тем, как сесть, они сильно били крыльями, наклонялись почти вертикально, чтобы затормозить, примериваясь, вытягивали лапы, и, лишь коснувшись водной поверхности, растопыривали перепонки, а потом, выпятив грудки, скользили по волне, поднимая каскады брызг. Сквозь сосны и голые ветви дубов просвечивало солнце; на пересечении аллей стояли на пьедесталах маленькие ангелочки и нимфы из серого камня, никчемные, смешные. Под разбитыми на склонах холма виноградными террасами и оранжереями находился Моренрондель, мраморные бюсты, расставленные по кругу перед стрижеными кустами. Уна подобрала юбку и проворно, по-девчоночьи, уселась на скамейку. Я закурил, она взяла у меня сигарету, затянулась пару раз, вернула. «Расскажи мне о России». Я коротко объяснил ей, в чем заключалась работа по обеспечению безопасности за линией фронта. Она слушала, не перебивая. Наконец спросила: «А ты убивал людей?» – «Однажды мне приказали делать контрольные выстрелы. Но большую часть времени я занимался документацией и составлял рапорты». – «Что ты чувствовал, когда стрелял в тех людей?» Я ответил без колебаний: «То же самое, как если бы на моих глазах стреляли другие. Наступает момент, когда надо действовать, и уже неважно, кто исполнитель. Впрочем, думаю, что нес одинаковую ответственность, убивая и наблюдая за расстрелом». – «И в этом есть необходимость?» – «Если мы хотим выиграть войну, то да, безусловно». Подумав, она произнесла: «Какое счастье, что я не мужчина». – «А я частенько мечтал оказаться на твоем месте». Она протянула руку, задумчиво погладила меня по щеке: я готов был задохнуться от счастья и, как ребенок, броситься ей в объятия. Но Уна встала, и я поплелся за ней. Она неспешно поднималась по террасам к небольшому желтому дворцу. «У тебя есть новости от мамы?» – бросила Уна через плечо. «Нет. Мы не переписываемся уже много лет. Ну и что с ней?» – «Она по-прежнему в Антибе с Моро. Он сотрудничает с вермахтом. Сейчас они под контролем итальянцев. Вроде бы все у них хорошо, но Моро в бешенстве: он уверен, что Муссолини намерен присвоить Лазурный Берег». Мы добрались до верхней террасы, перед дворцом простиралась широкая площадка, посыпанная гравием, с которой открывался вид на парк. Между деревьями проглядывали черепичные крыши и башни Потсдамского собора. «Папа любил это место», – спокойно сказала Уна. Кровь бросилась мне в лицо, я схватил Уну за руку: «Откуда ты знаешь?» Она пожала плечами: «Знаю, и все тут». – «Ты же никогда…» Она с грустью взглянула на меня: «Макс, он умер. Ты должен смириться». – «И ты туда же», – с ненавистью выпалил я. Уна не потеряла хладнокровия: «Да, и я туда же». И она прочла по-английски:
Full fathom five thy father lies; Of his bones are coral made; Those are pearls that were his eyes: Nothing of him that doth fade, But doth suffer a sea-change Into something rich and strange [54].Мне стало противно, я отвернулся и зашагал прочь. Уна догнала меня, схватила за рукав: «Давай пойдем во дворец». Гравий скрипел под ногами, мы обогнули здание и вошли в ротонду. Я рассеянно оглядывал интерьер: золоченые арабески, изящную драгоценную мебель, роскошные картины XVIII века; увидев фортепиано в музыкальном салоне, я немного оживился; неужели это то самое, на котором старый Бах во время визита во дворец исполнял перед королем импровизацию будущего «Музыкального приношения»? – спрашивал я себя. Воспользовавшись отсутствием охраны, я коснулся клавиш, возможно помнивших пальцы Баха. Знаменитую картину Менцеля, где изображен Фридрих II, играющий на поперечной флейте в свете огромных люстр со свечами – совсем как в тот день, когда он принимал здесь Баха – сняли, чтобы она не пострадала от бомбежек. Дальше шла гостевая комната, спальня Вольтера с маленькой кроваткой, на которой, как утверждали, гений спал в те годы, когда прививал Фридриху идеи Просвещения и ненависть к евреям; в действительности он, скорее всего, жил в городской усадьбе в Потсдаме. Уну забавляли фривольные сюжеты декораций: «До чего же король, который не мог не то что сапоги, даже панталоны снять, любил голых женщин! Весь дворец напоен эротикой». – «Он напоминал себе забытое». При выходе Уна указала мне на ансамбль искусственных руин, возведенных на горе в угоду богатой фантазии государя. «Хочешь, поднимемся туда?» – «Нет. Лучше пройдемся до оранжереи». Мы брели лениво, не глядя по сторонам. Минутку посидели на террасе оранжереи, спустились по лестнице, которую с обеих сторон обрамляли расположенные в правильном, классическом, абсолютно симметричном порядке широкие бассейны и газоны. Потом опять начался парк, мы наугад свернули на одну из длинных аллей. «Ты счастлив?» – поинтересовалась Уна. «Счастлив? Я? Нет. Но я познал счастье. Сейчас я доволен всем, что имею, не жалуюсь. Почему ты спрашиваешь?» – «Да так просто». Чуть погодя она продолжила: «Объясни мне, пожалуйста, почему мы не общались больше восьми лет?» – «Ты вышла замуж», – возразил я, еле сдерживая гнев. «Да, но это случилось позже. И потом, это – не причина». – «Для меня причина. Почему ты стала его женой?» Уна остановилась и внимательно на меня посмотрела: «Я не обязана перед тобой отчитываться. Но если хочешь знать, я его люблю». Я в свою очередь взглянул на нее: «Ты изменилась». – «Все меняются. Ты, кстати, тоже». Мы двинулись дальше. «А ты полюбил кого-нибудь?» – «Нет. Я держу свои обещания». – «А я тебе никогда ничего не обещала». – «Да, правда», – согласился я. «Во всяком случае, – Уна не унималась, – маниакальная привязанность к старым клятвам не является достоинством. Мир меняется, надо уметь меняться вместе с ним. Ты же – пленник прошлого». – «Я предпочел бы поговорить о верности». – «Макс, с прошлым покончено». – «С прошлым никогда не бывает покончено».
Мы подошли к китайскому павильону. Синюю с золотом крышу-шатер поддерживали золоченые колонны в виде пальм, а на куполе восседал мандарин под зонтиком. Я заглянул внутрь: круглый зал, восточная роспись. Снаружи у подножия пальм расположились тоже позолоченные экзотические фигуры. «Настоящее безумие, – констатировал я. – Вот о чем мечтали великие мира сего. Даже смешно». – «Не смешнее прихотей нынешних власть имущих, – спокойно заметила Уна. – Мне нравится XVIII век, единственный, пожалуй, о котором можно сказать: век, свободный от давления веры». – «От Ватто до Робеспьера», – иронично уточнил я. Уна скривилась: «Робеспьер – это уже XIX век. Почти немецкий романтик. Тебе по-прежнему нравится французская музыка – Рамо, Форкере, Куперен?» Я помрачнел, ее вопрос напомнил мне о еврейском мальчике-пианисте Якове из Житомира. «Да, – сказал я, замявшись, – но я давно уже ничего не слушал». – «Берндт периодически играет их произведения. Чаще всего Рамо. Он утверждает, что есть неплохие вещи для фортепиано, вполне сопоставимые с Бахом». – «Я того же мнения». Примерно о том же мы беседовали с Яковом. У меня слова застряли в горле. Мы очутились на границе парка; повернули и, не сговариваясь, направились к Фриденскирхе и к выходу. «А ты? Ты-то счастлива в своей померанской дыре?» – осведомился я. «Да, я счастлива». – «Не скучаешь? Наверняка ты иногда чувствуешь себя одинокой». Она снова долго смотрела на меня, прежде чем ответить: «Я ни в чем не нуждаюсь». Меня словно холодом обдало. Пока мы на вокзале ждали поезда, я купил «Фёлькишер Беобахтер», и Уна рассмеялась. «Почему ты смеешься?» – «Я вспомнила шутку Берндта. Он говорит, что „ФБ“ расшифровывается как „Ферблёдунгсблатт“ – „газета оглупления“». Я опять нахмурился: «Ему бы следовало быть осторожнее в высказываниях». – «Не волнуйся. Он не идиот, и друзья его – интеллигентные люди». – «Я не волнуюсь. Я просто тебя предупреждаю». Я пробежал глазами первую страницу: англичане бомбардировали Кёльн, множество жертв среди гражданского населения. Я показал Уне статью: «У этих Luftmörder [55] нет совести, – вырвалось у меня. – Они кричат, что борются за свободу, а сами убивают женщин и детей». – «Мы тоже убиваем женщин и детей», – мягко перебила Уна. Мне стало стыдно, однако мое смущение тут же вылилось в поток гнева: «Мы уничтожаем врагов, защищаем нашу Родину». – «И они защищают свою Родину». – «Они убивают невинных горожан». Я раскраснелся, Уна не теряла самообладания: «Но и отнюдь не все, казненные вами, были вооружены. Вы тоже расстреливали детей». Я задыхался от ярости – как же ей растолковать. Мне-то разница казалось очевидной, но Уна упрямилась и притворялась, что не понимает. «Ты считаешь меня убийцей!» – завопил я. Она взяла меня за руку: «Нет. Остынь». Я успокоился, достал сигарету; потом мы сели в поезд. Снова Уна глядела в окно на Грюневальд, а я, наблюдая за ней, предавался воспоминаниям о нашей последней встрече, они раскручивались передо мной сначала медленно, а потом все быстрее. Это было в 1934 году, как раз когда нам исполнился двадцать один год. В день своего совершеннолетия я и объявил матери, что покидаю Францию; по пути в Германию я заехал в Цюрих, снял комнату в маленьком отеле и пошел искать Уну, которая училась в местном университете. Она мне удивилась, хотя знала и о скандале в Париже с Моро и матерью, и о моем решении. Я пригласил ее на ужин в скромный, но весьма уютный ресторан. Она счастлива в Цюрихе – уверяла меня Уна, – обзавелась тут друзьями, Юнг – потрясающая личность. От последнего заявления меня передернуло, наверное, что-то проскользнуло в ее интонации, но я смолчал. «А ты?» – спросила Уна. Я рассказал о своих надеждах и чаяниях, о намерении учиться в Киле, о вступлении в НСДАП (которое произошло уже во время моего второго посещения Германии в 1932 году). Уна слушала, пила вино; я тоже пил, но не спеша. «Я не уверена, что способна разделить твой энтузиазм по поводу этого Гитлера, – призналась она. – По-моему, он похож на истерика, измученного неразрешенными комплексами, фрустрацией и опасной злопамятностью». – «Как ты можешь так говорить!» Я разразился долгой тирадой. Уна насупилась, замкнулась. Я остановился и, когда она налила очередной стакан, накрыл ладонью ее руку, лежавшую на клетчатой скатерти. «Уна. Это именно то, чем я хочу и должен заниматься. Наш отец – немец. Мое будущее в Германии, а не с продажной французской буржуазией». – «Возможно, ты прав. Но я боюсь, что среди тех людей ты потеряешь душу». Я побагровел от злости и хлопнул по столу. «Уна!» Впервые я повысил на нее голос. От неожиданности Уна опрокинула стакан, он покатился, упал, разбился, у ее ног плавали в красной лужице осколки. К нам подскочил официант со шваброй; Уна, сидевшая до того момента потупившись, подняла на меня взгляд, светлый, почти прозрачный. «Знаешь, – произнесла она, – я наконец прочла Пруста. Помнишь там один отрывок?» «Пусть бокал этот станет, как в Храме, символом нашего нерушимого союза», – с трудом выговорил я. Уна отмахнулась. «Нет, нет. Макс, ты ничего не понимаешь, ты никогда ничего не понимал». Она раскраснелась, видимо, много выпила. «Ты всегда все воспринимал слишком серьезно. Это были игры, просто детские игры. Мы были детьми». У меня глаза вылезли из орбит, сердце сжалось. Я сделал усилие, чтобы не закричать. «Ты обманываешь себя, Уна. Ты сама ничего не поняла». Она отхлебнула еще вина: «Нужно взрослеть, Макс». – «Никогда, – отчеканил я, – никогда». Разлука наша затянулась на семь лет. Но я сдержал свое обещание, даже если Уна и не была мне благодарна.
Когда я смотрел на нее по пути из Потсдама, меня захлестнуло такое чувство утраты, будто я утонул и мне уже не выплыть. А она, о чем думала она? С той ночи в Цюрихе ее лицо не изменилось, пожалуй, лишь немного округлилось, но для меня оно оставалось непроницаемым, закрытым, словно маскирующим другую жизнь. Мы проехали элегантные дома Шарлоттенбурга, потом Зоопарк и Тиргартен. «Представь себе, – сказал я, – сколько я уже в Берлине, а в зоопарке до сих пор не побывал». – «А ведь ты любил зоопарки». – «Да, надо бы пойти туда». Мы вышли на вокзале Лертер, я взял такси, чтобы проводить Уну до Вильгельмплац. «Не желаешь со мной поужинать?» – спросил я ее перед входом в гостиницу «Кайзерхоф». «С удовольствием, – ответила она, – но я должна проведать Берндта». Мы договорились встретиться через два часа, я вернулся к себе в отель принять душ и переодеться. Я страшно устал. Слова Уны путались с моими воспоминаниями, воспоминания – с грезами, а грезы – с самыми безумными мыслями. В голове вертелись те ужасные строки Шекспира, которые прочла мне сестра: неужели она примкнула к лагерю матери? Несомненно, это влияние ее мужа, балтийского барона. Ей следовало бы по моему примеру хранить девственность, – негодовал я. Собственная непоследовательность заставила меня расхохотаться, и вместе с тем мне хотелось плакать. В условленное время я явился в «Кайзерхоф». Уна в том же костюме ждала меня в фойе среди удобных широких кресел и невысоких пальм в горшках. «Берндт отдыхает», – сообщила она. Уна утомилась, и мы решили перекусить в гостинице. С тех пор как опять открыли рестораны, новая директива Геббельса предписывала предлагать клиентам Feldküchengerichte, блюда полевой кухни, – в знак солидарности с действующей армией. Разъясняя нам это, метрдотель глаз не отводил от моих наград, а я еще принял такое выражение лица, что он готов был сквозь землю провалиться; задорный смех Уны положил конец создавшемуся неловкому положению. «Кажется, мой брат уже наелся ими досыта». – «Да, конечно, – затараторил метрдотель. – У нас есть дичь из Шварцвальда. В сливовом соусе. Очень вкусно». – «Хорошо, – согласился я, – и еще французского вина, пожалуйста». – «Бургундского к дичи?» За ужином мы болтали о том о сем, избегая темы, занимавшей нас более всего. Я рассказывал ей о России, но не о царивших там ужасах, а о моих человеческих переживаниях: смерти Ханики и, разумеется, Фосса. «Ты к нему привязался». – «Да. Отличный был парень». Потом Уна жаловалась мне на матрон, донимавших ее здесь, в Берлине. Они с мужем присутствовали на приемах и нескольких великосветских ужинах, где жены партийных шишек костерили дезертиров репродуктивного фронта, бездетных женщин, бастующие лона, совершающие предательство против природы. Она засмеялась: «Естественно, учитывая состояние Берндта, никто не осмелился нападать на меня прямо. К счастью для них же, а не то бы я и пощечину влепила. Но они умирали от любопытства, бродили вокруг да около, не решаясь поинтересоваться в открытую, способен ли еще мой муж функционировать». Она опять засмеялась, отпила вина. Я притих, меня самого волновал тот же вопрос. «Вообрази, выискалась среди них одна, жирная, с голубоватым перманентом жена гауляйтера, обвешанная бриллиантами, и нахально принялась мне советовать: если однажды возникнет такая необходимость – найти красавца эсэсовца и забеременеть от него. Человека – как же она выразилась? – приличного, долихоцефала, носителя народного волеизъявления, здорового и душой, и телом. Она еще меня проинформировала, что в СС есть отдел, занимающийся расовой гигиенической помощью подобного рода, и я могу туда обратиться. Это правда?» – «Да, говорят. Проект рейхсфюрера под названием Lebensborn, „Источник жизни“. Но я не в курсе, как там все организовано». – «Они действительно с ума посходили. Ты уверен, что это не бордель для СС и женщин из высшего общества?» – «Нет-нет, тут совсем другое». Уна кивнула: «Короче, тебе понравится развязка: Вы же не собираетесь заиметь ребенка от Святого Духа, – брякнула мне гауляйтерша. Я еле сдержалась и не ответила, что мне тоже трудно представить эсэсовца, преисполненного патриотизма настолько, чтобы ее обрюхатить». Уна хохотала и прихлебывала вино. Она чуть дотронулась до еды, но выпила уже почти всю бутылку; в любом случае взгляд ее не затуманился, она не пьянела. На десерт метрдотель предложил нам грейпфруты: я не ел их с начала войны. «Прямо из Испании», – уточнил официант. Уна отказалась, а потом наблюдала, как я чищу дольки и наслаждаюсь их вкусом; я угостил ее несколькими подсахаренными кусочками. После ужина я проводил Уну в фойе и любовался ею, ощущая во рту приятный вкус грейпфрута. «Ты спишь с ним в одной спальне?» – «Нет, – ответила она, – возникло бы слишком много проблем». Уна поколебалась минуту, потом пальчиками с овальными ноготками коснулась моей ладони. «Если хочешь, поднимемся ко мне, выпьем чего-нибудь. Только без глупостей, и после ты уйдешь». В комнате я снял фуражку и сел в кресло. Уна разулась, в шелковых чулках прошла по ковру к бару, налила мне коньяку, потом, скрестив ноги, устроилась на кровати и закурила. «Не знал, что ты куришь». – «Иногда, когда выпью». Мне она казалась самой прекрасной на свете. Я рассказал Уне о планах получить место во Франции, посетовал на возникшие трудности. «Ты должен попросить Берндта, – заметила она. – У него много высокопоставленных друзей в вермахте, его товарищи по прошлой войне. Вполне вероятно, что ему удастся кое-что для тебя сделать». Эти слова меня доконали, долго сдерживаемая ярость выплеснулась наружу: «Берндт! Ты только и говоришь о нем». – «Успокойся, Макс. Он же мой муж». Я встал и принялся мерить шагами комнату. «Мне плевать! Он – втируша, какого черта он влез между нами?» – «Макс!» Она, по-прежнему безмятежно глядя на меня, продолжала тихим голосом: «Он не стоит между нами. То, что ты имеешь в виду под словом „мы“, не существует, „мы“ исчезло навсегда, растаяло, как дым. Берндт – моя жизнь, день изо дня, ты должен понять». Тут мой гнев смешался со страстным желанием, и я уже не знал, где что начинается и заканчивается. Я приблизился к Уне, обнял обеими руками: «Поцелуй меня». Она покачала головой; впервые я увидел столь непреклонный взгляд. «Не затевай все снова!» Я задыхался, в отчаянии я упал возле кровати, положил голову Уне на колени, как на плаху. «В Цюрихе ты меня целовала», – рыдал я. «В Цюрихе я была пьяна». Она подвинулась, похлопала по покрывалу: «Иди, ляг со мной». Я прямо в ботинках примостился рядом, свернувшись клубком у ее ног. Я чувствовал ее запах через чулки. Она погладила меня по волосам и прошептала: «Бедный мой маленький брат». Смеясь сквозь слезы, я с трудом выдавил: «Ты меня так называешь, потому что родилась на пятнадцать минут раньше, и тебе на запястье привязали красную веревочку». – «Да, но есть еще одно различие: теперь я – женщина, а ты остаешься маленьким мальчиком». В Цюрихе все обстояло иначе. Мы напилась, вышли после ужина на улицу. Было холодно, и Уна дрожала и спотыкалась, я взял ее под руку; сестра буквально повисла на мне. «Пойдем со мной, – предложил я, – ко мне в отель». Уна противилась: «Не дури, Макс. Мы уже не дети», – голос у нее слегка охрип. «Давай, – настаивал я. – Поболтаем чуть-чуть». Но мы были в Швейцарии, и даже в такого рода отелях, как мой, консьержи чинили препятствия по ничтожным поводам: «Сожалею, господин. Доступ в номера имеют только постояльцы гостиницы. Если желаете, можете посетить наш бар». Уна уже отправилась в указанную сторону, но я удержал ее: «Нет. Не хочу видеть этих людей. Пойдем к тебе». Она не возражала и привела меня в свою студенческую комнату, крохотную, ледяную, заваленную книгами. «Почему ты не топишь сильнее?» – спросил я, вычищая печку внутри, чтобы разжечь огонь. Уна пожала плечами, достала бутылку белого вина «Фендан дю Вале». «Это все, что у меня есть. Тебя устроит?» – «Что угодно меня устроит». Я откупорил бутылку и наполнил до краев бокалы, которые она, смеясь, мне подставила. Уна выпила, уселась на кровать. Я ощущал дискомфорт и раздражение; подошел к столу и стал разглядывать корешки сложенных стопками книг. Имен большинства авторов я не знал, вытащил одну, наугад. Уна поглядела и опять захохотала, ее пронзительный смех действовал мне на нервы. «О, Ранк! Ранк – просто здорово!» – «Кто это?» – «Бывший последователь Фрейда, друг Ференци. Написал хорошую книгу об инцесте». Я развернулся и пристально посмотрел на Уну. Она перестала смеяться. «Почему ты произносишь это слово?» Вместо ответа она протянула мне бокал: «Не надо глупостей, – сказала она. – Плесни-ка мне лучше беленького». Я отодвинул книгу, взял бутылку: «Это не глупости». Уна пожала плечами. Я налил вина, она выпила. Я подступил к ней, потянулся к ее роскошной, густой, черной шевелюре. «Уна…» Она отодвинула мою руку. «Остановись, Макс». Она сидела, слегка покачиваясь, я просунул ладонь ей под волосы, погладил по щеке, по шее. Она напряглась, но не отталкивала меня, отхлебнула из стакана. «Чего ты хочешь, Макс?» Сердце мое учащенно билось: «Чтобы все было, как раньше», – негромко произнес я. «Исключено». У нее стучали зубы, снова глоток вина. «„Раньше“ уже не такое, как раньше. Оно вообще никогда не существовало». Уна бредила, у нее закрывались глаза. «Налей мне еще». – «Нет». Я взял у Уны стакан и нагнулся поцеловать ее. Она грубо отпихнула меня, потеряла равновесие и навзничь опрокинулась на кровать. Я поставил стакан, подобрался к ней. Уна не шевелилась, ноги, обтянутые чулками, свисали с кровати, юбка задралась выше колен. В висках у меня стучала кровь, я был в смятении, в тот момент я любил ее больше, чем когда-либо, даже больше, чем в животе нашей матери, и Уна должна любить меня вечно. Я нагнулся над ней, она не сопротивлялась.
Наверное, я задремал, а когда проснулся, в комнате царил мрак. Я не понимал, где нахожусь, в Цюрихе или в Берлине. Черные затемняющие шторы не пропускали света. Я различил смутные очертания какой-то фигуры: Уна залезла под одеяло рядом со мной и спала. Я долго слушал ее ровное и тихое дыхание. Медленно-медленно заправил прядку волос ей за ухо, склонился к ее лицу. Замер, не дотрагиваясь до нее, наслаждался ароматом ее кожи и губ, еще пахнувших табаком. Затем встал, бесшумно прокрался по ковру к двери и вышел. На улице я хватился фуражки, но решил не подниматься обратно и попросил портье вызвать мне такси. Я вернулся к себе в отель, воспоминания, подпитывая бессонницу, нахлынули с новой силой, но теперь в памяти возникали низменные, волнующие, мерзкие сцены. Однажды мы, уже взрослые, посетили Музей пыток, где выставлялись всякого рода орудия, хлысты, щипцы, «Нюрнбергская железная дева». Увидев в дальнем зале гильотину, моя сестра загорелась: «Вот бы лечь туда». В зале никого не было, я нашел охранника и сунул ему купюру: «Оставь нас здесь одних минут на двадцать». – «Хорошо, мсье», – согласился он, усмехнувшись. Я затворил дверь, послушал, повернулся ли ключ в скважине. Уна вытянулась на доске-балансире, я поднял планку с выемкой, поместил ее голову в специальное углубление, бережно убрал тяжелые волосы, прежде чем опустить планку и закрыть очко на длинной шее. Она затаила дыхание. Я связал ей ремнем запястья за спиной, потом задрал юбку. Я даже не потрудился приспустить Уне трусы, просто убрал в сторону кружево и раздвинул ягодицы обеими руками: в промежности чуть заметно сужался спрятанный в пушке анус. Я плюнул. «Нет», – запротестовала Уна. Я вытащил член, лег сверху и вошел в нее. Из ее губ вырвался долгий приглушенный стон. Я давил на нее всей своей тяжестью; из-за неудобной позы – брюки мешали – я мог двигаться лишь толчками. Моя собственная шея оказалась между очком и лезвием ножа, и я шептал Уне: «Я дерну рычаг и отпущу резак». Она умоляла: «Пожалуйста, трахни мою киску». – «Нет». Я кончил неожиданно – встряска, после которой голова совершенно пустая, скорлупа, из которой ложкой выскребли яйцо всмятку. Впрочем, я сомневаюсь в достоверности своего воспоминания, со времен детства мы с Уной виделись лишь однажды, как раз в Цюрихе, а в Цюрихе нет никакой гильотины. Не знаю, скорее всего, это была мечта, давнишняя мечта, воскрешенная моей памятью в комнате отеля «Эден», в темноте, одиночестве и тревоге, или сон, приснившийся мне той ночью в короткое, почти незаметное мгновение забытья. Я негодовал, наш с Уной день, несмотря на всю мою растерянность, оставил ощущение чистоты, а теперь эти пошлые картинки испоганили его. Я чувствовал и отвращение, и волнение, осознавая, что это, воспоминание ли, образ, фантазия, греза, жило во мне и являлось составляющей моей любви.
Утром около десяти ко мне в дверь постучал дежурный по этажу: «Герр штурмбанфюрер, вас к телефону». Я спустился в регистратуру, взял трубку; на другом конце провода звенел веселый голос Уны: «Макс! Ты позавтракаешь с нами? Скажи „да“! Берндт хочет с тобой познакомиться». – «Ладно. Где?» – «У „Борхарда“. Знаешь? На Францёзишештрассе. В час дня. Если ты нас опередишь, назови нашу фамилию, я заказала столик». Я вернулся в комнату побриться и привести себя в порядок. Поскольку фуражки я лишился, то оделся в штатское и прикрепил Железный крест к карману пиджака. Я действительно пришел заранее и спросил барона фон Юкскюля, меня проводили за столик, расположенный чуть в стороне, я заказал бокал вина. Задумчивый, расстроенный ночными видениями, я размышлял о странном замужестве сестры, о ее эксцентричном муже. Свадьба состоялась в 1938 году, я как раз заканчивал учебу. После ночи в Цюрихе сестра писала мне очень редко; но весной того года я получил от нее длинное письмо. Она мне рассказала, что осенью 1935 года сильно заболела, прошла курс психоанализа, но депрессия лишь усугублялась, тогда ее послали в санаторий возле Давоса, чтобы она могла отдохнуть и набраться сил, она пробыла там несколько месяцев и в начале 1936-го встретила мужчину, композитора. С тех пор они регулярно встречаются и вскоре намереваются пожениться. Надеюсь, что ты порадуешься за меня, – писала Уна.
Ее письмо повергло меня в уныние на многие дни. Я не посещал университет, не выходил из комнаты и лежал на кровати лицом к стене. Вот, – думал я, – вот, к чему в результате все сводится. Женщины клянутся вам в любви, но при первой же оказии, только замаячила перспектива удачного замужества с богатым буржуа, хоп, они валятся на спину и раздвигают ноги. Мне было невыносимо горько. Казалось, что это логичная развязка старой истории, неотступно преследовавшей меня: истории нашей семьи, всегда или почти всегда упорно гасившей малейшие проблески любви в моей жизни. Никогда я еще не чувствовал себя таким одиноким. Несколько придя в себя, я отправил Уне сухое, официальное письмо с поздравлением и пожеланием огромного счастья.
В тот период у меня уже завязывалась дружба с Томасом, мы уже перешли на «ты», и я попросил его навести справки о женихе, бароне Карле Берндте Эгоне Вильгельме фон Юкскюле. Юкскюль был гораздо старше моей сестры; аристократ, балтийский немец, паралитик. Я ничего не понимал. Томас сообщил мне детали: фон Юкскюль отличился во время Мировой войны, которую закончил в чине оберста с орденом «За заслуги»; дальше, в Курляндии, он повел полк ландесвера на красных латышских стрелков. Получил в тех землях пулю в позвоночник и уже с носилок, прежде чем покинуть поле боя, отдал приказ поджечь свою родовую усадьбу, чтобы большевики не осквернили ее развратом и дерьмом. В СД на него имелось довольное пухлое досье: его вроде бы не числили неблагонадежным, но, судя по всему, кое у кого из власть имущих он был на плохом счету. В годы Веймарской республики он, как композитор современной музыки, снискал признание в Европе, слыл другом и поклонником Шёнберга, переписывался с музыкантами и писателями из Советского Союза. Кроме того, после взятия власти он отверг приглашение Штрауса вступить в Reichsmusikkammer – Имперскую музыкальную палату, что, по сути, положило конец его публичной карьере, а также отказался стать членом Партии. Фон Юкскюль жил затворником в Померании в семейном замке по материнской линии, где обосновался после поражения армии Бермондта и эвакуации германских войск из Курляндии и откуда выезжал теперь только на лечение в Швейцарию. В доносах в Партию и СД отмечалось, что Юкскюль у себя почти не принимает и еще реже появляется в свете, избегая встреч с представителями ближайшего окружения. «Странный тип, – подытожил Томас. – Озлобленный, нелюдимый, аристократ-динозавр. Почему твоя сестра выходит замуж за калеку? У нее что – комплекс санитарки?» В самом деле, почему? Потом я получил приглашение на свадьбу, которую праздновали в Померании, и ответил, что не могу приехать из-за учебы в университете. Нам тогда исполнилось по двадцать пять лет, и, как мне казалось, все, что по-настоящему было нашим, умирало.
Ресторан заполнялся: официант толкал перед собой кресло-каталку фон Юкскюля, Уна держала под мышкой мою фуражку. «Держи! – весело сказала она и поцеловала меня в щеку. – Ты забыл». – «Да, спасибо», – я покраснел. Пока официант отодвигал стул, освобождая место, я пожал фон Юкскюлю руку: «Барон, рад знакомству с вами». – «Взаимно, штурмбанфюрер. Взаимно». Уна придвинула фон Юкскюля к столу, я сел напротив, а Уна между нами. Лицо у фон Юкскюля было строгое, губы очень узкие, волосы седые, подстриженные бобриком, но в глазах часто загорались искорки смеха. Одет просто, костюм из серой шерсти и вязаный галстук, без наград, единственное украшение – золотой перстень с печаткой, который я заметил, когда он положил свою руку на руку Уны: «Что ты будешь пить, дорогая?» – «Вино». Уна выглядела счастливой и очень радостной, а я гадал, не притворяется ли она. Суровость фон Юкскюля точно не была наигранной. Подали вина, фон Юкскюль расспрашивал меня о ранении и выздоровлении. Пока я рассказывал, он пил, но очень медленно, маленькими глотками. Затем, не особо понимая, как продолжить разговор, я поинтересовался, был ли он на каком-нибудь концерте по приезде в Берлин. «Нет ничего заслуживающего внимания, – ответил Юкскюль. – Молодой Караян не слишком мне нравится, чересчур самодовольный и наглый». – «Вы предпочитаете Фуртвенглера?» – «Фуртвенглер редко преподносит сюрпризы, однако он высочайший профессионал. К сожалению, ему запретили то, что у него получается лучше всего, – дирижировать оперы Моцарта. Ведь Лоренцо да Понте [56] – наполовину еврей, а „Волшебная флейта“ – масонская опера». – «А вы не согласны?» – «Я-то возможно, но готов поспорить, вряд ли вы найдете немецкого зрителя, дошедшего до этого своим умом. Моя жена утверждает, что вы любите старинную французскую музыку?» – «Да, особенно инструментальные произведения». – «У вас хороший вкус. Рамо и великий Куперен до сих пор не оценены по достоинству. Есть еще истинные музыкальные сокровища XVII века для виолы да гамба, они пока не изучены, однако мне удалось ознакомиться с несколькими манускриптами. Прелесть. Но вершина все же – первая половина французского XVIII века. Больше так сочинять не умеют. Романтизм все испортил, мы и теперь стараемся освободиться от его влияния». – «Представь себе, на этой неделе дирижировал именно Фуртвенглер. В Адмиральпаласе. Еще выступала Тиана Лемниц, тоже очень недурна. Но мы не пошли. Исполняли Вагнера, а Берндту он не нравится». – «Мягко сказано! – воскликнул фон Юкскюль. – Я его ненавижу. Безусловно, что касается технической стороны, у него есть великолепные находки, вещи, совершенно новые, объективно важные, но все теряется в пафосе, мегаломании и грубой манипуляции чувствами, как у большинства немецких композиторов с тысяча восемьсот пятнадцатого года. Их сочинения адресованы людям, для которых главным мерилом в музыке, по сути, остаются военные фанфары. Меня завораживает чтение партитур Вагнера, но слушать его я бы не смог». – «И нет ни одного немецкого композитора, заслуживающего вашей милости?» – «После Моцарта и Бетховена? Несколько пьес Шуберта, кое-что у Малера, хотя и тут я делаю снисхождение. В сущности, почти никого и нет кроме Баха… и сейчас, разумеется, Шёнберга». – «Извините, барон, но я бы с натяжкой назвал музыку Шёнберга немецкой». – «Молодой человек, – сухо возразил фон Юкскюль, – не пытайтесь преподать мне урок антисемитизма. Я был антисемитом, когда вы еще на свет не родились, хотя я и достаточно старомоден, чтобы верить, что таинство крещения обладает силой, способной смыть порочное пятно иудаизма. Шёнберг – гений, самая крупная величина со времен Баха. Если немцы его не признают, это их проблема». Уна звонко рассмеялась: «Даже „Фёлькишер Беобахтер“ характеризует Берндта как одного из лучших представителей немецкой культуры. Хотя если бы он был писателем, то или уехал бы в Соединенные Штаты с Шёнбергом и Маннами, или попал бы в Саксенхаузен». – «Поэтому вас не исполняют уже десять лет?» – спросил я. Фон Юкскюль махнул вилкой: «Я ведь не вхожу в Музыкальную палату, а значит, такой возможности для меня не существует. И я не разрешаю исполнять мою музыку за границей, если этого нельзя делать в моей родной стране». – «А почему же вы тогда не вступаете в Палату?» – «Из принципа. Из-за Шёнберга как раз таки. Когда его выгнали из Академии и вынудили покинуть Германию, мне предложили его место, я послал их к черту. Штраус лично навестил меня, он сам недавно занял должность Бруно Вальтера, выдающегося оркестрового дирижера. Я сказал Штраусу, что ему должно быть стыдно, что нынешнее правительство бандитов и озлобленных пролетариев долго не протянет. Впрочем, двумя годами раньше самого Штрауса тоже выгнали из-за невестки-еврейки». Я заставил себя улыбнуться: «Я не собираюсь затевать политическую дискуссию, однако, слушая вас, я с трудом понимаю, с какой стати вы причисляете себя к антисемитам?» – «Все очень просто, – фон Юкскюль взял высокомерный тон. – Я воевал с евреями и большевиками в Курляндии и Мемеле. Я боролся за исключение евреев из немецких университетов, из политической и экономической жизни Германии. Я пил за здоровье людей, убивших Ратенау [57]. Но музыка – совершенно другое дело. Довольно лишь закрыть глаза и послушать, чтобы сразу почувствовать, хорошо это или плохо. И кровь не играет здесь никакой роли, все блестящие музыканты, будь то немцы, французы, англичане, итальянцы, русские или евреи, одинаково ценны. Мейербер абсолютно нестоящий, и не потому, что он еврей, просто никудышный композитор. И Вагнер, ненавидящий Мейербера за то, что он еврей, и за то, что он ему помогал, на мой взгляд, ничтожество». – «Если Макс передаст твои речи коллегам, у тебя появятся враги», – пошутила Уна. «Ты мне говорила, что он – интеллигентный человек, – фон Юкскюль в упор посмотрел на Уну. – И я имел честь поверить тебе на слово». – «Я не музыкант, – вмешался я, – и мне сложно с вами спорить. То немногое, что я слушал из Шёнберга, показалось мне неудобоваримым. В одном я уверен: ваши настроения не совпадают с настроениями вашей родины». – «Молодой человек, а мне этого и не требуется, – возразил он, покачав головой. – Меня давно не интересует происходящее в обществе, и я надеюсь, что и обществу нет дела до меня». Не всегда есть выбор, – хотел парировать я, но прикусил язык.
В конце завтрака я, под нажимом Уны, сказал фон Юкскюлю о своем желании получить пост во Франции. Уна прибавила: «Ты не мог бы ему посодействовать?» Фон Юкскюль задумался: «Попробую. Хотя мои друзья из вермахта не жалуют СС». Я уже и сам начал это понимать и иногда даже приходил к выводу, что Блобель, потерявший рассудок в Харькове, в общем-то был прав. Все мои пути вели в тупик: Бест, как и обещал, прислал мне «Фестгабе», не упомянув о Франции; Томас подбадривал меня, но у него тоже ничего не получалось. Я же полностью растворялся в близости сестры, в мыслях о ней и ничего сам не предпринимал, тонул в депрессии, оцепенении – неподвижная печальная соляная статуя на берегу Мертвого моря. Вечером мою сестру с мужем пригласили на прием, Уна предложила пойти и мне. Я отказался: не хотелось видеть ее в кругу наглых, пустых аристократов, пьяных от шампанского и высмеивающих все, что для меня являлось священным. Среди подобных людей я наверняка чувствовал бы себя беспомощным, неловким деревенским болваном, не находился бы с ответами на их саркастические замечания; их мир был закрыт для таких, как я, и они умело это демонстрировали. Я заперся в комнате; пытался листать «Фестгабе», но не мог сосредоточиться. И предался сладкому соблазну своих безумных иллюзий: Уну замучила совесть, она покинула вечеринку, едет ко мне в отель, открывает дверь, улыбается, искупая прошлые грехи. Полный идиотизм, конечно, признаю, но чем дальше, тем больше я убеждал себя, что именно так все и случится. Я, не зажигая света, сидел на диване, сердце мое трепетало от любого шума в коридоре, от любого звука лифта, я ждал. Но опять открывалась и захлопывалась другая дверь, во мне росло отчаяние – так черная вода, холодная, безжалостная, обволакивает утопленников и крадет их дыхание, драгоценный воздух жизни. На следующий день Уна и фон Юкскюль уезжали в Швейцарию.
Сестра позвонила мне утром, прямо перед отходом поезда. Голос у нее был тихий, нежный, теплый. Беседа наша длилась недолго, я в отчаянии слушал голос, звучавший в трубке, не вникая в смысл слов. «Мы увидимся, – успокаивала она. – Приезжай к нам». – «Посмотрим», – отвечал кто-то другой вместо меня. Меня снова тошнило, я судорожно сглотнул слюну, глубоко вдохнул через нос, сдержался. Уна повесила трубку, я опять остался в одиночестве.
Томасу все-таки удалось организовать мне встречу с Шульцем. «Поскольку дело твое не особо продвигается, думаю, стоит пообщаться с ним. Только постарайся вести себя деликатно». Напрягаться мне не пришлось: Шульц, невысокий, тщедушный, с изуродованным глубоким поперечным шрамом ртом, постоянно бормочущий что-то себе в усы, выражался до того неопределенно, что я едва его понимал, а он все перелистывал мое досье и не давал слова вставить. Я заикнулся о своем интересе к международной политике Рейха, но Шульц, похоже, не принял этого к сведению. Из нашего разговора следовало, что на меня обратило внимание высшее руководство, и надо дождаться моего выздоровления. Не слишком обнадеживающе! Томас со мной согласился: «Хорошо бы прислали запрос на конкретную должность непосредственно из Франции. В противном случае тебя отправят неведомо куда, в Болгарию, например. Там, конечно, тихо, но вино отвратное». Бест советовал мне связаться с Кнохеном, но слова Томаса натолкнули меня на идею получше: я же в отпуске и не обязан торчать в Берлине.
Я сел в ночной экспресс и уже на рассвете был в Париже. На контрольных пунктах сложностей не возникло. С какой радостью любовался я светло-серыми зданиями перед вокзалом и суетой улиц; из-за нехватки горючего машины практически исчезли, шоссе заполнили велосипеды и мотороллеры, между которыми с трудом прокладывали себе дорогу редкие немецкие автомобили. Я развеселился, зашел в первое попавшееся кафе и прямо у стойки выпил плодовой водки. Я был в штатском, меня все принимали за француза, что доставляло мне странное удовольствие. Я не спеша добрел до Монмартра и снял номер в маленьком скромном отеле на склоне холма над площадью Пигаль; я знал это местечко: комнаты простые и чистые и хозяин, не страдающий любопытством, что очень меня устраивало. В первый день мне не хотелось никого видеть. Я решил прогуляться. Уже наступил апрель, весна угадывалась всюду: в нежной голубизне неба, в почках и цветах, проклюнувшихся на веточках, в бодрой или, по крайней мере, легкой походке людей. Не секрет, что жизнь здесь была трудная, желтоватый оттенок, который приобрели лица большинства парижан, свидетельствовал о недоедании. Тем не менее со времени моего последнего приезда ничего кардинально не изменилось, кроме уличного движения и граффити: на стенах теперь красовались надписи «СТАЛИНГРАД» или «1918», часто тщательно затертые, а иногда – бесспорно, по блестящей инициативе наших служб – исправленные на 1763. Я неторопливо спустился к набережной Сены, перерыл прилавки букинистов. К моему удивлению, рядом с Селином, Дрийё, Мориаком, Бернаносом и Монтерланом открыто продавали Кафку, Пруста и даже Томаса Манна; либерализм царил здесь по-прежнему. Почти у всех торговцев можно было найти «Развалины» Ребате, появившиеся в прошлом году. Я с любопытством пролистал книгу, но покупку отложил. В конце концов я выбрал эссе Мориса Бланшо, критика «НРФ», мне нравились некоторые его довоенные статьи; это были сброшюрованные гранки под названием «Неверные шаги», без сомнения, их продал какой-нибудь журналист. Издание книги задерживается, объяснил мне букинист, бумаги нет, но сборник, заверил он, лучшее из недавно написанного, если вы только не поклонник Сартра, он-то Сартра не выносит (а я вообще ни разу о Сартре не слышал). Я сел на террасе на площади Сен-Мишель, заказал сэндвич и бокал вина. Прежний владелец книги разрезал лишь первую тетрадку; я попросил принести нож и в ожидании закуски принялся разрезать оставшиеся страницы – этот умиротворяющий ритуал всегда доставлял мне наслаждение. Бумага была плохого качества; чтобы не порвать листы, я не торопился и работал очень аккуратно. Поев, я поднялся к Люксембургскому саду. Прохладный, геометрический, светлый, наполненный спокойным движением парк всегда мне нравился. Вокруг центрального круглого водоема, по расходящимся лучами аллеям, между деревьями и еще голыми газонами фланировали люди, гудели, беседовали, читали или сидели с закрытыми глазами, греясь под неярким солнышком. Я устроился на металлическом стуле с облупившейся зеленой краской и наугад прочел несколько эссе, сначала об Оресте, хотя в основном там речь шла о Сартре. Этот пресловутый Сартр, видимо, написал пьесу, где использовал фигуру несчастного отцеубийцы, чтобы трактовать идеи о свободе человека в совершении преступления; и я согласился с Бланшо, жестко его раскритиковавшем. Я зачитался статьей о «Моби Дике» Мелвилла, где Бланшо говорил о «невозможном романе», кстати скрасившем какой-то период и моей юности тоже, как о письменном эквиваленте универсума, как о произведении, сохраняющем иронический характер тайны и открывающемся в вопросах, в нем же заданных. Честно говоря, я не слишком понял рассуждения Бланшо. Но меня вдруг охватила тоска по той жизни, которую я мог бы иметь: вместо давящей строгости Закона, радость свободной игры идеями и словами; и я с восторгом устремился вслед за поворотами весомой, несуетной мысли, прокладывающей путь среди множества прочих, словно подземная речка, медленно точившая камень. Потом я закрыл книгу и продолжил прогулку, пошел к Одеону, потом по почти пустому бульвару Сен-Жермен к Национальной ассамблее. Каждое место связывалось для меня с какими-то моментами прошлого: годами подготовительных курсов, учебой в Свободной школе политических наук. Мне припомнилось, как росла моя ненависть к Франции, но сейчас, по прошествии лет, эти воспоминания, представшие передо мной в ином свете, смягчились, пропитались ощущением счастья. Я направился дальше, к эспланаде Инвалидов, где толпа зевак наблюдала за служащими, которые с помощью упряжки лошадей вспахивали газон под посадку овощей; чуть поодаль, возле легкого чешского танка со свастикой на боку, детвора играла в мяч. Я пересек мост Александра III. Афиши на Гран-Пале приглашали на две выставки: первая называлась «Почему евреи захотели войны?», на второй экспонировалась коллекция греческих и римских шедевров. Я не чувствовал потребности шлифовать свое антисемитское воспитание, а вот полюбоваться античностью меня потянуло. Я долго любовался холодной, спокойной, нечеловеческой красотой Аполлона кифареда из Помпей, огромной бронзовой, позеленевшей от времени статуей, грациозным, не вполне оформившимся телом с членом, как у мальчика, и узкими, округлыми ягодицами. Я бродил по выставке из конца в конец и постоянно возвращался к Аполлону: его прелести меня завораживали. Это мог быть обычный очаровательный подросток, если бы не патина, расползшаяся большими пятнами по поверхности и придавшая ему поразительной глубины. Еще одно поразило меня: под каким бы углом я не смотрел Аполлону в глаза, реалистично прорисованные на бронзе, он будто отводил их в сторону; мне никак не удавалось поймать его взгляд, тонувший, потерянный в пустоте вечности. От бронзовой проказы у него опухли лицо, грудь и зад; ржавчина почти полностью изъела левую руку, державшую бесследно исчезнувший инструмент. Лицо Аполлона казалось бессодержательным, если не надменным. Я почувствовал возбуждение, мне страстно хотелось лизать его, а он разлагался медленно, тихо, неотвратимо. Я решил обойти Елисейские поля, слонялся по тихим улочкам восьмого округа, потом поднялся к Монмартру. Хозяин отеля указал мне нелегальный ресторан, где кормили без продовольственных карточек: «Там полно всякого сброда, но кухня хорошая». Клиентура действительно состояла из коллаборационистов и аферистов черного рынка; мне подали филе с луком-шалот и зеленой фасолью и графинчик доброго бордо; на десерт – торт «Татен» со сливками и – вот уж роскошь! – настоящий кофе. Но Аполлон из Гран-Пале будил во мне иные желания. Я спустился к площади Пигаль и, отыскав один небезызвестный бар, присел к стойке и заказал коньяк. Ждал я недолго, вернулся в отель с мальчиком. Под кепкой у него оказались кудрявые спутанные волосы, легкий темный пушок покрывал живот и курчавился на груди; мои губы и задница вожделели этого тела с матовой кожей. Парень был в моем вкусе, молчаливый, послушный. Когда его член вошел в меня, из моего копчика вырос и медленно покатился по позвоночнику яркий белый шар, голова отключилась. Тем вечером я особенно остро ощутил, что неразрывно связан с сестрой, слит с ней воедино, хочет она того или нет. Благодаря незнакомцу я получил мощную разрядку. Когда все завершилось, я выставил парня вон, но долго не мог заснуть и лежал голый, раскинувшись на смятых простынях, растворившийся в счастье, как ребенок.
На следующий день я отправился в редакцию «Же сюи парту», где работали или вращались почти все мои парижские друзья. Корни той истории уходят в далекое прошлое. Приехав в семнадцать лет в Париж на подготовительные курсы, я никого не знал. Я поступил в Жансон-де-Сайи на полный пансион; Моро выделил мне небольшую месячную сумму при условии, что я буду прилежно учиться, к тому же я получил относительную свободу; после тюремного кошмара последних трех лет много не требовалось, чтобы я потерял голову. Тем не менее вел я себя вполне пристойно. После занятий спешил на набережную Сены и обшаривал лотки букинистов или посиживал с друзьями в крошечном кабачке Латинского квартала, где мы наливались деревенским красным и думали, как переделать мир. Товарищи по учебе казались мне пресными. Почти все они принадлежали к высшей буржуазии и намеревались тупо следовать по пути своих отцов. У них имелись деньги, им очень рано растолковали устройство общества и указали их место: доминирующее, конечно. Рабочих они боялись или презирали. То, что рабочие, как и буржуазия, полноправная часть нации, что общественный порядок должен служить всеобщему благу, а не только кучке избранных, что пролетарии не должны чувствовать себя угнетенными, – наоборот, следует предоставить им право на достойную жизнь и место в обществе, оградив тем самым от обольщений большевизма, – все эти идеи, захватившие меня во время первого путешествия в Германию, были совершенно чужды моим сокурсникам. Их политические взгляды, как, впрочем, и представления о буржуазных приличиях, отличались крайней ограниченностью; я считал в равной степени бессмысленным завязывать дискуссию как о фашизме или немецком национал-социализме, который в сентябре того года подавляющим количеством голосов одержал победу на выборах, превратившись во вторую по влиянию партию страны и вызвав в Европе волну шока, так и о концепциях молодежного движения, проповедуемых Гансом Блюхером. Фрейд (если они вообще слышали о нем) слыл у них эротоманом, Шпенглер – безумным философствующим пруссаком, Юнгер – сторонником войны, заигрывающим с большевизмом, даже Шарль Пеги казался им подозрительным. Правда, на общем фоне выделялись несколько провинциальных стипендиатов, с ними-то я в основном и общался. У одного из них, Антуана Ф., старший брат учился в ЭНС, Высшей педагогической школе, куда мечтал попасть и я. Этот Бертран Ф. привел меня в забегаловку выпить грога и поспорить о Ницше и Шопенгауэре, которых я потом открывал для себя вместе с ним и его товарищами по комнате. Бертран Ф. был уже квадратом, то есть студентом второго курса; лучшие комнаты с диванами, гравюрами на стенах и печками по большей части занимали кубы, третьекурсники. Однажды, проходя мимо такой комнаты, я заметил на дверной перекладине надпись по-гречески: «В сей келье трудятся шестеро прекрасноблагих (hex kaloi kagathoi) и некий другой (kai tis allos)». Дверь была не заперта, я толкнул ее и спросил по-гречески: «И кто же другой?» Молодой человек с круглым лицом и в толстых очках оторвался от книги и ответил мне на том же языке: «Еврей, не владеющий греческим. А ты кто?» – «И я другой, только из благородного металла: немец». – «Немец, который знает греческий?» – «Разве есть лучший язык, чтобы поговорить с французом?» Он расхохотался и представился: Робер Бразийак. Я признался, что сам наполовину француз и живу во Франции с 1924 года; он полюбопытствовал, бывал ли я с тех пор в Германии, я рассказал о своем летнем путешествии; вскоре мы принялись обсуждать национал-социализм. Бразийак внимательно выслушал мои объяснения и описания. «Заходи, когда захочешь, – пригласил он напоследок. – Мои друзья будут рады с тобой встретиться». Благодаря Бразийаку передо мной раскрылся мир, совершенно не похожий на мир будущих государственных чиновников. Мои новые знакомые ожесточенно спорили о судьбах родины и Европы, подкрепляя свои соображения фундаментальными знаниями истории. Их интересы и замыслы охватывали буквально все области. Бразийак и жених его сестры Морис Бардеш с увлечением занимались кино и меня просветили, что кроме Чаплина и Рене Клера существуют еще Эйзенштейн, Ланг, Пабст и Дрейер. Они брали меня с собой в редакцию «Аксьон франсез» [58] и в их типографию на улице Монмартр, занимавшую красивый узкий дом с ренессансной лестницей, где не смолкал грох ротационных машин. Несколько раз я видел Морраса: тугой на ухо, злобный, он приходил поздно, часам к одиннадцати вечера, и всегда был готов излить желчь на марксистов, буржуев, республиканцев, евреев. Бразийак в тот период полностью находился у него под колпаком, но упорная ненависть Морраса к Германии отталкивала меня, мы и с Робером часто ссорились по этому поводу. Если Гитлер придет к власти, утверждал я, и соединит немецкий пролетариат со средним классом, окончательно затормозив распространение красной заразы, если Франция последует его примеру и если обеим нашим странам удастся искоренить пагубное влияние евреев, тогда сердце Европы, одновременно националистическое и социалистическое, сформирует с Италией несокрушимый блок, основанный на общности интересов. Но французы с их крохоборством и отсталым реваншизмом никак не могут разобраться, что почем. Конечно, Гитлер отметет ограничительные условия Версаля, такова чистая историческая необходимость; однако если бы здоровые силы Франции уничтожили коррумпированную Республику и ее закулисных еврейских дирижеров, то франко-германский союз стал бы не просто возможностью, а неотвратимой реальностью, новой европейской Антантой, которая обломала бы крылья плутократам и британским империалистам и в короткие сроки была бы в состоянии дать отпор большевикам и вернуть Россию в состав цивилизованных европейских государств; поездка в Германию явно повысила уровень моего интеллектуального воспитания; Моро пришел бы в ужас, узнав, на какие цели я потратил его деньги. Бразийак по многим пунктам со мной соглашался: «Да, – говорил он, – послевоенное время кончилось. Мы должны действовать быстро, чтобы избежать новой войны. Иначе все обернется катастрофой, крахом европейской цивилизации и триумфом варваров». Большинство юных последователей Морраса думали так же. Одним из самых блестящих и язвительных среди них слыл Люсьен Ребате, который под псевдонимом Франсуа Виннэй вел в «Аксьон франсез» рубрику литературной и кинематографической критики. Он был на десять лет старше меня, но мы очень быстро сблизились, дружба наша завязалась на почве его восхищения Германией. Еще в ту же компанию входили Максенс, Блонд, Жак Талагран, позже взявший имя Тьерри Молнье, Жюль Сюпервьель и многие другие. Когда у кого-нибудь из нас заводились в кармане деньги, мы кутили в пивной «Липп», а если были на мели, шли в студенческую забегаловку в Латинском квартале. Мы горячо обсуждали литературные вопросы и пытались определить «фашистскую» литературу: Ребате предлагал Плутарха, Корнеля, Стендаля. «Фашизм – поэзия ХХ века», – провозгласил однажды Бразийак, и я не мог с ним не согласиться: fasciste, fascio, fascination (впоследствии Бразийак стал мудрее или осторожнее и присвоил тот же титул коммунизму).
Весной 1932 года я выдержал вступительные экзамены, а большинство моих друзей из ЭНС уже закончили учебу; после лета они разъехались по Франции: кто на службу в армии, кто учительствовать по распределению. На каникулах я снова отправился в Германию, где в то время кипели нешуточные страсти: по сравнению с уровнем 1929 года немецкое производство сократилось почти наполовину, Брюнинг, опираясь на Гинденбурга, управлял страной посредством срочных распоряжений. Подобная ситуация долго длиться не могла. Впрочем, и за пределами Германии порядок пошатнулся. В Испании франкмасоны, революционеры и церковники осуществили заговор и свергли монархию. Америка чуть ли не стояла на коленях. Во Франции последствия кризиса ощущались меньше всего, но положение все равно было далеко не безоблачным, коммунисты тайно и с завидным упорством вели подрывную деятельность. Ни с кем не посоветовавшись, я предложил свою кандидатуру в иностранный отдел НСДАП (для граждан Рейха, проживающих за границей), меня тут же приняли. Осенью я приступил к занятиям в Школе политических наук и продолжал видеться со своими друзьями по ЭНС и «Аксьон франсез», частенько приезжавшими на выходные в Париж. Товарищи по курсу в большей или меньшей степени напоминали тех, с кем я учился в Жансон, однако, к моему удивлению, некоторые предметы оказались весьма интересными. Именно в тот период, безусловно под влиянием Ребате и его нового, еще малоизвестного друга Луи Детуша (роман «Путешествие на край ночи» только вышел и был встречен с энтузиазмом лишь в кругах посвященных, и Селин в то время еще с удовольствием навещал молодых людей), я увлекся французской клавирной музыкой, которую начали открывать и исполнять заново; с Селином мы слушали Марсель Мейер; и я горько, как никогда, раскаивался, что из-за лени и легкомыслия быстро бросил фортепиано. После Нового года президент Гинденбург предложил Гитлеру сформировать новое правительство. Мои сокурсники трепетали, друзья заняли выжидательную позицию, а я ликовал. Но пока Партия расправлялась с красными, выметала отбросы плуто-демократии и поглощала буржуазные партии, я безвылазно торчал во Франции. На наших глазах, в нашу эпоху разворачивалась настоящая национальная революция, а я мог следить за ней лишь издалека, по газетам и сводкам новостей в кинотеатрах. Во Франции жизнь тоже бурлила. Многие отправились на место событий, все писали и мечтали о таком же мощном подъеме у себя на родине, искали контактов с немцами, официальными представителями новой Германии, ратовавшими за франко-немецкое сближение. Бразийак познакомил меня с Отто Абецем, человеком Риббентропа, остававшегося на тот момент советникам Партии по иностранным делам, его идеи не отличались от тех, что проповедовал я после первого возвращения из Германии. Впрочем, для многих серьезным препятствием явился Моррас; немногие отваживались признать, что пора перестать верить его ипохондрическим пророчествам, но все-таки даже они колебались, по-прежнему находясь во власти обаяния и внутренней силы, исходивших от него. А тут еще «афера Стависского» [59] вынесла на общее обозрение криминальные и коррупционные махинации правительства и вернуло «Аксьон франсез» моральный авторитет, которым газета обладала разве что в 1918 году. Все закончилось 6 февраля 1934 года. По правде говоря, история была темная: я находился в городе с Антуаном Ф. (он вместе со мной поступил в Школу политических наук), Блондом, Бразийаком и еще несколькими приятелями. Со стороны Елисейских полей раздавались приглушенные выстрелы; ниже, у площади Согласия, бежали люди. Остаток ночи мы провели на улицах, выкрикивая лозунги в лицо встречной молодежи. На следующий день мы узнали, что не обошлось без жертв. Моррас – инстинктивно все взгляды устремились к нему – опустил руки. Акция обернулась пшиком. «Французское бездействие», – брызгал слюной от злобы Ребате, в дальнейшем так и не простивший Морраса. Меня происходящее не волновало: во мне зрело решение, я больше не видел своего будущего во Франции.
И вот именно на Ребате я и наткнулся в «Же сюи парту». «О! Привидение». – «Как скажешь, – парировал я. – А ты теперь знаменитость». Он развел руками, скорчил мину: «Сам не пойму почему. Я голову себе сломал, стараясь никого не забыть в своих проклятиях. Поначалу, впрочем, все шло нормально: Грассе отказался печатать книжку, я оскорбил слишком многих друзей издательства, как он выразился, а Галлимар хотел сильно порезать текст. В конце концов, ее взял один бельгиец, помнишь, тот, что публиковал Селина? Результат: он нажил состояние, и я тоже. Когда я явился в „Рив гош“ раздавать автографы, все подумали, что я кинозвезда. Фактически только немцы не оценили». Он посмотрел на меня с подозрением: «Ты читал?» – «Нет еще, жду, когда ты мне подаришь свой шедевр. А что? Меня ты там тоже поносишь?» Он засмеялся: «Не так, как ты того заслуживаешь, жалкий бош. И потом все считали, что ты с честью пал на поле брани. Пойдем, пропустим стаканчик?» Поскольку чуть позже у Ребате была встреча на Сен-Жермен, он повел меня во «Флор». «Очень забавно наблюдать идиотские рожи наших антифашистов при исполнении, в тот момент, когда они меня видят». Действительно, с порога его обстреляли злобными взглядами, хотя некоторые из присутствующих, наоборот, встали в знак приветствия. Люсьен явно наслаждался славой. На нем был отлично скроенный светлый костюм, галстук-бабочка в горошек, повязанный немного криво; узкое, подвижное лицо венчал взлохмаченный хохол. Он выбрал столик в стороне справа под окнами, я заказал белого вина. Ребате приготовился скрутить папиросу, я протянул ему голландские сигареты, он с удовольствием взял одну. Но даже когда он улыбался, глаза его оставались серьезными. «Ну, рассказывай», – бросил он. Мы не виделись с 1939 года, он знал лишь, что я служу в СС, я коротко, не вдаваясь в детали, рассказал ему о кампании в России. Он вытаращил глаза: «Ты был в Сталинграде? Черт возьми!» Он посмотрел на меня со смесью страха и зависти. «Тебя ранили? Покажи». Я показал дырку, он протяжно свистнул: «Да ты просто в рубашке родился, ну надо же!» Я промолчал. «Робер скоро отправляется в Россию, – продолжил он. – С Жанте. Но это совсем другая история». – «Зачем они туда едут?» – «Служебная командировка. Они сопровождают Дорио и Бриньона и собираются инспектировать Легион французских добровольцев где-то возле Смоленска, если не ошибаюсь». – «Как дела у Робера?» – «Честно говоря, последнее время мы в ссоре. Он превратился в настоящего петениста. Будет продолжать в том же духе, мы избавимся от него». – «Так все плохо?» Ребате попросил еще два бокала белого, я угостил его сигаретой. «Слушай, – он раздраженно сплюнул, – ты уже давно не появлялся во Франции: поверь мне, ситуация здесь сильно изменилась. Все дерутся, как голодные собаки, за куски трупа Республики. Петен одряхлел, Лаваль ведет себя хуже еврея, Деа выступает за социал-фашизм, Дорио – за национал-большевизм. Сам черт с ними ногу сломит. Нам не хватало Гитлера. Вот в чем драма». – «А Моррас?» Ребате недовольно скривился: «Моррас? Это уже не Моррас, а маразм. Я хорошенько его пропесочил в своей книжке; кажется, он сражен наповал. И потом я тебе еще вот что скажу: после Сталинграда здесь полный разброд и шатание. Крысы покидают тонущий корабль. Ты видел, что малюют на стенах? Нет теперь ни одного вишиста, который бы не прятал у себя участника Сопротивления или еврея – своеобразный способ застраховать свою жизнь». – «Но война продолжается». – «Я в курсе. Но что ты хочешь? Это общество трусов. Я свой выбор сделал и от него не откажусь. Если корабль тонет, я тоже пойду ко дну». – «Однажды в Сталинграде я допрашивал комиссара, который процитировал Матильду де Ла Моль, помнишь, в „Красном и черном“, ближе к концу?» Я повторил Ребате ту фразу, он расхохотался: «Сильно. И что, он тебе ее выдал на французском?» – «Нет, по-немецки. Он бы тебе понравился: старый большевик, вояка, крепкой закалки». – «Что вы с ним сотворили?» Я пожал плечами. «Извини, идиотский вопрос, – спохватился Ребате. – Да, комиссар прав. Я, ты знаешь, восхищаюсь большевиками. Сталин – неординарная личность. Если бы не было Гитлера, я, наверное, стал бы коммунистом». Мы отпили по глотку, я наблюдал за входящими и выходящими людьми. За столиком в глубине зала большая группа людей внимательно разглядывала Ребате и шепотом переговаривалась, но я никого из них не знал. «Ты по-прежнему занимаешься кино?» – полюбопытствовал я. «Нет, не особо. Я увлекся музыкой». – «Да неужели? Ты знаком с Берндтом Юкскюлем?» – «Конечно. А что?» – «Он муж моей сестры. Я с ним встретился на днях в первый раз». – «Шутишь! Да у тебя связи. И что с ним сейчас?» – «Насколько я понял, ничего особенного. Дуется у себя в поместье в Померании». – «Жаль. Он писал хорошие вещи». – «Я не слышал его музыки. Мы с ним спорили насчет Шёнберга, Юкскюль его защищал». – «Я не удивлен. Любой серьезный композитор разделил бы это мнение». – «А, так ты туда же?» Ребате опять передернуло: «Шёнберг никогда не вмешивался в политику, и потом, его великие последователи, например Веберн или Юкскюль, – арийцы, разве нет? Шёнберг открыл додекафонию, серию: последовательность и единство звуков, всегда присутствующие и спрятанные, если хочешь, за размытостью темперированных строев. Теперь после него кто угодно может использовать эту технику и с ее помощью делать все, что пожелает. Здесь речь о первом серьезном прорыве в музыке со времен Вагнера». – «А фон Юкскюль именно Вагнера и ненавидит». – «Немыслимо! – в ужасе вскричал Ребате. – Немыслимо!» – «И тем не менее это правда». Я дословно передал ему нашу беседу с Юкскюлем. «Абсурд, – возразил Ребате. – Бах, разумеется; никто с ним не сравнится. Неприкосновенная, великая фигура. Он добился чистого синтеза вертикали и горизонтали, архитектурной гармонии и музыкального порыва. Он положил конец всему, что этому предшествовало, и установил рамки, за которые все за этим последовавшее пыталось так или иначе вырваться, пока их не взорвал Вагнер. Как немец, немецкий композитор может не преклоняться перед Вагнером?» – «А французская музыка?» Опять гримаса: «Твой Рамо? Забавно». – «Ты не всегда так рассуждал». – «Мы же взрослеем, да?» Он задумчиво допил бокал. Я на секунду вспомнил Якова, но от рассказа о нем воздержался. «А в современной музыке, кроме Шёнберга, что тебе нравится?» – спросил я. «Много чего. В последние тридцать лет музыка возрождается, безумно интересно. Стравинский, Дебюсси, чудесно». – «А Мило, Сати?» – «Да не валяй ты дурака». В этот момент вошел Бразийак. Ребате громко окликнул его: «Эй, Робер! Посмотри, кто здесь!» Бразийак взглянул на нас через толстые круглые очки, махнул рукой и сел за другой столик. «Он поистине становится невыносимым, – пробормотал Ребате. – Он больше не желает даже стоять рядом с бошем. Но ты же, насколько я вижу, не в военной форме». Однако я отлично понимал, что дело тут не только в этом. «Когда я в последний раз был в Париже, мы поссорились», – признался я, чтобы утихомирить Ребате. Однажды на вечеринке Бразийак, выпив больше обычного, набрался смелости и пригласил меня к себе, я пошел. Но он принадлежал к типу стыдливых извращенцев, которые любят только вяло дрочить, созерцая в истоме свой eromenos [60]; мне это всегда казалось скучным и даже отчасти отвратительным, и я сразу отверг его поползновения. Хотя, если честно, я надеялся, что мы по-прежнему друзья. Конечно, я невольно его ранил, попав в самое уязвимое место: Робер не умел принять реальность, его всегда пугала темная горькая сторона страсти; он оставался в своем роде фашиствующим бойскаутом, переростком. Бедный Бразийак! Быстро его приперли к стенке, разобрались в два счета, чтобы после все эти бравые умники со спокойной совестью смогли занять прежние места. Впрочем, я потом часто спрашивал себя, уж не сыграли ли тут определенную роль его наклонности: коллаборационизм, в конце концов, дело семейное, а вот педерастия для де Голля и для добропорядочных пролетариев, присяжных заседателей, совсем другое дело. Как бы то ни было, Бразийак, разумеется, предпочел бы умереть за свои идеи, а не пристрастия. Хотя не он ли описал коллаборационизм одной незабываемой фразой: Мы переспали с Германией, но сохраним ли мы об этом нежное воспоминание? Ребате, восхищавшийся Жюльеном Сорелем, оказался хитрее: его приговорили и помиловали; коммунистом он не стал, но после всех событий нашел время создать прекрасную «Историю музыки» и потихоньку укрылся в тени.
Прощаясь, Ребате предложил мне встретиться вечером с Кусто где-нибудь около площади Пигаль. Я подошел пожать Бразийаку руку, он сидел с какой-то неизвестной женщиной, расплылся в улыбке, сделав вид, что не узнал меня раньше, но своей подруге меня не представил. Я спросил, какие новости у его сестры и зятя; он из вежливости – об условиях жизни в Германии; мы договорились свидеться, но конкретного времени не назначили. Я вернулся в отель, надел форму, сочинил записку Кнохену и отнес ее на авеню Фош. Потом возвратился к себе, переоделся в штатское и решил прогуляться. Я обнаружил Ребате и Кусто в «Либерти», заведении педиков на площади Бланш. Кусто, я за ним такого даже и не подозревал, знал хозяина, Дядюшку, и, по меньшей мере, половину гомиков и со всеми был на «ты». Пока мы пили «Мартини», многие из них, расфуфыренные, несуразные в париках, гриме и стеклянных побрякушках, перешучивались с Кусто и Ребате. «Вот той, посмотри, – показал Кусто, – я дал кличку „гробовщица“. Потому что она засасывает до смерти». – «Ты своровал это у Максима Дюкана, остолоп», – возмутился Ребате и, чтобы принизить Кусто, принялся демонстрировать свои обширные познания в области литературы. «А ты, дорогой, чем занимаешься?» – один из педрил ткнул в мою сторону длинной сигаретой. «Он гестаповец», – съязвил Кусто. Транс прикрыл рот рукой в кружевной перчатке и испустил протяжное: «Оооо…» Но Кусто уже принялся рассказывать долгую историю о парнях из легиона Дорио, которые феллируют немецких солдат в писсуарах Пале-Руаяль; парижские полицейские, регулярно осуществляющие рейды и там, и в туалетах на Елисейских полях, порой сталкиваются с неприятными сюрпризами. Я испытывал неловкость от его двусмысленных намеков: что за игру затеяли эти двое? Другие товарищи, я знал, меньше боялись и чаще практиковали. И при том никто из них не имел ни малейших угрызений совести, публикуя анонимные разоблачения в колонках «Же сюи парту»; того, кто не имел несчастья родиться евреем, всегда можно было превратить в гомосексуалиста; а значит, разрушить карьеру, или даже жизнь. Кусто и Ребате, думал я, пытаются доказать, что их революционный радикализм выше всех предрассудков (кроме научных и расистских, как и должно французской мысли). По сути, они, как презираемые ими сюрреалисты и Андре Жид, стремились эпатировать буржуа. «Известно ли тебе, Макс, – обратился ко мне Ребате, – что священный фаллос, который весной и во время сбора винограда на праздник „Либералии“ римляне носят по улицам, называется fascinus [61]. Муссолини, наверное, тоже об этом вспомнил». Я пожал плечами: все мне казалось лживым, какая-то жалкая театральная инсценировка, а ведь вокруг по-настоящему умирают люди. Мне и вправду очень хотелось мальчика, не переспать, нет, а ощутить теплоту кожи, терпкий запах пота, нежный член, съежившийся между ног, словно маленький зверек. Ребате ведь боялся собственной тени, и мужчин, и женщин, себя самого и своего тела, всего, кроме абстрактных идей, не способных оказать ему сопротивления. Больше чем когда-либо я жаждал покоя, похоже, для меня недостижимого: я резался о мир, как о разбитое стекло; постоянно без колебаний глотал крючок с наживкой, а потом удивлялся, извлекая наружу собственные внутренности.
На следующий день после разговора с Гельмутом Кнохеном это чувство обострилось. К товарищескому радушию и участливости, с которыми Кнохен меня принимал, странным образом примешивалась скрытая враждебность и высокомерие. Когда Кнохен работал в СД, я не общался с ним вне пределов кабинета, но, тем не менее, он знал, что я часто навещал Беста (наверное, при теперешних обстоятельствах не лучшая рекомендация). Как бы то ни было, я сказал, что виделся с Бестом, и Кнохен осведомился, что у него нового. Я напомнил Кнохену о нашей совместной службе под командованием доктора Томаса; он в свою очередь принялся расспрашивать о России, тонко намекая на существующую между нами дистанцию: мной, контуженным с неопределенным будущим, и им, штандартенфюрером, занятым проблемами целой страны. Мы сидели у Кнохена в кабинете за невысоким столом, украшенным вазой с сухими цветами; Кнохен расположился на канапе, скрестив длинные, обтянутые рейтузами ноги, я ютился в крохотном, очень низком креслице: таким образом, коленка Кнохена загораживала мне его лицо и мутный взгляд. Я не решался приступить к волнующей меня теме. В конце концов я неожиданно для себя брякнул, что работаю над книгой о будущем международных отношений Германии, и принялся развивать идеи, почерпнутые мной в «Фестгабе» Беста (а пока говорил, сам увлекся и убедил себя, что действительно хотел бы написать книгу, которая поразит умы и обеспечит дальнейшую карьеру). Кнохен, кивая головой, вежливо слушал. Потом я вскользь заметил, что рассчитываю получить пост во Франции, чтобы собрать конкретные факты и дополнить имеющиеся материалы по России. «Вам уже что-нибудь предложили? – в голосе Кнохена проскользнуло любопытство. – Я не в курсе». – «Пока нет, штандартенфюрер, вопрос в стадии обсуждения. В общем-то, проблем нет, но надо, чтобы подходящее место освободилось или было создано». – «У меня, вы знаете, на сегодняшний момент ничего нет. Жаль, еще в декабре требовался специалист по еврейским делам, но сейчас вакансия закрыта». Я заставил себя улыбнуться: «Это не то, что я ищу». – «Однако мне кажется, что именно в данной области вы обладаете неоценимым опытом. Во Франции еврейский вопрос стоит практически во главе угла наших дипломатических отношений с Виши. Правда, вы в слишком высоком звании: такая должность скорее для гауптштурмфюрера. А что Абец? Вы к нему обращались? Если я не ошибаюсь, у вас же есть личные контакты с профашистски настроенными парижанами, что, кстати, могло бы заинтересовать нашего посла».
В полном отчаянии я стоял посреди широкого тротуара полупустой авеню Фош: у меня возникло ощущение, что я натолкнулся на невидимую преграду, рыхлую, расплывчатую и непреодолимую, как высоченная каменная стена. Триумфальная арка на верхнем конце улицы заслоняла солнце и отбрасывала длинную тень на мостовую. Пойти к Абецу? Можно сослаться на нашу короткую встречу в 1933 году или попросить вмешаться кого-нибудь из моих друзей из «Же сюи парту», но мне не хватало смелости. Я подумал о сестре: наверное, мне бы сгодилось назначение в Швейцарии, Уна сопровождала бы мужа в санатории, а я бы время от времени ее навещал. Но в Швейцарии постов СД раз, два и обчелся, да и за те чуть ли не дерутся. Доктор Мандельброд, конечно, без труда устранил бы все помехи на моем пути и во Франции, и в Швейцарии, впрочем, как я понял, у него на меня были свои планы.
Я вернулся переодеться в штатский костюм и отправился в Лувр: по крайней мере, там, среди застывших, безучастных статуй, я успокаивался. Я долго сидел перед «Лежащим Христом» Филиппа де Шампеня, потом меня привлекла небольшая картина Ватто «Равнодушный». Празднично наряженный персонаж приготовился к танцевальному прыжку и развел руки в ожидании первых звуков увертюры. Фигура женская, но с эрекцией, на причинном месте шелковые фисташковые штаны явно оттопырены. Лицо невыразимо грустное, почти потерянное, словно танцовщик все позабыл и уже не в состоянии вспомнить, почему и для кого принял такую позу. Меня это поразило: довольно красноречивая иллюстрация моей ситуации, и каждая деталь, вплоть до названия, ее дополняет – хотя какой же я равнодушный, достаточно было пройти мимо портрета женщины с тяжелыми черными волосами, чтобы меня пронзило, как стрелой; и даже если в портретах было мало сходства с Уной, за роскошной мишурой Ренессанса и Регентства, за драгоценностями и яркими, пестрыми тканями, невесомыми, как струящееся масло мастеров-художников, я угадывал ее тело, груди, живот, бедра, формы безупречные, обрисовывающие косточки, или слегка округлые, скрывающие единственный источник жизни, доступный мне. Вне себя я выскочил из музея, да что толку: каждая встреченная на улице или смеющаяся за окном женщина вызывала во мне те же чувства. Я заходил во все попадавшиеся по пути кафе и опрокидывал стакан за стаканом, но чем больше я пил, тем трезвее становился, у меня открылись глаза, внутрь меня с ревом ворвался прожорливый окровавленный мир, затопив мою голову грязью и экскрементами. Мое третье око видело все вокруг в резком, беспощадном, ярко-белом свете, выхватывало мельчайшую капельку пота, прыщ, плохо выбритую щетину на грубых рожах, вызывавших у меня ужас. Во мне будто безудержно кричал испуганный ребенок, вечный пленник отвратительного неуклюжего тела взрослого, неспособного, даже убивая, отомстить за то, что ему приходится жить. Уже поздно ночью в бистро ко мне подкатил парень и стрельнул сигарету – вот, кажется, мне и представилась возможность отрешиться от всего на короткое мгновение. Он согласился подняться со мной в комнату. «Еще один, – думал я, взбираясь по лестнице, – очередной и далеко не последний». Мы разделись по разным сторонам кровати; нелепо, но парень не снял носки и часы. Я попросил взять меня стоя, оперся на комод напротив узкого зеркала, висевшего высоко на стене. Во мне постепенно нарастало удовольствие, глаза я не закрывал и вглядывался в побагровевшую, опухшую рожу, пытаясь различить за мерзкой оболочкой свое настоящее лицо с чертами сестры. Но тут произошло нечто удивительное: между нашими двумя лицами в их дивном слиянии проскользнуло гадкое, прозрачное, словно стеклянное, холодное и невозмутимое лицо нашей матери, бесконечно тонкое, но более твердое и непроницаемое, чем самая толстая стена. В приступе бешенства и омерзения я взвыл и разбил кулаком зеркало; парень отпрыгнул назад и, рухнув на кровать, несколько раз обильно спрыснул. Я тоже кончил, рефлекторно, ничего не почувствовав, с уже нетвердым членом. С моих пальцев на пол капала кровь. Я ринулся в ванную, вымыл руку, вынул кусок стекла, обмотал рану полотенцем. Когда вышел, парень, явно обеспокоенный, одевался. Я порылся в кармане брюк и кинул на кровать пару купюр: «Проваливай». Он схватил деньги и выскочил из комнаты, не спросив прибавки. Я хотел сразу лечь, но потом все же собрал осколки, выкинул их в корзину для бумаг, тщательно осмотрел пол, не осталось ли чего, вытер кровь и принял душ. Теперь можно ложиться, но кровать превратилась в распятие, в станок для пыток. Чего ради здесь объявилась эта гнусная сука? Мало я страдал из-за нее? Она снова взялась меня преследовать? Я сел на одеяло по-турецки и в задумчивости курил сигарету за сигаретой. Сквозь закрытые ставни сочился бледный свет уличного фонаря. Моя разгоряченная, безумная мысль преобразовалась в хорошо знакомого коварного убийцу, и, как Макбет, перерезала горло сну. Мне казалось, что еще вот-вот – и я пойму нечто важное, но понимание замирало на кончиках порезанных пальцев, насмехалось и, по мере моего приближения, незаметно отодвигалось назад. Впрочем, одну мысль я все же поймал: потом с отвращением взирал на нее, и поскольку никакая другая не торопилась занять ее место, воздал ей должное. Я положил ее, тяжелую, как старинная монета, на ночной столик: она звенела, если я стучал сверху ногтем, а если подкидывал на орла или решку, мне неизменно выпадало холодное, невозмутимое лицо.
Рано утром я оплатил счет в отеле и сел в первый же поезд на юг. Французы должны были резервировать места за несколько дней, а порой и недель, но купе для немцев всегда оставались полупустыми. Я вышел в Марселе, где заканчивалась немецкая зона. Поезд часто останавливался; на вокзалах, совсем, как в России, к вагонам устремлялись крестьяне, предлагая пассажирам продукты, яйца вкрутую, куриные окорочка, вареную картошку с солью; проголодавшись, я наугад подзывал кого-нибудь и брал еду прямо через окошко. Читать я не мог, только рассеянно смотрел на проплывающие за окном пейзажи и расковыривал царапины на пальцах, мысли мои блуждали далеко, оторванные и от прошлого, и от настоящего. В Марселе я отправился на пост гестапо узнать об условиях въезда в итальянскую зону. Меня принял молодой оберштурмфюрер: «Отношения на сегодняшний день осложнились. Итальянцам не хватает понимания наших усилий в решении еврейского вопроса. Их зона превратилась в истинный рай для евреев. Вместо того чтобы по нашей просьбе сажать евреев в тюрьмы, их расселяют на лучших горнолыжных курортах в Альпах». Меня, однако, абсолютно не заботили проблемы оберштурмфюрера. Я объяснил ему, чего хочу: он занервничал, но я уверил, что освобождаю его от любой ответственности. В итоге он согласился написать письмо, где просил итальянские власти облегчить мое передвижение по стране в личных целях. Было уже поздно, и я снял на ночь комнату с окном на Старый порт. И утром на автобусе отправился в Тулон; на границе берсальеры в гротескных шляпах с перьями пропустили нас, не проверив документов. Я пересел на другой автобус в Тулоне, потом в Каннах; и уже после полудня добрался до Антиба. Автобус довез меня до главной площади; с дорожной сумкой на плече я обогнул порт Вобан, прошел мимо приземистого форта Каре и начал подниматься вверх по дороге вдоль моря. Со стороны бухты дул легкий соленый бриз, маленькие волны лизали полоску песчаного берега, крики чаек заглушали шум прибоя и редких машин; на пляже почти никого не было, лишь пара-тройка итальянских солдат. Я был в штатском и потому внимания не привлекал, лишь однажды меня окликнул полицейский – попросить огоньку. Дом стоял в нескольких километрах от центра. Я шагал медленно: чего спешить? Вид и запах Средиземного моря совершенно меня не волновали, и страх отступил, я успокоился. Наконец я оказался на глинобитной дороге, ведущей к поместью. Ветерок пробегал по веткам раскинувшихся зонтиками сосен, аромат смолы смешивался с запахом моря. Калитка с облупившейся краской была приоткрыта. Длинная аллея наискось разрезала чудесный парк, засаженный черными соснами, я свернул с нее и прокрался по стене в глубину парка; там переоделся в военную форму, которая немного помялась в сумке, разгладил ткань ладонью, так аккуратнее. Песчаную землю между деревьями, довольно далеко растущими друг от друга, устилал ковер сосновых иголок; за высокими стройными стволами вырисовывался охровый бок дома с террасой; за оградой сквозь волнистые кроны поблескивало солнце. Я возвратился, пошел по аллее, позвонил в парадную дверь. Справа от меня раздался приглушенный смех: я обернулся, но ничего не увидел. Потом с противоположной стороны дома раздался мужской голос: «Эй! Идите сюда». Я тут же узнал Моро. Он, держа потухшую трубку, ждал на веранде перед входом в гостиную; жалкий старик в вязаном жилете и галстуке-бабочке. Он посмотрел на мою форму, нахмурился: «Что вам надо? Кого ищете?» Я подошел ближе, снял фуражку: «Вы меня не узнаете?» У него глаза полезли из орбит, и челюсть отвисла, потом он шагнул вперед, энергично пожал мне руку и хлопнул по плечу. «Разумеется, узнаю!» Снова отступил, смущенно оглядел меня: «Но почему такая форма?» – «Форма, в которой я служу своей стране». Он отвернулся и крикнул в пустоту комнат: «Элоиза! Иди, посмотри, кто здесь!» Гостиная тонула в полумраке; я различил приближающуюся к нам серую, невысокую фигуру; потом за спиной Моро появилась старуха и молча уставилась на меня. И это моя мать? «Твоя сестра писала, что тебя ранили, – произнесла она. – Ты бы и сам мог подать весточку. Хоть бы предупредил, что приедешь». Голос ее оставался молодым, в отличие от пожелтевшего лица и седых волос, для меня это был мощный глас, который умалял меня, обращал в ничто, и даже форма, мой смехотворный талисман, меня не защищала. Моро заметил мое замешательство: «Конечно, – быстро добавил он, – мы всегда тебе рады. Здесь твой дом». Мать продолжала меня гипнотизировать. «Ладно, подойди, – разрешила она в конце концов. – Поцелуй свою мать». Я положил сумку на землю, подошел к матери, нагнулся и поцеловал ее в щеку, потом обнял, прижал к себе. Я чувствовал ее напряжение; в моих объятиях она была веткой, птицей, мне никаких усилий не понадобится, чтобы ее задушить. Она тоже подняла руки и обхватила меня. «Ты, наверное, устал. Давай располагайся». Я отпустил ее, выпрямился. Опять за моей спиной кто-то тихонько рассмеялся. Я обернулся и увидел двух близнецов, одетых в коротенькие панталончики и курточки в тон, они встали рядышком и не сводили с меня огромных любопытных и веселых глаз. «А вы еще кто?» – спросил я. «Дети нашей приятельницы, – пояснила мать. – Мы сейчас за ними присматриваем». Один из близнецов показал на меня пальцем: «А он сам кто?» – «Немец. Ты что, не видишь?» – откликнулся второй. «Это мой сын, – заявила мать. – Его зовут Макс. Ну-ка, поздоровайтесь». – «Ваш сын – немецкий солдат, тетя?» – удивился первый. «Да. Пожмите ему руку». Они колебались, потом приблизились и одновременно протянули мне свои маленькие ладошки. «Как вас зовут?» Они молчали. «Знакомься, Тристан и Орландо, – представила их мать. – Я вечно их путаю. А они обожают, когда одного принимают за другого. Мы всегда чуть-чуть сомневаемся». – «Потому что мы похожи как две капли воды, тетя. Нам бы и имени хватило одного на двоих». – «Предупреждаю, я – полицейский, – пригрозил я, – установление личности для меня чрезвычайно важно». У них глаза расширились. «Здорово!» – восхитился один. «Вы пришли арестовать кого-то?» – поинтересовался его брат. «Возможно», – ответил я. «Перестань молоть чепуху», – перебила меня мать.
Мать выделила мне старую комнату, но я ничего не узнавал. Плакаты, оставленные мною мелочи бесследно исчезли; и кровать поменяли, и комод, и обои. «Где мои вещи?» – спросил я. «На чердаке, – ответила мать. – Я все сохранила. Ты позже можешь пойти проверить». «А комната Уны?» – не унимался я. «Там пока разместили близнецов». Мать вышла, я отправился в большую ванную, чтобы умыться и смочить волосы. Потом вернулся к себе, переоделся, повесил форму в шкаф. В коридоре чуть-чуть помедлил возле комнаты Уны и пошел дальше, на террасу. Солнце садилось за огромными соснами, отбрасывающими длинные тени по всему парку, и окрашивало в густой шафрановый цвет каменную стену дома. Я заметил близнецов: они пробежали по газону и скрылись за деревьями. Однажды с этой террасы я, рассердившись из-за пустяка, выпустил стрелу (но все-таки с предохранителем на наконечнике) в сестру, целился в лицо и попал чуть ниже глаза, чудом его не выбив. Вроде бы потом меня сурово наказал отец, но ведь если он тогда был с нами, то, выходит, это случилось в Киле, а не здесь. Но в Киле в нашем доме не было террасы, а в моей памяти этот поступок четко увязывался с большими керамическими цветочными горшками, расставленными на площадке с гравием, где меня встречали сегодня Моро и мать. Раздосадованный собственными сомнениями, я развернулся и побрел обратно в дом. Слонялся по коридорам, вдыхая запах полироли и распахивая наугад двери. Кроме моей комнаты мало что изменилось. Я очутился у лестницы, которая вела на чердак, постоял немного и повернул обратно. Спустился по широкой парадной лестнице, прошмыгнул через главную дверь во двор и углубился в парк, дотрагиваясь до серых шершавых стволов и едва застывших, пока еще тягучих струек смолы и пиная ногой шишки, валявшиеся на земле. В воздухе разливался терпкий пьянящий сосновый аромат, чтобы не перебить его, я даже не курил, хотя хотелось. На голой земле не росли ни трава, ни кусты, ни папоротник: однако все мне жутко напоминало лес рядом с Килем, где я ребенком играл в свои странные игры. Я хотел прислониться к дереву, но ствол был липкий, и я остался стоять рядом, безвольно опустив руки, погрузившись в бешеный круговорот мыслей.
За ужином мы перекидывались короткими, вымученными фразами, которые заглушало звяканье приборов и блюд. Моро жаловался на проблемы в делах и на итальянцев, утверждал, что, дескать, с немецкой экономической администрацией в Париже у него хорошие отношения. Пытался вести светскую беседу, я же, сохраняя вежливый тон, изводил его мелкими нападками. «Что за знаки различия на твоей форме?» – поинтересовался он. «Штурмбанфюрер СС, что соответствует майору вашей армии». – «А, майор! Высокое звание, поздравляю». Я тоже в долгу не остался, спросил, где он служил до июня сорокового; не заподозрив подвоха, он воздел руки к небу: «Ах, мой мальчик! Я мечтал бы нести службу. Но меня не взяли, сказали, что слишком стар. Конечно, – торопливо прибавил он, – немцы побили нас в честном бою. И я полностью одобряю политику сотрудничества нашего Маршала» [62]. Мать молчала, но следила за этим небольшим спектаклем с тревогой. Близнецы за столом веселились, хотя время от времени на их лица набегала тень серьезности. «А ваши еврейские друзья? Как их фамилия? Бенаум, кажется? Что с ними сталось?» Моро покраснел. «Они уехали в Швейцарию», – сухо сказала мать. «Это, наверное, не лучшим образом отразилось на ваших делах, – обратился я к Моро. – Вы же компаньоны, да?» – «Я выкупил его часть», – ризнался Моро. «О, отлично. По еврейским тарифам или по немецким? Надеюсь, вы не продешевили?» – «Хватит, – оборвала мать. – Дела Аристида тебя не касаются. Расскажи лучше о том, что выпало на твою долю. Ты же был в России, верно?» – «Да, – я моментально почувствовал себя униженным. – Я боролся с большевизмом». – «Похвально», – назидательно изрек Моро. «Да, но красные теперь наступают», – парировала мать. «Ах, не волнуйся! – воскликнул Моро. – Сюда они не доберутся». – «Мы терпим поражение, но это временно, – подхватил я. – Мы подготовим новые армии и раздавим большевиков». – «Чудесно, чудесно, – прошептал Моро, кивая головой. – А после, надеюсь, займетесь итальянцами». – «Итальянцы – наши первые братья по оружию, – возразил я. – Когда образуется новая Европа, они первые получат свою долю». Моро воспринял мои слова крайне серьезно и рассердился: «Они трусы! Дождались, пока мы сдадимся немцам, чтобы объявить нам войну и обокрасть. Но я уверен, что Гитлер сохранит целостность Франции. Говорят, он в восторге от Маршала». Я пожал плечами: «Фюрер распорядится Францией, как она того заслуживает». Моро побагровел. «Макс, довольно, – опять встряла мать. – Возьми десерт».
После ужина мать попросила меня подняться к ней в будуар, смежную со спальней комнатку, декорированную с большим вкусом. Никто не смел входить туда без разрешения. И начала сразу без лишних церемоний: «Зачем ты приехал? Я тебя предупреждаю: если только для того, чтобы нас третировать, тогда не стоило». Я снова сжался от ее холодного взгляда и властного голоса, превратился в беспомощного, пугливого маленького ребенка, вроде близнецов. Я безуспешно старался совладать с собой. «Нет, – с трудом выдавил я, – просто хотелось вас увидеть. Я во Франции по работе, подумал о вас. Меня же чуть не убили, ты знаешь, мама. Может, я погибну на войне. А нам столько нужно исправить». Мать немного смягчилась, коснулась тыльной стороны моей руки; я тихонько отодвинулся, но она вроде и не заметила. «Ты прав. Хоть бы строчку написал, не перетрудился бы. Я понимаю, ты против моего выбора. Но исчезать так, словно ты умер, имея родителей, нельзя. Понимаешь ты это или нет?» Она помолчала, потом затараторила, будто опасаясь, что времени не хватит: «Знаю, ты обвиняешь меня в исчезновении отца, хотя обижаться тебе надо на него. Отец бросил меня с вами на произвол судьбы; я не спала в течение года, твоя сестра будила меня каждую ночь, ее мучили кошмары, и она плакала. Ты не плакал, но это было даже хуже. Мне приходилось в одиночку заботиться о вас, кормить, одевать, воспитывать. Ты не представляешь, как это тяжело. И с какой бы стати мне отказывать Аристиду? Он хороший человек и помог мне. Что, по-твоему, оставалось делать? А твой отец, где он? Даже будучи с нами, он словно отсутствовал. Все делала я, подтирала вам задницы, мыла, кормила. Отец проводил с вами от силы пятнадцать минут в день, а потом возвращался к своим книгам или на работу. Но ненавидишь ты меня». У меня горло перехватило от волнения: «Нет, мама, это совсем не так». – «Нет, ненавидишь, я чувствую и вижу. Ты заявился сюда в форме, чтобы показать, до какой степени ты меня ненавидишь». – «Почему отец уехал?» Мать глубоко вздохнула: «Никто не знает, кроме него самого. Может, просто от скуки». – «Не верю! Что ты натворила?» – «Ничего, Макс. Я его не выгоняла. Он уехал, и все. Может, я стала ему в тягость, может, вы». От ужаса кровь бросилась мне в лицо: «Нет! Немыслимо! Он нас любил!» – «Не уверена, что он вообще понимал, что такое любовь, – ответила она мне очень ласково. – Если бы он нас любил, вас любил, он бы мог черкнуть хоть два слова. Хотя бы о том, что не вернется. И не обрекать нас на страхи и сомнения». – «Ты заявила, что он умер». – «Я совершила этот шаг во многом ради вас. Защищая ваши интересы. Он не подавал признаков жизни, не трогал свой счет в банке, оставил в подвешенном состоянии дела, – сколько мне пришлось всего улаживать: счета заблокировали, а проблем обрушилось масса. И я не хотела, чтобы вы зависели от Аристида. Ты думаешь, откуда взялись деньги на твою поездку в Германию? Тебе прекрасно известно, что это деньги твоего отца, ты взял их, жил на них. Наверное, он и вправду уже умер где-нибудь». – «Выглядит все так, будто ты его и убила». Я видел, что мои слова причинили ей боль, но она сумела сохранить спокойствие: «Он сам себя убил, Макс. Таков его выбор. И ты должен это принять».
Но я не желал ничего принимать. Ночью я провалился в темную, бурлящую толщу воды, спал без снов. Меня разбудил смех близнецов, доносившийся из парка. Утро было в разгаре, сквозь закрытые ставни пробивалось солнце. Умываясь и одеваясь, я анализировал сказанное матерью. Одна вещь сильно задела меня: действительно, все: и мой отъезд из Франции, и разрыв с матерью – оказалось возможным лишь благодаря отцовскому наследству, небольшому капиталу, который мы с Уной разделили, достигнув совершеннолетия. Мне и в голову тогда не приходило связывать отвратительное, с моей точки зрения, поведение матери с деньгами, позволившими мне от нее освободиться. К этому освобождению я готовился долго. В ближайшие после путча 1934 года месяцы я обратился к Мандельброду за помощью и поддержкой; и, как я уже говорил, он великодушно мне их предоставил; к моему дню рождения все уже было организовано. Мать и Моро приехали в Париж, чтобы уладить формальности, касающиеся моего наследства, и за ужином, с нотариальными бумагами в кармане, я объявил о решении бросить Школу политических наук ради Германии. Моро, еле подавляя гнев, молчал, а мать пыталась меня урезонить. На улице Моро повернулся к ней: «Ты не видишь, что твой сынок стал маленьким фашистом? Пусть марширует, если ему так нравится». Я был слишком счастлив, чтобы злиться, и расстался с ними на бульваре Монпарнас. Прошло девять лет, и разразилась война, прежде чем я увидел их в следующий раз.
Внизу я наткнулся на Моро, сидевшего на садовом стуле в квадрате солнца перед стеклянной дверью гостиной. Веяло прохладой. «Добрый день, – поздоровался он с хитрым видом. – Хорошо спалось?» – «Да, благодарю. Мама уже встала?» – «Проснулась, но еще отдыхает. Там на столе кофе и тартинки». – «Спасибо». Я сходил за едой, вернулся к Моро с чашкой в руке и оглядел парк. Близнецов не было слышно. «А где мальчики?» – спросил я. «В школе. Они вернутся после полудня». Я отхлебнул кофе. «Знаешь, – произнес он, – мама рада, что ты приехал». – «Ну, да, наверное», – согласился я. Он невозмутимо продолжил свою мысль: «Ты должен писать чаще. Времена предстоят суровые. Семья будет нужна всем. Семья – единственное, на что можно рассчитывать». Я не отреагировал, рассеянно посмотрел на Моро, а он задумчиво разглядывал сад. «Слушай, в будущем месяце Праздник матери. Ты бы ее поздравил». – «Что еще за праздник?» Моро удивился: «Его учредил Маршал, два года назад. Чтобы почтить материнство. Отмечается в мае, в этом году выпадает на тридцатое». Он по-прежнему не сводил с меня глаз. «Ты мог бы прислать открытку». – «Да, я постараюсь». Он смолк, опять отвернулся к саду. «Не найдется ли у тебя времени, – сказал он после долгой паузы, – наколоть в сарае дров для плиты? Я уже старый». Я покосился на притулившегося на стуле Моро: правда, постарел. «Да, пожалуйста», – ответил я. Я зашел в дом, поставил на стол пустую чашку, сгрыз сухарик, поднялся на второй этаж и прямиком полез на чердак. Захлопнул за собой люк и начал осторожно пробираться между ящиками и мебелью, дощатый пол поскрипывал под ногами. Вокруг меня в воздухе, запахах, свете, столпах пыли возникли вполне осязаемые воспоминания, и я, полностью раскрепостившись, погружался в свои ощущения, как некогда в Волгу. В углах мне мерещились тени наших с Уной тел, отблески белой кожи. Потом я встряхнулся, отыскал коробки со своими вещами, оттащил их на свободное место возле балки, сел на корточки и принялся в них рыться. Жестяные машинки, школьные дневники и тетради, юношеские книги, фотографии в толстых конвертах, заклеенные конверты с письмами моей сестры, огромный пласт прошлого, чужого, жестокого. Я не осмеливался ни глянуть на фотографии, ни вскрыть конверты и чувствовал, как во мне растет животный ужас. Даже безликие, невинные предметы несли на себе печать того самого прошлого, от которого меня до мозга костей пробирал холод; каждая новая, но до боли знакомая вещь внушала мне отвращение и вместе с тем завораживала, я словно держал в руках мину, готовую взорваться. Чтобы успокоиться, я решил разобрать книги. Подобную библиотеку имел любой подросток моего времени: Жюль Верн, Поль де Кок, Гюго, Эжен Сю, американцы Берроуз и Марк Твен, «Приключения Фантомаса» и «Рультабий» [63], рассказы о путешествиях, биографии великих людей. Мне страстно захотелось кое-что перечитать, и после некоторых раздумий я отложил три первых тома марсианской серии Берроуза, те, что некогда возбуждали мои фантазии в ванной наверху. Потом я снова занялся заклеенными конвертами, взвешивал их, крутил в руках. Вначале, после семейного скандала и ссылки в коллеж, нам с сестрой разрешили переписываться, но меня заставляли вскрывать каждое ее письмо перед кюре, тот прочитывал его и передавал мне; сестру, видимо, принуждали делать то же самое. Ее длинные письма, почему-то отпечатанные на машинке, были полны нравоучений и патетики: «Мой дорогой брат, у меня все хорошо, здесь ко мне относятся очень внимательно. Я пробуждаюсь к духовному обновлению и т. д.» Но ночью я запирался в туалете с огарком свечи и, дрожа от нетерпения и волнения, держал письмо над пламенем, пока не проявлялись буквы, нацарапанные между строк молоком: НА ПОМОЩЬ! ВЫТАЩИ МЕНЯ ОТСЮДА, УМОЛЯЮ! Идею мы позаимствовали из рассказа о Ленине, найденного и тайком прочитанного у букиниста, торговавшего возле мэрии. Ее отчаянные призывы повергли меня в панику, я задумал бежать и спасти ее. Попытка моя не увенчалась успехом, меня быстро поймали и строго наказали, побили розгами и неделю держали на черством хлебе, домогательства старших мальчиков участились, но мне было безразлично; главное, что запретили переписку, и я впадал то в бешенство, то в уныние. Даже не знаю, сохранил ли я последние записки Уны, лежат ли они в конвертах, а проверять мне не хотелось. Я все сложил в коробки, взял три книги и спустился вниз.
Под влиянием неведомого импульса, я вошел в бывшую комнату Уны. Там теперь стояла двуспальная деревянная кровать, покрашенная в красный и голубой цвет, среди выстроенных в ряд игрушек я с негодованием узнал и свои. Вещи аккуратно сложены, убраны в ящики и развешаны в шкафу. Я быстро переворошил все в поисках свидетельств, писем, ничего не нашел. Фамилия на ученических дневниках незнакомая, похожа на арийскую. Дневников целая коллекция за несколько лет: значит, близнецы живут здесь уже долго. За спиной у меня раздался голос матери: «Что ты тут делаешь?» – «Смотрю», – ответил я, не оборачиваясь. «Лучше бы спустился и наколол дров, тебя же Аристид просил. Я приготовлю обед». Я взглянул на мать: она застыла в дверях, строгая, невозмутимая. «Кто эти мальчики?» – «Я тебе уже говорила: дети близкой подруги. Мы их приняли, потому что она не может о них больше заботиться. Отца у них нет». – «Сколько они здесь?» – «Достаточно давно. Ты ведь тоже давно уехал, сынок». Я обвел комнату глазами, потом снова приступил к матери: «Это маленькие евреи? Признайся. Они евреи, да?» Но мать не потеряла самообладания: «Хватит нести вздор. Они не евреи. Если не веришь, зайди в ванную, когда они моются, и убедись. Вы же так обычно поступаете?» – «Да. Иногда именно так». – «В любом случае, даже если бы они оказались евреями, что изменится? Что бы ты с ними сделал?» – «Абсолютно ничего». – «Что вы творите с евреями? – продолжала она. – Такие страсти рассказывают. Даже итальянцы говорят, что ваши действия неприемлемы». Внезапно я почувствовал себя старым и усталым: «Мы отправляем евреев на работы на Восток. Они строят дороги, дома, трудятся на заводах». Мать не унималась: «А детей вы тоже отправляете укладывать дороги? Вы же и детей берете, разве нет?» – «Детей вывозят в специальные лагеря, там они живут с работоспособными матерями». – «Зачем вы это делаете?» Я пожал плечами: «Ну, кто-то же должен. Евреи – паразиты и эксплуататоры: теперь они служат тем, кого угнетали. Французы, кстати, позволь заметить, очень нам помогают: французская полиция их арестовывает и передает СС. Все происходит в рамках французского права и закона. И однажды история докажет нашу правоту». – «Вы совершенно ополоумели. Иди дрова руби». Она отвернулась и направилась к лестнице для прислуги. Я уложил три книжки Берроуза в сумку и пошел в сарай. Снял куртку, взял топор, положил бревно на колоду, размахнулся и ударил. Без сноровки это оказалось довольно трудно: мне понадобилось несколько попыток, чтобы его расколоть. Поднимая топор, я прокручивал в голове слова матери; меня беспокоила не ее политическая непросвещенность, а то, как она смотрела на меня: что она видела? Я ощутил, до какой степени измучен и задавлен прошлым, его непоправимыми, неизлечимыми ошибками, полученными или надуманными обидами. И бороться бесполезно. Я расправился с несколькими полешками, набрал охапку и отнес на кухню. Мать чистила картошку, я сложил дрова возле печи и молча вернулся в сарай. Я совершал ходку за ходкой и размышлял за работой: по сути, коллективная проблема немцев не отличается от моей. Они тоже прилагают неимоверные усилия, чтобы избавиться от гнетущего прошлого, начать все с чистого листа. Вот поэтому они и выбрали самую радикальную меру: убийство, мучительный страх убийства. Но являлось ли убийство решением? Эту тему я обсуждал бесчисленное количество раз: в Германии не я один сомневался. А если убийство нецелесообразно и если, наоборот, это новое деяние еще менее поправимо, чем предыдущие, и открывает теперь новые бездны? Какой же остается выход? На кухне я заметил, что захватил с собой топор из сарая. Никого не было, мать, наверное, сидела в гостиной. Я глянул на поленницу: пока, наверное, будет достаточно. Я обливался потом, поставил топор в угол рядом с плитой и поднялся помыться и переодеть рубашку.
За столом царила удручающая тишина. Близнецы обедали в школе, так что ели мы втроем. Моро пытался комментировать последние новости: англичане и американцы стремительно наступали на Тунис, в Варшаве вспыхнули беспорядки, но я упорно молчал. Я глядел на него и думал: каков хитрец, наверняка сохранил контакты с нашими противниками и помогает им, не в ущерб себе, конечно; если наше положение ухудшится, он скажет, что всегда был на их стороне и сотрудничал с немцами лишь для прикрытия. При любом раскладе событий он сумеет уползти в нору, старый лев, беззубый и трусливый. Пусть даже близнецы – не евреи; я не сомневался, что Моро и мать прятали евреев: отличный способ при минимуме расходов (с итальянцами они ничем не рискуют) обеспечить себе хорошую репутацию в будущем. Мысль эта привела меня в негодование: мы еще покажем Моро и ему подобным, чего стоит Германия, рано нас хоронить! Мать тоже не проронила ни слова. После обеда я объявил, что иду гулять. Пересек парк, вышел через незапертую как всегда калитку и спустился к пляжу. По дороге запах соленого моря и сосен вновь навеял воспоминания, счастливые, напоенные терпкими ароматами, и горестные. На пляже я свернул направо и пошел к порту и городу. У подножия форта Карре, на спортивной площадке, выступающей над морем и окруженной раскидистыми соснами, дети играли в мяч. Я был тщедушным ребенком и спорту предпочитал чтение, но Моро, считавший, что я слишком слабый, присоветовал матери записать меня в футбольный клуб; так что я тоже играл здесь. Больших успехов я не добился. Поскольку бегать я не любил, меня назначили защитником; однажды какой-то мальчик попал мне мячом в грудь, удар был так силен, что меня отбросило в дальний угол ворот. Помню, как лежал на спине, разглядывая через сетку покачивающиеся от легкого бриза сосновые кроны, пока судья наконец не подошел посмотреть, не в обмороке ли я. Немногим позже состоялся наш первый матч против другого клуба. Капитан команды отказывался включать меня в игру, однако во втором тайме все же позволил мне выйти на поле. В ногах у меня непонятно откуда взялся мяч, и я устремился к цели. Передо мной открывалось огромное пустое пространство, зрители вопили, свистели; я ничего не видел кроме ворот, беззащитного вратаря, который, пытаясь остановить меня, махал руками, я торжествовал и забил гол собственной, как оказалось, команде. Меня жестоко избили в раздевалке, футбол я оставил. За фортом изгибается порт Вобан, большая природная бухта, где плещутся на волнах рыбацкие лодки и итальянские сторожевые суда. Я сел на лавку, закурил и принялся наблюдать за кружившими над рыболовецкими баркасами чайками. В 1930 году на Пасху, прямо перед моими выпускными экзаменами, мы здесь прогуливались всей семьей. После свадьбы матери с Моро я уже год не появлялся в Антибе, но в те каникулы мать использовала хитрую уловку: она, без малейшего намека ни на случившееся, ни на мое оскорбительное письмо, сообщила, что Уна проведет праздники дома и будет рада со мной встретиться. Наша с сестрой разлука длилась уже три года; сволочи, выругался я, но отказаться не смог, на что и был расчет. Разговаривали мы мало, нам постоянно мешали: понятно, что мать и Моро практически не оставляли нас наедине. Моро с порога взял меня под локоток: «Никакого свинства, ясно? Я слежу за тобой». У него, тупого буржуа, не возникало никаких сомнений, что я соблазнил Уну. Я ничего не ответил, но Уна приехала, и я почувствовал, что люблю ее больше, чем прежде. Когда посреди гостиной она мимоходом на долю секунды коснулась ладонью моей руки, меня словно пронизало электрическим разрядом, и я закусил губу, чтобы не закричать. И вот мы отправились на прогулку вокруг порта. Мать и Моро шли впереди, собственно тут, в нескольких шагах от места, где я сейчас сидел и мысленно возвращался к тому моменту, я рассказывал сестре о школе, наставниках, взятках и развращенности нравов моих одноклассников. Еще я ей признался, что имел связь с мальчиками. Она нежно мне улыбнулась и быстро поцеловала в щеку. Ее переживания не слишком отличались от моих, только издевательства у них были в основном не физическими, а моральными. Святые сестры, заявила мне Уна, все поголовно неудовлетворенные фригидные неврастенички. Я засмеялся и спросил, где она нахваталась таких слов; Уна тихонько хихикнула: девочки-паиньки подкупают консьержей, и те тайно приносят в пансион отнюдь не Вольтера и Руссо, а Фрейда, Шпенглера и Пруста, и мне давно уже следует их прочесть, если я до сих пор этого не сделал. Моро притормозил, купил нам мороженое и догнал мать, а мы продолжили беседу: теперь я заговорил о нашем отце. «Он жив», – горячо шептал я. «Знаю, – отвечала Уна. – Но даже если умер, не им его хоронить». – «Тут речь не о похоронах. Они как будто его убили. Разделались с помощью бумаг. Невероятная подлость! И все в угоду своим гнусным страстишкам!» – «Послушай, – произнесла Уна после паузы, – мне кажется, мама любит Моро». – «Мне плевать! – прошипел я. – Она выходила замуж за нашего отца, и она его жена. Правда лишь в этом. И ни один судья ничего здесь не может изменить». Уна остановилась, взглянула на меня: «Ты совершенно прав». Но тут нас окликнула мать, и мы побрели к ней, облизывая ванильные шарики в рожке.
В городе я выпил бокал белого вина у стойки бара; я постоянно думал о прошлом и сказал себе: я уже увидел то, ради чего приехал, хотя, если честно, непонятно ради чего именно; пора уезжать. В кассе на автобусной остановке я купил билет до Марселя на завтра, а на вокзале, находившемся в двух шагах, на поезд до Парижа, сообщение быстрое, к вечеру буду там. Потом я вернулся домой. Парк был спокоен и тих, лишь иголки иногда шуршали от морского ветерка. Я подошел к открытой застекленной двери в гостиную, позвал, никто не ответил. Спят после обеда, предположил я. Меня тоже разморило, видимо, от вина и солнца; я обогнул дом и поднялся по главной лестнице, так никого и не встретив. В моей комнате царили полумрак и прохлада. Я прилег и заснул. Проснулся в кромешной темноте: на пороге маячили фигурки близнецов, они стояли плечом к плечу и таращили на меня огромные круглые глаза. «Чего вам?» – спросил я. При звуках моего голоса они синхронно попятились и убежали. Я слышал топот их ножек по полу, потом они скатились с большой лестницы. Хлопнула входная дверь, и снова воцарилась тишина. Я сел на край кровати и вдруг заметил, что я голый; между тем я абсолютно не помнил, что вставал и раздевался. Пораненные пальцы болели, я рассеянно сосал их. Потом включил лампу и, жмурясь от света, взглянул на часы на ночном столике – они остановились. Я огляделся, но одежды не обнаружил. Куда она подевалась? Я достал из сумки свежее белье, вытащил форму из шкафа. Оделся, побриться решил позже, хотя щетина отросла и кололась. Спустился по лестнице для прислуги. В кухне было пусто, плита остыла. Я направился к входу для прислуги, занимавшаяся над морем заря уже окрасила розовым нижнюю часть неба. Странно, почему близнецы поднялись так рано? Я проспал ужин? Выходит, я устал сильнее, чем предполагал. Автобус отправляется с утра, надо собираться. Я закрыл дверь, преодолел три ступени, ведущие в гостиную, и на ощупь начал пробираться к стеклянной двери. В потемках наткнулся на что-то мягкое, валявшееся на ковре, и похолодел от ужаса. Отпрянул, не оборачиваясь, нашарил выключатель, нажал. Свет хлынул из нескольких ламп сразу, резкий, почти белый. Так и есть – тело, я сразу инстинктивно это почувствовал, и теперь видел, что ковер насквозь пропитан кровью, что я стою в луже крови, натекшей с ковра на плиточный пол, под стол и у двери. Меня охватило паническое желание бежать, забиться в темный угол. Огромным усилием воли я овладел собой, вынул табельный пистолет, снял курок с предохранителя, подошел к телу. Я старался не ступать в кровь, но это было невозможно. Приблизившись, я убедился, – впрочем, я и так сразу все понял, – что передо мной Моро: грудь проломлена, шея наполовину перерублена, глаза открыты. Топор, который я вчера оставил на кухне, весь в крови лежал возле тела; эта почти черная кровь пропитала одежду, забрызгала склоненную набок голову, лицо и седоватые усы. Я огляделся, но ничего особенного не заметил. Стеклянная дверь вроде заперта. Я вернулся в кухню, открыл чулан – никого. Мои сапоги оставляли на плитке большие кровавые подтеки, я вышел через черный ход и вытер ноги о траву, вглядываясь, не прячется ли кто в глубине парка. Ни одной живой души. Небо побледнело, звезды гасли. Я обогнул дом, отпер главный вход, зашел внутрь. В моей комнате пусто, в комнате близнецов тоже. Не выпуская пистолета из рук, я направился к спальне матери. Протянул левую руку к круглой дверной ручке, пальцы дрожали. Нажал и распахнул створку. Ставни закрыты, темно; на кровати серая масса. «Мама?» – прошептал я. Снова пришлось на ощупь искать кнопку на лампе, чтобы зажечь свет, оружие я держал наготове. Мать в ночной рубашке с кружевным воротничком лежала поперек кровати; ноги чуть свесились, одна в розовом носке, другая – голая. Цепенея от ужаса, я все же заглянул за дверь и быстро нагнулся проверить, нет ли кого под кроватью – нет, только упавший носок. Ее руки покоились на покрывале, ночная рубашка, целомудренно натянутая до пят, не измята, не похоже, чтобы мать сопротивлялась. Я наклонился, приставил ухо к раскрытому рту: дыхания не чувствовалось. Я не осмелился прикоснуться к ней. Глаза у нее вылезли из орбит, на тонкой, морщинистой шее алели пятна. Господи, подумал я, ее задушили, мою мать задушили! Я внимательно осмотрел спальню. Все в порядке, ящички не взломаны, шкафы тоже. Шагнул в будуар, там тоже пусто и вещи на месте, вернулся в комнату. И только теперь обнаружил следы крови на покрывале, ковре и ночной рубашке: наверное, преступник сначала убил Моро, а потом поднялся сюда. Я задыхался от волнения: что же предпринять? Обыскать дом? Найти близнецов и допросить их? Вызвать полицию? Времени до автобуса почти не оставалось. Осторожно, очень осторожно я уложил ноги матери на кровать. Может, надо надеть носок? Но мужество меня покинуло. Я, пятясь, выбрался из спальни. Ринулся к себе в комнату, запихал в сумку какие-то вещи, вышел из дома и запер входную дверь. На сапогах у меня еще оставалась кровь, я смыл ее дождевой водой из тазика, забытого в саду. Близнецы словно испарились: сбежали, наверное. В любом случае, мне нет до них дела.
Путешествие мое разворачивалось как в кино, я ни о чем не думал, сел в автобус, потом на поезд, протягивал билеты, когда спрашивали, с пограничниками тоже никаких проблем не возникло. По дороге к городу, когда солнце уже высоко поднялось над тихонько рокотавшим морем, мне встретился итальянский патруль. Солдаты с любопытством покосились на мою форму, но ничего не сказали. Только перед самым автобусом французский полицейский в сопровождении двух берсальеров направился ко мне проверить документы: я предъявил бумаги и перевел письмо марсельской айнзатцкоманды, он отдал честь и разрешил мне ехать. И лава богу: я был бы не в состоянии спорить и что-то доказывать; страх меня парализовал, в голове не было ни одной мысли. В автобусе до меня дошло, что я забыл костюм и одежду, которую носил накануне. В Марселе на вокзале я провел в ожидании целый час, заказал кофе и пил его в буфете, в огромном шумном зале. Надо проанализировать ситуацию. Должны же были раздаваться крики, грохот; как же случилось, что я даже не проснулся? Я выпил только один бокал вина. И потом, преступник не тронул близнецов, а они же, наверное, орали во все горло. Почему они не прибежали за мной? Почему они молча стояли возле моей постели? Не похоже, что убийца рыскал по дому, по крайней мере, ко мне он не заходил. И вообще, кто он? Бандит, вор? Но вещи все на месте, ничего не сдвинуто, не опрокинуто. Может, близнецы застигли его врасплох, и он скрылся. Нет, ерунда какая-то, они же не кричали и меня не звали. Орудовал ли убийца один? Поезд отправлялся, я сел в купе и продолжал размышлять. Если не грабитель, если не шайка, тогда кто? Сведение счетов? Моро напортачил в делах? Бойцы маки совершили расправу в назидание? Но они не рубят людей топором, как дикари, они гонят своих жертв в лес, чинят так называемый суд, а потом расстреливают. И опять повторюсь, я не проснулся, а ведь у меня очень чуткий сон, я ничего не понимал, корчился от страха, сосал уже наполовину зарубцевавшиеся порезы на пальцах, мысли теперь вертелись вихрем, бешено скакали в такт стуку колес, я ничего не понимал. В Париже я без проблем сделал пересадку на ночной экспресс до Берлина; приехал, снял номер в том же отеле. Все тихо, спокойно; изредка проедет машина, да на рассвете трубили слоны, которых я так до сих пор и не видел. Я отключился на пару часов в поезде, погрузившись в черноту без снов; я страшно устал, но заснуть бы все равно сейчас не смог. Сестра, осенило меня, нужно предупредить Уну. Я поспешил в «Кайзерхоф»: не оставил ли барон фон Юкскюль адрес? «Мы не даем адреса клиентов, герр штурмбанфюрер», – прозвучал ответ. «А вы можете хотя бы отослать телеграмму? Я должен срочно сообщить родственникам важную новость». «Да, пожалуйста». Я попросил бланк и примостился за столом администрации: «МАМА УМЕРЛА, УБИТА тчк МОРО ТОЖЕ тчк Я В БЕРЛИНЕ ПОЗВОНИ МНЕ тчк», дальше телефон отеля «Эден». Я протянул портье бумажку и десять рейхсмарок; он внимательно все прочитал и, слегка склонив голову, сказал: «Мои соболезнования, герр штурмбанфюрер». – «Вы сразу отправите?» – «Немедленно свяжусь с почтой, герр штурмбанфюрер», – отсчитал мне сдачу; вернувшись в «Эден», я распорядился позвать меня сразу, как только мне позвонят, сколько бы времени ни было. Я прождал до вечера. Разговаривал с Уной из кабинки, находившейся рядом с администратором, но, к счастью, звуконепроницаемой. Уна была в смятении: «Что произошло?» Я понял, что она плакала, и начал очень сдержанно: «Я гостил у них в Антибе. Вчера утром…» Я поперхнулся, прочистил горло и продолжил: «Вчера утром я проснулся…» И вдруг я онемел, не мог выдавить ни слова. Сестра повторяла: «Что такое? В чем дело?» – «Погоди», – еле просипел я, отпустил трубку, которая болталась теперь около моего бедра, и попытался успокоиться. Голос еще никогда мне не изменял; даже в худшие моменты мне всегда удавалось четко и ясно выражать свои мысли. Я кашлянул раз, другой, поднес трубку к уху и вкратце объяснил все Уне. Она в ужасе исступленно повторяла один и тот же вопрос: «А близнецы? Где близнецы?» И тут я словно обезумел, метался по кабинке, колотился о перегородки спиной, бил кулаком, ногой и ревел в трубку: «Кто такие близнецы? Чьи эти чертовы сучата?» Рассыльный, привлеченный шумом, остановился у кабинки и смотрел на меня сквозь стекло. Я с трудом взял себя в руки. Сестра на другом конце провода молчала. Я сделал глубокий вдох и сказал: «Они живы. Я не знаю, куда они делись». Сестра не отвечала, но мне казалось, что сквозь потрескивание на международной линии я слышу ее дыхание. «Ты слушаешь?» Ни звука. «Чьи они?» – спросил я опять, уже тихо. Уна молчала. «Проклятье!» – заорал я и бросил трубку. Вихрем вылетел из кабины и помчался к столику администрации. Вытащил записную книжку, отыскал номер, нацарапал его на листочке и протянул консьержу. Через несколько секунд в кабине опять раздался звонок. В трубке звучал женский голос. «Добрый вечер, – поздоровался я. – Я хотел бы поговорить с доктором Мандельбродом. Это штурмбанфюрер Ауэ». – «Сожалею, штурмбанфюрер. Доктор Мандельброд занят. Что ему передать?» – «Я прошу о встрече». Я продиктовал телефон отеля. Поднялся к себе в комнату. Часом позже дежурный по этажу принес мне записку: доктор Мандельброд примет меня завтра в десять утра. Те же или похожие секретарши проводили меня наверх. В просторном светлом кабинете по-прежнему туда-сюда сновали кошки, Мандельброд ждал у низкого столика; герр Леланд, худой и прямой, как палка, в двубортном костюме в полоску, сидел рядом. Я пожал им руки и тоже сел. На этот раз чай не предлагали. «Рад тебя видеть. Хорошо провел отпуск?» – обратился ко мне Мандельброд. В складках жира мелькнула улыбка: «Ты нашел время подумать над моим предложением?» – «Да, герр доктор. Но у меня другая цель. Я хотел бы попасть в ваффен-СС и уехать на фронт». Мандельброд шевельнулся, вроде бы как пожал плечами. Леланд сверлил меня тяжелым, холодным, проницательным взглядом. Я знал, что один глаз у него стеклянный, и никогда не мог определить, какой именно. Теперь со мной заговорил Леланд – голос с хрипотцой и еле уловимым акцентом: «Это невозможно. Мы видели медицинское заключение: твое ранение повлекло серьезную инвалидность, и ты пригоден только для кабинетной работы». Я посмотрел на него и пробормотал: «Но им же нужны люди. Повсюду забирают на фронт». – «Да, – согласился Мандельброд. – Однако не всех подряд. Правила есть правила». – «Больше тебя в действующую армию не возьмут», – отрубил Леланд. «Да, – добавил Мандельброд, – и с Францией надежды мало. Послушай, ты должен нам доверять». Я встал: «Господа, спасибо за прием. Извините, что побеспокоил вас». – «О чем речь, малыш, – засюсюкал Мандельброд. – Не торопись, подумай хорошенько». – «Но помни, – строго сказал Леланд, – у солдата на войне нет выбора. Он обязан исполнять долг на любом посту».
Из отеля я послал телеграмму Вернеру Бесту и выразил готовность занять место в его администрации в Дании. Я ждал. Сестра не перезванивала, я тоже. Через три дня мне принесли письмо из Министерства иностранных дел. Бест ответил: ситуация в Дании изменилась, и на сегодняшний момент ему нечего мне предложить. Я смял и выбросил письмо. Во мне росли горькая обида и страх, надо что-то предпринять, чтобы не сойти с ума. Я набрал номер Мандельброда и оставил сообщение.
Менуэт (в рондо)
Вряд ли вы удивитесь, узнав, что письмо мне принес Томас. Я спустился в бар отеля послушать новости в компании офицеров вермахта. Была где-то середина мая: наши войска в соответствии с установленным планом добровольно осуществили сокращение линии фронта в Тунисе; в Варшаве беспрепятственно прошла ликвидация террористических банд. Окружавшие меня офицеры слушали молча, с мрачным видом; только однорукий гауптман засмеялся при словах добровольное сокращение линии фронта в соответствии с установленным планом, но осекся, перехватив мой встревоженный взгляд; у меня, так же как и у него, и у других, информации имелось достаточно, чтобы правильно интерпретировать подобные эвфемизмы: восставшие в гетто евреи в течение многих недель оказывали сопротивление лучшим подразделениям СС и полиции, а Тунис мы потеряли. Я искал глазами официанта, чтобы заказать еще коньяку, и тут появился Томас. Уверенным шагом пересек зал, церемонно отсалютовал, щелкнул каблуками, потом подхватил меня под руку и увлек в одну из кабинок; там он раскинулся на банкетке, небрежно кинул фуражку на стол и помахал конвертом, бережно зажав его двумя пальцами в перчатке. «Догадываешься, что внутри?» – спросил Томас, строго нахмурив брови. Я отрицательно покачал головой. На конверте в верхнем углу, я видел, стояла печать Личного штаба рейхсфюрера СС. «Я-то в курсе», – продолжил Томас, не меняя тона. Его лицо осветилось улыбкой: «Поздравляю, дорогой друг. Ловко ты прячешь карты. Всегда знал, что ты гораздо расторопнее, чем кажешься». Он протянул конверт: «Бери, бери». Я взял письмо, вскрыл, вынул листок: приказ при первой же возможности явиться к оберштурмбанфюреру доктору Рудольфу Брандту, личному адъютанту рейхсфюрера СС. «Это повестка», – довольно глупо констатировал я. «Да, повестка». – «И что это значит?» – «Это значит, что у твоего друга Мандельброда длинные руки. Ты зачислен в личный штаб рейхсфюрера, старик. Ну, что, отметим?»
Праздновать мне не хотелось, но я подчинился. Ночь напролет Томас оплачивал мне американский виски и рассуждал об упрямстве евреев в Варшаве. «Ты представляешь? Какие-то евреи!» Он не сомневался, что мое новое назначение – результат мастерской работы; я же понятия не имел, о чем речь. На следующее утро я направился в главное ведомство СС на Принц-Альбрехтштрассе, расположенное рядом с Государственной тайной полицией, в старинном особняке, переделанном под учреждение. Меня незамедлительно принял оберштурмбанфюрер Брандт, невысокий сутулый человек, педантичный, невыразительный, в больших круглых очках в черной черепаховой оправе, закрывающих лицо, мне казалось, что я уже видел его раньше в Хоенлихене, когда рейхсфюрер награждал меня на больничной койке. В нескольких конкретных и сжатых фразах он объяснил, чего от меня ждут. «Начатое год назад преобразование концентрационных лагерей из структур, выполняющих карательную функцию, в поставляющие рабочую силу осуществляется не беспрепятственно». Проблема затрагивала одновременно отношения между СС и внешними службами и внутренние конфликты в недрах самой СС. Рейхсфюрер хотел бы иметь более четкое представление о причинах возникающих трений, чтобы по возможности устранить их и таким образом максимально использовать продуктивность столь значительных источников рабочей силы. Поэтому он решил назначить опытного офицера своим личным уполномоченным для Arbeitseinsatz [64]. «После изучения досье и рекомендаций многочисленных кандидатов выбор пал на вас. Рейхсфюрер ничуть не сомневается в ваших способностях, в том, что вы успешно справитесь с этой задачей, требующей аналитического склада ума, дипломатической ловкости и инициативы в духе СС, которые вы уже продемонстрировали в России». Соответствующие ведомства СС получат приказ о сотрудничестве со мной; но я сам должен позаботиться, чтобы оно стало плодотворным. «Все вопросы и рапорты вам следует адресовать мне, – подытожил Брандт. – Рейхсфюрер будет встречаться с вами, только если возникнет необходимость. Сегодня он примет вас и разъяснит, что конкретно он от вас требует». Я слушал, не моргая; я не понимал, о чем говорит Брандт, но счел правильным придержать вопросы при себе. Брандт попросил меня посидеть пока в салоне на первом этаже; там я обнаружил журналы, чай и печенье. Мне быстро надоело листать старые номера «Дас Шварце Кор» в приглушенном свете комнаты, к сожалению, в здании не разрешалось курить (рейхсфюрер запретил из-за запаха), а на улицу выйти нельзя: могут вызвать. За мной пришли, когда было уже далеко за полдень. В передней перед дверью Брандт дал мне последнее напутствие: «Не комментируйте, не задавайте вопросов, отвечайте, только если вас спрашивают». Потом он провел меня в кабинет; Генрих Гиммлер восседал за письменным столом; я в сопровождении Брандта приблизился, по-военному чеканя шаг, Брандт представил меня; я отсалютовал, Брандт протянул досье рейхсфюреру и удалился. Гиммлер жестом пригласил меня присаживаться и принялся изучать мои бумаги. Его лицо казалось до странности отчужденным, блеклым, маленькие усики и пенсне лишь подчеркивали расплывчатость черт. Он взглянул на меня с дружеской полуулыбкой, но когда поднял голову, в пенсне отразился свет, сделав стекла непрозрачными и спрятав глаза за двумя круглыми зеркальцами: «Вы в лучшей форме, чем в последнюю нашу встречу, штурмбанфюрер». Я изумился, что он об этом помнит, впрочем, скорее всего у него в досье стояла пометка. Гиммлер продолжил: «Вы полностью оправились после ранения? Очень хорошо». Он пролистнул несколько страниц. «Ваша мать француженка, как я вижу?» Наверное, это был вопрос, я попытался ответить: «Мать родилась в Германии, рейхсфюрер. В Эльзасе». – «Да, но тем не менее она – француженка». Рейхсфюрер вновь поднял голову, теперь очки не отсвечивали, и я увидел маленькие, слишком близко посаженные глазки и их удивительно мягкое выражение. «Вы знаете, что я в принципе никогда не принимаю в штаб людей чужой крови. Это как русская рулетка: слишком рискованно. Неизвестно, какие качества вылезут наружу, даже у отличных офицеров. Но доктор Мандельброд уговорил меня сделать исключение. Он человек мудрый, и я весьма уважаю его мнение». Гиммлер выдержал паузу. «Я наметил другого кандидата на этот пост. Штурмбанфюрера Герлаха. К несчастью, он погиб месяц назад. В Гамбурге во время налета английских бомбардировщиков. Он не успел добраться до убежища, на улице ему прямо на голову упал цветочный горшок. С бегониями, если не ошибаюсь. Или с тюльпанами. Мгновенная смерть. Эти англичане – просто чудовища: бомбардировать гражданское население вот так, без различия. После победы мы должны провести судебные расследования военных преступлений. Виновные в подобных зверствах еще за них ответят». Он замолчал и опять углубился в мое досье. «Вам скоро тридцать, а вы неженаты, – сказал он, вскидывая голову. – Почему?» Голос звучал менторски строго. Я покраснел: «У меня пока не было возможности, рейхсфюрер. Я окончил университет как раз перед войной». – «Вам надо серьезно задуматься, штурмбанфюрер. Ваша кровь ценна, и Германия не должна ее лишиться, если вас убьют на войне». Слова сами собой срывались у меня с губ: «Рейхсфюрер, прошу меня извинить, но священный долг национал-социалиста и члена СС не позволяет мне затевать свадьбу до тех пор, пока мой народ не совладает с угрожающими ему со всех сторон опасностями. Любовь к женщине неотвратимо ослабляет мужчину. Я обязан отдать все силы поставленным задачам и до окончательной победы не могу разменивать свою преданность». Гиммлер слушал, ощупывая меня взглядом; его глаза немного расширились. «Штурмбанфюрер, невзирая на смешанную кровь, ваши германские и национал-социалистические качества впечатляют. Затрудняюсь сказать, согласен ли я с вашими аргументами, я по-прежнему уверен, что продолжение расы – долг каждого эсэсовца. Но я еще подумаю над тем, что вы сказали». – «Благодарю, рейхсфюрер». – «Оберштурмбанфюрер Брандт разъяснил, что от вас требуется?» – «В общих чертах, рейхсфюрер». – «Мне особо нечего прибавить. Прежде всего, проявляйте в работе тактичность. Я не желаю провоцировать ненужные конфликты». – «Да, рейхсфюрер». – «Ваши рапорты достойны похвалы. Вы обладаете прекрасной способностью синтезировать сведения, основываясь на правильном и глубоко укорененном мировоззрении. Поэтому я вас и выбрал. Однако внимание! Я жду практических решений, а не нытья». – «Да, рейхсфюрер». – «Разумеется, доктор Мандельброд попросит отсылать ему копии ваших докладов. Я не имею ничего против. Удачи, штурмбанфюрер. Вы можете идти». Я встал, отдал честь и собрался выйти. Вдруг меня окликнул сдержанный сухой голос Гиммлера: «Штурмбанфюрер!» – «Да, рейхсфюрер?» Он помедлил: «И без ложной сентиментальности, ясно?» Я стоял навытяжку: «Конечно, рейхсфюрер». Я опять вскинул руку в салюте и шагнул за дверь. В передней на меня испытующе уставился Брандт: «Все прошло нормально?» – «Надеюсь, что да, оберштурмбанфюрер». – «Рейхсфюрер с большим интересом прочитал ваш рапорт о проблемах питания наших солдат в Сталинграде». – «Я удивлен, что эта докладная дошла до него». – «Рейхсфюрер интересуется многими вещами. Группенфюрер Олендорф и главы других ведомств часто пересылают ему наиболее интересные рапорты». Брандт от лица рейхсфюрера вручил мне книгу Хельмута Шрамма «Еврейские ритуальные убийства». «Рейхсфюрер приказал раздать по экземпляру каждому офицеру СС, начиная со штандартенфюреров и выше, и также распространять книгу среди младших офицеров, занимающихся еврейским вопросом. Ознакомьтесь, очень любопытно». Я поблагодарил Брандта: еще одна книга, а я почти забросил чтение. Брандт посоветовал мне взять несколько дней отпуска на решение бытовых проблем. «Успехов в работе не добьешься, если в личных делах беспорядок. Затем приходите опять ко мне».
Вскоре передо мной встал жилищный вопрос: я же не мог до бесконечности оставаться в отеле. Оберштурмбанфюрер из ведомства СС по персоналу предложил мне два варианта: общежитие СС для неженатых офицеров (дешевле некуда и еда включена) или комната за арендную плату. Томас обосновался в трехкомнатной квартире, просторной и очень удобной, с высокими потолками и старинной дорогой мебелью. Учитывая кризис с жильем в Берлине, когда людей, имевших хоть одну свободную комнату, обязывали взять квартиранта, это были просто-таки роскошные апартаменты, особенно для одинокого оберштурмбанфюрера; от таких не отказался бы и группенфюрер с женой и детьми. Томас, смеясь, рассказал мне, как ему достались эти хоромы: «Все не так уж сложно. Если хочешь, я помогу тебе найти, пусть не такие большие, но уж, по крайней мере, с двумя комнатами». Благодаря одному знакомому, работавшему в Generalbauinspektion, Главной строительной инспекции, в Берлине, Томасу по особому указанию выделили квартиру, ранее принадлежавшую евреям и освобожденную ввиду грядущей реконструкции города. «Единственная проблема – при условии, что я оплачу ремонт, приблизительно пятьсот рейхсмарок. У меня их не было, но мне удалось взять кредит у Бергера в качестве экстренной помощи». Развалившись на канапе, он с довольным видом огляделся вокруг: «Неплохо, правда?» – «А машина?» – сквозь смех спросил я. Томас обзавелся еще и небольшим кабриолетом, обожал ездить на нем и иногда по вечерам даже брал меня с собой. «А это уже совсем другая история, старина, которую я поведаю тебе в следующий раз. Я же говорил тебе в Сталинграде, если мы выберемся, нас ожидает чудесная жизнь. Нет причин лишать себя удовольствий». Я обдумал его слова, но в конце концов решил арендовать меблированную комнату в квартире с хозяевами. Идея жить в доме офицеров СС меня не привлекала: я хотел сам решать, с кем встречаться вне работы, а оставаться в одиночестве я, честно говоря, побаивался. Хозяев я попрошу готовить мне еду и буду ощущать хоть какое-то человеческое присутствие. Я отправил заявку с уточнением, что рассчитываю на две комнаты, чтобы какая-нибудь женщина убирала и стряпала. Мне предложили вариант по разумной цене в районе Митте, у вдовы, в шести станциях метро от Принц-Альбрехтштрассе (без пересадки). Я согласился, даже не посмотрев, и мне вручили сопроводительное письмо. Фрау Гуткнехт, краснощекая толстуха за шестьдесят, с пышной грудью и крашеными волосами, открыв дверь, оглядела меня с ног до головы: «Вы офицер?» – произнесла она с сильным берлинским акцентом. Я переступил порог и пожал ей руку, от нее разило дешевыми духами. Она пошла по длинному коридору, указывая на двери: «Здесь – моя комната, там – ваши. Вот ключ. Конечно, у меня тоже есть один». Отперла замок и пригласила меня войти: стандартная мебель, множество безделушек, пожелтевшие покоробившиеся обои, запах затхлости. За гостиной находилась спальня, изолированная от остальной квартиры. «Кухня и туалет дальше. Горячая вода ограничена, так что ванну не принимать». На стене висели два портрета в траурной рамке: мужчина лет тридцати с маленькими усиками чиновника и светловолосый крепкий парень в форме вермахта. «Это ваш муж?» – вежливо поинтересовался я. Ее лицо исказила гримаса: «Да. И мой сын Франц, малыш Франци. Он погиб в первый день Французской кампании. Его фельдфебель написал мне, что он пал геройской смертью, чтобы спасти товарища, медалью его не наградили. Он хотел отомстить за папу, моего Буби, который отравился во время газовой атаки под Верденом». – «Мои соболезнования». – «О, вы знаете, что касается Буби, я свыклась. Но малыша Франци мне до сих пор не хватает». Она бросила на меня оценивающий взгляд: «Жаль, что у меня нет дочери. Вы бы на ней женились. Я бы радовалась: зять-офицер. Мой Буби был унтер-фельдфебелем, а Франци и вовсе ефрейтором». – «Действительно, жаль», – учтиво ответил я. И указал на безделушки: «Можно вас попросить убрать все это? Мне понадобится место для вещей». Фрау Гуткнехт приняла обиженный вид: «И куда мне их девать, по-вашему? У меня места еще меньше. И потом это же красиво. Вы просто их немножко подвиньте. Но, пожалуйста, осторожнее! Разобьете, придется платить». Она кивнула на портреты: «Если желаете, я сниму. Мне не хотелось, чтобы они навевали на вас грусть». – «Нет, это необязательно», – сказал я. «Хорошо, тогда пусть висят. Это любимая комната Буби». Мы договорились насчет еды, и я отдал фрау Гуткнехт часть своих продовольственных карточек.
Я устроился совсем неплохо, по крайней мере не затратив особых усилий. Я сгреб в кучу статуэтки, вазочки и дурацкие довоенные романы и освободил несколько этажерок под собственные книги, которые перед отъездом в Россию сложил в погреб, а теперь забрал. Я с удовольствием их распаковывал и перелистывал, хотя большая часть моей библиотеки пострадала от сырости. Я поставил в один ряд издание Ницше, подаренное Томасом и так мной ни разу не открытое, трех Берроузов, привезенных из Франции, и недочитанного Бланшо; томики Стендаля, путешествовавшие со мной по России, там и остались, по сути, повторилась история с его дневниками, потерянными в 1812 году. Я жалел, что не додумался купить новые в Париже, но надеялся, что еще получу такую возможность. С опусом о ритуальных убийствах возникли сложности: если «Фестгабе» сразу нашел место среди моих книг по экономике и политологии, то с ним определиться я не мог. В конце концов я его запихнул в книги по истории, между Трейчке и Густавом Коссина. Одежда да эти книги – вот и все мое имущество, да еще граммофон и несколько пластинок; кинжал из Нальчика, увы, тоже пропал в Сталинграде. Завершив расстановку, я плюхнулся в кресло и зажег сигарету. Тут же без стука в комнату вошла фрау Гуткнехт: «Вы не должны здесь курить! Шторы пропахнут». Я поднялся, отдернул полы кителя: «Фрау Гуткнехт. Впредь я просил бы вас стучаться и ждать, пока я разрешу войти». Она побагровела: «Извините, герр офицер! Разве я не у себя дома? И потом, при всем моем уважении, я же вам в матери гожусь. Что с вами стрясется, если я войду? Вы же не намерены девок сюда водить? Здесь благородный дом, дом порядочной семьи». Я решил, что требуется срочно внести ясность в ситуацию: «Фрау Гуткнехт, я снимаю у вас две комнаты, иными словами, они теперь не ваши, а мои. Я не собираюсь водить девок, как вы выразились, но я дорожу своей личной жизнью. Если такое положение вещей вас не устраивает, я заберу вещи, плату за аренду и съеду. Вы меня поняли?» Она притихла: «Не обижайтесь, герр офицер… Я просто не привыкла, вот и все. Вы можете курить, если пожелаете. Только открывайте, пожалуйста, окна…» Она покосилась на книги: «Я вижу, вы образованный…» Я перебил ее: «Фрау Гуткнехт, если у вас больше нет ко мне вопросов, буду очень признателен, если вы меня оставите». – «О да, простите, да». Она удалилась, а я, заперев за ней, не вынул ключа из скважины.
Я оформил бумаги в отделе персонала и вернулся к Брандту. Он освободил для меня одно из небольших светлых помещений на верхнем этаже старинного здания. В моем распоряжении оказались: приемная с телефоном и кабинет с диваном, молоденькая секретарша фрейлейн Пракса, связной, обслуживающий еще трех человек, и команда машинисток, печатавших на весь этаж. Шофер по имени Пионтек, фольксдойче из Верхней Силезии, в поездках должен был еще заменять мне ординарца; мне в пользование предоставлялась машина, но рейхсфюрер приказал ввести отдельную смету на личные поездки и удерживать из зарплаты стоимость истраченного на них бензина. Я счел такой подход весьма оригинальным. «Ничего особенного. Надо уметь правильно организовать работу», – слегка улыбнувшись, успокоил меня Брандт. С начальником Личного штаба обергруппенфюрером Вольфом я встретиться не мог: он выздоравливал после тяжелой болезни, и Брандт уже несколько месяцев выполнял его полномочия. Потом Брандт еще раз уточнил мои обязанности: «Сначала вам необходимо ближе познакомиться с системой и ее проблемами. Все рапорты по данной тематике, адресованные рейхсфюреру, хранятся в нашем архиве: поднимите их и пролистайте. Вот список офицеров, возглавляющих различные департаменты, имеющие непосредственное отношение к порученным вам задачам. Назначайте встречу, переговорите с ними, они ждут и расскажут вам все как есть. Когда у вас сложится достаточно ясная общая картина, вы оправитесь в инспекционную командировку». Я пробежал глазами список: в основном офицеры из ВФХА и РСХА. «Инспекцией лагерей занимается теперь ВФХА, верно?» – спросил я. «Да, – ответил Брандт. – Уже чуть больше года. Взгляните на список: теперь это Амтсгруппа „Д“. У вас в списке бригадефюрер Глюкс, начальник инспекции, его заместитель оберштурмбанфюрер Либхеншель, который, между нами говоря, будет вам гораздо полезнее, чем начальник, и несколько руководителей департаментов. Но лагеря – только одна грань проблемы; есть еще предприятия СС. Вас примет обергруппенфюрер Поль, возглавляющий ВФХА, и объяснит, что к чему. Конечно, если вы захотите пообщаться с другими офицерами и углубить сведения по отдельным вопросам, не стесняйтесь: но сначала посетите этих. В РСХА оберштурмбанфюрер Эйхман познакомит вас с системой спецтранспорта и расскажет, как продвигается решение еврейского вопроса и его дальнейшие перспективы». – «Могу я задать вопрос, оберштурмбанфюрер?» – «Пожалуйста». – «Если я вас правильно понимаю, у меня есть доступ ко всем документам, касающимся окончательного решения еврейского вопроса?» – «Там, где решение еврейской проблемы напрямую затрагивает вопрос максимального использования рабочей силы, да. И я хотел бы подчеркнуть, что это делает вас – и в гораздо большей степени, чем во время вашей миссии в России, – носителем секретной информации. Вам строжайше запрещено обсуждать ее с кем бы то ни было вне службы, включая и министерских чиновников, и членов Партии, с которыми вам придется контактировать. В случае нарушения установленных правил рейхсфюрер видит только одну меру: смертную казнь». Брандт снова обратился к списку: «Вы можете открыто говорить со всеми указанными здесь офицерами, об их подчиненных советую заблаговременно навести справки». – «Хорошо». – «Для ваших рапортов рейхсфюрер установил определенные стилистические нормы, Sprachregelungen. Ознакомьтесь и неукоснительно их придерживайтесь. Рапорты, составленные неподобающим образом, вернут вам обратно». – «Zu Befehl, оберштурмбанфюрер».
Я погрузился в работу, словно в оживляющий серный источник Пятигорска. Дни напролет просиживал на крошечном диване в кабинете, жадно проглатывая рапорты, корреспонденцию, приказы, план-сетки, и время от времени втихаря выкуривал в окно сигарету. Фрейлейн Пракса, шведка, немного взбалмошная, которая, разумеется, предпочла бы проводить рабочие часы, болтая по телефону, вынуждена была постоянно подниматься и спускаться в архив и жаловалась, что от этого у нее отекают лодыжки. «Спасибо, – благодарил я, не удостаивая фрейлейн Праксу, входившую в кабинет с новой пачкой документов, даже взглядом. – Кладите сюда, заберите это, я уже прочитал, отнесите обратно». Она со вздохом, стараясь произвести как можно больше шума, ретировалась. Очень скоро выяснилось, что фрау Гуткнехт – отвратительная кухарка и способна приготовить максимум три блюда, все с капустой и неизменно пригоревшие; поэтому я обзавелся привычкой, отправив фрейлейн Праксу домой, ужинать внизу в столовой, работать по вечерам и возвращаться к себе только на ночлег. Я отпускал Пионтека и ехал на метро. В это время суток линия С была почти пуста, мне доставляло удовольствие наблюдать за пассажирами с помятыми, уставшими лицами, я отвлекался от своих мыслей и от работы. Несколько раз я оказывался в вагоне с одним и тем же человеком, чиновником, как и я, задерживавшимся на службе; он всегда был погружен в книгу и не обращал на меня ни малейшего внимания. Его манера читать была необычной: его глаза бегали по строчкам, а губы шевелились, словно произнося слова, но я не улавливал ни звука и испытывал чувство, похожее на удивление Августина, когда тот впервые увидел, как Амвросий Медиоланский читает про себя: провинциал Августин даже не предполагал, что такое возможно, ведь он умел читать только вслух, слушая собственный голос.
Среди прочих материалов мне попался переданный рейхсфюреру в конце марта доклад доктора Корхера, угрюмого статиста, оспаривавшего наши данные; его цифры меня ужаснули. Используя статистическую терминологию и совокупность аргументов, непостижимых для неспециалистов, Корхер пришел к выводу, что без учета России и Сербии к 31 декабря 1942 года были уничтожены, или «оттранспортированы на Восток», или durchgeschleust, пропущены через лагеря (странный термин, предписанный, по-видимому, сводом Sprachregelungen рейхсфюрера), 1 873 549 евреев. В общем, подытоживал Корхер, немецкое влияние, с момента взятия власти, сократило еврейскую популяцию в Европе на четыре миллиона. Цифра, если я верно понял, включавшая довоенную эмиграцию, впечатляла даже после всего увиденного в России: мы давно уже превзошли «ремесленный» уровень айнзатцгрупп. Изучив целый ряд документов и приказов, я сумел составить мнение о сложностях адаптации ИКЛ, Инспекции концентрационных лагерей, к требованиям всеобщей войны. Тогда как формирование ВФХА и поглощение ИКЛ вышестоящим ведомством – мера, которая должна была обозначить и реализовать переход к максимальному росту военного производства, – состоялись в марте 1942 года; серьезные шаги, для того чтобы уменьшить смертность заключенных и повысить их работоспособность, начали предприниматься лишь в октябре. В декабре глава ИКЛ Глюкс, ограничившись, впрочем, общими словами, приказал лагерным врачам улучшить санитарные условия, снизить уровень смертности и увеличить эффективность труда узников. Тем не менее, судя по статистическим отчетам управления Д-II, ежемесячный уровень смертности, выраженный в процентах, значительно упал: общая цифра по всем лагерям с 10 % в декабре сократилась до 2,8 % в апреле. Но это сокращение было относительным: население лагерей постоянно росло, и потому точная цифра потерь практически не менялась. По данным полугодового отчета, с июля по декабрь 1942 года из 96 770 умирали 57 503 заключенных, то есть 60 % от общего количества; однако с января число ежемесячных потерь неизменно приближалось к 6–7 тысячам. И ни одно средство не помогало уменьшить этот показатель. К тому же некоторые лагеря были явно хуже других; показатель смертности в марте в Аушвице, КЛ в Верхней Силезии, – я о нем слышал впервые – составил 15,4 % от общего. Так постепенно я начал понимать цели, намеченные рейхсфюрером.
Между тем я чувствовал себя очень неуверенно. Было ли это следствием недавних событий или просто из-за отсутствия врожденного бюрократического инстинкта? Во всяком случае, проштудировав документы и составив общее впечатление о проблеме, я, прежде чем отправиться в Ораниенбург, где заседали служащие ИКЛ, решил посоветоваться с Томасом. Я любил Томаса, хотя никогда не обсуждал с ним личные вопросы, но в профессиональной сфере он был мне лучшим советчиком. Однажды он очень доходчиво объяснил мне принцип функционирования системы (шел, наверное, 1939 год, или, возможно, был конец 1938-го, когда после Хрустальной ночи партийное движение сотрясали внутренние конфликты): «То, что приказы остаются неопределенными, нормально, это делается даже намеренно и, собственно, вытекает из логики Führerprinzip, „Принципа фюрерства“. Получивший приказ должен догадаться о намерениях его отдавшего и действовать согласно обстоятельствам. Те, кто настаивает на ясности формулировок или ратует за законность мер, не поняли, что важны не приказы, а воля фюрера, и каждый должен уметь самостоятельно расшифровывать в приказе или даже предвосхищать эту волю. Настоящий национал-социалист именно так и реагирует, и, соверши он ошибки, его никогда не упрекнут в отклонении от цели; другие же, как говорит фюрер, „боятся перепрыгнуть собственную тень“». Я все понимал, в том числе и то, что не умею ни проникать сквозь стены, ни разгадывать закулисные игры, а вот Томас такой талант имел, поэтому и разъезжал в спортивном кабриолете, пока я добирался домой на метро. Я отыскал Томаса в «Нева-гриль», одном из лучших ресторанов, где он любил бывать. Томас получал копии секретных рапортов, адресованных Олендорфу, и теперь с веселым цинизмом рассказывал мне, как в них представляют моральный настрой населения: «Совершенно поразительно, до какой степени народ владеет секретной информацией: о программе эвтаназии, уничтожении евреев, лагерях в Польше, газе, обо всем. Ты в России слыхом не слыхивал о концлагерях в Люблине или Силезии, а любой водитель трамвая в Берлине или Дюссельдорфе знает, что там сжигают узников. И, несмотря на интенсивную пропагандистскую обработку Геббельса, люди сохраняют способность формировать собственное мнение. Иностранное радио – отнюдь не единственная причина, многие даже боятся его слушать. Нет, сегодняшнюю Германию опутала широченная сеть слухов, их паутина покрыла все подконтрольные нам территории, русский фронт, Балканы, Францию. Сведения распространяются с бешеной скоростью. И самые хитрые умудряются, сопоставив факты, прийти к удивительно точным выводам. Ты в курсе, что недавно сделали? В Берлине пустили слух, настоящий ложный слух, основанный на правдоподобной, но чуть искаженной информации, чтобы проследить, за какое время и каким образом он распространится. До Мюнхена, Вены, Кенигсберга и Гамбурга он долетел за день, до Линца, Бреслау, Любека и Йены за два. Вот бы повторить подобный эксперимент и начать с Украины, ради интереса. Одно радует: вопреки всему люди продолжают поддерживать Партию и ее руководство, верят в фюрера и окончательную победу. О чем это свидетельствует? Лишь десяток лет минул со времени взятия власти, а национал-социалистический дух превратился в будничную правду нашего народа и проник в самые захудалые углы. И даже если мы проиграем войну, он будет жить». – «С твоего позволения, давай лучше поговорим о том, как нам победить!» За едой я изложил Томасу полученные мной инструкции и мое понимание общей картины происходящего. Он слушал, разделывая ромштекс, кстати отлично пожаренный, и запивая мясо вином. Прежде чем ответить, он доел мясо и снова наполнил бокал. «Ты, конечно, отхватил очень интересное место, но я тебе не завидую. У меня такое впечатление, что тебя закинули в корзину с крабами, и даже если тебя не сожрут, то за ляжки покусают. Что ты знаешь о политической ситуации? Внутренней, я имею в виду». «Не слишком много», – ответил я, приканчивая свою порцию. «А надо бы. Она кардинально изменилась с начала войны. Во-первых, рейхсмаршал впал в немилость, и, по-моему, навсегда. Из-за бессилия люфтваффе перед английскими бомбардировщиками, беспредельной коррупции и неуемного потребления наркотиков его больше не принимают всерьез: он теперь статист, его „вынимают из шкафа“, когда требуется произнести речь вместо фюрера. Дорогой доктор Геббельс, невзирая на все героические старания после Сталинграда, тоже не у дел. Сейчас восходит звезда Шпеера. Когда фюрер его назначил, все думали, это на полгода, не дольше. С тех пор Шпеер втрое увеличил наше военное производство, и фюрер ни в чем ему не отказывает. Вдобавок этот архитекторишка, над которым мы потешались, оказался выдающимся политиком и заручился солидной поддержкой – Мильха, заместителя Геринга, генерального инспектора люфтваффе, и Фромма, командующего Ersatzheer, армией резерва. Каков интерес Фромма? Фромм должен поставлять вермахту людей, то есть, если немецкого рабочего заменить иностранцем или заключенным, одним солдатом у Фромма станет больше. Шпеер думает только о средствах повышения производства, а Мильх заботится о люфтваффе. Единственное, что нужно им всем, – люди, люди, люди. Вот где источник проблем рейхсфюрера. Естественно, никто не вправе критиковать программу Окончательного решения: это прямой приказ фюрера, министрам остается только выражать свое недовольство в рамках дозволенного и пытаться каким-то образом заполучить часть евреев для работ. С тех пор как Тирак санкционировал депортацию преступников в концлагеря, они превратились в немаловажный источник рабочей силы. Несопоставимый, разумеется, с притоком рабочих из-за границы, но все же. Однако рейхсфюрер ревностно относится к вопросу самостоятельности СС, а Шпеер именно на нее и посягает. Когда рейхсфюрер хотел разместить промышленные предприятия на территориях концлагерей, Шпеер встретился с фюрером, и – хоп! – заключенных увозят на заводы. Понимаешь, в чем проблема: рейхсфюрер чувствует, что находится в слабой позиции и должен пойти на уступки Шпееру, показывая, что делает это добровольно. Конечно, если Шпееру действительно удастся увеличить приток рабочей силы, все будут очень довольны. Но именно здесь, по моему мнению, и возникает внутренний конфликт: СС, ты знаешь, – Рейх в миниатюре, государство в государстве, практически везде имеющее свои интересы. Возьми, к примеру, РСХА: Гейдрих – гений, сильный по своей природе и замечательный национал-социалист, но я уверен, что рейхсфюрер испытал тайное облегчение, узнав о его смерти. Послать Гейдриха в Прагу – уже блестящий ход: Гейдрих воспринял это как повышение по службе, хотя отлично понимал, что, уехав из Берлина, потеряет прежнее влияние на РСХА. Стремление Гейдриха к самостоятельности было слишком велико, поэтому рейхсфюрер до сих пор никого не назначил на его место. А тут начальники ведомств начали тянуть одеяло каждый на себя. Тогда рейхсфюрер поручил Кальтенбруннеру следить за ними, надеясь, что сам Кальтенбруннер, законченный идиот, не выйдет из-под контроля. Но ты увидишь, все повторится: это зависит от должности, а не от человека. Везде одно и то же, во всех департаментах и подразделениях. А ИКЛ особенно богата на alte Kämpfer, старых бойцов: к ним сам рейхсфюрер подступается на цыпочках». – «Если я правильно понимаю, рейхсфюрер намерен продвигать реформы, не слишком тревожа ИКЛ?» – «Или ему плевать на реформы, он просто хочет воспользоваться случаем, чтобы прижать непокорных. Одновременно ему надо продемонстрировать Шпееру готовность к сотрудничеству, но не дать возможности подобраться к СС или урезать ее привилегии». – «Да, дело щекотливое». – «А! Брандт тебя предупредил: анализ и дипломатия». – «Он еще прибавил: инициатива». – «Разумеется! Если ты найдешь решение проблем, в том числе и тех, что тебе прямо не поручали, но отвечающих жизненным интересам рейхсфюрера, твоя карьера удалась. А если ты прикинешься бюрократом-романтиком и затеешь глобальный переворот, то без малейшего промедления окажешься заместителем в каком-нибудь вшивом штабе СД в глухомани в Галиции. Так что смотри: сыграешь со мной ту же шутку, что во Франции, я пожалею, что вытащил тебя из Сталинграда. Остаться в живых дорогого стоит».
Этому предупреждению, насмешливому и вместе с тем пугающему, как нельзя лучше соответствовало короткое письмо моей сестры. После нашего телефонного разговора она поехала в Антиб, в чем я ни секунды не сомневался.
«Макс, полиция подозревает, что это психопат или вор или даже сведение счетов. Реально им ничего неизвестно. Обещали покопаться в делах Аристида. Гнусно. Задавали мне самые разные вопросы о семье: я рассказала о тебе, но, не знаю почему, остереглась упоминать, что ты здесь был. Не знаю, зачем я так поступила, побоялась, что у тебя возникнут неприятности. И потом какой смысл? Я уехала сразу после похорон. Я хотела, чтобы ты тоже присутствовал, и одновременно мысль о встрече с тобой вызывала у меня ужас. Все было печально, убого и отвратительно. Их похоронили вместе на муниципальном кладбище. Кроме меня и полицейского, проверявшего, кто явился на церемонию, были еще несколько друзей Аристида и кюре. После я сразу же уехала. Не знаю, что тебе еще написать. Я страшно расстроена. Береги себя».
О близнецах – ни полслова, после ее бурной реакции, тогда по телефону, мне показалось это странным. И что удивляло меня еще больше, так это мое собственное равнодушие к ситуации; ее письмо, полное отчаяния и скорби, произвело на меня то же впечатление, что желтый осенний листок, сорвавшийся с ветки и умерший, не долетев до земли. Прочитав письмо, я уже через несколько минут погрузился в рабочие проблемы. Теперь вопросы, терзавшие меня и не дававшие покоя в течение многих последних недель, исчезли в туманной дали; мысль о сестре – потухший костер, сохранивший лишь запах холодного пепла, а мысль о матери – тихая, давно забытая могила. Необычная апатия накрыла меня: придирки квартирной хозяйки меня не трогали, сексуальные желания превратились в старое абстрактное воспоминание, тревога о будущем – в непозволительную и пустую роскошь. В общем-то, в подобном состоянии я нахожусь и сегодня, и меня оно устраивает. Только работа занимала мои мысли. Я постоянно держал в голове советы Томаса: он даже сам не предполагал, насколько я считал их правильными. В конце месяца Тиргартен уже цвел, и серый город покрыла дерзкая зелень деревьев. Я отправился в Амтсгруппу «Д», бывшую ИКЛ, расположенную в Ораниенбурге рядом с концлагерем Заксенхаузен: длинные чистые белые здания, аллеи, вытянутые, как по линеечке, газоны, тщательно вскопанные и прополотые сытыми, в опрятной одежде заключенными, энергичные, деловые, увлеченные офицеры. Меня с великосветской учтивостью принял бригадефюрер Глюкс. Глюкс говорил много и быстро, поток расплывчатых фраз заметно контрастировал с рабочей атмосферой, царившей в его владениях. У него совершенно отсутствовал общий взгляд на вещи, он долго и упорно задерживался на неинтересных мне административных деталях, наугад приводил статистические данные, зачастую ошибочные, которые я записывал из вежливости. На любой сколько-нибудь конкретный вопрос он неизменно отвечал: «О, об этом вам лучше узнать у Либехеншеля». При этом дружески подливал мне французского коньяку и угощал кексами. «Жена пекла. Несмотря на дефицит, она умудряется по-прежнему вкусно готовить – просто волшебница». Он, не думая, что тем самым рискует оскорбить рейхсфюрера, явно хотел поскорее избавиться от меня, вернуться к своим кексам и подремать. Я решил закругляться; стоило мне сделать паузу, он тут же вызвал помощника и наполнил последнюю рюмку: «За здоровье нашего дорогого рейхсфюрера». Я смочил губы, поставил рюмку, отсалютовал и пошел за своим провожатым. «Вот увидите, – остановил меня Глюкс уже в дверях, – Либехеншель сможет ответить на все ваши вопросы». Он оказался прав. Его помощник, невысокий человечек с грустным уставшим лицом, тоже заправлявший в главном ведомстве Амтсгруппы «Д», кратко, четко и без прикрас обрисовал мне положение дел и ситуацию с продвижением реформ. Я уже знал, что большинство приказов за подписью Глюкса в действительности были подготовлены Либехеншелем, что, собственно, неудивительно. Именно к Либехеншелю по большей части обращались с проблемами коменданты: «Они лишены воображения и не понимают, как следует исполнять наши приказы. Если вдруг появляется комендант, проявляющий хоть немного инициативы, ситуация полностью меняется. Но нам страшно не хватает персонала, и нет перспективы улучшить кадры». – «А медицинским учреждениям не удается в какой-то степени сглаживать возникающие сложности?» – «После меня вы встретитесь с доктором Лоллингом и все для себя проясните». И правда, если за час, проведенный со штандартенфюрером Лоллингом, я почти не получил информации о проблемах медицинских учреждений концлагерей, то хотя бы понял, почему эти учреждения должны функционировать самостоятельно. Пожилой, с влажными глазами и мутным путаным сознанием, Лоллинг, департамент которого курировал все санитарные структуры лагерей, был не только алкоголиком, но, по слухам, ежедневно таскал из запасов морфий. Я недоумевал, как такой человек до сих пор остается в СС, мало того, занимает столь ответственный пост. Без сомнения он имел покровителей в Партии. Впоследствии я выудил у него кучу важнейших донесений: Лоллинг, чтобы скрыть собственную некомпетентность, постоянно требовал рапорты у подчиненных; многие из этих людей отличались от своего шефа, и потому среди документов обнаружились весьма важные.
Оставался Маурер, создатель и глава Arbeitseinsatz, Трудового использования заключенных, обозначенного в схеме организаций ВФХА как управление Д-II. Честно говоря, я мог бы уже никого не посещать, даже Либехеншеля. Штандартенфюрера Герхарда Маурера, еще молодого, без университетского диплома, но обладающего солидным профессиональным опытом в бухгалтерии и управлении, вытащил из темной дыры одного из подразделений бывшей администрации СС Освальд Поль, а вскоре благодаря административным способностям, инициативности и четкому пониманию реалий бюрократической системы Маурера рекомендовали на повышение. Поль, снова взяв под крыло ИКЛ, поручил ему формирование Д-II с целью централизации и рационализации использования рабочей силы в лагерях. В дальнейшем я еще не раз встречался с Маурером и регулярно с ним переписывался, и наша совместная работа неизменно доставляла мне удовольствие. Для меня он отчасти воплощал некий идеал национал-социалиста, который, обладая Weltanschauung, является еще человеком слова и дела. Основу жизни Маурера составляли конкретные, измеримые результаты. Даже если и не все меры, проводимые Arbeitseinsatz, были разработаны им лично, то поразительная система сбора статистических данных, распространяемая на все без исключения лагеря ВФХА, стала несомненно его заслугой. Он терпеливо разъяснял мне эту систему, показывал стандартизированные бланки формуляров, которые каждый лагерь должен был заполнять и отсылать обратно, обращал мое внимание на наиболее важные цифры и удобный способ их расшифровки. Представленные схемы были более наглядны, чем доклады в письменной форме; сопоставимые между собой и поэтому необычайно содержательные, они позволяли Мауреру, не покидая кабинета, с точностью отслеживать, в какой степени и насколько успешно претворяются на местах его приказы. Опираясь на эти данные, Маурер подтвердил оценку Либехеншеля. Он произнес гневную речь о реакционном поведении комендантов, «обученных по методу Эйке»: что касается устаревших полицейских подходов и мер подавления, здесь они – многоопытные специалисты, но в общей массе это люди ограниченные и неумные, неспособные усвоить современные, адаптированные к новым требованиям принципы управления: «Они не плохи, но не в состоянии исполнять то, что с них спрашивают сегодня». Для себя Маурер наметил единственную цель: добиться того, чтобы КЛ работали с максимальным коэффициентом производительности труда. Он не угощал меня коньяком, но на прощание горячо пожал руку: «Я рад, что рейхсфюрер наконец-то прислушался к нашим проблемам. Мое ведомство к вашим услугам, штурмбанфюрер, вы можете всегда на меня рассчитывать».
Я вернулся в Берлин и договорился о свидании со старым знакомым Адольфом Эйхманом. Он принял меня лично в просторном вестибюле своего департамента на Курфюрстенштрассе, засеменил навстречу в тяжелых ботинках для верховой езды по начищенным плитам мраморного пола и сердечно поздравил с продвижением по службе. «Вас тоже повысили, – заметил я в свою очередь. – В Киеве вы были еще штурмбанфюрером». – «Да, – удовлетворенно подтвердил он, – это правда, но вы-то между тем заслужили два кубаря… Пойдемте, пойдемте». Хотя Эйхман был выше меня по званию, мне он показался до странности суетливым и любезным, возможно, его впечатлил факт, что я явился от лица рейхсфюрера. У себя в кабинете он развалился в кресле, закинул ногу на ногу, небрежно положил фуражку на стопку бумаг, снял толстые очки, протер платком стекла и, обернувшись куда-то в сторону, позвал секретаршу: «Фрау Верльман! Кофе, пожалуйста». Я с улыбкой наблюдал за его маневрами: с Киева уверенности в себе у Эйхмана явно прибавилось. Он повернул очки к окну, тщательно изучил их на свету, еще раз протер и опять надел. Вытащил коробку из-под папки и протянул мне голландскую сигарету. С зажигалкой в руке, он указал на мою грудь: «Сколько у вас наград, еще раз поздравляю! Везет же фронтовикам: здесь, в тылу, нет никакой возможности получить медаль. Шеф представил меня к Железному кресту, но у меня действительно есть заслуги. Я добровольно записался в айнзатцгруппу, вы слышали об этом? Но Гейдрих приказал мне остаться. „Вы мне необходимы“, – сказал он мне. „Zu Befehl“, – ответил я. Выбора-то в любом случае не было». – «Тем не менее, у вас отличная должность. Ваш доклад признан одним из самых значимых в гестапо». – «Да, но мое дальнейшее продвижение совершенно блокировано. Доклады должен курировать регирунгсрат, или оберрегирунгсрат, или соответствующий чин СС. То есть, в принципе, на этом посту мне не шагнуть выше оберштурмбанфюрера. Я сетовал на это начальству: шеф сказал, что я, конечно, заслуживаю большего, но ему не хочется идти на конфликт с руководителями других отделов». Эйхман недовольно скривил губы. Его лысый лоб блестел под потолочной лампой, горевшей среди бела дня. Средних лет секретарша вошла с двумя дымящимися на подносе чашками, поставила их перед нами. «Молоко? Сахар?» – осведомился Эйхман. Я отрицательно покачал головой, понюхал содержимое чашки: настоящий кофе. Пока я дул на него, Эйхман вдруг спросил меня: «Вас наградили за айнзатцакции?» Его въедливость начинала меня раздражать; я бы охотно перешел к цели своего визита. «Нет, уже позже, когда я служил в Сталинграде», – отрезал я. Лицо Эйхмана помрачнело, он резким движением снял очки. «Ах, вот как, – откликнулся он, вставая. – Вы были в Сталинграде. Там убили моего брата Гельмута». – «Сочувствую. Примите мои соболезнования. Это ваш старший брат?» – «Нет, младший. Тридцать три года. Наша мать до сих пор не оправилась. Он геройски погиб, отдавая долг Германии. Я жалею, что не мне выпал такой шанс», – торжественно прибавил он. Я воспользовался удобным случаем: «Да, но Германия требует от вас других жертв». Он водрузил на нос очки и отхлебнул кофе. Потом раздавил сигарету в пепельнице: «Вы правы. Солдат не выбирает пост. Итак, чем могу быть полезен? Если я правильно понял из письма оберштурмбанфюрера Брандта, вы занимаетесь проверкой использования труда заключенных, так? А какое отношение это имеет к моим отделам?» Я вытащил несколько листков из портфеля, сшитого из кожзаменителя. Дотрагиваясь до него, я всякий раз испытывал отвращение, но из-за дефицита не сумел найти ничего более подходящего. Как-то я посоветовался с Томасом, он рассмеялся мне в глаза: «Я хотел кожаный письменный набор для кабинета. Чиркнул приятелю в Киев, одному типу, который служил в айнзатцгруппе, а потом остался в командном штабе СП и СД, поинтересовался, нельзя ли сделать заказ. Он ответил, что с тех пор, как уничтожили евреев, на Украине и ботинки не починишь». Эйхман, нахмурившись, уставился на меня. «Евреи, которыми вы занимаетесь, на сегодняшний день являются одним из основных резервов новой рабочей силы, – объяснил я. – Кроме них есть только иностранные рабочие, осужденные за мелкие проступки, и политические заключенные из контролируемых нами стран. Все другие источники, военнопленные или преступники, выданные Министерством юстиции, истощились. Итак, я хотел бы получить от вас общий отчет о функционировании подведомственных структур и ваши соображения о будущем развитии». Пока Эйхман слушал меня, у него странным образом подергивался левый уголок рта, словно он язык жевал. Эйхман снова откинулся на стуле, вытянув указательные пальцы, соединил длинные, с выступающими венами кисти рук в треугольник: «Конечно, конечно. Я вам объясню. Как вы знаете, в каждой стране, которой касается Окончательное решение, имеется представитель моего ведомства, подчиняющийся либо командующему СП и СД на оккупированных территориях, либо полицейскому атташе посольства союзнической страны. Сразу уточню, что СССР не в моей компетенции; что до моего помощника в генерал-губернаторстве, его роль ничтожна». – «Почему так сложилось?» – «В генерал-губернаторстве еврейский вопрос контролирует ССПФ Люблина, и группенфюрер Глобочник отчитывается непосредственно перед рейхсфюрером. И тайная полиция не имеет там полномочий». Он опять поджал губы: «За незначительными исключениями, которые мы скоро урегулируем, сам Рейх можно назвать юденрайн, очищенным от евреев. Относительно других стран, все зависит от того, насколько ясно государственные органы понимают важность окончательного решения еврейского вопроса. Таким образом, каждая страна представляет собой особый случай, и я готов ввести вас в курс дела». Когда Эйхман заговорил о работе, я заметил, что его и без того необычная речь с налетом австрийского акцента и вкраплениями берлинского жаргона усложнилась путаными бюрократическими конструкциями. Он говорил спокойно и внятно, взвешивая слова, но порой мне сложно было уследить за ходом его мысли. Он и сам терялся в собственных словесах: «Возьмите, к примеру, Францию, где мы прошлым летом, с позволения сказать, смогли начать работу, как только французские власти, под руководством нашего специалиста, а также вняв советам и пожеланиям Министерства иностранных дел, уф, если хотите, согласились сотрудничать и, подчеркну особо, когда Рейхсбан выделил нам необходимый транспорт. Так вот, мы приступили к выполнению задач, и вначале весьма успешно, потому что французы демонстрировали глубокое понимание, и потом благодаря участию французской полиции, без нее мы бы, конечно, ничего не сделали, у нас же нет ресурсов, а военный главнокомандующий, Militärbefehlshaber, разумеется, не имел возможности их пополнить. Итак, помощь французской полиции стала жизненно важным элементом, ведь именно она задерживала евреев и передавала их нам, и очень даже усердствовала; мы официально запрашивали евреев старше шестнадцати лет – для начала, естественно, – но французы отказывались отвечать за детей, лишившихся родителей, что в общем-то понятно, и поэтому отправляли к нам всех, даже сирот, – короче, скоро выяснилось, что французы посылали нам только евреев-иностранцев, я даже был вынужден аннулировать перевозку из Бордо: транспорт не заполнялся, не хватало даже этих евреев-иностранцев, настоящий скандал, а по поводу их собственных евреев, то есть имеющих французское гражданство, я имею в виду, уже долгое время, знаете ли, ничегошеньки. Французы не желают и – баста. По сведениям Министерства иностранных дел сам маршал Петен стоит тут поперек дороги, и напрасно мы ему доказываем, что так не годится. Конечно, после ноября ситуация кардинально изменилась, мы больше не связаны всеми этими соглашениями и французскими законами, но тут, как я вам уже говорил, опять возникли сложности с французской полицией, не захотевшей продолжить сотрудничество. Не буду жаловаться на господина Буске, у него свои обязанности, однако не посылать же немецких полицейских стучать в двери; словом, во Франции дело застопорилось. К тому же многие евреи перебрались в итальянский сектор, вот уж поистине проблема, потому что итальянцы не имеют никакого понимания, и почти повсюду такая же загвоздка: в Греции, в Хорватии, они там в автономиях защищают евреев, и не только своих, а всех подряд. Это действительно проблема, которая выходит за рамки моих полномочий. Впрочем, мне известно, что ее обсуждали на высоком, на самом высшем уровне, и Муссолини вроде бы обещал поспособствовать, но очевидно, для него эта задача не из первоочередных, а в нижних эшелонах, с которыми мы ведем переговоры, прямо-таки сплошная бюрократическая волокита и нечестные приемы; я уже понял, они никогда не отвечают „нет“, но это – зыбучие пески, движение есть, но ничего не происходит. Вот что у нас с итальянцами». – «А с другими странами?» – поинтересовался я. Эйхман поднялся, надел фуражку и жестом пригласил меня следовать за ним: «Идемте. Я вам сейчас покажу». Мы прошли в другой отдел. Я впервые заметил, что ноги у Эйхмана кривые, как у кавалериста. «Вы занимаетесь верховой ездой, оберштурмбанфюрер?» Он снова поморщился: «В молодости, теперь нет возможности». Эйхман постучал в дверь и вошел. Несколько офицеров вскочили, отдали честь, он отсалютовал в ответ, пересек кабинет, постучался и открыл другую дверь. В глубине комнаты сидели штурмбанфюрер, секретарша и младший офицер. Все встали при виде нас; штурмбанфюрер, красавчик блондин, высокий, мускулистый, затянутый в приталенный китель, сшитый точно по размеру, вскинул руку и выкрикнул по-военному: «Хайль». Мы ответили, после чего Эйхман представил меня и сказал: «Штурмбанфюрер Гюнтер, мой постоянный заместитель». Гюнтер взглянул на меня с непроницаемым видом и обратился к Эйхману: «Чем могу служить, оберштурмбанфюрер?» – «Извините, что побеспокоил вас, Гюнтер. Я хотел бы показать вашу таблицу». Гюнтер молча вышел из-за письменного стола. За его спиной на стене висела разноцветная диаграмма. «Смотрите, – растолковывал Эйхман, – здесь идет разделение по странам, и данные обновляются ежемесячно. Слева намеченные цели и затем общие цифровые данные по их реализации. Вы сразу заметите, что к решению задач мы приблизились в Голландии, на пятьдесят процентов в Бельгии, но в Венгрии, Румынии или Болгарии результаты стремятся к нулю. В Болгарии речь идет о нескольких тысячах, но это обманчиво: нам дали эвакуировать евреев с территорий, оккупированных болгарами в тысяча девятьсот сорок первом году, из Фракии и Македонии, но до тех, что из старой Болгарии, болгары нас не допустили. Через пару месяцев мы отправили повторный официальный запрос, где-то в марте, я думаю, Министерство иностранных дел предприняло демарш, но Болгария отказала. Поскольку это вопрос суверенитета, каждый хочет гарантий, что его сосед сделает то же самое, то есть болгары ждут, чтобы начали румыны, румыны – чтобы венгры, венгры – чтобы болгары и так далее. Заметьте, после Варшавы нам хотя бы удалось объяснить, как опасно иметь у себя столько евреев, это же рассадник партизан, надеюсь, что наши доводы их впечатлили. Но на том наши проблемы не заканчиваются. В марте мы начали акцию в Греции, у меня там сейчас в Фессалониках зондеркоманда, вы знаете, все идет довольно быстро, мы уже близки к завершению. После мы очистим Крит и Родос, тут препятствий нет, а про итальянскую зону, Афины и остальное я вам уже объяснял. Еще, конечно, у нас возникает множество сопутствующих технических проблем, иметь только дипломатические было бы слишком просто, я прежде всего имею в виду трудности с транспортом, с подвижными составами, с предоставлением вагонов и еще, как бы сказать, со временем на железнодорожных путях, даже если вагоны есть. А то, например, случается, что переговоры с правительством проведены успешно, евреи у нас в руках и – хоп! – Transportsperre, все блокировано, потому что на Востоке наступление или еще какая причина, и больше в Польшу ничего не перевезешь. А когда, наоборот, спокойно, пробки становятся вдвое больше. В Голландии или во Франции мы все стягиваем в транзитные лагеря и потом потихоньку, когда имеется транспорт, сплавляем, естественно учитывая вмещающую способность, которая тоже ограничена. С Фессалониками решили поступить иначе: все одним махом – раз, два, три, четыре и готово. С февраля у нас, правда, очень много работы, и поезда нам выделили, и я получил приказ поторопиться. Рейхсфюрер хочет, чтобы мы управились в текущем году и закрыли вопрос». – «Это реально?» – «Там, где зависит от нас, да. Подчеркиваю, что с транспортом всегда проблема, с финансами тоже, потому что мы должны платить Рейхсбану, представляете, за каждого пассажира, и пусть у меня нет средств в бюджете, а приходится выкручиваться. Мы выставляем счет за перевозку евреям, но Рейхсбан принимает платежи только в рейхсмарках, в крайнем случае, в злотых, если мы их пересылаем в генерал-губернаторство, но в Фессалониках – драхмы, и обмен на месте невозможен. Вот и стараемся – ну да мы уже поднаторели. Помимо того, конечно, существуют дипломатические сложности, если венгры скажут „нет“, я бессилен, это не в моей компетенции, тут не мне, а герру министру фон Риббентропу придется отвечать перед рейхсфюрером». – «Ясно». Пару минут я изучал график: «Если я правильно понимаю, разница между данными в колонке „апрель“ и цифрами слева представляет потенциальный резерв, зависящий от разного рода трудностей, о которых вы мне рассказали». – «Именно. Но учтите, это общий показатель, то есть большая его часть ни в коей мере не интересна Управлению по использованию труда заключенных, потому что, вы знаете, ее составляют старики, или дети, или еще бог весть кто, и вы от данной цифры можете смело отнять половину». – «Сколько же, на ваш взгляд?» – «Точно не отвечу. Вам надо спросить у ВФХА, прием и селекция – их обязанность. Мои полномочия оканчиваются с отходом поезда, об остальном мне мало что известно. Добавлю лишь, что, по мнению РСХА, число евреев, которых временно сохраняют для работ, необходимо по возможности сокращать: создание мест большой концентрации евреев чревато повторением Варшавы, это очень опасно. Могу вам сказать, что подобную точку зрения разделяет группенфюрер Мюллер, мой начальник, и обергруппенфюрер Кальтенбруннер». – «Понимаю. Вы могли бы дать мне копию графика с цифрами?» – «Конечно, конечно. Завтра же пришлю. Но по СССР и генерал-губернаторству у меня их нет, я вам уже говорил». Когда мы уже выходили, Гюнтер, за всю нашу беседу не проронивший ни слова, снова выкрикнул: «Хайль Гитлер!» Мы вернулись в кабинет Эйхмана, чтобы уточнить кое-какие детали. Потом Эйхман пошел меня провожать. Расшаркался передо мной в вестибюле: «Штурмбанфюрер, я хотел бы пригласить вас к себе вечером на неделе. Мы иногда даем домашние концерты. Мой гауптшарфюрер Боль – первая скрипка». – «О, чудесно. А вы на чем играете?» – «Я?» Он, как птица, вытянул вперед шею. «Тоже на скрипке, я – вторая скрипка. К сожалению, я не столь хороший исполнитель, как Боль, пришлось уступить ему партию. Обергруппенфюрер Гейдрих был прекрасным скрипачом. Да, правда, выдающимся, очень талантливым. Я вообще его очень уважал, замечательный человек. Очень… чуткий, сострадательный. Мне его так не хватает». – «Я мало его знал. А что вы играете?» – «Сейчас? В основном Брамса. Немного Бетховена». – «А Баха?» Эйхман опять поджал губы: «Я не особенно люблю Баха. На мой взгляд, сухо и слишком… просчитано. Стерильно, если угодно, очень красиво, конечно, но без души. Я предпочитаю романтическую музыку, она все во мне переворачивает, да-да, доводит меня порой до самозабвения». – «Готов поспорить с вами насчет Баха, но ваше приглашение охотно принимаю». Честно говоря, сама идея навевала на меня тоску, но я не хотел обидеть Эйхмана. «Отлично, – сказал он, пожимая мне руку. – Я посоветуюсь с женой насчет даты и вам позвоню. И не беспокойтесь по поводу документов. Вы получите их завтра, слово офицера СС».
Мне оставалось еще встретиться с Освальдом Полем, крупной шишкой ВФХА. Он принимал меня в своих кабинетах на Унтер-ден-Эйхен с горячей сердечностью и долго болтал со мной о Киле, где много лет служил в военно-морском флоте. Летом 1933 года в местном казино его приметил и завербовал рейхсфюрер. Поль начал с централизации административной и финансовой системы СС, а затем постепенно выстроил собственную сеть промышленных предприятий. «Как у любого интернационального концерна, деятельность наша разнообразна. Мы работаем в отрасли строительных материалов, потом дерево, керамика, мебель, полиграфия и даже минеральная вода». – «Минеральная вода?» – «А! Это очень важно. Мы сможем обеспечить ваффен-СС питьевой водой на всех восточных территориях». Особенно он гордился своим последним детищем, «Ости», «Восточной индустрией», корпорацией, которую основал в όкруге Люблина, чтобы оставшиеся евреи работали на СС. Но, несмотря на приветливость, Поль быстро переменился и отвечал уклончиво, стоило мне заговорить в общих чертах об организации труда заключенных; он полагал, что большинство эффективных мер уже внедрили, просто надо некоторое время подождать результата. Я спросил его о критериях селекции, он отослал меня к уполномоченным из Ораниенбурга: «Они лучше разбираются в деталях. Однако спешу вас заверить, с тех пор, как к селекции подключили врачей, все идет гладко». И заверил меня, что рейхсфюрер полностью информирован обо всех проблемах. «Не сомневаюсь, обергруппенфюрер, – парировал я. – Но рейхсфюрер как раз и поручил мне разобраться, что мешает делу, и по возможности исправить недостатки. Объединение с подведомственным вам ВФХА привело к ряду существенных изменений в нашей национал-социалистической системе концлагерей, предлагаемые или вводимые вами меры, как и подбор кадров, возымели колоссальный положительный эффект. Я думаю, что теперь рейхсфюрер просто хочет получить общую картину происходящего. И ни на миг не сомневаюсь, что ваши планы на будущее имеют огромное значение». Не воспринял ли Поль мою миссию как угрозу? После моего короткого успокоительного монолога он сразу сменил тему; а чуть позже снова ободрился, даже прошелся со мной по отделу и представил некоторых своих сотрудников. Поль пригласил меня зайти еще раз после инспекционной командировки (я скоро должен был ехать в Польшу, кроме того, посетить несколько лагерей в Рейхе); он проводил меня по коридору, по-приятельски обняв за плечи; во дворе я обернулся, он, улыбаясь, махал мне вслед: «Счастливого пути!»
Эйхман сдержал слово: ближе к вечеру, вернувшись из Лихтерфельде, я нашел у себя на письменном столе большой запечатанный конверт с пометкой: GEHEIME REICHSSACHE [65]! В нем была целая пачка документов и сопроводительное письмо, напечатанное на машинке; я нашел там и пригласительный билет от Эйхмана на завтрашний вечер. Пионтек завез меня купить цветов – нечетное количество, как я научился в России, – и шоколада. Потом высадил меня на Курфюрстенштрассе. Эйхман занимал квартиру в крыле своего служебного здания, здесь же располагались комнаты для неженатых офицеров, очутившихся в Берлине проездом. Эйхман, в штатском, сам открыл мне: «Ах! Мне нужно было вас предупредить, что форма не обязательна. У нас домашняя вечеринка, все по-простому. Ну да ничего. Входите, входите». Он познакомил меня с женой Верой, маленькой невзрачной австрийкой, которая, впрочем, покраснела от удовольствия и очаровательно улыбнулась, когда я с поклоном вручил ей цветы. Эйхман поставил рядком двух своих ребятишек, Дитера, лет, наверное, шести, и Клауса. «Малыш Хорст уже спит», – сообщила фрау Эйхман. «Наш последний, – прибавил ее муж. – Ему еще года нет. Идемте, я вас представлю». Он проводил меня в гостиную, где уже собралось много мужчин и женщин, кто стоял, кто сидел на диванах. Среди них, если я не ошибаюсь, был гауптштурмфюрер Новак, австриец с хорватскими корнями, довольно красивый, с удлиненными острыми чертами и презрительным выражением лица, Боль – скрипач и еще другие гости, имена которых я, к сожалению, забыл, все коллеги Эйхмана с супругами. «Гюнтер тоже придет, но только на чай. Он редко к нам присоединяется». – «Я вижу, что в вашем отделе культивируется дух товарищества». – «Да-да. Я дорожу сердечными отношениями с подчиненными. Чего желаете выпить? Стаканчик шнапса? Война войной…» Я засмеялся, он вместе со мной: «У вас хорошая память, оберштурмбанфюрер». Я взял стакан и встал: «На этот раз я предлагаю выпить за вашу чудесную семью». Он щелкнул каблуками и раскланялся: «Спасибо». Мы немного поговорили, потом Эйхман подвел меня к буфету, чтобы показать фотографию молодого еще офицера в траурной рамке. «Ваш брат?» – спросил я. «Да». Эйхман взглянул на меня, горбатый нос и оттопыренные уши делали его до странности похожим на птицу, особенно при этом освещении. «Вряд ли вы там пересекались?» Он назвал номер дивизии, я отрицательно покачал головой: «Нет. Я приехал довольно поздно, после окружения. И мало кого видел». – «А, понятно. Гельмут погиб осенью во время одного из наступлений. Мы не знаем точных обстоятельств, нам прислали официальное уведомление». – «Все это – тяжелая жертва», – сказал я. Он потер пальцем губы: «Да. И будем надеяться, что ненапрасная. Но я верю в гений фюрера».
Фрау Эйхман подала чай и печенье; появился Гюнтер, взял чашку и отошел в угол, словом ни с кем не обмолвившись. Пока другие разговаривали, я исподтишка наблюдал за ним. Настоящий гордец, подчеркнуто неприступный и загадочный, всем своим видом являвший немой укор болтливым коллегам. Ходили слухи, что он – сын Ганса Ф.К. Гюнтера, декана факультета расовой германской антропологии, чьи произведения имели огромное влияние; если так, то папаша мог гордиться своим отпрыском, прекрасным воплощением теории в практику. Через полчаса Гюнтер, рассеянно попрощавшись, испарился. Настала музыкальная часть вечера: «Как всегда перед ужином, – сообщил Эйхман. – Потом хорошо не сыграешь, все заняты процессом пищеварения». Вера Эйхман взяла в руки альт, один из офицеров вынул из футляра виолончель. Прозвучали два из трех струнных квартетов Брамса, мило, но, на мой вкус, пресно; сносное исполнение, без особых сюрпризов, только виолончелист выделялся на общем фоне. Эйхман играл вдумчиво, методично, не отрывая глаз от партитуры; ошибок он не допускал, но, кажется, не догадывался, что не это главное. Мне вспомнилось его признание накануне: «Боль играет лучше меня, а Гейдрих лучше нас обоих». Возможно, что он все осознавал и принимал собственную ограниченность, радуясь тому малому, что у него получалось.
Я бурно аплодировал; мне почудилось, что фрау Эйхман была особенно польщена. «Я сейчас уложу детей, – сказала она. – И потом мы перейдем к столу». Мы налили еще по стаканчику и ждали. Женщины обсуждали пайковое довольствие и сплетни, мужчины – последние новости, без особого интереса: ситуация на фронте оставалась стабильной, после падения Туниса почти ничего не произошло. Атмосфера царила дружеская, gemütlich, как говорят австрийцы, все в меру. Затем Эйхман пригласил нас в столовую. Он сам распределил места и меня усадил по правую руку от себя во главе стола. Эйхман откупорил несколько бутылок рейнского, а Вера внесла жаркое с ягодным соусом и зеленой фасолью. Приятная разница с несъедобной стряпней фрау Гуткнехт и обедами в обычной столовой СС. «Восхитительно, – похвалил я фрау Эйхман. – Вы – несравненная повариха». – «О, мне повезло. Дольфи часто удается раздобыть дефицитные продукты. В магазинах же почти пусто». Воодушевившись, я нарисовал гротескный портрет своей квартирной хозяйки, описал сначала ее кулинарные способности, а потом принялся и за остальные черты. «Сталинград? – вопрошал я, имитируя ее голос и диалект. – Какого черта вас туда понесло? Чем вам здесь не угодили? Собственно, где это вообще?» Эйхман расхохотался и подавился вином. Я продолжил: «Однажды утром мы вместе вышли из дому. И увидели на улице человека со звездой, без сомнения, какого-то привилегированного Mischling, метиса. Она воскликнула: „О! Смотрите, герр офицер, еврей! Вы его еще не отравили газом?“» Все смеялись, Эйхман плакал от смеха и закрывал лицо салфеткой. Только фрау Эйхман была по-прежнему серьезной, я сразу остановился, как только это заметил. Казалось, она хотела спросить о чем-то, но сдержалась. Чтобы преодолеть смущение, я стал подливать по-прежнему хохотавшему Эйхману вина: «Давайте выпьем». Потом беседа приняла другой поворот, и я занялся едой; один из гостей рассказывал смешную историю о Геринге. Вдруг Эйхман напустил на себя озабоченный вид и повернулся ко мне: «Штурмбанфюрер Ауэ, вы же учились в университете. Я бы хотел задать вам важный вопрос». Я махнул вилкой в знак согласия. «Полагаю, вы читали Канта? Я сейчас штудирую „Критику практического разума“, – он потер губы. – Естественно, человеку типа меня, без университетского образования, я хочу сказать, не все там ясно. Нет, конечно, что-то я понял. Я много думал, особенно о проблеме категорического императива. Вы, я уверен, согласитесь со мной, что любой честный человек обязан жить в соответствии с этим императивом». Я отпил вина и кивнул. Эйхман продолжил: «Императив, по моему разумению, гласит: я всегда должен поступать так, чтобы максима моей воли могла стать всеобщим законом. То есть поступай так, как ты бы желал, чтобы поступали все». Я вытер рот: «Кажется, я догадываюсь, к чему вы ведете. У вас возник вопрос, согласуется ли наша работа с кантовским императивом». – «Ну, не совсем. Просто один из моих друзей, тоже интересующийся подобного рода проблемами, утверждает, что на войне, в силу исключительных обстоятельств, если хотите обусловленных опасностью, кантовский императив упраздняется: естественно, то, что желаешь сделать врагу, не желаешь, чтобы враг сделал тебе; и, выходит, наши поступки не могут являться базой для всеобщего закона. Но это только его мнение. Я, наоборот, чувствую, что он ошибается и в действительности верность долгу, в определенной степени, через подчинение высшим указаниям… диктует, что волю надо нацеливать на безупречное исполнение приказов. И относиться к ним позитивно. Но я еще не нашел веского, неотразимого аргумента, чтобы доказать другу его неправоту». – «Тем не менее, по-моему, это довольно просто. Все согласны, что в национал-социалистическом государстве последнее обоснование позитивного права – воля фюрера. Это отлично известный принцип Führerworte haben Gesetzeskraft, слово фюрера – закон. Конечно, мы признаем, что на практике фюрер не в состоянии заниматься всеми проблемами, и тогда другие должны действовать и издавать законы от его имени. По большому счету, идея распространяется на всю нацию. Именно поэтому доктор Франк в своем трактате о конституциональном праве развивает понятие „принцип фюрерства“: действуйте таким образом, чтобы фюрер, узнав о вашем поступке, одобрил бы его. Следовательно, между „принципом фюрерства“ и кантовским императивом нет противоречия». – «Улавливаю, улавливаю. Frei sein ist Knecht sein, „Быть свободным значит быть слугой“, как гласит старая немецкая пословица». – «Абсолютно точно. Эта установка применима к каждому члену Volksgemeinschaft, народного сообщества, расового общества. Мы должны проживать наш национал-социализм, воспринимать в нем нашу собственную волю как волю фюрера и, возвращаясь к терминологии Канта, как фундамент Volksrecht, народного права. Тот, кто повинуется приказам, словно автомат, не подвергая глубокому критическому анализу их внутреннюю необходимость, не работает в духе фюрера и чаще всего отдаляется от него. В сущности, источник конституционального права völkisch есть сам Volk, вне которого право неприменимо. Заблуждение вашего друга в том, что он апеллирует к совершенно мифическому наднациональному праву, нелепой выдумке Французской революции. Любое право должно иметь основу, которой исторически всегда являлась либо фикция, либо абстракция, Бог, король или народ. Наше огромное достижение в том, что мы под юридическое понятие нации подвели конкретную и незыблемую основу: Volk, коллективную волю которого выражает фюрер, его представитель. Когда вы произносите Frei sein ist Knecht sein, надо понимать, что именно фюрер и есть первый слуга, потому что он – образец чистого служения. Мы служим не фюреру, как таковому, а представителю Volk, мы служим Volk и должны ему служить, равняясь на фюрера, с полным самоотречением. Вот почему, сталкиваясь с мучительными задачами, следует покориться, смирить чувства и неукоснительно выполнять приказ». Эйхман слушал внимательно, вытянутая шея, неподвижные глаза за толстыми стеклами очков. «Да, да, – горячо подтвердил он, – я полностью разделяю вашу точку зрения. Наш долг, выполнение нами долга – наивысшее выражение человеческой свободы». – «Верно. Если наша воля – служить фюреру и народу, то по определению мы тоже являемся носителями принципов народного права, каким его видит фюрер или каким оно формируется благодаря воле фюрера». – «Простите, – вмешался кто-то из присутствующих, – а разве Кант – не антисемит?» – «Конечно, – ответил я. – Но его антисемитизм оставался абсолютно религиозным, что объясняется верой Канта в будущую жизнь. Подобного рода предрассудки мы давно преодолели». Одна из гостий помогала фрау Эйхман убирать со стола. Эйхман разлил шнапс и зажег сигарету. Через несколько минут все опять болтали. Я тоже пил и курил. Фрау Эйхман приготовила кофе. Потом Эйхман сделал мне знак: «Пойдемте со мной. Я хочу вам кое-что показать». Я прошел за ним в спальню. Он включил свет, указал мне на стул, пока я усаживался, открыл ящик бюро и достал оттуда довольно толстый альбом в переплете из зернистой черной кожи. Эйхман, с сияющим взором, протянул мне его и опустился на кровать. Я перелистывал страницы: целая коллекция рапортов, некоторые на бристольском картоне, другие – на обычной бумаге, и фотографии, все материалы сшиты в альбом, похожий на тот, что я сделал в Киеве после Grosse Aktion, масштабной акции. На титульном листе готическими буквами было выведено: ЕВРЕЙСКОГО КВАРТАЛА В ВАРШАВЕ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ! «Что это?» – спросил я. «Доклады бригадефюрера Штроопа о подавлении еврейского мятежа. Он презентовал альбом рейхсфюреру, а тот передал его мне для изучения». Эйхман светился от гордости. «Взгляните, просто удивительно». Я посмотрел фотографии: действительно, отдельные снимки впечатляли. Укрепленные бункеры, горящие дома, евреи, прыгающие с крыш, чтобы спастись от огня; затем квартал в руинах после боя. Ваффен-СС и полиция уничтожали очаги сопротивления с помощью артиллерии и с ближнего расстояния. «Это продолжалось почти месяц, – прошептал Эйхман, откусывая себе заусенец. – Месяц! Больше шести батальонов! Обратите внимание, в начале – список потерь». В списке на первой странице среди убитых числилось шестнадцать человек, среди них один полицейский поляк и множество раненых. «А какое оружие было у евреев?» – поинтересовался я. «К счастью, ничего особенного. Несколько пулеметов, гранаты, пистолеты и бутылки с зажигательной смесью». – «Откуда?» – «Без сомнения, от польских партизан. Евреи бились как звери, вы видели? А ведь их морили голодом три года. Ваффен-СС потрясены». Примерно такую же реакцию я наблюдал у Томаса, но Эйхман скорее был напуган, чем восхищен. «Бригадефюрер Штрооп утверждал, что даже женщины прятали под юбками гранаты, чтобы, сдаваясь в плен, взорваться с кем-нибудь из немцев». – «Это объяснимо. Они же знали, что их ждет. Квартал полностью очистили?» – «Да. Всех евреев, захваченных живыми, отправили в Треблинку. Лагерь, возглавляемый группенфюрером Глобочником». – «Без отбора». – «Разумеется! Опасность слишком велика! Еще раз убеждаюсь, как прав был обергруппенфюрер Гейдрих, сравнивавший это с эпидемией: последних всегда сложнее уничтожить. Слабых и старых косит сразу, а в конце остаются только молодые, сильные, хитрые. Тут много поводов для волнений, потому что они – уже продукт естественного отбора, наиболее выносливые в биологическом питомнике: если они выживут, то лет через пятьдесят все придется начинать заново. Я вам уже говорил, что варшавский мятеж нас очень встревожил. Его повторение может обернуться катастрофой. Нельзя давать им ни малейшего шанса. Вообразите подобное восстание в концлагере! Немыслимо!» – «Однако вы прекрасно понимаете, что нам требуются рабочие». – «Конечно, и не я принимаю решения. Я лишь хотел подчеркнуть риски. Трудовой вопрос, я уже вам сказал, не моя область, и потом, у каждого свое мнение. Ну, ладно: как часто приговаривает наш шеф, лес рубят, щепки летят. Больше мне нечего прибавить». Я вернул альбом: «Спасибо, что показали, очень любопытно». Мы вышли к гостям; некоторые уже прощались. Эйхман предложил мне еще стаканчик, потом я раскланялся, поблагодарил фрау Эйхман и поцеловал ей руку. В коридоре Эйхман дружески хлопнул меня по спине: «Позвольте сказать, штурмбанфюрер, вы отличный парень. Не из тех аристократов СД в лайковых перчатках. Вы – что надо». Эйхман, наверно, слегка перебрал, и его потянуло на сантименты. Я поблагодарил, пожал ему руку; он стоял на пороге, руки в карманах, улыбаясь уголком губ.
Если я так подробно рассказываю о встречах с Эйхманом, то вовсе не потому, что помню его лучше других. Просто этот маленький оберштурмбанфюрер со временем превратился в своего рода знаменитость, и я подумал, что мои воспоминания, отчасти проливающие свет на его личностные качества, могут представлять интерес для читателей. Об Эйхмане писали много глупостей. Он, конечно, не был врагом человечества, как провозгласили в Нюрнберге (поскольку Эйхман там не присутствовал, на него все и повесили, тем более что судьи почти не разбирались в функционировании наших служб); он отнюдь не являлся воплощением банального зла, безликим и бездушным роботом, каким его выставляли после процесса. Он был очень талантливым государственным чиновником, исключительно старательным и компетентным, довольно сообразительным, готовым проявить личную инициативу, но только в рамках установленных задач: на ответственном посту, где требовалось бы принимать решения, например на месте своего начальника Мюллера, он бы потерялся, но в качестве среднего звена составил бы гордость любого европейского предприятия. Я никогда не замечал, чтобы Эйхман испытывал особую ненависть к евреям: он просто выстроил на еврейском вопросе свою карьеру, это стало не только его специальностью, но и в некотором роде основой благосостояния, и позже, когда Эйхмана захотели лишить всего, он отчаянно сопротивлялся, что вполне понятно. Он мог бы заниматься и другими проблемами и, говоря судьям, что считал истребление евреев ошибкой, не врал; многие в РСХА и особенно в СД думали так же, я уже приводил тому доказательства. Но если уж взялся за дело, доведи его до конца, и здесь Эйхман проявлял большую сознательность; к тому же от успеха зависела его карьера. Он определенно не принадлежал к нравившемуся мне типу людей, его способность мыслить самостоятельно была ничтожна, и тот вечер по дороге домой я удивлялся собственной общительности и той легкости, с которой я погрузился в семейную сентиментальную атмосферу, обычно вызывавшую у меня отвращение. Возможно, мне тоже требовалось ощущать свою принадлежность к чему-то. Интерес Эйхмана был очевиден: я являлся для него потенциальным проводником в высшие сферы, куда он доступа не имел. И, несмотря на всю сердечность Эйхмана, я понимал, что для него и его департамента остаюсь чужим и, следовательно, могу представлять угрозу его полномочиям. Я чувствовал, что он хитростью и упорством преодолеет любое препятствие на пути к своей цели и что он не из тех, кого легко сломить. Я хорошо понимал его страхи по поводу концентрации евреев: но, на мой взгляд, в случае необходимости опасность можно было минимизировать, надо только раскинуть мозгами и принять адекватные меры. В тот момент я сохранял беспристрастность, не спешил с выводами и приберегал свои суждения до тех пор, пока не изучу вопрос полностью.
Императив Канта? Откровенно говоря, знал я о нем немного и наплел бедному Эйхману всякой чепухи. На Украине и на Кавказе вопросы такого порядка меня еще волновали, я тяжело воспринимал некоторые моменты и серьезно обсуждал их, как будто речь шла о жизненно важных проблемах. Но, похоже, это чувство утратилось. Когда, где? В Сталинграде? Или позже? В какой-то момент мне казалось, что я гибну, тону, захлебываясь в воспоминаниях, поднимающихся со дна моего прошлого. А потом, после глупой, необъяснимой смерти матери, тревоги исчезли, и теперь меня охватило полное равнодушие, но не удручающее, а безболезненное и спокойное. Меня занимала только работа, я чувствовал, что мне дали стимул, поставили задачи, требующие подключения всех моих способностей, и я надеялся добиться успеха – не ради повышения, оно меня не интересовало, а просто для того, чтобы получить удовлетворение от хорошо выполненного дела. Пребывая в таком вот расположении духа, я в сопровождении Пионтека поехал в Польшу, оставив фрейлейн Праксу в Берлине заниматься почтой, счетами и маникюром. Для командировки я выбрал очень подходящее время: вместо оберфюрера Шонгарта на пост командующего СП и СД генерал-губернаторства вступал мой бывший начальник на Кавказе Вальтер Биркамп; узнав новость от Брандта, я достал себе приглашение на торжественную церемонию. Она проходила в середине июня 1943 года в Кракове, во внутреннем дворе Вавеля, изумительного по архитектуре дворца, не утратившего красоты даже сейчас, когда его изящные высокие колонны занавесили флагами. Ганс Франк, в окружении сановников и почетного караула, с высокой трибуны, возведенной в глубине двора, произнес длинную речь; в коричневой форме СА и высокой, напоминавшей печную трубу фуражке-кепи, ремешок которой врезался в обвисшие щеки, выглядел он немного забавно. Как сейчас помню, меня поразила грубая прямота его речи, ведь аудитория собралась внушительная, не только представители СП и СД, но и ваффен-СС, чиновники генерал-губернаторства и офицеры вермахта. Франк поздравил Шонгарта, стоявшего навытяжку за его спиной, с успехами в реализации сложных аспектов национал-социализма. В архивах уцелела запись этого выступления, и даже небольшой отрывок передает общую тональность: на определенном этапе войны, когда на кон поставлена победа, когда мы смотрим в лицо вечности, возникает проблема чрезвычайной сложности. Каким образом, спрашивают нас часто, необходимость сотрудничать с чужой культурой может согласовываться с идеологической целью, скажем, уничтожить польскую народность, Volkstum? Как необходимость поддерживать промышленное производство сопоставима, например, с задачей ликвидации евреев? Вопросы правильные, но мне казалось удивительным, что высказывались они столь открыто. Позже один из чиновников генерал-губернаторства уверял меня, что Франк всегда так говорил, и в любом случае в Польше истребление евреев ни для кого не являлось секретом. Франк, до того, как лицо его не заплыло жиром, наверное, был красивым, его сильный голос звучал пронзительно, даже немного истерично; он постоянно вставал на цыпочки, опираясь на кафедру пузом и размахивая в воздухе рукой. Шонгарт, человек с высоким квадратным лбом, речь свою произносил неторопливо, педантично, затем настала очередь Биркампа, однако в его клятвах в верности национал-социализму я улавливал нотки лицемерия (безусловно, я просто не мог простить злую шутку, которую он сыграл со мной). На банкете, когда я подошел поздороваться, Биркамп сделал вид, что страшно рад нашей встрече: «Штурмбанфюрер Ауэ! Я слышал, что вы в Сталинграде вели себя героически. Примите мои поздравления! Я никогда в вас не сомневался». Улыбка исказила гримасой его физиономию, и без того напоминавшую мордочку выдры; хотя, вполне вероятно, что он действительно забыл свои последние слова в Ворошиловске, мало совместимые с моим нынешним положением. Биркамп задал мне пару вопросов о моих новых полномочиях и обещал поддержку со стороны его служб и рекомендательное письмо к подчиненным в Люблине, откуда я рассчитывал начать инспекцию. Потом между двумя рюмками он мне рассказал, как вел группу Д обратно через Белоруссию, как ее переименовали в боевую группу Биркампа, Kampfgruppe Bierkamp, и направили на борьбу с партизанами на север Припятских болот, группа активно участвовала и в крупных операциях по зачистке, например, в получившей название «Котбус» и завершившейся недавно в период его перевода в Польшу. Что касается Корсемана, – доверительно зашептал Биркамп, – он допустил осечку и скоро потеряет свой пост; ходили слухи, что его будут судить за трусость перед врагом, по меньшей мере, лишат звания и отправят на фронт. «Ему бы равняться на кого-нибудь типа вас. Заигрывание с вермахтом дорого ему обошлось». Это замечание вызвало у меня усмешку: для таких, как Биркамп, успех явно важнее всего. Сам-то он неплохо устроился, BdS – значимая должность, особенно в генерал-губернаторстве. Я решил не поминать прошлого. Ценно лишь настоящее, и если Биркамп мог помочь, тем лучше.
Я остался на несколько дней в Кракове, чтобы присутствовать на собраниях и насладиться красотой города. Посетил старый еврейский квартал Казимеж, занятый теперь истощенными, больными, чесоточными поляками, переселенными сюда в связи с германизацией «присоединенных территорий». Синагоги разрушать не стали: Франк, как утверждали, хотел сохранить материальные следы польского иудаизма в назидание будущим поколениям. Некоторые служили складами, другие закрыли; я обнаружил две самые древние возле улицы Шерока. Так называемая старая синагога XV века с длинной пристройкой для женщин, сооруженной в XVI или начале XVII века, служила вермахту хранилищем продуктов и запчастей. Стараниями итальянских архитекторов, творивших в Польше и Галиции, множество раз переделанный кирпичный фасад со слепыми окнами, арками из известняка и произвольно обтесанного песчаника приобрел почти венецианское очарование. Синагога Рему на другом конце площади, невысокое, тесное, прокопченное здание, с точки зрения архитектуры интереса не представляло; окружавшее его огромное еврейское кладбище, которое, конечно, любопытно было бы посетить, превратилось в заброшенный унылый пустырь, когда древние надгробные камни вывезли как строительный материал. Мой провожатый, молодой офицер из штаба гестапо, отлично знал историю польского иудаизма и показал мне место захоронения раввина Моисея Иссерлеса, знаменитого талмудиста. «Когда в Х веке князь Мешко начал насаждать в Польше католицизм, – объяснял мне офицер, – тут же появились евреи, чтобы торговать солью, зерном, мехами, вином. Они обогащали королей и получали привилегии за привилегиями. Народ в то время исповедовал язычество, был здоровым, неиспорченным, за исключением немногочисленных православных в восточных областях. И евреи помогли католичеству укорениться на польской земле, а в обмен католичество защищало евреев. Очень долгий период после обращения польского народа евреи занимали положение приближенных к власть имущим и всячески помогали панам пить кровь из крестьян, служили управляющими, ростовщиками и удерживали всю торговлю в своих руках. Вот почему польский антисемитизм так силен и непримирим: для поляков еврей всегда оставался эксплуататором, и, несмотря на глубокую ненависть к нам, они от всей души одобряют наше решение еврейской проблемы. Так же думают и партизаны Армии Крайовой, сплошь католики и святоши, и даже партизаны-коммунисты, хотя они, иногда против собственной воли, обязаны следовать линии Партии и Москвы». – «Но ведь Армия Крайова продала оружие варшавским евреям». – «Самое никудышное, в ничтожном количестве и по бешеным ценам. По нашей информации, они согласились на сделку, только получив прямой приказ из Лондона, где на их так называемое правительство в изгнании оказывают давление евреи». – «И сколько сейчас здесь осталось евреев?» – «Точную цифру не назову. Но, уверяю вас, до конца года мы ликвидируем все гетто. За пределами наших лагерей и нескольких партизанских отрядов евреев в Польше не останется. Тогда у нас появится время серьезно заняться польским вопросом. Поляки тоже должны подвергнуться серьезному демографическому сокращению». – «Полному?» – «Полному или нет, не знаю. Сейчас экономические службы думают и делают расчеты. Но сокращать необходимо, иначе нам тут грозит перенаселение, и этот регион так и не сможет развиваться и процветать».
Польше никогда не быть красивой страной, но некоторые ее пейзажи завораживают своей меланхоличностью. От Кракова до Люблина я доехал приблизительно за полдня. Тянувшиеся вдоль дороги бескрайние унылые картофельные поля, разрезанные оросительными каналами, чередовались с соснами и березами, росшими на голой, без подлеска и травы, земле, темными, немыми и словно непроницаемыми для чудесного июньского света. Пионтек вел машину уверенно, не меняя скорости. Этот молчаливый отец семейства оказался отличным компаньоном для путешествий: говорил, только когда к нему обращались, свои обязанности выполнял методично и спокойно. Каждое утро меня ждали надраенные до блеска сапоги и вычищенная и отглаженная форма; когда я выходил, «опель», отмытый от вчерашней пыли и грязи, стоял у крыльца. Завтракал и обедал Пионтек с аппетитом, пил мало и не нуждался в перекусах. Я сразу доверил ему нашу командировочную кассу, и он день изо дня скрупулезно, слюнявя кончик карандаша, заносил в тетрадь расходов каждый потраченный пфенниг. Выговор у него был грубый, акцент заметный, но речь правильная, к тому же он понимал по-польски. Родился Пионтек недалеко от Тарновиц; в 1919 году после раздела территорий он и его семья вдруг оказались гражданами Польши, но предпочли остаться, чтобы не потерять принадлежавший им кусок земли. Потом отца Пионтека убили во время мятежа, в смутные дни накануне войны, Пионтек утверждал, что произошел несчастный случай, и не обвинял своих бывших соседей-поляков, большинство которых изгнали или арестовали после присоединения этой части Верхней Силезии к Германии. Вновь ставшего гражданином Рейха Пионтека мобилизовали, он попал в полицию, а оттуда, сам не разобравшись каким образом, на службу в Личный штаб в Берлин. Жена, две дочери и мать-старуха по-прежнему жили на ферме, Пионтек навещал родных редко, но посылал им почти всю зарплату; они взамен отправляли ему что-нибудь вкусненькое для разнообразия, курицу, полгуся, – достаточно, чтобы угостить нескольких товарищей. Однажды я спросил Пионтека, скучает ли он по семье. Особенно по дочкам, – посетовал он. Жаль, не видит, как девочки растут, но он не жалуется и понимает, что ему повезло: это гораздо лучше, чем морозить задницу в России. «Не в обиду вам будь сказано, штурмбанфюрер».
В Люблине, как и в Кракове, я поселился в Немецком доме. К нашему приезду в баре уже царило оживление; комнату я зарезервировал заранее; Пионтек ночевал в общей солдатской спальне. Я взял наверх свой чемодан и попросил горячей воды помыться. Минут через двадцать в дверь постучали, ко мне вошла молодая служанка-полячка с двумя ведрами, от которых валил пар. Я показал ванную, куда их можно поставить. Девица не возвращалась, я решил посмотреть, что она делает: и обнаружил ее полуголую, раздетую до пояса. Я в оторопи глядел на ее раскрасневшиеся щеки, на маленькие, но красивые груди; уперев кулачки в бока, она уставилась на меня с бесстыдной улыбкой. «Что ты тут затеяла?» – сурово осек я. «Я… мыть… тебя…» – отвечала она на корявом немецком. Я взял с табуретки блузку, протянул ей: «Одевайся и вон». Без тени смущения она подчинилась. Такое со мной случилось впервые: известные мне Немецкие дома содержались строго; а здесь, по всей видимости, это было распространенной практикой, и я ни минуты не сомневался, что ограничиваться только ванной и мытьем совершенно необязательно. Девица исчезла, я снял одежду, ополоснулся, надел выходную форму (во время долгих переездов из-за дорожной пыли я носил серую полевую) и спустился. Бар и зал ресторана уже заполняла шумная толпа. Я вышел на задний двор покурить и наткнулся на Пионтека, наблюдавшего с сигаретой во рту за двумя подростками, драившими нашу машину. «Где ты их отыскал?» – поинтересовался я. «Это не я, штурмбанфюрер, а Дом. Начальник гаража жалуется, что вынужден платить полякам, типа вот этих, рейхсмарку в день. Евреи работали бы даром, но офицеры закатывали истерики, если еврей прикасался к их машине». Рейхсмарка – даже для Польши смешно. Ночь в Немецком доме, включая трехразовое питание, обходилась мне где-то в двенадцать рейхсмарок; кофе-мокко в Кракове стоил полторы марки. Мы еще немного поглазели на мальчишек, а потом я пригласил Пионтека поужинать. Мы еле протиснулись в толчее к свободному столику в углу. Люди пили и горланили так, словно получали удовольствие от собственного крика. Здесь были и эсэсовцы, и орпо, и солдаты вермахта; почти все в форме, в том числе и женщины, наверняка машинистки или секретари. Польские официантки с подносами, нагруженными пивом и блюдами, с трудом прокладывали себе дорогу. Еду подавали обильную: жаркое, нарезанное кусками, свеклу и картошку со специями. За ужином я рассматривал толпу. Многие заказывали только выпивку. Официанткам крупно доставалось: пьяные мужчины щупали их груди и задницы, а защищаться девицы не могли, руки были заняты. Возле стойки бара стояла группа служащих в форме с манжетными лентами СС «Тотенкопф», без сомнения, персонал концлагеря в Люблине, и с ними две женщины, по-видимому, Aufseherinnen, надзирательницы. Одна, с грубым мужским лицом, пила коньяк и много смеялась; в руке она держала кнут и хлопала им по голенищу сапога. В какой-то момент возле них задержалась официантка: надзирательница протянула кнут и медленно, под гогот своих товарищей, подняла ей сзади юбку до ягодиц. «Тебе нравится, Эрих! Хотя у нее, как у всех полячек, жопа жирная». Остальные ржали во всю глотку: надзирательница опустила юбку и хлестнула девицу, та вскрикнула и чудом не опрокинула кружки с пивом. «Ну, топай вперед, потаскуха! – заорала надзирательница. – От тебя воняет». Ее коллега тем временем хихикала и беспардонно липла к одному из младших офицеров. В глубине зала под низким сводчатым потолком офицеры орпо с воплями резались в бильярд; рядом с ними я заметил молодую служанку, приносившую мне горячую воду, она сидела на коленях инженера, который лапал ее, просунув руку под блузку, а девица хохотала и гладила его по лысому лбу. «Определенно в Люблине весело», – обратился я к Пионтеку. «Да, этим он и славится». После ужина я заказал коньяк и маленькую голландскую сигару; в баре их имелась целая коллекция. Пионтек пошел спать. Завели музыку, начались танцы; вторая надзирательница, явно в подпитии, держала своего кавалера за зад; лейтенант из военной администрации целовал грудь секретарши СС. Удушающая обстановка пошлости и разврата и дикий шум раздражали меня, портили удовольствие от путешествия, уничтожали радостное ощущение свободы, которое я испытывал днем, когда ехал по широким полупустым дорогам. От всей этой свистопляски спастись можно было только в туалете. Туалет оказался просторным, поразительно чистым, с белой плиткой до потолка, массивными дубовыми дверями, зеркалами, красивыми фарфоровыми раковинами и латунными кранами; кабины тоже белые, аккуратные, видимо, клозеты здесь чистили регулярно. Я спустил брюки и присел на корточки; завершив дела, поискал бумагу, но тщетно, и вдруг почувствовал, как что-то коснулось моей задницы, я отпрыгнул, развернулся, штаны комично болтались внизу, попытался нащупать боевое оружие: из дырки в стене высунулась человеческая рука и ждала, ладонью кверху. Кончики пальцев, дотронувшиеся до меня, были измазаны свежим дерьмом. «Прочь! – заорал я. – Прочь!» Рука медленно исчезла в дыре. Я нервно захохотал: гадость какая, они тут, в Люблине, с ума спятили! К счастью, в карманах кителя у меня всегда имелись газетные листки, важная мера предосторожности в путешествии. Я быстренько подтерся и вылетел пулей, не спустив за собой. Мне казалось, что я войду в зал, и все повернутся в мою сторону, но никто на меня даже не взглянул; люди пили, орали, грубо или истерично хохотали, разнузданные, как средневековый двор. Я в смятении облокотился о стойку бара и заказал еще рюмку; потягивал коньяк и с отвращением рассматривал жирного фельдфебеля из КЛ с надзирательницей и представил его – отвратительная фантазия – на корточках, с наслаждением разрешающего польской руке подтирать зад. Я задавался вопросом, пользовались ли женщины в туалете услугами подобного устройства: глядя на них, я бы сказал, что «да». Допив коньяк, я поднялся к себе; спал плохо из-за шума, но уж точно лучше, чем бедный Пионтек: чины орпо притащили в дортуар полячек и ночь напролет без всякого смущения копошились на соседних кроватях, менялись девками и подтрунивали над Пионтеком, потому что тот не хотел участвовать в оргии. «Наши расплачиваются с ними консервами», – коротко сообщил Пионтек за завтраком.
Из Кракова я уже по телефону назначил встречу с группенфюрером Глобочником, ССПФ дистрикта Люблин. В распоряжении у Глобочника имелись два служебных здания: одно – штаба ССПФ, другое на улице Перацкого, откуда он руководил «Операцией Рейнхардт» и куда меня пригласил. Глобочник обладал гораздо большей властью, чем ему полагалось по званию; его прямой начальник обергруппенфюрер Крюгер практически не имел права контролировать айнзатцгруппы, занимавшиеся всеми евреями генерал-губернаторства, то есть действовавшие далеко за пределами Люблина, и Глобочник подчинялся непосредственно рейхсфюреру. Кроме того, он выполнял важные функции в Рейхскомиссариате по укреплению германизации. Штаб айнзатцгрупп находился в бывшем медицинском институте, в охрово-желтом приземистом здании со скошенной крышей, характерной для этой области, где всегда ощущалось сильное немецкое влияние; я вошел внутрь через большую двойную дверь под полукруглой аркой, над которой еще сохранилась надпись COLLEGIUM ANATOMICUM [66]. Меня встретил ординарец и проводил к Глобочнику. Группенфюрер, затянутый в форму, которая казалась слишком тесной для его широченных плеч, рассеянно ответил на мое приветствие и помахал у меня пред носом командировочным удостоверением: «Итак, рейсфюрер подослал мне шпиона!» И расхохотался. Одило Глобочник родился в Каринтии, в Триесте, и, несомненно, имел хорватские корни; он был одним из старых бойцов австрийской НСДАП, после Аншлюса занимал пост гауляйтера Вены, но недолго, пока не влип в аферу с валютными спекуляциями. При Дольфусе сидел в тюрьме за убийство ювелира-еврея: официально Глобочника признавали жертвой Kampfzeit [67], но злые языки утверждали, что в его деле еврейские бриллианты сыграли бÓльшую роль, чем идеология. Он продолжал махать моей бумагой: «Признайтесь, штурмбанфюрер! Рейхсфюрер мне теперь не доверяет, да?» По-прежнему стоя навытяжку, я пытался оправдаться: «Группенфюрер, моя миссия…» Он опять разразился гомерическим хохотом: «Я шучу, штурмбанфюрер! Я лучше других знаю, что пользуюсь полным доверием рейсхфюрера. Он меня случайно не называл „старина Глобус“? Да что там рейхсфюрер! Фюрер лично приезжал поздравить меня с нашим великим делом. Садитесь. Да, это его собственное выражение „великое дело“. „Глобочник, – обратился ко мне фюрер, – вы – непризнанный герой Германии. Я хотел бы, чтобы все газеты напечатали ваше имя и рассказали о ваших подвигах! Через сто лет, когда мы сможем обо всем говорить открыто, дети в начальной школе будут изучать ваши свершения! Вы – доблестный воин, и я восхищаюсь тем, что вы, выполнив такие задачи, сумели остаться скромным и сдержанным“. А я в ответ, кстати, рейхсфюрер тоже присутствовал: „Мой фюрер, я исполнял свой долг“. Садитесь, садитесь». Я опустился в кресло, которое он мне указал; Глобочник развалился рядом со мной, хлопнул меня по ляжке, потом достал откуда-то сзади коробку сигар, предложил мне. Я отказался, но он настаивал: «Тогда возьмите с собой, пригодится». Закурил. Его круглое лицо сияло от удовольствия. В толстый, как сосиска, палец на руке, в которой он держал зажигалку, казалось, вросло массивное золотое кольцо СС. Он с наслаждением выпустил дым. «Если я правильно понял из письма рейхсфюрера, вы – один из тех зануд, намеревающихся спасти евреев под предлогом нехватки рабочей силы?» – «Вовсе нет, группенфюрер, – ответил я учтиво. – Рейхсфюрер поручил мне проанализировать проблемы организации труда заключенных в их совокупности и в свете перспектив будущего развития». – «Думаю, вам интересно осмотреть наше предприятие». – «Если вы имеете в виду газовые камеры, группенфюрер, меня это не касается. Я в большей степени занимаюсь вопросом селекции и практического использования Arbeitsjuden [68]. Я хотел бы начать с „Ости“ и „ДАВ“». – «„Ости“! Еще одно грандиозное изобретение Поля! Мы здесь зарабатываем миллионы для Рейха, а Поль размечтался, чтобы я тут, как еврей, всякое барахло собирал. „Восточная индустрия“ – не смешите меня! Навязывают мне очередную муру». – «Возможно, группенфюрер, но…» – «Никаких „но“! В любом случае евреи должны исчезнуть, все без исключения, будет „Ости“ или нет. Конечно, кое-кого придется оставить на то время, пока обучим поляков, которые их потом заменят. Поляки те еще суки, ну и пусть занимаются этим отребьем, если нашей Родине нужно. Если есть от этого хоть какая-то польза, я не против. В общем, посмотрите сами. Я вас перепоручаю своему помощнику штурмбанфюреру Хофле. Он вам объяснит, что к чему, и вы с ним обговорите дальнейшие планы». Глобочник встал и, не выпуская сигары из пальцев, пожал мне руку. «Разумеется, вам покажут все, что вы захотите. Если рейхсфюрер прислал именно вас, значит, вы умеете держать язык за зубами. Я здесь болтунов расстреливаю. Каждую неделю. Но на ваш счет не волнуюсь. Возникнут проблемы, обращайтесь ко мне. Прощайте».
Принимавший меня Хофле, заместитель руководителя операции «Рейнхардт», тоже австриец, но гораздо более уравновешенный, чем Глобочник, выглядел печальным и уставшим. «Ну, не слишком распекал? Не расстраивайтесь, он со всеми так». Он покусал губы и подвинул мне листок бумаги: «Я должен вас попросить расписаться вот здесь». Я пробежал глазами текст: подписка о неразглашении секретной информации, состоящая из множества пунктов. «Однако мне кажется, – заметил я, – что моя должность обязывает меня хранить тайну». – «Конечно, я понимаю. Но это правило, утвержденное группенфюрером. Все должны подписывать». Я пожал плечами: «Если ему угодно». Я расписался. Хофле спрятал листок в папку и скрестил руки на столе. «С чего желаете начать?» – «Не знаю. Объясните мне вашу систему». – «Это достаточно просто. Мы располагаем тремя структурами: двумя на реке Буг и одной на границе с Галицией, в Бельзеке, сейчас мы ее закрываем, потому что Галиция, за исключением трудовых лагерей, очищена от евреев. Треблинку, в основном обслуживавшую Варшаву, тоже скоро закроют. Но рейхсфюрер недавно отдал приказ трансформировать Собибор в концлагерь, что будет сделано к концу года». – «И что же, всех евреев свозили в эти три центра?» – «Нет, учитывая проблемы материально-технического обеспечения, оказалось невозможным и непрактичным эвакуировать все маленькие городки области. Поэтому группенфюрер получил несколько батальонов орпо, которые прямо на местах постепенно решали еврейский вопрос. Я вместе со штурмбанфюрером Виртсом, моим инспектором по лагерям, находящимся здесь с самого начала, руководил ежедневной работой айнзатцгруппы. Потом у нас еще в Травниках есть лагерь для обучения хиви, украинцев и, прежде всего, латышей, которых очень много». – «Помимо них ваш персонал состоит из СС?» – «Нет, конечно. Сто человек из примерно четырехсот пятидесяти, без учета хиви, попали к нам из канцелярии фюрера. Оттуда почти все начальники лагерей. Тактически они под контролем айнзатцштаба, но административно подчиняются канцелярии. Именно они решают все, что касается зарплат, отпусков, продвижения по службе и прочего. Тут, видимо, речь, об особом соглашении между рейхсфюрером и рейхсляйтером Боулером. Некоторые из этих людей даже не являются членами Альгемайне СС или Партии. Но все они бывшие сотрудники центров эвтаназии Рейха; поскольку большинство центров закрыли, часть персонала во главе с Виртсом перевели сюда, чтобы айнзатцштаб мог воспользоваться их опытом». – «Понимаю. А „Ости“?» – «„Ости“ – относительно новое образование, результат партнерства группенфюрера и ВФХА. С начала операции „Рейнхардт“ мы организовали центры по распределению конфискованного имущества. Постепенно они превратились в разного рода небольшие предприятия для военных нужд. „Восточная индустрия“ – корпорация с ограниченной ответственностью – создана в ноябре прошлого года в целях объединения и рационализации всех этих малых предприятий. Совет администрации поставил во главе „Ости“ доктора Хорна, члена правления ВФХА, и группенфюрера. Хорн – дотошный бюрократ, но, думаю, очень толковый». – «А концлагерь?» Хофле отмахнулся: «КЛ не имеет к нам никакого отношения. Обычный лагерь ВФХА; естественно, группенфюрер, как начальник СС и полиции, несет за него ответственность, но КЛ совершенно изолирован от айнзатцгрупп. Они еще занимаются предприятиями, в первую очередь фабрикой ДАВ, но здесь ситуацию контролируют эксперты-экономисты из ССПФ. Конечно, мы тесно сотрудничаем. Мы отдали им часть наших евреев, кого для работ, кого для Sonderbehandlung, „особого отношения“, для которого они у себя на месте недавно подготовили необходимые устройства, поскольку мы слишком загружены. Еще имеются военные заводы вермахта, куда мы тоже поставляем евреев; это область полномочий Инспекции генерал-губернаторства по вооружению, которую в Кракове возглавляет генерал-лейтенант Шиндлер. И наконец, общая гражданская экономическая сеть, контролируемая новым губернатором дистрикта, группенфюрером Вендлером. Вы, наверное, можете с ним встретиться, но будьте осторожны, они с Глобочником не очень ладят». – «Местная экономика меня не волнует; мне интересны способы задействования заключенных в общем производстве». – «Я, кажется, понял. Тогда вам к Хорну. Он слегка витает в облаках, но вам наверняка удастся что-нибудь из него вытащить».
Хорн мне показался нервным, возбужденным, полным энтузиазма и одновременно разочарованным. Он был бухгалтером, получил образование в политехническом университете Штутгарта, в начале войны его призвали в ваффен-СС, но, вместо того чтобы отправить на фронт, распределили в ВФХА. Поль взял его в команду по созданию и развитию «Ости», филиала Объединения немецких экономических предприятий с ограниченной ответственностью, головной организации, основанной ВФХА для объединения малых предприятий СС. Хорн проявлял усердие, но рядом с таким человеком, как Глобочник, не имел права голоса и осознавал это. «Когда я приехал, тут царил хаос… невообразимый, – докладывал он мне. – Всего хватало: фабрика корзин и столярные мастерские в Радоме, завод по производству щеток здесь, в Люблине, и еще стеклодувная фабрика. Уже на первых этапах группенфюрер настоял, чтобы мы сохранили трудовой лагерь для его личных нужд, самоснабжения, как он выразился. Мне что – в любом случае дел было очень много. Управление структурами оставляло желать лучшего. Бухгалтерский учет велся небрежно. Производство стремилось к нулю. И это совершенно понятно, принимая во внимание состояние рабочей силы. Я приступил к работе: но они тут все сделали, чтобы осложнить мое существование. Я обучаю специалистов, у меня их забирают, и они исчезают неизвестно куда. Я хлопочу об улучшении рациона для рабочих, мне отвечают, что евреям добавка не положена. Я прошу, чтобы их хотя бы не били понапрасну, мне намекают, чтобы я не вмешивался в то, что меня не касается. Как прикажете нормально работать в подобных условиях?» Я понял, почему Хофле не особо жалует Хорна: нытьем вряд ли чего добьешься. Впрочем, Хорн отлично проанализировал суть дилеммы: «Проблема в том, что меня не поддерживает ВФХА. Я посылаю обергруппенфюреру Полю рапорт за рапортом и постоянно задаю ему вопрос: какой фактор имеет приоритет? Политико-полицейский? Тогда да, концентрация евреев – наша главная цель, и экономические факторы отходят на второй план. Или экономический фактор? В этом случае надо рационализировать производство, сделать систему организации лагерей более гибкой, чтобы по мере необходимости выполнять разнообразные заказы и, прежде всего, обеспечить рабочим прожиточный минимум продуктов. А обергруппенфюрер Поль мне отвечает: оба. Я готов волосы на себе рвать». – «Вы полагаете, что если выделили средства, то можно было бы создать современные и прибыльные предприятия, базирующиеся на принудительном труде евреев?» – «Разумеется. Евреи, тут не поспоришь, люди неполноценные, и их методы работы абсолютно архаичны. Я изучил организацию труда в гетто Литцманштадта; это – катастрофа. Наблюдение за процессом, от выдачи материалов до получения окончательного продукта, полностью осуществляется евреями. Естественно, нет никакого контроля качества. А под надзором арийских специалистов и при рациональном, современном разделении труда и его организации можно достичь очень хороших результатов. Надо просто принять соответствующее решение. Но здесь мне только чинят препятствия, и я вижу, что помощи ждать не от кого».
Он явно искал поддержки. Провел меня по своим предприятиям, не скрывал, что питание заключенных, находящихся под его ответственностью, недостаточное и условия содержания – антисанитарные, но также показал и результаты, которых ему удалось добиться: улучшение качества и увеличение количества продукции, предназначавшейся в основном для вермахта. Должен признать, что аргументы Хорна выглядели вполне убедительно: способ повысить производительность труда согласно требованиям военного времени, казалось, найден. Хорна, естественно, не проинформировали об операции «Рейнхардт», по крайней мере, о ее масштабе, и я поостерегся ему об этом говорить; потому и сложно было объяснить Хорну причины неуступчивости Глобочника, который явно не мог увязать ходатайства Хорна с тем, что считал своей основной миссией. Однако в главном Хорн оставался прав: если отбирать самых сильных и образованных евреев, концентрировать и содержать их должным образом, то, безусловно, можно внести ощутимый вклад в экономику войны.
Я посетил концлагерь. Он располагался вдоль неровного склона холма, сразу за городом, западнее шоссе на Замостье. Огромное предприятие с длинными рядами деревянных бараков, тянувшихся от одного конца территории до другого, обнесли колючей проволокой и окружили сторожевыми вышками. Комендатура находилась за пределами лагеря, возле дороги у подножия холма. Меня принял Флорштедт, комендант, штурмбанфюрер с неестественно узким и продолговатым лицом, он с явным подозрением проверил мое командировочное удостоверение: «Здесь не уточнено, что вы имеете доступ на территорию лагеря». – «Мои полномочия дают мне право посещать все структуры, контролируемые ВФХА. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с группенфюрером, он подтвердит». Флорштедт продолжал листать мои бумаги. «Что вы хотите осмотреть?» – «Все», – любезно улыбнувшись, ответил я. В итоге он дал мне в провожатые унтерштурмфюрера. Я впервые был в концентрационном лагере и попросил показать мне все. Заключенные попадались самых разных национальностей: русские, конечно, поляки и евреи, а также немецкие политические и уголовные преступники, французы, голландцы и еще незнамо кто. Бараки, бывшие полевые конюшни вермахта, перестроенные архитекторами СС, черные, провонявшие, набивали до отказа; заключенные, по большей части в лохмотьях, теснились там по трое-четверо на каждом уровне многоярусных нар. Я обсуждал санитарные и гигиенические проблемы с главным врачом лагеря: именно он, правда, в присутствии унтерштурмфюрера, продемонстрировал мне барак «Баня и дезинфекция», где по одной стороне вновь прибывших гнали под душ, а по противоположной – неработоспособных в газовую камеру. «До весны, – заявил унтерштурмфюрер, – мы только „пыль сметали“. Но с тех пор, как айнзатцгруппы передали нам часть своих обязанностей, мы жутко заняты». Лагерь не знал, что делать с трупами, и заказал крематорий, оснащенный пятью муфельными печами производства «Кори», специализированной берлинской фирмы. «Они борются за рынок с эрфуртской „Топф унд Зёне“, – объяснил он. – В Аушвице сотрудничают с „Топф“, но для нас условия „Кори“ более приемлемы». Любопытно, что в газовых камерах лагеря использовали не окись углерода, как мы в фургонах в России или, как я читал, в стационарах операции «Рейнхардт». Здесь применялась гидроцианистая кислота в форме пластинок, которые при контакте с воздухом выделяли газ. «Гораздо эффективнее, чем окись углерода, – констатировал главврач. – Быстро, пациенты мучаются меньше, и никогда нет осечек». – «Откуда вещество?» – «Это, собственно, промышленное дезинфицирующее средство для окуривания помещений, против вшей и прочих паразитов. По-моему, именно в Аушвице догадались попробовать ее для „особого отношения“. Опыт оправдал себя». Я проинспектировал кухню и продовольственные склады; вопреки уверениям эсэсовских командиров и даже самих заключенных служащих, разливавших суп, я нашел рацион недостаточным, что, впрочем, намеками подтвердил главврач. Я приезжал в лагерь несколько дней подряд и изучал документы: каждый заключенный, кроме больных, имел индивидуальную карточку и был прикреплен к трудовой команде. Некоторые команды оставались в лагере для внутренних нужд, другие работали за его пределами, наиболее значимые жили прямо на производстве, например на заводах ДАВ, в Гмине Липовой. На бумаге вся система выглядела солидно, но фактические потери были огромны, и те, кто критиковал Хорна, помогли мне понять, что большинство заключенных, истощенных, грязных, подвергающихся избиениям, не в состоянии работать регулярно и продуктивно.
Я провел много недель в Люблине и познакомился с его окрестностями. Съездил в Гиммлерштад, бывший Замостье, удивительный город, жемчужину Ренессанса, отстроенный ex nihilo [69] в конце XVI века польским канцлером, видимо страдавшим манией величия. Город процветал благодаря выгодному месторасположению на перекрестье торговых путей между Люблином и Лембергом, Краковом и Киевом. Теперь он стал ядром самого грандиозного проекта РКФ (организации СС, с 1939 года занимавшейся репатриацией фольксдойче из СССР и проводившей германизацию Востока) по созданию защитной германской зоны на подступах к славянским регионам, перед Восточной Галицией и Волынщиной. Подробности я обсуждал с уполномоченным Глобочника, членом РКФ, в его кабинете в ратуше, высокой барочной башне, стоявшей на квадратной площади. На второй этаж вела роскошная двойная лестница. С ноября по март, объяснил он мне, отсюда в результате «Акции Заукель» вывезли сто тысяч человек: работоспособных поляков на немецкие заводы, других в Аушвиц, а всех евреев в Бельзек. РКФ хотела заменить их фольксдойче. Однако, несмотря на заманчивые обещания и природные богатства региона, не сумела привлечь достаточное количество поселенцев. Когда я спросил, не удручают ли его наши неудачи на Востоке (наша беседа состоялась где-то в начале июля, когда под Курском разворачивалось крупное сражение), этот добросовестный чиновник взглянул на меня с удивлением и заверил, что даже у фольксдойче нет пораженческих настроений и что очень скоро наше блистательное наступление исправит ситуацию и поставит Сталина на колени. Тем не менее о местной экономике он говорил без оптимизма: регион полностью зависел от финансовых вливаний и продовольственных поставок РКФ, и, несмотря на все дотации, до самообеспечения было далеко. Большинство поселенцев, даже те, которые получили фермы со всем необходимым, не могли прокормить семьи; а тем, кто решил создавать малые предприятия, требовались годы, чтобы держаться на плаву самостоятельно. После этой встречи Пионтек повез меня на юг от Гиммлерштадта. Действительно очень красивая область с невысокими холмами, поросшими мягкой травой, заливными лугами, рощицами и фруктовыми садами больше напоминала Галицию с ее широко раскинувшимися плодородными полями под ровным бледно-голубым небом с маленькими клубками белых облаков, нежели Польшу. Из любопытства я проехал до Бельзека, одного из последних городов перед границей дистрикта. Я остановился у вокзала, где царило некоторое оживление: по главной улице раскатывали машины и повозки, офицеры разных родов войск и поселенцы в поношенных костюмах ждали поезда, на обочине дороги фермеры, похожие больше на румын, чем на немцев, сидя на перевернутых ящиках, торговали яблоками. За путями стояли домики из кирпича, что-то вроде небольшой фабрики, а дальше прямо за ними, в ста метрах над березовым леском, поднимался густой черный дым. Я предъявил документы караульному, младшему офицеру СС, и спросил, где находится лагерь, тот показал в сторону леса. Я снова сел в машину и проехал еще примерно триста метров по шоссе, шедшему параллельно железной дороге, в направлении Равы Руской и Лемберга; лагерь, окруженный сосняком и березами, лежал по другую сторону рельс. Чтобы скрыть от глаз внутреннюю территорию, в заграждение из колючей проволоки воткнули ветки деревьев; но часть маскировки уже растащили, и через образовавшиеся дыры можно было увидеть группы заключенных, снующих туда-сюда, как муравьи. Они разбирали бараки и кое-где удаляли саму проволоку, а дым валил из зоны, спрятанной в глубине лагеря немного на возвышенности. Хотя ветра не было, в воздухе распространялась сладковатая тошнотворная вонь, проникавшая даже в машину. Из того, что мне рассказали и показали, я сделал вывод, что операцию «Рейнхардт» лагеря проводили в необитаемых и труднодоступных районах; однако этот располагался вблизи городка, кишевшего немецкими переселенцами с семьями. И основной железнодорожный путь, связывающий Галицию с остальным генерал-губернаторством, которым ежедневно пользовалось и гражданское население, и военные, проходил непосредственно вдоль колючей проволоки, сквозь ужасный запах и дым. И все эти люди, коммерсанты, простые пассажиры, передвигающиеся то в одном направлении, то в другом, разговаривали, отпускали комментарии, писали письма, обменивались сплетнями или шутками.
Тем не менее, несмотря на запреты, обещания о неразглашении тайны и угрозы Глобочника, люди из айнзатцгрупп болтали лишнее. Достаточно было носить форму СС, посетить бар Немецкого дома и оплатить при случае выпивку, чтобы получить исчерпывающую информацию. Заметное уныние, усугубляемое новостями с фронта, которые легко расшифровывались в излучающих оптимизм официальных сводках, еще больше развязывало языки. Из громогласного заявления, что на Сицилии доблестные союзники итальянцы, при содействии наших сил, непоколебимо удерживают позиции, все понимали: противника не смогли оттеснить к морю, и теперь в Европе открыт второй фронт. Тревога по поводу Курска нарастала день ото дня, потому что вермахт, после первых побед, хранил упорное непривычное молчание, и когда наконец заговорили о запланированном проведении подвижной обороны в окрестностях Орла, даже самые тупые все поняли. Подобное развитие событий многих заставляло задуматься. Среди крикунов, ораторствующих по вечерам в баре, нетрудно было отыскать пившего в одиночестве человека и вступить с ним в беседу. Именно таким образом я однажды разговорился с мужчиной в форме унтерштурмфюрера, облокотившимся на стойку бара перед кружкой пива. Дёллю, так его звали, видимо, льстило, что офицер высшего звена запросто общается с ним; кстати, он был старше меня на добрых десять лет. Дёлль указал на мой «Орден мороженого мяса» и спросил, где я провел прошлую зиму, а узнав, что в Харькове, совершенно расслабился. «И я там же, между Харьковом и Курском. Специальные операции». – «Вы случайно не из айнзатцгруппы?» – «Нет, немного другое. Я вообще-то не из СС». Он оказался одним из тех пресловутых служащих канцелярии фюрера. «Между собой мы говорили Т-4. Так называлась акция». – «И что же вы делали под Харьковом?» – «Знаете, я служил в Зонненштайне, одном из центров для больных, где…» Я кивнул, дав ему понять, что понимаю, о чем речь, и он продолжил. «Летом сорок первого центр закрыли. Часть из нас отобрали как специалистов и отправили в Россию. Целая делегация собралась во главе с самим обердиенстляйтером Браком, много народу, все врачи больницы, и вот мы проводили специальные операции. В грузовиках с газом. У нас у всех в расчетных книжках имелся красный листок, подписанный ОКВ, особое приложение, запрещающее посылать нас на линию фронта: боялись, что мы попадем к русским в лапы». – «Я что-то не могу в толк взять: специальные меры в этом районе, все операции СП проводились под ответственностью моей команды. Вы утверждаете, что у вас имелись грузовики с газом, но как же вы могли выполнять те же задачи, что мы, и никто об этом не знал?» Его лицо приняло злобное, почти циничное выражение: «У нас были другие задачи. Евреев или большевиков мы там не трогали». – «Тогда кого?» Он колебался, длинными глотками выпил пиво, потом тыльной стороной ладони вытер пену с губ. «Мы занимались ранеными». – «Русскими?» – «Вы не поняли. Нашими ранеными. Тех, кто был слишком изувечен, чтобы вести полезную для общества жизнь, присылали к нам». Я понял, и Дёлль улыбнулся: эффект он произвел. Я повернулся к бару и заказал еще пива. «Вы говорите о немецких раненых?» – спросил я тихо. «Именно. Настоящее свинство! Парни, такие же, как вы и я, которые все отдали за Родину, и тут на тебе! Вот и благодарность. Признаюсь вам, что я радовался, когда меня перевели сюда. Здесь тоже не слишком весело, но, по крайней мере, не то, что было». Нам принесли кружки. Дёлль принялся рассказывать о своей юности: закончил техническое училище, хотел стать фермером, но из-за кризиса пошел в полицейские: «Дети есть просили, а полиция – единственная возможность ставить им каждый день тарелку супа на стол». В конце 1939 года его распределили в Зонненштайн для «Акции эвтаназия». Почему выбор пал именно на него, неизвестно. «С одн ой стороны, ничего приятного. Но с другой – я избежал фронта, с денежным довольствием – порядок, жена рада. Короче, я не возражал». – «А Собибор?» Дёлль уже успел сообщить, что сейчас работает там. Он пожал плечами: «Собибор? Как везде, привыкаешь». Потом сделал странное движение, очень меня поразившее: растер пол носком сапога, будто кого-то раздавил. «Маленькие мужчины и маленькие женщины, вечно одно и то же. Как будто давишь тараканов».
После войны много говорили о бесчеловечности, пытаясь объяснить, что произошло. Но бесчеловечности, уж простите меня, не существует. Есть только человеческое и еще раз человеческое: и Дёлль тому прекрасный пример. Кто такой Дёлль, как не образцовый отец семейства, которому надо кормить детей и который подчиняется своему правительству, даже если в глубине души совершенно с ним не согласен? Если бы он родился во Франции или Америке, его назвали бы столпом общества и патриотом, но он родился в Германии и поэтому – преступник. Необходимость, еще греки знали, не только слепая, но и жестокая богиня. Я не говорю, что в тот период преступники перевелись. Наоборот, я пытался показать, что весь Люблин погряз во лжи, коррупции и бесчинствах; операция «Рейнхардт», да и колонизация, и освоение изолированного региона, многих лишили разума. Давно, еще после замечаний моего друга Фосса, я задумался над разницей между немецким колониализмом, насаждавшимся в те годы на Востоке, и колониализмом британцев и французов, гораздо более цивилизованным. Фосс подчеркивал, что существуют объективные факты: потеряв колонии в 1919 году, Германии пришлось отозвать своих служащих и закрыть представительства колониальной администрации; образовательные учреждения из принципа оставили, но они не пользовались спросом из-за отсутствия перспективы получить работу; через двадцать лет все навыки были утрачены. И вот теперь национал-социализм дал импульс целому поколению, брызжущему идеями и жадному до новых экспериментов, которые относительно колонизации, пожалуй, не уступали прежним. Что касается эксцессов, то в Немецком доме я стал свидетелем отвратительных извращений, а если брать ситуацию в общем, вопиющей неспособности наших административных структур правильно обращаться с колонизованными народами. А ведь часть из них служила бы нам добровольно, если бы мы сумели дать им какие-нибудь привилегии. Но не надо забывать, что наш колониализм, даже африканский, – явление молодое, и другие вначале едва ли действовали правильнее. Достаточно вспомнить многочисленные злодеяния бельгийцев в Конго, их политику систематического массового уничтожения или, лучше, американскую политику, предтечу и модель нашей, когда жизненное пространство создавалось путем убийств и насильственных переселений. Америка – об этом стараются не вспоминать – вовсе не была «девственной землей», но американцам удалось то, что у нас не получилось, вот и вся разница. Даже англичанам, всегда вызывавшим восхищение Фосса, англичанам, которых так часто ставят в пример, нужно было потрясение 1858 года, чтобы озаботиться развитием механизмов контроля, кстати довольно изощренных. И вот постепенно они научились виртуозно чередовать кнут и пряник, и не нужно игнорировать факт, что именно кнутом они не пренебрегали, это подтверждается и убийствами в Амрисаре, и бомбардировкой Кабула, и другими случаями, бесчисленными и теперь словно вычеркнутыми из памяти.
Я, кажется, сильно отвлекся от начальных размышлений. Я хотел сказать, что если человек, как бы ни старались изобразить его поэты и философы, по природе своей не хорош, то уж точно и не плох. Добро и зло – категории, которые помогают оценить результат воздействия одного человека на другого, но они совершенно непригодны и даже неприемлемы, чтобы делать выводы о происходящем в человеческой душе. Дёлль убивал или приказывал убивать, это – Зло; но ведь по сути своей это человек добрый по отношению к своей семье, равнодушный к остальным и, что немаловажно, уважающий закон. Чего еще требовать от населения наших цивилизованных демократических городов? А сколько филантропов по всему миру, известных своей необычайной щедростью, наоборот, являются эгоистичными бессердечными монстрами, жадными до публичной славы, преисполненными тщеславия и тиранящими близких? Любой из нас стремится удовлетворить свои потребности, а на нужды других ему плевать. И чтобы люди могли жить вместе, чтобы избежать установки Гоббса: «все против всех», а наоборот, благодаря взаимной поддержке и, как следствие, росту производства воплощать максимальное количество желаний, нужны регулирующие инстанции, обуздывающие эти желания и разрешающие конфликты: закон и есть этот механизм. Еще надо, чтобы люди эгоистичные и безучастные принимали легитимные ограничения, а сам закон должен апеллировать к внешней инстанции, базироваться на власти, которую человек признает выше себя самого. Как я раньше за ужином говорил Эйхману, верховной воображаемой референцией долгое время была идея Бога, с идеи невидимого и всемогущего Бога ее перенесли на физическое лицо, короля, правителя Божьей милостью. Затем, когда король лишился головы, верховная власть перешла народу, нации, и утвердилась на фиктивном, без исторической или биологической основы, «контракте», таком же абстрактном, как идея Бога. Немецкий национал-социализм решил укоренить историческую реальность в нации: нация суверенна, и фюрер выражает, представляет и воплощает этот суверенитет. Из этого суверенитета вытекает Закон, а для большинства граждан самых разных стран мораль есть не что иное, как закон: в этом смысле нравственный кантианский закон, так занимавший Эйхмана, обусловленный разумом и одинаковый для всех людей, – фикция, как и прочие законы, но, наверное, фикция полезная. Библейская заповедь гласит: не убий – и исключений не предусматривает, но любой еврей или христианин согласится, что на войне она относительна, надо убивать врагов своего народа, и греха тут никакого нет; война закончена, оружие сложено, все снова идет мирным путем согласно прежнему закону, словно нарушений и не допускалось. Таким образом, для немца быть хорошим немцем означает подчиняться законам и, следовательно, фюреру – другой морали не существует, потому что нет ничего, на чем она может строиться. Вовсе неслучайно, что малочисленные противники власти по большей части религиозны: они сохранили иной нравственный ориентир, в разграничении Добра и Зла фюрер для них не мерило, они опираются на Бога, чтобы предавать свою страну и вождя. Без Бога этого не осилить, потому что где же тогда черпать оправдание? Как человек может по своему усмотрению выносить вердикты и говорить, что это здесь хорошо, а это там плохо? Что за светопреставление, что за хаос будет, если каждому вздумается так себя вести: если каждый человек станет жить по собственному закону, каким бы кантианским он ни был, – и вот мы опять возвращаемся к Гоббсу. Если оценивать действия немцев во время войны как преступные, то претензии надо предъявлять всей Германии, а не только Дёллю. Если Дёлль оказался в Собиборе, а его сосед нет, это случай, и Дёлль не более виновен, чем его удачливый сосед; сосед тоже несет ответственность, ведь они оба верой и правдой служили стране, создавшей Собибор. Солдат не протестует, когда его посылают на фронт, а ведь он не только рискует жизнью, он вынужден убивать, даже если не хочет; его желание в расчет не берется; пока солдат остается на посту, он – человек добродетельный, если бежит, то уже дезертир и предатель. Человек, которого определили в концентрационный лагерь, или айнзатцкоманду, или полицейский батальон, в общем, именно так и рассуждает: он знает, что его воля не учитывается, и лишь случай делает из него убийцу, а не героя или мертвеца. И тогда правильнее бы судить обо всех этих вещах не с иудео-христианской точки зрения (или светской и демократической, которая в итоге сводится к тому же), а с греческой. Греки отводили случаю важное место в делах человеческих (кстати, под случаем часто маскировалось вмешательство богов), но далеки были от мысли, что случай снимает с них ответственность. Преступление соотносилось с действием, а не с волей. Эдип, убивая человека, не подозревает, что совершает отцеубийство; убить на дороге оскорбившего вас чужака для греческого сознания и права законно, вины тут нет; но оказалось, что убитый – Лай, и неведение ничего не меняет в преступлении. Эдипу это известно, и когда открывается правда, он сам выбирает и налагает на себя наказание. Связь между волей и преступлением – христианское понятие, укоренившееся в современной юриспруденции. Например, уголовный кодекс трактует непреднамеренное отцеубийство как менее тяжкое, в сравнении с умышленным; то же самое касается юридических статей, смягчающих вину, если речь идет о сумасшествии; и XIX век окончательно соединяет понятие преступления с душевной болезнью. Для греков неважно, убивает ли Геракл детей в помрачении рассудка или Эдип убивает отца по недоразумению: это все равно преступление, и они виноваты; можно их пожалеть, но нельзя оправдать – тем более что чаще карают боги, а не люди. С этой позиции принцип послевоенных процессов, судивших людей по конкретным поступкам и не принимавший в расчет случай, справедлив, но применялся он неумело. Судимые иностранцами, чьи ценности они отвергали (впрочем, полностью признавая права победителей), немцы могли чувствовать себя свободными от груза ответственности и, значит, невиновными. То есть избежавший суда относится к тому, кого осудили, как к жертве злополучных обстоятельств и оправдывает его, немедленно оправдывая и самого себя; и тот, кто гниет в английских тюрьмах или в русском ГУЛАГе, поступает так же. А как может быть по-другому? Как у обычного человека в голове уложится, что считавшееся справедливым сегодня – завтра уже преступление? Людям надо, чтобы их вели, тут нет их вины. Да, вопросы сложные, и простых ответов на них не найти. Закон – кто знает, где его найти? Искать должен каждый, но это трудно, а потому совершенно нормально подчиняться общественному мнению. Все же подряд не могут быть законодателями. Именно встреча с одним судьей и натолкнула меня на подобные размышления.
У тех, кому не нравились попойки в Немецком доме, возможностей развлечься в Люблине было мало. В досужие часы я посетил Старый город и замок; по вечерам я заказывал еду в комнату и читал. «Фестгабе» Беста и книжка о ритуальных убийствах пылились на полке в Берлине, но у меня был с собой сборник Мориса Бланшо, купленный в Париже, и после дня, проведенного в тягостных, изнурительных разговорах, я с восторгом погружался в другой мир, сотканный из света и мысли. Но мелкие инциденты постоянно нарушали мой покой; в этом Немецком доме иначе и быть не могло. Как-то вечером я, взвинченный и слишком рассеянный, чтобы читать, спустился в бар выпить шнапса и поболтать (теперь я уже познакомился с большинством постояльцев). Возвращаясь к себе, я в темноте ошибся комнатой. Дверь была открыта, и я вошел. На кровати двое мужчин вместе обхаживали девицу, один лежал на спине, другой – на коленях, девица, на четвереньках, между ними. Я не сразу понял, что творится, и когда, наконец, словно во сне, вырисовалась ясная картинка, я, пробормотав извинения, поспешил ретироваться. Но человек, стоявший на коленях, голый, но почему-то в сапогах, отполз назад и встал. Держа в руке и легонько потирая свой возбужденный член, он жестом пригласил меня занять его место, у задницы девки, где, как в отверстии раковины, между белыми шарами подрагивал окаймленный розовым анус. У второго человека я разглядел только волосатые ноги, яички и член исчезли в мохнатой вагине. Девица томно стонала. Я молча улыбнулся, покачал головой и вышел, тихонько прикрыв за собою дверь. После этого мне еще меньше хотелось покидать свою комнату. Но когда Хофле позвал меня на пикник, который устраивал Глобочник в честь дня рождения коменданта гарнизона дистрикта, я согласился без колебаний. Мероприятие проводилось в Юлиус-Шрек-Казерне, штаб-квартире СС. За массивным старым зданием тянулся довольно красивый парк с ярко-зелеными газонами, высокими деревьями на заднем плане и цветочными клумбами по бокам; вдалеке виднелось несколько домов, за ними поля и пашни. Длинные деревянные столешницы водрузили на подпорки, приглашенные пили группками на траве; возле деревьев, над вырытыми для этого случая ямами с открытым огнем под неусыпным бдением солдат жарились на вертеле целый олень и две свиньи. Фельдфебель встретил меня у ворот и отвел прямо к Глобочнику, стоявшему со своим почетным гостем, генерал-лейтенантом Мозером, и чиновниками в штатском. Время только приближалось к полудню, а Глобочник уже пил коньяк и курил толстую сигару, красное лицо над глухо застегнутым воротничком лоснилось от пота. Я щелкнул каблуками, отсалютовал, после чего Глобочник пожал мне руку и представил остальным; я поздравил генерала с днем рождения. «Ну, штурмбанфюрер, – бросил мне Глобочник, – ваше расследование продвигается? Что нашли?» – «Еще рано делать выводы, группенфюрер. И потом речь о технических проблемах. А что до эксплуатации рабочей силы, уверен, мы могли бы кое-что улучшить». – «Нет предела совершенству! Впрочем, для истинного национал-социалиста существует лишь движение и прогресс. Вы должны поговорить с генерал-лейтенантом: он как раз жалуется, что мы забрали евреев с фабрик вермахта. Объясните ему, что их просто заменят поляками». Вмешался генерал: «Дорогой группенфюрер, я не жалуюсь и, как любой другой, понимаю справедливость этих мер. Я лишь заметил, что следует учитывать и интересы вермахта. Многих поляков отправили на работы в Рейх, а чтобы обучить тех, кто остался, требуется время; действуя односторонне, вы наносите урон военному производству». Глобочник грубо хохотнул: «Вы имели в виду, дорогой генерал-лейтенант, что поляки слишком глупы, чтобы хорошо работать, и потому вермахт предпочитает евреев. Правда ваша, евреи хитрее поляков, а значит, опаснее». Он остановился и повернулся ко мне: «Не хочу вас удерживать, штурмбанфюрер. Напитки на столах, наливайте, веселитесь!» – «Благодарю, группенфюрер». Я отдал честь и направился к одному из столов, которые чуть не прогибались под тяжестью бутылок с вином, пивом, шнапсом, коньяком. Налил себе стакан пива и огляделся вокруг. Появлялись новые гости, но я почти никого не знал. Тут были женщины, служащие ССПФ, в форме, но в основном супруги офицеров, в штатском. Флорштедт разговаривал с коллегами по лагерю; Хофле в одиночестве сидел на лавке, облокотившись о стол, перед начатой бутылкой пива с задумчивым, отсутствующим видом и курил. Я недавно узнал, что весной он потерял двоих детей, его близнецы умерли от дифтерии; в Немецком доме рассказывали, что на похоронах Хофле с воем рухнул на землю, в своем несчастье он увидел Божью кару и с тех пор совершенно переменился (кстати, через двадцать лет он покончил с собой венской тюрьме, не дождавшись приговора австрийского суда, несомненно, более мягкого, чем суд Божий). Я решил его не беспокоить и присоединился к группке, толпившейся около Йоганнеса Мюллера, в которой я узнал Кинтрупа. Мюллер познакомил меня со своим собеседником: «Вот штурмбанфюрер доктор Морген. Как и вы, он работает под непосредственным руководством рейхсфюрера». – «Замечательно. А в качестве кого?» – «Доктор Морген прикомандирован к крипо как судья СС». Морген добавил: «Сейчас я возглавляю специальную комиссию, уполномоченную рейхсфюрером для проверки концентрационных лагерей. А вы?» Я в нескольких словах описал ему свои функции. «А, так вы тоже занимаетесь лагерями!» – воскликнул он. Кинтруп отошел, Мюллер похлопал меня по плечу: «Господа, если вы собрались поговорить о работе, я вас оставлю. Сегодня воскресенье». Я отдал честь и повернулся к Моргену. Его умные, живые глаза изучающе смотрели на меня из-под очков в тонкой оправе. «А в чем именно заключается ваша миссия?» – спросил я. «В принципе, речь о трибунале СС и полиции „особого назначения“. Непосредственно рейхсфюрер уполномочил меня расследовать случаи коррупции в концлагерях». – «Очень интересно. И много проблем?» – «Мягко сказано. Коррупция носит массовый характер». Он кивнул на кого-то за моей спиной и слегка усмехнулся: «Если штурмбанфюрер Флорштедт увидит вас в моей компании, это не пойдет на пользу вашей работе». – «Вы копаете и под Флорштедта?» – «В том числе». – «Он знает?» – «Естественно. Проверка официальная, я допрашивал его уже не один раз». Морген держал в руке бокал белого вина; он отхлебнул глоток, я тоже допил свой стакан. «Затронутая вами тема меня очень интересует», – повторил я. Я поделился с ним впечатлениями о несоответствии между официальными продовольственными нормами и тем, что заключенные получают на самом деле. Он слушал, качая головой: «Да, точно, продукты тоже разворовывают». – «Кто?» – «Все. От низших до высших. Повара, капо, эсэсовские командиры, начальники складов и высшее звено тоже». – «Скандал, если это правда». – «Безусловно. Рейхсфюрер очень огорчен. Эсэсовец должен быть идеалистом: он не может выполнять свою работу и одновременно блудить с женщинами-заключенными или набивать себе карманы. Однако иногда так и происходит». – «И ваши расследования дают результаты?» – «Все очень сложно. Эти люди сплотили ряды, сопротивление огромное». – «Тем не менее, если вы заручились полной поддержкой рейхсфюрера…» – «Совсем недавно. Наш специальный трибунал учрежден меньше месяца назад. Проверки я веду уже два года и постоянно сталкиваюсь со множеством препятствий. Мы начинали – в ту пору я был членом суда СС и двенадцатого отдела полиции в Касселе – с концлагеря Бухенвальд под Веймаром. Точнее, с коменданта лагеря, некоего Коха. Но дело застопорилось: обергруппенфюрер Поль написал поздравительное письмо Коху, в котором, кроме прочего, обещал стать его щитом, „если какой-нибудь жалкий судья попытается снова протянуть грязные руки палача к невинному телу Коха“. Я об этом знал, Кох широко распространялся о письме, но меня не испугаешь. Коха перевели сюда управлять другим КЛ, я приехал следом. И обнаружил коррупционную сеть, связывающую разные лагеря. В итоге прошлым летом Коха сняли с должности. Но он успел избавиться от большинства свидетелей, в том числе от гауптшарфюрера Бухенвальда, одного из своих сообщников. Здесь Кох расстрелял свидетелей-евреев; по этому поводу мы тоже завели дело, после чего в лагере уничтожили уже всех евреев; мы хотели отреагировать, Кох сослался на приказ сверху». – «Но такие приказы действительно отдавались, вы должны быть в курсе». – «Я узнал о них как раз в тот самый момент. Понятно, что здесь мы бессильны. Однако разница все же существует: если член СС убивает еврея, исполняя распоряжение сверху, – это одно, но если он убивает еврея, чтобы скрыть растраты или для извращенного удовольствия, что тоже случается, это совсем другое, тут речь о преступлении. Даже притом, что евреи должны умирать». – «Я абсолютно с вами согласен. Но доказать будет сложно». – «Юридически, конечно: могут возникнуть неувязки, для обвинения нужны факты, а эти типы, я вам уже говорил, покрывают друг друга и убирают свидетелей. Иногда, конечно, все предельно ясно: например, я проводил дознание насчет жены Коха, сексуальной маньячки, она приказывала убивать татуированных заключенных, чтобы снять с них кожу; а после дубления мастерила из нее абажуры или другие украшения. Когда мы полностью подготовим досье, ее арестуют и, надеюсь, приговорят к смерти». – «А чем закончилось ваше дело против Коха?» – «Оно продолжается; я проведу здесь работу и по завершении, имея на руках все улики, рассчитываю снова его арестовать. Он тоже заслуживает смертной казни». – «Так его выпустили? Что-то я не совсем вас понимаю». – «Его оправдали в феврале. Я им больше не занимаюсь. У меня возникли проблемы с другим человеком, не из лагеря, офицером ваффен-СС, неким Дирлевангером. Оголтелым душегубом, возглавляющим банду амнистированных преступников и браконьеров. В тысяча девятьсот сорок первом году я получил информацию, что здесь, в генерал-губернаторстве, он с друзьями проводил так называемые научные опыты: они травили девушек стрихнином и, покуривая сигареты, наблюдали, как те умирали. Но когда я хотел привлечь Дирлевангера и его сообщников к ответу, их тут же перевели в Белоруссию. Ручаюсь вам: его покрывает кто-то из высокопоставленных чинов СС. В итоге меня разжаловали, отстранили от обязанностей, понизили до штурммана СС и отправили в маршевый батальон, а потом в Россию с дивизией СС „Викинг“. Тогда же провалился процесс против Коха. Но в мае меня вызвал рейхсфюрер, произвел меня в штурмбанфюреры резерва и определил в крипо. После новой жалобы властей дистрикта Люблина, касающейся краж имущества заключенных, рейхсфюрер приказал мне создать эту комиссию». Я восхищенно покачал головой: «Вы не боитесь идти против ветра». Морген сухо усмехнулся: «Не совсем так. До войны я был судьей в областном суде в Штеттине, меня уволили, потому что я не согласился с вердиктом. Вот я и оказался в суде СС». – «Можно вас спросить, где вы учились?» – «О, во многих местах – Франкфурте, Берлине, Киле, потом еще в Риме и Гааге». «В Киле! В Институте мировой экономики? Я тоже там закончил несколько курсов. У профессора Йессена». – «Я хорошо с ним знаком. А я изучал международное право у профессора Риттербуша». Мы еще чуть-чуть поболтали, обменялись воспоминаниями о Киле; Морген, как выяснилось, отлично говорил по-французски и еще на четырех языках. Потом я вернулся к прежней теме: «Почему вы начали с Люблина?» – «Во-первых, чтобы прижать Коха, что мне уже почти удалось. Да и жалоба дистрикта дала мне хороший повод. Но здесь происходят очень странные вещи. Перед приездом я получил донесение командира СП и СД о еврейской свадьбе в трудовом лагере. На нее должны были собраться больше тысячи приглашенных». – «Не понимаю». – «Один еврей, кто-то из важных капо, женился в этом Judenlager. Откуда-то взялось астрономическое количество еды и алкоголя. Охранники СС тоже участвовали. Тут явно не обошлось без правонарушения». – «И где это было?» – «Я пока не выяснил. Когда приехал в Люблин, спросил у Мюллера; но получил неопределенный ответ. Мюллер направил меня в лагерь ДАВ, но там никто ничего не знал. Потом мне посоветовали встретиться с Виртсом, комиссаром криминальной полиции, представляете, о ком речь? И Виртс мне сказал, что это правда и что это его метод уничтожения евреев: он дает некоторым поблажки, те помогают ему убивать других, а затем он убивает привилегированных. Я хотел разузнать подробнее, но группенфюрер запретил мне посещать лагеря, находящиеся в юрисдикции айнзатцкоманды, и рейхсфюрер подтвердил его отказ». – «То есть вы не имеете никаких полномочий относительно операции „Рейнхардт“?» – «Что касается ликвидации, нет. Но никто мне не запретит проверить, как распределяется конфискованное имущество. Айнзатцкоманды стяжают колоссальные суммы, в золоте, валюте и ценностях. Все это принадлежит Рейху. Я уже наведывался на их склады, здесь, на улице Шопена, и намереваюсь продолжать и дальше». – «Все, о чем вы говорите, чрезвычайно меня интересует, – повторил я горячо. – Надеюсь, что мы обсудим все более детально. В некотором смысле наши миссии дополняют друг друга». – «Да, я понимаю, о чем вы. Рейхсфюрер намерен везде навести порядок. К тому же вы под меньшим подозрением, и вам, возможно, удастся откопать то, что скрывают от меня. Увидимся».
Уже несколько минут Глобочник созывал гостей к столу. Я очутился напротив Курта Классена, коллеги Хофле, и рядом с чрезвычайно болтливой секретаршей из СС. Она тут же попыталась поведать мне о своих неприятностях, но, к счастью, Глобочник выступил с речью в честь генерала Мозера, и ей пришлось набраться терпения. Глобочник быстро закруглился, и присутствующие встали, чтобы выпить за здоровье Мозера; потом генерал произнес несколько слов благодарности. Зажаренные туши искусно разделали, куски мяса выложили на деревянные подносы и поставили на стол, каждый мог брать, сколько пожелает. К мясу подали салат и свежие овощи, все очень вкусное. Девушка грызла морковку и рассказывала мне свою историю: я слушал вполуха, тоже не переставая жевать. Она говорила о женихе, гауптшарфюрере, служившем в Галиции, в Дрогобыче. Там разыгралась целая трагедия: ради него она разорвала помолвку с солдатом из Вены, а ее новый парень был женат, но на нелюбимой женщине. «Он собирался развестись, но я сглупила, венец, с которым я разошлась, умолял о встрече, и я согласилась, и Лекси, ну, жених, об этом узнал и страшно расстроился, не верит больше в мою любовь и вернулся в Галицию. Но, к счастью, он меня не разлюбил». – «А что он делает в Дрогобыче?» – «Он в СП, командует евреями с Дурхгангштрассе». – «Ясно. Вы часто видитесь?» – «Когда у него увольнительные. Он хочет, чтобы я переехала жить к нему, но я сомневаюсь. Там, мне кажется, сплошная грязь. Но он уверяет, что я даже не буду видеть евреев, и хороший домик найти можно. Но мы ведь не женаты, наверное, надо, чтобы он развелся. Как вы думаете?» Рот у меня был набит жарким из оленины, и я мог только плечами пожать. Потом я перекинулся парой слов с Клаасеном. В конце обеда появился оркестр, выстроился на ступенях лестницы, ведущей в сад, и заиграл вальс. Многие пары поднялись, чтобы потанцевать на газоне. Молоденькая секретарша, явно разочарованная моим равнодушием к ее душевным невзгодам, отправилась вальсировать с Клаасеном. За другим столом я заметил запоздавшего Хорна и подошел поздороваться. Однажды он обратил внимание на мой портфель из кожзаменителя и, под предлогом того, что хочет показать мне, насколько качественно работают евреи, предложил сшить мне такой же из кожи; и вот недавно я получил прекрасную папку из сафьяна с латунной застежкой-молнией. Я от души поблагодарил Хорна, но, чтобы впоследствии избежать недоразумений, настоял, чтобы с меня взяли деньги за материал и пошив. «Без проблем, – согласился Хорн. – Вам выпишут счет». Морген тем временем уже куда-то исчез. Я выпил еще пива, курил и смотрел на танцующих. День выдался жаркий, и после тяжелой пищи и алкоголя я обливался потом. Я огляделся по сторонам: многие расстегнули верхние пуговицы или распахнули кители; я тоже распустил воротничок. Глобочник не пропускал ни одного танца, каждый раз приглашал новую женщину – либо в штатском, либо секретаршу; моя соседка тоже в какой-то момент очутилась в его объятиях. Однако желающих веселиться было не слишком много: после нескольких туров вальса и других мелодий музыкальная программа поменялась, оркестр офицеров вермахта и СС приготовился спеть «Drei Lilien» [70] и прочее в таком духе. Ко мне подсел Клаасен с рюмкой коньяка; в рубашке без кителя, рожа красная, опухшая, злобно усмехаясь, он выдал собственный припев, когда оркестр заиграл «Es geht alles vorüber» [71]:
Es geht alles vorüber Es geht alles vorbei Zwei Jahre in Russland Und nix ponimai. [72]«Если группенфюрер тебя услышит, Курт, ты кончишь штурмманом в Орле, вот тогда тебе точно будет nix ponimai», – пожурил его подошедший Випперн, начальник одного из департаментов операции «Рейнхардт». «Ладно, давайте искупаемся, ты с нами?» Клаасен взглянул на меня: «Вы присоединитесь? В глубине парка есть бассейн». Я вытащил очередную бутылку пива из ведра со льдом и поспешил за ними: впереди между деревьями раздавался смех и плеск воды. Слева за соснами я заметил натянутую колючую проволоку. «Что это?» – спросил я у Клаассена. «Небольшой трудовой лагерь для евреев. Группенфюрер держит их здесь для внутренних нужд: сад, машины и так далее». Бассейн отделяла от лагеря невысокая земляная насыпь. Плавало и загорало на траве довольно много народу, в том числе две женщины в купальниках. Клаасен разделся до кальсонов и нырнул. «Идете?» – крикнул он, всплыв на поверхность. Я отхлебнул пару глотков, потом снял форму, сложил ее рядом с сапогами и вошел в воду. Вода была холодная и по цвету напоминала чай, я сделал несколько гребков, перевернулся на спину и покачивался на середине бассейна, любуясь небом и трепещущими верхушками деревьев. Сзади щебетали две девушки, устроившиеся на бортике и болтавшие в воде ногами. Внезапно вспыхнула перепалка и смех: офицеры столкнули в воду Випперна, который не хотел раздеваться, он бранился, метал громы и молнии, с трудом выкарабкиваясь из бассейна в мокрой форме. Пока я наблюдал за смеющейся публикой, легкими движениями рук удерживая свое положение, за насыпью появились два чина орпо в касках и с автоматами на плечах, толкавшие перед собой двух тощих мужчин в полосатых робах. Стоя на бортике, Клаасен в кальсонах, с которых вода стекала ручейками, крикнул: «Франц! Какого черта вы тут затеяли?» Солдаты отсалютовали, заключенные остановились, зажав пилотки в руках и не отрывая глаз от земли. «Эти жиды повадились воровать картофельные очистки, герр штурмбанфюрер, – объяснил один из орпошников с грубым выговором фольксдойче. – Наш шарфюрер приказал их расстрелять». Клаасен помрачнел: «Надеюсь, вы не здесь намереваетесь это делать. У группенфюрера гости». – «Нет, нет, штурмбанфюрер, мы уйдем подальше, вниз к траншее». Меня охватило безотчетное беспокойство: вдруг евреев расстреляют здесь и сбросят тела в бассейн, и мы будем плавать в крови между мертвецов, покачивающихся на животах. Я посмотрел на евреев: один, лет сорока, украдкой разглядывал девушек; другой, помоложе, с желтой кожей, по-прежнему не поднимал головы. Меня вовсе не убедили последние слова орпошника, я чувствовал сильное напряжение, страх нарастал. Процессия снова двинулась в путь, я лежал в центре бассейна и старался глубоко дышать и не тонуть. Мне казалось, что вода облепила меня и душит. Это странное состояние длилось до тех пор, пока вдалеке не раздались два еле слышных выстрела, похожих на хлопки пробок из-под шампанского. Тревога медленно отхлынула и окончательно испарилась, когда я увидел возвращавшихся солдат, твердо и размеренно чеканивших шаг. Они опять нас приветствовали и скрылись в направлении лагеря. Клаасен разговорился с одной из девушек, Випперн пытался отжать форму. Я тихонько поплыл на спине.
Я еще раз встретился с Моргеном. Он собирался предъявить обвинение Коху и его жене и многим другим офицерам и младшим чинам Бухенвальда и Люблина и по секрету сообщил мне, что Флорштедта тоже привлекут. Морген в деталях рассказал, к каким уловкам прибегали коррупционеры, чтобы скрыть различного рода нарушения, и какой метод использовался, чтобы поймать их на недостаче. Морген сравнивал записи лагерных отделов: при фальсификации документов подозреваемые даже не удосуживались согласовать данные с рапортами и накладными других департаментов. Таким же образом удалось собрать первые серьезные доказательства об убийствах, совершенных Кохом. Морген установил, что заключенного регистрировали одновременно в двух разных местах: под определенной датой в журнале политического отдела напротив имени заключенного стояла отметка: «Снят с работ, полдень», а в тетради медпункта значилось: «Пациент скончался в 9 часов 15 минут». На самом деле заключенного замучили в тюрьме гестапо, но при этом хотели создать впечатление, что он умер от болезни. Потом Морген мне объяснил, как при сравнении административных книг по инвентаризации и медицинских реестров с отчетами блоков он пытался выявить хищения продовольствия, медикаментов или ценных вещей. Его крайне заинтересовала моя командировка в Аушвиц: следы множества преступлений, которыми он занимался, вели именно в этот лагерь. «Аушвиц, без сомнения, самый богатый лагерь, туда теперь идет большая часть специального транспорта РСХА. Как и здесь, при операции „Рейнхардт“, у них огромные склады для сортировки и хранения изъятого имущества, что, я подозреваю, должно провоцировать колоссальные хищения и нарушения. Недавно наше внимание привлекла бандероль, отосланная из лагеря по полевой почте: ее вскрыли из-за необычного веса и нашли внутри три крупных, с кулак, куска зубного золота, которые лагерный санитар пересылал своей жене. Я подсчитал, что такое количество золота означает больше ста тысяч мертвых». Я не удержался от удивленного возгласа. «И вообразите! – продолжил Морген. – Это то, что удалось украсть одному человеку. Когда мы тут разберемся, я, конечно, устрою проверку в Аушвице».
Я тоже уже почти закончил дела в Люблине и обошел всех с короткими прощальными визитами. Заглянул к Хорну, чтобы заплатить за портфель, он по-прежнему был обеспокоен и удручен борьбой с трудностями управления, финансовыми потерями, противоречивыми директивами. Глобочник принял меня гораздо более спокойно, чем в первый раз: мы коротко, но серьезно поговорили о трудовых лагерях, которые Глобочник намеревался развивать прежде прочих. Нужно ликвидировать последние гетто, объяснил он мне, чтобы в генерал-губернаторстве за пределами лагерей, контролируемых СС, не осталось ни одного еврея; такова несгибаемая воля рейхсфюрера, уверял Глобочник. В общем, в генерал-губернаторстве оставалось еще тридцать тысяч евреев, в основном в Люблине и Радоме; Галицию, Варшаву и Краков, если не учитывать нелегалов, от евреев уже очистили. Конечно, цифра уже немаленькая. Но вопрос будет решен без колебаний.
Я думал заехать с инспекцией в Галицию, в трудовой лагерь, где служил несчастный Лекси, но время у меня было ограничено, приходилось делать выбор, и я понимал, что за исключением мелких различий, зависящих от местных условий или личного состава, проблемы везде одинаковые. Я намеревался сосредоточиться на лагерях Верхней Силезии, «Восточного Рура» – на Аушвице и его многочисленных подразделениях. Ближайшая дорога из Люблина лежала мимо Кельце, затем мы пересекли промышленный район Катовице, невеселую, монотонную равнину с березами и елками, изуродованную высокими трубами заводов и доменными печами, выплевывавшими в небо едкий зловещий дым. Еще за тридцать километров до Аушвица на эсэсовских КПП тщательно проверили наши документы. Потом мы подъехали к широкой и бурной Висле. Вдалеке виднелись Бескиды – бледная, дрожащая в летнем тумане линия, менее живописная, чем Кавказ, но не лишенная нежной красоты. У подножия гор тоже дымили трубы, ветра не было, и дым поднимался прямо, прежде чем поникнуть от собственной тяжести, едва коснувшись неба. Шоссе привело нас к вокзалу и к общежитию ваффен-СС, где нас уже ждали. В вестибюле было почти пусто, мне показали мою комнату, простую и чистую; я разложил вещи, помылся, переоделся и отправился представляться в комендатуру. Лагерштрассе тянулась вдоль Солы, притока Вислы. Наполовину спрятанная за густыми деревьями, с зеленоватой – в отличие от большой реки, в которую она впадала, – водой, Сола образовывала мягкие излучины у крутого, сплошь покрытого травой берега; красивые утки с изумрудными головками скользили по течению, потом напрягали тело, вытягивали шею, поджимали лапы и, расправив крылья, устремлялись ввысь, чтобы лениво сесть на воду чуть дальше, рядом с берегом. Вход на Казерненштрассе перегораживал сторожевой пост; за деревянной вышкой поднималась длинная, с протянутой поверху колючей проволокой лагерная стена из серого бетона, а за ней вырисовывались красные крыши бараков. Комендатура занимала первую из трех построек между улицей и стеной – приземистое здание с лепниной на фасаде и высоким крыльцом, по бокам которого стояли светильники из кованого железа. Меня незамедлительно проводили к коменданту лагеря, оберштурмбанфюреру Хёссу. После войны этот офицер получил определенную известность из-за колоссального количества людей, казненных по его приказу, и еще благодаря откровенным беспристрастным мемуарам, написанным в тюрьме во время процесса. Однако Хёсс был абсолютно типичным офицером Инспекции концентрационных лагерей, усердным, настырным и ограниченным, без воображения и фантазии, при этом в его голосе и манерах все еще чувствовалась мужественность, присущая тем, кто знавал и атаки кавалерии, и вылазки фрайкоров. Он отсалютовал, затем пожал мне руку, не улыбался, но и неудовольствия от встречи со мной не выказывал. На Хёссе были кожаные брюки для верховой езды, на мой взгляд совершенно ему не подходившие: он завел в лагере конюшню, и, по слухам, чаще его видели в седле в Ораниенбурге, чем за письменным столом. Меня сильно смущало, что во время разговора он не отрывал от моего лица до странности бесцветных и невыразительных глаз, будто постоянно пытался ухватить нечто, в последний момент от него ускользающее. ВФХА уведомил его по телеграфу о моем визите: «Лагерь в вашем распоряжении». Точнее сказать, лагеря, потому что Хёсс управлял всей сетью КЛ: Аушвицем-I, административным центром комплекса, расположенным за комендатурой; Аушвицем-II, лагерем для военнопленных, трансформированным в концентрационный, находившимся в нескольких километрах от вокзала, на равнине возле бывшей польской деревни Биркенау; большим трудовым лагерем за городом в районе Засоле во Дворах, созданным для обслуживания синтетической каучуковой фабрики компании «И.Г. Фарбен», и десятком разбросанных в окрестностях подсобных лагерей сельскохозяйственного профиля или приписанных к шахтам и металлургическим заводам. Хёсс, объясняя, показывал мне все это на огромной карте, висевшей у него в кабинете: он пальцем очерчивал зону интересов лагеря, охватывавшую область между Вислой и Солой и больше десятка километров на юг, кроме участка вокруг пассажирского вокзала, контролируемой муниципалитетом. «В прошлом году у нас тут случился конфликт, – сообщил мне Хёсс. – Город хотел там построить новый квартал для железнодорожников, а мы претендовали на часть территории, чтобы построить деревню для женатых офицеров СС. В итоге до сих пор ничего не сделано. А лагерь постоянно развивается».
Хёсс, если уж не садился на лошадь и брал машину, любил водить сам, на следующее утро он подкатил прямо к общежитию ваффен-СС. Пионтек, видя, что не нужен мне, попросил выходной, съездить на поезде в Тарновиц к семье; я разрешил ему там переночевать. Хёсс предложил начать с Аушвица-II: из Франции прибыл конвой РСХА, и Хёсс хотел мне продемонстрировать процесс селекции, проходивший под руководством гарнизонного врача доктора Тило на платформе товарного вокзала на полдороге между двумя лагерями. Когда мы подъехали, доктор стоял в хвосте платформы с охраной из чинов ваффен-СС с собаками и группами заключенных в полосатых робах, при виде нас сорвавших с обритых голов пилотки. Было еще теплее, чем накануне, горы на юге сияли в солнечных лучах: оттуда, со стороны Протектората [73] и Словакии, появился поезд. Пока мы ждали, Хёсс подробно описал мне процедуру. Но вот поезд подогнали и открыли двери товарных фургонов. Я приготовился увидеть столпотворение: но, несмотря на гвалт и лай собак, все протекало довольно организованно. Вновь прибывшие, полностью дезориентированные и страшно измотанные, вылезали из провонявших экскрементами вагонов. Häftlinge [74] трудовой команды выкрикивали приказы на смеси польского, идиша и немецкого: оставить багаж, строиться в колонны, мужчины справа, женщины и дети слева. Пока эти колонны, переминаясь с ноги на ногу, медленно двигались к Тило и тот отбирал работоспособных, отправляя матерей с детьми к грузовикам, стоявшим чуть поодаль, Хёсе заметил: «Я понимаю, что и женщины могли бы работать, но пытаться разлучить их с детьми значило бы провоцировать бог весть какие беспорядки». Я прохаживался между рядами. Большинство людей тихонько переговаривались по-французски, прочие, наверняка натурализованные евреи или иностранцы, на разных других языках, я прислушивался к фразам, вопросам, комментариям, стараясь уловить смысл: люди совершенно не догадывались ни куда их привезли, ни о том, что их ждет. Häftlinge команды, исполняя инструкцию, обнадеживали их: «Не волнуйтесь, вы встретитесь позже, вам вернут багаж, после душа вам дадут чай и суп». Колонны шли вперед мелкими шажками. Одна женщина, увидев меня, спросила на плохом немецком, показывая на ребенка: «Герр офицер! Мы можем остаться вместе?» – «Не беспокойтесь, мадам, – вежливо ответил я по-французски, – вас не разлучат». Тут же со всех сторон посыпались вопросы: «Мы будем работать? Семьи не разделяют? Что вы сделаете со стариками?» Я и слова не успел сказать, как какой-то младший офицер кинулся вперед и принялся наносить удары дубинкой. «Хватит, роттенфюрер», – воскликнул я. Он смутился: «Просто не надо их будоражить». У некоторых людей текла кровь, дети плакали. Меня душил запах нечистот, исходивший из вагонов и от одежды евреев, я почувствовал прежнюю привычную тошноту и старался глубоко дышать ртом, чтобы подавить его. Группы заключенных выбрасывали на платформу багаж; та же участь постигла трупы людей, умерших по дороге. Несколько ребятишек играли в прятки: охранники не возражали, только прикрикивали, если дети приближались к поезду, боялись, что те скользнут под вагоны. За спинами Тило и Хёсса тронулись в путь первые грузовики. Я присоединился к Тило, чтобы понаблюдать за его работой: иногда ему хватало лишь взгляда, иногда он задавал вопросы, которые переводил толмач, проверял зубы, щупал руки, просил расстегнуть рубаху. «В Биркенау, вы увидите, – комментировал Хёсс, – у нас две смехотворные дезинфекционные станции. В загруженные дни это сильно ограничивает приемную возможность. Но для одного состава еще терпимо». – «А если конвоев много?» – «По ситуации. Некоторых отправляем в центральную приемную основного лагеря. Если не получается, то сокращаем квоту. Чтобы устранить проблему, мы планируем построить новую центральную „баню“. Проект готов, я жду одобрения бюджета. У нас вечно все упирается в финансы. Все хотят, чтобы я расширил лагерь, принимал больше заключенных, чаще проводил селекцию, но страшно раздражаются, когда встает вопрос о деньгах. Я нередко вынужден импровизировать». Я нахмурился: «Что вы называете „импровизировать“?» Хёсс поднял на меня затуманенный взгляд. «Использовать любую возможность. Я заключаю договоры с фирмами, которым мы поставляем рабочих: иногда фирмы платят натурой, стройматериалами или еще чем другим. Так я приобрел грузовики. Одна фирма мне их прислала для транспортировки рабочих, но после ни разу не попросила обратно. Нужно уметь вертеться». Отбор заканчивался: весь процесс длился меньше часа. Когда последние машины были загружены, Тило быстро подвел итоги и показал нам цифры: из тысячи прибывших он сохранил триста шестьдесят девять мужчин и сто девяносто одну женщину. «Пятьдесят пять процентов, – пояснил он. – С западными конвоями мы в среднем имеем хорошие показатели. А польские – это катастрофа. Никогда не достигаем двадцати пяти процентов, а иногда и вовсе двух-трех». – «С чем вы это связываете?» – «Их доставляют в плачевном состоянии. Евреи генерал-губернаторства годами живут в гетто, они голодают и являются разносчиками разного рода болезней. Даже среди тех, кого мы отбираем, многие умирают еще в карантине, я обращал на это внимание». Я повернулся к Хёссу. «Вы принимаете много составов с Запада?» – «Сегодняшний из Франции – пятьдесят седьмой. Двадцать встретили из Бельгии. Из Голландии не помню сколько. В последние месяцы в основном приходят эшелоны из Греции, но тоже не слишком хорошие. Пойдемте, я вам покажу процедуру приема». Я попрощался с Тило и сел в машину. Хёсс ехал быстро. По дороге продолжал делиться со мной проблемами: «С той поры, как рейхсфюрер решил, что предназначение Аушвица – уничтожение евреев, у нас трудностей не оберешься. Весь прошлый год нам пришлось работать с временными импровизированными приспособлениями. Настоящая халтура. Я смог приступить к строительству стационарных спецпомещений только в январе этого года. Но и теперь не все гладко. Существовали определенные сроки, связанные прежде всего с транспортировкой стройматериалов. Из-за спешки пострадало качество: печь третьего крематория треснула после двух недель эксплуатации, мы ее перегрели. Я вынужден был ее закрыть на ремонт. Но мы не должны впадать в истерику, надо сохранять терпение. Мы были настолько перегружены, что пришлось развернуть огромное количество составов в лагеря к группенфюреру Глобочнику, где, разумеется, не проводилось никакой селекции. Сейчас вроде бы поспокойнее, но через десять дней опять все закрутится: генерал-губернаторство хочет очистить оставшиеся гетто». Перед нами внизу располагалось длинное здание из красного кирпича с арочным проемом на одном конце и островерхой башней для охраны. По бокам шла ограда из колючей проволоки, натянутой на бетонные опоры, между которыми на равном расстоянии друг от друга торчали сторожевые вышки, а за ними до горизонта – длинные ряды одинаковых деревянных бараков. Лагерь был гигантский. По узким аллеям сновали группы заключенных в полосатых робах, крошечные, как колонии насекомых. Под башней перед аркой с решетчатыми воротами Хёсс свернул направо. «Грузовики проезжают прямо. Крематории и станции дезинфекции находятся на задворках. Но сначала мы наведаемся в комендатуру». Машина двигалась вдоль побеленных известкой столбов и вышек; вереницы бараков выстроились в безупречные коричневые линии, разворачивающиеся в бесконечные перспективы, сужающиеся, разбегающиеся и опять пересекающиеся диагонали. «Провода под напряжением?» – «С недавнего времени. Тут тоже возникла проблема, но мы ее решили». Дальше в глубине лагеря Хёсс строил новый сектор. «Это будет Häftlingskrankenbau, огромная больница для обслуживания всех лагерей области». Хёсс остановился перед комендатурой и махнул рукой в сторону огромного пустыря, обнесенного колючей проволокой. «Вас не затруднит подождать меня пять минут? Мне надо сказать пару слов начальнику лагеря». Я вылез из машины, выкурил сигарету. От здания, куда только что зашел Хёсс, тоже из красного кирпича, с покатой крышей и трехэтажной башней по центру, шла длинная дорога, которая огибала новый сектор и терялась где-то в направлении березовой рощи, видневшейся за бараками. Вокруг стояла тишина, только изредка прерываемая короткой командой или хриплым окриком. Со стороны центрального сектора появился солдат ваффен-СС на велосипеде, поравнялся со мной, не останавливаясь, отдал честь и повернул ко входу в лагерь, катил вдоль колючей проволоки, размеренно, не торопясь, крутил педали. На сторожевых вышках я никого не заметил: днем охрана занимала позиции на «большой цепи» вокруг двух лагерей. Я рассеянно разглядывал запыленный автомобиль Хёсса: разве нет у него других забот, кроме прогулок с гостями? Любой подчиненный мог бы меня сопровождать, как, например, в КЛ в Люблине. Но Хёсс, зная, что мой рапорт пойдет прямо к рейхсфюреру, наверное, хотел, чтобы я представил себе масштаб его достижений. Хёсс появился на пороге, я выкинул окурок и сел в машину; Хёсс двинулся к березам, по дороге показывал мне «поля», или подсобные лагеря основного сектора: «Мы сейчас занимаемся полной реорганизацией в целях максимального развития лагеря для работ. Когда закончим, лагерь будет снабжать рабочей силой промышленность региона и даже Altreich, Старого Рейха. Единственными постоянными заключенными будут те, кто поможет в содержании и управлении лагеря. Все политические заключенные, как раз поляки, останутся в Аушвице-I. С февраля у меня еще появился семейный лагерь для цыган». – «Семейный лагерь?» – «Да, это приказ рейхсфюрера. Он решил депортировать цыган из Рейха и распорядился, чтобы их не селекционировали, не разлучали с семьями и чтобы они не работали. Но многие умирают от болезней. Не выдерживают». Мы подъехали к заграждению. Длинная шеренга деревьев и кустов скрывала колючую проволоку, которая оцепляла два совершенно одинаковых массивных здания с двумя трубами каждое. Хёсс припарковался возле правого в редком сосняке. Впереди, на ухоженном газоне под присмотром охраны и заключенных в робах, раздевались еврейские женщины и дети. Повсюду стопками лежала аккуратно рассортированная одежда, на каждой кучке деревянная дощечка с номером. Один из заключенных крикнул: «Давайте быстро, быстро, под душ!» Евреи входили в здание; двое озорных мальчишек развлекались, меняя дощечки с номерами, и бросились бежать, когда охранник замахнулся дубинкой. «У нас, как и в Треблинке, и в Собиборе, евреи до последней минуты уверены, что идут на дезинфекцию, – пояснил Хёсс. – В основном все протекает очень спокойно». И принялся рассказывать дальше о структуре лагеря. «Внизу находятся еще два крематория, гораздо большей площади, чем эти: изолированные газовые камеры вмещают до двух тысяч человек. Здесь камеры довольно тесные, по две на крематорий, но для маленьких конвоев так практичнее». – «А каков максимальный объем?» – «Что касается газа, почти неограниченный; главное препятствие – мощность печей. Их для нас специально разработала фирма „Топф“; официально один запуск на двадцать четыре часа рассчитан на семьсот шестьдесят восемь тел. Но, если нужно, мы загружаем тысячу или даже полторы тысячи». Рядом с машиной Хёсса затормозила «скорая помощь», помеченная красным крестом; врач-эсэсовец в белом халате, надетом поверх военной формы, отдал нам честь. «Познакомьтесь, гауптштурмфюрер доктор Менгеле, – оживился Хёсс. – Он приехал к нам два месяца назад. Его назначили главным врачом цыганского лагеря». Я пожал доктору руку. «Вы сегодня осуществляете контроль?» – спросил его Хёсс. Менгеле кивнул. Хёсс повернулся ко мне: «Хотите понаблюдать за процессом?» – «Нет нужды, – сказал я. – Я в курсе». – «Однако наш метод эффективнее, чем у Виртса». – «Да, я знаю. Мне уже объяснили в КЛ Люблина. Они переняли ваш способ». Видя, как помрачнел Хёсс, я из вежливости поинтересовался: «Сколько длится вся процедура?» – «Зондеркоманда открывает двери через полчаса, – произнес мелодичным приятным голосом Менгеле. – Но мы ждем еще какое-то время, чтобы газ выветрился. В принципе, смерть наступает меньше чем за десять минут. Или пятнадцать при высокой влажности воздуха».
Мы уже добрались до «Канады», где перед распределением сортировалось и обрабатывалось конфискованное имущество, когда трубы крематория, где мы только что побывали, начали дымить, распространяя тот же сладковатый тошнотворный запах, что и в Бельзеке. Заметив, что мне неприятно, Хёсс вдруг разоткровенничался: «А я с детства привык к этому запаху. Так воняют дешевые церковные свечи. Отец был верующим и часто водил меня в церковь, хотел, чтобы я стал пастором. Денег на воск не хватало, свечи делали из животного жира, и от них исходил такой же смрад. Причина в каком-то химическом элементе, я забыл его название, мне Виртс растолковал, наш главный врач». Хёсс настаивал, чтобы я посетил еще два огромных крематория, в тот момент бездействующих, Frauenlager, женский лагерь и очистное сооружение, построенное после неоднократных жалоб дистрикта, утверждавшего, что лагерь загрязняет Вислу и все окрестные воды. Мы вернулись в Аушвиц-I, осмотрели там все целиком и полностью; потом Хёсс отвез меня на другой конец города и по пути показал Аушвиц-III, где жили заключенные, работники «И.Г. Фарбен». Там Хёсс представил мне Макса Фауста, одного из инженеров фабрики, с которым я договорился встретиться в другой день. Я не буду рассказывать обо всей системе лагеря: она прекрасно известна и подробно описана в многочисленных книгах, так что прибавить мне нечего. По возвращении Хёсс предложил покататься верхом, но я еле держался на ногах, мечтая лишь о ванне, и, к счастью, сумел его убедить оставить меня в гостинице.
Хёсс выделил мне пустовавший кабинет в комендатуре Аушвица-I, из окон открывался вид на Солу и утопавший в зелени кокетливый квадратный домик на противоположной стороне Казернештрассе, где проживал комендант с семьей. В отличие от люблинского, Немецкий дом, в котором я разместился, оказался гораздо спокойнее: в нем останавливались на ночлег солидные, серьезные люди, профессионалы, которые по разным причинам оказывались здесь проездом; по вечерам из лагеря приходили офицеры выпить пива или сыграть на бильярде, но вели они себя пристойно. Кормили в Доме отменно, к щедрым порциям подавали болгарское вино или хорватскую сливовицу, а иногда даже сливочное мороженое на десерт. Помимо Хёсса моим главным собеседником стал гарнизонный врач штурмбанфюрер доктор Эдуард Виртс. Его кабинет находился в госпитале СС Аушвица-I в конце Казернештрассе напротив крематория, который со дня на день собирались отключить, и штаб-квартиры политического отдела. У Виртcа были тонкие черты лица, светлые глаза, волосы редкие; энергичный, умный, он, похоже, устал от своих обязанностей, но руки не опускал и стремился преодолевать трудности. Основной задачей он считал борьбу с тифом: в лагере вспыхнула уже вторая за год эпидемия, выкосившая цыганский сектор и поражавшая охрану СС и их семьи, причем летальный исход не был редкостью. Мы подолгу беседовали с Виртcом. В Ораниенбурге он являлся подчиненным доктора Лоллинга и жаловался на отсутствие поддержки; когда я сказал Виртcу, что разделяю его мнение, он доверился мне и признался, что не может конструктивно работать с этим некомпетентным и отупевшим от наркотиков человеком. Сам Виртc был не из Инспекции концлагерей, с 1939 года он служил на фронте в ваффен-СС и получил Железный крест 2-й степени; но его уволили в запас из-за серьезной болезни и определили в лагерь. Виртc обнаружил Аушвиц в катастрофическом состоянии, и уже год его не покидало желание исправить положение дел.
Виртc показал мне рапорты, которые каждый месяц посылал Лоллингу: о ситуации в разных частях лагеря, о безграмотности врачей и офицеров, о грубости младших служащих и капо, о препятствиях, возникающих ежедневно и тормозящих его работу, докладывалось резко и без прикрас. Виртc пообещал распечатать для меня копии последних шести документов. Особенно яростно он выступал против назначения преступников на ответственные посты в лагере: «Я десятки раз спорил на эту тему с оберштурмбанфюрером Хёссом. Его „зеленые“ – просто звери, психопаты, они продажны, они терроризируют других заключенных, и, кстати, все с согласия СС. Это недопустимо, я уж промолчу о плачевных результатах». – «А кого бы вы предпочли? Политических заключенных, большевиков?» – «Конечно!» – и Виртc принялся загибать пальцы: «Во-первых, это по определению люди с общественным сознанием. Даже если они и возьмут взятку, то никогда не будут свирепствовать, как уголовники. Представьте себе, что в женском лагере старшие по блоку – проститутки и дегенератки! А почти все старшие по мужскому блоку держат Pipel, трубочников, как их здесь называют, молодых мальчиков, которых превращают в сексуальных рабов. Вот на кого мы опираемся! А „красные“, наоборот, отказываются посещать Funktionshäftlinge, бордель для заключенных функционеров. А ведь некоторые из них в лагере уже десять лет и соблюдают строжайшую дисциплину. Во-вторых, организация работы сейчас приоритетная задача. Можно ли вообразить лучшего организатора, чем коммунист или военный социал-демократ? „Зеленые“ только и умеют, что бить да хамить. В-третьих, мне возразят, что „красные“ будут нарочно халтурить. Но я отвечу, что производство едва ли будет убыточнее, чем теперь, к тому же существуют способы контроля: политические – не идиоты, они быстро поймут, что при малейших проблемах их снимут и вернут уголовников. Поэтому как раз в интересах и их собственных, и всех заключенных гарантировать высокое качество продукции. Я даже готов привести пример – Дахау, где я работал короткий период: там за всем следят „красные“, и клянусь, условия несравненно лучше, чем в Аушвице. На своем служебном участке я использую только политических. И не жалуюсь. Мой личный секретарь – австрийский коммунист, серьезный, уравновешенный, деятельный молодой человек. Мы иногда откровенно с ним разговариваем, и это очень важно, потому что от других заключенных он узнает вещи, которые от меня скрывают, и передает мне. Я доверяю ему больше, чем кое-кому из моих коллег по СС». В нашей беседе мы коснулись и селекции. «Я считаю сам принцип омерзительным, – честно признался Виртc. – Но если надо проводить отбор, тогда пусть им занимаются врачи, а не, как раньше, начальник лагеря со своими людьми. Они это делали абсолютно бестолково и с невообразимой жесткостью. Сейчас, по крайней мере, все проходит организованно и по разумным критериям». Вирт приказал, чтобы все лагерные врачи по очереди дежурили на платформе. «Я тоже туда прихожу, хотя процесс вызывает у меня ужас. Но я должен подавать пример», – произнес он с потерянным видом. Уже не в первый раз мне вот так изливали душу: с начала моей командировки многие, либо инстинктивно понимая, что мне не безразличны их проблемы, либо в надежде найти в моем лице посредника, который донесет их жалобы до высших инстанций, доверялись мне больше, чем того требовали уставные отношения. Правда и то, что вряд ли Виртcу часто выпадал шанс найти участливого слушателя: Хёсс, при всем его профессионализме, был напрочь лишен чуткости, вероятно, как и большинство его подчиненных.
Я дотошно инспектировал разные части лагеря, неоднократно возвращался и в Биркенау, чтобы ознакомиться с системой инвентаризации конфискованного имущества в «Канаде». Беспорядок там царил непостижимый: на складе стояли ящики с непересчитанной валютой, выпавшие банковские купюры, разорванные и перепачканные грязью, топтали ногами. Обычно заключенных обыскивали на выходе из зоны, но, думаю, с помощью часов или нескольких рейхсмарок подкупить охрану было нетрудно. Капо из «зеленых», ответственный за учетные книги, косвенно подтвердил мое предположение, показав мне свои сокровища: зыбкие горы поношенной одежды, с которой целые бригады спарывали желтые звезды, прежде чем штопать, сортировать и снова складывать в стопки; полные ящики очков, часов, ручек; ровные ряды колясок и сумок на колесиках; клубки женских волос, отправлявшиеся целыми тюками в Германию, немецкие фирмы валяли из них носки для наших моряков-подводников, делали изоляционный материал или набивали матрасы; и кучи разнообразных предметов культа, никто не знал, как с ними поступить. Этот заключенный чиновник при прощании небрежно бросил мне на насмешливом гамбургском жаргоне: «Если вам чего нужно, то намекните, уж я расстараюсь». – «Вы о чем?» – «О, иногда это вовсе несложно. И мы рады услужить». Морген имел в виду, что лагерные эсэсовцы при пособничестве заключенных уже распоряжались «Канадой» как собственным складом. Морген еще посоветовал мне посетить комнаты охраны: я обнаружил эсэсовцев, полупьяных, с отсутствующим взглядом, развалившихся на диванах с дорогой обивкой; заключенные-еврейки в легких платьях, а не в полосатых робах, жарили сосиски и картофельные оладьи на огромной чугунной сковороде; настоящие красотки, и волосы им не отрезали; девицы, подавая еду или подливая выпивку из хрустальных графинчиков, обращались к охранникам на «ты» и по именам. Ни один из эсэсовцев не поднялся, чтобы приветствовать меня. Я озадаченно взглянул на сопровождавшего меня в разъездах Шписа, тот лишь пожал плечами: «Они устали, штурмбанфюрер. Тяжелый день выдался, знаете ли. Два эшелона». Я бы приказал обыскать их тумбочки, но занимаемая мной должность того не позволяла: не сомневаюсь, там нашлись бы и ценности, и деньги. Однако столь массовая коррупция касалась и самых высших уровней, в чем меня не замедлили убедить случайно подхваченные реплики. В баре Дома я подслушал разговор обершарфюрера из лагеря и какого-то штатского; младший офицер, ухмыляясь, сообщил, что отослал фрау Хёсс «полную корзину трусиков, отличного качества, шелковых с кружевами. Фрау захотелось обновить белье, понимаете». Он не уточнял, откуда товар, но я и так легко догадался. Я тоже получал заманчивые предложения, мне пытались вручить и бутылки коньяка, и деликатесы, чтобы разнообразить меню. Я вежливо отказывался: не хотел, чтобы офицеры начали меня подозревать, это навредило бы моей работе.
Согласно намеченному плану я отправился на крупную фабрику «И.Г. Фарбен», названную «Буна», как и синтетический каучук, который она должна будет когда-нибудь производить. Строительство, похоже, еле продвигалось. Фауст из-за занятости перепоручил меня одному из своих ассистентов, инженеру Шенке, молодому человеку лет тридцати в сером костюме со значком Партии. Шенке заворожил мой Железный крест; во время нашей беседы он часто скользил по нему взглядом и наконец робко поинтересовался, при каких обстоятельствах я его получил. «Я был в Сталинграде». – «А! Вам очень повезло». – «Выбраться оттуда? – рассмеялся я. – И я того же мнения». Шенке смутился: «Нет, я не то хотел сказать. Побывать там, иметь возможность сражаться за Родину, против большевиков». Я посмотрел на Шенке с изумлением, он покраснел. «У меня детская травма, нога. Кость неправильно срослась после перелома. На фронт меня не взяли. А я бы тоже хотел служить Рейху». – «Вы ему служите здесь», – заметил я. «Конечно, но это другое. Все мои друзья детства на фронте. Чувствуешь себя… изгоем». Шенке действительно хромал, что, впрочем, не мешало ему ковылять нервной прыгающей походкой так быстро, что я еле за ним поспевал. По дороге Шенке знакомил меня с историей фабрики: руководство Рейха постановило, что «И.Г. Фарбен» должна наладить производство буны – важнейшего для вооружения сырья – именно на Востоке из-за бомбардировок, опустошавших Рурскую область. Один из директоров «И.Г.», доктор Амброс, выбрал место строительства по нескольким критериям: слияние трех рек, обеспечивающее значительные объемы воды, необходимые при выработке буны; плато, огромное и практически нетронутое (не считая польской деревни, стертой с лица земли); идеальное, с точки зрения геологии, расположение на возвышенности; пересечение нескольких железнодорожных линий и наличие поблизости многочисленных угольных шахт. Лагерь тоже являлся положительным фактором: СС выразила готовность поддержать проект и обещала поставлять рабочую силу. Но стройка затормозилась, частично из-за трудностей со снабжением, частично потому, что труд заключенных оказался не эффективным, и дирекция была в ярости. Напрасно фабрика отправляла обратно в лагерь тех, кто не мог больше работать, и, согласно контракту, требовала их заменить: состояние новых заключенных было немногим лучше. «И что же потом происходит с людьми, которых вы возвращаете?» – спросил я безучастным тоном. Шенке удивился: «Понятия не имею, не мое дело. Наверное, их подлечивают в госпитале. А вам что-нибудь известно?» Я задумчиво посмотрел на этого молодого и переполненного энтузиазмом инженера: неужели он и вправду ничего не знает? В восьми километрах отсюда ежедневно дымили трубы Биркенау, а слухи распространялись моментально, уж я-то знал. Впрочем, если он хотел оградить себя от ненужной информации, то вполне мог это сделать. И правила секретности и маскировки тому способствовали.
Однако судьба рабочих-заключенных, судя по условиям их содержания, мало заботила Шенке и его коллег. Посреди гигантской грязной стройки колонны рахитичных, в лохмотьях, Häftlinge перебежками, под ударами дубинок и крики капо, переносили тяжеленные балки и мешки с цементом. Если грузчик в грубых деревянных башмаках, споткнувшись, ронял ношу или падал сам, то побои удваивались, и свежая алая кровь брызгала на маслянистую жижу. Некоторые больше не поднимались. Шум стоял адский, все орали, младшие офицеры СС, капо; жалобно выли избиваемые заключенные. Шенке, ни на что не обращая внимания, водил меня по этой геенне огненной. Периодически он останавливался и вступал в беседу с другими инженерами в тщательно отглаженных костюмах, с желтыми рулетками и маленькими блокнотами в переплетах из искусственной кожи, где они записывали цифры. Обсуждали сроки возведения стены. Потом один из инженеров прошептал несколько слов роттенфюреру, тот взревел и принялся бешено дубасить палкой и пинать сапогом капо; капо, в свою очередь, бросился в толпу заключенных, с воплями отвешивая удары всем, кому ни попадя. Заключенные пытались увеличить темп работы, но безуспешно, они на ногах-то еле держались. Подобная система показалась мне в высшей степени нерациональной, о чем я сказал Шенке; тот пожал плечами и огляделся вокруг, будто увидел подобную сцену впервые: «Они не понимают ничего, кроме битья. Как прикажете поступать с такими тружениками?» Я посмотрел на заключенных: голодные, оборванные, вокруг чудовищная, вязкая, черная грязь, наверняка дизентерия. Поляк из красных на мгновение замешкался возле меня, и я заметил, как у него по внутренней стороне брючины и сзади расползается темное пятно; он в отчаянии рванул вперед, пока не приблизился какой-нибудь капо. Я указал Шенке на поляка: «Вы не задумывались, что важно следить за их гигиеной? Дело не только в запахе, но это попросту опасно: именно так и вспыхивают эпидемии». Шенке ответил с несколько высокомерным видом: «Об этом должна заботиться СС. Мы платим лагерю за то, чтобы узники были в рабочем состоянии. И по договору лагерь обязан их мыть, кормить и лечить». Другой инженер, толстый, потеющий в застегнутом пиджаке шваб, громко захохотал: «Евреи, они же как дичь, лучше, когда с душком». Шенке презрительно усмехнулся; я сухо возразил: «У вас здесь не только евреи». – «О! Да остальные ничем не лучше». Шенке начал раздражаться: «Штурмбанфюрер, если вы считаете условия содержания заключенных неудовлетворительными, вы должны предъявлять претензии лагерю, а не нам. Я еще раз подчеркиваю, за это отвечает лагерь. Детали уточнены в контракте». – «Поверьте, я отлично все понимаю». Шенке был прав: собственно, даже били узников охранники СС и капо. «Просто мне кажется, что мы могли бы повысить производительность, немного улучшив условия содержания. Вы не согласны?» Шенке опять пожал плечами: «В идеале, вероятно. Мы тоже часто жалуемся лагерю на состояние заключенных, но у нас иные приоритеты, и мы не можем постоянно привередничать». За спиной Шенке агонизировал заключенный, сраженный дубинкой наповал, окровавленная голова утонула в луже, только по судорожно дергавшимся ногам я определил, что он еще жив. Шенке на обратном пути спокойно перешагнул через тело. Мои слова его явно задели: «Нам нельзя сентиментальничать, штурмбанфюрер. Производство превыше всего». – «Я не спорю. Моя цель предложить пути и средства, как его поднять. Вы же в этом заинтересованы? В конце концов, вы – сколько уже? – два года строите и пока не произвели ни килограмма буны». – «Да. Но не забывайте, что метиловый завод запущен уже месяц назад».
Моя последняя реплика явно рассердила Шенке, хоть он и нашел что возразить; в дальнейшем он ограничивался сухими короткими комментариями. Я попросил показать мне КЛ, прикрепленный к фабрике; прямоугольный участок, обнесенный колючей проволокой, располагался на юге комплекса среди заброшенных полей на месте уничтоженной деревни. По моей оценке, условия жизни там были ужасные; начальник лагеря считал, что все нормально. «Заключенных, которых бракует „И.Г.“, мы отсылаем в Биркенау, а они нам взамен присылают новых». Возвращаясь в Аушвиц-I, на одном из домов в городе я заметил надпись, удивившую меня: «Катынь=Аушвиц». Действительно, с марта пресса Геббельса неустанно повторяла, что в Белоруссии нашли тысячи трупов польских офицеров, расстрелянных большевиками после 1939 года. Но здесь-то кто мог написать такое? Ни поляков, ни тем более евреев в Аушвице уже давно не было. Сам город серый, унылый, довольно зажиточный, как все старые восточные немецкие города, с квадратной рыночной площадью, доминиканской церковью под покатыми крышами и замком местного князя при въезде, возвышавшимся над мостом через Солу. В течение многих лет рейхсфюрер пестовал план по развитию города и его превращению в образцовую общину на востоке Германии; но дальнейший ход военных действий помешал воплощению этого смелого проекта, и Аушвиц так и остался бесполезным аппендиксом, скучным, заурядным городишком, затертым между лагерем и фабрикой.
Что до лагерной жизни, в ней наблюдалось множество странных явлений. Пионтек высадил меня у комендатуры и подал назад, чтобы припарковать «опель»; я уже собирался войти, но мое внимание привлек шум, доносившийся из садика перед домом Хёсса. Я зажег сигарету и подкрался поближе: за оградой я увидел детей, игравших в заключенных. Старший, стоявший ко мне спиной, с повязкой капо на рукаве, пронзительно выкрикивал обычные команды: «Ach… tung! Mützen… auf! Mützen… ab! Zu! fünf!» [75] Четверо других, три девочки, одна совсем малышка, и мальчик, построились в ряд и неловко, но очень старательно выполняли приказы, у каждого на груди был прилажен треугольник: зеленый, красный, черный или фиолетовый. Позади меня раздался голос Хёсса: «Здравствуйте, штурмбанфюрер! Что вы здесь высматриваете?» Я обернулся: Хёсс шел ко мне, протягивая руку; у забора ординарец держал за уздечку лошадь. Я отдал Хёссу честь, пожал руку и молча кивнул в сторону сада. Хёсс побагровел, распахнул калитку и бросился к детям. Он не ругался, не давал детям пощечин, просто сорвал треугольники с их одежды и погнал в дом. Потом вернулся, все еще красный, зажав в кулаке разноцветные тряпочки. Взглянул на меня, на метки, снова на меня и, не проронив ни слова, прошел мимо в комендатуру, по пути швырнув лоскутки в металлическую корзину возле крыльца. Здороваясь с Хёссом, я выкинул сигарету, теперь я ее подобрал, окурок еще дымился. Садовник, из заключенных, в чистой глаженой робе, с граблями, поравнялся со мной, снял пилотку, вытряхнул мусор в ведерко, которое принес с собой, и сразу поспешил обратно в сад.
Днем я чувствовал себя бодрым и свежим, в Доме хорошо кормили, и к вечеру я с удовольствием думал о своей кровати и чистых простынях. Но по ночам, с самого приезда, на меня обрушивались сны, короткие, обрывочные, они быстро забывались, а иногда, наоборот, словно длинный червь извивался в голове. Особенно часто повторялся и от ночи к ночи обрастал новыми подробностями эпизод, описать который довольно трудно – смутный сон, без смысла и четкого действия, развивавшийся в соответствии с некой пространственной логикой. Мне снилось, что я не живое существо, а скорее камера или всевидящее око, и из воздуха с разных высот наблюдаю за огромным, без конца и края городом с однообразной планировкой, разбитым на повторяющиеся геометрически ровные секторы, но с оживленным уличным движением. Тысячи людей без перерыва и, похоже, без цели сновали туда-сюда, входили и выходили из однотипных зданий, поднимались по прямым улицам, спускались под землю в метро и возникали на поверхности в другом месте. Когда я или, вернее, око, которым я стал, снизился, чтобы вблизи рассмотреть пешеходов, оказалось, что мужчины и женщины похожи и лишены индивидуальных черт. У всех была белая кожа, светлые волосы и глаза, голубые, блеклые, отсутствующие, глаза Хёсса, глаза моего прежнего ординарца Ханики в момент его смерти в Харькове, глаза цвета неба. Город, насколько хватало взгляда, пересекали рельсы, по ним мчались маленькие поезда, регулярно останавливались, изрыгали пассажиров и тут же заглатывали новых. В другие ночи я проникал в дома: вереницы людей двигались вперед между длинными общими столами и уборными, ели и испражнялись, не покидая очереди; кое-кто совокуплялся на многоярусных кроватях, потом рождались дети, играли возле нар, а повзрослев, покидали здания и занимали место в строю себе подобных в городе абсолютного счастья. Постепенно мне удалось выявить тенденцию: определенное количество людей незаметно сворачивало в сторону и исчезало в зданиях без окон, чтобы там лечь и молча умереть. Потом специалисты отбирали тех, кто еще мог послужить на благо экономики города; их тела сжигали в печах, которые параллельно служили для нагрева воды, распределяемой по секторам с помощью канализационных систем; кости крошили; дым из трубы ручейком вливался в потоки из соседних труб, образуя спокойную торжественную реку. Когда во сне я вновь увидел панораму с высоты, то понял всю сообразность процессов: количество рожденных в общих спальнях равнялось числу умерших, общество динамично репродуцировалось, сохраняя удивительный баланс, без избытка и без недостачи. Проснувшись, я четко осознавал, что эти спокойные, неомраченные страхом сны отображали лагерь, но лагерь совершенный, застывший на недостижимом в реальности уровне развития, без насилия, самоуправляемый, отлично функционирующий и, несмотря на постоянное движение, ничего не производящий, а потому абсолютно бесполезный. И, развивая мысль, что я пытался сделать, пока пил суррогатный кофе в столовой СС, разве это не отражение жизни общества в целом? Освобожденная от мишуры и пустой суеты человеческая жизнь вряд ли сведется к чему-то большему; вот мы произвели потомство, цель нашего вида исполнена; а что до смысла собственного существования – всё сплошная иллюзия, приманка; но если смотреть на вещи объективно, то тщетность всех усилий очевидна, собственно, как и само размножение, потому что в результате снова плодятся ничтожества. Так что же такое лагерь с его строгой организацией, абсурдной жестокостью, многоступенчатой иерархией, как не метафора, reductio ad absurdum [76] нашей повседневной жизни?
Но я приехал в Аушвиц не философствовать. Я проинспектировал подсобные лагеря: дорогую сердцу рейхсфюрера сельскохозяйственную станцию в Райско, где доктор Цезарь объяснил мне, каким образом они пытаются разрешить проблему с разведением в больших масштабах культуры коксагиз, той самой, открытой, если помните, в окрестностях Майкопа, из которой мы собирались производить каучук. Потом заводы, цементный в Голешау, сталелитейный в Айнтрахтхютте, и шахты Явизовиц и Ной-Дахсе. За исключением Райско – это случай особый, – условия там оказались еще хуже, чем на фабрике «Буна»: отсутствие мер безопасности провоцировало многочисленные несчастные случаи, несоблюдение элементарной гигиены расшатывало психику, дикая, убийственная жестокость капо и бригадиров из штатских вспыхивала по любому поводу. Я спустился на дно шахты в затянутой металлической сеткой раскачивающейся клетке; на каждом уровне темноту буравили длинные, слабо освещенные желтоватыми лампами штольни; заключенный, высаживаясь здесь, навсегда терял надежду снова увидеть белый свет. На глубине со стен струилась вода, из низких вонючих коридоров доносились крики и металлический лязг. Полубаки из-под бензина с положенной поперек доской служили туалетом: некоторые заключенные настолько ослабли, что падали внутрь. Другие, худые, как скелеты, с отекшими ногами, надрываясь, толкали груженые вагонетки по плохо подогнанным рельсам или долбили стены лопатами и отбойными молотками, еле удерживая их в руках. На выходе, в ожидании, когда их поднимут на поверхность и отправят в Биркенау, подпирая плечом товарищей, почти терявших сознание, и неся на импровизированных носилках мертвых, томились колонны изможденных рабочих: эти хоть увидят небо, пусть всего и на пару часов. Я совершенно не удивился, узнав, что повсюду работы продвигаются гораздо медленнее, чем планировали инженеры: как правило, ругали плохое качество товара, поставляемого лагерями. Молодой инженер с предприятия Германа Геринга с понурым видом уверял меня, что пытался добиться добавки рациона для узников Явизовиц, но дирекция отказала. Что до побоев, даже этот прогрессивно мыслящий человек не без грусти признавал: если бить, то заключенные медленно, но двигаются, а если не бить, то они совсем перестают шевелиться.
С доктором Виртсом у меня состоялась интересная беседа на тему физического насилия – проблема хорошо мне знакомая, ведь с ней я уже сталкивался в айнзатцгруппах. Виртc согласился, что даже те, кто вначале бил только по необходимости, в результате входили во вкус. «Вместо того чтобы исправлять закоренелых преступников, – горячо убеждал меня Виртс, – мы, наоборот, утверждаем их в пороках, предоставляя им право командовать другими узниками. Более того, мы создаем новых извращенцев из наших СС. Лагеря с теперешними их методами являются рассадником психических заболеваний и садизма; когда после войны эти люди вернутся к гражданской жизни, у нас будет забот полон рот». Я объяснил ему, что, по слухам, решение перепоручить ликвидацию лагерям отчасти продиктовано теми психологическими проблемами, которые она вызывает в военных подразделениях, специализирующихся на массовых уничтожениях. «Конечно, – ответил Виртс, – всё попросту перекинули на нас, смешав исправительные и экономические функции обычных лагерей с задачами по уничтожению. Менталитет, формирующийся в процессе ликвидации, не укладывается ни в какие рамки. Даже в своей санчасти я обнаружил, что врачи убивали пациентов, нарушая инструкции. Мне с трудом удалось положить конец подобной практике. И садизм очень распространен, особенно среди охранников, и часто связан с сексуальными переживаниями». – «У вас есть конкретные примеры?» – «Вообще-то, редко кто отваживается прийти ко мне на консультацию. Но иногда случается. Месяц назад я осматривал охранника, проведшего здесь уже год. Он из Бреслау, тридцать семь лет, женат, трое детей. Признался, что бьет заключенных, пока не начнется эякуляция, ему даже не надо себя трогать. У него больше нет нормальных сексуальных отношений; домой в отпуск не поедет, стыдится. Он мне клялся, что до приезда в Аушвиц был абсолютно нормальным». – «И что вы посоветовали?» – «В таких условиях я мало что могу. Тут требуется интенсивная психиатрическая терапия. Я пытаюсь убрать его из лагерной системы, но это нелегко: всего не скажешь, иначе его арестуют. А ведь он болен и нуждается в лечении». – «И как, по вашему мнению, развивается садизм? – спросил я. – Я имею в виду у адекватных людей, без малейшей предрасположенности, и почему он проявляется в подобных условиях?» Виртс задумчиво смотрел в окно и долго молчал, прежде чем ответить: «Я долго размышлял над этим вопросом, однозначно тут не объяснишь. Проще всего было бы обвинить нашу пропаганду, например, ту, что ведет здесь среди солдат обершарфюрер Книттель, возглавляющий Kulturabteilung, культурный отдел: заключенный, по его мнению, недочеловек, скотина, поэтому бить его – абсолютно законно. Однако дело-то в другом: в конце концов, животные – не люди, но никто из наших охранников не стал бы обращаться с ними так, как обращается с заключенными. Конечно, пропаганда играет роль, и многоплановую. Но я пришел к следующему выводу: охранник СС становится садистом не потому, что считает заключенного недочеловеком, наоборот, его ярость растет и превращается в садизм, когда он замечает, что заключенный далеко не скотина, как учила пропаганда, а именно человек и, по сути, ничем от него не отличающийся. Понимаете, именно это сопротивление невыносимо для нашего охранника, эта молчаливая непокорность другого, и охранник бьет, пытаясь выбить то общечеловеческое, что их связывает. Конечно, метод не срабатывает: чем больше охранник бьет, тем яснее понимает, что заключенный отказывается признавать себя недочеловеком. В итоге охраннику остается одно – убить и тем самым констатировать свое полное поражение». Виртс замолчал. Он по-прежнему не отворачивался от окна. Я нарушил тишину: «Могу ли я задать вам вопрос личного характера, доктор?» Виртс, не глядя на меня, барабанил тонкими пальцами по столу: «Задавайте, пожалуйста». – «Вы верующий?» Виртс выдержал паузу, посмотрел на улицу, на крематорий. «Я им был, да», – произнес он наконец.
Я распрощался с Виртсом и зашагал вверх по Казернештрассе к комендатуре. Прямо возле контрольно-пропускного пункта с красно-белой оградой я заметил старшего сына Хёсса, сидевшего на корточках у порога дома. Я подошел и поздоровался: «Добрый день!» Мальчик посмотрел на меня чистыми умными глазами и встал: «Здравствуйте, герр штурмбанфюрер». – «Как тебя зовут?» – «Клаус». – «Что ты делаешь, Клаус?» Клаус пальцем показал на порог: «Поглядите». Утрамбованная земля перед ступенями была черна от муравьев. Клаус присел и снова принялся наблюдать, я тоже наклонился. На первый взгляд казалось, что тысячи муравьев бегают совершенно беспорядочно и без всякой цели. Но, приглядевшись, я понял, за счет чего создается прерывистый ритм их мельтешения: каждое насекомое ежесекундно останавливалось, чтобы усиками-антеннами дотронуться до тех, с кем встречалось по пути. Постепенно я установил, что часть муравьев сворачивает налево, а другие возвращаются оттуда и тащат кусочки еды – утомительная, каторжная работа. Прибежавшие сообщали остальным, где находится источник пищи. Дверь отворилась, из дома вышел заключенный, садовник, которого я уже видел раньше. Он вытянулся передо мной в струнку и снял пилотку. Человек этот был немногим старше меня, польский политический – определил я по треугольнику. Он покосился на муравейник и сказал: «Надо его разрушить, герр офицер». – «Ни в коем случае! Даже не дотрагивайтесь». – «О да, Стани, – добавил Клаус, – оставь. Они ничего тебе не сделали». Потом обратился ко мне: «Куда они бегают?» – «Не знаю. Давай проследим». Муравьиная тропка пролегала вдоль садовой стены, шла по обочине улицы, ныряя под машины и мотоциклы, припаркованные напротив комендатуры, и заворачивала за здание администрации лагеря. Мы медленно шли вдоль нее, восхищаясь неутомимой энергией муравьев. Когда мы поравнялись с Политическим отделом, Клаус занервничал: «Герр штурмбанфюрер, извините, но отец не велит мне сюда ходить». – «Подожди тут, я тебе расскажу». За бараком Политотдела выступало приземистое здание крематория, бывшее хранилище для боеприпасов, засыпанное землей и смутно напоминавшее – убрать бы еще трубу – плоский курган. Муравьи устремлялись к темному бункеру, взбирались по его наклонной стороне, затем поворачивали и спускались по бетонной стене туда, где в глубине между земляными насыпями располагался вход. Я не отставал от муравьев и засек, что они через приоткрытую дверь проникают внутрь крематория. Я огляделся: кроме уставившегося на меня с любопытством охранника и группы заключенных, толкавших тачки немного поодаль на новом участке расширяющегося лагеря, вокруг не было ни души. Я подошел к двери с двумя отверстиями-окнами по бокам, внутри было темно и тихо. Муравьи пересекали порог в самом углу. Я развернулся и направился к Клаусу. «Они бегают туда вниз, – неопределенно сказал я. – Там они отыскали себе еду». Мы с мальчиком побрели к комендатуре и расстались у крыльца. «Вы придете к нам вечером, герр штурмбанфюрер?» – спросил Клаус. Хёсс устраивал небольшой прием и пригласил меня. «Да». – «Тогда до вечера!» Малыш перешагнул муравейник и пошел в сад.
В конце дня я, предварительно заскочив в Дом помыться и переодеться, отправился к Хёссам. У калитки осталось всего несколько дюжин суетящихся муравьев. Тысячи других, вероятно, были теперь под землей, незаметно, но неутомимо продолжая свою бессмысленную работу. Хёсс встретил меня на пороге с рюмкой коньяка в руке и представил своей супруге Хедвиге, блондинке с застывшей улыбкой и жестким взглядом. Вечернее платье с кружевным воротничком и манжетами сидело на ней отлично. Две ее старшие дочери Кинди и Пуппи тоже выглядели очень нарядными. Клаус дружески пожал мне руку; его одели в твидовую курточку английского кроя с замшевыми нашивками на локтях и большими костяными пуговицами. «Красивая у тебя курточка, – похвалил я. – Где же ты такую отыскал?» – «Папа принес из лагеря, – ответил мальчик, просияв от гордости. – И ботинки тоже». Он показал на начищенные полусапожки из коричневой кожи с пуговками по бокам. «Очень элегантно», – похвалил я. Виртс тоже присутствовал здесь и познакомил меня с женой; среди остальных гостей, лагерных офицеров, я приметил Гартенштейна, коменданта гарнизона, Грабнера, начальника Политического отдела, лагерфюрера Аумейера, доктора Цезаря. Атмосфера была довольно официальная, гораздо более натянутая, чем у Эйхмана, но не гнетущая. Жена Цезаря, еще совсем молодая, много смеялась; Виртс рассказал мне, что она была одной из ассистенток Цезаря, и тот сделал ей предложение вскоре после того, как его вторая жена умерла от тифа. Мы обсуждали свержение и арест Муссолини, которые всех потрясли; заверения Бадольо, нового премьер-министра, в лояльности не вызывали особого доверия. Затем разговор коснулся планов рейхсфюрера о развитии Востока. В головах присутствующих бродили самые противоречивые соображения: Грабнер попытался втянуть меня в дискуссию о проекте колонизации Гиммлерштадта, но я отвечал уклончиво. Одно было ясно: какие бы мнения о будущем региона ни складывались у спорщиков, лагерь являлся его неотъемлемой частью. Хёсс считал, что лагерь просуществует еще, по меньшей мере, лет десять или двадцать. «В этой связи предусмотрено расширение Аушвица-один, – пояснил он. – Наступит момент, когда мы покончим с евреями и войной, упраздним Биркенау и отдадим земли под сельское хозяйство. Но промышленность Верхней Силезии, особенно если учитывать потери немцев на Востоке, не сможет обходиться без польской рабочей силы; лагерь будет еще долго жизненно незаменим, чтобы держать поляков в узде». Две женщины-узницы в простых, но чистых и сшитых из добротного материала платьях лавировали с подносами между приглашенными; я заметил на служанках фиолетовые треугольники так называемых «Свидетелей Иеговы». Комнаты Хёсса были красиво обставлены: ковры, канапе и кожаные кресла, отличная мебель из ценных пород дерева, вазы со свежими цветами на круглых кружевных салфетках. Лампы излучали медовый, мягкий, приглушенный свет. На стенах висели увеличенные и снабженные подписями фотографии рейхсфюрера с Хёссом во время посещения лагеря или с его детьми на коленях. Нас потчевали коньяками и винами высшего качества, Хёсс предлагал гостям хорошие югославские сигареты марки «Ибар». Я с любопытством взирал на этого человека, столь сурового и добросовестного, одевавшего собственных дочерей и сыновей в вещи еврейских детей, убитых по его приказу. Помнил ли он об этом, глядя на своих малышей? Без сомнения, такая мысль даже не приходила ему на ум. Жена держала его под локоток и периодически резко, пронзительно смеялась. Я смотрел на нее и представлял под юбкой ее половые органы, упрятанные в кружевные трусики молодой красивой еврейки, которую ее муж отравил газом. Еврейка вместе со своей промежностью и задницей давно обратилась в струйку дыма, а дорогие трусики, возможно специально надетые ею в дорогу, украшают вульву Хедвиги Хёсс. Думал ли Хёсс об этой еврейке, когда стаскивал с жены трусики, собираясь обхаживать ее? Скорее всего, он больше не интересовался вульвой фрау Хёсс: работа в лагерях если и не превращала мужчин в извращенцев, то делала их импотентами. А не имел ли Хёсс где-нибудь в лагере еврейку, чистую, откормленную, певичку, комендантскую шлюху? Нет, только не он: если бы Хёсс завел любовницу среди заключенных, то уж точно не еврейку, а немку.
Подобные мысли до добра никогда не доводят, мне это хорошо известно. Ночью мой повторяющийся сон достиг кульминации. Я шел к городу-гиганту по заброшенным железнодорожным путям; вдалеке мирно дымил ряд труб; я чувствовал себя потерянным, одиноким, беспризорным щенком, и мне мучительно не хватало компании людей. Я смешался с толпой и долго бродил по улицам, меня непреодолимо тянуло к крематориям, выплевывающим в небо завитки дыма и фонтаны искр… как собака, одновременно влекомая и отталкиваемая / зловонием себя самой, / Горящая. Но я не мог туда добраться и вошел в одно из огромных зданий-бараков, где занял койку, отпихнув незнакомую женщину, вознамерившуюся присоседиться ко мне, и сразу заснул. Проснувшись, я заметил на подушке следы крови. Пригляделся внимательнее и увидел пятна на одеяле, приподнял его; простыни пропитались кровью и спермой, крупные хлопья белка оказались настолько густыми, что даже не просочились сквозь ткань. Я спал в комнате у Хёссов, наверху, рядом с детской; и понятия не имел, каким образом перетащить в ванную и застирать испачканные простыни, чтобы Хёсс ни о чем не догадался. Возникшая проблема меня ужасно смущала, я боялся. Потом ко мне в комнату вошел Хёсс с другим офицером. Они сняли брюки, сели, скрестив ноги, у моей кровати и начали энергично дрочить; багровые головки членов высовывались и исчезали в складках крайней плоти, пока не выпустили мощные струи спермы на одеяло и ковер. Хёсс и офицер хотели, чтобы я повторял за ними, но я отказался; ритуал обладал, по всей видимости, определенным смыслом, но каким, я не знал.
Тот грубый, похабный сон знаменовал конец моей первой командировки в Аушвиц. Завершив дела, я вернулся в Берлин и уже оттуда отправился в концлагеря Старого Рейха: Заксенхаузен, Бухенвальд и Нойенгамме и их подсобные структуры. Не буду слишком распространяться о своих поездках: все концентрационные лагеря подробно описаны в исторической литературе, и добавить мне нечего; кроме того, утверждение, что, побывав в одном лагере, можно судить и об остальных, абсолютно справедливо: давно известно, все они похожи. Даже учитывая все местные особенности, ничто из увиденного не повлияло на мое мнение и выводы. Я окончательно вернулся в Берлин где-то в середине августа, примерно в тех числах, когда Советы взяли Орел, а англичане и американцы захватили Сицилию. Рапорт я подготовил довольно быстро: записи были систематизированы еще в дороге, предстояло только разбить текст на главы и напечатать, что должно было занять всего несколько дней. Я проработал и стиль, и аргументы, и логику изложения: отчет адресовался рейхсфюреру, и Брандт предупредил, что мне, конечно, предстоит докладывать о ситуации устно. Я отослал последнюю отредактированную и оформленную версию и стал ждать.
Должен признать, что встреча с квартирной хозяйкой фрау Гуткнехт удовольствия мне не принесла. А она пришла в восторг и любой ценой хотела напоить меня чаем и потом долго сокрушалась, что я не подумал привезти с Востока, где полно всякой еды, хоть пару яиц, для хозяйства, разумеется. Честно говоря, она была не единственная: Пионтек притащил из Тарновца полный чемодан продуктов и согласился продать мне часть без продовольственных талонов. К тому же у меня создалось впечатление, что, воспользовавшись моим отсутствием, фрау Гуткнехт рылась в моих вещах. Увы, моя терпимость к ее крикливому голосу и неуместной ребячливости начала иссякать. Фрейлейн Пракса сменила прическу, но ногти красила в прежний цвет. Томас обрадовался, увидев меня: грядут большие перемены, уверял он, хорошо, что я в Берлине, надо быть начеку.
Какое странное ощущение оказаться вдруг в бездействии после столь насыщенной командировки! Бланшо я уже давно дочитал; открыл трактат о ритуальных убийствах, чтобы тут же захлопнуть, подивившись, что рейхсфюрер интересуется подобными глупостями; личных проблем у меня не было, а служебные я уладил. Распахнув окно кабинета, выходившее на парк Дворца принца Альбрехта, прекрасный, но уже увядающий на августовской жаре, я, закинув ногу на ногу, лежал на диване или курил, перегнувшись через подоконник, и думал. Когда неподвижность мне надоедала, я спускался в парк и бродил по посыпанным гравием пыльным аллеям, отыскивая тенистые уголки. Я вспоминал все увиденное в Польше, но по необъяснимой причине образы ускользали, и мысль цеплялась за слова. Слова занимали меня в первую очередь. Я задавался вопросом, в какой степени различия между немцами и русскими, различия в реакции на массовые убийства, вынудившие нас в итоге несколько смягчить методы, в то время как русские даже спустя четверть века казались абсолютно непоколебимыми, – так вот, в какой степени эти различия отражаются в языках. Слово Tod имеет жесткость холодного трупа, оно чистое, почти абстрактное, во всяком случае, в нем чувствуется окончательность состояния, а русское «смерть» – тяжелое и вязкое, как собственно само явление. И что тогда с французским? В этом языке присутствует идущая из латыни феминизации смерти – какой разрыв между «la mort» и связанными с нею образами, теплыми, едва ли не нежными, и ужасным Танатосом греков! Немцы, в отличие от русских и французов, хотя бы сохранили мужской род. В ясном свете лета я размышлял о принятом нами решении, вопиющей идее убить всех евреев, без исключения, молодых или старых, хороших или плохих, уничтожить иудаизм в лице его носителей, решение, получившее название Endlösung, широко теперь известное. Что за прекрасное слово! Кстати, оно не всегда было синонимом «уничтожения»: сначала для евреев требовали völlige Lösung (полного решения) или allgemeine Lösung (общего решения), и в разные периоды под этим понимали исключение из общественной жизни, исключение из экономической жизни и эмиграцию. Постепенно значение приблизилось к бездне преисподней, не изменив при этом само обозначаемое, будто в сердцевине слова всегда жил категоричный смысл, который своей чудовищной массой влек, тащил за собой в черную дыру сознания, к уродливому, противоестественному: в результате мы перешли черту невозврата. Мир еще верит в идеи, понятия, в то, что мысли выражаются словами, но это необязательно так, возможно, существуют только слова и весомость слов. Возможно, мы просто поддаемся словам и их фатальности. Тогда получается, что в нас самих нет ни идей, ни логики, ни согласованности? Только слова нашего необыкновенного языка, только это слово ослепительной красоты – Endlösung? Действительно, как сопротивляться его обольщению? Точно так же нельзя противостоять словам «подчиняться», «служить», слову «закон». Этим, наверное, и объясняется в итоге смысл существования наших Sprachregelungen, достаточно прозрачных для расшифровки (Tarnjargon), но полезных, ведь изощренная абстрактность наших слов и выражений, типа Sonderbehandlung (особое обращение), abtransportiert (ссыльный), entsprechend behandelt (подвергнутых надлежащему обращению), Wohnsitzverlegung (смена места жительства), Exekutivmaßnahmen (исполнительные меры), весьма помогает тем, кто их употребляет. Эта тенденция характерна и для нашего бюрократического канцелярского языка, burokratisches Amtsdeutsch, как называл его мой коллега Эйхман: в корреспонденции да и в речи преобладали конструкции страдательного залога: «было решено, что…», «евреи были отправлены под конвоем для проведения специальных мер», «трудная задача была выполнена». Вещи вроде бы совершаются сами по себе, никто ничего и никогда не делал, никто ничего не предпринимал, действие разыгрывается без актеров, что, конечно, ободряет. В некотором роде это даже не действие, ведь особое использование нашим национал-социалистическим языком отдельных слов позволило если не полностью уничтожить глаголы, то, по меньшей мере, отвести им роль ненужных (скорее декоративных) приложений, вот так нам удавалось обойтись без действий. Имелись только грубые факты, реальные вещи, или уже существующие, или ожидающие неизбежного исполнения: Einsatz – «введение в бой», Einbruch – «прорыв обороны», Verwertung – «использование», Entpolonisierung – «изживание поляков», Ausrottung – «истребление», противостоящие Versteppung, «остепнению» Европы ордами большевиков. В отличие от Аттилы, они хотят стереть с лица земли цивилизации, чтобы вырастить траву для своих лошадей. «Man lebt in seiner Sprache», – писал Ганс Йост, один из наших лучших национал-социалистических поэтов: «Человек живет в своем языке». Я уверен, что Фосс не стал бы это отрицать.
Пока я ждал вызова от рейхсфюрера, англичане с удвоенной силой возобновили воздушные налеты на Берлин. Я помню понедельник двадцать третьего августа: поздняя ночь, я лежал у себя, пока не спал, и вдруг завыли сирены. Я решил остаться в постели, но моя дверь уже сотрясалась под ударами кулаков фрау Гуткнехт. Она вопила так громко, что почти заглушала сирены: «Герр офицер! Герр офицер!.. Доктор Ауэ! Вставайте! Luftmörder!!! На помощь!» Я натянул брюки и открыл ей: «Ну да, фрау Гуткнехт. Это – RAF [77]. И чего же вы хотите от меня?» Ее толстые щеки дрожали, она зеленела на глазах, судорожно крестилась и бормотала: «Иисус-Мария-Иосиф, Иисус-Мария-Иосиф, что же нам делать?» – «Мы сейчас, как и все, пойдем в укрытие». Я опять закрылся в комнате, чтобы одеться, потом запер дверь на ключ от мародеров и спокойно спустился вниз. Снаружи, в основном с южной стороны и ближе к Тиргартену, слышался грохот зениток «Флак». Подвал дома приспособили под бомбоубежище, прямого попадания оно бы не выдержало, но все лучше, чем ничего. Я лавировал среди чемоданов, перешагивал через ноги и устроился в углу, как можно дальше от фрау Гуткнехт, делившейся своими страхами с соседками. Одни дети плакали от ужаса, другие носились между людьми, кто-то был в костюме, а кто-то в домашнем халате. Подвал освещали лишь две свечи, маленькие пляшущие мерцающие огоньки, как сейсмографы, регистрировали близкие взрывы. Тревога длилась несколько часов, курить, к сожалению, было запрещено. Я, наверное, задремал, я не сомневался, что на наш район бомба не упадет. Когда атака закончилась, я вернулся домой спать, даже не посмотрев, что там на улицах. На следующий день я не поехал на метро, позвонил в СС и попросил прислать Пионтека. Он сообщил, что бомбардировщики появились с юга, вероятно с Сицилии, и больше всего досталось Штеглицу, Лихтерфельде и Мариенфельде, хотя дома от Темпельгофа до Зоопарка тоже разрушены. «Наши применили новую тактику, „Вильде Зау“ [78], так они объявили по радио, но толком не объяснили, что это, штурмбанфюрер. Вроде успешно, мы сбили больше шестидесяти самолетов этой мрази. Бедный герр Ешоннек, надо было ему немного повременить». Генерал Ешоннек, командующий Генштабом Люфтваффе, недавно покончил жизнь самоубийством из-за многочисленных поражений вверенной ему службы, неспособной предотвратить англо-американские рейды. Действительно, мы еще даже не пересекли Шпрее, а Пионтек вынужден был свернуть, чтобы объехать улицу, засыпанную щебнем и обломками дома, на который рухнул бомбардировщик, по-видимому, «ланкастер», его хвост уныло торчал из руин, как корма тонущего корабля в волнах. Черный густой дым заслонял солнце. Я приказал Пионтеку ехать на юг города, и чем дальше мы двигались вперед, тем больше нам встречалось еще горевших зданий и переулков, заваленных строительным мусором. Люди вытаскивали мебель из развороченных домов и сгружали ее посреди залитых брандспойтами улиц; передвижные полевые кухни разливали суп выжившим, выстроившимся в очередь, напуганным, измученным, перепачканным копотью; рядом с пожарными машинами на тротуарах лежали тела, иногда из-под грязного покрывала высовывались голые или обутые в нелепые тапки ноги. Из-за опрокинутых взрывной волной на бок и обугленных трамваев движение кое-где остановилось; электрические провода свисали на мостовую, почти все деревья порубило, а на тех, что уцелели, не осталось ни единого листочка. До наиболее пострадавших районов добраться было невозможно; я велел Пионтеку разворачиваться и отправился в СС. Серьезных повреждений здание не получило, но от близких залпов выбило окна, на крыльце под моими сапогами скрипели осколки. В вестибюле я наткнулся на Брандта, пребывавшего в радостном возбуждении, что выглядело довольно странно, учитывая обстоятельства. «Что происходит?» Он притормозил на мгновение: «О, штурмбанфюрер, вы еще не знаете новости! Замечательной новости! Рейхсфюрер назначен министром внутренних дел». Ах, вот о каких переменах говорил Томас, – подумал я, когда Брандт ринулся к лифту. Я поднялся по лестнице: фрейлейн Пракса сидела на месте, накрашенная, свежая, как роза. «Хорошо спали?» – «Ах, вы знаете, штурмбанфюрер, я живу в Вайсензее и ничего не слышала». – «Тем лучше для вас». Окно моего кабинета не разбилось: я завел привычку оставлять его с вечера открытым. Я размышлял над новостью, которую сообщил мне Брандт, но мне не хватало деталей, чтобы проанализировать ее глубже. Мне казалось, что нас это мало коснется: Гиммлер, как начальник немецкой полиции, номинально подчинялся министру внутренних дел, но действовал совершенно независимо, и так было, по меньшей мере, с 1936 года; ни Фрик, отстраненный министр, ни его заместитель Штукарт никогда не имели ни малейшего влияния на РСХА и даже на главное ведомство орпо. Им удавалось сохранить контроль лишь над гражданской администрацией, чиновничеством, теперь же под руку рейхсфюрера переходило все. Впрочем, я не мог поверить, что суть интриги в этом. Понятно, что звание министра только укрепляло власть рейхсфюрера в отношении его противников, но я не до такой степени владел информацией о борьбе в верхах, чтобы по достоинству оценить подобный маневр.
Я вообразил, что в связи с произошедшей перестановкой рассмотрение моего рапорта откладывается на неопределенный срок, – плохо же я знал рейхсфюрера. Двумя днями позже меня вызвали к нему на ковер. Накануне ночью англичане опять совершили налет, не такой массированный, как в прошлый раз, но все же выспаться не дали. Я растер лицо холодной водой, пытаясь восстановить его естественный цвет. Брандт, таращась по-совиному, как обычно, предварительно прочитал мне нотацию: «Вы, конечно, понимаете, что рейхсфюрер сейчас крайне занят. Тем не менее он непременно хотел вас принять, потому что речь идет о докладе, по его мнению заслуживающем продвижения. Ваш рапорт характеризовали как высокопрофессиональный, отчасти слишком прямолинейный, но убедительный. Рейхсфюрер, безусловно, попросит вас обосновать ваши выводы. Будьте кратки. У него мало времени». Теперь рейхсфюрер встречал меня чуть ли не дружески: «Дорогой мой штурмбанфюрер Ауэ! Извините, что заставил вас ждать несколько дней». Он махнул маленькой, вялой, с сильно выступающими венами рукой в сторону кресла: «Присаживайтесь». Рейхсфюрер перелистал досье, которое, как и в прошлый раз, положил перед ним Брандт. «Вы виделись со стариной Глобусом. Ну, и как он поживает?» – «Группенфюрер Глобочник в отличной форме, рейхсфюрер. Энергия бьет ключом». – «И что вы думаете о результатах его руководства операцией „Рейнхардт“? Можете высказаться откровенно». Крошечные глазки холодно блеснули за стеклами пенсне. В моей памяти внезапно всплыло начало нашего разговора с Глобочником: он, конечно, знал своего рейхсфюрера лучше меня. Я старался тщательно подбирать слова: «Нет никаких сомнений, рейхсфюрер, в том, что группенфюрер убежденный национал-социалист. Но богатые возможности могли породить массу соблазнов у его окружения. У меня создалось впечатление, что в связи с этим рейхсфюреру следовало бы проявлять больше строгости, он слишком доверяет некоторым своим подчиненным». – «В докладе вы особое внимание уделяете коррупции. Вы полагаете, что проблема реально существует?» – «Я в этом уверен, рейхсфюрер. Если она достигает определенных масштабов, то это негативно отражается на работе и лагерей, и арбайтсайнзатцгрупп. Эсэсовец, который ворует, – это эсэсовец, которого может купить заключенный». Гиммлер снял пенсне, вытащил платок из кармана и протер стекла: «Резюмируйте свои выводы. Вкратце». Я нашел в портфеле листок с записями и начал: «В системе концлагерей, функционирующей сегодня, я, рейхсфюрер, вижу три препятствия для максимального и рационального использования имеющейся рабочей силы. О первом препятствии уже сказано: коррупция в лагерях среди эсэсовцев. И здесь дело не только в морали, но и в практических проблемах, возникающих на разных уровнях. Но от этой болезни лекарство найдено: уполномоченная вами специальная комиссия должна провести интенсивную работу. Второе препятствие: неистребимая бюрократическая несогласованность, которая, несмотря на усилия обергруппенфюрера Поля, до сих пор не устранена. Разрешите, рейхсфюрер, привести один из примеров, фигурирующих в моем рапорте: приказ бригадефюрера Глюкса от двадцать восьмого декабря сорок второго года, адресованный всем главврачам концлагерей, кроме прочего вменял им в обязанность улучшить продовольственный рацион заключенных с целью снижения показателя смертности. Однако лагерные кухни подчиняются отделу ведомства Д-IV ВФХА; рацион определяет Д-IV-2 при согласовании с главным ведомством СС. Ни лагерные врачи, ни ведомство Д-III не имеют ни малейшего права вмешиваться в процесс. В итоге эта часть приказа бригадефюрера просто осталась нереализованной; рацион с прошлого года не изменился». Я выдержал паузу. Гиммлер, смотревший на меня доброжелательно, покачал головой: «Тем не менее, если не ошибаюсь, количество смертей уменьшилось». – «Да, именно, рейхсфюрер, но по другим причинам. Явный прогресс отмечается в области санитарии и гигиены, контролируемой непосредственно медиками. Но смертность можно сократить до минимума. При нынешнем положении дел, если позволите заметить, рейхсфюрер, каждая преждевременная смерть заключенного наносит прямой ущерб военному производству Рейха». – «Мне лучше вас об этом известно, штурмбанфюрер, – буркнул Гиммлер и прибавил недовольным тоном школьного учителя: – Продолжайте». – «Слушаюсь, рейсхфюрер. Третье препятствие: менталитет офицеров высшего звена, ветеранов Инспекции концлагерей. Мои соображения ни в коей мере не ущемляют их неоспоримые достоинства офицеров СС и национал-социалистов. Но большинство из них, признаем сей факт, получали образование в тот период, когда в соответствии со срочными директивами обергруппенфюрера Эйке функции лагерей были совершенно иными». – «Вы знали Эйке?» – перебил Гиммлер. «Нет, рейхсфюрер. Не имел такой чести». – «Жаль. Великий человек. Нам его очень не хватает. Но извините, я вас прервал. Дальше, пожалуйста». – «Благодарю, рейхсфюрер. Я хотел сказать, что эти офицеры ориентированы, прежде всего, на политическую и полицейскую функции лагерей, господствовавшие в тот период. Несмотря на огромный опыт в данной области, многие из них оказались не способны адаптироваться к новым экономическим задачам КЛ. Это проблема и умонастроения, и образования: немногие из них имеют хоть малейший коммерческий опыт и потому не могут сработаться с администрациями предприятий ВФХА. Я подчеркиваю, речь о проблеме общего характера, проблеме поколения, так сказать, а не об отдельных личностях, даже если я и упомянул кое-кого в качестве примера». Гиммлер соединил клином ладони под скошенным подбородком. «Хорошо, штурмбанфюрер. Ваш рапорт мы передадим в ВФХА, и я надеюсь, что его примет на вооружение мой друг Поль. Но чтобы никого не обидеть, вы сначала внесите некоторые исправления. Брандт вас проинструктирует. Естественно, не приводите никаких конкретных имен. Вы понимаете почему». – «Разумеется, рейхсфюрер». – «Но я приказываю под грифом секретности отослать копию без правки доктору Мандельброду». – «Есть, рейхсфюрер». Гиммлер кашлянул, замялся, вынул платок, прикрыл рот и откашлялся. «Извините, – сказал он, складывая платок. – У меня для вас новое поручение, штурмбанфюрер. Вопрос снабжения лагерей продовольствием, затронутый вами, возникает очень часто, и мне кажется, что вы способны разобраться в этой области». – «Рейхсфюрер…» Он отмахнулся: «Да, да. Я помню ваш рапорт из Сталинграда. Вот что мне надо: пока отдел Д-III занимается всеми медицинскими и санитарными проблемами, мы не имеем, как вы и отмечали, централизованной инстанции по продовольственному обеспечению заключенных. И я решил создать межведомственную рабочую группу для решения этой проблемы. Вы будете ее координатором и привлечете к сотрудничеству все компетентные отделы Инспекции лагерей; Поль пришлет вам представителя предприятий СС, который разъяснит вам их позицию. К тому же я хочу, чтобы у РСХА оставалось право голоса. И последнее: вам следует посетить сопричастные министерства, в первую очередь Шпеера, постоянно направляющего нам жалобы от частных компаний. Поль предоставит в ваше распоряжение нужных экспертов. Я рассчитываю на компромиссное решение, штурмбанфюрер. И жду конкретных предложений; если они окажутся здравыми и реалистичными, мы их используем. Брандт позаботится обо всем необходимом. Вопросы?» Я вытянулся по струнке: «Рейхсфюрер, ваше доверие делает мне честь, благодарю. Я хотел бы только уточнить один пункт». – «Какой?» – «Главной задачей остается увеличение производства?» Гиммлер откинулся в кресле, свесил руки с подлокотников; лицо его опять приняло хитрое выражение: «Пока это не наносит ущерба другим интересам СС и не затрагивает текущих программ, ответ – да». Он помолчал. «Пожелания министерств, конечно, важны, но вам известно, что существуют предписания, которые важнее. Примите это во внимание. Если возникнут сомнения, обращайтесь к Полю. Он знает, чего я хочу. Всего доброго, штурмбанфюрер».
Должен признаться, что, выходя из кабинета Гиммлера, я ног под собой от радости не чуял. Наконец мне доверили настоящее, ответственное дело! Оценили меня по достоинству. К тому же это задача созидательного характера, средство направить процесс в нужное русло, возможность иным, нежели убийство и разрушение, способом внести лепту в укрепление военной мощи и победу Германии. Я еще не разговаривал с Рудольфом Брандтом и, как подросток, лелеял смешные, тщеславные мечты: ведомства, убежденные моей неопровержимой аргументацией, сплачиваются за мной единым фронтом, бездари и преступники лишены власти и отправлены в дыры, откуда их вытащили. Через несколько месяцев мы достигаем значительных успехов, заключенные восстанавливают силы и здоровье, многие из них, осознав всепобеждающую силу национал-социализма, принимаются работать с радостью, желая помочь Германии в ее борьбе. Производительность ежемесячно растет; я получаю еще более важный пост, реальное влияние позволяет мне улучшать отношения, опираясь на принципы истинного Weltanschauung, сам рейхсфюрер прислушивается ко мне – одному из лучших национал-социалистов. Абсурдно, наивно – понимаю, – но упоительно. Естественно, все пошло по-другому сценарию. Но поначалу меня действительно распирало от энтузиазма. Даже Томас, похоже, поразился. «Вот видишь, что бывает, когда ты следуешь моим советам, а не поступаешь, как тебе в голову взбредет», – бросил он с сардонической усмешкой. Но если хорошенько поразмыслить, я не слишком изменил своему стилю работы в сравнении с нашей общей командировкой 1939 года: я опять выложил суровую правду, не особо задумываясь о последствиях. Просто повезло мне больше, так уж вышло, что на этот раз правда соответствовала тому, что от меня хотели услышать.
Я с рвением приступил к своим обязанностям. Поскольку в здании СС места не хватало, Брандт передал в мое распоряжение комплекс кабинетов на последнем этаже в центральном отделе Министерства внутренних дел на Кёнигсплац в излучине Шпрее; мои окна выходили на противоположную от рейхстага сторону. Но сбоку, за оперой Кроля, передо мной расстилалась безмятежная зелень Тиргартена, а с другого – за рекой и мостом Мольтке – виднелся таможенный вокзал Лертер-Банхоф. Широкая сеть его путей и депо, постоянное медленное, умиротворяющее движение поездов по рельсам вселяли в меня ощущение детской радости. Плюсом было и то, что рейхсфюрер никогда здесь не появлялся, и я мог спокойно курить в кабинете. Фрейлейн Пракса, в общем-то не слишком меня раздражавшая, – по крайней мере, она умела отвечать на телефонные звонки и записывать сообщения – переехала вместе со мной; Пионтека тоже удалось забрать. Вдобавок Брандт прислал мне гауптшарфюрера Вальзера, чтобы тот вел документацию, двух машинисток и велел еще взять помощника по административной работе в звании унтерштурмфюрера; Томас порекомендовал мне одного по фамилии Асбах. Молодой человек окончил факультет права, стажировался в Бад-Тёльце и недавно вступил в СП.
Британские самолеты возвращались несколько ночей подряд, но всякий раз в меньшем количестве: новая тактика «Вильде Зау» позволяла нашим истребителям сверху обрушиваться на вражеские машины, оставаясь вне прицела зениток «Флак», а люфтваффе начали использовать мощные прожекторы, позволявшие в темноте видеть цель, как днем. Мы нанесли противнику серьезный урон, британцы испугались, и после третьего сентября рейды вовсе прекратились. Я отправился к Полю в его штаб-квартиру в Лихтерфельде, чтобы обсудить формирование рабочей группы. Поль был явно доволен тем, что продовольственной проблемой наконец будут заниматься систематически; ему надоело – откровенно объявил он мне – посылать своим комендантам приказы, которые впоследствии не исполняются. Мы договорились, что Амтсгруппа «Д» выделит трех представителей – по одному от разных отделов; в качестве консультанта по экономическим аспектам и разногласиям с фирмами, использующими заключенных как рабочую силу, Поль предложил мне в помощь члена правления ДВБ, Немецких экономических предприятий. Вдобавок Поль прикомандировал ко мне инспектора по продовольствию, профессора Вайнровски, человека уже поседевшего, с влажными глазами, с глубокой, рассекающей подбородок ямкой, в которой пряталась грубая щетина, не захваченная лезвием при бритье. Вайнровски уже около года бился над улучшением питания в лагерях и отлично знал обо всех существующих сложностях; Поль хотел, чтобы инспектор участвовал в наших проектах. После переписки с заинтересованными ведомствами я созвал первое собрание с целью прояснить общую ситуацию. По моей просьбе профессор Вайнровски со своим ассистентом гауптштурмфюрером доктором Изенбеком подготовил краткий доклад, раздал распечатку присутствующим и сделал устную презентацию. Стоял чудесный сентябрьский день, конец бабьего лета; солнце озаряло деревья Тиргартена, широкие полосы света пересекали наш конференц-зал, а над шевелюрой профессора лучи зажгли нимб. Ситуация с питанием заключенных весьма неясная, – растолковывал нам Вайнровски поучающим отрывистым голосом. Нормы и бюджет зафиксированы центральными директивами, но лагеря, естественно, запасаются продовольствием на месте, в регионах, из-за чего в рационах возникают различия и порой весьма ощутимые. В качестве примера типичного меню Вайнровски предложил то, что выдается в Аушвице, где заключенный, назначенный на тяжелые работы, должен ежедневно получать 350 граммов хлеба, 0,5 литра суррогатного кофе или чая, 1 литр супа из картофеля или репы, причем четыре раза в неделю – с двадцатью граммами мяса. Заключенные, имеющие нагрузки полегче, в том числе работающие в медпунктах, получают, конечно, меньше; существуют еще разные виды специальных рационов, например для детей в семейных лагерях или узников, отобранных для медицинских опытов. В итоге заключенный, занятый тяжелым трудом, официально потребляет 2150 килокалорий в день, легким – 1700 килокалорий. Однако, даже не отвечая на вопрос, соблюдались ли эти нормы, ясно, что они недостаточны: при учете роста, веса и условий окружающей среды человеку, ведущему пассивный образ жизни, нужно минимум 2100 килокалорий, чтобы оставаться здоровым, а активному – 3000. Поскольку баланс между жирами, глюцидами и протеинами практически не учитывается, заключенные, по сути, обречены на истощение. Рацион в лучшем случае состоит из протеинов на 6,4 %, когда требуется минимум 10 % или даже 15 %. Вайнровски, завершив речь, сел с удовлетворенным видом, а я стал зачитывать адресованные Полю приказы рейхсфюрера по поводу улучшения продовольственной ситуации в лагерях – предварительно мы проанализировали их вместе с моим новым помощником Асбахом. Первый из этих приказов от марта 1942 года ясностью не отличался: через несколько дней после слияния ИКЛ и ВФХА рейхсфюрер просил Поля постепенно внедрять простую и дешевую диету, как у римских солдат или египетских рабов, в которой имелись бы все необходимые витамины. Следующие письма оказались более конкретными: максимум витаминов, сырые овощи, лук, морковь, кольраби, редька и еще чеснок, много чеснока, особенно зимой, в качестве профилактического средства. «Я знаю о приказах, – дослушав меня, сказал Вайнровски, – но, на мой взгляд, не это главное». Для работающего человека важны калории и протеины, а витамины и микроэлементы, в принципе, второстепенны. Гауптштурмфюрер доктор Алике, представитель ведомства Д-III, поддерживал точку зрения Вайнровски; зато у молодого Изенбека возникли сомнения. Классическое питание – так ему кажется – недооценивает значение витаминов, и он в доказательство сослался на статью из научного английского журнала 1938 года, словно это была истина в последней инстанции, но, похоже, на Вайнровски его аргументация впечатления не произвела. Гауптштурмфюрер Гортер из Управления по использованию труда заключенных тоже взял слово. Что касается общей статистики по зарегистрированным заключенным, показатели демонстрируют прогрессирующее улучшение, с 2,8 % в апреле средний показатель смертности упал в июле до 2,23 % и потом до 2,09 % в августе. И даже в Аушвице приблизился к 3,6 % – ощутимое понижение в сравнении с мартом. «В настоящий момент система КЛ насчитывает приблизительно сто шестьдесят тысяч узников: из этого количества только тридцать пять тысяч были признаны неработоспособными, а сто тысяч, что совсем немало, трудятся вне лагерей, на заводах и фабриках». Благодаря строительному проекту Амтсгруппы «Ц» проблема переполненности – источника эпидемий – стоит не так остро, однако с одеждой, несмотря на конфискацию вещей у евреев, по-прежнему сложно, зато в решении медицинских вопросов наблюдается явный прогресс; короче, ситуация вроде бы стабилизируется. Оберштурмфюрер Йедерман, член правления, в целом выразил согласие с Гортером и добавил, что насущной проблемой остается контроль над расходами: бюджетные рамки довольно узкие. «Совершенно верно, – вмешался штурмбанфюрер Рицци, специалист по экономике, протеже Поля, – но здесь надо учитывать множество факторов». Рицци был примерно моего возраста, с редкими волосами, почти славянским курносым носом. Когда Рицци говорил, его тонкие бескровные губы еле шевелились, но мысли он формулировал четко и ясно. Мы можем сопоставить в общем процентном соотношении производительность труда заключенного и немецкого или иностранного рабочего, хотя на обе последние категории затраты гораздо больше, чем на заключенного, и этот ресурс рабочей силы почти исчерпан. Конечно, после того, как крупные предприятия и Министерство вооружения стали жаловаться на незаконную конкуренцию, СС лишилась возможности снабжать собственное производство заключенными по себестоимости и должна оплачивать их по той же цене, что и остальные предприятия, от четырех до шести рейхсмарок в день, притом что содержание заключенного в эту сумму не входит. Однако даже небольшое, правильно отрегулированное повышение реальной себестоимости может поднять коэффициент производительности, что выгодно всем нам. «Поясню: ВФХА сейчас тратит где-то полторы рейхсмарки в день на заключенного, способного выполнить десять процентов от ежедневной работы немецкого рабочего. То есть, чтобы заменить одного немца, нужно десять заключенных или пятнадцать рейхсмарок. А что, если мы станем расходовать по две рейхсмарки в день на одного заключенного, тем самым восстанавливая его силы, продлевая срок его работоспособности и за это время обучая его? В таком случае вполне допустимо, что один заключенный через несколько месяцев будет выполнять уже пятьдесят процентов работы немца, и уже понадобится только два заключенных или четыре рейхсмарки в день, чтобы достичь того же, что и у немца, трудового результата. Вы успеваете следить за мной? Конечно, цифры приблизительны. Надо провести исследование». – «Вы бы могли этим заняться?» – поинтересовался я. «Подождите, подождите, – оборвал меня Йедерман. – Получается, я должен обеспечивать сто тысяч заключенных, выделяя уже не по полторы, а по две рейхсмарки на каждого в день, что в итоге выливается в дополнительные пятьдесят тысяч рейхсмарок в день. Для меня никакой роли не играет, произведут они больше или нет, мой бюджет не изменить». – «Да, вы правы, – ответил я, – но я понимаю, к чему нас подводит штурмбанфюрер Рицци. Если его идея себя оправдает, то общая прибыль СС возрастет, потому что заключенные будут производить больше без увеличения расходов со стороны предприятий, которые их нанимают. Если предположение Рицци доказуемо, то достаточно было бы убедить обергруппенфюрера Поля перечислять часть увеличившихся доходов в бюджет Амтсгруппы „Д“». – «Да, неглупо, – подхватил Гортер, человек Маурера. – Если заключенные будут выдерживать дольше, то и продуктивность возрастет быстрее. Поэтому так важно снизить уровень смертности».
На этой ноте мы завершили собрание. Я предложил распределить задачи для подготовки к нашей следующей встрече. Рицци попробует обосновать функциональность своей идеи, Йедерман детально доложит о бюджетных нестыковках, Изенбеку, с согласия Вайнровски (которому явно не хотелось куда-либо перемещаться), я приказал безотлагательно проинспектировать четыре лагеря: Равенсбрюк, Заксенхаузен, Гросс-Розен и Аушвиц – и привезти оттуда все расчетные таблицы рационов и, главное, – образцы того, чем на самом деле кормят заключенных: я хотел сравнить их с тем, что существует на бумаге.
На последней фразе Рицци бросил на меня удивленный взгляд; после того как участники конференции разошлись, я пригласил штурмбанфюрера в свой кабинет. «У вас есть основания полагать, что заключенные не получают того, что должны?» – спросил он меня резко, без обиняков, в присущей ему манере. Мне он казался человеком умным, судя по его предложению, наши мнения и цели совпадали, и я решил сделать его союзником, к тому же, пускаясь в откровения с ним, риска я не видел. «Да, есть, – заявил я. – В лагерях коррупция превратилась в главную проблему. Большая часть продовольствия, закупаемого ведомством Д-IV, расхищается. Точно вычислить трудно, но в итоге заключенные, я не имею в виду капо и Prominenten [79], лишаются от 20 до 30 % рациона, а поскольку он и так недостаточен, то шанс прожить хотя бы несколько месяцев имеют только те заключенные, которым удается легально или нет раздобыть какую-то добавку». – «Понимаю». Рицци подумал, потер переносицу под очками. «Мы должны точно вычислить среднюю продолжительность жизни и менять ее в зависимости от уровня квалификации заключенного». Он опять помолчал, потом произнес: «Хорошо, мне надо подумать».
К сожалению, я довольно быстро почувствовал, что мой первичный энтузиазм, по-видимому, обернется разочарованием. На следующих совещаниях мы лишь сильнее запутывались в массе технических деталей, столь же многочисленных, сколь и противоречивых. Изенбек провел тщательный анализ «бумажных» рационов, но не смог показать, как они соотносятся с действительными. Рицци полностью сосредоточился на идее о необходимости разделения рабочих на специалистов и неспециалистов и концентрации наших усилий на первых; Вайнровски не удавалось прийти к общему мнению с Изенбеком и Алике по поводу витаминов. Пытаясь оживить дискуссию, я пригласил представителя министерства Шпеера. Шмельтер, возглавлявший Отдел по использованию рабочей силы, ответил мне, что СС давно пора заняться этой проблемой, и прислал оберрегирунгсрата с длинным списком жалоб. Министерство Шпеера, недавно переименованное в Министерство по вооружению и военному производству, – совершенно отвратительная аббревиатура RMfRuK – взяло на себя некоторые функции Министерства экономики, чтобы продемонстрировать свое возросшее влияние в этой области. Вчерашняя реорганизация, похоже, воодушевила доктора Кюне, уполномоченного Шмельтера. «Я выступаю не только от лица министерства, – начал Кюне после того, как я познакомил его с моими коллегами, – но и от лица предприятий, использующих рабочую силу, поставляемую СС, повторяющиеся жалобы которых мы ежедневно рассматриваем». Оберрегирунгсрат носил темно-коричневый костюм, галстук-бабочку и прусские усы щеточкой; редкие длинные волосы, аккуратно зачесанные набок, скрывали продолговатый купол лысого черепа. Нам доподлинно известно – сообщил он, – что обычно заключенные прибывают на фабрики в состоянии крайнего истощения и по истечении нескольких недель, абсолютно изнуренные, отправляются обратно в лагерь, притом что их обучение занимает почти месяц, инструкторов не хватает и у нас нет средств каждый месяц обучать новые группы. Кроме того, в любой работе, даже требующей минимальной квалификации, результат удовлетворительного уровня достигается, по меньшей мере, за полгода – мало кто из заключенных протянет такой срок. Рейхсминистр Шпеер был чрезвычайно удручен подобным положением вещей и полагал, что во всем, что касается нашей военной мощи, действия СС должны быть более активными. В завершение Кюне раздал нам памятку из отрывков писем с предприятий. После его отъезда я листал его бумаги, и Рицци пожал плечами, облизав свои тонкие губы: «Именно то, что я говорил с самого начала; квалифицированные рабочие». Я сделал запрос и в отдел Заукеля, генерального уполномоченного по организации труда заключенных, с просьбой прислать нам докладчика: пусть тот выразит их точку зрения. Помощник Заукеля ответил мне довольно резко, что с тех пор, как СП сочла возможным арестовывать под любым предлогом иностранных рабочих и пополнять ими лагеря, их содержанием должна заниматься СС, а его ведомство здесь больше ни при чем. Брандт напомнил мне по телефону, что рейхсфюрер придает большое значение мнению РСХА, тогда я написал Кальтенбруннеру, он переадресовал меня Мюллеру, а тот в свою очередь посоветовал обратиться к оберштурмбанфюреру Эйхману. Я попытался было возразить, что проблема выходит далеко за рамки еврейского вопроса – единственной области, подведомственной Эйхману, но Мюллер настаивал; тогда я позвонил на Курфюрстенштрассе и попросил Эйхмана направить ко мне кого-нибудь из его коллег; он ответил, что хочет явиться лично. «Мой заместитель Гюнтер в Дании, – объяснил мне Эйхман при встрече. – В любом случае вопросы такой важности я предпочитаю решать сам». За общим столом Эйхман разразился беспощадной обвинительной тирадой против заключенных-евреев, опасность, исходящая от них, на его взгляд, все больше и больше увеличивалась. После Варшавы мятежи участились; во время бунта в специальном лагере на Востоке (речь шла о Треблинке, но Эйхман не уточнял этого) погибли несколько эсэсовцев, а сотни узников бежали и не всех удалось поймать. РСХА, как и рейхсфюрер, боится, что число подобных инцидентов возрастет, а этого, принимая во внимание напряженную ситуацию на фронте, допускать нельзя. Еще Эйхман напомнил нам, что евреи, транспортированные в лагеря РСХА, приговорены к смертной казни: «Тут мы при всем желании ничего не можем изменить. Тем не менее мы имеем право, пока они не умерли, заставить их работать на Рейх». Другими словами, даже если некоторые политические цели расходятся с экономическими, своей актуальности они не утрачивают; суть не в том, чтобы выбирать между заключенными-специалистами и неспециалистами, – я вкратце пересказал рейхсфюреру содержание нашей дискуссии – различия следует проводить между политическими и уголовными заключенными. Русские или польские рабочие, арестованные, например, за кражу, отправляются в лагерь, без применения в дальнейшем дополнительного наказания; и ВФХА может распоряжаться ими по своему усмотрению. Что касается осужденных за «осквернение расы» – здесь уже дело более деликатное. Однако по поводу евреев и маргиналов, переданных нам Министерством юстиции, неопределенности существовать не должно. В известном смысле они только одолжены ВФХА и до самой смерти остаются под судебным надзором РСХА, и в отношении их надо строжайшим образом придерживаться политики Vernichtung durch Arbeit, уничтожения посредством труда: соответственно, тратиться на питание в данном случае незачем. Эти заявления произвели сильное впечатление кое на кого из моих коллег, и когда Эйхман ушел, они принялись предлагать варианты рационов для евреев и остальных заключенных; я даже решил еще раз встретиться с оберрегирунгсратом Кюне, чтобы обсудить замысел Эйхмана; но он ответил мне в письменной форме, что при таком раскладе предприятия наверняка откажутся от еврейских узников, а это идет вразрез с соглашением между рейхсминистром Шпеером и фюрером, и декретом о мобилизации рабочей силы от января 1943 года. Однако мои коллеги от эйхмановской идеи отступаться не торопились. Рицци спросил у Вайнровски, возможно ли технически рассчитать рацион таким образом, чтобы человек умирал в определенный срок: например, неквалифицированный еврей через три месяца, а рабочий специалист – через девять. Вайнровски объяснил ему, что нет: не говоря уже о других факторах, о холоде и болезнях, все зависит от веса и сопротивляемости организма; на одном и том же рационе кто-то не протянет и трех недель, а другой может жить долго; тем более что заключенный из прытких всегда найдет способ раздобыть себе еще еды, а изнуренный и апатичный, покорившийся судьбе, быстрее отправится на тот свет. Эти выводы натолкнули гауптштурмфюрера доктора Алике на блестящую догадку: «По-вашему получается, – медленно, словно размышляя вслух, произнес он, – что сильный заключенный, чтобы выжить, всегда исхитрится украсть у слабого часть рациона. Но разве в какой-то степени не в наших интересах, чтобы наиболее слабые заключенные недополучали положенный рацион? Когда заключенные достигают определенной стадии немощности, их автоматически начинают обкрадывать, они меньше едят и умирают скорее, что позволяет нам экономить на их питании. Сворованная у них часть рациона укрепляет более стойких заключенных, и те работают еще лучше. Обычный природный механизм, когда выживает сильнейший, а больное животное быстро становится жертвой хищника». Его уже явно занесло, и я отреагировал резко: «Гауптштурмфюрер, рейхсфюрер организовал систему концентрационных лагерей не для того, чтобы при закрытых дверях проводить эксперименты относительно социальных дарвинистских теорий. И ваши замечания кажутся мне не слишком уместными». Я повернулся к остальным: «Настоящая проблема – как нам расставить приоритеты. Что для нас главное – политическая необходимость или экономические потребности?» – «Но это, наверное, нельзя решить на нашем уровне», – спокойно сказал Вайнровски. «Допустим, – вмешался Гортер, – однако же для ведомства по организации работ в лагерях инструкции ясны: мы должны бросить все наши усилия на повышение производительности труда заключенных». – «С точки зрения наших предприятий это правильно, – подтвердил Рицци. – Но, тем не менее, мы не можем пренебрегать некоторыми идеологическими требованиями». – «В любом случае, господа, – подытожил я, – данный вопрос не в нашей компетенции. Рейхсфюрер просил меня сформулировать рекомендации, удовлетворяющие интересам ваших ведомств. В самом крайнем случае мы подготовим несколько вариантов и предоставим рейхсфюреру выбор: как бы то ни было, окончательное решение за ним».
Постепенно я стал понимать, что все эти бесплодные дискуссии могут продолжаться бесконечно, подобная перспектива меня пугала, и тогда я рискнул сменить тактику: подготовить конкретный проект и вынести его на общее обсуждение, а потом, если понадобится, немного подправить. Для начала я решил договориться со специалистами, Вайнровски и Изенбеком. Вайнровски с ходу понял мой замысел и обещал поддержку; что до Изенбека, он выполнял то, что ему велели. Нам не хватало точных данных, и Вайнровски припомнил, что у ИКЛ имеются исследования по этому поводу; я отправил Изенбека со служебным поручением в Ораниенбург; он с торжествующим видом привез мне целую кипу рапортов: в конце тридцатых годов в концлагере Бухенвальд медицинское ведомство ИКЛ действительно проводило ряд опытов касательно питания заключенных, приговоренных к принудительным работам. Под серьезным давлением и угрозами карательных мер врачи протестировали огромное количество пищевых рационов, часто меняя составляющие и регулярно взвешивая подопытных; в результате мы теперь располагали объемным цифровым материалом. Пока Изенбек анализировал доклады, мы с Вайнровски обменивались мнениями о так называемых второстепенных факторах: гигиене, холоде, болезнях, побоях. Я запросил в СД копию моего донесения из Сталинграда, затрагивающего именно эти проблемы; пробегая его глазами, Вайнровски воскликнул: «О, да вы ссылаетесь на Хоенэгга!» Воспоминание о Хоенэгге хранилось в моей душе, как воздушный пузырек в стекле, и сейчас он оторвался от дна, стал подниматься, все стремительнее с каждым мгновением, и, достигнув поверхности, лопнул. Странно, сказал я себе, я и думать забыл о нем. «Вы его знаете?» – с волнением спросил я Вайнровски. «Конечно! Он один из моих коллег по медицинскому факультету в Вене». – «То есть он до сих пор жив?» – «Да, без сомнения, а что с ним случится?»
Я незамедлительно приступил к поискам Хоенэгга: он пребывал в добром здравии, и мне не составило особого труда его найти; он тоже работал в Берлине, в Медицинском отделе на Бендлерштрассе. Меня распирало от радости, я попросил его к телефону, не называя своего имени; когда Хоенэгг ответил: «Да?», в его голосе, тягучем, музыкальном, слышалось недовольство. «Профессор Хоенэгг?» – «Он самый. А с кем имею честь?» – «Вас беспокоят из СС. По поводу старого долга». Хоенэгг раздражался все больше: «Кто вы? О чем вы говорите?» – «О бутылке коньяка, обещанной мне вами девять месяцев назад». Хоенэгг разразился долгим смехом: «Увы, увы, должен вам кое в чем признаться: считая вас погибшим, я выпил ее за ваше здоровье». – «Бессовестный вы человек». – «Так выходит, вы живы». – «И получил повышение: я – штурмбанфюрер». – «Браво! Тогда мне ничего другого не остается, как откопать еще одну бутылку». – «Даю вам двадцать четыре часа: разопьем ее завтра вечером. Взамен я приглашаю вас на ужин в „Борхардте“. В восемь вам удобно?» Хоенэгг присвистнул: «Вам, вероятно, и оклад прибавили. Но позвольте предупредить, что сезон устриц еще не настал». – «Неважно: мы полакомимся кабаньим паштетом. До завтра».
Едва завидев меня, Хоенэгг непременно захотел ощупать мои шрамы; я любезно согласился, метрдотель, предложивший винную карту, посмотрел на нас с удивлением. «Прекрасная работа, – подытожил Хоенэгг, – великолепная. Если бы вас ранило до Кисловодска, я бы на семинарах приводил ваш случай в качестве примера. Ну и хорошо, что я тогда настоял». – «Что вы имеете в виду?» – «Хирург в Гумраке отказался вас оперировать, что вполне объяснимо. Он накрыл простыней ваше лицо и, чтобы ускорить конец, приказал санитарам, как обычно, вынести вас на снег. А я проходил мимо и заметил, что простыня где-то в области рта шевелится, мне показалось странным, что мертвец в саване дышит, как бык. Я откинул уголок: вообразите мое удивление! Я сказал себе, что, по меньшей мере, надо требовать, чтобы о вас позаботились. Мы перекинулись парой слов с хирургом, он упирался, но я был старше его по званию, ему пришлось подчиниться. Он орал без перерыва, что это пустая трата времени. Я немного торопился и вынужден был покинуть его в полной уверенности, что он ограничится гемостазом. Но я рад, что мои усилия оказались ненапрасными». Я слушал Хоенэгга, словно завороженный, и вместе с тем чувствовал себя безмерно далеко от всего этого, будто произошедшее касалось какого-то другого, мало знакомого мне человека. Метрдотель подал вино. Хоенэгг не дал разлить его по бокалам. «Минуточку, пожалуйста. Не могли бы вы нам принести две коньячные рюмки?» – «Конечно, герр оберст». Хоенэгг с улыбкой достал из портфеля бутылку «Хенесси» и поставил ее на стол: «Вот. Сказано, сделано». Метрдотель вернулся с рюмками, откупорил бутылку и плеснул нам коньяку. Хоенэгг взял рюмку и встал, я за ним. Он вдруг посерьезнел, и я заметил, что мой друг ощутимо постарел: желтая дряблая кожа обвисла под глазами и на круглых щеках; тело, еще полное, как будто сжалось. «Предлагаю, – сказал он, – выпить за товарищей по несчастью, которым не так повезло, как нам. И прежде всего за тех, кто жив и находится сейчас неизвестно где». Мы выпили, сели. Хоенэгг еще несколько секунд молчал, поигрывая ножом, потом опять принял благодушный вид. Я рассказал, как выкарабкался, по крайней мере, то, что сообщил мне Томас, и поинтересовался его собственной историей. «Со мной проще. Я завершил работу, отдал рапорт генералу Ринальди, тот уже собирался в Сибирь, паковал чемоданы и плевать хотел на все остальное, и я сообразил, что обо мне забыли. К счастью, я знал одного предупредительного молодого человека из АОК, с его помощью послал сигнал в ОКХГ, а заодно и копию в университет на факультет, оповестив, что мой доклад готов. Тогда обо мне вспомнили, и через день я получил приказ покинуть котел. Ожидая самолета в Гумраке, я и наткнулся на вас. Разумеется, мне хотелось захватить вас с собой, но в том состоянии вы были нетранспортабельны, и я не мог задержаться до конца вашей операции, рейсы совершались редко. Думаю, я покидал Гумрак на одном из последних самолетов, а взлетевший перед ним взорвался прямо на моих глазах; меня оглушило, и даже в Новороссийске в ушах стоял грохот взрыва. Мы поднялись в воздух через дым и пламя – очень впечатляюще. Потом я получил отпуск, но вместо новой Шестой армии меня назначили на пост в ОКВ. А вы? Чем вы занимаетесь?» Пока мы ели, я обрисовал Хоенэггу проблемы нашей рабочей группы. «Дело тут и вправду деликатное. Я хорошо знаком с Вайнровски, он – порядочный человек и честный ученый, но напрочь лишен политического чутья и часто совершает неверные шаги». Я пребывал в задумчивости: «Не могли бы вы встретиться с ним у меня? Вы нам поможете сориентироваться». – «Мой дорогой штурмбанфюрер, напоминаю вам, что я офицер вермахта. Сомневаюсь, что вашему начальству – впрочем, и моему тоже – понравится, что вы вмешиваете меня в эту темную историю». – «В неофициальном порядке, конечно. Просто частная беседа с вашим старым университетским другом?» – «Я не говорил, что он – мой друг». Хоенэгг медленно провел рукой по лысому затылку; из застегнутого воротника торчала морщинистая шея. «Бесспорно, я, как патологоанатом, всегда рад помочь роду людскому; клиентов у меня хоть отбавляй. Давайте тогда прикончим нашу бутылку коньяка втроем».
Вайнровски пригласил нас к себе. Он проживал с женой в трехкомнатной квартире в Кройцберге. Показал нам фотографии, стоявшие на пианино: одна с черной траурной ленточкой, его старшего сына Эгона, убитого в Дании, вторая – младшего, который служил во Франции, там до теперешнего момента все было спокойно, но недавно его дивизию срочно перебросили в Италию, укреплять новый фронт. Пока фрау Вайнровски подавала нам чай с печеньем, мы обсуждали ситуацию в Италии: как практически все и подозревали, Бадольо только ждал случая, чтобы переметнуться на другую сторону, и едва англичане и американцы ступили на итальянскую землю, он этим шансом воспользовался. «К счастью, фюрер оказался хитрее него!» – воскликнул Вайнровски. «Ты вот говоришь, – грустно пробормотала фрау Вайнровски, предлагая нам сахар, – а там сейчас твой Карл, а не фюрер». Она была довольно нескладная, с опухшим уставшим лицом, но рисунок губ и особенно свет глаз позволяли разглядеть ушедшую красоту. «Ох, замолчи, – проворчал Вайнровски, – фюрер знает, что делает. Вспомни Скорцени! Разве это не мастерская работа!» Рейд на Гран-Сассо ради освобождения свергнутого Муссолини уже многие дни занимал первые полосы в прессе. С тех пор наши войска оккупировали Северную Италию, интернировали шестьсот пятьдесят тысяч итальянских солдат и провозгласили фашистскую республику в Сало, и все это было преподнесено как крупная победа, гениальная дальновидность фюрера. Однако возобновившиеся налеты на Берлин являлись прямым следствием этих событий, новый фронт требовал новых дивизий, и в августе американцам удалось бомбардировать Плоешти, наш последний источник нефти. Германия теперь действительно оказалась зажатой между двух огней.
Хоенэгг достал коньяк, Вайнровски пошел за рюмками, а его жена исчезла на кухне. Квартира была темная, со специфическим мускусным и затхлым запахом, присущим жилью стариков. Я всегда задавался вопросом, как этот запах возникает. Неужели я тоже буду так пахнуть, если проживу достаточно долго? Странная мысль. Сейчас пока я ничем не пахну; но, говорят, свой запах просто не чувствуешь. Когда Вайнровски вернулся, Хоенэгг разлил коньяк, и мы помянули погибшего сына Вайнровски. Потом я вытащил из портфеля подготовленные бумаги, протянул их Хоенэггу и попросил Вайнровски включить свет поярче. Вайнровски сел рядом со своим бывшим коллегой и комментировал документы и таблицы; сами того не замечая, они перешли на венский диалект, который я плохо понимал. Тогда я откинулся в кресле и принялся за коньяк Хоенэгга. Общались они забавно: Вайнровски, как объяснил мне Хоенэгг, имел больший стаж в университете, чем он; но Хоенэгг, полковник, являлся старшим по рангу, Вайнровски в СС был штурмбанфюрером запаса, что соответствовало званию майора. Оба растерялись и не могли сообразить, кто из них главнее, в результате вели себя с назойливой предупредительностью: «Я вас прошу», «Нет, нет, безусловно, вы правы», «Ваш опыт…», «Ваша практика…» – комедия! Хоенэгг поднял голову и посмотрел на меня: «Если я правильно понял, по-вашему, заключенным не додают полный рацион, который здесь описан?» – «Кроме нескольких привилегированных, нет. Им урезают минимум двадцать процентов». Хоенэгг опять погрузился в беседу с Вайнровски. «Это плохо». – «Конечно. В итоге в день они получают где-то тысячу триста – тысячу семьсот килокалорий». – «В любом случае больше, чем наши солдаты в Сталинграде». Хоенэгг снова взглянул на меня: «Чего вы добиваетесь, в конечном счете?» – «В идеале нормального минимального рациона». Хоенэгг похлопал по бумагам: «Да но это, судя по всему, невозможно. Ресурсов нет». – «Отчасти так, но надо предложить пути к улучшению». Хоенэгг задумался: «Ваша настоящая проблема – аргументация. Заключенный из положенных тысячи семисот килокалорий получает тысячу триста, чтобы он действительно получал тысячу семьсот… («Что, впрочем, тоже недостаточно», – вмешался Вайнровски) Необходим рацион в две тысячи сто килокалорий. Но вы должны объяснить, почему вы просите две тысячи сто, вы же не скажете: для того, чтобы получать тысячу семьсот». – «Доктор, разговаривать с вами всегда одно удовольствие, – улыбнулся я. – Как обычно, вы зрите в корень». Хоенэгг, не отвлекаясь, продолжил: «Подождите. Чтобы просить две тысячи сто, вы должны обосновать, что тысячи семисот недостаточно, но вы не можете это сделать, потому как заключенные и их не получают. И конечно, в вашей аргументации вам не обойти факта хищения». – «Да, едва ли. Руководству известно, что проблема существует, но встревать нам не желательно. Для этого есть другие инстанции». – «Ясно». – «Проблема, собственно, в увеличении общего бюджета. Те, кто его формирует, убеждены, что его должно хватать, обратное доказать трудно. Даже если мы докажем, что заключенные по-прежнему умирают слишком быстро, нам ответят, что, выбрасывая деньги на ветер, проблему не решить». – «Что, в общем-то, верно». Хоенэгг потер макушку, Вайнровски молча слушал. «А нельзя ли изменить распределение рациона?» – спросил наконец Хоенэгг. «То есть?» – «Ну, не раздвигая бюджетные рамки, поощрять тех, кто хорошо работает, и давать немного меньше неработающим». – «Дорогой доктор, в принципе, нет заключенных, которые не работают. Есть только больные: но если их кормить еще меньше, чем теперь, у них не будет никакого шанса выздороветь и снова встать в строй. А если мы вовсе прекратим их кормить, тогда опять показатели смертности поползут вверх». – «Да, но вот что я хотел заметить: вы же содержите женщин, детей и стариков где-то в другом месте? Они ведь тоже едят?» Я смотрел на него и молчал, Вайнровски тоже. Потом я ответил: «Нет, доктор. Мы не оставляем ни стариков, ни женщин, ни детей». Хоенэгг вытаращил глаза, не веря своим ушам. Я кивнул. Он понял, глубоко вздохнул и почесал затылок: «Н-да…» Мы с Вайнровски не проронили ни слова. «Вот уж впрямь… Да, жестко, – он тяжело вздохнул. – Хорошо. Мне все ясно. Думаю, после всего, особенно после Сталинграда, особого выбора мы не имеем». – «Нет, доктор, едва ли». – «Сурово, однако. И что, всех?» – «Нет, только тех, кто не может работать». – «Да уж…» Он взял себя в руки: «Впрочем, это нормально. У нас нет оснований относиться к врагам лучше, чем к собственным солдатам. После того, что я видел в Сталинграде… Даже эти рационы – чистая роскошь. Наши люди держались на мизерных порциях. А тем, кто выжил, что там теперь дают поесть? Чем питаются наши товарищи в Сибири? Нет-нет, вы правы, – Хоенэгг поднял на меня задумчивый взгляд. – И тем не менее, Schweinerei – настоящая мерзость. Но вы все равно правы».
Я не напрасно вовлек Хоенэгга в обсуждение, ведь он сразу понял то, чего не мог взять в толк Вайнровски: речь шла не о технической, а о политической проблеме. Технический аспект мог служить оправданием политического решения, но не диктовать его. Ни к какому выводу в тот день наша беседа не привела, но заставила меня пошевелить мозгами, и в конце концов я нашел выход. Поскольку у меня создалось впечатление, что Вайнровски не способен отслеживать ситуацию, я, чтобы занять его, попросил подготовить второй доклад и обратился к Изенбеку за нужной технической информацией. Я недооценил этого парня: он оказался чрезвычайно активным, на лету схватывал мои мысли и даже их предвосхищал. Мы работали всю ночь, уединившись в моем огромном кабинете в Министерстве внутренних дел, пили кофе, который нам приносил сонный ординарец, и вместе в общих чертах набросали проект. Я отталкивался от плана Рицци установить разницу между квалифицированными и неквалифицированными рабочими; все рационы будут увеличены, но для неквалифицированных рабочих незначительно, а квалифицированные могут рассчитывать на целый ряд новых льгот. В проекте мы не детализировали категории заключенных, но на его базе могли, если бы РСХА потребовало, обозначить те из них, например евреев, которых следовало содержать в особо жестких условиях и распределять только на неквалифицированные работы: выбор мы оставили открытым. Изенбек помог мне выделить другие категории: тяжелый труд, легкие работы, пребывание в медпункте; в итоге образовалась сетка, куда оставалось только внести рационы. Вместо того чтобы ломать голову над нормированными пайками, которые все равно не будут выдаваться из-за нехватки средств и трудностей с продовольствием, я приказал Изенбеку рассчитать – естественно, принимая во внимание типичные меню, – ежедневные издержки на каждую категорию и потом в дополнение составить варианты рационов, вписывающиеся в бюджеты. Изенбек настаивал, чтобы его предложения включали еще качественные характеристики, например распределять сырой лук, а не вареный, из-за витаминов; я не стал ему мешать. Если хорошенько присмотреться, в нашем плане не было ничего революционного: мы использовали текущий практический опыт, кое-что слегка подкорректировали, пытаясь подвести увеличение расходов под конкретную базу. Чтобы доказать целесообразность проекта, я отправился к Рицци, изложил ему суть и попросил проанализировать с экономической точки зрения, насколько повысится производительность труда; Рицци сразу согласился, тем более что я признавал за ним бесспорное авторство ключевых идей. Отредактировать проект я хотел сам, когда у меня в руках уже будет детальная информация.
Главное – и я это отлично понимал, – чтобы у РСХА не возникло слишком много возражений; если они примут наш план, то ведомство Д-IV ВФХА не сможет нам препятствовать. Чтобы прощупать почву, я позвонил Эйхману: «О, дорогой штурмбанфюрер Ауэ! Встретиться со мной? К сожалению, я на сегодняшний момент очень занят. Да, Италия и всякие другие вещи. Вечером? За стаканчиком. Недалеко от моей работы на углу Потсдамерштрассе есть маленькое кафе. Да, со стороны входа в метро. Ну, до вечера». Войдя, Эйхман рухнул на стул, бросил фуражку на стол и потер переносицу. Я уже заказал два шнапса и предложил ему сигарету, он с удовольствием закурил, откинулся на спинку, скрестив ноги, положил руки на папку с бумагами. Покусал между затяжками нижнюю губу; высокий лысый лоб блестел под светом лампочек. «Так что Италия?» – спросил я. «Проблема не столько в Италии, хотя там мы еще наверняка нашли бы тысяч восемь или десять евреев, сколько в оккупированных итальянцами зонах, превратившихся вследствие глупейшей политики в рай для жидов. Они везде! На юге Франции, на берегу Далмации, на их территориях в Греции. Я незамедлительно и почти всюду разослал команды, но работа предстоит огромная; учитывая транспортные проблемы, всего в один день не переделать. В Ницце, используя эффект неожиданности, нам удалось арестовать несколько тысяч; но французская полиция демонстрирует все меньше готовности к сотрудничеству, что многое осложняет. Нам страшно не хватает ресурсов. И еще нас очень беспокоит Дания». – «Дания?» – «Да. То, что нам казалось проще простого, обернулось настоящим бардаком. Гюнтер в ярости. Я вам говорил, что я его туда послал?» – «Да. И что же произошло?» – «Точно не скажу. По мнению Гюнтера, посол, этот доктор Бест, играет странную роль. Вы разве с ним не знакомы?» Эйхман залпом допил шнапс и заказал еще. «Он был моим начальником до войны». – «Да? Ну, хорошо, я не пойму, что у него теперь в голове. В течение долгих месяцев он все делал, чтобы нас тормозить, под тем предлогом… – Эйхман несколько раз рубанул воздух ладонью, – …что мы подрываем его политику сотрудничества. И потом, в августе после беспорядков, когда пришлось вводить режим чрезвычайного положения, мы сказали: хватит, давайте уже действовать. Новый глава СП и СД, доктор Мильднер, сейчас на месте и уже перегружен работой; кроме того, вермахт сразу отказался нам помогать, поэтому я и отправил туда Гюнтера, пусть активизирует процесс. Мы все подготовили, пароход для четырех тысяч, находящихся в Копенгагене, составы для остальных, но Бест продолжает чинить препятствия. У него всегда имеется оправдание, то датчане, то вермахт, e tutti quanti. К тому же здесь надо соблюдать секретность, чтобы евреи ничего не заподозрили, и отловить их всех разом, но Гюнтер говорит, что они уже в курсе. Похоже, дело не заладилось». – «И на каком вы этапе?» – «Мы запланировали начать через несколько дней и закончить в один прием, ведь их же не так много. Я позвонил Гюнтеру и сказал: Гюнтер, приятель, если это так, пусть Мильднер начнет раньше, но Бест отказался. Слишком уж он чувствительный, ему нужно еще раз пообщаться с датчанами. Гюнтер думает, что Бест делает это нарочно, чтобы сорвать акцию». – «Но я отлично знаю доктора Беста: он кто угодно, только не друг евреям. Вряд ли вы найдете лучшего, чем он, национал-социалиста». Эйхман скривился: «О, политика, да будет вам известно, меняет людей. Ну да, увидим. Мне себя упрекнуть не в чем, мы все подготовили, предусмотрели, и если дело провалится, отвечать буду не я, точно вам говорю. А ваш проект продвигается?»
Я заказал еще шнапса: однажды я уже имел возможность заметить, что под действием алкоголя Эйхман расслабляется, становится сентиментальным и дружелюбным. Я совершенно не собирался его на чем-нибудь подлавливать, я хотел, чтобы он мне доверился и понял, что мои идеи не идут вразрез с его взглядом на вещи. Я в общих чертах обрисовал ему проект; как я и предполагал, слушал Эйхман вполуха. Но один раз он встрепенулся: «Как же вы все это согласуете с принципом Vernichtung durch Arbeit?» – «Очень просто: улучшения условий касаются только квалифицированных рабочих. Остается лишь следить за тем, чтобы евреи и асоциальные элементы назначались на тяжелые работы, не требующие спецподготовки». Эйхман поскреб щеку. Естественно, я знал, что решения о распределении специалистов принимаются индивидуально на уровне комиссии по распределению работ каждого лагеря; и если в лагере намерены содержать квалифицированных евреев, это не наша проблема. Но у Эйхмана, похоже, были другие заботы. Он помолчал минуту, обронил: «Ну, ладно» – и принялся говорить о юге Франции. Я слушал и курил. Через некоторое время в подходящий момент я вежливо поинтересовался: «Если вернуться к моему проекту, оберштурмбанфюрер, он почти готов, и я хотел бы прислать его вам, чтобы вы почитали». Эйхман махнул рукой: «Как угодно. Я столько бумаг получаю». – «Я не стал бы вас беспокоить. Это просто чтобы быть уверенным, что у вас нет возражений». – «Если там все, как вы рассказывали…» – «Давайте так: если у вас найдется время, пролистайте его, а после составьте мне короткую записку, вроде доказательства, что я учел и ваше мнение». Эйхман иронично усмехнулся и погрозил мне пальцем: «А вы хитрец, штурмбанфюрер Ауэ. Вы тоже хотите себе соломки подстелить». Я сохранял невозмутимый вид: «Рейхсфюрер пожелал, чтобы мы приняли во внимание мнение всех ведомств, занимающихся этим вопросом. По поводу РСХА обергруппенфюрер Кальтенбруннер адресовал меня к вам. Мне это кажется само собой разумеющимся». Эйхман нахмурился: «Конечно, но решаю не я: я должен представить проект своему начальнику. Но если я дам положительную рекомендацию, то у него не будет причин не подписать. В принципе, разумеется». Я поднял стакан: «Ну, за успех вашей датской операции?» Эйхман улыбнулся, когда он так улыбался, его уши сильно оттопыривались, и он особенно напоминал птицу; вместе с тем нервный тик искажал улыбку, превращая ее чуть ли не в гримасу. «Да, спасибо. За операцию! И за ваш проект тоже».
Я написал текст за два дня; Изенбек тщательно и красиво расчертил детализированные таблицы для приложений, и еще я включил практически без изменений аргументы Рицци. Я еще не закончил, когда меня вызвал Брандт. Рейхсфюрер собирается в Вартегау, чтобы выступить там с важной речью; шестого октября состоится конференция рейхсляйтеров и гауляйтеров, на которой будет присутствовать доктор Мандельброд; он просил, чтобы и меня пригласили. На какой стадии мой проект? Я заверил Брандта, что все близится к завершению. Перед рассылкой в ведомства для согласования осталось лишь ознакомить с ним коллег. Я уже переговорил с Вайнровски и пояснил, что таблицы Изенбека не что иное, как графическое представление его, Вайнровски, идей: доктор вроде бы все одобрил. Общее собрание прошло без лишних споров; в основном говорил Рицци, а я только подчеркнул, что получил устное согласие от РСХА. Гортер выглядел довольным, его заинтересовал только один вопрос: сможем ли мы продвинуться так далеко; экономический анализ Рицци явно превзошел ожидания Алике; Йедерман проворчал, что это все будет стоить дорого и где взять деньги? Но успокоился, когда я его заверил, что в случае утверждения проект будет финансироваться за счет дополнительных кредитов. Я обратился к каждому с просьбой представить к десятому числу письменный ответ глав их ведомств, планируя к тому времени уже вернуться в Берлин, и велел отослать копию Эйхману. Брандт дал мне понять, что после согласования с ведомствами я могу представить проект рейхсфюреру лично.
В день отъезда после обеда я явился во Дворец принца Альбрехта. Брандт позвал меня на доклад Шпеера, а потом я должен был присоединиться к доктору Мандельброду в поезде для особо важных персон. В холле я столкнулся с Олендорфом, которого не видел со времени его отъезда из Крыма. «Доктор Ауэ! Как приятно вас видеть снова. Вы в Берлине уже несколько месяцев, почему же не позвонили? Я бы охотно с вами встретился». – «Извините меня, бригадефюрер. Я был страшно занят. Впрочем, думаю, вы тоже». Я ощущал исходящее от него напряжение, будто он излучал черную, концентрированную энергию. «Брандт прислал вас к нам на конференцию, да? Если я не ошибаюсь, вы занимаетесь вопросами производства». – «Да, но только теми, что касаются заключенных в концентрационных лагерях». – «Понятно. Сегодня вечером мы собираемся подписать новый договор о сотрудничестве между СС и министром вооружения. Однако тема для обсуждения гораздо шире; ведь речь, кроме прочего, пойдет еще и о содержании рабочих иностранцев». – «Вы теперь в Министерстве экономики, бригадефюрер?» – «Да. Круг моих обязанностей расширяется. Жаль, что вы не экономист: благодаря этому договору для СД откроется совершенно новая область деятельности, я надеюсь. Ну, давайте подниматься, скоро начало».
Конференция проходила в одном из больших, обшитых деревом залов дворца, правда, национал-социалистические знамена и герб не особо сочетались с резными панелями и позолоченными канделябрами XVIII века. На собрании присутствовало более сотни офицеров СД, среди них мои бывшие коллеги или начальники: Зиберт, с которым я служил в Крыму, регирунгсрат Нейфенд, раньше работавший в Амт II, а теперь ставший группенляйтером в Амт III, и еще другие. Олендорф сидел возле трибуны рядом с человеком в форме обергруппенфюрера СС, с высоким лбом и твердыми резкими чертами лица: Карлом Ханке, гауляйтером Нижней Силезии, замещавшим рейхсфюрера на этой церемонии. Рейхсминистр Шпеер немного опаздывал. Мне он показался на удивление молодым, хотя у лба у него уже появились залысины, стройным, энергичным; на нем был простой двубортный костюм, украшенный только золотым партийным значком. Шпеер поднялся на трибуну и начал речь. Сначала говорил довольно тихо, но четко и учтиво, что не мешало почувствовать, а, наоборот, лишь подчеркивало авторитет, который внушал скорее сам Шпеер, а не занимаемый им пост. Шпеер не отводил пристального взгляда темных живых глаз от наших лиц, разве что иногда, чтобы свериться с конспектом; когда он опускал голову, его глаза почти исчезали под густыми лохматыми бровями. Записи нужны были Шпееру, только чтобы ориентироваться в плане доклада, он ими практически не пользовался, создавалось впечатление, что цифры, которыми он сыпал, берутся просто из памяти по мере необходимости, как будто они постоянно хранились там до определенного срока, готовясь всплыть в нужный момент. Выбранные им выражения отличались беспощадной прямотой: если в срочном порядке не направить все усилия на общее военное производство, мы проиграем войну. Это отнюдь не походило на пророчества Кассандры: Шпеер сравнивал наше сегодняшнее производство с данными, которыми мы располагаем о советском и в основном американском производстве; если мы продолжим в том же темпе, то, он убежден, не продержимся и года. Однако наши производственные ресурсы используются далеко не на полную мощность; и одним из главных препятствий на региональном уровне, кроме проблемы с рабочей силой, является блокирующее влияние частных интересов: именно потому он очень рассчитывает на поддержку СД, и это важнейший пункт соглашения, которое будет заключено с СС. Недавно он подписал конвенцию с министром экономики Франции, Бишелоном, предусматривающую перенос туда большей части нашего производства потребительских товаров. Конечно, после войны это принесет Франции значительные коммерческие выгоды, но у нас нет выбора: если мы стремимся к победе, то приходится чем-то жертвовать. Подобная мера позволит нам перекинуть на производство вооружения полтора миллиона рабочих дополнительно. Но мы должны быть заранее готовы, что многие гауляйтеры воспротивятся требованиям закрыть предприятия; здесь именно та область, куда могла бы вмешаться СД. После доклада министра на трибуну вышел Олендорф, поблагодарил Шпеера и вкратце ознакомил присутствующих с содержанием соглашения: СД будет уполномочена контролировать условия отбора и содержания иностранных рабочих; также любой отказ со стороны гауляйтеров следовать инструкциям министра становится предметом расследования СД. Гауляйтер Нижней Силезии Ханке, замещавший на церемонии рейхсфюрера, Олендорф и Шпеер торжественно подписали соглашение на столе, водруженном специально для этой цели; потом отсалютовали, Шпеер пожал всем руки и быстро удалился. Я взглянул на часы: до поезда оставалось меньше сорока пяти минут, хорошо, что я догадался прихватить с собой чемодан. В зале стало шумно, я проскользнул к Олендорфу, беседовавшему с Ханке: «Бригадефюрер, извините: я уезжаю тем же поездом, что и рейхсфюрер, мне надо идти». Олендорф несколько удивленно приподнял брови: «Позвоните мне, когда вернетесь», – бросил он напоследок.
Специальный поезд отправлялся не с одного из главных вокзалов, а со станции городской железной дороги на Фридрихштрассе. На вокзале, оцепленном полицией и ваффен-СС, толпились, обмениваясь шумными приветствиями, высшие чины и гауляйтеры в форме СА и СС. Пока полицейский проверял список и мои документы, я изучал толпу, но не видел Мандельброда, с которым должен был здесь встретиться. Я попросил лейтенанта показать мое купе; он уставился в список: «Герр доктор Мандельброд, Мандельброд… вот, специальный вагон в хвосте поезда». Вагон имел особую конструкцию: вместо обычной двери примерно треть его длины занимала двойная дверь, как у товарных фургонов, а все окна закрывали стальные шторы. Одна из амазонок Мандельброда в форме СС со знаками различия оберштурмфюрера стояла у входа; она была не в юбке, а в мужских брюках для верховой езды, и ростом на несколько сантиметров выше меня. Где только Мандельброд берет таких помощниц, спросил я себя: наверное, у него есть особая договоренность с рейхсфюрером. Женщина поздоровалась со мной: «Штурмбанфюрер, доктор Мандельброд ждет вас». Она, видимо, меня вспомнила, а я ее нет, все они были немного похожи. Она взяла у меня чемодан и провела в обтянутый ковровой тканью тамбур, из которого налево уходил коридор. «Ваше купе второе справа, – указала она мне. – Я отнесу туда ваш багаж. Доктор Мандельброд расположился здесь». В конце коридора автоматически открылась двойная раздвижная дверь. Я вошел. Мандельброд, как всегда, плавал в своем ужасном запахе, восседая в огромном кресле-платформе, которое подняли в вагон благодаря этим самым специальным дверям; рядом с ним в изящном креслице рококо, небрежно скрестив ноги, устроился министр Шпеер. «А, Макс, вот и ты! – зазвучал музыкальный голос Мандельброда. – Проходи, проходи». Кошка юркнула у меня между сапог, я чуть не споткнулся, но удержался, отдал честь сначала Шпееру, потом Мандельброду. Тот повернул голову к министру: «Дорогой Шпеер, хочу вас познакомить с одним из моих молодых протеже, доктором Ауэ». Шпеер изучающе взглянул на меня из-под густых бровей, потом встал со стула и, к моему вящему изумлению, ринулся жать мне руку: «Очень приятно, штурмбанфюрер». – «Доктор Ауэ работает на рейхсфюрера, – уточнил Мандельброд, – и пытается повысить производительность в наших концентрационных лагерях». – «О, это очень хорошо, – ответил Шпеер. – Вам удалось что-нибудь сделать?» – «Я занимаюсь данным вопросом всего пару месяцев, герр рейхсминистр, и моя роль ничтожна. Но в общей сложности усилий уже приложено немало. Надеюсь, вы заметили результаты». – «Да, конечно. Я на эту тему недавно разговаривал с рейхсфюрером. И он согласился со мной, что может быть еще лучше». – «Несомненно, герр рейхсминистр. Мы упорно работаем». Возникла пауза; Шпеер явно искал, что сказать. Вдруг его взгляд упал на мои медали: «Вы были на фронте, штурмбанфюрер?» – «Да, герр рейхсминистр. В Сталинграде». Он помрачнел, опустил глаза, и у него слегка задрожал подбородок. Потом он снова пристально посмотрел на меня, глаза ясные, но – я впервые обратил внимание – с темными тяжелыми кругами от усталости. «Мой брат Эрнст пропал без вести в Сталинграде», – произнес он чуть натянуто, но спокойно. Я склонил голову: «Мои соболезнования, герр рейхсминистр. Мне очень жаль. Вам известно, при каких обстоятельствах он погиб?» – «Нет. Я даже не знаю, жив он или мертв». Голос Шпеера звучал теперь холодно и отстраненно: «Родители получали письма, Эрнст болел, лежал в одном из лазаретов. В условиях… ужасающих. В своем предпоследнем письме жаловался, что там невыносимо и он возвращается к товарищам на артиллерийскую позицию. Хотя сам уже практически превратился в инвалида». – «Доктора Ауэ тоже тяжело ранило в Сталинграде, – вмешался Мандельброд. – Но ему повезло, его успели эвакуировать». – «Да…», – вымолвил Шпеер. Теперь вид у него был рассеянный, почти отсутствующий. «Да… вам повезло. А он… вся его батарея сгинула во время наступления русских в январе. Конечно, он погиб. Совершенно очевидно. Мои родители никак не придут в себя». Шпеер опять взглянул мне прямо в глаза. «Эрнст был любимцем отца». Я опять сконфуженно пробормотал какие-то пустые слова вежливости. За спиной Шпеера раздался голос Мандельброда: «Наша раса страдает, мой дорогой друг. Мы должны обеспечить ей будущее». Шпеер кивнул, сверился с часами: «Сейчас тронемся. Я пока пойду к себе в купе». Он снова протянул мне руку: «До свидания, штурмбанфюрер». Я щелкнул каблуками и отсалютовал, но Шпеер уже жал руку Мандельброду, тот притянул его к себе и что-то тихо говорил, я ни слова не услышал. Шпеер сосредоточился, потом кивнул и вышел. Мандельброд указал теперь мне на кресло рококо. «Присаживайся, присаживайся. Ты ужинал? Голодный?» В глубине салона беззвучно открылась вторая двойная дверь, и перед нами появилась молодая женщина в форме СС, я ее сначала перепутал с первой, но это все же была другая – если только та, встречавшая меня, не выскочила и не обежала вокруг вагона. «Не хотите ли перекусить, штурмбанфюрер?» – спросила она. Поезд, медленно набирая скорость, покинул вокзал. На окнах висели занавески, множество маленьких лампочек освещало салон купе теплым золотистым светом. Угол одной из занавесок загнулся, и я заметил, что стекло плотно закрыто металлической шторой, наверное, весь вагон бронирован, подумал я. Девушка вернулась, поставила поднос с бутербродами и пивом на складной столик, который она ловко, одной рукой, разложила рядом со мной. Пока я ел, Мандельброд расспрашивал меня о работе; ему очень понравился мой августовский рапорт, и он с нетерпением ожидает проект, который я должен закончить; мне показалось, что Мандельброд уже в курсе большинства деталей. Господина Леланда особенно волнуют вопросы индивидуальных трудовых достижений, добавил он. «Господин Леланд едет с нами, герр доктор?» – спросил я. «Он присоединится к нам в Познани», – ответил Мандельброд. Он уже на Востоке, в Силезии, в тех местах, где я побывал и где у них обоих концентрировались значительные промышленные интересы. «Очень хорошо, что ты познакомился с рейхсминистром Шпеером, – сказал Мандельброд как бы между прочим. – Это человек, с которым надо поладить. СС и Шпеер должны сблизиться еще больше». Мы продолжали беседовать, я съел бутерброды и теперь пил пиво; Мандельброд гладил кошку, забравшуюся к нему на колени. Вскоре он меня отпустил. Я пересек тамбур и вошел к себе в купе, просторное, с удобной, уже заправленной кушеткой, рабочим столиком и даже зеркалом над раковиной. Я раздвинул занавески: опять металлическая штора на окне и, похоже, его никак не откроешь. Я отказался от идеи покурить, снял китель, рубашку, чтобы помыться. Но только успел намылить лицо чудесным душистым розовым мыльцем, лежавшим возле крана – кстати, даже горячая вода была, – как в мою дверь постучали. «Минутку!» Я вытерся, надел рубашку, накинул, не застегивая, китель, открыл. В коридоре стояла одна из помощниц с тенью улыбки на губах, легкой, как ее духи, я ощущал лишь намек на их запах, и в упор смотрела на меня светлыми глазами. «Добрый вечер, штурмбанфюрер, – поздоровалась она. – Вы довольны купе?» – «Да, вполне». Она не отводила взгляда и почти не моргала. «Если пожелаете, я могу составить вам ночью компанию». Столь неожиданное предложение, к тому же произнесенное тоном совершенно обыденным, которым интересуются, например, не хочу ли я поесть, меня, должен признаться, обескуражило: я почувствовал, что краснею, и в смятении искал, что ответить. «Думаю, что доктор Мандельброд этого не одобрил бы», – выдавил я наконец. «Наоборот, – произнесла она так же любезно и спокойно, – доктор Мандельброд был бы рад. Он твердо уверен, что следует использовать любую возможность сохранить нашу расу. Разумеется, если я забеременею, ваша работа никоим образом не пострадает: у СС на этот случай есть специальные учреждения». – «Да, я знаю», – сказал я и подумал, что же она будет делать, если я соглашусь? Наверное, войдет, молча разденется и, голая, станет ждать в постели, когда я завершу свой туалет. «Очень заманчивое предложение, – брякнул я, – но вынужден вам отказать, хотя мне очень жаль. Я слишком устал, и завтра трудный день. В следующий раз, если повезет». Выражение ее лица не изменилось; она лишь пару раз моргнула. «Как хотите, штурмбанфюрер, – сказала она. – Если вам что-нибудь понадобится, звоните. Я рядом. Доброй ночи». – «Доброй ночи», – я попытался улыбнуться. Я снова заперся. Умылся, выключил свет и лег. Поезд, тихонько, ритмично покачиваясь на рельсовых стыках, тащился сквозь непроглядную ночь. Я долго не мог заснуть.
О полуторачасовой речи, с которой вечером шестого октября перед собранием рейхс- и гауляйтеров выступил рейхсфюрер, мне особо сказать нечего. Эта речь не настолько известна по сравнению с другой, почти в два раза длиннее, зачитанной Гиммлером четвертого октября перед обергруппенфюрерами и ХССПФ; но кроме кое-каких различий, обусловленных характером присутствующей публики, и более официального, менее язвительного и нашпигованного жаргонными словечками тона второго доклада рейхсфюрер, в общем-то, повторил те же вещи. Благодаря случайно сохранившимся архивам и правосудию победителей, обе речи наделали шуму далеко за пределами узких кругов, для коих были предназначены. Вы не найдете ни одной книги об СС, рейхсфюрере или уничтожении евреев, где бы их не процитировали, если вы интересуетесь содержанием, то легко можете обратиться к этим изданиям, вышедшим на многих языках. Речь от четвертого октября полностью приведена в протоколе Нюрнбергского процесса под шифром 1919-PS (именно в таком виде мне удалось детально изучить ее уже после войны, хотя в общих чертах я с ней ознакомился еще в Познани). К тому же она записана то ли на грампластинку, то ли на магнитную ленту, точно не знаю. Но как бы то ни было, запись уцелела, и при большом желании вы можете ее отыскать. Сами услышите монотонный внятный голос рейхсфюрера, его педантичный, нравоучительный тон, порой с нотками гнева, особенно ясно звучавшими в отступлениях, когда рейхсфюрер затрагивал проблемы, где, как он, вероятно, чувствовал, его авторитет мало что решал, например тотальная коррупция, о которой Гиммлер шестого октября докладывал государственным чиновникам, однако, выступая перед группенфюрерами 4 октября, он особенно напирал на эту тему, о чем мне еще в тот период рассказал Брандт. Но если речи Гиммлера и вошли в историю, то прежде всего потому, что тогда рейхсфюрер с прямотой, небывалой на моей памяти ни до, ни после, да, с прямотой и в выражениях, которые я назвал бы даже грубыми, представил программу истребления евреев. Даже я, услышав это 6 октября, сначала не поверил своим ушам. Роскошный золотой зал познаньского дворца был переполнен. Я сидел в самой глубине, за пятьюдесятью руководителями партии и гауляйтерами, не говоря уже о двух начальниках службы и трех (или тоже двух) рейхсминистрах, и, памятуя о правилах секретности, которые мы обязаны были соблюдать, я счел ту речь по-настоящему шокирующей, почти оскорбительной. Мне стало очень плохо, и, безусловно, не мне одному, я видел, как вздыхали гауляйтеры и вытирали взопревшие затылки и лбы. Ничего нового они не узнали, хотя кое-кому до теперешнего момента, естественно, и в голову не приходило задумываться о таких вещах, например о вопросе, касавшемся женщин и детей, и оценивать их масштабность. Вероятно, поэтому рейхсфюрер и особо подчеркнул этот пункт, и сделал на этом гораздо больший упор здесь, перед рейхс- и гауляйтерами, чем тогда перед своими группенфюрерами, у которых, в любом случае, иллюзии уже не оставались. И именно для того, чтобы не возникло никакой двусмысленности, рейхсфюрер прямо заявил, что, да, мы убиваем женщин и детей тоже. Вот что вызвало смятение: полное, в кои-то веки, отсутствие двусмысленности. Рейхсфюрер будто нарушил некое правило, превосходившее по силе его собственные указы, изданные для подчиненных, строжайшие Sprachregelungen, неписаные правила такта. Того самого такта, о котором упоминал в своей первой речи относительно казни Рёма и его товарищей по СА: у нас, слава богу, существует естественное чувство такта, благодаря которому мы никогда не говорили между собой о случившемся. Хотя, возможно, дело было еще в чем-то другом, а не только в вопросе такта и правил. Мне кажется, в тот момент я и начал понимать глубинные причины заявлений рейхсфюрера и то, почему так вздыхали и потели сановники: они, как и я, осознали, что вовсе не случайно рейхсфюрер в подобной манере на пятом году войны открыто распространяется об уничтожении евреев. Без эвфемизмов, не моргнув глазом, в простых грубых выражениях: убить – истребить, – сказал он, – в моих устах означает убить или приказать убить. Впервые рейхсфюрер огласил этот вопрос… и говорил все, как есть, нет, это было неслучайно, и, конечно, если он позволил себе подобное, то фюрер был в курсе, и, что еще хуже, фюрер сам того хотел. Вот почему испугались находившиеся в зале. Рейхсфюрер явно говорил от имени фюрера, произносил те слова, которые не следует произносить, сделал запись на пластинку или пленку, неважно, и потом тщательно отметил присутствующих и отсутствующих. Среди руководителей СС отсутствовали только Кальтенбруннер, страдавший флебитом, Далюге, из-за серьезного сердечного заболевания ушедший в долгосрочный отпуск, Вольф, накануне назначенный ХССПФ в Италии и полпредом при Муссолини, и Глобочник. Я еще не знал и узнал только по возвращении из Познани, что Глобочника недавно по приказу Вольфа перевели из маленького королевства в Люблине в его родной город Триест в качестве ССПФ Истрии и Далмации. Всё ликвидировали, Аушвиц отныне себя исчерпал, и прекрасный адриатический берег превратился в отличную свалку для всех этих людей, в которых больше не нуждались, даже Блобель присоединился к ним незадолго до того, как их расстреляли партизаны Тито, частично избавив нас от большой чистки. Что касается партийных чинов, неявившихся, конечно, тоже отмечали, но списка я никогда не видел. Рейхсфюрер действовал целенаправленно, по инструкции сверху и только по одной причине, которая вызывала ощутимое волнение у аудитории, отлично улавливавшей всю подоплеку: все делалось для того, чтобы запятнать их, чтобы никто из них позже не мог сказать, что не знал, и в случае поражения не смел уверять, что не виновен в худшем, и даже не мыслил выйти сухим из воды; каждый это прекрасно понимал и потому боялся. Конференция в Москве, по итогам которой союзники вынесли решение о преследовании «военных преступников» в самых удаленных уголках планеты, еще не состоялась, она пройдет несколькими неделями позже, в конце октября. Но «Би-би-си», особенно после лета, уже вела интенсивную пропаганду по этому поводу с поразительной конкретностью, называя имена иногда не только офицеров, но и младших чинов специальных КЛ. Она была отлично информирована, и гестапо не переставало задаваться вопросом, каким образом. Это провоцировало определенную нервозность у причастных, тем более что вести с фронта оставляли желать лучшего. Чтобы удержать Италию, нам пришлось ослабить Восточный фронт, мы имели мало шансов устоять на Донце и уже потеряли Брянск, Смоленск, Полтаву и Кременчуг, над Крымом тоже нависла угроза. Короче, любой мог понять, что дело плохо, и, естественно, многие задавались вопросом о будущем Германии вообще и о своем в частности. Этим в определенной степени воспользовалась английская пропаганда, деморализовав не только тех, кого уже упомянула «Би-би-си», но и других, еще нигде не фигурировавших, призывая их задуматься, что конец Рейха не является автоматически их собственным концом, и делая, таким образом, призрак поражения более осязаемым. Нетрудно догадаться, откуда взялась необходимость дать понять, по крайней мере, партийным кадрам, СС и вермахту, что вероятное поражение касается каждого лично, снова их воодушевить и растолковать, что так называемые преступления одних в глазах союзников превратятся в преступления всех вообще, уж на уровне аппарата точно. И корабли, и мосты – кому как нравится – сожжены, и обратного пути нет, единственное наше спасение – победа. Действительно, победа все бы урегулировала, представьте на миг, что Германия раздавила бы красных и уничтожила Советский Союз, – вопрос о преступлениях больше никогда бы не поднимался или нет, наоборот, но о преступлениях большевиков, детально подтвержденных документами, благодаря арестованным архивам. Архивы НКВД в Смоленске, вывезенные в Германию и затем в конце войны попавшие в руки американцам, определенно сыграли бы свою роль, когда настало бы время разъяснить бравым избирателям-демократам, почему вчерашние отвратительные монстры должны отныне служить им щитом от вчерашних героев-союзников, оказавшихся еще более ужасными монстрами. Возможно, даже провести процесс против большевистских вождей, – представьте-ка себе! – как намеревались это сделать англичане и американцы (Сталин, мы-то знаем, смеялся над процессами, он видел их суть, сплошное лицемерие и к тому же бесполезность). А затем все, и англичане, и американцы, пошли бы с нами на компромисс, дипломатические отношения выстроились бы сообразно новым реальностям. И это несмотря на неизбежные вопли евреев Нью-Йорка, ведь европейские – по ним, кстати, никто не заскучал – уже смирились со своей катастрофой, впрочем, как все остальные мертвецы, цыгане, поляки, и могилы побежденных, я знаю это, поросли травой, и никто не спрашивает по счетам у победителей. Я это говорю не для того, чтобы нас оправдать, нет, такова неприкрытая и страшная правда, полюбуйтесь на Рузвельта, честного человека, и его дорогого друга дядюшку Джо. Сколько миллионов истребил Сталин в 1941 году и еще до 1939 года, гораздо больше нашего, уж точно, и если подводить окончательный итог, он сильно рискует нас опередить, с его-то коллективизацией, раскулачиванием, масштабными чистками и депортацией целых народов в 1943 и 1944 годах. Это широко известные факты, тогда в тридцатые годы весь мир знал, больше или меньше, о событиях в России. И человеколюбец Рузвельт тоже, что никогда не мешало ему хвалить лояльность и гуманность Сталина, и, кстати, вопреки многократным предупреждениям Черчилля, в каком-то смысле менее наивного, а с другой стороны – в меньшей степени реалиста. И если бы мы действительно выиграли войну, безусловно произошло бы то же самое: упрямцы, безостановочно называвшие нас врагами рода человеческого, замолчали бы один за другим, а дипломаты сгладили бы углы, потому что, в конце концов, война войной, а шнапс шнапсом, так уж устроен мир. И вполне вероятно, что в результате наши усилия были бы вознаграждены, как часто предрекал фюрер, хотя, может, и нет, но в любом случае многие бы нам рукоплескали, включая тех, кто сейчас замолчал, потому что мы потерпели поражение, – печально, но факт. Даже если бы напряженность по этому поводу сохранялась десять или пятнадцать лет кряду, рано или поздно она бы все равно исчезла, когда, например, наши дипломаты выработали бы жесткие, непоколебимые, порой нарушающие права человека меры, разумеется, оставив возможность проявлять иногда определенную долю понимания. Меры, которые сегодня или завтра приняли бы Великобритания или Франция, чтобы восстановить порядок в своих мятежных колониях или чтобы, в случае Соединенных Штатов, обеспечить стабильность мировой торговли и погасить опасность коммунистических переворотов, что, собственно, все они в итоге и сделали, и результаты нам известны. И, по моему мнению, было бы серьезной ошибкой полагать, что нравственные устои западных государств кардинально отличаются от наших. Как ни крути, великая держава есть великая держава, она не случайно становится и уж тем более остается таковой. Граждане Монако или Люксембурга могут позволить себе роскошь демонстрировать политическую прямоту, а с англичанами это выглядит уже несколько иначе. Не британский ли управляющий, обучавшийся в Оксфорде или в Кембридже, с 1922 года ратовал за массовую бойню для обеспечения безопасности в колониях и горько сожалел, что политическая ситуация в его родной стране помешала осуществлению этих спасительных мер? Или если уж, как некоторые того желают, списывать все наши ошибки только на счет антисемитизма – нелепое, по-моему заблуждение, но для многих очень соблазнительное – не следует ли тогда признать, что Франция накануне Мировой войны отличилась в этой области гораздо больше нашего (не говоря уж о погромах в России)? Надеюсь, впрочем, вы не слишком удивились, что я не воздаю должное антисемитизму как фундаментальной причине уничтожения евреев: это означало бы забыть о том, что цели наших политических ликвидаций шли намного дальше. К моменту нашего поражения – я далек от мысли переписывать историю – мы, помимо евреев, уже полностью уничтожили в Германии неизлечимых инвалидов и умственно отсталых, основную часть цыган и миллионы русских и поляков. И, как известно, наши планы были гораздо обширнее: касательно русских, необходимое естественное сокращение с точки зрения экспертов Четырехлетнего плана и РСХА должно было достичь тридцати миллионов, а по расчетам некоторых инакомыслящих и чересчур усердных начальников отделов Восточного министерства – около сорока шести или пятидесяти миллионов. Если бы война продлилась еще несколько лет, мы бы, безусловно, начали массовое искоренение поляков. С какого-то момента идея и так уже витала в воздухе: взгляните на обширную переписку между гауляйтером Вартегау Грейзером и рейхсфюрером, где Грейзер с мая 1942 года спрашивает разрешения воспользоваться газовыми камерами в Кульмхофе для ликвидации 35 000 поляков, больных туберкулезом, по его соображению, представлявших серьезную угрозу здоровью его гауляйтеру, по истечении семи месяцев рейхсфюрер дал Гейзеру понять, что его предложение интересно, но преждевременно. Вам, наверное, покажется, что я слишком равнодушно рассуждаю о таких вещах. Я просто хочу вам показать, что уничтожение племени Моисеева происходило отнюдь не на почве иррациональной ненависти к евреям – думаю, я уже рассказывал об общем негативном отношении в СД и в СС к антисемитам, руководствовавшимся эмоциями, – а в соответствии с твердым и взвешенным решением карательными мерами устранить разнообразные социальные проблемы. Здесь мы, кстати, отличаемся от большевиков только в оценках категорий проблем, стоявших перед нами: в основе их понимания общественного устройства лежала горизонтальная шкала (классы), в основе нашего – вертикальная (расы), но оба подхода являлись одинаково решающими (я уже подчеркивал это) и приводили к аналогичным заключениям относительно применяемых средств. И если хорошенько все проанализировать, можно прийти к выводу, что наша воля или, по крайней мере, способность принять необходимость самого радикального подхода к проблемам, поразившим общество в целом, родилась из наших поражений в Первой мировой войне. Все страны, кроме, наверное, Соединенных Штатов, пострадали. Однако победа, высокомерие и моральное удовлетворение, порожденные победой, позволили англичанам, французам и даже итальянцам быстрее забыть лишения и муки и вернуться к нормальному существованию, а порой упиваться собой, но и легче впадать в панику, боясь, что хрупкое равновесие их жизни разобьется вдребезги. Что касается нас, нам нечего было больше терять. Мы сражались так же мужественно, как наши враги; с нами обращались как с преступниками, унижали, разбирали по косточкам и глумились над нашими мертвецами. Судьба русских, если объективно, не многим лучше. Вполне логично, что мы сказали себе: ладно, раз так, если справедливо жертвовать цветом нации, посылать на смерть самых патриотичных, самых умных, одаренных и честных представителей расы во имя спасения народа – и все это абсолютно зря – и обществу плевать на их жертву, – то какое право на жизнь имеют низшие элементы, преступники, сумасшедшие, дебилы, маргиналы, евреи, не говоря уже о наших внешних врагах? Большевики, я уверен, рассуждали примерно так же. Если соблюдение правил мнимой гуманности не принесло нам никакой пользы, зачем тогда следовать им дальше, нас ведь никто за это не отблагодарит? Вот откуда неизбежен более суровый, жесткий, радикальный подход к проблемам. Во все времена все государства, сталкиваясь с социальными проблемами, вынуждены были искать компромисс между потребностями общества и правами индивида, а число возможных решений оставалось в общей сложности очень ограниченным: по сути, только смерть, милосердие или исторжение (исторически, прежде всего, в виде изгнания). Греки избавлялись от детей-уродов; арабы, осознавая, что с экономической точки зрения такие дети слишком обременительны для семьи, но не желая убивать, отдавали их на попечение общины, содержавшей детей на средства от zakat, специального налога, и от обязательной религиозной благотворительности; и в наши дни в Германии сохраняются специализированные заведения, чтобы убогие своим видом не травмировали здоровых. Если взглянуть на вещи с этой точки зрения, то можно констатировать, что в Европе, по крайней мере с XVIII века, решения разного рода проблем – помилование преступников, изгнание заразных больных (лепрозории), христианское милосердие к сумасшедшим – под влиянием Просвещения свелись к единому типу, применимому к каждой из ситуаций. Я говорю о заточении, финансируемом государством, о форме изоляции внутри страны, иногда, если хотите, с педагогическими притязаниями, но, в первую очередь, служащей практическим целям: преступники – в тюрьме, больные – в госпитале, сумасшедшие – в приюте. И разве не очевидно, что столь гуманные решения тоже являются результатом компромисса, осуществимы благодаря богатству и носят случайный характер? После Мировой войны многие поняли, что такие способы больше не годятся, что они недостаточны и не соответствуют масштабу новых проблем – последствию сокращения экономических ресурсов и ранее невообразимому уровню ставок (миллионы погибших на войне). Требовались новые решения, и мы их нашли, человек всегда находит нужные решения, и демократические, с позволения сказать, страны, нашли бы их, если бы нужда возникла. Но почему, спросите вы сегодня, евреи? Какое евреи имеют отношение к вашим психам, преступникам и заразным больным? Да ведь совсем нетрудно увидеть, что исторически евреи, стремясь отгородиться от остальных, сами создали еврейскую проблему. Разве первые письменные документы против евреев, составленные александрийскими греками задолго до Христа и теологического антисемитизма, не обвиняют евреев в неспособности жить в обществе, в нарушении законов гостеприимства – основы и одного из главных политических принципов античного мира? Запреты в еде не позволяли евреям ни есть у других, ни принимать у себя гостей. Потом, конечно, возник и религиозный вопрос. Я не пытаюсь здесь, как могут подумать некоторые, сделать евреев ответственными за постигшую их катастрофу. Я просто хочу сказать, что история Европы выработала рефлекс – в кризисные периоды ополчаться на евреев. И когда идет насильственная переплавка общества, рано или поздно расплачиваться евреям – рано в нашем случае, поздно – у большевиков. И это, в общем-то, закономерно, ведь только опасность антисемитизма минует, евреи тут же теряют чувство меры.
Ни минуты не сомневаюсь, что вас заинтересовали мои размышления; меня несколько занесло в сторону, до сих пор не доводилось поговорить о том знаменательном дне шестого октября, который я намеревался описать здесь вкратце. Я проснулся от того, что в дверь моего купе пару раз настойчиво постучали; из-за опущенной шторы время определить было невозможно, я, видимо, спал глубоким сном и помню, что никак не мог очнуться. Потом послышался голос помощницы Мандельброда, нежный, но твердый: «Штурмбанфюрер, через полчаса вокзал». Я умылся, оделся и вышел в тамбур размять ноги. Там мне встретилась вчерашняя молодая женщина: «Здравствуйте, штурмбанфюрер. Хорошо спали?» – «Да, спасибо. Доктор Мандельброд проснулся?» – «Не знаю, штурмбанфюрер. Кофе не желаете? Завтрак мы подадим по приезде». Она вернулась с маленьким подносом. Я пил кофе, стоя, чуть расставив ноги, чтобы удерживать равновесие, вагон качало; она скромно села в креслице – я заметил, что сегодня вместо черных брюк она надела длинную юбку, а волосы стянула в строгий пучок. «А вам кофе?» – спросил я. «Нет, благодарю». Мы так и молчали, пока не заскрипели тормоза. Я отдал ей чашку и взял чемодан. Поезд замедлял ход. «Хорошего дня, – сказала она. – Доктор Мандельброд присоединится к вам позже». На вокзале царила легкая неразбериха, уставшие гауляйтеры, зевая, друг за другом выходили из вагонов, их встречал целый батальон чиновников в штатском или форме СА. Один из них увидел мою форму СС и нахмурился. Я кивнул на вагон Мандельброда, и лицо офицера просветлело: «Извините», он приблизился ко мне. Я назвался, он сверился со списком: «Да, вижу. Вы с членами аппарата рейхсфюрера размещаетесь в отеле „Позен“. Там для вас приготовлена комната. Я вам сейчас найду машину. Вот программа». В отеле, импозантном, но немного унылом здании прусского периода, я принял душ, побрился, переоделся и проглотил пару тартинок с джемом. Около восьми часов я спустился в фойе, где уже началось привычное брожение. Я наконец отыскал ассистента Брандта, гауптштурмфюрера, и показал ему программу, которую мне дали. «Послушайте, вы уже можете туда отправляться, там будут офицеры. Но рейхсфюрер приедет только после полудня». Машина ждала у отеля, и я приказал отвезти меня в Познаньский дворец. По дороге я любовался ратушей с голубой башней и лоджией с аркадами, потом узкими разноцветными фасадами бюргерских домов, теснившихся на Старой площади, отражение скромных архитектурных фантазий нескольких веков, но мое мимолетное утреннее удовольствие закончилось при виде самого дворца. Гигантское нагромождение каменных блоков на широкой пустынной площади, грубое, ощетинившееся заостренными крышами и увенчанное высокой стрельчатой башней, массивное, помпезное, строгое, однотонное здание, перед которым стояли в ряд украшенные флажками «мерседесы» высоких сановников. Программу открывала серия выступлений экспертов из окружения Шпеера, в том числе и Вальтера Роланда, стального магната, они по очереди доложили о плачевном состоянии военного производства. Большая часть государственной элиты внимала прискорбным новостям в первом ряду. Доктор Геббельс, министр Розенберг, Аксман, руководитель молодежной организации «Гитлерюгенд», гросс-адмирал Дёниц, фельдмаршал люфтваффе Мильх и толстый человек с бычьей шеей, густыми, зачесанными назад волосами, которого я опознал во время одного из перерывов: рейхсляйтер Борман, личный секретарь фюрера и начальник Партийной канцелярии НСДАП. Кроме имени мне было мало что известно о рейхсляйтере; никогда о нем не упоминали ни газеты, ни кинохроники, не припомню, чтобы я видел его фото. После Роланда настала очередь Шпеера. В своем выступлении, длившемся меньше часа, рейхсминистр затронул те же темы, что накануне во Дворце принца Альбрехта, и говорил с удивительной прямотой, чуть ли не грубо. И только тут я заметил Мандельброда: для его громоздкого кресла-платформы отвели специальное место сбоку, он слушал с отрешенностью Будды, прищурив глаза, рядом стояли две его помощницы (все-таки две!) и высокая, угловатая фигура – Леланд. Последние слова Шпеера вызвали ажиотаж: вернувшись к теме обструкции гау, рейхсминистр заявил о своем соглашении с рейхсфюрером, который грозился жестоко расправляться с непокорными. Когда Шпеер спустился с эстрады, его окружили несколько орущих гауляйтеров. Я сидел слишком далеко в глубине зала, чтобы расслышать комментарии возмущенных, но могу себе их представить. Леланд наклонился и прошептал что-то на ухо Мандельброду. Потом нас пригласили вернуться в город в отель «Остланд», где расположилось руководство, на фуршет. Помощницы выкатили Мандельброда через запасный выход, но я подошел поздороваться с ним и герром Леландом во дворе. И увидел наконец, как Мандельброд путешествует: в его специальном «мерседесе» с огромным салоном имелось устройство, благодаря которому кресло, снятое с платформы, въезжало в машину; платформу и помощниц везла вторая машина. Мандельброд велел мне сесть с ним, я примостился на откидном кресле; Леланд сел впереди с шофером. Я жалел, что не поехал с девушками: Мандельброд, похоже, не замечал вонючих газов, испускаемых его телом; к счастью, путь оказался недолгим. Мандельброд молчал, дремал, наверное. Я задавался вопросом, встает ли он когда-нибудь с кресла, а если нет, как же он одевается, справляет свои нужды? В любом случае его помощницы, видимо, совершенно небрезгливы. На фуршете я беседовал с двумя офицерами личного штаба, Вернером Гротнером, он никак не мог прийти в себя от своего назначения на место Брандта (Брандт, получивший штандартенфюрера, занял пост Вольфа), и адъютантом из полиции. Именно они первые, я думаю, рассказали мне о том сильном впечатлении, которое произвела на группенфюреров двумя днями раньше речь рейхсфюрера. Мы еще обсудили отъезд Глобочника, обернувшийся для всех настоящим сюрпризом; но мы знали недостаточно, чтобы строить догадки о мотивах этого перевода. Передо мной возникла одна из мандельбродовских амазонок, нет, я решительно их не различал, я даже затруднился бы ответить, какая из них предлагала мне себя вчера вечером. «Прошу прощения, господа», – улыбнулась она. Я тоже извинился и пошел за ней сквозь толпу. Мандельброд и Леланд разговаривали со Шпеером и Роландом. Я поприветствовал всех и поздравил Шпеера с выступлением; лицо рейхсминистра приняло огорченное выражение: «Мой доклад одобрили явно не все». – «Это ничего не меняет, – возразил Леланд. – Если вам удастся заручиться поддержкой рейхсфюрера, никто из этих пьяных идиотов не сможет оказать вам сопротивление». Я поразился: никогда не слышал, чтобы герр Леланд высказывался так грубо. Шпеер кивнул головой. «Старайтесь постоянно контактировать с рейхсфюрером, – тихо произнес Мандельброд. – Не дайте угаснуть новому порыву. Если не хотите беспокоить по мелким вопросам рейхсфюрера лично, обратитесь к присутствующему здесь моему молодому другу. За его надежность я ручаюсь». Шпеер рассеянно взглянул на меня: «У нас уже есть связной с министерством». – «Конечно, – бросил Мандельброд. – Но у штурмбанфюрера Ауэ доступ к рейхсфюреру, безусловно, ближе. Не стесняйтесь к нему обращаться». – «Хорошо, ладно», – согласился Шпеер. Роланд повернулся к Леланду: «Ну, так мы договорились насчет Манхейма…» Ассистентка Мандельброда легонько толкнула меня локтем, дав понять, что во мне больше не нуждаются. Я попрощался и незаметно удалился. Девушка проводила меня до буфета и налила себе чаю, пока я жевал какую-то закуску. «Я думаю, доктор Мандельброд очень вами доволен», – голос у нее был красивый, ровный. «Не знаю о причинах, но если вы так говорите, я вам поверю. Вы давно у него служите?» – «Много лет». – «А до того?» – «Я защитила во Франкфурте диссертацию по латинской и немецкой филологии». У меня брови поползли наверх: «Никогда бы не догадался. Не сложно вам безотлучно работать на Мандельброда? Он, наверное, очень требовательный». – «Каждый выполняет свой долг, – ответила она без колебаний. – Доверие доктора Мандельброда для меня великая честь. Благодаря таким людям, как он и герр Леланд, Германия будет спасена». Я пристально посмотрел ей в лицо: гладкое, овальное, минимум косметики. Очень красивая, но ее абстрактная красота, лишенная каких-либо, даже мелких, особенностей, не задерживала взгляда. «Можно задать вам вопрос?» – «Конечно». – «Коридор в вагоне был плохо освещен. Это вы стучали в мою дверь?» Она переливчато засмеялась: «Ну не такая уж темень. Но это была не я, а моя коллега Хильда. Почему вы спрашиваете? Вы бы предпочли меня?» – «Нет, я просто», – брякнул я. «Если представится возможность, – она прямо смотрела мне в глаза, – то с удовольствием. Надеюсь, вы не будете слишком уставшим». Я покраснел: «Как вас зовут? Чтобы знать». Она протянула мне изящную ручку с перламутровыми ногтями; ладонь сухая, нежная, но рукопожатие крепкое, почти мужское. «Эдвига. Хорошего вечера, штурмбанфюрер».
Около трех часов, почти сразу после нашего возвращения во Дворец в плотном молчаливом кольце офицеров и с Рудольфом Брандтом по правую руку, появился рейхсфюрер. Брандт меня заметил и чуть кивнул; он уже носил новые знаки различия, но когда я подошел его поздравить, он меня перебил: «После речи рейхсфюрера мы отправляемся в Краков. Вы едете с нами». – «Есть, штандартенфюрер». Гиммлер сел в первый ряд возле Бормана. Однако вначале мы прослушали доклад Дёница, подтвердившего временное прекращение боевых действий под водой, но выразившего надежду на их незамедлительное возобновление, потом Мильха, надеявшегося, что последняя тактика люфтваффе скоро положит конец террористическим рейдам на наши города, и Шепмана, нового начальника штаба СА, который, как я понял, ни на что не надеялся. Около половины шестого на трибуну поднялся рейхсфюрер. Его силуэт на возвышающейся эстраде обрамляли кроваво-красные флаги и черные каски почетного караула; трубки высоко закрепленных микрофонов почти полностью закрывали лицо; в стеклах очков отражался свет лампочек зала. Громкоговоритель придавал голосу рейхсфюрера металлическое звучание. Я уже описывал реакцию присутствующих; жаль, я сидел в глубине зала и вместо лиц видел в основном затылки. Но мне хотелось бы добавить, что, помимо страха и удивления, некоторые слова рейхсфюрера нашли во мне глубокий отклик. Особенно о влиянии Окончательного решения на тех, кто обязан его выполнять, и об опасности, которой мы подвергались, – стать жестокими и равнодушными и больше не ценить человеческую жизнь или размякнуть и поддаться слабости и нервным депрессиям. Да, то, что путь между Харибдой и Сциллой страшно узок, я знал не понаслышке. Эти слова рейхсфюрера имели ко мне непосредственное отношение, и со всей скромностью заявляю, в определенной степени адресовались лично мне и тем, кто, как и я, страдал от ужасной ответственности, возложенной на нас нашим рейхсфюрером, отлично понимавшим, что нам приходится терпеть. Нет, он отнюдь не сентиментальничал и резко выразился в конце выступления: многие еще заплачут, ну и что, и без того слез уже немало, по-моему, вполне шекспировская фраза, хотя вероятно из другого выступления или я прочитал ее позже, неуверен, да и какая разница. После доклада, уже где-то в семь часов вечера, рейхсляйтер Борман пригласил нас в буфет в соседнем зале. Сановники, в основном гауляйтеры в летах, брали бар штурмом; поскольку мне предстояла командировка с рейхсфюрером, я воздержался от выпивки. Я приметил Гиммлера в углу, он стоял перед Мандельбродом с Борманом, Геббельсом и Леландом спиной к залу, не обращая ни малейшего внимания на эффект, произведенный его речью. Гауляйтеры опрокидывали рюмку за рюмкой и шушукались, время от времени один из них выплевывал какой-нибудь пошлый тост, его коллеги торжественно кивали и пили снова. Должен признаться, несмотря на впечатление от доклада, меня больше занимала дневная сцена: я ощущал, что Мандельброд озабочен моим продвижением, но как и куда, еще не понимал; я слишком мало знал о его отношениях с рейхсфюрером, да, впрочем, и со Шпеером, чтобы судить о дальнейших планах, и волновался, сумею ли оправдать его ожидания. Я спрашивал себя, не могли бы Хильда или Эдвига разъяснить мне ситуацию, но, с другой стороны, абсолютно не сомневался, что даже в постели они не сказали бы мне того, что Мандельброд хотел от меня скрыть. А Шпеер? Долгое время я был уверен, что помню, как он беседовал с рейхсфюрером на фуршете. Потом однажды, спустя годы, я вычитал в книжке, что Шпеер категорически это отрицает, дескать, он с Роландом ушел еще в обед и не присутствовал на докладе рейхсфюрера. Мне остается только сказать: возможно. Что касается меня, пообщавшись со Шпеером в полуденный перерыв, я больше специально за ним не следил и сосредоточился на Мандельброде и рейхсфюрере, и потом народу было действительно много, но все же мне кажется, что я его видел тем вечером. Шпеер описывал необузданную пьянку гауляйтеров, в конце которой, по его собственным воспоминаниям, многих из них несли до спецпоезда, я в тот момент уже уехал с рейхсфюрером и ничего подобного не застал, но Шпеер говорит об этом, будто сам там присутствовал, судить тут сложно и в любом случае к чему крючкотворствовать. Слышал ли Шпеер в тот день слова рейхсфюрера или нет, итоги ему, как и остальным, были известны. По крайней мере, в тот период он знал достаточно, чтобы понимать, что лучше этим и ограничиться, как выразился один историк. И я подтверждаю – ведь немного позже мы с ним сблизились – он знал все, о женщинах и детях в том числе. Хотя, без сомнения, предпочел бы не знать. Гауляйтер фон Ширах, который в тот вечер сидел, развалившись в кресле с развязанным галстуком и расстегнутым воротником, безостановочно хлестал коньяк и тоже, конечно, предпочитал бы не знать, как и большинство других: им то ли не доставало твердости убеждений, то ли они уже боялись репрессий со стороны союзников. Надо еще добавить, что эти люди, гауляйтеры, слишком мало сделали для укрепления нашей военной мощи и даже в отдельных случаях нам мешали, между тем как Шпеер, что подтверждают современные специалисты, подарил национал-социалистической Германии минимум два года, и больше, чем кто-либо, старался продлить наше дело и продлил бы, если б смог. Естественно, он желал победы, из кожи вон лез для победы той национал-социалистической Германии, которая истребляла евреев, женщин и детей, и цыган, да, впрочем, много кого еще. Но я позволю себе, несмотря на исключительное уважение к достижениям Шпеера, счесть неприличным раскаяние, которое он демонстрировал после войны. Раскаянием он спас свою шкуру, хотя заслуживал жизнь не больше и не меньше, чем другие, Заукель, например, или Йодль, но вынужден был постоянно кривляться, чтобы сохранить лицо, при этом ему хватило прямоты, отбыв весь срок наказания, заявить: Да, я знал, и что? Как уже однажды в Иерусалиме сказал со всей прямотой простых людей мой товарищ Эйхман: «Раскаяние для маленьких детей».
Около восьми вечера я по приказу Брандта покинул прием, и мне не удалось попрощаться с доктором Мандельбродом, который, впрочем, был поглощен разговорами. Меня вместе со многими другими офицерами отвезли в отель «Позен» за вещами и потом на вокзал, где нас уже ждал специальный поезд рейхсфюрера. Мне снова выделили отдельное купе, правда, более скромных размеров, чем в вагоне доктора Мандельброда, и с узкой кушеткой. Поезд, носящий имя «Генрих», был необычайно удобен: помимо персональных бронированных вагонов рейхсфюрера, в начале состава располагались вагоны, обустроенные под кабинеты, и передвижной центр связи, головные и хвостовые платформы были оборудованы орудиями противовоздушной обороны; при необходимости весь штаб рейхсфюрера мог работать в пути. Я не видел, как рейхсфюрер садился в вагон; через некоторое время после нашего прибытия поезд тронулся; на этот раз в моем купе оказалось окно, я мог потушить свет и, сидя в темноте, любовался прекрасной светлой осенней ночью, осиянной звездами и луной, льющей бледный серебряный свет на убогие польские пейзажи. От Познани до Кракова примерно 400 километров, из-за многочисленных остановок, связанных с воздушной тревогой или перегруженностью путей, мы добрались до места, когда уже рассвело; проснувшись, я наблюдал, как медленно розовеют серые равнины и картофельные поля. На вокзале в Кракове нас встречал почетный караул с генерал-губернатором во главе, красная ковровая дорожка и фанфары; я издалека заметил Франка в окружении молодых полячек в национальных костюмах, держащих в руках корзины с оранжерейными цветами; он отдал салют высоким гостям, от чего его форма чуть не лопнула по швам, потом обменялся парой любезных слов с рейхсфюрером и исчез в огромном лимузине. Нам предоставили комнаты в отеле у подножия Вавеля; я помылся, тщательно побрился, отдал один форменный комплект в стирку. Затем по чудесным старинным улочкам Кракова, озаренным солнцем, не спеша, отправился в ХССПФ, отослал оттуда телекс в Берлин, чтобы узнать, как продвигается мой проект. Днем я вместе с членами делегации рейхсфюрера принимал участие в официальном обеде; я сидел за столом с офицерами СС и вермахта, а также с мелкими чиновниками генерал-губернаторства; за главным столом рядом с рейхсфюрером и генерал-губернатором восседал Биркамп, но у меня не было никакой возможности подойти поздороваться с ним. Мы говорили в основном о Люблине, люди Франка подтвердили слухи, курсировавшие в генерал-губернаторстве, о том, что Глобочника намеревались прогнать за колоссальные растраты. По одной из версий, рейхсфюрер хотел показательного процесса, чтобы другим неповадно было, но Глобочник предусмотрительно собрал кучу компрометирующих документов и, воспользовавшись ими, выторговал себе разве что не золотую пенсию на родном побережье. После сытной еды пошли выступления, но я не стал слушать и вернулся в город доложиться Брандту, который обосновался в ХССПФ. Правда, сообщить я мог не слишком много: кроме Д-III, сразу давшего добро, мы по-прежнему ждали мнения остальных ведомств, в том числе и РСХА. Брандт приказал мне по приезде ускорить ход дела, рейхсфюрер пожелал, чтобы проект подготовили к середине месяца.
Для вечернего приема Франк денег не пожалел. Почетный караул со шпагами в руках, в форме со сверкающими золотыми погонами выстроился по диагонали через широкий двор «Вавеля». При входе в бальный зал гостей встречал сам Франк в форме СА и его жена, матрона, чьи белые телеса выпирали из зеленого бархатного одеяния. «Вавель», расположенный на вершине скалы, блистал всеми огнями: уже с городских улиц видно было, как он сияет. Гирлянды электрических лампочек украшали высокую колоннаду, идущую вокруг двора, за цепочкой караульных стояли солдаты с факелами, гостям, покинувшим бальный зал и прогуливавшимся на лоджиях, двор казался заключенным в огненное кольцо, светящийся колодец, на дне которого тихо пламенели параллельные ряды факелов. С противоположной стороны дворца с огромного бокового балкона открывался вид на расстилавшийся внизу темный безмолвный город. На эстраде в глубине главного зала оркестр играл венские вальсы; должностные лица генерал-губернаторства привели своих жен, некоторые пары танцевали, другие приглашенные пили, смеялись, выбирали себе закуски на перегруженных блюдами столах или, как я, изучали толпу. Кроме нескольких коллег из делегации рейхсфюрера, я мало кого знал. Я внимательно рассмотрел потолок с кессонами драгоценного дерева разных цветов и расписанными лепными головами в каждом отсеке: сверху на странных захватчиков, коими мы являлись, невозмутимо взирали бородатые солдаты, бюргеры в шляпах, придворные в перьях, кокетливые женщины. По распоряжению Франка открыли залы по бокам от парадной лестницы, каждый с буфетом, креслами и диванами для желающих отдохнуть или побыть в тишине. Гармоничную перспективу черных и белых ромбов плиточного пола нарушали прекрасные широкие ковры, заглушавшие шаги, впрочем опять гулко отдававшиеся по мрамору. По два охранника в касках и с обнаженными шпагами, поднятыми прямо к носу, как у английских гвардейцев, замерли у каждой двери в смежные залы. Я с бокалом вина в руке бродил по комнатам, любуясь фризами, потолками, картинами; увы, еще в начале войны поляки вывезли знаменитые фламандские гобелены Сигизмунда Августа предположительно в Англию или даже в Канаду, и Франк часто заявлял об этом как о расхищении культурного наследия Польши. Утомившись, я все-таки присоединился к группе офицеров СС, обсуждавших падение Неаполя и подвиги Скорцени. Я слушал их рассеянно, мое внимание отвлек странный шум, похожий на ритмичное поскрипывание. Звук приближался, я огляделся, потом почувствовал удар в сапог и опустил глаза; в меня врезался разноцветный автомобильчик с педалями, которым управлял хорошенький светловолосый мальчик. Малыш в костюмчике, расшитом лапками, вцепился пухлыми ручками в руль и смотрел на меня молча и сердито; на вид ему было четыре или пять лет. Я улыбнулся, но мальчик по-прежнему ничего не отвечал. В конце концов я понял и с поклоном подвинулся; не проронив ни слова, он принялся яростно жать на педали, пронесся в соседнюю комнату и исчез, проскочив между двумя застывшими, как статуи, охранниками. Спустя пару минут я услышал, что мой гонщик возвращается: он ринулся прямо, не замечая людей, вынужденных уступать ему дорогу. Подъехав к буфету, остановился, выбрался из машины и потянулся за куском пирога, но его ручка оказалась слишком короткой, напрасно он вставал на цыпочки, достать ему ничего не удавалось. Я подошел к нему и спросил: «Какой ты хочешь?» Он опять не ответил, только пальцем указал на «Захер торте». «Ты говоришь по-немецки?» – поинтересовался я. Мальчик оскорбился: «Конечно, я говорю по-немецки!» – «Тогда тебя наверняка научили слову bitte». Он покачал головой: «Мне не нужно говорить bitte». – «Это еще почему?» – «Потому что мой папа – король Польши, и все здесь должны ему подчиняться!» Я кивнул: «Что ж, прекрасно. Но тебе надо еще выучить военные отличия. Я служу не твоему отцу, а рейхсфюреру СС. Значит, если ты хочешь торта, ты должен сказать мне „пожалуйста“». Ребенок, надув губки, сомневался; по-видимому, он не привык к такому сопротивлению. Наконец он сдался: «Можно мне торта, bitte?» Я протянул ему кусочек. Малыш ел, пачкая шоколадом мордочку, и изучал мою форму. Потом поднял пальчик к Железному кресту: «Вы герой?» – «В некотором роде да». – «Вы воевали?» – «Да». – «Мой папа командует, но не воюет». – «Я знаю. Ты здесь постоянно живешь?» Он кивнул. «И тебе нравится жить во дворце?» Он пожал плечами: «Ну да, только других детей тут нет». – «Но у тебя все-таки есть братья и сестры?» Он опять кивнул: «Да, но я с ними не играю». – «Почему?» – «Не знаю. Просто». Я хотел спросить его имя, но тут на входе в зал возникла страшная суматоха: к нам направлялась толпа с Франком и рейхсфюрером во главе. «А, вот ты где! – воскликнул Франк, увидев сына. – Пойдем с нами. И вы тоже, штурмбанфюрер». Франк взял мальчика на руки, а мне указал на машину: «Вы могли бы ее прихватить?» Я поднял машину и последовал за ними. Толпа пересекла залы и остановилась возле двери, которую Франк распахнул самолично и посторонился, чтобы пропустить Гиммлера: «После вас, дорогой рейхсфюрер. Проходите, проходите». Франк поставил сына на пол и подтолкнул вперед, потом, поколебавшись, отыскал меня глазами и прошептал: «Спрячьте машину в углу. Мы после ее заберем». Я прошел в зал. В центре находился большой стол размером, по меньшей мере, три метра на четыре, на котором что-то лежало под черным покрывалом. Франк, не отходя от рейхсфюрера, дождался других гостей, потом распределил всех вокруг стола. Малыш снова вставал на цыпочки, но едва доставал до столешницы. Я стоял чуть поодаль, Франк обернулся и позвал меня: «Извините, штурмбанфюрер. Вы уже подружились, как я понял. Вас не затруднит подержать его, чтобы он тоже посмотрел?» Я наклонился и взял мальчика на руки; Франк освободил нам место рядом с собой. Пока входили последние приглашенные, Франк то запускал кончики пальцев в волосы, то теребил одну из своих медалей; казалось, от нетерпения он еле владел собой. Когда все собрались, Франк повернулся к Гиммлеру и торжественно объявил: «Дорогой рейхсфюрер, то, что вы сейчас увидите, – идея, с некоторых пор полностью занимающая мой досуг. Это проект, и я надеюсь, что после войны он прославит город Краков, столицу генерал-губернаторства Польши, и превратит его в центр притяжения для всей Германии. Когда мой план будет реализован, я хотел бы посвятить его фюреру в день его рождения. Но поскольку вы почтили нас визитом, я не желаю больше хранить свою задумку в секрете». Его одутловатое лицо с мягкими мясистыми чертами сияло от удовольствия. С полунасмешливым, полускучающим видом, скрестив руки за спиной, рейхсфюрер наблюдал за Франком сквозь пенсне. А я только и мечтал, чтобы Франк поторопился: ребенок все-таки был тяжелый. Франк сделал знак, несколько солдат сдернули покрывало, явив присутствующим архитектурный макет, что-то вроде обнесенного оградой парка с деревьями и дорожками, извивающимися между домов разных стилей. Пока Франка распирало от гордости, Гиммлер внимательно разглядывал макет. «Что это? – спросил он наконец. – Похоже на зоопарк». – «Почти, мой дорогой рейхсфюрер, – прокудахтал Франк, сунув большие пальцы в карманы мундира. – Это, как выражаются венцы, Menschengarten, антропологический сад, который я намереваюсь создать здесь, в Кракове». Он широко повел рукой над макетом. «Вы помните, дорогой рейхсфюрер, в нашей молодости, еще до войны, Völkerschauen [80] Гагенбека? С семьями из Самоа, Судана и Лапландии? Одно такое представление он устроил в Мюнхене, меня туда возил отец, и вы наверняка тоже это видели. А потом еще в Гамбурге, Франкфурте и Базеле, Гагенбек повсюду имел огромный успех». Рейхсфюрер потер подбородок: «Да-да, припоминаю. Передвижные экспозиции, да?» – «Точно. Но моя будет постоянно действующей, как зоопарк. И не только для развлечения публики, но для научных и педагогических целей. Мы соберем особи всех исчезающих или находящихся на грани вымирания народов Европы, чтобы сохранить для наглядности живые образцы. Немецкие школьники будут приезжать сюда на автобусе и учиться! Посмотрите, посмотрите!» Франк ткнул в макет одного из домиков, выполненный в разрезе: внутри за столом с семисвечником сидели крохотные фигурки. «Что касается, например, евреев, я выбрал Галицию и восточных евреев как наиболее колоритных. Дом типичен для их грязного образа жизни; естественно, чтобы избежать заражения посетителей, придется регулярно проводить дезинфекцию и подвергать экспонируемые экземпляры медицинскому контролю. Евреев я хочу отобрать самых набожных, им дадут Талмуд, и зрители увидят, как они бормочут свои молитвы или как их женщины готовят кошерную пищу. Здесь польские крестьяне из Мазурии, там большевистские колхозники, тут жители Рутении и украинцы, приглядитесь, в вышитых рубахах. Это большое здание предназначено для института антропологических исследований; я сам стану учредителем кафедры. У ученых появится возможность приезжать и на месте изучать народы, столь многочисленные в прошлом. Уникальный шанс для исследователей». – «Захватывающе, – пробормотал рейхсфюрер. – А обычные посетители?» – «Они могут свободно прогуливаться у огражденных участков, смотреть, как разные особи работают в саду, выбивают ковры, вешают белье. Потом мы организуем экскурсии по домам с разъяснениями, что позволит гостям парка познакомиться с обычаями и нравами их обитателей». – «И каким же образом вы сохраните ваш парк на длительные сроки? Ведь ваши экземпляры состарятся, а некоторые умрут». – «Именно в этом вопросе, дорогой рейхсфюрер, мне нужна ваша поддержка. Нам необходимо иметь по десятку видов каждого народа. Они переженятся и произведут потомство. Экспонатом служит одна семья, а другие заменяют ее членов в случае болезни, размножаются и обучают детей обычаям, молитвам и всему прочему. Я рассчитываю, что их будут содержать поблизости в лагере под надзором СС». – «Если фюрер одобрит, вероятно. Но тема требует обсуждений. Я сомневаюсь, что было бы желательно сохранять некоторые расы, даже если им грозит вымирание. Это опасно». – «Разумеется, мы примем надлежащие меры предосторожности. По моему мнению, подобное учреждение неоценимо и чрезвычайно важно для науки. Как вы хотите, чтобы будущие поколения поняли масштабность содеянного нами, если они не будут в курсе господствовавших ранее отношений?» – «Вы, безусловно, правы, дорогой Франк. Очень хорошая идея. А как будет финансироваться ваш… Völkerschauplatz?» – «На коммерческой основе. Только исследовательский институт получит субсидии. Для самого парка мы создадим Aktiengesellschaft, акционерное общество, чтобы проводить суммы по подписке. Когда мы погасим начальные инвестиции, деньги за вход покроют траты на содержание. Я интересовался информацией об экспозициях Гагенбека: они приносили огромную выручку. Зоологический сад в Париже регулярно терпел убытки, пока в тысяча восемьсот семьдесят седьмом году директор не организовал этнологические выставки нубийцев и эскимосов. За первый год его касса пропустила миллион посетителей. И так продолжалось вплоть до Мировой войны». Рейхсфюрер задумчиво покачал головой: «Отличная идея». Он наклонился и принялся изучать макет вблизи, Франк время от времени обращал внимание рейхсфюрера на ту или иную деталь. Мальчик заерзал, и я спустил его на пол: он тут же залез в машину и исчез за дверью. Гости тоже покидали зал. В одной из комнат я опять встретил неизменно лицемерного Биркампа, мы даже немного с ним поговорили. Потом я вышел во двор, курил под колоннадой и восхищался барочным великолепием иллюминации и почетным караулом, воинственным и варварским, будто нарочно выставленным здесь, чтобы подчеркнуть изящные формы дворца. «Добрый вечер, – раздался голос рядом со мной. – Впечатляет, правда?» Я обернулся и узнал Оснабругге, того любезного инженера, специализирующегося по строительству мостов и шоссе, с которым мы встретились в Киеве. «Добрый вечер! Какой приятный сюрприз». – «А сколько воды утекло под разрушенными мостами Днепра». Он держал бокал красного вина, и мы выпили за встречу. «Итак, что же вас привело в Frank-Reich, королевство Франка?» – «Я сопровождаю рейхсфюрера. А вы?» Его ясное овальное лицо приняло одновременно лукавое и деловое выражение: «Государственная тайна!» Он сощурил глаза и улыбнулся: «Но вам могу сказать – я в командировке по заданию ОКХ. Готовлю программы сноса мостов дистриктов Люблина и Галиции». Я в недоумении взглянул на него: «Что за черт, зачем?» – «На случай наступления большевиков, естественно». – «Но красные на Днепре!» Оснабругге потер короткий приплюснутый нос, я заметил, что он сильно облысел. «Они перешли его сегодня, – вымолвил Оснабругге. – И взяли Невель». – «Но это все-таки еще достаточно далеко. Мы не дадим им пройти вперед. Вы не думаете, что ваши приготовления отчасти носят пораженческий характер?» – «Вовсе нет: это предусмотрительность. Качество, которое очень ценят военные, смею вас заверить. Я делаю то, что мне говорят. И делал то же самое весной в Смоленске и летом в Белоруссии». – «И в чем же заключается программа сноса мостов, можете вы мне объяснить?» Он опечалился: «О, все довольно просто. Местные инженеры исследуют каждый мост под снос; я знакомлюсь с результатами их анализа, одобряю, и потом мы рассчитываем необходимый объем взрывчатки для дистрикта в целом, количество детонаторов и так далее, затем на месте решаем, где и как их устанавливать; и, наконец, определяем этапы, которые помогут местным комендантам точно знать, когда надо ставить заряд, когда детонаторы, и при каких условиях можно нажать на кнопку. План, что же еще. Это позволяет нам при непредвиденных обстоятельствах избежать ситуации, когда мы вынуждены оставлять врагу мосты только потому, что под рукой не находится взрывчатки». – «А вы пока так ничего и не построили?» – «Увы, нет! Моя командировка на Украину обернулась проклятием: мой рапорт о сносе советских конструкций до такой степени понравился начальству, что меня вызвали в Берлин и назначили руководителем отдела по сносу – исключительно мостов, потому что за фабрики, железные дороги и шоссе отвечают другие ведомства; за аэродромы, например, люфтваффе, но иногда мы проводим общие конференции. Короче, с тех пор я только этим и занимаюсь. Все мосты Дона и Маныча – моя работа. Донец, Десна, Ока – тоже я. Я уже взорвал сотни мостов. Грустно. Впрочем, жена довольна, меня же продвигают по службе, – он похлопал по петлицам: действительно, с Киева его несколько раз повысили в звании. – А у меня сердце разрывается. Каждый раз такое впечатление, словно я убил ребенка». – «Вы не должны к этому так относиться, герр оберст. В конце концов, мосты же советские». – «Да, но если это продолжится, однажды настанет черед и немецких мостов». Я улыбнулся: «Настоящее пораженчество». – «Извините меня. Иногда меня охватывает отчаяние. Даже в детстве я любил строить, тогда как все мои одноклассники хотели только ломать». – «Справедливости нет. Идемте, наполним бокалы». В главном зале оркестр играл Листа, и несколько пар танцевали. Франк сидел на углу стола с Гиммлером и госсекретарем Бюлером; они оживленно беседовали и пили кофе и коньяк; даже перед рейхсфюрером, курившим толстую сигару, вопреки его привычке, стоял полный стакан. Франк подался вперед, его влажный взгляд был затуманен алкоголем; Гиммлер с обиженным видом нахмурил брови: музыка пришлась ему не по вкусу. Я снова выпил с Оснабругге, звучала финальная часть рапсодии. Когда оркестр остановился, Франк, с бокалом коньяка в руке, поднялся со стула. Не отводя взгляда от Гиммлера, он объявил голосом твердым, но чересчур пронзительным: «Дорогой рейхсфюрер, вы наверняка знаете старинное популярное четверостишие: Clarum regnum Polonorum / Est caelum Nobiliorum / Paradisum Judeorum / Et infernum Rusticorum [81]. Дворяне давно уже исчезли и, благодаря нашим усилиям, евреи тоже; крестьянство в будущем станет только обогащаться и прославлять нас, и Польша превратится в Небеса и Рай для немецкого народа, Caelum et Paradisum Germanorum». Его латынь звучала столь неуверенно, что дама, стоявшая рядом, громко фыркнула; фрау Франк, как индусский идол развалившаяся в кресле возле мужа, пронзила ее взглядом. Рейхсфюрер – невозмутимые, холодные глаза прятались за маленьким пенсне – поднял бокал, но лишь смочил губы. Франк обогнул стол, пересек зал и довольно ловко вскочил на эстраду. Пианист встал и поспешно скрылся. Франк уселся на его место и вдохновенно встряхнул длинными белыми пухлыми кистями над клавишами, а потом заиграл «Ноктюрн» Шопена. Рейхсфюрер вздохнул; он часто моргал и уже с трудом держал сигару, готовую вот-вот потухнуть. Оснабругге нагнулся ко мне: «По-моему, генерал-губернатор нарочно дразнит вашего рейхсфюрера. Вы не согласны?» – «Не сущее ли это ребячество?» – «Он обижен. По слухам, в прошлом месяце он еще раз просил отставки, но фюрер опять отказал». – «Если я правильно понял, особым авторитетом он здесь не пользуется». – «По словам моих коллег из вермахта, абсолютно никаким. Представьте себе королевство франков без франков, вернее, без Франка. Это и есть Польша». – «То есть он скорее князек, чем король». Если не обращать внимания на выбор отрывка – ведь у Шопена есть вещи гораздо лучше «Ноктюрна», – Франк играл весьма неплохо, хотя, конечно, с излишним пафосом. Я посмотрел на жену Франка, ее жирные, красные плечи и грудь, вываливавшиеся из декольте платья, лоснились от пота: крошечные, глубоко посаженные глазки блестели от гордости. Мальчик вроде как сквозь землю провалился, я уже давно не слышал надоедливого шума веломобильчика. Было уже поздно, гости потихоньку откланивались. Брандт подошел к рейхсфюреру, предложил свои услуги и, не меняя сосредоточенного выражения птичьего лица, продолжал спокойно следить за происходящим. Я нацарапал в записной книжке номера телефонов, вырвал листок и протянул его Оснабругге. «Держите. Если будете в Берлине, позвоните мне, пропустим по стаканчику». – «Вы уходите?» Я кивнул подбородком на Гиммлера, у Оснабругге брови поползли вверх: «А, тогда до свидания. Рад был нашей встрече». Франк доигрывал «Ноктюрн», энергично тряся головой. Я скривился: даже для Шопена это было слишком, генерал-губернатор явно злоупотреблял легато.
Следующим утром рейхсфюрер уехал. Вспаханные поля Вартегау размокли от осеннего дождя, мутные лужи, размером с небольшие пруды, будто поглотили весь свет под вечным небом. Сосновые леса, прячущие, как мне всегда казалось, темные ужасные преступления, добавляли черного цвета в бесконечный грязный пейзаж; только редкие для этой области березы, увенчанные пламенеющими кронами, бросали последний вызов надвигающейся зиме. В Берлине тоже шел дождь, люди в промокшей одежде ускоряли шаг; на тротуарах с выбоинами от бомб иногда образовывались непреодолимые водные пространства, пешеходы разворачивались и продолжали путь по соседней улице. Назавтра я уже отправился в Ораниенбург ходатайствовать по своему делу. Я был уверен, что больше всего проблем мне доставит штурмбанфюрер Бургер, новый начальник Д-IV, но он, послушав меня несколько минут, просто сказал: «Если нет проблем с финансированием, то мне все равно» – и приказал адъютанту составить письмо с положительным отзывом. А вот с Маурером, наоборот, возникли сложности. Его совершенно не впечатлило, что благодаря моему проекту эффективность труда заключенных повысится, он считал, что наши планы не получат дальнейшего развития, и откровенно заявил, что, одобрив их, боится в будущем перекрыть доступ другим мерам по улучшению. Я, используя самые разнообразные аргументы, больше часа объяснял ему, что без согласия РСХА мы ничего не сможем сделать и что РСХА не поддержит слишком затратный проект из страха оказать содействие евреям и прочим опасным врагам. Но именно в этом вопросе Маурер проявил особую несговорчивость: он путался, беспрестанно повторял, что, конечно, к евреям Аушвица цифры абсолютно неприменимы, по статистике только 10 % из них работают, а где же, простите, остальные? Ведь это же немыслимо, что такое количество евреев неработоспособны. Он неоднократно посылал запросы Хёссу, но тот отвечал уклончиво или вообще молчал. Маурер явно ждал разъяснений, но я рассудил, что не мне их ему давать, и ограничился заверением, что специальная комиссия могла бы разобраться в таких вещах на месте. Но у Маурера не было времени разъезжать с инспекциями. В итоге я все же вырвал у него согласие, но с ограничениями: он не возражал против классификации, но, со своей стороны, требовал увеличить ориентировочные показатели. Вернувшись в Берлин, я написал отчет Брандту и сообщил, что, по моим сведениям, РСХА одобрит проект, хотя письменного подтверждения у меня пока нет. Брандт приказал выслать ему рапорт и копию Полю; рейхсфюрер примет окончательное решение позже, а пока наш проект послужит базой для работы. Меня же он просит изучить рапорты СД касательно иностранных рабочих и начать думать над данной проблемой тоже.
Наступил день моего рождения, тридцатилетие. Я, как и тогда в Киеве, пригласил Томаса поужинать, никого кроме него я видеть не хотел. Хотя у меня в Берлине было много знакомых, бывших приятелей по университету или товарищей из СД, по правде говоря, только Томаса я считал другом. После выздоровления я без всяких сожалений отрешился от мира, погрузился в работу и помимо профессиональных отношений практически ни с кем не общался и не имел ни эмоциональных, ни сексуальных связей. Впрочем, и потребности в них у меня не возникало; при воспоминаниях о парижских эксцессах мне становилось дурно, я не испытывал никакого желания вновь пускаться в сомнительные авантюры. Я не думал ни о сестре, ни об умершей матери; по крайней мере, не помню, чтобы я о них думал. Вероятно, после страшного шока от ранения (хотя я полностью выздоровел, мысль о нем всякий раз наводила на меня ужас и делала беспомощным, будто я был из стекла или хрусталя и при малейшем ударе рисковал разбиться вдребезги) и весенних потрясений моя душа нуждалась в покое и размеренности, и я отбрасывал все, что могло их нарушить. Но в тот вечер – я пришел на встречу заранее, чтобы немного поразмышлять в одиночестве, и пил коньяк в баре – я снова вспомнил сестру: ведь ей сегодня тоже исполнилось тридцать. Где она празднует – в швейцарском санатории, переполненном иностранцами? Или в своем мрачном жилище в Померании? Уже давно мы не отмечали день рождения вместе. Я попытался восстановить в памяти, когда это было в последний раз: наверное, в детстве в Антибе, но смятение, охватившее меня, мешало сосредоточиться, и мне не удавалось реконструировать события. Я приблизительно рассчитал дату: по логике вещей тогда шел 1926 год, потому что в 1927 году нас уже отправили в коллеж; нам исполнилось по тринадцать лет, я силился припомнить детали, но тщетно. Может, в коробках или шкатулках на чердаке в Антибе сохранились фотографии с праздника? Жаль, я плохо искал. Чем больше я думал об этих, в сущности, идиотских мелочах, тем сильнее огорчался. К счастью, появился Томас и развеял мое уныние. Я уже, конечно, говорил и повторюсь: в Томасе мне особенно нравился врожденный оптимизм, энергия, ум и невозмутимый цинизм; его сплетни, язвительные замечания и намеки всегда доставляли мне удовольствие, мне казалось, что благодаря осведомленности Томаса о тайных связях и разговорах за закрытыми дверьми я вместе с ним проникаю в подноготную жизни, спрятанной от глаз невежд, словно стоящих лицом к солнцу и замечающих в людских поступках лишь самое очевидное. Томас обладал способностью сделать вывод о расстановке политических сил лишь по факту встречи, даже не зная о содержании переговоров; и если иногда ошибался, жадное стремление к добыче новой информации позволяло ему постоянно корректировать те головоломные конструкции, которые он возводил наугад. Но в то же время у него напрочь отсутствовала фантазия, и я всегда подозревал, что, несмотря на способность в нескольких словах обрисовать сложную картину, из Томаса получился бы скверный романист: главным ориентиром в его рассуждениях и гипотезах неизменно оставался личный интерес; придерживаясь его, Томас редко просчитывался и предположить иные побудительные мотивы в действиях и словах людей был просто не в состоянии. Страстью Томаса – и этим он отличался от Фосса, я мысленно вернулся к предыдущему дню рождения и с горечью подумал о нашей короткой дружбе, – да, страстью Томаса было отнюдь не чистое знание, знание как таковое, а лишь практические сведения, определяющие дальнейшие действия. В тот вечер Томас много говорил о Шелленберге, но исключительно обиняками, словно я должен был сам все понять: Шелленберг сомневается, Шелленберг ищет альтернативы, но что за сомнения, что подразумевалось под альтернативами, Томас уточнять не хотел. Я немного знал Шелленберга, но не сказал бы, что тот мне нравился. В РСХА он занимал особое положение, в основном, думаю, благодаря приязненному отношению рейсхсфюрера. Я не считал его настоящим национал-социалистом, скорее человеком, очарованным самой властью, а не ее целью. Перечитывая написанное, я вдруг отдал себе отчет, что у вас и о Томасе может сложиться подобное впечатление. Но Томас – это абсолютно другое: даже если он испытывал священный ужас перед теоретическими и идеологическими дискуссиями, что, например, объясняет его отвращение к Олендорфу, и всегда слишком заботился о личном будущем, в самых незначительных поступках он оставался истинным национал-социалистом. А Шелленберг был флюгером, и мне совсем нетрудно было представить, что он работает на английские Секретные службы или ОСС. Шелленберг имел привычку называть не нравившихся ему людей блядями, но такое определение как нельзя лучше соответствовало ему самому. И, если задуматься, оскорбления, которые люди используют охотнее всего, которые часто спонтанно срываются с их губ, изобличают в итоге их собственные скрытые недостатки – естественно, ведь человек ненавидит то, на что больше всего похож. Эта идея не покидала меня ни за ужином, ни потом, когда я, немного пьяный, поздно ночью вернулся к себе, взял с этажерки сборник речей фюрера, принадлежавший фрау Гуткнехт, и принялся его листать, выискивая наиболее резкие высказывания, в первую очередь о евреях. Читал и задавался вопросом, не описывал ли фюрер, бессознательно, самого себя: евреи умеют лишь одно – лгать и мошенничать, им не хватает способностей и изобретательности во всех областях жизни. Или: евреи – лжецы, фальсификаторы, лицемеры. Они достигли того, что имеют, только благодаря наивности тех, кто их окружает. Вот еще: мы можем жить без евреев, а они без нас нет. Однако фюрер никогда не делал заявлений от своего имени, его личностные особенности значили немного: он скорее играл роль линзы, улавливал и концентрировал волю народа, чтобы затем фокусировать ее в нужной точке. И не всех ли нас он имел в виду, говоря о себе? Но об этом я могу сказать лишь сегодня.
За ужином Томас опять ругал меня за необщительность и невыносимый рабочий график: «Я понимаю, что каждый должен выкладываться по максимуму, но ты в результате подорвешь здоровье. И потом Германия, замечу тебе, не проиграет войну, если ты будешь отдыхать по вечерам и выходным. Мы пока можем себе это позволить, найди для себя комфортный ритм, иначе сломаешься. И кстати, погляди-ка, ты уже животик отрастил». Да, правда: я, конечно, не растолстел, но мускулы ослабли, и живот отвис. «Займись хотя бы спортом, – настаивал Томас. – Я два раза в неделю фехтую, а по воскресеньям плаваю в бассейне. Увидишь, спорт пойдет тебе на пользу». Как обычно, он был прав. Я быстро стал получать удовольствие от фехтования, которым немного занимался в университете; я выбрал саблю, меня восхищал ее нервный и энергичный характер. Мне нравился этот вид спорта, несмотря на агрессию, он не грубый: владение оружием помимо быстроты реакции и ловкости требует умственной работы перед каждым выпадом, умения интуитивно предвосхитить движения противника и моментально просчитать ответные удары. Фехтование сродни физической игре в шахматы, где надо предвидеть множество ходов: когда партия началась, времени на раздумья уже нет, и часто заранее можно определить, проиграна она или нет, по тому, насколько верно был сделан расчет, который впоследствии сами выпады лишь подтверждают или опровергают. Еще мы стреляли в тире РСХА во Дворце принца Альбрехта и посещали бассейн, но не принадлежавший гестапо, а общественный в районе Кройцберг. Во-первых, – главный аргумент для Томаса – туда ходили женщины (непохожие на бессменных секретарш); во-вторых, и площадь была больше, и после плавания можно в банных халатах посидеть за деревянными столиками наверху на широком балконе, выпить свежего, холодного пива и понаблюдать за купальщиками, чьи радостные крики и плеск воды наполняли просторный зал. Когда мы пришли туда в первый раз, я испытал жуткое потрясение и остаток дня пребывал в мучительной тревоге. Мы разделись в гардеробе, я посмотрел на Томаса и остолбенел: его живот пересекал широкий раздвоенный шрам. «Откуда у тебя шрам?» – воскликнул я. Томас в изумлении уставился на меня: «Из Сталинграда, конечно. Ты забыл? Ты же стоял рядом». Да, воспоминание у меня имелось, но хранилось оно в глубине моего сознания среди галлюцинаций и грез, и я внезапно почувствовал, что больше ни в чем не могу быть уверен. Я не отрывал взгляда от Томаса, тот хлопнул себя ладонью по животу и улыбнулся во весь рот: «Я в порядке, не беспокойся, зажило отлично. И потом, девушки от шрама без ума, их, видимо, это возбуждает». Томас закрыл один глаз и, подняв большой палец, прицелился мне пальцем в лоб, как мальчишка, играющий в ковбоя: «Паф!» Я и впрямь ощутил удар, во мне нарастал страх, превращаясь в нечто серое, дряблое, бесформенное, чудовищную тушу, занявшую собой узкое пространство гардероба и мешавшее мне двигаться, я был как перепуганный Гулливер, загнанный в домик лилипутов. «Не делай такую физиономию! – весело закричал Томас. – Пойдем купаться!» Вода, чуть подогретая, приятно прохладная, меня взбодрила; но после нескольких заплывов я уже устал – и впрямь совсем потерял форму, – вылез из бассейна и вытянулся на шезлонге, пока Томас резвился и нырял стрелой в воду под восторженный визг молодых особ. Наблюдая за этими людьми, тратившими энергию, развлекавшимися, наслаждавшимися собственной силой, я понимал, насколько далек от них. Тела, даже самые красивые, больше меня не волновали, как, например, несколькими месяцами раньше танцовщики балета; теперь же и женщины, и мужчины оставляли меня одинаково равнодушным. Я мог отстраненно любоваться игрой мускулов под белой кожей, изгибом бедра, каплями воды на затылке: Аполлон из ржавой бронзы в парижском музее привлекал меня сильнее, чем мускулы, бесстыдно выставлявшиеся здесь напоказ, словно в насмешку над дебелой, желтой плотью нескольких стариков, посещавших это место. Однако мое внимание привлекла девушка, выделявшаяся на фоне остальных своей невозмутимостью. Пока ее подружки суетились и отфыркивались рядом с Томасом, она оставалась в воде без движения, опершись руками о бортик бассейна, склонив к плечу овальную голову в элегантной черной резиновой шапочке и устремив на меня спокойный взгляд больших темных глаз. Я не мог понять, действительно ли она меня замечает; девушка, кажется, просто с удовольствием разглядывала все, что находилось в ее поле зрения; после долгой паузы она подняла руки и тихо ушла под воду. Отсчитывая секунды, я ждал, когда же эта красавица наконец всплывет, а она появилась на противоположной стороне, проплыв весь бассейн под водой так же спокойно, как я когда-то в своих галлюцинациях пересек Волгу. Я опять расслабился в шезлонге, прикрыл глаза, сосредоточившись на том, как на моей коже медленно испаряется хлорированная вода. В тот день страх очень медленно выпускал меня из своих удушающих объятий. Однако в следующее воскресенье я вернулся с Томасом в бассейн.
Между тем меня снова вызвали к рейхсфюреру. Он потребовал уточнений, каким образом мы пришли к данным результатам; я пустился в подробные разъяснения, потому что в нашем проекте имелись отдельные технические моменты, которые довольно сложно было обобщить; рейхсфюрер слушал меня с холодным, не особенно приветливым видом и, когда я закончил, сухо спросил: «А РСХА?» – «В принципе их специалист согласен, рейхсфюрер, но по-прежнему ждет подтверждения от группенфюрера Мюллера». – «Будьте осторожны, штурмбанфюрер, очень осторожны», – сказал он наставительно, делая ударение на каждом слове. Я знал о новом еврейском восстании, произошедшем недавно в генерал-губернаторстве, на этот раз в Собиборе. Опять погибли эсэсовцы, и, несмотря на массовую облаву, часть беглецов так и не поймали; а ведь речь шла о Geheimnisträger – лицах, обладавших секретной информацией, о непосредственных свидетелях операций по уничтожению, и если им удастся присоединиться к партизанам Припяти, то очень вероятно, что их потом подберут большевики. Я разделял тревогу рейхсфюрера, но решение надо было принимать ему. «Вы, я полагаю, встречались с рейхсминистром Шпеером?» – внезапно поинтересовался он. «Да, рейхсфюрер. Министру меня представил доктор Мандельброд». – «Вы обсуждали с ним ваш проект?» – «В общих чертах, рейхсфюрер. Но он знает, что наша цель – улучшить здоровье заключенных». – «И что он сказал?» – «Вроде бы остался доволен, рейхсфюрер». Он полистал бумаги на столе: «Доктор Мандельброд написал мне письмо. Сообщил, что вы понравились рейхсминистру Шпееру. Это правда?» – «Я не знаю, рейхсфюрер». – «Доктор Мандельброд и герр Леланд стремятся любой ценой к тому, чтобы я сблизился со Шпеером. В принципе идея неплохая, ведь у нас есть общие интересы. Все считают, что у нас со Шпеером конфликт, но ничего подобного. Я уже в тысяча девятьсот тридцать седьмом году создал специальные лагеря, чтобы снабжать строительными материалами, кирпичом и гранитом новую столицу, которую Шпеер собрался возводить в честь фюрера. В тот период Германия целиком могла покрыть только четыре процента его потребностей в граните. Шпеер очень радовался и моей помощи, и перспективе сотрудничества. Но, тем не менее, следует его остерегаться. Рейхсминистр отнюдь не идеалист и не понимает СС. Я хотел предложить Шпееру пост группенфюрера, но он отказался. В прошлом году он позволил себе критиковать нашу организацию перед фюрером и даже требовал юрисдикции в отношении наших лагерей. И сегодня он мечтает о праве наблюдения за нашей внутренней работой. Однако сотрудничество со Шпеером для нас важно. Вы консультировались с его министерством при подготовке проекта?» – «Да, рейхсфюрер. Один из их специалистов приезжал к нам с докладом». Рейхсфюрер медленно кивнул: «Хорошо, хорошо…» Потом будто решился: «Мы не можем терять время. Я скажу Полю, что одобряю проект. Вы отправите копию непосредственно рейхсминистру Шпееру с запиской от вашего имени, где напомните о вашей встрече и сообщите, что проект принят к реализации. Еще одну копию отошлите доктору Мандельброду». – «Zu Befehl, рейхсфюрер. Что мне надо подготовить касательно иностранных рабочих?» – «На сегодняшний момент ничего. Изучите вопрос с точки зрения питания и производительности труда и пока ограничьтесь этим, посмотрим, как будут развиваться события. Если Шпеер или его помощники выйдут на контакт с вами, информируйте Брандта и реагируйте доброжелательно».
Я следовал инструкциям рейхсфюрера буквально. Не знаю, что Поль сделал с нашим проектом, который я любовно выпестовал, но через пару дней в конце месяца он разослал новое распоряжение во все КЛ и приказал понизить показатели смертности и заболеваемости на 10 %, однако без конкретных директив; насколько мне известно, рационы Изенбека никогда не распределялись. Потом я получил очень лестное письмо от Шпеера, он поздравлял с принятием проекта – прямым доказательством нашего нового, недавно начатого сотрудничества, и в завершение добавлял: надеюсь, у меня скоро будет возможность встретиться с вами и обсудить все проблемы лично. Ваш Шпеер. Я передал его письмо Брандту. В начале ноября мне пришло еще одно письмо: гауляйтер Вестмарка обратился к Шпееру с требованием безотлагательно вывезти из Лотарингии пятьсот рабочих евреев, которых СС доставила на военный завод: моими усилиями Лотарингия очищена от евреев и останется такой, – писал гауляйтер. Шпеер просил меня направить его протест в компетентную инстанцию, чтобы урегулировать проблему. Я проконсультировался с Брандтом; несколькими днями позже он прислал мне внутреннее уведомление с просьбой ответить гауляйтеру от лица рейхсфюрера и негативно. Тон: резкий, – пометил Брандт. Я приступил к заданию с удовольствием:
Дорогой товарищ по Партии Бюркель!
Ваша просьба несвоевременна и не может быть выполнена. В столь тяжелый для Германии час рейхсфюрер сознает необходимость по максимуму использовать рабочую силу врагов нашей нации. Решения по эксплуатации рабочих приняты в ходе многочисленных консультаций всех заинтересованных и компетентных инстанций. Как вам известно, ныне действующий запрет на привлечение к труду заключенных-евреев касается только Старого Рейха и Австрии, и я не могу отделаться от впечатления, что ваша просьба проистекает, прежде всего, из желания вмешаться в общее урегулирование еврейского вопроса. Хайль Гитлер! Ваш, и т. д.
Я отослал копию Шпееру, тот меня поблагодарил. Постепенно такая практика вошла в норму: Шпеер пересылал мне назойливые ходатайства и жалобы, на которые я отвечал от имени рейхсфюрера, а в особо сложных случаях передавал их на рассмотрение в СД, зачастую, чтобы ускорить ход событий, пользуясь знакомствами, а не официальным путем. Так я вновь встретился с Олендорфом, он пригласил меня поужинать и за едой разразился долгой тирадой против введенной Шпеером системы самоуправления производства, которую считал ничем иным, как узурпацией государственной власти капиталистами, не несущими ни малейшей ответственности перед обществом. Если рейхсфюрер и одобрил подобное, то, по его мнению, только потому, что ничего не смыслил в экономике, и к тому же на рейхсфюрера сильное влияние оказывал Поль, чистой воды капиталист, одержимый единственным желанием: расширять свою промышленную империю СС. Честно говоря, я тоже мало что понимал в экономике, как, впрочем, и в жестких выводах Олендорфа в этой области. Но мне всегда нравилось его слушать: прямота и интеллектуальная честность освежали, словно стакан холодной воды; он был прав, подчеркивая, что война спровоцировала или обострила многочисленные перекосы; после войны надо будет основательно реформировать государственные структуры.
Я опять почувствовал вкус к жизни: возможно, сказалось благотворное влияние спорта, возможно, что-то другое, не знаю. Однажды я пришел к мысли, что не в состоянии дальше выносить фрау Гуткнехт, и на следующий же день принялся искать новое жилье. Это было достаточно сложно, но меня выручил Томас: мы нашли небольшую меблированную квартиру для холостяка на последнем этаже недавно построенного дома. Она принадлежала гауптштурмфюреру, который только что женился и уезжал на службу в Норвегию. Мы быстро сошлись в цене, и после полудня я с помощью Пионтека и под причитания и мольбы фрау Гуткнехт перевез туда свои вещи. Квартира, совсем небольшая, состояла из двух квадратных смежных комнат, разделенных двойной дверью, крохотной кухни и ванной, зато гостиная была угловая и ее окна выходили на две стороны, а с балкона я мог любоваться парком и наблюдать за играющими детьми, кроме того, здесь было тихо, меня не тревожил шум машин. Нагромождения крыш самых разных форм создавали восхитительный, умиротворяющий, постоянно меняющийся в зависимости от погоды и освещения вид. В ясные дни в квартире с утра до вечера гостило солнце; рассвет я встречал в спальне, закат – в гостиной. Чтобы добавить света, я, с разрешения владельца, ободрал старые выцветшие обои и выкрасил стены в белый; непривычный для Берлина интерьер, но я видел такое в Париже, и мне очень понравилось; с паркетом это смотрелось почти аскетично, но вполне соответствовало моему настроению. Спокойно покуривая на диване, я задавался вопросом, почему я не переехал раньше. Просыпался я рано, в это время года еще затемно, съедал несколько тартинок и пил настоящий черный кофе; Томасу прислали его по знакомству из Голландии, и он мне продал часть. На работу я добирался на трамвае, провожал взглядом мелькавшие улицы и изучал при дневном свете лица попутчиков, грустные, закрытые, равнодушные, уставшие, но иногда и очень счастливые. Обратите внимание: на улицах или в трамвае редко встретишь счастливое лицо, но когда это случалось, я тоже чувствовал себя счастливым и со всей полнотой ощущал свою принадлежность к сообществу людей, людей, ради которых работал, но от которых был так страшно далек. В течение многих дней я замечал в трамвае красивую блондинку, ездившую тем же маршрутом, что я. У нее было спокойное серьезное лицо, мое внимание прежде всего привлек ее рот, с четко вырезанной верхней губой, по форме напоминающей лук. Почувствовав мой взгляд, девушка тоже на меня посмотрела: под высокими, тонкими, изогнутыми дугой бровями блеснули глаза темные, почти черные, ассиметричные, ассирийские (последнее сравнение пришло мне в голову, конечно, только по созвучию). Она стояла, держась за поручень, и глядела на меня невозмутимо и строго. Мне казалось, что я уже где-то с ней пересекался, по крайней мере, видел этот взгляд, но не мог вспомнить где. На завтра она сама со мной поздоровалась: «Добрый день. Вы меня не узнаете, а между тем, мы встречались, – прибавила она, – в бассейне». Конечно же, это была девушка, опиравшаяся на бортик. Мы ездили вместе не каждый день, но когда я ее видел, то приветливо кивал, а она мягко улыбалась. Я и по вечерам стал выходить чаще: ужинал с Хоенэггом и познакомил его с Томасом, навестил старых университетских друзей и принимал приглашения на чай и скромные посиделки, где с радостью пил и болтал, не испытывая ни тревоги, ни страха. Это была нормальная, повседневная жизнь, и, в конце концов, она стоила того, чтобы выжить.
Через какое-то время после обеда с Олендорфом я получил приглашение Мандельброда провести выходные на севере Бранденбурга в поместье, принадлежавшем одному из директоров «И.Г. Фарбен». В письме уточнялось, что речь идет об охоте и неофициальном ужине. Перспектива истреблять птиц меня совсем не прельщала, но ведь необязательно же стрелять, я могу просто погулять по лесу. Погода выдалась дождливая: Берлин погружался в осень, ясные октябрьские дни кончились, с деревьев опадала последняя листва; но иногда небо все-таки прояснялось, и тогда можно было выйти и насладиться свежим воздухом. Восемнадцатого ноября ближе к ужину завыли сирены и загрохотал «Флак», первый раз с конца августа. Я сидел в ресторане с Томасом и еще несколькими друзьями, перед этим мы поплавали в бассейне и вынуждены были спускаться в подвал, не проглотив ни кусочка. Воздушная тревога длилась два часа, но нам принесли вина, и время прошло весело. От бомбардировки серьезно пострадал центр города; англичане выслали больше четырехсот самолетов, бросив вызов нашей новой тактике. Это случилось в четверг вечером, в субботу утром Пионтек повез меня в направлении Пренцлау в деревню, указанную Мандельбродом. Поместье находилось в нескольких километрах от нее, дом стоял в конце длинной дубовой аллеи, к сожалению, значительная часть вековых деревьев пострадала от болезней и гроз. Директор «И.Г. Фарбен» купил настоящий замок, граничивший со смешанным лесом, где преобладали ели, вязы и клены, и окруженный прекрасным парком, за которым дальше расстилались широкие пустынные, черные поля. По дороге накрапывал дождь, но северный порывистый ветер разогнал облака. На гравии у крыльца уже стояли в ряд лимузины, и шофер в военной форме смывал грязь с бамперов. На лестнице меня встретил герр Леланд; в тот день он выглядел воинственно, несмотря на вязаный жакет из коричневой шерсти. Владелец поместья отсутствует – объяснил мне Леланд, – но дом в нашем распоряжении, Мандельброд приедет только к вечеру, уже после охоты. По его совету я отправил Пионтека в Берлин; приглашенные будут возвращаться одновременно, наверняка в одной из машин найдется место. Служанка в черном форменном платье и кружевном переднике показала мне мою комнату. В камине гудел огонь; на улице опять заморосил дождь. Как оговаривалось в приглашении, я вместо формы надел наряд для загородных прогулок: брюки до колен, сапоги и австрийскую непромокаемую куртку без ворота, с костяными пуговицами; для ужина я приготовил костюм и, перед тем как спуститься вниз, распаковал его, почистил щеткой и повесил в шкаф. В гостиной собралось множество гостей, они пили чай или беседовали с Леландом. Шпеер, сидевший возле окна, сразу меня узнал, встал и с приветливой улыбкой поспешил пожать мне руку. «Штурмбанфюрер, рад вас видеть. Герр Леланд предупредил меня, что вы будете. Пойдемте, я представлю вас жене». Маргарет Шпеер расположилась возле камина вместе с другой особой, некой фрау фон Вреде, женой генерала, которого ждали позже; подойдя к женщинам, я щелкнул каблуками и отсалютовал, фрау фон Вреде ответила салютом, а фрау Шпеер протянула маленькую элегантную ручку в перчатке: «Очень приятно, штурмбанфюрер. Я слышала о вас: муж говорил, что вы его главный помощник в СС». – «Я делаю все, что в моих силах, фрау Шпеер». Фрау Шпеер, изящная блондинка чисто нордического типа, с мощной квадратной челюстью, светло-голубыми глазами и почти белыми бровями, казалась уставшей, отчего ее кожа имела желтоватый оттенок. Мне налили чаю, и я поболтал немного с фрау Шпеер, пока ее муж стоял с Леландом. «Вы приехали с детьми?» – вежливо спросил я. «О! Если бы я их привезла, отпуск бы не получился. Они остались в Берлине. Мне так трудно вырвать Альберта из министерства, и раз уж он согласился, мне не хотелось, чтобы его тревожили. Он очень нуждается в отдыхе». Потом речь зашла о Сталинграде, фрау Шпеер знала, что я вернулся оттуда; а у фрау фон Вреде там без вести пропал кузен, генерал-майор, командующий дивизией, наверняка он теперь в плену у русских: «Это, должно быть, ужасно!» Да, подтвердил я, совершенно ужасно. Но из вежливости не добавил, что для генерала дивизии наверняка ужасно в меньшей степени, чем, например, для брата Шпеера; тот если чудом и выжил, то уж точно не пользовался привилегиями, которые, по нашей информации, большевики, в этом отношении совершенно не соблюдавшие равноправия, предоставляли нашим высшим офицерским чинам. «Альберт тяжело переживает потерю брата, – задумчиво произнесла фрау Шпеер. – Он скрывает свои чувства, но я вижу. Нашего младшего назвал его именем».
Постепенно меня познакомили и с другими гостями: промышленниками, офицерами высшего звена вермахта и люфтваффе, одним из коллег Шпеера и высокопоставленными чиновниками. Среди присутствующих я был единственным членом СС да еще и в самом низком звании, но никто вроде бы не обращал на это внимания, герр Леланд представлял меня: «доктор Ауэ» и прибавлял, что я «выполняю важные функции при рейхсфюрере СС»; в целом ко мне относились сердечно, и мучившая меня тревога потихоньку улеглась. К полудню нам подали сандвичи, печеночный паштет и пиво. «Легкая закуска, – объявил Леланд, – чтобы вы не устали». После намечалась охота; нам еще предложили кофе, потом каждый получил ягдташ, плитку швейцарского шоколада и фляжку бренди. Дождь прекратился, слабый свет с трудом пробивался сквозь серую пелену; по мнению генерала, похоже, разбиравшегося в подобных вещах, погода выдалась идеальная. Мы шли охотиться на глухаря – редкая для Германии привилегия. «После Мировой войны поместье выкупил один еврей, – рассказывал Леланд гостям, – вознамерился играть в большого господина и выписал из Швеции глухарей. Лес здесь подходящий, и сегодняшний собственник строго ограничивает охоту». Я ничего в этом не понимал и не испытывал желания приобщиться к процессу, но из вежливости решил все же сопровождать охотников, а не удаляться восвояси. Леланд собрал всех на крыльце, и слуги раздали нам ружья, патроны и собак. На глухаря охотятся в одиночку или по двое, мы распределились на маленькие группки; чтобы избежать несчастного случая, каждому определили сектор, границы которого пересекать запрещалось; кроме того, в лес мы шли по очереди. Первым – генерал-любитель, один с собакой, за ним еще несколько человек попарно. К моему удивлению, к группе присоединилась и Маргарет Шпеер, она взяла ружье и отправилась в дорогу с коллегой своего мужа, Геттлаге. Леланд обернулся ко мне: «Макс, составишь компанию господину министру? Идите туда. Я за вами с герром Штрёхлейном». Я развел руками: «Как пожелаете». Шпеер с ружьем на плече улыбнулся мне: «Отличная идея! Ну, нам пора». Мы двинулись через парк к лесу. На Шпеере была кожаная баварская куртка с закругленными отворотами и шляпа; я тоже запасся головным убором. На опушке Шпеер зарядил двустволку. Моя болталась за спиной, незаряженная. Доверенная нам собака стояла у кромки леса, дрожа от напряжения, с высунутым языком, и виляла хвостом. «Вы уже охотились на глухаря?» – спросил Шпеер. «Никогда, герр рейхсминистр. Я на самом деле не охотник. Если вы не возражаете, я буду только вашим провожатым». Он удивился: «Как хотите». И показал на лес: «Если я правильно понял, нам надо идти километр до ручья, потом перебраться на другой берег. Территория за ручьем до конца леса – наша. Герр Леланд останется с той стороны». Шпеер ринулся вперед через подлесок, кстати довольно густой. Мы огибали кусты, напрямик идти было невозможно; капли воды стекали с веток и ударялись о наши шляпы и руки; мокрые опавшие листья источали восхитительный, богатый и терпкий запах земли и перегноя, впрочем будивший во мне горькие воспоминания. Я почувствовал досаду: во что меня превратили – сказал я себе, – что теперь я при виде леса думаю об общей могиле. Под моим сапогом хрустнула ветка. «Странно, что вы не любите охоту», – заметил Шпеер. Я слишком глубоко задумался и ответил машинально: «Мне не нравится убивать, герр рейхсминистр». Он взглянул на меня с любопытством, я уточнил: «Иногда убивать обязывает долг, герр рейхсминистр. А убивать в удовольствие – дело выбора». Он улыбнулся: «Я, слава богу, убивал только удовольствия ради. Я же не воевал». Некоторое время мы шли молча, только треск хвороста и тихое, нежное журчание воды нарушали тишину. «Чем вы занимались в России, штурмбанфюрер? – поинтересовался Шпеер. – Вы служили в ваффен-СС?» – «Нет, герр рейхсминистр. Я был в СД, задачи безопасности». – «Понимаю». Он колебался. Потом сказал с расстановкой, нейтральным тоном: «Мы слышали много толков о судьбе евреев на Востоке. Вы, должно быть, в курсе?» – «Да, герр рейхсминистр. СД собирает слухи, источники самые разные, и я читаю рапорты». – «Вам по штату положено знать правду». Странно, но он не делал ни малейшего намека на речь рейхсфюрера в «Позене» (я, однако, пребывал в уверенности, что Шпеер там присутствовал, может, он действительно раньше ушел). Я учтиво ответил: «Герр рейхсминистр, по поводу большей части моей деятельности я уполномочен хранить тайну. Думаю, вы понимаете. Если же вам нужны точные сведения, я мог бы лишь посоветовать обратиться к рейхсфюреру или штандартенфюреру Брандту. Я убежден, что они будут счастливы дать вам детализированный отчет». Мы очутились у ручья: собака весело прыгала по неглубокой воде. «Здесь», – сказал Шпеер. Он обвел рукой участок, расположенный чуть дальше. «Смотрите, в ложбине лес меняется. Хвойных деревьев там больше, а ольхи и ягодных кустарников меньше. Лучшее место, чтобы спугнуть глухаря. Если вы не стреляете, оставайтесь позади меня». Широкими шагами мы пересекли ручей; возле лога Шпеер защелкнул ружье, которое нес под мышкой, и вскинул его на плечо. Потом начал осторожно приближаться. Собака, подняв хвост, кралась рядом с ним. Спустя несколько минут я услышал сильный шум и увидел большую коричневую тень, скользящую между деревьями; в тот же момент Шпеер выстрелил, но, наверное, промахнулся, потому что за эхом я различил хлопанье крыльев. Подлесок наполнил густой дым и резкий запах пороха. Шпеер не опускал ружья, но вокруг воцарилась тишина. Снова мощный взмах крыльев во влажных ветвях, Шпеер не стрелял, я тоже ничего не видел. Третья птица выпорхнула прямо у нас из-под носа, я отлично ее рассмотрел, крылья сильные, на горле пышные перья, и полетела, лавируя между деревьями с ловкостью, поразительной для ее массы, прибавляя скорость на поворотах; Шпеер выстрелил, птица оказалась быстрее, он не успел прицелиться, и заряд пропал. Он открыл ружье, выкинул гильзы, сдул дым и вытащил два новых патрона из кармана куртки. «На глухаря охотиться трудно, – прокомментировал он, – но зато интересно. Надо уметь выбрать ружье. Двустволка хорошо сбалансирована, но, на мой вкус, длинновата». Он улыбнулся: «Весной, в брачный период, это очень красиво. Петухи щелкают клювами, собираются на прогалинах, исполняют танец и поют, распуская нарядные перья хвоста и крыльев. Глухарки же абсолютно невзрачные, как, собственно, часто бывает». Он зарядил ружье и повесил его на плечо прежде, чем отправляться в путь. Шпеер прокладывал себе дорогу в густых зарослях, прикладом раздвигая ветви, не опуская ружья. И, обнаружив чуть впереди еще одну птицу, тут же выстрелил; я слышал, как упала туша и как собака прыгнула и исчезла в кустах. Появилась через несколько минут, в зубах глухарь с поникшей головой, и положила добычу к ногам Шпеера. Тот сунул птицу в ягдташ. Потом мы вышли на покрытую желтеющей травой просеку, за которой тянулись поля. Шпеер вынул плитку шоколада: «Хотите?» – «Нет, спасибо. Ничего, если я, пока отдыхаем, выкурю сигарету?» – «Да, конечно. Здесь хорошее место для привала». Он открыл двустволку, положил ее на землю и уселся у подножия дерева, грызя шоколадку. Я отхлебнул бренди, протянул Шпееру фляжку и закурил. Брюки на заднице промокли, но мне было все равно, положив шляпу на колени, я прислонился к сосне, уперся головой в шершавый ствол и любовался безмятежно стелившейся передо мной травой и тихим лесом. «Знаете, – заговорил Шпеер, – я отлично понимаю требования безопасности. Но они все больше противоречат нуждам военной промышленности. Огромное количество потенциальных рабочих не задействовано». Я выпустил дым и ответил: «Возможно, герр рейхсминистр. Но, думаю, в данной ситуации с нашими проблемами конфликт приоритетов неизбежен». – «Однако надо же его разрешать». – «Безусловно. Но в конечном счете, герр рейхсминистр, последнее слово за фюрером, верно? И рейхсфюрер лишь следует его директивам». Шпеер отломил еще кусочек шоколада: «А вы не думали, что для фюрера, как и для нас, главная задача – выиграть войну?» – «Разумеется, герр рейхсминистр». – «Тогда зачем лишать нас ценных ресурсов? Каждую неделю вермахт жалуется мне, что у них отнимают рабочих-евреев. Но не для того, чтобы перевести куда-то в другое место, иначе я бы знал. Просто абсурд! В Германии еврейский вопрос решен, а за ее пределами какое это имеет значение на сегодняшний момент? Выиграем сначала войну, а потом у нас еще будет время уладить другие вопросы». Я тщательно подбирал слова: «Вероятно, герр рейхсминистр, кое-кто полагает, что если наша победа в войне запаздывает, то с определенными проблемами надо разобраться безотлагательно…» Он повернул голову и посмотрел на меня пронизывающим взглядом: «Вы считаете?» – «Не знаю. Это предположение. Можно ли вас спросить, а что говорит фюрер, когда вы поднимаете эту тему?» Он в задумчивости покусал губы: «Фюрер никогда не обсуждает подобные вещи. По крайней мере, со мной». Шпеер встал, отряхнул брюки. «Идем дальше?» Я выкинул сигарету, глотнул еще немного бренди и убрал фляжку: «Куда теперь?» – «Хороший вопрос. Боюсь, что если мы перейдем на противоположную сторону, то наткнемся на кого-нибудь из наших друзей, – он указал в глубину просеки, направо, – а если двинемся туда, то наверняка окажемся у ручья и потом можем вернуться назад». Мы зашагали вдоль опушки; собака бежала на небольшом расстоянии от нас по мокрой луговой траве. «Кстати, – сказал Шпеер, – я не успел поблагодарить вас за ваше содействие. Я очень ценю вашу помощь». – «Я рад, герр рейхсминистр. Надеюсь, это нужно. Довольны ли вы новым сотрудничеством с рейхсфюрером?» – «Честно говоря, штурмбанфюрер, я ожидал от него большего. Я уже отослал ему множество рапортов о гауляйтерах, отказывающихся закрывать убыточные предприятия в пользу военного производства. Но, как я вижу, рейхсфюрер ограничивается тем, что пересылает рапорты рейхсляйтеру Борману. А у Бормана, естественно, гауляйтеры всегда правы. Рейхсфюрер, похоже, занимает здесь пассивную позицию». Мы дошли до края просеки и углубились в лес. Опять заморосил дождь, мелкий, невесомый, пропитавший нашу одежду насквозь. Шпеер замолчал и двигался вперед с поднятым ружьем, сосредоточившись на зарослях кустарника перед собой. Через полчаса мы добрались до ручья, потом пошли обратно по диагонали, пока вновь не оказались у ручья. Иногда вдалеке слышался отдельный выстрел, хлопок, приглушенный дождем. Шпеер стрелял еще четыре раза и убил черного глухаря с чудесным воротником из перьев с металлическим отливом. Мы, промокшие до костей, направлялись вдоль ручья к дому. Возле парка Шпеер опять обратился ко мне: «Штурмбанфюрер, у меня к вам просьба. Бригадефюрер Каммлер занят сейчас строительством подземного производства вооружений в Гарце. Я хотел бы посетить эти заводы и посмотреть, на какой стадии работы. Не могли бы вы это урегулировать?» Он застиг меня врасплох, я лишь ответил: «Не знаю, герр рейхсминистр, я о таком не слышал. Но я сделаю запрос». Шпеер засмеялся: «Несколько месяцев назад обергруппенфюрер Поль прислал мне письмо с претензией, что я посетил только один концентрационный лагерь и формирую свое мнение об эксплуатации труда заключенных, имея слишком мало информации. Я передам вам копию. Если у вас возникнут сложности, просто предъявите ее».
Я устал, но приятной тягучей усталостью, наступающей после физической нагрузки. Мы бродили по лесу довольно долго. При входе в замок я отдал ружье и ягдташ, счистил грязь с сапог и поднялся к себе в комнату. В камин подбросили поленьев, было уютно и тепло. Я снял мокрую одежду, потом обследовал смежную со спальней ванную: здесь имелась проточная вода, да еще и горячая, мне это показалось чудом, в Берлине горячая вода стала редкостью; наверное, хозяин установил бойлер. Я наполнил ванну чуть ли не кипятком, скользнул внутрь, сжал зубы, но, привыкнув, вытянулся в длину, мне было покойно и хорошо, словно неродившемуся ребенку в околоплодных водах. Я лежал долго, насколько позволило время, затем, как делают в России, распахнул настежь окна и стоял перед ними голым, пока кожа не сделалась мраморной; потом я выпил стакан холодной воды и лег животом на кровать.
Ближе к вечеру я надел костюм без галстука и спустился. В гостиной было мало народу, но у камина уже сидел доктор Мандельброд, огромное кресло поставили наискосок, будто он хотел погреть один бок. Веки у Мандельброда были сомкнуты, и я решил его не беспокоить. Ассистентка в строгом костюме для загородных поездок пожала мне руку: «Добрый вечер, доктор Ауэ. Рада видеть вас вновь». Я уставился на нее: ничего не поделаешь, все помощницы Мандельброда на одно лицо. «Извините, вы Хильда или Эдвига?» Ее смех зазвенел хрустальным колокольчиком: «Ни та ни другая. Вы и впрямь никудышный физиономист. Меня зовут Хайди. Мы виделись в кабинете у доктора Мандельброда». Я, улыбнувшись, поклонился и принес свои извинения: «Вы сюда на охоту?» – «Нет, мы приехали недавно». – «Жаль. Я так ясно представил вас с ружьем, немецкая Артемида». Она смерила меня взглядом и усмехнулась: «Надеюсь, вы не слишком далеко зайдете в сравнениях, доктор Ауэ». Я чувствовал, что краснею, Мандельброд и вправду набирал очень странных ассистенток. И эта точно еще попросит ее осеменить. К счастью, появился Шпеер с женой. «А! Штурмбанфюрер, – весело воскликнул он. – Мы никудышные охотники. Маргарет добыла пять птиц, а Геттлаге трех». Фрау Шпеер тихонько рассмеялась: «О да ты, видимо, был занят разговорами о работе». Шпеер налил себе чаю из большого, красивого чайника, напоминавшего русский самовар, я выпил рюмку коньяку. Доктор Мандельброд открыл глаза и подозвал Шпеера, тот ринулся к нему с приветствиями. В зал вошел Леланд и присоединился к ним. Я вернулся к Хайди, она имела солидное философское образование и объяснила мне в доходчивой форме теорию Хайдеггера, которую я знал довольно плохо. Постепенно подтягивались и другие гости. Немного позже Леланд пригласил нас в соседний зал, где на длинном столе кучками, как на фламандских натюрмортах, разложили убитых глухарей. Рекорд побила фрау Шпеер; генерал, заядлый охотник, подстрелил только одну птицу и уныло жаловался на выделенный ему участок леса. Я думал, что мы поужинаем жертвами массового убийства, но нет: дичь, оказывается, надо выдержать, чтобы появился душок, и Леланд позаботится о том, чтобы гостям разослали тушки, когда те будут готовы. Ужин, впрочем, и без того был разнообразным и вкусным: жаркое из косули в ягодном соусе, жаренный в гусином жире картофель, спаржа, кабачки и бургундское вино отличного урожая. Я сидел рядом с Леландом напротив Шпеера, Мандельброд – во главе стола. Герр Леланд, впервые за наше знакомство, проявлял чудеса красноречия: опустошая бокал за бокалом, он рассказывал о своем прошлом чиновника в колониях Юго-Западной Африки. Он знал Родса, в адрес которого выражал безграничное восхищение, но между тем о собственном перемещении в немецкие колонии ответил уклончиво. «Родс однажды сказал: Колонизатор не может делать ничего плохого; все, что он делает, оправдано. Его долг делать то, что он хочет. Благодаря строгому соблюдению этого принципа Европа получила свои колонии и господство над низшими расами. Только когда коррумпированная демократия с ее принципами лицемерной морали решила вмешаться для успокоения совести, начался упадок. Вы увидите: каков бы ни был исход войны, Франция и Великобритания потеряют свои колонии. Их хватка ослабла, им больше не удастся сжать кулак. Теперь эстафету приняла Германия. В тысяча девятьсот седьмом году я работал с генералом фон Трота. Тогда восстали гереро и нама, но фон Трота отлично усвоил идею Родса. Он прямо заявил: Я раздавлю мятежные племена, прольются реки крови и реки денег. Но что-то новое может возникнуть лишь после такой чистки. Но уже в тот период Германия теряла силы, и фон Трота отозвали. Я всегда думал, что это знак, предвещающий тысяча девятьсот восемнадцатый год. К счастью, ход событий изменил направление. Сегодня Германия на голову выше всего мира. Наша молодежь ничего не боится. Наша экспансия – процесс неодолимый». – «Однако русские…» – вмешался генерал фон Вреде, появившийся незадолго до приезда Мандельброда. Леланд постучал пальцем по столу: «Конечно, русские. Единственный народ под стать нам. Поэтому война с ними настолько страшна и безжалостна. Только один из нас выживет. Другие не в счет. Вы можете представить, что янки с их жевательной резинкой и говяжьим стейком вынесли бы сотую часть потерь русских? А десятую? Они бы упаковали чемоданы и вернулись к себе, а Европа пусть катится к черту. Нет, надо показать европейцам, что победа большевиков не в их интересах, что Сталин в качестве трофея захватит половину Европы, если не всю. Если англосаксы помогут нам покончить с русскими, то после войны мы могли бы уступить им кое-какие крохи или же, набрав силы, раздавить их тоже, спокойно, когда придет время. Посмотрите, каких успехов достиг наш Parteigenosse, партиец Шпеер меньше чем за два года! И это лишь начало. Вообразите, если у нас больше не будут связаны руки и все ресурсы Востока окажутся в нашем распоряжении. Тогда мы переделаем мир по нашему усмотрению».
После ужина я играл в шахматы с Геттлагом, сотрудником Шпеера. Хайди молча наблюдала за нами; Геттлаг легко одержал победу. Я допивал последнюю рюмку коньяку и поболтал немного с Хайди. Гости поднимались к себе спать. Наконец и Хайди встала и сказала так же прямо, как ее коллеги-ассистентки: «Мне надо теперь помочь доктору Мандельброду. Если не захотите ночевать в одиночестве, моя комната через две двери слева от вашей. Вы можете попозже заглянуть на рюмочку». – «Спасибо, – ответил я. – Посмотрим». Я пошел к себе, медленно разделся и лег. В камине тлели угли. Вытянувшись в темноте на кровати, я уговаривал себя: а почему бы, собственно, нет? Она – красивая женщина, тело у нее роскошное, что мне мешает им воспользоваться? Ведь речь идет не о продолжительных отношениях, а о простом, откровенном предложении. И даже если у меня не было особой практики, женские тела отвращения у меня не вызывали, это, вероятно, тоже приятно, нежно и мягко, можно забыться, словно в подушке. Но существовало мое обещание, пусть я ничтожество, но слово свое держу. Я еще не все уладил.
Воскресенье выдалось спокойным. Я проспал допоздна, почти до девяти часов – обычно-то я вставал в половине шестого, – и спустился к завтраку. Я расположился возле широкого окна и листал старое французское издание Паскаля, которое нашел в библиотеке. Потом, ближе к полудню, сопровождал фрау Шпеер и фрау фон Вреде на прогулке в парке; сам Вреде играл в карты с неким промышленником, прославившимся тем, что построил свою империю благодаря искусной стратегии арианизации, генералом-охотником и Геттлаге. Мокрая трава блестела, на гравии аллей и грунтовых дорожках образовались лужи; влажный воздух был свежим, бодрящим, при выдохе перед нашими лицами возникали облачка пара. Небо оставалось однотонно серым. В полдень я пил кофе с появившимся наконец Шпеером. Он подробно рассказал мне о проблеме иностранных рабочих и своих трудностях с гауляйтером Заукелем; потом он завел беседу об Олендорфе, которого, похоже, считал романтиком. В моих экономических познаниях имелись слишком большие пробелы, чтобы я мог рассуждать о тезисах Олендорфа; Шпеер горячо защищал свой принцип самостоятельной ответственности предприятий. «Основной аргумент заключается в том, что это работает. После войны доктор Олендорф может проводить какие угодно реформы, впрочем, если его захотят слушать; но пока, как я вам уже говорил вчера, давайте выиграем войну».
Леланд и Мандельброд, когда я оказывался рядом с ними, разговаривали со мной о том о сем и явно не собирались сообщать мне что-то особенное. Я начал задумываться, зачем они меня сюда пригласили – уж точно не для того, чтобы я воспользовался прелестями фрейлейн Хайди. Но во второй половине дня, когда я сидел в машине фон Вреде, захватившего меня в Берлин, ответ на этот вопрос показался мне совершенно очевидным. Мандельброд и Леланд хотели, чтобы я сблизился со Шпеером, и это им, собственно, удалось. Перед отъездом Шпеер очень тепло со мной попрощался и обещал, что мы встретимся. Но вот что меня тревожило: кому это должно послужить? В чьих интересах герр Леланд и доктор Мандельброд меня продвигали? Без сомнения, речь шла о запрограммированном повышении: министры обычно не проводят время в болтовне с простыми майорами. Я волновался, слишком мало информации, чтобы точно судить об отношениях между Шпеером, рейхсфюрером и обоими моими покровителями; те явно маневрировали, но в каком направлении и в чью пользу? Я готов поддержать игру, но какую? Если не СС, то это очень опасно. Я, безусловно, являлся частью некоего плана, и мне следовало быть сдержанным и крайне осторожным, а на случай провала иметь отходные пути.
Я достаточно хорошо изучил Томаса, чтобы, даже не спрашивая, предугадать его совет: остерегайся. В понедельник утром я попросился на прием к Брандту, он назначил мне встречу после полудня. Я описал ему свои выходные, пересказал содержание бесед со Шпеером и отдал памятку, где зафиксировал основные пункты. Брандт вроде не выказал неодобрения: «Итак, Шпеер вознамерился посетить с вами „Дору“?» Это было кодовое название предприятий, о которых мне сообщил Шпеер, в официальных документах обозначенных как Миттельбау. «Его министерство подало ходатайство. Мы пока не ответили». – «А что вы об этом думаете, штандартенфюрер?» – «Решать рейхсфюреру, а не мне. В любом случае, хорошо, что вы поставили меня в известность». Потом Брандт коснулся моей работы, и я изложил ему первые выводы, вытекавшие из изученных мной документов. Когда я собрался уходить, он мне сказал: «Полагаю, рейхсфюрер доволен развитием событий. Продолжайте в том же духе».
После нашей беседы я вернулся к себе в кабинет. На улице лило как из ведра, я еле различал деревья Тиргартена за потоками воды, хлеставшими голые ветви. Около пяти вечера я отпустил фрейлейн Праксу; Вальзер, Изенбек и оберштурмфюрер Элиас, еще один специалист, присланный Брандтом, отправились по домам около шести. Еще через час я обнаружил Асбаха, по-прежнему сидевшего на рабочем месте: «Не пора ли, унтерштурмфюрер? Приглашаю вас на рюмочку». Он взглянул на часы: «Вы уверены, что они не вернутся? Приближается их час». Я посмотрел в окно: темнотища, но дождь поутих. «Вы думаете? В такую-то погоду?» Но в вестибюле нас задержал вахтер: «Воздушная тревога пятнадцать, господа», что означало: налет предвиделся серьезный. Вероятно, бомбардировщики засекли еще на подлете. Я обернулся к Асбаху: «Ну, вы оказались правы. Что будем делать? Рискнем выйти или переждем здесь?» Вид у Асбаха был встревоженный: «Моя жена…» – «По моему мнению, вам не хватит времени добраться до дома. Я бы одолжил вам Пионтека, но он уже уехал». Асбах размышлял. «Лучше подождать, пока все кончится, а потом вы сможете вернуться. Ваша жена спрячется в укрытии, обойдется». Он колебался: «Разрешите, штурмбанфюрер, я позвоню ей. Она беременна, боюсь, перенервничает». – «Хорошо. Жду вас». Я вышел с сигаретой на крыльцо. Завыли сирены, прохожие на Кёнигсплатц ускорили шаг в поисках убежища. Я не переживал, в нашей пристройке к министерству имелся отличный бункер. Я докурил, загрохотал «Флак», и я вернулся в холл. Асбах бежал по лестнице: «Все в порядке, она идет к матери. Это рядом». – «Вы открыли окна?» – спросил я. Мы спустились в убежище, солидный бетонный блок, хорошо освещенный, со стульями, раскладушками и огромными бочками, наполненными водой. Народу собралось немного: из-за очередей в магазинах и налетов большинство чиновников уходили рано. Вдали слышался рокот. Взрывы гремели с промежутками и постепенно приближались, словно мощные шаги великана. С каждым ударом давление воздуха увеличивалось, больно давило на уши. Потом раздался страшный грохот, совсем рядом, я почувствовал, как задрожали стены бункера. Электричество мигало, а потом вдруг разом погасло, погрузив бункер во мрак. Какая-то девушка заверещала от ужаса. Кто-то зажег карманный фонарик, другие принялись чиркать спичками. «Есть тут аварийный агрегат?» – произнес в темноте мужской голос, но его тут же прервал оглушительный взрыв, с потолка посыпалась штукатурка, люди кричали. У меня в носу щипало от дыма и запаха пороха: наверное, бомба попала в наше здание. Раскаты удалялись; сквозь звон в ушах я слышал тихое гудение воздушной эскадры. Плакала женщина, мужчина бормотал проклятия; я щелкнул зажигалкой и направился к бронированной двери. Мы с вахтером попытались открыть ее, но она была заблокирована, видимо, лестницу завалило обломками. Мы втроем налегли на дверь плечом, в итоге она поддалась настолько, что мы смогли проскользнуть наружу. На лестнице лежали горы кирпичей; вместе с одним чиновником мы карабкались через них до первого этажа, дверь главного входа выбило из петель и отбросило внутрь; языки пламени лизали панели и стены проходной. Я устремился вверх по лестнице, свернул в коридор, загроможденный вылетевшими дверями и оконными рамами, и побежал на другой этаж к своему кабинету, желая спасти важные материалы. Железная лестничная балюстрада покорежилась: я зацепился кителем за торчавший металлический штырь и порвал карман. Кабинеты наверху горели, пришлось повернуть обратно. Какой-то чиновник нес по коридору стопку папок; нас догнал еще один, лицо бледное, с черными полосами копоти или пыли: «Бросайте все! Вот-вот загорится западное крыло. Мина пробила крышу». Я уже надеялся, что атака закончилась, но в небе вновь гудели эскадры. Взрывы, один за другим, опять приближались с бешеной скоростью, мы побежали в подвал, но меня вдруг подняла сильнейшая воздушная волна и отбросила на ступени. На какое-то время я, вероятно, потерял сознание, потом очнулся, ослепленный резким, белым светом, как выяснилось, простого карманного фонарика; Асбах вопил: «Штурмбанфюрер! Штурмбанфюрер!» – «Все в порядке», – промямлил я, вставая. В отблесках пожара, бушевавшего при входе, я тщательно осмотрел свою форму: острый кусок металла порвал ткань, пропал китель. «Министерство горит, – предупредил чей-то голос, – покиньте здание». Я и еще несколько мужчин с горем пополам расчищали дверь бункера, чтобы помочь остальным выбраться наружу. Сирены пока ревели, но «Флак» замолчал, последние самолеты улетали. Половина девятого, налет длился час. Кто-то указал на ведро, мы попытались выстроиться в шеренгу для борьбы с огнем: смех, да и только, за двадцать минут мы израсходовали всю воду из подвала. Водопровод не работал, канализация лопнула, вахтер попытался позвонить пожарным, но линия была оборвана. Я подобрал свой плащ в бункере и вышел на площадь оценить масштаб разрухи. Восточное крыло вроде не пострадало, только окна зияли дырами, а часть западного крыла обрушилась, и из соседних окон извергались клубы черного дыма. Наши кабинеты тоже, конечно, сгорели. Ко мне подошел Асбах, лицо в крови. «Что с вами?» – спросил я. «Пустяки. Кирпич». Я еще плохо слышал, в ушах мучительно гудело. Я повернулся к Тиргартену: деревья, освещенные бесчисленными очагами пожара, были поломаны, изуродованы, вырваны с корнем, они напоминали лес Фландрии после бури, иллюстрацию в одной из книг, прочитанной в детстве. «Я иду домой, – сказал Асбах. Тревога искажала его окровавленное лицо. – Я должен найти жену». – «Ступайте. Будьте внимательны, стены рушатся». Приехали пожарные машины, заняли позиции, но, похоже, с водой возникли проблемы. Служащие покидали министерство; многие тащили папки и складывали их поодаль на тротуаре: в течение получаса я помогал носить бумаги и папки; до моего собственного кабинета добраться было невозможно. На севере, востоке и дальше на юге, за Тиргартеном, поднялся мощный ветер, ночное небо над городом пламенело. Проходивший офицер сообщил нам, что огонь распространяется, но мне казалось, что министерство и соседние здания защищены с одного бока – излучиной Шпрее, с другого – Тиргартеном и Кёнигсплац. Темный, неприступный рейхстаг уцелел.
Я медлил. Я был голоден, но где же сейчас раздобудешь еды? У меня дома, конечно, осталось чем перекусить, но я не знал, существовала ли еще моя квартира. В итоге я решил отправиться в СС, предложить помощь. Рысцой спустился по Фриденс-аллее, передо мной под камуфляжной сеткой высились нетронутые Бранденбургские ворота. Но почти вся Унтер-ден-Линден за ними стала добычей огня. Спертый от дыма и пыли воздух нагрелся, я начал задыхаться. Из охваченных пламенем домов снопами, потрескивая, сыпались искры. Порывы ветра усиливались. На другой стороне Паризерплац горело частично разбомбленное Министерство вооружений. Секретарши в защитных железных касках суетились среди развалин, чтобы – и здесь тоже – эвакуировать документы. Сбоку припарковался «мерседес» с флажком, в толпе служащих я заметил Шпеера, волосы взъерошены, лицо черное от копоти. Я подошел к нему поздороваться и сказать, что я в его распоряжении; увидев меня, он что-то крикнул, но я не понял что. «Вы горите!» – повторил он. «Что?» Он бросился ко мне, взял под руку, повернул и принялся стучать ладонью по спине. Наверное, моя шинель загорелась от искр, а я и не почувствовал. Я, смутившись, поблагодарил Шпеера, спросил, что нужно делать. «Ничего, правда. Думаю, все, что можно, уже вытащили. Бомба попала прямо в мой личный кабинет, тут уж ничем не поможешь». Я огляделся вокруг: французское посольство, бывшее посольство Великобритании, отель «Бристоль», бюро «И.Г. Фарбен» – все было сильно повреждено или полыхало огнем. На фоне пожара у Бранденбургских ворот вырисовывались элегантные фасады зданий мэтра Шинкеля. «Какое несчастье», – прошептал я. «То, что я скажу, ужасно, – задумчиво произнес Шпеер, – но лучше пусть они концентрируются на городах». – «Что вы имеете в виду, герр рейхсминистр?» – «Я вздрогнул, когда летом они принялись за Рурскую область. В августе, а потом в октябре они атаковали Швейнфурт, где сосредоточено все наше шарикоподшипниковое производство. Его объем снизился на тридцать три процента. Вы, вероятно, даже не задумывались, штурмбанфюрер, но нет подшипников – нет войны. Если они будут бомбить Швейнфурт, мы капитулируем через два, самое большее три месяца. Здесь, – он махнул рукой в сторону пожаров, – они убивают людей, тратят свои ресурсы на наши памятники культуры, – сухой резкий смешок, – но мы все восстановим. Ха!» Я отдал Шпееру честь: «Если я вам не нужен, герр рейхсминистр, я иду дальше. Я только хотел еще сказать, что ваше ходатайство на рассмотрении. Я свяжусь с вами в ближайшее время и информирую, как продвигается дело». Он пожал мне руку: «Ладно. До свидания, штурмбанфюрер».
Я смочил платок в ведре и держал у рта, чтобы продвигаться вперед; побрызгал водой плечи и фуражку. На Вильгельмштрассе между корпусами министерств завывал ветер, раздувая пламя, вырывавшееся из пустых окон. Солдаты и пожарные суетились, бегали туда-сюда, но почти безрезультатно. Министерство иностранных дел пострадало довольно сильно, но канцелярия, расположенная неподалеку, повреждений не получила. Я шел по ковру из осколков: на всей улице не сохранилось ни одного целого окна. На Вильгельмштрассе, возле перевернутого грузовика люфтваффе, лежало несколько тел, горожане в смятении выходили из метро и осматривались по сторонам с потерянным, испуганным видом. Время от времени раздавался взрыв бомбы замедленного действия или глухой раскат, с которым рушится здание. Я взглянул на тела: мужчина без штанов, смешно обнажена его окровавленная задница; женщина в целых чулках, но без головы. Мне показалось совершенно неприличным, что их бросили вот так, и никого это не заботит. Немного дальше перед Министерством авиации выставили охрану: прохожие выкрикивали оскорбления в лицо солдатам или отпускали язвительные шутки в адрес Геринга и шли дальше, чтобы не создавать толкучку. Я предъявил удостоверение СД и прошел через оцепление. Наконец я добрался до угла Принц-Альбрехтштрассе; в здании СС только выбило стекла. В вестибюле рядовые подметали обломки; офицеры закрывали оконные проемы досками или матрасами. Я отыскал Брандта, тот ровным негромким голосом раздавал в коридоре инструкции: особенно его волновало возобновление телефонной связи. Я отсалютовал и сообщил о том, что наши кабинеты уничтожены. Брандт покачал головой: «Хорошо. Займемся этим завтра». Поскольку особых дел здесь не намечалось, я отправился в расположенное по соседству гестапо. Там с грехом пополам приколачивали выдернутые из петель двери; несколько бомб упали довольно близко друг от друга, образовав на улице огромный кратер и прорвав канализацию, из которой теперь лилась вода. Я нашел Томаса в его кабинете, растрепанного, черного от грязи, но веселого, он пил шнапс в компании трех офицеров. «Глянь-ка! – воскликнул Томас. – У тебя бравый вид. Выпей. Где ты был?» Я вкратце рассказал о своих приключениях в министерстве. «Ха! Я сидел у себя, потом спустился в подвал с соседями. Бомба угодила в крышу, дом моментально загорелся. Нам пришлось проломить стены нескольких соседних подвалов, чтобы выйти в конце улицы. Вся улица сгорела, а половина дома, вместе с моей квартирой, рухнула. В довершение всего я обнаружил свой бедный кабриолет под автобусом. Короче, я разорен». Томас налил мне еще один стакан. «Пейте, люди, топите несчастье, как говорила моя бабушка Ивонна».
В итоге ночь я провел в гестапо. Томас приказал принести нам бутербродов, чаю и супа и одолжил мне один из своих форменных комплектов, я переоделся, форма оказалась великовата, но все же презентабельнее, чем мои лохмотья; улыбчивая машинистка занялась перешиванием погон и знаков различия. В гимназии поставили раскладушки примерно для пятнадцати пострадавших офицеров; я там наткнулся на Эдуарда Хольсте, наше короткое знакомство произошло в 1942 году, когда он возглавлял IV/V отдел группы Д; он все потерял и чуть не плакал от горя. Душ, к сожалению, по-прежнему не работал, я смог только ополоснуть лицо и руки. Горло болело, я кашлял, но шнапс Томаса хоть немного перешиб привкус пепла. На улице продолжали греметь взрывы. Разбушевавшийся ветер нагонял тоску.
Не дожидаясь Пионтека, я спозаранку взял в гараже машину и отправился к себе. По улицам, загроможденным обугленными или перевернутыми трамваями, поваленными деревьями и обломками зданий, проехать было сложно. Облако черного едкого дыма заволокло небо, и многие прохожие держали у рта мокрые салфетки и платки. Дождь моросил без остановки. Я обгонял вереницы людей, толкавших перед собой детские коляски или маленькие тележки, наполненные вещами, или с трудом тащивших чемоданы. Повсюду из канализационных труб хлестала вода, я проезжал по лужам, рискуя в любой момент пропороть колесо о какой-нибудь осколок на дне. Однако движение на улицах царило оживленное, автомобили, по большей части без окошек, а некоторые и без дверей, были битком набиты: те, у кого находилось место, брали пострадавших, и я тоже подсадил изнуренную женщину с двумя маленькими детьми, непременно желавшую навестить родителей. Я срезал путь через опустошенный Тиргартен: колонна Победы устояла, словно наперекор всему, и торчала теперь посередине широкого озера, образовавшегося из канализационной воды; мне пришлось сделать приличный крюк, чтобы его обогнуть. Я оставил женщину на разбомбленной Гендель-аллее и тронулся дальше. Повсюду команды вели восстановительные работы; у разрушенных домов саперы закачивали воздух в обвалившиеся подвалы и вместе с итальянскими военнопленными с красными буквами KGF на спине, которых теперь называли не иначе как «Бадольо», раскапывали оставшихся в живых. Станция городской железной дороги на Брюкен-аллее лежала в руинах, я снимал квартиру чуть дальше, на Фленсбургерштрассе; мой дом чудесным образом выстоял: в ста пятидесяти метрах от него были лишь развалины и фасады с дырами, зиявшими на месте окон. Лифт, естественно, сломался, я поднялся пешком на восьмой этаж, соседи подметали лестничные клетки и пытались хоть как-то приладить сорванные с петель двери. Моя дверь лежала поперек входа; внутри все покрывал толстый слой битого стекла и штукатурки; я заметил следы на полу, граммофон исчез, но больше вроде ничего не украли. В окна дул холодный пронизывающий ветер. Я быстро покидал вещи в чемодан, потом спустился к соседке, приходившей иногда помочь по хозяйству, договорился об уборке, дал денег, чтобы дверь поставили сегодня же, а окна – когда появится возможность; она обещала связаться со мной через СС, когда квартира опять станет более или менее пригодной для обитания. Я отправился на поиски отеля: в первую очередь я мечтал о ванне. Самым ближним был тот самый отель «Эден», где я уже жил какой-то период. Мне повезло: всю Будапестштрассе стерло с лица земли, а «Эден» по-прежнему работал. Администрацию брали штурмом, состоятельные погорельцы и офицеры оспаривали номера. Когда я сослался на звание, медали, инвалидность и приврал, преувеличив плачевное состояние своей квартиры, управляющий, кстати меня узнавший, согласился выделить мне комнату, но с подселением. Я сунул купюру портье, чтобы он обеспечил меня горячей водой, и наконец уже около десяти часов я погрузился в ванну скорее теплую, чем горячую, но восхитительную. Вода сразу почернела, но я плевать хотел на такие пустяки. Я еще отмокал, когда в комнату привели соседа. Он рассыпался в извинениях и через закрытую дверь ванной сообщил, что подождет внизу, пока я домоюсь. Одевшись, я спустился за ним вниз: это был грузинский аристократ, очень элегантный, спешно с вещами покинувший загоревшийся отель и теперь искавший здесь приюта.
Мои коллеги единодушно решили собраться в здании СС. Я обнаружил там и невозмутимого Пионтека, и фрейлейн Праксу, одетую кокетливо, хотя ее гардероб погиб в огне, и Вальзера, радостного, потому что его район почти не пострадал, немного взбудораженного Изенбека – во время налета рядом с ним от сердечного приступа умерла старая соседка, а он в темноте даже не заметил этого. Вайнровски еще до бомбардировок вернулся в Ораниенбург. Что до Асбаха, он прислал записку: его жену ранило, он приедет, как только сможет. Я направил к нему Пионтека с разрешением взять несколько дней отгула, если ему нужно: в любом случае вряд ли мы смогли бы сразу возобновить работу. Я отпустил фрейлейн Праксу домой, и в компании Вальзера и Изенбека поспешил в министерство, посмотреть, нельзя ли спасти еще что-нибудь. Пожар потушили, но западное крыло пока не открывали; пожарный провел нас через развалины. Большая часть верхнего этажа сгорела вместе с крышей: от наших кабинетов осталась лишь одна комната со шкафом документов, выдержавшим пожар, но затопленным брандспойтами. Кусок стены обрушился, в проем виднелся разгромленный Тиргартен; перегнувшись наружу, я констатировал, что Лертер-Банхоф тоже пострадал; из-за густого дыма, висевшего над городом, дальше разглядеть мне ничего не удалось, но на заднем плане довольно четко вырисовывались линии сожженных улиц. Мы с коллегами постарались вынести уцелевшие документы, печатную машинку и телефон. Задача была не из простых: пламя выгрызло в полу дыры, к тому же дорогу приходилось прокладывать в заваленных обломками и мусором коридорах. Когда к нам снова присоединился Пионтек, мы загрузили бумаги в машину и отправили его в СС. Там мне выделили шкаф для временного хранения и ничего больше, у Брандта по-прежнему было слишком много работы, чтобы заниматься еще и мной. Поскольку дел никаких не намечалось, я попрощался с Вальзером и Изенбеком, и Пионтек повез меня в отель «Эден», мы с ним договорились, что завтра утром он меня оттуда заберет. Я спустился в бар и заказал коньяку. Грузин, мой сосед по комнате, вырядившись в фетровую шляпу и белый шарф, играл на фортепиано Моцарта с превосходным туше. Когда он закончил, я угостил его рюмкой, мы разговорились. Он каким-то образом оказался в группе эмигрантов, понапрасну осаждавших кабинеты Министерства иностранных дел и СС; его имя Миша Кедия что-то смутно мне напоминало. Узнав, что я служил на Кавказе, он подпрыгнул от радости, заказал еще коньяку и произнес длинный торжественный тост, хотя нога моя не ступала по его родным горам. Затем он заставил меня немедленно осушить свою рюмку и, не сходя с места, пригласил к себе в родовое поместье в Тифлисе, как только его освободят наши войска. Бар постепенно заполнялся народом. Около семи часов разговоры утихли, люди стали поглядывать на часы над баром: через десять минут завыли сирены, потом вблизи яростно загрохотал «Флак». Управляющий заверил нас, что бар служит еще и убежищем, теперь сюда ринулись все клиенты отеля, и вскоре места уже не было. Атмосфера царила довольно веселая и оживленная: когда рядом упали первые бомбы, грузин снова сел за рояль и принялся наяривать джаз; женщины в вечерних платьях поднялись, чтобы танцевать, стены и люстры дрожали, с барной стойки летели и бились об пол стаканы, взрывы почти заглушали музыку, давление воздуха становилось невыносимым, я пил, женщины истерично смеялись, а одна полезла ко мне с поцелуями и разрыдалась. Когда все закончилось, управляющий угостил присутствующих выпивкой за счет заведения. Я вышел: зоопарк разбомбили, павильоны горели, и опять повсюду полыхали пожары, я выкурил сигарету и пожалел, что не посмотрел животных раньше. Часть стены обвалилась: я приблизился, люди бегали из стороны в сторону, некоторые с ружьями, поговаривали, что львы и тигры очутились на свободе. Самолеты сбросили множество зажигательных бомб, и за грудой кирпичей я видел помещения в огне; разворотило большой индийский павильон, внутри, как рассказал мне какой-то тип, обнаружили трупы слонов, разорванных взрывом на куски, и носорога, вроде и нетронутого, но тоже мертвого, вероятно, от испуга. У меня за спиной полыхали здания Будапестштрассе. Я отправился туда и несколько часов помогал пожарным разгребать завалы; каждые пять минут по свистку работы прерывались, чтобы спасатели могли услышать приглушенные постукивания засыпанных в подвалах людей; откапывали довольно много живых, раненых и даже целых и невредимых. К полуночи я вернулся в «Эден»; фасад пострадал, но сама гостиница избежала прямого попадания; в баре продолжался праздник. Мой новый друг грузин заставил меня выпить несколько стаканов подряд. Форма, которую одолжил мне Томас, была испачкана землей и сажей, что не мешало женщинам вовсю флиртовать со мной; вероятно, их пугала мысль провести ночь в одиночестве. Грузин не отставал от меня, пока я не напился в стельку: на следующее утро я проснулся в своей постели, без кителя и рубашки, но в сапогах, совершенно не помня, как поднялся в комнату. Грузин храпел на соседней кровати. Я с горем пополам помылся, натянул чистую форму, а форму Томаса отдал в стирку; оставил грузина досыпать, проглотил чашку отвратительного кофе, велел принести таблетку от головной боли и возвратился на Принц-Альбрехтштрассе.
Офицеры канцелярии рейхсфюрера вид имели довольно растерянный: кто-то не спал ночь, многие понесли убытки, а некоторые потеряли родственников. В вестибюле и на лестницах заключенные в полосатых робах под надзором «СС-Тотенкопф» подметали полы, приколачивали доски, перекрашивали стены. Брандт попросил меня связаться с муниципалитетами и помочь офицерам составить для рейхсфюрера приблизительный баланс ущерба. Работа не сложная: каждый из нас выбрал сектор – жертвы, жилые дома, государственные учреждения, промышленные предприятия, транспорт и снабжение – и обращался в компетентные органы, чтобы получить цифры. Меня разместили в кабинете с телефоном, я устроил там фрейлейн Праксу, которая умудрилась где-то раздобыть новое платье, и приказал ей обзвонить больницы. Чтобы Изенбек не крутился под ногами, я решил отослать его вместе со спасенными досье в Ораниенбург к шефу Вайнровски и велел Пионтеку собираться в путь. Вальзер не появлялся. Фрейлейн Праксе удалось соединиться с одним из госпиталей, я запросил число доставленных к ним убитых и раненых, а в три или четыре больницы, которые не отвечали, направил за данными шофера и помощника. Около полудня приехал осунувшийся Асбах, с явным трудом сохраняя самообладание. Я повел его в столовую перекусить бутербродами с чаем. Медленно, между глотками, Асбах рассказывал мне о произошедшем: в первый же вечер в дом, где находилась его жена со своей матерью, попала бомба, стены обрушились, убежище выдержало лишь частично. Теща Асбаха, видимо, погибла на месте или умерла почти сразу; жена оказалась под завалами, но ее откопали на следующее утро, невредимую, только рука сломана, но совершенно не в себе. Ночью у нее случился выкидыш, рассудок к ней не вернулся, она то лепетала, как ребенок, то истерически рыдала. «Я вынужден похоронить ее мать без нее, – грустно сказал Асбах, отхлебывая чай мелкими глотками. – Я хотел переждать немного, пока жена очнется, но морги переполнены, и медицинское начальство боится эпидемии. Вероятно, все тела, неопознанные в течение двадцати четырех часов, захоронят в общих могилах. Это ужасно». Я, как мог, старался утешить Асбаха, но, должен признаться, особым талантом в подобных делах не обладал: совершенно не к месту заговорил о его будущем семейном счастье, звучало это довольно бестактно. Но он вроде бы приободрился. Я отпустил его домой с шофером нашего ведомства, пообещав к завтрашнему дню найти фургон для похорон.
Последствия налета во вторник, хотя в нем и участвовала лишь половина из задействованных в понедельник самолетов, оказались еще более катастрофическими. Рабочим кварталам, в особенности Веддингу, был нанесен страшный ущерб. Во второй половине дня мы собрали уже достаточно информации, чтобы составить краткий рапорт: насчитывалось две тысячи убитых, к тому же сотни людей по-прежнему оставались под завалами; три тысячи сгоревших или разрушенных зданий; сто семьдесят пять тысяч пострадавших, сто тысяч из которых уже покинули Берлин, чтобы перебраться в окрестные деревни или другие города Германии. Около шести часов всех, кто не исполнял работу первой важности, отпустили домой; я задержался и находился в дороге с шофером из гаража гестапо, когда опять взвыли сирены. Я решил не ехать в «Эден»: бар-убежище не внушал мне доверия, и я бы предпочел избежать повторения вчерашней ночной попойки. Я приказал шоферу обогнуть зоопарк и направляться к большому бомбоубежищу. Перед слишком узкими и малочисленными дверями теснился народ; у бетонного фасада парковались машины; перед ними на зарезервированной круглой площадке стояли веером штук десять детских колясок. Солдаты и полицейские окриками побуждали людей не задерживаясь подниматься на верхние уровни; на каждом этаже образовывалась толкучка, никто не хотел идти выше, женщины кричали, а их дети тем временем бегали в толпе, играли в войну. Нас провели на второй этаж, но на скамейках, расставленных рядами, как в церкви, места не нашлось, и я прислонился спиной к бетонной стене. Мой шофер исчез в толпе. Чуть позже восемьдесят восемь зениток открыли огонь с крыш: огромное здание сотрясалось до самого основания, раскачивалось, как корабль в шторм. Людей швыряло друг на друга, кто кричал, кто плакал. Свет притушили, но не гасили. По углам и в полумраке лестничных спиралей между этажами обнимались, сплетались телами юные парочки; некоторые, похоже, даже занимались любовью; сквозь взрывы слышались стоны иной тональности, нежели те, что испускали обезумевшие от страха домохозяйки, возмущенные старики ругались, шупо орали, приказывая всем сидеть. Мне хотелось курить, но это было запрещено. Я взглянул на женщину, сидевшую на лавке напротив меня: она наклонила голову, и я видел лишь светлые, удивительно густые волосы до плеч. Бомба взорвалась совсем рядом, бункер задрожал, поднялось целое облако бетонной пыли. Блондинка вскинула голову, я тотчас узнал ее: мы с ней ездили в трамвае по утрам. Она меня тоже узнала, протянула мне белую ручку, и ее лицо осветилось нежной улыбкой. «Добрый вечер! Я за вас волновалась». – «С чего бы?» За залпами «Флака» и взрывами почти ничего не было слышно, я присел на корточки и нагнулся к ней. «Вы не пришли в воскресенье в бассейн, – сказала она мне прямо в ухо, – я боялась, что с вами что-то приключилось». Воскресенье – это уже из другой жизни, хотя прошло всего три дня. «Я был в деревне. А бассейн еще существует?» Она опять улыбнулась: «Понятия не имею». Мощный взрыв сотряс бункер, она схватила и сильно сжала мою руку; когда опасность миновала, отпустила меня и извинилась. Несмотря на желтоватый свет и пыль, мне показалось, что она слегка зарделась. «Простите, а как вас зовут?» – спросил я. «Хелена, – ответила она, – Хелена Андерс». Я тоже представился. Хелена работала в отделе прессы в Министерстве иностранных дел, ее кабинет, как и большую часть Министерства, разбомбили в понедельник вечером, но дом родителей в районе Альт-Моабит, где она жила, уцелел. «По крайней мере, до нынешнего налета. А у вас что?» Я рассмеялся: «Мой кабинет в Министерстве внутренних дел сгорел. Теперь я обретаюсь в здании СС». Мы проболтали до завершения атаки. Хелена пришла пешком в Шарлоттенбург, чтобы поддержать пострадавшую во время бомбардировки подругу, воздушная тревога застигла ее на обратном пути, и она укрылась в бункере. «Я и не думала, что станут бомбить три ночи подряд», – тихо произнесла Хелена. «Честно говоря, я тоже, – откликнулся я, – но я рад, что благодаря этому мы встретились». Я так сказал из вежливости, теперь она уже явно покраснела, но отвечала свободно и прямо: «Я тоже. Наш трамвай, вероятно, какое-то время не будет курсировать». Включили электричество, Хелена встала, отряхнула пальто. «Если хотите, я вас провожу, – предложил я и прибавил, смеясь: – Если у меня еще есть машина. Не отказывайтесь, здесь недалеко».
Я обнаружил своего шофера возле машины в крайнем раздражении. Окна в ней выбило, бок помял соседний автомобиль, отброшенный взрывной волной. Коляски на площадки разметало в клочья. Зоопарк опять горел, оттуда неслись жуткие звуки, рычание, рев, мычание агонизирующих животных. «Бедные звери, – прошептала Хелена, – даже не понимают, что с ними случилось». Шофер мог думать только о машине. Я пошел за полицейскими, чтобы те помогли нам ее вытащить. Дверь со стороны пассажира заклинило, я усадил Хелену впереди, а сам через водительское кресло пролез назад. Маршрут оказался не из легких, руины заблокировали улицы, мы вынуждены были сделать крюк по Тиргартену, но, проезжая мимо Фленсбургерштрассе, я с радостью констатировал, что мой дом на месте. Альт-Моабит, если не считать нескольких шальных бомб, более или менее сохранился, я попрощался с Хеленой у ее дома: «Теперь мне известно, где вы живете. Если позволите, я навещу вас, когда все поуляжется». – «Буду рада», – ответила она с той самой своей прекрасной спокойной улыбкой. Потом я повернул к отелю «Эден» и нашел лишь развороченный обугленный остов: три мины угодили прямо в крышу. К счастью, бар выдержал, постояльцы отеля спаслись, и их можно было эвакуировать. Мой сосед грузин пил коньяк из горлышка вместе с другими потерпевшими; он меня увидел и заставил отхлебнуть глоток. «Я все потерял! Все! Особенно мне жалко ботинки. Четыре новые пары!» – «Вам есть куда пойти?» Он пожал плечами: «У меня тут друзья недалеко. На Раухштрассе». – «Давайте я вас отвезу». В доме, который указал грузин, уже не было окон, но при этом он казался обитаемым. Я выждал несколько минут, пока грузин ходил наводить справки. Вернулся он обрадованный: «Все отлично! Они уезжают в Мариенбад, я с ними. Зайдете пропустить стаканчик?» Я отказался, но он упорствовал: «Давайте! На посошок». Я чувствовал себя уставшим и опустошенным, пожелал ему удачи и поспешил ретироваться. Унтерштурмфюрер в гестапо объявил мне, что Томас нашел приют у Шелленберга. Я перекусил, велел постелить мне в импровизированном дортуаре и заснул.
На следующий день, в четверг, я продолжил собирать данные для Брандта. Вальзер так и не появился, но я не слишком за него волновался. Чтобы возместить нехватку телефонных линий, Геббельс временно выделил в наше распоряжение отряды «Гитлерюгенда». Мы их рассылали во всех направлениях, на велосипедах или пешком, передавать или забирать сообщения и почту. В городе усиленная работа муниципальных служб уже давала результаты: в некоторых кварталах подключили воду и электричество и, где возможно, отремонтировали отдельные участки метро и городской железной дороги. Мы знали, что Геббельс подумывает о частичной эвакуации города. Руины повсюду пестрели надписями, сделанными мелом, люди пытались разыскать родственников, соседей, друзей. К полудню я реквизировал полицейский фургон и отправился помогать Асбаху, его тещу хоронили на кладбище Плётцензее рядом с мужем, умершим четырьмя годами раньше от рака. Асбах был немного бодрее: к жене вернулся рассудок, она его узнала, но он ничего ей пока не сказал ни о матери, ни о ребенке. Нас провожала фрейлейн Пракса, ей даже удалось найти цветы, Асбах был явно тронут. Кроме нас присутствовали еще трое друзей: семейная пара и пастор. Гроб сколотили из грубых, плохо подогнанных досок; Асбах все повторял, что при первой возможности он будет ходатайствовать об эксгумации, чтобы воздать теще посмертные почести подобающим образом. Правда, они никогда не ладили – добавил он, – теща не скрывала презрительного отношения к форме СС, но все же это мать его супруги, а он супругу любит. Я не завидовал ему в этой ситуации: иногда быть сиротой на белом свете большое преимущество, особенно во время войны. Потом я отвез Асбаха в военный госпиталь, где лежала его жена, и вернулся в СС. В тот вечер обошлось без налета: в начале вечера завыли сирены, спровоцировав панику, но оказалось, что самолеты прилетели на разведку фотографировать нанесенный ущерб. Воздушную тревогу я пересидел в бункере гестапо, а после отбоя Томас повел меня в ресторанчик, уже ожидавший гостей. Он пребывал в отличном настроении: Шелленберг нашел ему маленький домик в Далеме, в шикарном квартале возле Груневальда, и еще Томас купил «мерседес»-кабриолет у нуждавшейся в деньгах вдовы гауптштурмфюрера, погибшего во время первой бомбардировки. «К счастью, мой банк цел и невредим. Это самое важное». Я вознегодовал: «Есть вещи и поважнее». – «Какие, например?» – «Наши жертвы. Страдания людей и здесь, вокруг нас, и на фронте». В России положение ухудшилось: мы уступили Киев, зато вновь заняли Житомир, впрочем, только чтобы потерять Черкассы; в тот день, когда я охотился на глухаря со Шпеером, в Ровно украинские повстанцы УПА, выступавшие и против немцев, и против большевиков, отстреливали наших, словно зайцев. «Я тебе уже говорил, Макс, ты слишком близко к сердцу принимаешь многие вещи», – заметил Томас. «Это к вопросу о Weltanschauung», – я поднял стакан. Томас саркастически усмехнулся: «Weltanschauung тут, Weltanschauung там, – что-то в этом роде сказал Шнитцлер. Все сегодня имеют Weltanschauung, любой булочник или слесарь имеют Weltanschauung, механик у меня в гараже надбавляет тридцать процентов за ремонт, но тоже имеет Weltanschauung. И я тоже имею…» Он замолчал, мы выпили. Болгарское вино, немного терпкое, но, учитывая обстоятельства, вполне приемлемое. «А я скажу тебе, что важно, – Томас сердился, – служить своей стране, если надо, умереть за нее, но, в ожидании такого момента, наслаждаться жизнью на полную катушку. Твой заслуженный посмертно Рыцарский крест, возможно, осушит слезы матери-старушки, но для тебя будет слабоватым утешением». – «Моя мать умерла», – тихо произнес я. «Да-да, я же знаю, извини». Как-то вечером, изрядно выпив, я, не вдаваясь в подробности, рассказал Томасу о смерти матери, больше мы к тому разговору не возвращались. Томас отхлебнул еще вина, он продолжал горячиться: «Знаешь, почему мы ненавидим евреев? Я тебе объясню. Мы ненавидим евреев за то, что это экономный и осторожный народ, жадный не только до денег и материальных благ, но и до знаний, традиций и своих книг, народ, неспособный ни дарить, ни тратить, народ, не знавший войны. Народ, умеющий копить, а не расточать. Ты в Киеве говорил, что убийство евреев – расточительство. Да, правда, растрачивая их жизни, как разбрасывают рис на свадьбе, мы научили их трате, научили их воевать. Варшава, Треблинка, Собибор, Белосток – доказательство, что все в порядке, что евреи усвоили урок, что они тоже превращаются в воинов, тоже становятся убийцами и проявляют жестокость. Я думаю, это прекрасно. Мы сделали из евреев достойных нас врагов. Теперь «Pour la Sémite» [82] – Томас стукнул себя в грудь возле сердца, куда пришивают звезду, – приобретает ценность. И если немцы не прекратят ныть и не станут стойкими, как евреи, они получат то, чего заслуживают. Vae victis» [83]. Томас залпом осушил стакан, взгляд его блуждал где-то далеко. Я вдруг понял, что Томас пьян. «Мне пора», – сказал он. Я предложил подвезти его, но он отказался: взял машину в гараже. На улице, которую успели убрать лишь наполовину, он рассеянно пожал мне руку, хлопнул дверцей и газанул на скорости. Я вернулся ночевать в гестапо, там топили и починили наконец-то душ.
На следующий вечер налет повторился, пятый и последний в этой серии. Урон был нанесен чудовищный: центр города лежал в руинах, впрочем, как и большая часть Веддинга, число погибших превышало четыре тысячи, пострадавших – четыреста тысяч, множество заводов и министерств было уничтожено, коммуникации и общественный транспорт требовали нескольких недель ремонта. Люди жили в домах без окон и отопления: основной запас угля на зиму, хранившегося в садах, сгорел. Найти хлеб стало почти невозможно, полки магазинов пустовали, на разрушенных улицах НСВ установили полевые кухни и разливали суп с капустой. В ведомствах рейхсфюрера и РСХА ситуация оставалась менее напряженной: у нас имелась и еда, и места для сна; тех, кто всего лишился, снабжали одеждой и формой. Когда Брандт меня принял, я предложил ему перевести часть моей команды в Ораниенбург, в бюро ИКЛ, а в Берлине для осуществления связи довольствоваться маленьким кабинетом. Идея показалась Брандту разумной, но он хотел посоветоваться с рейхсфюрером. Еще Брандт сообщил, что рейхсфюрер одобрил визит Шпеера в Миттельбау, и мне следует позаботиться об организации. «Сделайте так, чтобы рейхсминистр был… удовлетворен», – подчеркнул Брандт. Он приберег для меня еще один сюрприз: меня произвели в оберштурмбанфюреры. Я и обрадовался, и удивился: «Почему вдруг?» – «Решение рейхсфюрера. Ваша работа уже приобрела достаточно важное значение, и оно только возрастает. Кстати, что вы думаете по поводу реорганизации Аушвица?» В начале месяца оберштурмбанфюрер Либехеншель, заместитель Глюкса по ИКЛ, занял пост Хёсса; с тех пор Аушвиц разделили на три разных лагеря: главный лагерь, Биркенау и Моновиц со всеми подсобными лагерями. Либехеншель был комендантом Аушвица I и старшим инспектором (Standortälteste) всех трех лагерей, что давало ему право следить за работой двух новых комендантов, Хартенштейна и гауптштурмфюрера Шварца, бывшего арбайтскомандофюрера и потом лагерфюрера при Хёссе. «Штандартенфюрер, я считаю, что административная перестройка – превосходная инициатива: лагерь слишком разросся и становился неуправляемым. Судя по тому, что мне известно, оберштурмбанфюрер Либехеншель – прекрасный выбор, он правильно осмыслил новые задачи. Но что касается назначения оберштурмбанфюрера Хёсса в ИКЛ, должен признаться, мне сложно понять штатную политику этой организации. Я очень уважаю оберштурмбанфюрера Хёсса и считаю его отличным солдатом, но, если вас интересует мое мнение, то он должен командовать полком ваффен-СС на фронте. Он – не управленец. В ИКЛ основную часть текущих дел ведет Либехеншель. И естественно, Хёсс не вдается в детали административной работы», – Брандт сверлил меня взглядом сквозь совиные очки. «Благодарю за откровенность. Однако полагаю, что рейхсфюрер с вами не согласился бы. В любом случае, даже если у оберштурмбанфюрера Хёсса нет талантов Либехеншеля, всегда остается штандартенфюрер Маурер».
Изенбек, с которым мы встретились на следующей неделе, передал мне слухи из Ораниенбурга. Все вокруг, кроме самого Хёсса, понимали, что его время вышло. Видимо, рейхсфюрер, посетивший лагерь, лично уведомил его о переводе, выставив в качестве предлога передачи «Би-би-си» об уничтожении заключенных в лагерях, – так, по крайней мере, Хёсс рассказывал в Ораниенбурге; судя по его назначению на должность главы ведомства Д-I, версия вполне правдоподобная. Но почему к Хёссу относились с подобной деликатностью? У Томаса, когда я задал ему вопрос, нашлось лишь одно объяснение: в двадцатые годы Хёсс сидел в тюрьме с Борманом за убийство; они, вероятно, продолжали дружить, и Борман защищал Хёсса.
Как только рейхсфюрер одобрил мое предложение, я развернул реорганизацию отдела. Группа, занимавшаяся исследованиями под руководством Асбаха, отправлялась в Ораниенбург. Асбах, кажется, покидал Берлин с облегчением. А я с фрейлейн Праксой и двумя другими помощницами устроился в своем бывшем кабинете в здании СС. Вальзер так и не вернулся. Я послал Пионтека на розыски, и выяснилось, что убежище в доме Вальзера разбомбили еще во вторник вечером. По предварительным подсчетам погибло сто двадцать три человека – все жители дома, не спасся никто, но откопанные трупы невозможно было опознать. Для очистки совести я указал, что Вальзер пропал без вести: так полиция хотя бы поищет его по госпиталям, но особой надежды найти его живым я не питал. Пионтек, похоже, сильно расстроился. Томас прекратил хандрить и теперь кипел энергией, мы снова работали в соседних кабинетах, и я видел его чаще. Я не стал сообщать Томасу о своем повышении и, желая поразить его, выжидал официального подтверждения и момента, когда смогу пришить новые знаки различия. И вот я вошел в его кабинет, Томас расхохотался, порылся у себя на столе, вытащил какую-то бумажку и помахал ею в воздухе: «О! Несчастный! Ты намеревался догнать меня!» Он сложил из листка самолетик и запустил в меня, тот носом ударился в мой Железный крест. Я развернул документ и прочел, что Мюллер рекомендует Томаса в штандартенфюреры. «И будь уверен, не откажут. Но – добавил он великодушно, – пока это все неофициально, за ужины плачу я».
На невозмутимую фрейлейн Праксу мое повышение тоже не произвело особого впечатления – не то что личный звонок Шпеера: «С вами хочет говорить рейхсминистр», – взволнованно сообщила она, передавая мне трубку. Перебравшись в результате налетов на новое место, я отослал ему записку со своими нынешними координатами. «Штурмбанфюрер? – зазвучал его приятный твердый голос. – Как ваши дела? Крупные потери?» – «Мой архивариус, видимо, убит, герр рейхсминистр. А так все нормально. Что у вас?» – «Я переместился во временное помещение и отправил семью в деревню. Итак?» – «Ваше посещение Миттельбау одобрено, герр рейхсминистр. Мне поручили его организовать. При первой же возможности я свяжусь с вашим секретарем, чтобы определиться с датой». По важным вопросам Шпеер попросил меня обращаться не к помощнику, а к его личной секретарше. «Отлично, – сказал он, – до скорого». Я уже писал на Миттельбау и предупредил, что им надо готовиться к визиту рейхсминистра. Я позвонил оберштурмбанфюреру Фёршнеру, коменданту «Доры», чтобы подтвердить разрешение. «Послушайте, – проворчал на другом конце провода уставший голос, – мы сделаем все возможное». – «Я не прошу вас из кожи вон лезть, оберштурмбанфюрер. Я говорю лишь о том, чтобы предприятия имели презентабельный вид. На этом лично настаивает и рейхсфюрер. Вы меня поняли?» – «Хорошо. Я распоряжусь дополнительно».
Квартиру мою на скорую руку подремонтировали. Мне удалось раздобыть стекла для двух окон, остальные затянули парниковой пленкой. Соседка не только починила мне дверь, но и отыскала керосиновые лампы, пока не восстановили электричество. Я заказал угля, и стоило лишь растопить керамическую плитку, везде разлилось тепло. Конечно, я ругал себя: снять квартиру на последнем этаже было не лучшим решением, ведь мне просто удивительно повезло, что последствия налетов на прошлой неделе оказались для меня минимальными, но если они повторятся, промашки уже не будет – не может же так продолжаться вечно! Вообще-то я запрещал себе волноваться: квартира мне не принадлежит, личного имущества у меня мало; надо брать пример с Томаса и не волноваться из-за подобных вещей. Я, правда, купил новый граммофон и пластинки с клавирами Баха и ариями из опер Монтеверди. Вечерами, при мягком старомодном свете керосинок, с рюмкой коньяка и сигаретами под рукой, я ложился на диван, чтобы послушать музыку и забыться.
В эти дни новая мысль все чаще будоражила меня. В следующее после бомбардировок воскресенье, ближе к полудню, я взял в гараже машину и поехал к Хелене Андерс. Было холодно, сыро, небо затянуто, но без дождя. По дороге мне удалось купить букет цветов у старухи возле станции городской железной дороги. У самого дома Хелены я вдруг сообразил, что не знаю, в какой квартире она живет. Ее имени на почтовом ящике я не обнаружил. В этот момент на порог вышла довольно крупная тетка, остановилась, смерила меня взглядом с головы до пят и затем спросила с резким берлинским акцентом: «Кого ищете?» – «Фрейлейн Андерс». – «Андерс? Здесь нет таких». Я описал Хелену. «Вы хотите сказать: дочку Виннефельдов. Какая же она фрейлейн!» Тетка указала мне квартиру, я поднялся и позвонил. Мне открыла седоволосая дама, нахмурила брови. «Фрау Виннефельд?» – «Да». Я щелкнул каблуками и поклонился. «Мое почтение. Я пришел к вашей дочери». Я протянул женщине цветы и представился. В коридоре появилась Хелена, в свитере, накинутом на плечи, она порозовела и улыбнулась: «О! Это вы». – «Зашел спросить, намереваетесь ли вы сегодня поплавать». – «А разве бассейн работает?» – удивилась она. «Увы, нет. – Перед встречей с Хеленой я зашел туда: зажигательная бомба попала прямо в свод крыши, и дворник, охранявший руины, заверил, что, учитывая все происходящее, бассейн вряд ли откроется до окончания войны. – Но у меня есть другой на примете». – «Тогда с удовольствием. Я сейчас возьму вещи». Внизу я помог ей сесть в машину и тронулся. «Не знал, что вы – фрау», – начал я через несколько секунд. Она задумчиво посмотрела на меня: «Я – вдова. Моего мужа убили партизаны в прошлом году в Югославии. Мы были женаты меньше года». – «Как жаль!» Она глянула в окно: «Мне тоже». И повернулась ко мне: «Но надо жить, да?» Я не ответил. «Гансу, моему мужу, – продолжила она, – очень нравился берег Далмации. В письмах он мечтал обосноваться там после войны. Вы были в Далмации?» – «Нет, я служил на Украине и в России. Но жить там я бы не хотел». – «А где хотели бы?» – «Честно говоря, не знаю. Думаю, не в Берлине. Не знаю». Я коротко рассказал ей о своем детстве во Франции. Она оказалась родом из старой берлинской семьи: еще ее прадед и прабабка обосновались в Моабите. Мы ехали по Принц-Альбрехтштрассе, я припарковался у дома номер восемь. «Но это же гестапо!» – испуганно вскрикнула Хелена. Я рассмеялся. «Ну, да. У них небольшой бассейн с подогревом в подвале». Она уставилась на меня: «Вы полицейский?» – «Вовсе нет». Я показал ей через окно бывший отель «Принц Альбрехт», расположенный рядом: «Я работаю в ведомстве рейхсфюрера. Я – юрист и занимаюсь экономическими вопросами». Это ее убедило. «Не волнуйтесь. Бассейн служит в большей степени машинисткам и секретаршам, чем полицейским, у них другие заботы». На самом деле бассейн был до того маленький, что записываться приходилось заранее. Внутри мы встретили Томаса, уже в плавках. «О, я вас узнал! – воскликнул он, галантно целуя белую ручку Хелены. – Вы – приятельница Лизелотты и Мины Вреде». Я объяснил Хелене, где женская раздевалка, и отправился переодеваться, а Томас иронично усмехался мне вслед. Когда я вышел, Томас в воде болтал с какой-то девушкой, Хелена еще не появилась. Я нырнул, проплыл бассейн пару раз. На пороге раздевалки показалась Хелена. Модный купальник обтягивал округлые и в то же время изящные формы; несмотря на всю женственность, на ее теле явно вырисовывались мускулы. Лицо, красоту которого не портила купальная шапочка, сияло радостью: «Горячий душ! Какая роскошь!» Она тоже нырнула, пересекла половину бассейна под водой и принялась плавать туда-сюда по дорожке. Я уже устал; вылез, напялил халат и уселся на один из расставленных вокруг бассейна стульев покурить и полюбоваться своей купальщицей. Томас, вода стекала с него ручьями, примостился рядом со мной: «Давно пора тебе встряхнуться». – «Она тебе нравится?» Плеск воды отражался от свода зала. Хелена без отдыха четырежды проплыла бассейн, целый километр. Потом оперлась о бортик, как в первый раз, когда я ее увидел, и улыбнулась мне: «Вы мало плаваете». – «Из-за курения. Дыхания не хватает». – «Обидно». Она снова подняла руки и ушла на дно; но вынырнула в том же месте и, подтянувшись, грациозно выбралась из бассейна. Взяла полотенце, вытерла лицо, села возле нас, сняла шапочку и встряхнула влажными волосами. «А вы, – обратилась она к Томасу, – тоже занимаетесь экономическими проблемами?» – «Нет, – открестился Томас. – Я предоставил это Максу. Он гораздо умнее меня». – «Он полицейский», – добавил я. Томас скривился: «Скажем, я в службе безопасности». – «Бррр… – поежилась Хелена. – Должно быть, это противно». – «Ну уж не до такой степени». Я докурил и вернулся в воду. Хелена одолела еще двадцать дистанций, Томас флиртовал с машинисткой. Потом я принял душ и переоделся; я бросил Томаса в бассейне и предложил Хелене выпить чаю. «Где же?» – «Хороший вопрос. На Унтер-ден-Линден кафе больше нет. Но что-нибудь да найдем». В конце концов я пригласил ее в отель «Эспланада» на Бельвюштрассе: здание слегка задело, но худшее его миновало; в чайном салоне, за исключением досок на окнах, замаскированных парчовыми шторами, царила почти что довоенная атмосфера. «Чудесное местечко, – прошептала Хелена, – я здесь раньше никогда не бывала». – «Пирожные очень вкусные, и чай заваривают настоящий, не суррогатный». Я заказал кофе, она чай, мы выбрали ассорти из маленьких пирожных. Десерт действительно оказался восхитительным. Я зажег сигарету, Хелена тоже попросила одну. «Вы курите?» – «Иногда». Чуть позже она задумчиво сказала: «Жалко, что сейчас война. Все могло бы быть так прекрасно». – «Наверное. Но, смею признаться, я так не считаю». Она взглянула на меня: «Будьте откровенны: мы ведь проиграем?» Я оторопел: «Нет! Конечно, нет». Она опять посмотрела в пустоту, сделала последнюю затяжку и обронила: «Мы проиграем». Я провожал ее до дома. Хелена с серьезным видом пожала мне руку и поблагодарила: «Спасибо. Я получила большое удовольствие». – «Надеюсь, что не в последний раз». – «Я тоже. До скорого». Я дождался, пока она перешла тротуар и исчезла за дверью. Потом я вернулся к себе и слушал Монтеверди.
Я не понимал, чего ищу с этой молодой женщиной и не старался понять. В Хелене мне нравилась нежность, которая, я думал, существует только на полотнах Вермеера Делфтского, и то, что за этой нежностью явно чувствовалась несгибаемая, как стальное лезвие, сила. Вечер и мне доставил много приятных моментов, но большего я пока не искал и разбираться в себе не хотел. Раздумья, предвидел я, тотчас повлекли бы мучительные вопросы и обязательства, но в кои-то веки я не ощущал в этом потребности и был рад отдаться течению событий, как музыке Монтеверди. Всю следующую неделю, в перерывах на работе или дома по вечерам, я вспоминал ее серьезное лицо или спокойную, почти ласковую улыбку, приятный, дружелюбный образ, не вызывающий у меня страха.
Но такая уж вещь прошлое – если вцепилось однажды зубами в вашу плоть, больше не отпустит. Где-то в середине следующей после бомбардировок недели ко мне в кабинет постучала фрейлейн Пракса. «Оберштурмбанфюрер? С вами хотели бы поговорить два господина из криминальной полиции». Я разбирался в особенно запутанном досье и раздраженно ответил: «Ну и пусть, как все, запишутся на прием». – «Отлично, оберштурмбанфюрер». Она закрыла дверь, а через минуту снова постучала: «Извините, оберштурмбанфюрер. Они настаивают. Они велели сказать, что это по личному делу, касательно вашей матери». Я глубоко вздохнул и захлопнул папку: «Пусть войдут».
Те двое, ввалившиеся в мой кабинет, были настоящими, а не почетными, как Томас, полицейскими, в длинных серых пальто из грубой шерсти и со шляпами в руках. Поколебавшись немного, они отсалютовали: «Хайль Гитлер!» Я отдал им честь и пригласил присесть на диван. Они представились: «Комиссары криминальной полиции Клеменс и Везер из отдела V-б-1, „По тяжким уголовным преступлениям“». – «Точнее, – ввернул один из них, вроде Клеменс, – мы работаем для V-а-1, который занимается международным сотрудничеством. Французская полиция направила им просьбу о юридической помощи…» – «Извините, – перебил я резко, – могу я взглянуть на ваши документы?» Они протянули удостоверения и ордер, подписанный регирунгсратом Гальзовом, с распоряжением получить ответы на вопросы, переданные немецкому правосудию префектом департамента Приморские Альпы в рамках дела об убийстве Моро Аристида и его жены Моро Элоизы, вдовы Ауэ, урожденной С. «Значит, вы расследуете обстоятельства смерти моей матери, – произнес я, возвращая полицейским документы. – А какое отношение это имеет к немецкой полиции? Моро же убили во Франции». – «Вот-вот», – подтвердил второй, видимо, Везер. Клеменс достал из кармана блокнот, пролистнул несколько страниц: «Чрезвычайно жестокое преступление, – заметил он. – Тут явно сумасшедший или садист. Вы, вероятно, были потрясены». Я опять отреагировал сухо и сдержанно: «Комиссар, я в курсе произошедшего. Мои личные переживания касаются меня одного. Зачем вы пришли?» – «Мы хотели бы задать вам несколько вопросов», – сказал Везер. «Как потенциальному свидетелю», – добавил Клеменс. «Свидетелю чего?» – поинтересовался я. Он посмотрел мне прямо в глаза: «Вы встречались с ними в тот период, не правда ли?» Я тоже не опускал взгляда: «Абсолютно точно. Вы хорошо осведомлены. Я навещал их. Мне неизвестно, когда именно их убили, но очень вскоре после моего отъезда». Клеменс сверился с блокнотом, показал что-то Везеру. Везер продолжил: «По информации марсельского гестапо, двадцать шестого апреля вам выдали пропуск в итальянскую зону. Как долго вы пробыли у матери?» – «Только один день». – «Это точно?» – переспросил Клеменс. «По-моему, да. А что, собственно?» Везер опять заглянул в записи Клеменса: «По данным французской полиции, жандарм видел офицера СС, покидавшего Антиб на автобусе утром двадцать девятого. В этом секторе не слишком много офицеров СС, и они, уж конечно, не прохлаждаются в автобусах». – «Вполне вероятно, что я оставался на две ночи. Тогда я много путешествовал. Это важно?» – «Для дела пригодится. Тела обнаружены первого мая молочником, и к этому моменту они уже пролежали какое-то время. Судебно-медицинский эксперт счел, что смерть наступила в интервале от шестидесяти до восьмидесяти четырех часов до этого, между вечером двадцать восьмого и вечером двадцать девятого числа». – «Со своей стороны заявляю, что, уезжая, оставил Моро в полном здравии». – «Итак, – подытожил Клеменс, – если вы уехали утром двадцать девятого, то их убили днем». – «Возможно. Я не задавался этим вопросом». – «Как вы узнали об их смерти?» – «Мне сообщила сестра». – «Действительно, – Везер наклонился к блокноту Клеменса, – она приехала почти сразу. Второго мая, если быть точными. Вам неизвестно, откуда она узнала о случившемся?» – «Нет». – «Вы виделись с ней после этого?» – перебил Клеменс. «Она живет с мужем в Померании. Могу дать вам адрес, но не знаю, на месте ли они сейчас. Они часто бывают в Швейцарии». Везер взял у Клеменса блокнот и что-то записал. «Вы не общаетесь с сестрой?» – осведомился Клеменс. «Редко», – отозвался я. «А с матерью регулярно виделись?» – перехватил эстафету Везер. Полицейские постоянно говорили по очереди, и их игра сильно действовала мне на нервы. «Нет, тоже редко», – произнес я сухо. «Короче, – обобщил Клеменс, – вы не слишком близки с семьей». – «Господа, я уже предупреждал, что не собираюсь обсуждать с вами личные переживания. И не понимаю, какое вам дело до моих отношений с семьей». – «Когда совершено убийство, герр оберштурмбанфюрер, – нравоучительно изрек Везер, – полиции есть дело до всего». Они определенно смахивали на парочку копов из американских фильмов. И наверняка у них так и было задумано. «Господин Моро приходился вам отчимом, не так ли?» – не унимался Везер. «Да. Он женился на моей матери в тысяча девятьсот двадцать девятом, если не ошибаюсь. Или двадцать восьмом». – «В тысяча девятьсот двадцать девятом, правильно», – Везер сверился с блокнотом. «Вам известны распоряжения по наследству?» – резко вмешался Клеменс. Я отрицательно покачал головой: «Нет. Откуда?» – «Господина Моро бедным не назовешь. Вы можете унаследовать кругленькую сумму», – конкретизировал Везер. «Я бы очень удивился. Мы с отчимом не ладили». – «Допустим, – согласился Клеменс. – Но у него нет ни детей, ни ближайших родственников. Если он не оставил завещания, то вы с сестрой разделите его имущество». – «Я об этом даже не помышлял, – искренне признался я. – Но давайте не будем сотрясать понапрасну воздух: завещание найдено?» Везер полистал блокнот: «Честно говоря, нам пока не доложили». – «В любом случае ко мне по этому поводу никто не обращался», – уведомил я. Везер нацарапал заметку в блокноте. «Еще вопрос, герр оберштурмбанфюрер: у Моро нашли двух мальчиков. Близнецов. Они живы». – «Да, я их видел. Мать сказала, что это дети одной приятельницы. Вы знаете, кто они?» – «Нет, – проворчал Клеменс. – И французы, очевидно, тоже нет». – «Они стали свидетелями убийства?» – «Они до сих пор рта не раскрыли», – обронил Везер. «Весьма вероятно, они что-то видели», – встрял Клеменс. «Но говорить отказываются», – повторил Везер. «Возможно, у них психологический шок», – объяснил Клеменс. «И какова их судьба?» – полюбопытствовал я. «Вот это действительно странно, – воскликнул Везер. – Ваша сестра забрала их с собой». – «И неясно, почему и как», – сказал Клеменс. «К тому же здесь налицо явное нарушение закона», – прокомментировал Везер. «Явное, – вторил ему Клеменс. – Но тогда последнее слово было за итальянцами. А от них ожидай чего угодно». – «Да уж, действительно, – подтвердил Везер, – кроме путного расследования». – «Впрочем, с французами та же штука», – посетовал Везер. «Абсолютно, один к одному, – согласился Клеменс. – Работать с ними – удовольствие ниже среднего». – «Господа, – прервал я их диалог, – все это прекрасно, но меня никоим образом не касается». Клеменс и Везер переглянулись. «Поймите, я сейчас чрезвычайно занят. Если у вас больше нет конкретных вопросов, я думаю, мы можем закончить?» Клеменс кивнул. Везер опять полистал блокнот, вернул его владельцу и встал: «Извините, герр оберштурмбанфюрер». – «Да, – эхом отозвался Клеменс и тоже поднялся. – Извините. Это пока все». – «Да, все. Спасибо за понимание», – поблагодарил Везер. Я протянул им руку: «Если возникнут вопросы, обращайтесь без стеснения». Я вытащил две карточки из визитницы и протянул каждому. «Спасибо», – Везер сунул карточку в карман. Клеменс разглядывал свою: «Специальный уполномоченный рейхсфюрера СС по организации труда заключенных, – прочитал он. – И что это?» – «Государственная тайна, комиссар», – парировал я. «О, извините!» Оба отдали мне честь и направились к выходу. Клеменс, который внушал больше доверия, чем Везер, открыл дверь и исчез, а Везер остановился на пороге и повернул назад: «Еще раз извините, герр оберштурмбанфюрер. Я забыл одну деталь». Он обернулся: «Клеменс! Блокнот». Снова зашуршал страницами: «А, вот: когда вы поехали в гости к матери, вы были в форме или в штатском?» – «Не помню. А что? Это существенно?» – «Вообще-то, нет. Оберштурмфюрер, выдававший вам пропуск в Марселе, утверждает, что вы были в штатском». – «Возможно, ведь я ехал в отпуск». Везер кивнул: «Спасибо. Мы позвоним, если что-то понадобится. Простите, что явились без предупреждения. В следующий раз запишемся на прием».
Визит полицейских оставил у меня неприятный осадок. Чего хотели от меня эти клоуны? Мне они показались крайне агрессивными и скользкими. Естественно, я их обманул: если бы я признался, что видел тела, сколько бы сразу возникло проблем! Мне не показалось, что я вызываю у них какие-то особые подозрения, просто подозрительность была у них в крови – этакая профессиональная особенность. Мне ужасно не понравились их вопросы о наследстве Моро: похоже, они предположили, что у меня мог быть мотив, денежный интерес, просто смешно. Видели ли они во мне убийцу? Я попытался восстановить нашу беседу и вынужден был констатировать, что да, вполне вероятно. Я находил это чудовищным, но, наверное, так устроен ум профессиональных полицейских. Кроме того, меня чрезвычайно взволновало известие, что сестра забрала близнецов. Почему? Какая между ней и ими связь? Все это приводило меня в глубокое замешательство. Я считал нынешнюю ситуацию почти несправедливой: именно в тот момент, когда моя жизнь начала приобретать равновесие, вошла в нормальное, повседневное русло, глупые легавые явились ворошить старые истории, сеять смуту, задавать вопросы, на которые нет ответа. Логичнее всего, честно говоря, было бы позвонить сестре, выяснить, что там с чертовыми близнецами, и удостовериться, что, если к ней с допросом нагрянут полицейские, ее рассказ не разойдется с моим там, где я счел нужным скрыть часть правды. Но, сам не знаю почему, сразу я этого не сделал. Позвонить нетрудно, я мог набрать номер в любой момент, но спешить отчего-то не хотелось.
К тому же я был сильно занят. Моя группа в Ораниенбурге, продолжавшая расширяться под руководством Асбаха, регулярно присылала общие выводы своих исследований о рабочих-иностранцах (Ausländereinsatz). Эти рабочие подразделялись по расовому признаку на многочисленные категории, предполагающие разные условия содержания, к ним причислялись военнопленные из западных стран, а вот советские военнопленные составляли отдельную категорию, полностью контролируемую руководством вермахта. На следующий день после беседы с двумя инспекторами меня вызвали к рейхсфюреру. Я сделал довольно длинный и подробный доклад, проблема была сложная: рейхсфюрер слушал, почти не перебивая, непроницаемый в своих маленьких очках в стальной оправе. Одновременно я готовил визит Шпеера в Миттельбау и поехал в Лихтерфельде – после налетов злые языки в Берлине прозвали район «Трихтерфельде» («поле воронок»), – чтобы бригадефюрер Каммлер, шеф отдела строительства (Амтсгруппа «Ц») ВФХА дал мне необходимые пояснения. Каммлер, нелюбезный, нервный, очень четкий и точный человек, рассказал мне о баллистической ракете А-4, сверхъестественном оружии, которое, по мнению Каммлера, должно будет необратимо изменить ход войны, как только наладят серийное производство. Англичане, прослышав о существовании ракеты, в августе бомбардировали секретные предприятия, занимавшиеся ее разработкой, на севере острова Узедом, там, кстати, я лечился после ранения. Через три недели после этого рейхсфюрер предложил фюреру и Шпееру перенести заводы под землю и обеспечить секретность, задействовав при строительстве только заключенных концлагерей. Каммлер лично выбрал место: подземные штольни в горном массиве Гарца, использовавшиеся вермахтом в качестве склада горюче-смазочных материалов. Для реализации проекта под эгидой министра Шпеера было создано общество «Миттельверке GmbH», однако СС несла полную ответственность за оборудование и безопасность территории. «Сборка ракет уже начата, хотя заводы пока не достроены; рейхсминистр будет доволен». – «Смею надеяться, условия работы заключенных подобающие, бригадефюрер? – спросил я. – Я знаю, что рейхсминистра это чрезвычайно заботит». – «Условия такие, какие есть, оберштурмбанфюрер. В конце концов, война же. Но могу вас заверить: что касается уровня производительности, у рейхсминистра не возникнет повода для недовольства. Завод под моим личным контролем, я сам выбирал коменданта. С РСХА у меня тоже нет проблем: я поставил своего человека, доктора Бишоффа, следить за охраной производства и предотвращать саботаж. Пока никаких инцидентов не было. Во всяком случае, – добавил он, – когда я в апреле и мае вместе с подчиненными рейхсминистра Шпеера инспектировал многие КЛ, особых претензий у них не возникло, и Миттельбау стоит Аушвица».
Визит состоялся в декабре, в пятницу. Холод был лютый. Шпеера сопровождали эксперты министерства. На его спецсамолете, «хейнкеле», мы долетели до Нордхаузена; там нас встретила и доставила до места делегация лагеря во главе с комендантом Фёршнером. Дорогу, проходившую по южному склону Гарца, перегораживали многочисленные контрольно-пропускные пункты СС. Как пояснил Фёршнер, весь массив объявлен запретной зоной, немного севернее, в подсобных лагерях Миттельбау уже запущены другие подземные проекты, а в самой «Доре» северная часть из двух туннелей отдана под сборку моторов самолетов «юнкерс». Шпеер слушал объяснения молча. Дорога заканчивалась широкой утрамбованной площадкой, по одной стороне тянулись бараки охраны СС и комендатуры. Напротив, загороженный грудами строительного материала и прикрытый камуфляжными сетями, под гребнем холма, засаженного елками, виднелся вход в первый туннель. Мы зашли внутрь с Фёршнером и инженерами Миттельверке. От гипсовой пыли и резкого дыма промышленной взрывчатки у меня сперло дыхание; к ним примешивались и другие неопределенные, сладковатые, тошнотворные запахи, напомнившие мне о первых посещениях лагеря. По мере нашего продвижения заключенные, получив предупреждение Шписа, шедшего во главе делегации, вытягивались по стойке смирно и снимали пилотки. Большинство из них страшно исхудали; их головы, с трудом державшиеся на тощих шеях, были похожи на отвратительные шары, украшенные гигантскими картонными носами и ушами и глубоко посаженными огромными, пустыми глазами, взгляд которых упорно ни на ком не фиксировался. Рядом с заключенными запахи, учуянные мною еще в начале, превращались в ужасающую вонь, исходившую от их грязной одежды, ран и тел. Многие из людей Шпеера, позеленев, прижали к лицам платки; Шпеер сложил руки за спиной и смотрел вокруг с холодным, напряженным видом. Каждые двадцать пять метров два главных туннеля А и Б соединялись поперечными штольнями: в первой из них мы обнаружили ряды грубых деревянных нар в четыре уровня, с которых под ударами дубинки младшего офицера СС градом посыпались вниз, тут же вставая навытяжку, заключенные, оборванные, голые и полуголые, некоторые с перепачканными дерьмом ногами. С пропитанных влагой бетонных сводов капало. Перед топчанами, в месте пересечения с главным туннелем, лежали большие металлические цистерны, разрезанные вдоль надвое, они служили туалетом, липкая, желтая, зеленая, коричневая, зловонная жидкость уже чуть ли не переливалась через край. Один из ассистентов Шпеера воскликнул: «Просто дантовский ад!», другой, немного поодаль, блевал у стены. Я тоже почувствовал прежнюю тошноту, но совладал с собой и дышал сквозь зубы, со свистом и глубоко. Шпеер повернулся к Фёршнеру: «Заключенные живут здесь?» – «Да, герр рейхсминистр». – «Они не выходят наружу?» – «Никогда, герр рейхсминистр». Мы продолжили путь, Фёршнер оправдывался перед рейхсминистром, что, мол, у них нет средств, чтобы обеспечить необходимые санитарные условия, и эпидемии косят заключенных. Он даже показал нам трупы, сваленные кучей у входа в перпендикулярные штольни, человеческие скелеты, обтянутые морщинистой кожей, не все даже брезентом накрыты. В одной из штолен с нарами разливали суп: Шпеер попросил попробовать. Проглотил ложку, вторую предложил мне; я еле сдержался, чтобы не выплюнуть эту баланду, горькую и мерзкую на вкус, будто сваренную из сорняков, – и даже на дне кастрюли не обнаружилось ничего более солидного. Так, еле переводя дух, шлепая по грязи и нечистотам мимо тысяч заключенных с лицами, лишенными всякого выражения, механически стаскивающих с голов пилотки, мы и продвигались вдоль туннеля до завода «юнкерсов». Я разглядывал знаки отличия: кроме немцев здесь были французы, бельгийцы, итальянцы, голландцы, чехи, поляки, русские и даже испанцы-республиканцы, после поражения интернированные во Францию. И разумеется, ни одного еврея: в тот период в Рейхе на рабочих-евреев существовал запрет. В поперечных штольнях, за спальными местами, заключенные под руководством штатских инженеров выполняли сборку и монтаж ракет; дальше в оглушительном шуме и в непроницаемом облаке пыли настоящая армия муравьев рыла новые галереи и грузила камни в вагонетки, которые другие заключенные толкали по наспех проложенным рельсам. На обратном пути Шпеер решил посетить изолятор на сорок мест, условия в нем были ничуть не лучше. Главный врач показал статистику по смертности и заболеваемости: особенно свирепствовали дизентерия, тиф и туберкулез. Выйдя из туннеля, Шпеер дал волю гневу, говорил он не повышая голоса, но очень резко: «Оберштурмбанфюрер Фёршнер! Этот завод – нечто чудовищное! Я никогда не видел ничего подобного. И вы рассчитываете, что люди в подобном состоянии будут работать, как следует?» Под потоком брани Фёршнер инстинктивно вытянулся по стойке смирно. «Герр рейхсминистр, – отозвался он, – я готов улучшить условия, но мне не выделяют средства. Вы не можете считать меня ответственным за ситуацию». Шпеер побледнел как полотно. «Отлично! – гаркнул он. – Приказываю вам в срочном порядке построить здесь наверху лагерь с душем и прочими санитарными условиями. Подготовьте для меня сейчас же заявку на требующиеся стройматериалы, я подпишу ее до отъезда». Фёршнер проводил нас в комендатуру и отдал соответствующие распоряжения. Пока разъяренный Шпеер общался со своими помощниками и инженерами, я отвел Фёршнера в сторону: «Я же вам специально поручил от имени рейхсфюрера придать лагерю надлежащий вид. А это просто свинарник». Но Фёршнер не смутился: «Оберштурмбанфюрер, вам не хуже моего известно, что нельзя выполнить приказ без достаточного финансирования. А волшебной палочки, уж извините, у меня нет. Сегодня утром я велел вымыть штольни, но на большее я не способен. Если рейхсминистр обеспечит нас материалами, тем лучше». К нам присоединился Шпеер: «Я позабочусь, чтобы лагерь получал добавочный рацион». Он обернулся к стоявшему рядом гражданскому инженеру: «К заключенным, находящимся в вашем подчинении, Заватски, это относится в первую очередь. Нельзя требовать от больных и умирающих выполнения работ по сложному монтажу». Штатский кивнул: «Разумеется, герр рейхсминистр. Наша основная проблема – текучка кадров. Мы вынуждены часто менять рабочих и даже не успеваем их правильно обучить». Шпеер обратился к Фёршнеру: «Это вовсе не означает, что вы должны пренебречь теми, кто занят на строительстве штолен. Вы и им, по мере возможности, увеличите рацион. Я обсужу данный вопрос с бригадефюрером Каммлером». – «Есть, герр рейхсминистр», – откликнулся Фёршнер. Выражение его лица по-прежнему оставалось непроницаемым, а Заватски явно был рад. На улице, что-то царапая в блокнотах и жадно глотая холодный воздух, нас ожидали люди Шпеера. Я поежился: наступала зима.
В Берлине рейхсфюрер снова завалил меня поручениями. Я сообщил ему о визите Шпеера в лагерь, и в ответ получил лишь один комментарий: «Рейхсминистр должен знать то, что хочет». Теперь я регулярно виделся с рейхсфюрером для обсуждения вопроса рабочей силы: он желал любой ценой увеличить количество рабочих в лагерях, чтобы передавать их в распоряжение предприятиям СС, частным фабрикам и в первую очередь на новые объекты подземного строительства, которые Каммлер намеревался развивать. Гестапо умножили число арестов, но, с другой стороны, с наступлением осени, а потом зимы, смертность, упавшая летом, опять возросла, и рейхсфюрер был недоволен. Однако, когда я предлагал ему меры, спланированные моей командой и, на мой взгляд, вполне осуществимые, он не реагировал, а конкретные действия Поля и ИКЛ производили впечатление случайных, неупорядоченных и неадекватных. Однажды я воспользовался возможностью, ухватившись за замечание рейхсфюрера, покритиковать инициативы, которые я считал произвольными и не связанными друг с другом. «Поль знает, что делает», – сухо возразил рейхсфюрер. Вскоре меня вызвал Брандт и устроил мне строгий, хотя и учтивый нагоняй: «Послушайте, оберштурмбанфюрер, вы отлично работаете, но вынужден вам сказать то, что я уже сотню раз повторял бригадефюреру Олендорфу: вместо того чтобы докучать рейхсфюреру негативной и бесполезной критикой и сложными вопросами, в коих он все равно не разбирается, лучше выстраивайте с ним отношения. Принесите ему, ну, я не знаю, средневековый трактат о лечебных травах в хорошем переплете, и обсудите его вместе. Рейхсфюрер будет рад, а вам это позволит наладить с ним контакт и стать ему понятнее, что во многом облегчит вам жизнь. И потом, извините меня, когда вы выступаете с докладами, вы держитесь холодно и высокомерно, это тоже раздражает рейхсфюрера. Так вы ничего не добьетесь». Брандт продолжал в том же духе, а я молчал и думал, что он, безусловно, прав. «Еще один совет: вам бы надо жениться. Ваше отношение к этому категорически не нравится рейхсфюреру». Я напрягся: «Штандартенфюрер, я уже осведомил рейхсфюрера о причинах. Если они показались ему недостаточными, пусть он сам об этом скажет». Одна неприличная мысль заставила меня подавить улыбку. Брандт же не улыбался и пялился на меня, как сова, через свои большие круглые очки. Блики света мешали мне различить выражение глаз Брандта, в стеклах я видел лишь собственное удвоенное отражение. «Вы допускаете ошибку, Ауэ, допускаете ошибку. Но это ваш выбор».
Отношение Брандта меня обидело, по-моему, оно было совершенно несправедливо: нечего вмешиваться в мою личную жизнь, которая именно теперь протекала на редкость приятно. По воскресеньям я плавал в бассейне с Хеленой, а иногда и с Томасом и его очередной подружкой, после чего мы шли пить чай или горячий шоколад. Потом я вел Хелену в кино, если показывали что-нибудь стоящее, или на концерт с Караяном или Фуртвенглером, мы где-нибудь ужинали, и я провожал ее домой. Порой мы виделись и среди недели: через несколько дней после моего возвращения из Миттельбау я пригласил Хелену во Дворец принца Альбрехта в наш фехтовальный зал, и она аплодировала моим удачным выпадам. Затем в компании Томаса, отчаянно флиртовавшего в тот вечер с ее приятельницей Лизелоттой, мы отправились в итальянский ресторан. Девятнадцатого декабря мы вместе пережидали воздушную атаку англичан; в общественном убежище, где мы спрятались, Хелена сидела, прижавшись плечом к моему плечу, слегка вздрагивая при близких взрывах. По окончании атаки мы заглянули в «Эспланаду», единственный открытый ресторан, который удалось найти. Она села напротив, положив длинные белые кисти на стол, молчала и смотрела на меня прекрасными темными бездонными глазами, изучающе, с любопытством, но безмятежно. В подобные мгновения я говорил себе, что, сложись ситуация иначе, я мог бы жениться на этой женщине, иметь с ней детей, как я это сделал гораздо позже с другой, не шедшей с Хеленой ни в какое сравнение. Я встречался с ней, разумеется, не для того, чтобы понравиться Брандту или рейхсфюреру, выполнить долг или удовлетворять условностям: наши встречи стали частью повседневной жизни, простой и нормальной, как у всех мужчин. Но моя жизнь давно пошла по другому пути, и теперь уже было слишком поздно. Когда Хелена смотрела на меня, у нее тоже наверняка возникали похожие мысли, или, точнее, женские мысли, отличавшиеся от мужских в большей степени тональностью и окраской, чем содержанием. Мужчине, даже такому, как я, трудно их вообразить. И все же я пытался: вот мужчина, окажусь ли я в его кровати, отдамся ли ему? «Отдаваться кому-то» – странное выражение; но, возможно, то, что мужчина не вполне понимает его значение и сам хочет, чтобы им овладели, и открыло бы ей глаза. Мысль об этом, вообще-то, не вызывала у меня горечи, скорее печаль, чувство почти отрадное. Иногда на улице Хелена, не задумываясь, совершенно естественно брала меня за руку, и я, к собственному удивлению, жалел о той другой жизни, которую мог бы иметь, если бы что-то не надломилось во мне так рано. Дело не только в сестре, здесь надо брать шире, речь обо всем ходе событий, об убожестве тела и желаний, о принятых и уже неизменных решениях, о самом смысле, которым мы осмелились наделить процесс, называемый, быть может ошибочно, нашей жизнью.
Пошел снег, но было тепло, и он сразу растаял. В следующий раз пролежал одну или две ночи, ненадолго придав городским руинам какую-то волшебную красоту, и снова растаял; густой грязи, уродовавшей развороченные улицы, стало еще больше. В своих грубых кавалерийских сапогах я смело шагал по лужам: ординарец вычистит назавтра. Но Хелена носила туфли, и когда мы подходили к очередной глубокой луже, я искал доску, клал впереди и помогал Хелене, держа ее изящную ручку, перебраться через нее, или переносил ее, легкую, как перышко, на руках. Накануне Рождества Томас устроил вечеринку в своем новом доме в Далеме, на небольшой уютной вилле: как всегда, он сумел хорошо устроиться. Он пригласил Шелленберга с женой и многих других офицеров, я позвал Хоенэгга, а Оснабругге не дозвонился – наверное, он еще не вернулся из Польши. Томас, похоже, добился своего от Лизелотты, подружки Хелены, во всяком случае, войдя в дом, она страстно его поцеловала. Хелена надела новое платье – бог знает, где она нашла ткань, дефицит ощущался все сильнее. Она очаровательно улыбалась и казалась счастливой. Все мужчины, в кои-то веки, были в штатском. Не успели мы явиться, как завыли сирены. Томас нас успокоил, объяснив, что самолеты, прилетающие из Италии, крайне редко сбрасывают первые бомбы до Шёнеберга и Темпельхофа, а те, что из Англии, берут севернее Далема. Однако, хотя окна и маскировали плотные черные занавески, мы притушили свет. Загрохотал «Флак», Томас поставил пластинку, бешеный американский джаз, и потащил Лизелотту танцевать. Хелена пила белое вино и наблюдала за ними; потом Томас выбрал медленную музыку, и Хелена позвала танцевать меня. Снаружи ревели эскадры бомбардировщиков, без перерыва гремел «Флак», стекла дрожали, мы еле различали мелодию. Но Хелена танцевала так, будто мы были одни в зале на балу. Потом, пока я обменивался тостом с Хоенэггом, она вальсировала с Томасом. Томас не ошибся: на севере мы не столько слышали, сколько ощущали чудовищную глухую тряску, но в окрестностях ни одного снаряда не упало. Я глянул на Шелленберга: он поправился, успехи в карьере не способствовали умеренности. Сейчас он со своими подчиненными подтрунивал над нашими поражениями в Италии. Шелленберг, как я в итоге понял по замечаниям, изредка отпускаемым Томасом, пребывал в уверенности, что ключи от будущего Германии в его руках и если к нему и его неопровержимым аргументам прислушаются, то хватит времени спасти то, что еще можно спасти. Сам факт, что он говорил подобные вещи, меня покоробил: но, похоже, рейхсфюрер к нему прислушивался, и я спрашивал себя, насколько широко раскинулась сеть его интриг. Когда тревога закончилась, Томас попытался дозвониться в РСХА, но линии оборвало. «Эти негодяи все специально организовали, чтобы испортить нам Рождество, но даром им это не пройдет». Я посмотрел на Хелену: она сидела рядом с Лизелоттой и оживленно болтала. «Такая чудесная девочка, – ввернул Томас, проследив за моим взглядом. – Почему ты на ней не женишься?» Я улыбнулся: «Томас, занимайся своими проблемами». Он пожал плечами: «По крайней мере, пусти слух, что ты помолвлен. И Брандт прекратит тебя нервировать». Я успел пересказать Томасу разговор с Брандтом. «А ты? – парировал я. – Ты на год меня старше. И тебе не докучают?» Он засмеялся: «Я-то? Не сравнивай. Во-первых, всем широко известно, что я органически неспособен оставаться с одной девушкой больше месяца. Но главное, – он понизил голос, – ведь ты разболтаешь мою тайну: я уже двоих отправил в „Lebensborn“. Рейсхфюрер, похоже, доволен». Томас опять завел джаз, я подумал, что наверняка эта пластинка из конфискованных гестапо и Томас раздобыл ее на складе. Я снова пригласил Хелену танцевать. В полночь Томас погасил везде свет. Весело вскрикнула девушка, потом я уловил приглушенный смешок. Хелена была так близко: на короткое мгновение я почувствовал на лице ее теплое, нежное дыхание, ее губы коснулись моих. У меня сердце выпрыгивало из груди. Когда включили свет, Хелена сказала мне с серьезным и невозмутимым видом: «Мне пора. Я не предупредила родителей, они будут волноваться из-за воздушной тревоги». Я взял машину Пионтека. Мы поднялись к центру по Курфюрстендам, справа от нас алели отблески пожаров, зажженных взрывами. Опять начался снег. Несколько бомб упало на Тиргартен и Моабит, но ущерб, в сравнении с масштабными налетами прошлого месяца, казался ничтожным. Возле дома Хелена взяла меня за руку и быстро поцеловала в щеку: «Счастливого Рождества! До скорого». Я возвратился на попойку в Далем и коротал ночь на ковре, уступив диванчик какой-то секретарше, расстроенной тем, что Лизелотта вытеснила ее из спальни хозяина дома.
Несколькими днями позже Клеменс и Везер явились ко мне с повторным визитом, на этот раз предварительно записавшись у фрейлейн Праксы, которая, вращая глазами, ввела их в мой кабинет. «Мы пытались связаться с вашей сестрой, – сообщил Клеменс вместо приветствия. – Но ее нет». – «Вполне вероятно, – ответил я. – У нее муж инвалид, и она часто сопровождает его на лечение в Швейцарию». – «Мы обратились в посольство в Берне с просьбой найти ее, – сердито сказал Везер, крутанув узкие плечи вперед и назад. – Мы бы очень хотели пообщаться с ней». – «Неужели это так важно?» – поразился я. «Да опять всплыла чертова история с близнецами», – Клеменс по-берлински грубо изрыгал слова. «Мы не можем разобраться», – добавил Везер. Клеменс вытащил блокнот и зачитал: «Французская полиция провела расследование». – «Хоть и поздновато», – встрял Везер. «Но лучше поздно, чем никогда. По всей видимости, близнецы жили у вашей матери, по меньшей мере, с тысяча девятьсот тридцать восьмого года, с тех пор, как пошли в школу. Ваша мать говорила, что они – ее внучатые племянники, сироты. А кое-кто из соседей думает, что их привезли еще раньше, совсем крошками, в тридцать шестом или тридцать седьмом». – «Не странно ли это, – съязвил Везер, – что вы их раньше не видели?» – «Нет, – сухо произнес я. – Ничего странного. Я не навещал мать». – «Никогда? – буркнул Клеменс. – Прямо-таки никогда?» – «Именно так». – «За исключением того самого раза, – прошипел Везер. – За несколько часов до ее насильственной смерти? Знаете, это очень любопытно». – «Господа, – возразил я, – ваши инсинуации совершенно неуместны. Не знаю, где вас учили ремеслу, но ваше поведение абсурдно. К тому же вы не имеете права меня допрашивать без распоряжения суда СС». – «Точно, – признал Клеменс, – но мы же не возбуждаем против вас дела. Вы у нас сейчас проходите как свидетель». – «Да, – повторил Везер, – как свидетель, и только». – «Мы просто считаем, – продолжил Клеменс, – что в деле есть много белых пятен, и стараемся их восполнить». – «Например, история с близнецами, – опять начал Везер. – Допустим, они действительно внучатые племянники вашей матери…» – «Хотя мы не нашли у нее никаких братьев и сестер, но допустим», – перебил Клеменс. «Слушайте, вы же должны знать?» – воскликнул Везер. «Что именно?» – «Есть ли у вашей матери брат или сестра?» – «Я вроде слышал о брате, но ни разу его не видел. Мы покинули Эльзас в тысяча девятьсот восемнадцатом году, и после этого моя мать, насколько мне известно, не общалась с семьей, оставшейся во Франции». – «Допустим, – согласился Везер, – что они и вправду внучатые племянники. Но мы не обнаружили ни одного документа, подтверждающего сей факт, ни свидетельства о рождении, ничего». – «И ваша сестра, – отрубил Клеменс, – не предъявила никаких бумаг, когда забирала их с собой». Везер лукаво улыбнулся: «Для нас же близнецы – потенциальные и очень важные свидетели, которые исчезли». – «В неизвестном направлении, – буркнул Клеменс. – Немыслимо, что французская полиция дала им так просто улизнуть». – «Да, – подтвердил Везер, взглянув на своего коллегу, – но что сделано, то сделано. Чего к этому возвращаться». Клеменс выпалил без передышки: «Однако в итоге все неприятности валятся на нас». – «В общем, – повернулся ко мне Везер, – если вы будете с ней говорить, передайте, чтобы связалась с нами. Я имею в виду вашу сестру». Я кивнул. Больше сказать им, очевидно, было нечего, и я закончил нашу встречу. Я так еще и не звонил сестре, но теперь сделать это необходимо, ведь если полицейские разыщут Уну, и ее показания не совпадут с моими, подозрения Клеменса и Везера усилятся. Вдруг они предъявят мне обвинение, – подумал я с ужасом. Но где же найти Уну? У Томаса наверняка есть контакты в Швейцарии, он мог бы обратиться к Шелленбергу. Ситуация стала какой-то нелепой, а вопрос с близнецами – просто животрепещущим.
За три дня до Нового года пошел довольно сильный снег и на этот раз не растаял. Вдохновленный своим удачным Рождеством, Томас решил опять собрать всех у себя: «Воспользуемся моей халупой по полной, пока она не погорела». Я попросил Хелену предупредить родителей, что она вернется поздно. Праздник получился очень веселый. Незадолго до полуночи наша компания, вооружившись шампанским и корзинками с балтийскими устрицами, отправилась пешком в Груневальд. Под деревьями лежал девственно чистый снег, прояснившееся небо освещала почти полная луна, ее голубоватый свет стелился по белой равнине. На опушке Томас лихо отбил саблей горлышко бутылки с шампанским, он прихватил настоящую кавалерийскую саблю, висевшую на стене в оружейной комнате. Менее ловкие пыхтели, пытаясь открыть устричные раковины – сложное и опасное искусство для не имеющих сноровки. В полночь вместо салюта артиллеристы люфтваффе зажгли прожекторы, выпустили в воздух сигнальные ракеты и дали несколько залпов из 88-миллиметровых зениток. Теперь Хелена поцеловала меня открыто, поцелуем коротким, но крепким и радостным, мое тело будто пронзил разряд удовольствия и страха. Удивительно, – думал я, отхлебывая вино, чтобы скрыть смущение, – я-то считал, что любые человеческие ощущения мне чужды, и тут поцелуй женщины все во мне переворачивает. Остальные смеялись, кидали друг в друга снежки и глотали устриц прямо из раковин. Хоенэгг, напяливший на лысую овальную голову траченную молью русскую шапку, оказался наиболее ловким добытчиком. «Это же почти как вскрывать грудную клетку», – шутил он. Шелленберг глубоко порезал основание большого пальца и теперь, попивая шампанское, оставлял на снегу капли крови, причем никому и в голову не пришло его перевязать. Я развеселился, тоже принялся бегать и обстреливать всех снежками, чем больше мы пили, тем бешенее становилась игра, мы хватали друг друга за ноги, как в регби, запихивали горстями снег за шиворот, наши пальто вымокли, но мы не чувствовали холода. Я толкнул Хелену в пушистый снег, споткнулся и рухнул рядом с ней; она лежала в сугробе на спине, раскинув руки, и хохотала; при падении ее длинная юбка задралась, и я неосознанно положил ладонь на оголившееся колено, защищенное только чулком. Она повернула голову и смотрела на меня, не переставая смеяться. Я убрал руку, помог Хелене подняться. На виллу мы не возвращались, пока не допили последнее шампанское; пришлось еще удерживать Шелленберга, который непременно хотел стрелять по пустым бутылкам; Хелена шагала по сугробам, уцепившись за мою руку. Дома Томас галантно уступил свою спальню и комнату для гостей уставшим девушкам, заснувшим, не раздеваясь, по трое на кровати. Остаток ночи я играл в шахматы и беседовал о «Троице» Августина с Хоенэггом, который сунул голову под холодную воду и теперь пил чай. Так начался 1944 год.
После визита в Миттельбау Шпеер со мной больше не связывался; в начале января он позвонил, чтобы пожелать мне счастливого Нового года и попросить об услуге. Его министерство направило ходатайство в РСХА об отмене депортации из Амстердама нескольких евреев, специализировавшихся на покупке металлов и имевших важные контакты в нейтральных странах; РСХА просьбу отклонило, сославшись на ухудшение ситуации в Голландии и необходимость проявлять там особую непреклонность. «Это смешно, – голос Шпеера звучал устало. – Какую опасность могут представлять для Германии три еврея, спекулирующие металлами? Сейчас их содействие очень ценно для нас». Я попросил Шпеера прислать мне копии писем, пообещав сделать все, что в моих силах. Письмо с отказом РСХА шло за подписью Мюллера, но с шифром отправителя IV Б-4a. Я позвонил Эйхману и начал с новогодних поздравлений. «Благодарю, оберштурмбанфюрер, – прозвучала мне в ответ забавная смесь австрийского и берлинского акцентов. – А я вас поздравляю с повышением». Потом я изложил Эйхману дело Шпеера. «Решение выносил не я, – сообщил Эйхман. – Вероятно, это гауптштурмфюрер Моэс, он занимается индивидуальными случаями. Но он, естественно, прав. Вы знаете, сколько прошений подобного рода мы получаем? Если каждый раз мы будем соглашаться, то скоро не сможем притронуться ни к одному еврею, и придется прикрыть нашу лавочку». – «Я отлично все понимаю, оберштурмбанфюрер. Но здесь речь о личном ходатайстве министра вооружений и военного производства». – «Ну да. Видимо, кто-то из их людей в Голландии поусердствовал и вот шаг за шагом поднялся до самого министра. Но тут уже чистой воды соперничество между департаментами. Нет, вы знаете, мы не можем пойти навстречу. К тому же ситуация в Голландии прескверная. Всякие разные группировки беспрепятственно разгуливают на свободе, это никуда не годится». Я настаивал, но Эйхман уперся. «Нет. Если мы согласимся, опять пойдут разговоры, что кроме фюрера среди немцев не существует убежденных антисемитов. Нет, нельзя».
Чего он хотел добиться? В любом случае Эйхман сам ничего бы здесь не решил и знал это. «Слушайте, изложите-ка все письменно и пришлите нам», – в итоге, превозмогая себя, предложил он. Я решил написать напрямую Мюллеру, но Мюллер дал мне такой же ответ: нельзя делать исключения. Я колебался, обращаться ли к рейхсфюреру или нет, и рассудил, что надо еще раз связаться со Шпеером и определить, насколько ему нужны эти евреи. Но в министерстве мне сообщили, что Шпеер в отпуске по болезни. Я навел справки: его госпитализировали в Хоенлихен, госпиталь СС, где меня лечили после Сталинграда. Я купил букет цветов и отправился навестить больного. Шпеер занимал просторные апартаменты в частном крыле, где расположились еще его личная секретарша и несколько ассистентов. Секретарша объяснила мне, что после рождественского путешествия в Лапландию у рейхсминистра обострилось старое воспаление в колене; ему становилось все хуже, и доктор Гебхардт, прославленный специалист в области заболеваний коленной чашечки, считает, что речь идет о ревматоидном воспалении. Я нашел Шпеера в отвратительном настроении: «Оберштурмбанфюрер, вы? С Новым годом. Ну и?..» Я рассказал, что РСХА позиции не меняет; может быть, ему удастся встретиться с рейхсфюрером и самому замолвить словечко. «Думаю, у рейхсфюрера и без того забот хоть отбавляй, – грубо парировал он. – И у меня тоже. Я отсюда должен руководить министерством, как видите. Если вы самостоятельно не можете уладить дело, тогда бросьте как есть». Я посидел еще несколько минут и ушел: мое присутствие явно было ему в тягость.
Однако состояние Шпеера стремительно ухудшалось; когда я перезвонил через пару дней справиться о новостях, секретарша объявила, что он не принимает звонки. Я связывался с госпиталем еще два-три раза: мне сказали, что рейхсминистр в коме, его жизнь висит на волоске. Мне показалось странным, что воспаление колена, даже ревматоидное, привело к таким последствиям. Хоенэгг, с которым я поделился сомнениями, с вердиктом не спешил: «Если отдаст богу душу, – прибавил он, – и мне позволят сделать вскрытие, я вам отвечу, что с ним было». У меня, кстати, тоже проблем накопилось по горло. Вечером 30 января англичане опять провели наиболее массированную с ноября месяца воздушную атаку; я снова лишился окон, и часть балкона обрушилась. На следующий день меня вызвал Брандт и любезно осведомил, что суд СС просит рейхсфюрера санкционировать возбуждение против меня уголовного дела по факту убийства моей матери. Я покраснел и вскочил со стула: «Штандартенфюрер! Эта гнусная история – плод нездорового воображения полицейских-карьеристов. Я готов к судебным разбирательствам, чтобы очистить свое имя от всяческих подозрений. Но в таком случае прошу дать мне отпуск, пока меня не оправдают. Недопустимо, чтобы рейхсфюрер в своем личном штабе держал человека, обвиняемого в столь ужасном преступлении». – «Успокойтесь, оберштурмбанфюрер. Решение пока не принято. Объясните-ка лучше, что произошло». Я сел на прежнее место и пересказал Брандту ход событий, придерживаясь версии, представленной мной раннее полицейским. «Им не дает покоя моя поездка в Антиб. Мы с матерью действительно долгое время находились в натянутых отношениях. Но вы знаете, какое ранение я получил в Сталинграде. Близость смерти всегда заставляет задуматься: я обещал себе во что бы то ни стало исправить ситуацию. Увы, теперь мать ушла из жизни, и какая… неслыханная жестокость». – «Почему же, по-вашему, это случилось?» – «Не имею ни малейшего понятия, штандартенфюрер. Вскоре после того я начал работать на рейхсфюрера и больше в Антиб не возвращался. Сестра, присутствовавшая на похоронах, говорила мне о партизанах и сведении счетов: наш отчим поставлял вермахту множество разной продукции». – «Да, к сожалению, это вполне вероятно. Подобного рода вещи происходят во Франции все чаще». Брандт поджал губы, наклонил голову, на стеклах его очков заиграли отблески света. «Послушайте, я уверен, что перед тем, как принять решение, рейхсфюрер захочет с вами поговорить. А пока я бы вам посоветовал навестить судью, посылавшего запрос. Речь идет о господине Баумане из берлинского суда СС и полиции. Он человек кристальной честности: если вы и вправду жертва злого умысла, то, возможно, вам самому удастся убедить его в этом».
Я незамедлительно встретился с судьей Бауманом. Он принял меня в своем рабочем кабинете в суде, пожилой юрист, в форме штандартенфюрера, лицо квадратное с кривым носом, вид воинственный. Я надел лучшую форму и все награды. Я поздоровался, после чего меня пригласили сесть. «Спасибо, что приняли меня, господин судья», – я предпочел обратиться к нему именно так, а не по званию СС. «Пожалуйста, оберштурмбанфюрер. Это в порядке вещей». Он открыл папку на столе. «Я запросил ваше личное дело. Надеюсь, вы не сердитесь». – «Вовсе нет, господин судья. Позвольте, я скажу вам то, что намеревался сказать рейхсфюреру: я считаю подобные обвинения, касающиеся глубоко личного вопроса, совершенно омерзительными. Я готов сотрудничать с вами любыми возможными способами, чтобы полностью их опровергнуть». Бауман кашлянул: «Вы прекрасно понимаете, что я еще не отдал приказа о дознании. Я не могу этого сделать без согласия рейхсфюрера. Досье, которым я располагаю, тонюсенькое. Я обратился к рейхсфюреру после ходатайства криминальной полиции, они утверждают, что у них имеются веские факты, но следователям нужно уточнить детали». – «Господин судья, я дважды беседовал со следователями. Все, что они предъявляют мне в качестве обвинений, – грязные инсинуации без доказательств и без оснований, выдумки сумасшедших, уж извините меня». – «Вполне вероятно, – примирительно сказал он. – Я тут вижу, что вы очень успешно окончили университет. Если бы и дальше продолжили изучать право, то мы бы наверняка стали коллегами. Я отлично знал доктора Йессена, вашего бывшего профессора. Замечательный юрист». Он продолжал листать досье: «Извините, а не воевал ли ваш отец во фрайкоре Россбаха в Курляндии? Я помню одного офицера по фамилии Ауэ», – и Бауман назвал имя. Мое сердце бешено колотилось. «Это действительно мой отец, господин судья. Но мне ничего неизвестно о том, что вы спрашиваете. Отец пропал в тысяча девятьсот двадцать первом году, с тех пор у меня нет от него вестей. Может, это и вправду он. Вы знаете что-нибудь о его судьбе?» – «К сожалению, нет. Я потерял его из виду во время отступления в декабре девятнадцатого года. Тогда он еще был жив. Я еще слышал, что он участвовал в Капповском путче [84]. Там оказались многие балтикумеры» [85]. Он задумался. «Вы можете заняться поисками. Ассоциации ветеранов фрайкоров до сих пор существуют». – «Да, господин судья. Превосходная идея». Он снова откашлялся, поудобнее устроился в кресле. «Хорошо. Но давайте, пожалуй, вернемся к вашему делу. Вам есть что добавить?» Я воспроизвел историю, ранее рассказанную Брандту. «Чудовищно, – вымолвил после паузы Бауман, – Вы, должно быть, потрясены». – «Естественно, господин судья. И – в не меньшей степени – обвинениями этих двух защитников общественного порядка, которые ни дня, я уверен, не воевали, но позволяют себе порочить офицера СС». Бауман поскреб подбородок: «Я понимаю, как все это оскорбительно для вас, оберштурмбанфюрер. Но кто знает, не лучшим ли выходом будет пролить свет на это дело». – «Мне нечего бояться, господин судья. Я подчинюсь решению рейхсфюрера». – «Вы правы». Бауман встал и проводил меня до двери. «У меня сохранились старые фотографии из Курляндии. Если хотите, я взгляну, нет ли среди них того Ауэ». – «Господин судья, буду признателен». В коридоре он пожал мне руку. «Не тревожьтесь, оберштурмбанфюрер. Хайль Гитлер!» Разговор с рейхсфюрером состоялся на следующий день и был коротким и ясным. «Что за смехотворная история, оберштурмбанфюрер?» – «Меня обвиняют в убийстве, рейхсфюрер. Это выглядело бы комично, если бы тут не было моей личной трагедии». Я вкратце описал ему обстоятельства дела. Гиммлер моментально принял решение: «Оберштурмбанфюрер, у меня уже сложилось о вас определенное мнение. У вас есть недостатки: вы, извините меня за выражение, тот еще упрямец и иногда педант. Но я не вижу в вас ни малейшего следа нравственных пороков. Что касается расы, вы – отличный нордический экземпляр, может быть, с каплей альпийской крови. Только нации вырождающихся рас, поляки, цыгане, способны совершить матереубийство. Ну или еще вспыльчивый итальянец во время ссоры, но никак не хладнокровный ариец. Нет, это абсурд. Крипо не хватает здравомыслия. Надо дать соответствующие инструкции группенфюреру Небе, чтобы он обучал своих людей расовому анализу, тогда они не будут напрасно тратить время. Разумеется, я не санкционирую расследование. Нам только этого еще недоставало».
Бауман позвонил мне несколькими днями позже. Скорее всего, это происходило где-то в середине февраля, потому что, как мне запомнилось, незадолго до того была массовая атака, в ходе которой разбомбили отель «Бристоль», где как раз шел официальный банкет. Около шестидесяти человек, среди прочих группа известных генералов, погибли под обломками. Бауман, похоже, был в хорошем настроении и искренне поздравил меня. «Мне, собственно, и самому ваше дело казалось нелепицей, – звучал голос в трубке. – Я рад за вас, рейхсфюрер проявил такую категоричность. И ненужным пересудам положен конец». Что до фотографий, он нашел одну с Ауэ, но размытую, на ней почти ничего не различить; он даже не вполне уверен, Ауэ ли на снимке, но обещал сделать копию и отослать мне.
Недовольны решением рейхсфюрера были только Клеменс и Везер. Как-то вечером я столкнулся с ними на улице возле здания СС, руки в карманах длинных пальто, плечи и шляпы припорошены снегом. «Гляньте-ка, – воскликнул я шутливо, – Лорел и Гарди. Что вас сюда привело?» На этот раз они со мной не поздоровались, Везер ответил: «Хотели пожелать вам „доброго вечера“, оберштурмбанфюрер, но ваша секретарша отказалась записать нас на прием». Я сделал вид, что не заметил опущенное «герр». «Она абсолютно права, – сказал я свысока. – Думаю, что нам нечего больше друг другу сказать». – «Ну, видите ли, оберштурмбанфюрер, – проворчал Клеменс, – мы-то как раз думаем иначе». – «В таком случае, господа, я посоветовал бы вам обратиться за разрешением к судье Бауману». Везер потряс головой: «Мы уже поняли, оберштурмбанфюрер, что судья Бауман скажет „нет“. Вы, как бы так выразиться, неприкасаемы». – «И все же, – подхватил Клеменс, при выдохе пар заволакивал его широкое, с коротким приплюснутым носом лицо, – это непорядок, оберштурмбанфюрер, вы же понимаете. Надо бы восстановить справедливость». – «Я совершенно с вами согласен. Но ваша вздорная клевета ничего общего не имеет со справедливостью». – «Клевета, оберштурмбанфюрер? – Везер поднял брови. – Клевета? Вы так уверены? А, по моему мнению, если бы судья Бауман действительно прочитал ваше дело, у него бы закрались сомнения». – «Ну да, – подтвердил Клеменс. – У него бы, например, возникли вопросы об одежде». – «Одежда? О какой одежде вы говорите?» Вместо него ответил Везер: «О той, которую французская полиция обнаружила в ванне, в туалетной комнате на первом этаже. Штатская одежда… – он обернулся к Клеменсу, – блокнот». Клеменс вытащил блокнот из внутреннего кармана и протянул напарнику. Везер перевернул несколько страниц: «А, да, вот: одежда, запятнанная кровью. „Запятнанная“ – слово, которое я искал». – «То есть перепачканная кровью», – уточнил Клеменс. «Оберштурмбанфюрер понял, Клеменс, – просипел Везер. – Оберштурмбанфюрер учился в университете. У него хороший словарный запас». Он снова углубился в блокнот: «Итак, штатскую одежду с пятнами крови бросили в ванну. К тому же кровь имелась на плиточном полу, стенах, в раковине, на полотенцах. И внизу, в гостиной и при входе тоже, и практически везде обнаружены кровавые отпечатки подошв. Мужские ботинки, их тоже нашли с одеждой, но еще имелись следы сапог. Грубых сапог». – «Ну и что, – я пожал плечами, – убийца переобулся, прежде чем уйти, чтобы не привлекать внимания». – «Ты видишь, Клеменс, я же тебе говорил, что оберштурмбанфюрер – умный человек. Ты должен меня слушать». Он повернулся в мою сторону и взглянул на меня из-под шляпы. «Все эти вещи немецкой марки, оберштурмбанфюрер». Он опять полистал блокнот: «Костюм, брюки и пиджак, коричневый, шерстяной, хорошего качества, этикетка немецкого портного. Рубашка белая, немецкого производства. Галстук шелковый, немецкого производства, пара хлопчатобумажных носков, немецкого производства, трусы, немецкого производства. Пара уличных ботинок из коричневой кожи, сорок второго размера, немецкого производства». Он поднял на меня глаза: «Вы какой размерчик обуви носите, оберштурмбанфюрер? Позвольте-ка спросить. А пиджака?» Я улыбнулся: «Господа, не знаю, из какой дыры вы вылезли, но советую вам убраться туда, как можно быстрее. Паразитов в Германии больше не терпят». Клеменс нахмурился: «Скажи-ка, Везер, он нас вроде оскорбляет?» – «Да. Он нас оскорбляет. Он нам даже угрожает. В итоге прав ты: он, похоже, не такой умный, как кажется, оберштурмбанфюрер, – Везер коснулся пальцем шляпы. – Доброго вам вечера, оберштурмбанфюрер. И возможно, до скорого».
Я смотрел, как они брели под снегом к Циммерштрассе. Ко мне подошел Томас, с которым у меня была назначена встреча: «Кто это?» – кивнул он в направлении двух силуэтов. «Зануды. Психи. Ты не можешь засунуть их в концлагерь для усмирения?» Томас пожал плечами: «Если у тебя есть достаточное основание, организуем. Пойдем ужинать?» Томаса и вправду мало интересовали мои проблемы, в отличие от проблем Шпеера. «Там такая каша заварилась, – сообщил он мне в ресторане. – Разобраться очень трудно, но явно нашлись те, кто считает госпитализацию Шпеера весьма благоприятным моментом». – «Благоприятным моментом?» – «Чтобы его сместить. Шпеер нажил много врагов. Борман против него. Заукель тоже. И все гауляйтеры, кроме Кауфмана и, пожалуй, Ханке». – «А рейхсфюрер?» – «Пока рейхсфюрер его поддерживал, но все может измениться». – «Если честно, я не слишком понимаю, к чему эти интриги, – задумчиво произнес я. – Достаточно взглянуть на цифры: без Шпеера мы бы уже проиграли войну, я уверен. Теперь ситуация откровенно критическая. И Германия должна объединиться перед лицом такой опасности». Томас улыбнулся: «Ты по-прежнему остаешься идеалистом. И очень хорошо! Но большинство гауляйтеров не видит ничего дальше личных интересов или интересов своих гау». – «Ладно, вместо того, чтобы противиться усилиям Шпеера поднять производство, лучше бы вспомнили, что если мы проиграем, то все, и они в том числе, кончат на виселице. Наверное, это должно заботить их первым делом, нет?» – «Конечно. Но тебе не следует забывать, что речь идет кое о чем еще. Тут вопрос политического видения. Не все согласны с прогнозами Шелленберга и решениями, за которые он ратует». Вот мы и добрались до главного пункта, – сказал я себе и зажег сигарету. «И какие же прогнозы у твоего друга Шелленберга? А решения?» Томас оглянулся по сторонам. Впервые на моей памяти он имел несколько встревоженный вид. «Шелленберг уверен, что если мы будем продолжать в том же духе, то проиграем войну, каковы бы ни были индустриальные подвиги Шпеера. По мнению Шелленберга, единственный реальный выход из сложившейся ситуации – сепаратный мир с Западной Европой». – «А ты? Ты что думаешь?» Томас помолчал: «Он прав. Впрочем, из-за этой истории на меня уже косо поглядывают в некоторых кругах в гестапо. Шелленберг пользуется доверием рейхсфюрера, но пока еще его не убедил. И многие другие, к примеру Мюллер и Кальтенбруннер, совершенно с ним не согласны. Кальтенбруннер пытается сблизиться с Борманом. Если ему это удастся, то он создаст рейхсфюреру новые препоны. На их фоне проблемы Шпеера отойдут на второй план». – «Я не соглашусь, что Шелленберг прав. Но остальные, есть ли у них решение? Учитывая промышленный потенциал американцев, что бы Шпеер ни предпринимал, время оборачивается против нас». – «Не знаю, – протянул Томас. – Предполагаю, они верят в чудесное оружие. Ты же его видел. Что скажешь?» Я пожал плечами: «Понятия не имею, на что оно годится». Принесли еду, и мы сменили тему. За десертом Томас, лукаво улыбнувшись, вернулся к Борману: «Слушай, Кальтенбруннер собирает досье на Бормана. Я ему немного помогаю». – «На Бормана? Ты же сейчас мне говорил, что Кальтебруннер хочет с ним сблизиться». – «Одно другому не мешает. У самого Бормана есть досье на всех, на рейхсфюрера, на Шпеера, на Кальтенбруннера, на тебя, если понадобится». Томас взял в рот зубочистку и теперь ловко вертел ее языком. «Так что я хотел тебе рассказать… Между нами, ладно? Нет, серьезно… Кальтенбруннер перехватил кучу писем Бормана и его жены. Среди них – настоящие перлы, блестящие образцы». Он, с едкой улыбочкой, наклонился вперед. «Борман ухлестывал за какой-то актриской. Ты знаешь, он – мужчина темпераментный, лучший случной жеребец для секретарш Рейха. Шелленберг прозвал его „осеменитель машинисток“. Короче, он ее поимел. И, что просто восхитительно, написал об этом жене, она, кстати, дочь Буша, ты его знаешь, фюрер суда чести Партии? Она уже родила ему девять или десять ребятишек, я уже сбился со счета. И вот что она отвечает, в общих чертах: очень хорошо, я не сержусь и не ревную. И предлагает взять девицу к ним в дом. И потом еще: принимая во внимание ужасное падение рождаемости в связи с войной, мы утвердим систему материнства, базирующуюся на ротации, чтобы у тебя всегда была женщина в состоянии готовности». Томас сделал паузу и сидел, улыбаясь, пока я хохотал: «Ты не шутишь?! Она действительно так и написала?» – «Клянусь тебе. Женщина в состоянии готовности. Ты представляешь?» Он тоже смеялся. «А что Борман ответил, ты знаешь?» – спросил я. «О, он, конечно, ее похвалил. Потом добавил от себя идеологических пошлостей. Кажется, назвал ее чистое дитя национал-социализма. Но скорее, чтобы сделать ей приятное. Борман же ни во что не верит. Кроме бесповоротного уничтожения всего, что может затесаться между ним и фюрером». Я посмотрел на Томаса с иронией: «А ты, во что ты веришь?» Ответ меня не разочаровал. Томас приосанился и объявил: «Цитируя раннее произведение нашего прославленного министра пропаганды: не так важно, во что мы верим, важно, что верим». Я усмехнулся, Томас порой умел произвести на меня впечатление. И я не стал от него это скрывать: «Томас, ты меня поражаешь». – «А что ты хочешь? Я рожден не для того, чтобы гнить в кабинетах. Я – истинный национал-социалист. И Борман тоже, в своем роде. Твой Шпеер – я сомневаюсь. Он талантлив, но не думаю, что его так уж интересует, какому государственному режиму он служит». Я, вспомнив о Шелленберге, опять усмехнулся. Томас продолжал: «Чем сложнее ситуация, тем больше мы должны полагаться на настоящих национал-социалистов, и только на них. Уже совсем скоро крысы побегут с корабля. Вот увидишь».
Действительно, в трюмах Рейха метались и пищали орды крыс, ощетинившихся в предчувствии грозной опасности. После предательства итальянцев и из-за нарастающей напряженности на поверхности наших отношений с другими союзниками появилась сетка тоненьких трещин. Каждый на свой лад искал двери на выход, но отнюдь не через Германию. По словам Томаса, Шелленберг подозревал, что румыны в Стокгольме ведут переговоры с большевиками. Но первыми на повестке дня стояли венгры. Войска русских взяли Луцк и Ровно; заняв Галицию, они окажутся у ворот Венгрии. Премьер-министр Каллаи уже больше года добросовестно создавал себе в дипломатических кругах репутацию ненадежного друга Германии. Отношение Венгрии к еврейскому вопросу тоже порождало множество проблем. Венгры упорно не желали изменять абсолютно неадекватное, учитывая сложившиеся обстоятельства, национальное законодательство. Венгерские евреи по-прежнему удерживали важные позиции в промышленности, а евреи-полукровки или женатые на еврейках – в правительстве. Имея огромный резерв еврейской рабочей силы, в основном квалифицированной, власти страны отказывали в ходатайствах Германии об отправке части этих специалистов на военное производство. На конференциях в начале февраля эксперты разных учреждений приступили к обсуждению венгерской темы; я тоже иногда там присутствовал или посылал одного из своих специалистов. РСХА ратовало за смену тамошнего правительства; мое участие ограничивалось изучением возможностей применения еврейских рабочих из Венгрии в случае благоприятного развития ситуации. В этой связи я неоднократно прибегал к консультациям сотрудников Шпеера. Но их предложения зачастую оказывались удивительно противоречивыми и слишком сложными для согласования. Сам Шпеер был недоступен; говорили, что ему совсем плохо. От всего этого у меня возникало ощущение, что я составляю планы впустую и провожу исследования, которые никому не нужны. Тем не менее мой отдел пополнялся, теперь у меня в подчинении находились еще три офицера, имевшие специальное образование, и Брандт обещал мне четвертого. Но при этом, несмотря на связи в СД, в реализации своих предложений я не имел должной поддержки ни от РСХА, ни от ВФХА, – разве что от Маурера, когда его все устраивало.
В начале марта ход событий ускорился, но ничего не прояснилось. Из телефонного разговора с Томасом в конце февраля я узнал, что Шпеер выкарабкался и медленно, пока еще не покидая Хоенлихена, возобновляет руководство министерством. Вместе с фельдмаршалом Мильхом они решили сформировать Jägerstab [86], специальный штаб для координации производства самолетов-истребителей. С определенной точки зрения был сделан большой шаг для того, чтобы завладеть последним сектором военного производства, еще не вошедшим в сферу влияния министерства Шпеера. С другой стороны, количество интриг удвоилось, говорили, что Геринг выступил против создания Jägerstab’а, что Заур, адъютант Шпеера, назначенный начальником, не та кандидатура, которую намечал сам рейхсминистр, и еще много чего. К тому же люди из министерства теперь уже открыто высказывали авантюрную, совершенно утопическую идею: увести все авиационное производство под землю, чтобы уберечь его от английских и американских воздушных атак. Проект подразумевал прокладывание штолен на сотнях тысяч квадратных метров. Каммлер, по слухам, горячо одобрял проект, и его бюро практически завершили необходимые исследования, после чего для всех стало очевидно, что при теперешнем состоянии дел только СС могла успешно реализовать столь безумное предприятие. Но потребности явно превышали объем наличествующей рабочей силы: надо было искать новые источники, и на сегодняшний день, коль скоро договор между Шпеером и министром Бишелоном перекрывал дальнейший доступ к французской рабочей силе, найти их можно было только в Венгрии. Таким образом, безотлагательное решение венгерской проблемы приобретало новое значение. Инженеры Шпеера и Каммлера потихоньку включали венгерских евреев в свои расчеты и планы, хотя пока ни о каком соглашении с правительством Каллаи речи не шло. В РСХА принялись изучать иные пути выхода из положения: я знал лишь некоторые детали, но Томас периодически информировал меня о развитии их планов, чтобы я мог внести поправки в свои. Сам Шелленберг непосредственно участвовал в проекте. В феврале некая темная история о валютных махинациях со Швейцарией повлекла отстранение от должности адмирала Канариса и расформирование абвера. Абвер слился с РСХА и, в частности, с Четвертым управлением, сформировав в результате службу Amt Mil, возглавившую под руководством Шелленберга все службы внешней разведки Рейха. Однако профессиональные офицеры абвера на дух не переносили СС, и Шелленбергу не удавалось установить над ними контроль. А Венгрия как раз позволила бы ему испытать способности вверенной ему новой структуры. Что касается рабочей силы, изменение политики открывало широкие перспективы: оптимисты говорили о четырехстах тысячах имеющихся в наличии рабочих, в основном уже квалифицированных или специализирующихся в конкретной области, которых можно быстро мобилизовать. Учитывая наши нужды, это было бы огромным подспорьем. Но распределение венгерских евреев, как я уже понимал, грозило стать предметом ожесточенных споров. Я выслушал многих экспертов, людей здравомыслящих и уравновешенных, они выступали против Каммлера и Заура и заявляли, что идея подземных заводов, при всей ее привлекательности, иллюзорна, и строительство не завершится настолько быстро, чтобы изменить ход событий, к тому же это недопустимое растранжиривание рабочей силы. Рабочие, разделенные на бригады, принесли бы гораздо больше пользы, ремонтируя разбомбленные фабрики, строя жилье для наших рабочих и пострадавших от бомбардировок или помогая в децентрализации жизнеобеспечивающих предприятий. Шпеер, по словам этих людей, придерживался того же мнения; я со Шпеером связи по-прежнему не имел. Но и мне подобные аргументы казались разумными, хотя, говоря откровенно, все это особого интереса у меня не вызывало.
В сущности, чем больше я разбирался в хитросплетениях интриг в высших государственных сферах, тем меньше мне хотелось в них участвовать. До вступления в свою нынешнюю должность я наивно полагал, что великие решения диктуются разумом и идеологическими убеждениями. Теперь я видел, что даже если это в какой-то мере и правда, то сюда примешивается еще множество других факторов: борьба за полномочия, столкновения личных амбиций и интересов. Фюрер, естественно, не мог разрешать все вопросы сам, а без его непосредственного вмешательства большая часть попыток достичь согласия оказывалась неуспешной, а порой и губительной. Томас в подобной обстановке чувствовал себя как рыба в воде, я же испытывал дискомфорт – и не только от того, что не обладал талантом к интригам. Я всегда был убежден в правоте Ковентри Патмора: The truth is great, and shall prevail, / When none cares whether it prevail or not! [87], и в том, что национал-социализм – не что иное, как общее радение об истинной вере и правде. Мне это было важно еще и потому, что обстоятельства моей беспокойной жизни, разделенной между двух стран, отдаляли меня от людей, а я тоже хотел заложить свой кирпичик в коллективное здание, я тоже хотел ощутить себя частицей всеобщего. Увы, в нашем национал-социалистическом государстве, и особенно вне кругов СД, мало кто разделял мои мысли. В этом смысле меня восхищала грубая откровенность какого-нибудь Эйхмана. Он имел собственное представление о национал-социализме, о своем месте, о том, что следует делать, и никогда не отступался от идеи, принося ей на службу силы, талант и упорство. И пока начальство укрепляло его в этой идее, она оставалась правильной, а Эйхман счастливым и уверенным в себе. Со мной все было иначе. Причина моих несчастий, возможно, состояла в том, что мне поручали задачи, не соответствующие моим природным наклонностям. Еще в России я ощущал некую раздвоенность: я выполнял то, что от меня требовали, но при этом словно ограничивал себя самого в проявлении инициативы, потому что, изучая и решая стоявшие передо мной полицейские, а потом экономические задачи, я так и не сумел убедить себя в их справедливости. Мне удалось постичь обуславливающую их глубинную необходимость и, подобно фюреру и многим моим более талантливым коллегам и товарищам, точно и уверенно, словно сомнамбула, следовать своему пути. Существовала ли другая сфера деятельности, больше подходившая мне, где я чувствовал бы себя на своем месте? Вероятно, но определенно сказать сложно, потому что этого не случилось, а в итоге важно лишь то, что было, а не могло бы быть. С самого начала все складывалось не так, как бы мне хотелось: с этим я уже давно смирился (но в тоже время я никогда не принимал вещи такими, как они есть, ложными и дрянными, я просто осознал беспомощность своих попыток что-либо переделать). Правда и в том, что я изменился. В молодости я обладал абсолютной ясностью взглядов, точным представлением, каким должен быть мир и каков он в реальности, и видением своего предназначения в нем. С самонадеянностью молодости я думал, что так будет всегда и позиция, выработанная мной, непоколебима. Но я забыл о силе времени или, вернее, еще не успел узнать силу времени и усталости. Эта сила разрушала меня и выбивала почву из-под ног больше, чем нерешительность, идеологические сомнения, неспособность занять четкую позицию и твердо придерживаться ее в своей деятельности. И усталость не имела пределов, только смерть могла бы положить ей конец, она не исчезла и по сей день и всегда будет во мне.
Ни о чем подобном я с Хеленой не говорил. Мы встречались с ней по воскресеньям или в будни вечерами, обсуждали новости, жизненные трудности, бомбардировки или искусство, литературу, кино. Иногда я рассказывал ей о своем детстве, о прошлом, но кое о чем умалчивал и избегал мучительных и сложных тем. Порой меня тянуло на откровенность, но что-то неизменно удерживало. Что именно? Не знаю. Я мог бы сказать, что боялся ее шокировать или оскорбить. Но это неправда. Я знал Хелену мало, но достаточно для того, чтобы понимать: она умеет слушать и не осуждать (пока писал, я припомнил ошибки своей жизни; реакцию Хелены, узнай она о масштабности и последствиях моей работы, я тогда и при всем желании не взялся бы предугадывать, но в любом случае об акциях нельзя было говорить, во-первых, из-за соблюдения секретности, и еще, я думаю, из-за молчаливого соглашения между нами, вроде «такта»). Отчего же слова застревали у меня в горле, когда вечером после ужина в приливе грусти и усталости уже готовы были вырваться наружу? Боязнь, нет, не реакции Хелены, а просто обнажиться? Или страх, что она подойдет ко мне ближе, чем уже подошла и чем я ей позволил, сам того не желая? Мне становилось ясно, что хоть наши недавно завязавшиеся отношения оставались дружескими, с Хеленой что-то происходило, быть может, в ней медленно зрела мысль о постели или еще какая-то другая. Иногда меня это огорчало; моя неспособность дать ей хоть самую малость или принять то, что она предлагала в дар, надрывала мне душу. Долгий кроткий взгляд Хелены приводил меня в глубокое смятение. И я повторял себе с яростью, нараставшей с каждой мыслью: ночью, лежа в постели, ты думаешь обо мне и, наверное, прикасаешься к своему телу, к груди, кладешь руку между ног, мечтая обо мне, и тонешь в грезах. А я люблю единственную среди всех женщин, которой не могу обладать, чей образ никогда меня не покидает, и если я не думаю о ней, то ощущаю всем своим существом. Ту, что вечно стояла между миром и мной и теперь встала между тобой и мной. Ту, чьи поцелуи заставят меня забыть твои. Ту, что вышла замуж, и теперь жениться на тебе я мог бы, только чтобы понять, что чувствует с мужем она; из-за одного факта ее существования ты для меня никогда не будешь существовать в полной мере. И вдобавок еще одно: я предпочитаю, чтобы мою задницу буравили незнакомые парни, – за деньги, если надо, потому что меня это по-своему сближает с любимой, и страх, пустота и бесплодность моих размышлений мне больше по нраву, чем слабость.
Планы по Венгрии приобрели четкость. В начале марта меня вызвал рейхсфюрер. Накануне американцы впервые совершили дневной налет на Берлин; он не был массированным – всего около тридцати бомбардировщиков, и пресса Геббельса потешалась над ничтожным ущербом. Но эти бомбардировщики впервые сопровождали истребители-перехватчики дальнего действия, новые, ужасающие своим потенциалом машины. Наши истребители ретировались, понеся серьезные потери, и только идиот мог не понимать: атака пробная и проведена успешно, так что отныне не иметь нам больше передышки ни днем ни ночью и фронт теперь везде и всегда. Фиаско наших люфтваффе, неспособных отразить удар, не вызывало сомнений. Мои выводы подтвердили сухие и четкие комментарии рейхсфюрера: «Ситуация в Венгрии, – сообщил он, не вдаваясь в детали, – вскоре кардинально изменится. Фюрер полон решимости вмешаться, если потребуется. Сейчас открываются новые возможности, и нам надо ими активно воспользоваться. Одна из них касается еврейского вопроса. В нужный момент обергруппенфюрер Кальтенбруннер пошлет в Венгрию своих людей. Они в курсе того, что надо делать, и вам не придется вмешиваться. Но я хочу, чтобы вы поехали с ними и заявили интересы управления по использованию труда заключенных. Группенфюреру Каммлеру (того повысили в конце января) нужны люди, много людей. Англичане и американцы внедряют новшества, – он указал пальцем вверх, – и мы должны реагировать быстро. РСХА тоже нужно это учитывать. Я уже дал соответствующие инструкции обергруппенфюреру Кальтенбруннеру, но вам необходимо проследить, чтобы они тщательно исполнялись его специалистами. Сегодня как никогда раньше евреи обязаны работать на нас. Ясно?» Да, яснее некуда. В продолжении беседы Брандт уточнил детали: зондерайнзатцкомандой будет руководить Эйхман, ему для урегулирования этого вопроса предоставили полную свободу действий, как только венгры усвоят принцип и гарантируют сотрудничество, евреев отправят в Аушвиц, который превратится в центр сортировки; оттуда всех работоспособных будут распределять по предприятиям по мере надобности. Главная задача на каждом этапе – максимально увеличивать количество потенциальных рабочих.
В РСХА прошел ряд подготовительных встреч, гораздо более конструктивных, чем в прошлом месяце; вскоре осталось лишь назначить дату. Возбуждение нарастало; впервые за долгое время уполномоченные официальные лица почувствовали, что пора снова брать инициативу на себя. Я несколько раз виделся с Эйхманом и на собраниях, и лично. Он уверил меня, что инструкции рейхсфюрера усвоены. «Я рад, что именно вам поручена эта сторона дела, – он пожевал изнутри левую щеку. – Позвольте заметить, с вами, в отличие от многих, можно работать». Все умы теперь занимала проблема воздушной войны. Через двое суток после своего первого налета американцы в полдень послали на Берлин более восьмисот бомбардировщиков под защитой шестисот пятидесяти новых истребителей. Благодаря ненастью и плохой видимости бомбардировщики не достигали цели, и ущерб остался незначительным; к тому же наши истребители и «Флаки» сбили восемьдесят вражеских машин, рекорд. Но наши самолеты оказались слишком тяжелыми и неприспособленными к атакам «мустангов», наши потери увеличились: шестьдесят шесть машин, просто катастрофа, а погибших пилотов заменить было сложнее, чем технику. Американцы, ничуть не обескураженные, возвращались в течение многих дней; каждый раз население часами отсиживалось в убежищах, работы приостанавливались; по ночам наведывались английские «москито», не нанося особого вреда, но заставляя людей прятаться в укрытии, нарушая их сон, изматывая силы. К счастью, число человеческих жертв было не так велико, как в ноябре: Геббельс приказал эвакуировать основную часть центра, и теперь большинство служащих ежедневно добирались до своих контор из пригорода. Однако им приходилось тратить уйму времени на утомительную дорогу, что незамедлительно сказалось на качестве работы: наши берлинские специалисты, страдавшие от недостатка сна, допускали грубые ошибки в корреспонденции, я просил переделывать письма по три, а то и пять раз перед отправкой.
Однажды вечером меня пригласили к группенфюреру Мюллеру. Приглашение мне передал после очередной воздушной тревоги Эйхман, в его ведомстве в тот день проходила важная конференция по планированию. «По четвергам он любит собирать некоторых своих специалистов на обсуждения, – сообщил мне Эйхман. – Он обрадуется, если вы к нам присоединитесь». Я пропускал тренировку по фехтованию, но согласился: я почти не знал Мюллера, и мне было интересно посмотреть на него вблизи. Мюллер жил в служебной квартире, довольно далеко от центра, в районе, не тронутом бомбами. Дверь мне открыла поблекшая женщина с шиньоном и близко посаженными глазами: я подумал, что она из прислуги, но это оказалась фрау Мюллер, единственная женщина в доме. Мюллер был в штатском, он не салютовал мне в ответ, а протянул массивную, с толстыми квадратными пальцами руку. В целом атмосфера, кроме этого демонстративно дружеского жеста, не отличалась непринужденностью, царившей у Эйхмана. Эйхман тоже пришел в штатском костюме, а я, как и большая часть офицеров, в форме. Мюллер, коротконогий, приземистый, с крепкой крестьянской головой, одет был хорошо, даже изысканно: кардиган с застежками-крючками поверх шелковой рубашки с открытым воротником. Он налил мне коньяку и представил меня другим гостям, группенляйтерам и референтам из IV ведомства: я помню двух человек из IV D, занимавшихся службами гестапо в оккупированных странах, и некоего регирунгсрата Берндорфа, возглавлявшего Schutzhaftreferat. Еще одного офицера из крипо и Литценберга, коллегу Томаса. Сам Томас появился немного позже, горделиво щеголяя новыми знаками различия штандартенфюрера, Мюллер сердечно его приветствовал. Разговоры, естественно, вращались вокруг венгерской проблемы: РСХА уже установило контакты с мадьярами, готовыми сотрудничать с Германией; но всех занимал вопрос, каким образом фюрер намеревался сместить Каллаи. Мюллер, когда не участвовал в беседе, следил за присутствующими маленькими, живыми, проницательными глазками. Иногда он вставлял пару коротких сухих замечаний, смягченных напевным баварским акцентом, который, впрочем, не мог замаскировать его врожденную холодность. Но время от времени он отпускал вожжи. Мы с Томасом и доктором Фрайем – раньше он служил в СД, а теперь, как и Томас, перешел в гестапо – начали обсуждать духовные истоки национал-социализма. Фрай сказал, что находит выбор самого названия не слишком удачным, потому что понятие «национальный» для него является прямой отсылкой к традиции 1789 года, которую национал-социализм отвергает. «А что бы вы предложили взамен?» – «По-моему мнению, должен быть фёлькиш-социализм, так гораздо точнее». К нам присоединился офицер из крипо: «А если мы обратимся к Мёллеру ван дер Бруку, то можно и империал-социализм». – «Да, но это скорее ближе уклонистскому учению Штрассера», – возразил уязвленный Фрай. И тут я обратил внимание на Мюллера: он стоял за нами, зажав в своей огромной лапе стакан, и, прищурившись, слушал. «Надо нам и впрямь скинуть всех умников в угольную шахту и взорвать ее», – прозвучал грубый хриплый голос. «Группенфюрер абсолютно прав, – ввернул Томас. – Господа, вы хуже евреев. Зарубите на носу: действие, а не слова». В его глазах плясали искры смеха. Мюллер кивнул, Фрай, похоже, смутился. «Конечно, для нас важнее инициатива и дело, а не теоретические рассуждения…» – пробормотал человек из крипо. Я предпочел удалиться и отправился в буфет за салатом и чем-нибудь мясным. Мюллер последовал за мной. «Как поживает рейхсминистр Шпеер?» – полюбопытствовал он. «Честно говоря, герр группенфюрер, я не знаю. Я не общался со Шпеером с тех пор, как он заболел. Говорят, ему лучше». – «Вроде его скоро отпустят». – «Наверное, было бы хорошо. Если удастся получить рабочую силу из Венгрии, то для наших военных предприятий очень быстро откроются новые перспективы». – «Возможно, – проворчал Мюллер. – Но ведь это будут в основном евреи, а для евреев территория Старого Рейха под запретом». Я проглотил колбаску и сказал: «Тогда надо изменить правило. На сегодняшний день наш потенциал почти полностью исчерпан. Без этих евреев мы дальше не протянем». К нам подошел Эйхман и, отхлебывая коньяк, слушал мои последние слова. Потом вмешался, лишив Мюллера удовольствия ответить: «Неужели вы искренне полагаете, что победа или поражение зависят от работы нескольких тысяч евреев? И если уж так, вы что, хотите, чтобы Германия была обязана евреям своей победой?» Эйхман перебрал, лицо его раскраснелось, глаза блестели; он гордился, что сделал подобное заявление перед начальством. Я не перебивал, держа в руке тарелку с кружочками колбасы, и сохранял спокойствие, хотя глупые высказывания Эйхмана меня раздражали. «Знаете, оберштурмбанфюрер, – ответил я сухо, – в тысяча девятьсот сорок первом году мы имели самую современную армию в мире. Теперь мы вернулись чуть ли не на полвека назад. Наши передвижения на фронте осуществляются конно-гужевым транспортом. А русские ездят на американских „студебеккерах“. В Соединенных Штатах миллионы мужчин и женщин денно и нощно собирают эти грузовики. И вдобавок строят корабли для их перевозки. Наши эксперты утверждают, что они производят по грузовому судну в день. Что гораздо больше того количества, какое могли бы потопить наши субмарины, если бы они вообще отважились выйти в море. Сейчас мы ведем войну на истощение. Но наши враги не истощены. Все, что мы уничтожаем, тут же заменяется: на прошлой неделе мы сбили сто самолетов, и уже почти сто других опять в строю. А наши материальные потери не восполняются, за исключением разве что танков». Эйхман напыжился: «Вы сегодня вечером в пораженческом настроении!» Мюллер молча, без тени улыбки, наблюдал за нами, взгляд его бойких глазок перебегал с меня на Эйхмана. «Я – не пораженец, – возразил я, – а реалист. Надо же понимать область наших интересов». Но Эйхман, в подпитии, не желал руководствоваться логикой: «Вы рассуждаете как капиталист, как материалист… В этой войне речь не об интересах. Если бы это был вопрос интересов, мы бы никогда не напали на Россию». Я уже потерял нить его рассуждений, да и сам Эйхман, похоже, совершенно запутался, но не останавливался, продолжая перескакивать с одной мысли на другую. «Мы воюем не для того, чтобы у каждого немца появился холодильник или радио. Мы воюем, чтобы очистить Германию, чтобы создать Германию, в которой мы хотели бы жить. Вы думаете, мой брат Гельмут погиб за холодильник? Вы, вы сами сражались в Сталинграде за холодильник?» Я пожал плечами и улыбнулся: бесполезно спорить с человеком в таком состоянии. Мюллер положил ему руку на плечо: «Эйхман, дружище, вы правы». И обернулся ко мне: «Вот почему наш дорогой Эйхман добился таких успехов в работе: он видит главное. Это делает его превосходным специалистом. Я отправляю его в Венгрию, потому что в делах с евреями он – маэстро». Эйхман краснел от комплиментов, в то время как я назвал бы его узколобым. Но Мюллер, тем не менее, попал в точку: Эйхман и вправду был очень дельный, и чаще всего именно узколобые оказываются самыми работоспособными. Мюллер продолжил: «Одно замечание, Эйхман: вы не должны думать только о евреях. Евреи среди наших серьезных врагов, это правда. Но в Европе еврейский вопрос уже почти урегулирован. После Венгрии их станет еще меньше. Надо задуматься о будущем, а врагов у нас достаточно». Мюллер говорил тихо, его монотонный голос с убаюкивающим деревенским акцентом, казалось, лился с губ, тонких и нервных. «Надо еще подумать, как мы поступим с поляками. Уничтожать евреев, но оставлять поляков бессмысленно. Да и в Германии тоже. Мы уже начали, но надо идти до конца. Нам также предстоит Endlösung der Sozialfrage, окончательное решение социального вопроса. Еще полно преступников, маргиналов, бродяг, цыган, алкоголиков, проституток, гомосексуалистов. Не надо забывать и о больных туберкулезом, заражающих здоровых людей. О сердечниках, передающих по наследству испорченную кровь, лечение которых обходится государству в целые состояния, – их, по крайней мере, следует стерилизовать. Всеми ими, группа за группой, необходимо заниматься. Наши совестливые немцы выступают против, они всегда отыщут веские причины. Как раз в этом сила Сталина: он умеет подчинить и умеет доводить дело до конца». Мюллер взглянул на меня: «Я хорошо знаю большевиков. С тех пор как расстреляли заложников в Мюнхене во времена Баварской Советской республики [88]. После этого я бил их четырнадцать лет, до захвата власти, и сражаюсь с ними до сих пор. Но, знаете, я их уважаю. У этих людей врожденное чувство дисциплины, они организованы и ни перед чем не отступают. Мы могли бы у них кое-чему поучиться. Вы не согласны?» Не дожидаясь ответа, он взял Эйхмана под руку и потащил к низенькому столику, где принялся расставлять шахматы. Я издалека, доедая содержимое тарелки, наблюдал за их игрой. Эйхман играл хорошо, но с Мюллером у него не было шансов: Мюллер, заметил я про себя, играл в той же манере, как работал, – методично, с упорством и жесткостью, холодной и взвешенной. Они сыграли несколько партий, я долго следил за ними. Эйхман выстраивал хитроумные, тщательно просчитанные комбинации, но Мюллер ни разу не попал в ловушку, и его защитные ходы оставались такими же сильными, как и систематически подготовляемые атаки, отразить которые Эйхману не удавалось. И Мюллер всегда побеждал.
На следующей неделе я сформировал небольшую группу для работы в Венгрии. В нее вошли эксперт оберштурмфюрер Элиас, несколько машинисток, ординарцы, канцелярские служащие и, конечно, Пионтек. Я дал четкие инструкции Асбаху и оставил отдел под его ответственность. По приказу Брандта семнадцатого марта я отправился в КЛ Маутхаузен, где под командованием оберфюрера доктора Ахамера-Пифрадера, бывшего командующего полицией безопасности и СД Имперского комиссариата «Остланд», собиралась зондерайнзатцгруппа СП и СД. Эйхман был уже там с собственной зондерайнзатцкомандой. Я представился оберфюреру Гешке, руководящему сотруднику СД и гестапо, который устроил меня и мою группу в одном из бараков. Еще в Берлине я узнал, что венгерский регент Хорти встречался с фюрером во дворце Клессхайм недалеко от Зальцбурга. О развитии событий в Клессхайме стало известно после войны: под напором Гитлера и фон Риббентропа, поставивших его перед жестким выбором между созданием нового прогерманского правительства и вторжением в Венгрию, Хорти – адмирал в стране без флота, регент в королевстве без короля – после сердечного приступа выбрал из двух зол меньшее. Однако в то время мы об этом ничего не знали: Гешке и Ахамер-Пифрадер ограничились тем, что вечером восемнадцатого марта созвали офицеров высшего звена и сообщили о нашем завтрашнем отъезде в Будапешт. Слухи, разумеется, распространялись моментально; многие готовились к сопротивлению венгров на границе, нам велели надеть полевую форму и вручили автоматы. Все были взбудоражены. Для большинства чиновников гестапо или СД это был первый опыт на «местности», и после почти года берлинских серых будней, бюрократической рутины, постоянного напряжения, тайных интриг, усталости, бомбардировок, которые мы стоически переживали, даже я поддался общей нервозности. Вечером мы с Эйхманом договорились выпить по стаканчику, я нашел его в окружении офицеров, сияющего, щеголявшего в новой серо-зеленой форме, скроенной так же элегантно, как парадная. Из его коллег я знал немногих. Эйхман объяснил, что для этой операции пригласил самых лучших специалистов со всей Европы, из Италии, Хорватии Лицманштадта (Лодзи) и Терезиенштадта. Меня он представил гауптштурмфюреру Вислицени, своему другу и крестному его сына Дитера, человеку ужасно толстому, спокойному и невозмутимому. Все пребывали в хорошем настроении, пили мало и горели нетерпением. Выезжали мы около полуночи, я вернулся в барак хоть немного отдохнуть, но заснул с трудом. Думал о Хелене. Прощаясь с ней два дня назад, я подчеркнул, что понятия не имею, когда возвращусь в Берлин. Вел я себя сдержанно, не вдавался в детали и ничего не обещал. Она выслушала все тихо и серьезно, без тени волнения. Но, по-моему, нам обоим было ясно, что между нами уже существует связь, может, и тонкая, но прочная, которая не разорвется сама по себе.
Наверное, я задремал: Пионтек растолкал меня ближе к двенадцати. Я лег одетым, багаж собрал заранее. Я съел бутерброд и выпил кофе, сваренный ординарцем Фишером, и, пока проверяли машины, решил проветриться. Зима напоследок наградила нас морозцем, и я с удовольствием вдыхал чистый горный воздух. Неподалеку шумели моторы: форкоманда под руководством адъютанта Эйхмана тронулась в путь. Я намеревался присоединиться к конвою зондерайнзатцкоманды, которая, помимо Эйхмана с его офицерами, включала более ста пятидесяти человек, в основном орпо и представителей СД и СП, но и ваффен-СС тоже. Колонну замыкал конвой Гешке и Ахамера-Пифрадера. Когда обе наши машины были готовы, я отослал их к отправному пункту, а сам пошел пешком к Эйхману. В защитных танкистских очках поверх фуражки, с пистолетом-пулеметом «штейр» под мышкой и в рейтузах, вид он имел довольно забавный, словно на маскарад собрался. «Оберштурмбанфюрер! – воскликнул он, увидев меня. – Ваши люди готовы?» Я кивнул и поспешил к месту общего сбора. Там царила суматоха последних минут, крики, команды перед началом организованного движения огромного количества машин. Наконец в окружении офицеров появился Эйхман и, раздав еще несколько противоречивых распоряжений, поднялся во внедорожник-амфибию, управлял которым какой-то ваффен-эсэсовец. Я со смехом спрашивал себя: уж не боится ли Эйхман, что мосты заминированы или планирует на этой моторной «лодке» пересечь Дунай и со своим шофером и «штейром» в одиночку разогнать мадьярские орды? Пионтек, сидевший за рулем моей машины, излучал строгость и серьезность. И вот, освещенная резким светом лагерных прожекторов, в грохоте моторов и облаке пыли, колонна тронулась. Элиасу и Фишеру с выданным нам оружием я велел сесть сзади, а сам устроился впереди рядом с Пионтеком. Небо расчистилось, сияли звезды, но луна не показывалась. Спускаясь по извилистой дороге, я ясно видел блестящую поверхность Дуная. Конвой перебрался на правый берег и взял направление на Вену. Мы ехали цепочкой, с защитными стеклами на фарах, маскируясь от вражеских истребителей. Я быстро заснул. Время от времени меня будила воздушная тревога, машины тормозили и тушили фары, но никто не выходил наружу, пережидали в темноте. Обошлось без налетов. Я в полудреме видел странные, сумбурные, мимолетные сны, лопавшиеся как мыльные пузыри, когда начинала выть сирена или машину подбрасывало на ухабах. Около трех ночи, когда мы огибали Вену с юга, я встряхнулся окончательно и выпил кофе, который Фишер налил из термоса. Появился тонкий серп месяца, и по левую руку от нас заблестели широкие воды Дуная. Из-за налетов мы часто останавливались, а теперь в лунном свете длинную колонну самых разнообразных машин можно было обнаружить без труда. На фоне порозовевшего на востоке неба возникли хребты Малых Карпат. Одну из остановок мы сделали над озером Нойзидлерзее всего в нескольких километрах от венгерской границы. В окно моей машины постучал толстяк Вислицени: «Идемте, и прихватите с собой ром». Перед отъездом нам разлили рому, но я еще к нему не притронулся. Я шагал за Вислицени, который по дороге вызывал из машин других офицеров. На расстилавшиеся перед нами горные вершины давил красный шар солнца, небо без единого облачка стало бледно-голубым с желтоватым оттенком. Наша группа проследовала в головную часть колонны к амфибии, мы встали кругом, и Вислицени попросил Эйхмана выйти. Кроме офицеров подразделения IV-Б-4, здесь присутствовали командиры спецподразделений. Вислицени поднял фляжку, поздравил Эйхмана и выпил за его здоровье: в тот день Эйхману исполнялось тридцать восемь. Он икал от удовольствия: «Господа, я тронут, очень тронут. Это мой седьмой день рождения в чине офицера СС. Лучшего подарка, чем ваша компания, я и вообразить не мог». Он раскраснелся и сиял от радости, всем улыбался и под крики «ура» пил ром маленькими глотками.
Границу мы миновали без эксцессов: ехали мимо стоявших на обочинах таможенников и солдат гонведа, мрачных или равнодушных, без эмоций провожавших нас взглядом. Утро выдалось погожим. Потом колонна остановилась в деревне, чтобы позавтракать кофе, ромом, белым хлебом и венгерским вином, купленным на месте, и снова тронулась в путь. Теперь мы продвигались вперед гораздо медленнее, шоссе было загружено немецкой техникой. Мы по нескольку километров тащились по пятам за военными бронированными грузовиками, прежде чем обогнать их. Это ничего общего не имело с вторжением, все проходило спокойно и организованно, жители деревень выстраивались вдоль дороги, чтобы посмотреть на нас, кое-кто даже приветливо махал.
В Будапешт мы прибыли после полудня и расквартировались на правом берегу, за замком, в Швабенберге, где СС реквизировала большие отели. Я временно поселился в номере «Астории» с двумя кроватями и тремя диванами на восемь человек. На следующее утро я отправился на разведку. Город кишел немцами. Офицеры вермахта и ваффен-СС, дипломаты Министерства внутренних дел, полицейские, инженеры ОТ, экономисты ВФХА, агенты абвера, зачастую под чужими именами. В царившей неразберихе я даже не мог понять, у кого в подчинении нахожусь, и решил увидеться с Гешке. Тот сообщил мне, что назначен командующим СП и СД, а командующим СС и полицией (ХССПФ) рейхсфюрер поставил обергруппенфюрера Винкельмана, так вот Винкельман обо всем меня и проинформирует. Однако Винкельман, офицер полиции, тучный, с подстриженными щеточкой волосами и выступающей челюстью, и не подозревал о моем существовании. Он объяснил, что речь об оккупации Венгрии не идет, мы прибыли по приглашению Хорти, чтобы помочь советом и оказать поддержку венгерским службам. Несмотря на наличие ХССПФ и прочих начальников с соответствующими структурами, мы не имеем никаких функций исполнительной власти и венгерские ведомства сохраняют все свои прерогативы и суверенитет. О серьезных разногласиях необходимо извещать нового посла доктора Веезенмайера, почетного бригадефюрера СС, или его коллег из Министерства внутренних дел. По словам Винкельмана, Кальтенбруннер тоже находился в Будапеште. Он приехал в специальном вагоне Веезенмайера, который прицепили к поезду Хорти, когда тот возвращался из Клессхайма. Кальтенбруннер вел переговоры с генерал-лейтенантом Дёме Стояи, бывшим послом Венгрии в Берлине, по поводу формирования нового правительства. Свергнутый премьер Каллаи укрывался в турецкой миссии. У меня не было причин разыскивать Кальтенбруннера, но я посчитал целесообразным заявить о себе в немецком посольстве. Оказалось, что Веезенмайер занят, и меня принял его уполномоченный по делам (Legationsrat) Файне, зарегистрировал мою командировку и посоветовал ждать, когда ситуация прояснится, и оставаться с ними на связи. Бардак!
В «Астории» я встретился с оберштурмбанфюрером Крумеем, адъютантом Эйхмана. Он уже провел собрание с главами еврейской общины, и результаты явно его удовлетворяли. «Евреи пришли с чемоданами, – он от души рассмеялся. – Но я их успокоил и заверил, что мы никого не собираемся арестовывать. Они в ужасе от истерики крайне правых. Мы пообещали, что все будет в порядке, если мы договоримся о сотрудничестве, их это обнадежило». Крумей хохотнул: «Они, наверное, думают найти в нас защиту от венгров». Евреев обязали создать Совет, который назвали Zentralrat, чтобы никого не пугать, поскольку термин Judenrat, распространенный в Польше, был здесь достаточно известен и мог спровоцировать панику. В последующие дни члены нового совета несли в зондерайнзатцкоманду матрасы и одеяла, часть которых я забрал в наш номер. Потом в соответствии с нашими требованиями – пишущие машинки, зеркала, одеколон, женское белье и несколько маленьких красивых полотен Ватто или, по крайней мере, его школы. А я в это время неоднократно беседовал с председателем еврейской общины доктором Самуилом Штерном, чтобы составить представление об имеющихся в наличии ресурсах. Евреи, мужчины и женщины, работали на венгерских военных заводах. Штерн привел приблизительные цифры. И тут обозначилась серьезнейшая проблема: всех здоровых и крепких мужчин в работоспособном возрасте и не занятых на военном производстве особой важности еще несколько лет назад мобилизовали в гонвед на службу в рабочих батальонах в тылу. И я вспомнил, что, когда мы вошли в Житомир, оккупированный венграми, мне действительно рассказывали про еврейские батальоны. Факт их существования выводил из себя моих коллег из зондеркомманды 4a. «Эти батальоны никоим образом от нас не зависят. Обратитесь к правительству», – добавил Штерн.
Через несколько дней после того, как было сформировано правительство Стояи, новый кабинет в течение одного заседания, длившегося одиннадцать часов, ввел в действие серию законов против евреев, которые венгерская полиция принялась незамедлительно претворять в жизнь. Я редко виделся с Эйхманом. Вокруг него постоянно толпились офицеры, или он встречался с евреями. По словам Крумея, Эйхман проявлял интерес к их культуре, посещал библиотеки, музей и синагоги. В конце месяца он сам провел переговоры с Zentralrat. Весь его штаб переехал в отель «Мажестик», я остался в «Астории», где получил две дополнительные комнаты под кабинеты. На собрание меня не пригласили, с Эйхманом я увиделся уже после него. Он явно был доволен собой и заверил меня, что евреи согласились сотрудничать и подчиниться требованиям немцев. Мы обсудили вопрос с рабочими. Новые законы позволяли венграм пополнить батальоны мирного труда – в ближайшее время все евреи чиновники, журналисты, нотариусы, адвокаты, бухгалтеры будут уволены и мобилизованы. Эйхман ухмыльнулся: «Вообразите, дорогой оберштурмбанфюрер, еврейских адвокатов, копающих противотанковые рвы!» Но кого нам дадут венгры, мы понятия не имели. Эйхман, как и я, опасался, что лучшее они приберегут для себя. Однако Эйхману удалось найти себе союзника, одержимого антисемита доктора Эндре Ласло, служившего в медье Будапешта, которого он надеялся протащить в Министерство внутренних дел. «Необходимо избежать повторения ошибки в Дании, – объяснял мне Эйхман, подперев голову крупной рукой с выступающими венами и покусывая мизинец. – Надо, чтобы венгры все сделали сами и преподнесли нам своих евреев на блюде». Венгерская полиция совместно с силами СП и СД начала арестовывать евреев, хотя это противоречило новым правилам. В транзитный лагерь, организованный рядом с городом в Кистарце и охраняемый венгерской жандармерией, уже поступило более трех тысяч евреев. Я со своей стороны тоже не бездействовал. Через посольство я связался с Министерством промышленности и сельского хозяйства, чтобы прозондировать их мнения. Разбираться в новых законах мне помогал герр Адамовиц, эксперт посольства, любезный, интеллигентный человек, практически парализованный артритом и ишиасом. Между тем я не терял контакта и со своим отделом в Берлине. Шпеер, кстати – странное совпадение – он родился в один день с Эйхманом, выписался из Хоенлихена и теперь поправлял здоровье в Италии, в Мерано. Я послал ему поздравительную телеграмму и цветы, но ответа не получил. Вскоре после этого мне предложили принять участие в конференции, посвященной еврейскому вопросу, которая должна была пройти в Силезии под руководством доктора Франца Сикса, моего первого начальника в отделе СД. Теперь он работал в Министерстве иностранных дел, но иногда помогал РСХА. Кроме меня приглашены были Томас, Эйхман и еще несколько его подчиненных специалистов. Мы условились ехать вместе. Поездом через Прессбург мы добралась до Бреслау, где пересели на другой поезд до Хиршберга. Конференция проходила в Крумхюбеле. Известную зимнюю спортивную базу в силезских Судетах сейчас в основном занимали кабинеты Министерства иностранных дел, в том числе и Сикса, эвакуированные из Берлина в связи с бомбардировками. Нас поселили в Гостевом доме, уже забитом до отказа. Новые бараки, строившиеся для министерства, еще не были готовы. Я обрадовался Томасу. Он примчался раньше нас, чтобы воспользоваться возможностью и покататься на лыжах в компании молоденьких и хорошеньких секретарш и ассистенток, похоже отнюдь не загруженных работой. Томас познакомил меня с одной из них, русской. Эйхман встретился с коллегами со всей Европы и всячески рисовался перед ними. Конференция началась на следующий день после нашего прибытия. Сикс читал доклад о «Задачах и целях антиеврейских операций за границей», рассказал о политической структуре мирового иудаизма и заверил, что еврейство в Европе перестало играть политическую и биологическую роль. Он сделал любопытное отступление о сионизме, тогда еще мало известном в наших кругах. Сикс придерживался мнения, что вопрос возвращения оставшихся в Палестине евреев должен быть подчинен арабскому вопросу, который после войны окажется чрезвычайно важным, особенно если британцы получат назад часть своей империи. За Сиксом выступал специалист из Министерства иностранных дел, некий фон Тадден, представивший точку зрения своего министерства на «Политическое положение евреев в Европе и ситуацию относительно применяющихся против евреев мер». Томас говорил о проблемах безопасности, возникших в связи с еврейскими восстаниями в прошлом году. Прочие специалисты или советники рапортовали о нынешней обстановке в странах, где несли службу. Но гвоздем программы стала речь Эйхмана. Похоже, венгерская кампания его вдохновляла. Он сделал практически полный обзор того, как разворачивались антиеврейские операции с самого начала. Констатировал провал политики гетто и раскритиковал неэффективность и путаницу мобильных операций. «Каковы бы ни были достигнутые успехи, они единичны; многим евреям удается бежать, укрываться в лесу и увеличивать ряды партизан, это подрывает боевой дух наших людей». Успехи в других странах, по его мнению, зависели от двух факторов: гибкости местных властей и содействия глав еврейских общин. «Чтобы понять, что происходит, когда мы пытаемся самостоятельно арестовывать евреев в странах, где мы не располагаем достаточными ресурсами, обратимся к примеру Дании. Абсолютный провал. Или юг Франции, где мы получили очень низкие результаты, даже после оккупации бывшей итальянской зоны. Италия, где население и церковь прячут тысячи евреев, которых мы не можем найти… Что касается еврейских советов – Judenrat, они позволяют нам значительно экономить кадры и возлагают на евреев задачу их собственного уничтожения. Конечно, члены этих советов преследуют личные цели, грезят о личных выгодах. Но это нам как раз на руку. Они мечтают о грандиозном подкупе, несут нам деньги, ценности. Мы берем и деньги, и ценности и решаем наши задачи. Евреи уповают на экономические потребности вермахта, на защиту, гарантированную трудовыми сертификатами, а мы этим пользуемся, чтобы оснащать наши военные заводы, чтобы получать рабочую силу, необходимую для строительства наших подземных комплексов, и избавляемся от слабых и старых, лишних ртов. Но поймите еще вот что: ликвидировать первые сто тысяч евреев гораздо легче, чем пять тысяч последних. Вспомните о событиях в Варшаве или о других восстаниях, о которых нам рассказал штандартенфюрер Хаузер. Пересылая мне рапорт о варшавском мятеже, рейхсфюрер отметил, что никак не может поверить, что евреи в гетто способны так отчаянно сражаться. Однако наш шеф, по которому мы скорбим, обергруппенфюрер Гейдрих, понял все гораздо раньше. Он знал, что самые сильные, здоровые, ловкие и хитрые евреи сумеют избежать любых селекций и уничтожить их будет невероятно трудно. А ведь именно они и формируют тот жизненный резерв, благодаря которому иудаизм сможет возродиться. Они – бактериальная клетка еврейской регенерации, как выразился покойный обергруппенфюрер. Наша борьба продолжает дело Коха и Пастера, мы должны идти до конца…» Слова Эйхмана встретили громом аплодисментов. Верил ли он сам в то, что говорил? Прежде я от него такого не слышал. У меня создалось впечатление, что Эйхман забылся, новая роль вскружила ему голову, он увлекся игрой и уже не мог выйти из образа. Хотя в его комментариях относительно работы не было ничего идиотского. Явно чувствовалось, что он внимательно проанализировал опыт прошлого и извлек полезные уроки. После заседания Сикс из вежливости и в память о былом пригласил нас с Томасом на ужин. Я за едой похвалил выступление Эйхмана. Но Сикс, как всегда в мрачном и удрученном расположении духа, отозвался о нем негативно: «Ничего интересного. Эйхман – человек простой, без особых дарований. Хотя, конечно, энергичный и кое-что смыслящий в своем деле». – «Действительно, – подтвердил я, – он хороший офицер, энтузиаст и по-своему талантливый и мог бы, на мой взгляд, добиться большего». – «Я бы очень удивился, – сухо возразил Томас. – Он чересчур упрямый. Этот бульдог – отличный исполнитель. Но воображения у него никакого. Он не способен реагировать на события вне сферы его деятельности и развиваться. Он построил карьеру на истреблении евреев и преуспел. Но когда с евреями будет покончено, или если ветер переменится, и ликвидацию снимут с повестки дня, он не сумеет адаптироваться и пропадет».
На следующий день конференцию продолжили доклады, не заслуживающие особого внимания. Эйхман уехал, сославшись на занятость: «Я должен провести инспекцию в Аушвице, а после вернусь в Будапешт. Дел по горло». Я отправился в обратный путь пятого апреля. В Венгрии я узнал, что фюрер дал согласие на использование рабочих евреев на территории Рейха. Неопределенность ситуации только возрастала. Ко мне каждую минуту являлись люди Шпеера и из Jägerstab’а с вопросом, когда им ждать первой партии. Я советовал им набраться терпения, объяснял, что операция еще не отработана. Эйхман возвратился из Аушвица в ярости и на чем свет стоит ругал комендантов: «Тупицы, болваны! Ничего не готово для приемки». Девятого апреля… хотя зачем подробно пересказывать день за днем? Я от этого уже устал, и вы, наверное, тоже. Сколько страниц я посвятил никому не интересным бюрократическим казусам? Продолжать в том же духе сил нет: перо, вернее, ручка падает из рук. Может, вернуться к этому чуть позже; хотя нужно ли опять поднимать всю эту грязную историю с Венгрией? Она детально описана в книгах, историки дали общий и более последовательный обзор, чем я. В конце концов, моя роль в той операции ничтожна. Если я и пересекался с некоторыми участниками, мне нечего добавить к их собственным воспоминаниям. Да, я был более или менее в курсе развернувшихся позже больших интриг, переговоров Эйхмана и Бехера с евреями и аферы с обменом евреев на деньги, грузовики. Я обсуждал эти вопросы и даже общался с привлеченными к сотрудничеству евреями и Бехером, скользким, двуличным типом. Он приехал в Венгрию покупать лошадей для ваффен-СС и неожиданно, никого не предупредив – ни Веезенмайера, ни Винкельмана, ни меня, – вроде как по поручению рейхсфюрера прибрал к рукам самый крупный военный завод в стране, компанию «Манфред-Вайс». Потом рейхсфюрер поручил ему задачи, частично дублирующие мои и Эйхмана, частично им противоречащие. Впоследствии я понял, что это была излюбленная метода рейхсфюрера, но здесь, на месте, она лишь сеяла раздоры и смуту. Ни о какой согласованности действий не было и речи. Винкельман не имел влияния ни на Эйхмана, ни на Бехера, а те в свою очередь ни о чем его не информировали. Признаюсь, я поступал не лучше и тоже встречался с венграми втайне от Винкельмана. К примеру, я вел переговоры с Министерством обороны и обсуждал с военным атташе Веезенмайера генералом Грейфенбергом возможность передачи в наше распоряжение рабочих еврейских батальонов гонведа, если необходимо – под особые гарантии о спецдовольствии. Гонвед, естественно, категорически отказался. В качестве рабочей силы нам предоставили привлеченных к трудовой повинности в начале месяца гражданских лиц и их семьи – не слишком ценный человеческий материал, в котором не нуждались фабрики. Я считаю, что по этой причине, хотя, увы, далеко не единственной, наша миссия кончилась полным провалом. Другие я тоже назову и, возможно, расскажу о переговорах с евреями, ведь это тоже в большей или меньшей степени касалось поставленных передо мною задач. Речь пойдет о том, как я воспользовался, нет, скорее, попытался воспользоваться переговорами, чтобы сдвинуть с мертвой точки собственные проекты. С ничтожным успехом, вынужден признать. Тут надо учитывать и действия Эйхмана, работать с которым становилось все сложнее, и Бехера, и ВФХА, и венгерской жандармерии, понимаете, все так или иначе руку приложили, я, в сущности, вот что хотел сказать. Если вам вздумается проанализировать, почему венгерская операция дала столь плачевные результаты в плане труда заключенных, остававшейся моей первоочередной заботой, не упускайте из вида всех этих людей и организации: каждый играл свою роль и обвинял другого, в том числе и меня, можете поверить. Никто не гнушался подобными вещами, одним словом, царили бардак и безалаберщина. В итоге большинство депортированных евреев умерли, – я хочу сказать, сразу, в газовых камерах, даже не приступив к работе, потому что мало кто из добравшихся до Аушвица для нее годился. Потери были колоссальные, около 70 %, точно никто не знает. И вполне объяснимо, почему после войны решили, что основной целью операции являлось уничтожение всех венгерских евреев – женщин, стариков, детей, румяных и здоровых. Никто не понимал, почему Германия, проигрывавшая войну, хотя призрак поражения рисовался в то время не так уж явно, по крайней мере для немцев, упорно продолжала истреблять евреев, в основном женщин и детей, мобилизуя огромные человеческие и технические ресурсы. От непонимания все приписали животному антисемитизму немцев, мании убийства, чего у большинства участников тех событий и в помине не было. Ведь в действительности для меня, как и для прочих чиновников и специалистов, основным, принципиальным вопросом было обеспечение наших заводов рабочей силой, несколькими сотнями тысяч рабочих, которые, вероятно, помогли бы нам изменить ход событий. Мы просили живых и здоровых евреев, предпочтительно мужского пола, а не мертвецов, тогда как венгры хотели оставить всех или почти всех мужчин себе. Таким образом, дело не заладилось с самого начала, а вскоре прибавились и проблемы с транспортным обслуживанием. Одному богу известно, сколько я ссорился с Эйхманом по этому поводу, и каждый раз получал ответ: «Транспорт – не моя проблема. Венгерская жандармерия обязана загружать и снабжать продовольствием поезда, а не мы». А твердолобость Хёсса чего стоит! Ведь Хёсс вернулся в Аушвиц в качестве Standortälteste, главного инспектора концлагеря, вместо Либехеншеля, которого, возможно из-за рапорта Эйхмана, заслали в Люблин. Так вот Хёсс был категорически неспособен изменить методы работы (об этом я расскажу позже и более подробно). Короче говоря, мало кто из нас сознательно желал того, что произошло. Но, однако, заметите вы, это произошло. Да, это правда, как правда и то, что мы отправили венгерских евреев в Аушвиц, и не только тех, кто мог работать, а всех, прекрасно понимая, что стариков и детей будут травить газом. Вот мы и вернулись к прежнему вопросу: откуда, учитывая обстоятельства войны и прочие трудности, такое упорное стремление очистить Венгрию от евреев? Тут я, конечно, могу лишь выдвигать гипотезы, ведь лично я перед собой такой цели не ставил, скорее мне не хватало уверенности в нашей правоте. Я знаю, зачем хотели депортировать (тогда, правда, говорили эвакуировать) венгерских евреев и незамедлительно убить неработоспособных. Наши власти, фюрер, рейхсфюрер решили уничтожить всех евреев в Европе – это понятно, это мы знали. И еще мы знали, что те, кто будет работать, тоже рано или поздно погибнут, а о том, почему все сложилась так, а не иначе, я уже много рассуждал и ответа до сих пор не нашел. Люди в то время верили всякой чепухе о евреях вроде теории бацилл рейхсфюрера и Гейдриха, на которую на конференции в Круммхюбеле сослался Эйхман. У него, по-моему, тезисы о еврейских восстаниях, «пятой колонне» и шпионаже в пользу стремительно приближающихся врагов превратились в навязчивую идею, как, впрочем, для большинства людей из РСХА. И даже мой друг Томас не составлял исключения. А страх перед еврейским всемогуществом, в которое многие свято верили, порой приводил к комическим недоразумениям. В начале апреля в Будапеште возникла необходимость распределить куда-нибудь большое количество евреев, чтобы освободить их квартиры. СП попросила создать гетто, но венгры отказались, боясь, что союзники будут сбрасывать бомбы вокруг него, а само гетто не тронут (американцы уже бомбардировали Будапешт, пока я находился в Круммхюбеле). И когда венгры разместили евреев рядом с военными и промышленными объектами, некоторые члены нашего руководства серьезно обеспокоились: ведь если американцы будут бомбить стратегические объекты, это докажет, что мировой иудаизм не настолько силен, как о нем думают. Справедливости ради замечу, что американцы действительно атаковали те объекты, попутно уничтожив множество евреев. Что до меня, я давно уже не верил в еврейское могущество. В противном случае разве все страны отказались бы принять евреев в 1937–1939 годах, когда мы хотели, чтобы те просто покинули Германию, что было бы, в сущности, единственно разумным решением? Но я несколько отвлекся. Так вот, возвращаясь к заданному вопросу, я должен сказать, что даже если конечная цель не вызывала сомнений, большинство из нас работали не на нее, не она вдохновляла и побуждала трудиться с такой отдачей и упорством, а множество других мотивов. Я убежден, что и Эйхману с его непримиримой позицией в глубине души было все равно, убиваем мы евреев или нет. Для него имело значение только одно: показать, на что он горазд, выставить себя в лучшем свете и найти применение способностям, которые он в себе развил. На остальное он плевал, и на производство, и на газовые камеры. Единственное, что волновало Эйхмана, чтобы не наплевали на него, поэтому он и противился переговорам с евреями, – я еще вернусь к этой теме. И с остальными дело обстояло точно так же, у каждого были свои причины. Сотрудничавшие с нами венгерские власти хотели, чтобы евреи покинули Венгрию, но плевали на их дальнейшую судьбу. Шпеер, Каммлер и Jägerstab хотели получить рабочих и настойчиво требовали, чтобы СС их поставляла, но их не волновало, что ждало неработоспособных. И еще существовали разные практические аргументы. Например, я занимался исключительно использованием труда заключенных, но это была далеко не единственная экономическая проблема, о чем я узнал, встретившись с экспертом из Министерства продовольствия и сельского хозяйства, молодым человеком, очень умным и увлеченным своей работой. Однажды вечером мы сидели в старом будапештском кафе, и он объяснил мне продовольственный аспект вопроса. Потеряв Украину, Германия неминуемо сталкивалась с серьезным дефицитом продовольствия, в первую очередь зерна, и теперь ориентировалась на Венгрию, крупного производителя. Он считал, что основная задача нашего псевдо вторжения – обеспечить защиту новому источнику пшеницы. В 1944 году мы запросили у венгров 450 000 тонн зерна, на 360 000 тонн, то есть на 80 % больше, чем в 1942 году. Естественно, венграм надо было откуда-то взять это зерно и вдобавок кормить собственное население. Для рациона приблизительно миллиона человек, что немногим превышало общее число венгерских евреев, требовалось именно 360 000 тонн. Вот почему специалисты из Министерства продовольствия полагали, что эвакуация евреев – мера, которая позволит Венгрии выделить излишек зерна Германии и покрыть ее нужды. А судьба эвакуированных евреев, которых – не уничтожай мы их – вообще-то тоже пришлось бы кормить, молодого и, в принципе, очень симпатичного эксперта, хоть и слегка помешанного на цифрах, не касалась. Ведь питанием заключенных и иностранных рабочих в Германии занимались другие отделы Министерства продовольствия. Это не его дело. Для него депортация евреев была решением проблемы, даже если это оборачивалось проблемой для кого-то другого. Тот молодой человек – не исключение. Все были, как он, и я в том числе, и вы на его месте стали бы такими же.
Наверное, в глубине души вы надо мной смеетесь и вместо тягостных и путаных рассуждений охотнее слушали бы анекдоты и пикантные истории. Истории я с удовольствием рассказал бы вам, но для этого надо рыться в памяти и заметках… а я уже говорил, что устал, пора закругляться. И потом, если я буду подробно, как делал прежде, описывать последние месяцы 1944 года, я никогда не закончу. Поймите, я же и о вас забочусь, не только о себе, – по крайней мере, стараюсь. Всему должен быть предел. Если я и приложил массу усилий, то не из одного желания вас развлечь, а прежде всего в целях личной нравственной гигиены. Когда объешься, рано или поздно придется избавиться от шлаков, хорошо пахнет или плохо, выбора нет. И потом вы вольны закрыть книгу и выкинуть ее в помойку. Против такого средства обороны я бессилен. Поэтому не вижу смысла церемониться и признаюсь, что меняю метод в первую очередь для себя, понравится вам это или нет, еще раз демонстрируя свой безмерный эгоизм, плод дурного воспитания. Вы скажете, что лучше бы я занялся чем-нибудь другим. И то правда. Я бы с радостью посвятил себя музыке, если бы умел поставить на линейках пару нот и различать скрипичный ключ. Ну, ладно, я уже объяснял, почему с музыкой у меня не сложилось. Или вот живопись – почему бы нет? Мне кажется, спокойное, приятное занятие, растворяешься в формах и цветах. Что ж, может, когда-нибудь в другой жизни, потому что в этой у меня не было выбора… нет, конечно, определенное пространство для маневра имелось, но оно было слишком узким, так уж беспощадно распорядилась судьба. Снова мы вернулись к исходному пункту. Давайте лучше продолжим про Венгрию.
Об офицерах, окружавших Эйхмана, сказать, собственно, нечего. В большинстве своем это были миролюбивые, добропорядочные граждане, выполнявшие свой долг, с гордостью и радостью носившие форму СС, но робкие, не способные проявлять инициативу, всегда с сомнением рассуждавшие «да… но» и восхищавшиеся выдающимся гением, своим шефом. Единственный, кто выделялся из общей массы, был Вислицени, пруссак, мой ровесник, отлично владевший английским и превосходно знавший историю. Я с удовольствием коротал с ним вечера, рассуждая о Тридцатилетней войне, поворотном 1848 годе или о нравственном упадке эпохи Вильгельма. Оригинальностью взгляды Вислицени не отличались, но он умел подкрепить их документальными фактами и связно изложить – важнейшее свойство исторического воображения. Первоначально Вислицени был начальником Эйхмана, если не ошибаюсь, в 1936 году, в любом случае в тот период, когда в Главном управлении СД «еврейскими делами» занимался отдел II-112. Но из-за лени и инертности Вислицени быстро уступил позиции своему подчиненному, впрочем, зла на него не держал и сохранил с ним хорошие отношения. Вислицени был доверенным лицом в семье Эйхмана, они даже на публике обращались друг к другу на «ты». Поссорились они, вероятно, позже, по причине, мне неизвестной. Вислицени, свидетель на Нюрнбергском процессе, нарисовал портрет бывшего товарища с явными преувеличениями, его характеристики еще долго вводили в заблуждение историков и писателей, заставляя некоторых из них искренне верить, что несчастный оберштурмбанфюрер давал указания Адольфу Гитлеру. Мы не можем осуждать Вислицени: он спасал свою шкуру, ведь Эйхман-то исчез. В то время считалось в порядке вещей перекладывать вину на отсутствующих. Однако бедному Вислицени это не удалось. Его повесили в Пресбурге, в нынешней словацкой Братиславе. Крепкая оказалась веревка, коль выдержала такую тушу! Я уважал Вислицени еще по одной причине. Он не терял головы в отличие от других – я имею в виду берлинских чиновников, которые здесь вдруг ощутили свою власть над еврейскими сановниками, образованными людьми, иногда вдвое старше их, и утратили всякое чувство меры. Одни оскорбляли евреев в грубой и непристойной форме, другие частенько поддавались соблазну злоупотребить своим положением и вели себя с невыносимой наглостью, по моему мнению совершенно неуместной. Я, например, помню Хунше, регирунгсрата, кадрового чиновника, недалекого юриста, маленького серого человечка, которого и не заметишь за конторкой в банке. Такой прилежно марает бумагу в ожидании пенсии, чтобы в шерстяном жилете, связанном женой, отправиться выращивать голландские тюльпаны или раскрашивать оловянных солдатиков наполеоновской эпохи и любовно расставлять их рядами по званию перед гипсовым макетом Бранденбургских ворот, припоминая утраченный порядок юности, или о чем там еще мечтают подобного рода люди? А в Будапеште Хунше, нелепый в военной форме и широченных галифе, курил сигареты класса люкс, принимал еврейских лидеров, положив ноги в грязных сапогах на бархатное кресло, и без зазрения совести требовал исполнения малейших своих желаний. В первые же дни после нашего приезда Хунше потребовал у евреев пианино. «Всегда мечтал о пианино», – небрежно заметил он. Те с испугу привезли ему целых восемь штук. И Хунше, широко раздвинув ноги в сапогах с высокими голенищами, в моем присутствии отчитывал евреев, стараясь придать голосу ироничный тон: «Ну что же вы, господа! Я не собирался открывать магазин, мне просто захотелось поиграть на пианино». Пианино! Германия стонала под бомбами, наши солдаты с обмороженными конечностями, изуродованными руками сражались на фронте, а гауптштурмфюреру, регирунгсрату доктору Хунше, никогда до сих пор не покидавшему контору в Берлине, понадобилось пианино, наверное, чтобы успокоить расшалившиеся нервы. Депортации уже начались, и я, наблюдая, как Хунше готовит приказы для людей в транзитных лагерях, спрашивал себя, не встает ли у него под столом в момент подписания документов. Я первым готов признать, что это худший представитель господ, Herrenvolk, тех, кто из грязи вылез в князи. И если будут судить Германию за таких людей, которых, увы, развелось довольно много, я не смогу отрицать, что мы заслужили нашу судьбу, приговор истории, нашу dike [89].
Что еще сказать об оберштурмбанфюрере Эйхмане? Впервые за все время нашего знакомства он так рьяно исполнял свою роль. Принимая евреев, он полностью перевоплощался в Übermensch, человека высшей расы. Снимал очки, говорил резко, рубил фразы, но грубостей не допускал, приглашал евреев садиться и обращался к ним «господа», доктора Штерна называл «герр хофрат». А потом взрывался, сыпал бранью, нарочно, чтобы ошеломить присутствующих, и вдруг возвращался к ледяной вежливости, которая, похоже, всех гипнотизировала. Эйхман чрезвычайно преуспел в общении с венгерскими властями. Любезный, учтивый, он умел произвести впечатление и даже завязал с некоторыми высокопоставленными венграми крепкую дружбу. Например, с Ласло Эндре, который открыл Эйхману неведомую тому доселе светскую жизнь Будапешта и совершенно ослепил его, приглашая в замки и представляя графиням. И то, что все с удовольствием поддерживали игру, и венгры, и евреи, объясняет, почему Эйхман утратил чувство меры (кстати, он никогда не опускался до глупости Хунше) и, позабыв о своей глубинной сущности талантливого, если не гениального, бюрократа в отведенной ему узкой области, видел себя Маэстро, кондотьером, еще одним Бах-Зелевски. Но при встречах один на один в конторе или вечером в легком подпитии он превращался в прежнего Эйхмана. Того, который бегал по кабинетам гестапо, предупредительного, делового, замиравшего от восторга при виде любого высшего по званию офицера и одновременно завистливого и амбициозного. Эйхмана, который, перестраховываясь, письменно уведомлял Мюллера, Гейдриха или Кальтенбруннера о каждом своем шаге и решении и хранил все свои приказы в сейфе в идеальном порядке. Эйхмана, который был бы рад, если бы перед ним стояла такая задача, покупать и перевозить лошадей и грузовики и делал бы это с не меньшим успехом, чем сгружал и отправлял на верную смерть десятки тысяч людей. Когда я приходил, чтобы лично обсудить с Эйхманом проблемы труда заключенных, он слушал, сидя со скучающим или раздраженным видом за прекрасным бюро в номере люкс отеля «Мажестик», вертел очки или судорожно щелкал колпачком пишущей ручки: клик-клак, клик-клак. Прежде чем ответить, складывал бумаги, сплошь покрытые заметками и мелкими каракулями, сдувал пыль со стола, потом скреб уже слегка полысевший затылок и пускался в рассуждения до того длинные и витиеватые, что сам в них путался. После того как венгры в конце апреля дали согласие на эвакуацию, Эйхман пребывал чуть ли не в эйфории и кипел энергией, но по мере накопления проблем становился все более капризным, нетерпимым даже со мной, хотя меня он ценил, ему повсюду мерещились враги. Винкельман, начальник Эйхмана лишь на бумаге, его недолюбливал. И именно этот строгий, хмурый полицейский, с врожденным чутьем и хитростью австрийского крестьянина, дал нашему оберштурмбанфюреру наиболее точную, на мой взгляд, характеристику. Своим высокомерием на грани хамства Эйхман раздражал Винкельмана, видевшего его насквозь. Однажды я пришел к Винкельману спросить, не может ли он вмешаться или хотя бы как-то надавить на Эйхмана, чтобы улучшить ужасные условия транспортировки евреев. «У него мышление подчиненного, – ответил мне Винкельман. – Эйхман пользуется своим положением, не признавая ни нравственных, ни разумных ограничений в применении власти. Превышая свои полномочия, он не испытывает ни малейших угрызений совести, если считает, что действует в духе того, кто эти приказы отдает и покрывает его, как собственно поступают группенфюрер Мюллер и обергруппенфюрер Кальтенбруннер». Абсолютно справедливо. К тому же Винкельман не отрицал и достоинств Эйхмана. В тот период Эйхман уже переехал из отеля в прекрасную виллу одного еврея на улице Апостола на Розенберге. Окруженный чудесным фруктовым садом, к сожалению изуродованным бомбоубежищами, двухэтажный дом с башней стоял над Дунаем. Эйхман жил на широкую ногу и большую часть времени проводил со своими новыми венгерскими друзьями. Депортации шли полным ходом согласно очень плотному графику, охватывая зону за зоной. И отовсюду текли жалобы, из Jägerstab, из министерства Шпеера, лично от Заура и после всех инстанций – Гиммлера, Поля, Кальтенбруннера – возвращались ко мне. Стройки ждали притока здоровых, крепких, опытных в работе молодцов, а получали хрупких девушек или уже полумертвых мужчин, возмущение росло, никто не понимал, что происходит. Я уже объяснял, что частично здесь виновен гонвед, несмотря на наше давление рьяно охранявший свои рабочие батальоны. Однако и среди остальных не могло не быть крепких, здоровых мужчин. Позже выяснилось, что условия на пунктах сбора отнимали у людей последние силы, там евреи иногда неделями голодали, прежде чем их транспортировали в битком набитых вагонах для скота без воды, без питания, с ведром вместо туалета на вагон. Вспыхивали эпидемии, большинство умирало в дороге, остальные прибывали в таком состоянии, что даже тех, кого поначалу отобрали, быстро забраковывали на заводах и стройках и отправляли в лагеря. Особенно негодовали в Jägerstab, вопили, что им прислали девочек, неспособных и лопату поднять. Эйхман, как я говорил выше, категорически отклонял передаваемые мною жалобы, утверждая, что не несет за это ответственности и что только венгры могут изменить условия. Я встречался с майором Баки, госсекретарем, ответственным за жандармерию. С моим ходатайством он разделался одним махом: «Вам просто надо забирать евреев быстрее» и отослал меня к оберстлейтенанту Ференци, офицеру, занимавшемуся организационной стороной депортаций. Ференци, желчный, замкнутый человек, больше часа объяснял, что рад бы лучше кормить евреев, если его снабдят продовольствием, и не так загружать вагоны, если дадут больше поездов, и что главная его миссия заключается в том, чтобы эвакуировать евреев, а не холить и лелеять. Я посетил один из «перевалочных пунктов», точно не помню где, возможно, в Кошице. Зрелище было ужасающее. Евреев целыми семьями согнали на кирпичный завод под открытым небом. Под весенним дождем дети в коротких штанишках играли в лужах, взрослые апатично сидели на чемоданах или шагали взад-вперед. Меня поразил контраст между ними и евреями из Галиции и с Украины, а других я, собственно, до сих пор и не видел. Эти были людьми образованными, в основном из буржуазии, реже из ремесленников и фермеров. Многие выглядели весьма опрятно и достойно. Дети, несмотря на условия, – умытые, причесанные, хорошо одетые, иногда даже в зеленых национальных костюмчиках с петлицами, обшитыми черным шнуром, и в маленьких кипах. От всего этого картина становилась еще более гнетущей. Если бы не желтые звезды, сидевших здесь евреев можно было принять за немцев или, по крайней мере, чехов. В моей голове возникали мрачные мысли, воображение рисовало мне этих аккуратных молодых людей и скромных девушек в газовых камерах, и на душе становилось тошно. Я представлял беременных, обхвативших руками круглые животы, и думал о том, что происходит с плодом отравленной женщины: умирает ли он одновременно с матерью или еще живет какое-то время, пленник мертвой оболочки, удушливого рая. На меня нахлынули воспоминания об Украине, и впервые за долгое время подступила тошнота, тошнота от собственного бессилия, печали и никчемной жизни. Там же я случайно пересекся с доктором Греллем, уполномоченным по делам (Legationsrat), которому Файне поручил отыскивать евреев-иностранцев, арестованных венгерской полицией по ошибке, и отправлять обратно домой – в основном в страны-союзницы или нейтральные государства. Бедняга Грелль, изуродованный ранением в голову и ужасными ожогами до такой степени, что дети в испуге с криками убегали от него, шлепал по грязи от группы к группе и вежливо интересовался наличием заграничных паспортов, проверял документы и приказывал венгерским жандармам отводить кое-кого в сторону. Эйхман и его коллеги ненавидели Грелля, обвиняли его в сентиментальности и в непонимании происходящего. Действительно, многие венгерские евреи за несколько тысяч пенгё покупали заграничные паспорта, по большей части румынские, их проще всего было достать. Но ведь Грелль просто выполнял свою работу, и разбираться, легально или нет получены паспорта, не вменялось ему в обязанность. В конце концов, если румынские атташе коррумпированы, это проблема властей Бухареста, а не наша, если они хотят принимать и терпеть у себя евреев, тем хуже для них. Я немного знал Грелля, в Будапеште мы иногда с ним ужинали или пропускали стаканчик. Почти все немецкие офицеры, даже коллеги, его избегали: из-за отталкивающей внешности и приступов тяжелой депрессии, производивших гнетущее впечатление на окружающих. Меня же это не волновало, может быть, потому, что я сам получил похожее ранение. Грелль тоже получил пулю в голову, но последствия оказались серьезнее. Мы по обоюдному согласию не обсуждали, при каких обстоятельствах это произошло, но, выпив однажды лишнего, он сказал, что мне повезло. Он прав, мне чрезвычайно повезло: лицо не пострадало и голова практически тоже. Когда Грелль напивался, а случалось это очень часто, он менялся в лице, начинал психовать и истошно вопил, доводя себя чуть ли не до эпилептического припадка. Как-то раз в кафе нам с официантом пришлось удерживать Грелля силой, чтобы тот не перебил всю посуду. На следующий день Грелль, раскаявшийся, подавленный, пришел извиняться, но я его отлично понимал и пытался подбодрить. Там, в пересыльном лагере, он подошел ко мне, взглянул на Вислицени, с которым тоже был знаком, и коротко сказал: «Дело дрянь, верно?» И был прав, хотя случалось и хуже. Чтобы разобраться, как проводится селекция, я отправился в Аушвиц. Я ехал через Вену и Краков и прибыл на место ночью. Задолго до вокзала, с левой стороны, показались пятна белого света, линия прожекторов Биркенау, смонтированных на выкрашенных известкой столбах заграждения с колючей проволокой. За ним опять темень, бездонная пропасть, отвратительный запах горелой плоти, проникавший клубами в вагон. Пассажиры, в основном военные или чиновники, возвращавшиеся на службу, прилипали к окнам, часто в сопровождении жен, и не скупились на комментарии. «Красиво горит», – заметил один из штатских своей супруге. На платформе меня ждал унтерштурмфюрер, который зарезервировал мне комнату в Доме ваффен-СС. Утром я увиделся с Хёссом. В начале мая, после инспекции Эйхмана, как я упоминал выше, ВФХА опять полностью реорганизовала комплекс Аушвиц. Вместо Либехеншеля, безусловно лучшего коменданта за всю историю лагеря, поставили бездарь, бывшего пекаря, штурмбанфюрера Бера, какое-то время служившего адъютантом у Поля. На замену Хартейнштейна в Биркенау прислали коменданта Нацвейлер-Штрутгофа гауптштурмфюрера Крамера. И наконец, Хёссу на время проведения венгерской операции поручили контролировать остальных. Из разговора с Хёссом мне стало очевидно, что единственной задачей своего назначения он считает ликвидацию. Иногда в день прибывало по четыре состава с тремя тысячами евреев, но для их расселения Хёсс не построил ни одного дополнительного барака. Зато всю свою неуемную энергию употребил на обновление крематориев и проложил железную дорогу прямо посередине Биркенау, чем страшно гордился. Теперь вагоны можно было разгружать у входа в газовые камеры. Хёсс пригласил меня посмотреть на селекцию и прочие операции с первым в тот день составом. Новые пути проходили под сторожевой башней главных ворот Биркенау и дальше, разветвляясь на три линии, вели к крематориям в глубине территории. На немощеном перроне копошилась многочисленная толпа, шумнее, пестрее и беднее той, что я видел в пересыльном лагере. Эту партию, вероятно, привезли из Трансильвании. Женщины и девушки были в ярких разноцветных платках, мужчины пока еще в пальто, все с густыми, аккуратно подстриженными усами и небритыми щеками. Я долго наблюдал за врачами, осуществлявшими селекцию (Виртса при этом не было). Каждому человеку они уделяли одну, максимум три секунды. При малейшем сомнении сразу говорили «нет» и забраковали многих женщин, показавшихся мне абсолютно здоровыми. Когда же я высказал свои соображения Хёссу, он ответил, что это его приказ: бараки переполнены, людей размещать негде. Предприятия недовольны, медлят с вывозом, евреев скапливается огромное количество, вспыхивают эпидемии, а поскольку Венгрия продолжает присылать составы ежедневно, надо искать места. Среди заключенных уже неоднократно проводились селекции. Хёсс попытался ликвидировать цыганский лагерь, но столкнулся с проблемами, и дело отложили. Он просил разрешения освободить «семейный лагерь» в Терезиенштадте, но ответа пока не получил и теперь в ожидании отбирал лишь самых лучших евреев. А если оставлять больше людей, то они все равно быстро умрут от болезней. Хёсс говорил об этом совершенно спокойно, рассеянно глядя пустыми голубыми глазами то на толпу, то на рельсы. Я был в отчаянии: заставить Хёсса услышать голос разума оказалось сложнее, чем внушить что бы то ни было Эйхману. Хёсс непременно хотел показать мне устройства для уничтожения и разъяснить детали. Он увеличил зондеркоманды с двухсот двадцати до восьмисот шестидесяти человек, но переоценил возможности крематориев, проблема возникла не из-за подачи газа, а из-за перегруженности печей, и, чтобы выйти из положения, Хёсс вырыл рвы для сжигания и подстегнул зондеркоманды. Дело сдвинулось, ежедневный результат в среднем достигает шести тысяч, но иногда, если у зондеркоманды накапливается слишком много работы, некоторые евреи ждут следующего дня. Чудовищно! Пламя и дым из рвов, пропитанный бензином и салом, распространялся, наверное, на километры вокруг. Я поинтересовался у Хёсса, не боится ли он неприятностей. «Да, областные власти обеспокоены, но это не моя проблема». Послушать Хёсса, ни одна из множества насущных проблем его не касалась. Рассерженный, я попросил его показать бараки. Новый сектор, запланированный как транзитный лагерь для венгерских евреев, не достроили. Тысячи женщин, изможденных и отощавших, хотя в лагерь их привезли совсем недавно, теснились в длинных зловонных хлевах. Для многих места не нашлось, и они спали на улице, в грязи. Собственную одежду с них сняли и, поскольку полосатых роб тоже не хватало, вырядили в лохмотья из «Канады». Я увидел женщин и совсем голых, и в одной рубашке, из-под которой торчали желтые, дряблые ноги, иногда перепачканные экскрементами. Неудивительно, что Jägerstab жалуется! Хёсс неопределенно, в двух словах намекнул, что другие лагеря тоже виноваты: разворачивают составы, дескать, сами трещат по швам. Я обходил лагерь весь день, сектор за сектором, барак за бараком. Мужчины жили в условиях едва ли лучших, чем женщины. Я изучил регистрационные списки. Никто, конечно, даже не думал соблюдать элементарное правило содержания заключенных в лагерях: кто первый вошел, тот первый вышел. Так некоторые прибывшие не задерживались здесь и на сутки перед дальнейшим распределением, а другие гнили по три недели, деградировали и часто умирали, что увеличивало количество потерь. Но когда я обращал внимание Хёсса на недочеты, он всякий раз находил виноватых. Его мышление формировалось в предвоенные годы, и неспособность адаптироваться к нынешним задачам была очевидна. Но не одного Хёсса надо судить, сильно оплошали и те, кто прислал его на замену Либехеншеля. Я мало знал Либехеншеля, но не сомневался, что он решал бы все совершенно иначе. Я прокрутился до вечера. Время от времени припускал весенний ливень, короткий и освежающий, прибивал пыль, но заключенные, остававшиеся на открытом воздухе и мечтавшие собрать хоть чуть-чуть воды для питья, под дождем выглядели еще плачевней. Вся задняя территория лагеря полыхала и дымилась, даже над спокойной зоной Биркенвальда клубился дым. Вечером неиссякаемые колонны женщин, детей и стариков продолжали идти от железной дороги по длинному проходу, обнесенному колючей проволокой, к крематориям III и IV, и терпеливо дожидались своей очереди под березами. Прекрасный свет закатного солнца обрезал верхушки Биркенвальда, вытянул в бесконечность тени стоявших рядами бараков, зажег темно-серый дым переливами желтого, как на картинах голландцев, играл нежными отблесками на лужах и резервуарах с водой, окрасил радостным ярко-оранжевым цветом кирпичные стены комендатуры. И тут я вдруг почувствовал, что с меня довольно, попрощался с Хёссом и вернулся в Дом, где провел ночь за составлением рапорта, резко критикуя недостатки лагеря. В другом рапорте – о венгерской операции – я в гневе охарактеризовал поведение Эйхмана как обструкционистское. Переговоры с венгерскими евреями длились уже два месяца. Следовательно, вопрос о грузовиках ставился месяц назад, а Аушвиц я посетил за несколько дней до высадки десанта в Нормандии. Бехер уже давно жаловался на нежелание Эйхмана сотрудничать, и нам обоим казалось, что он вел переговоры формально. Эйхман – истый снабженец, писал я, и не способен понять и реализовать в ходе своей деятельности сложные целевые установки. Из надежного источника я знаю, что после этих рапортов, которые я отослал Брандту для рейхсфюрера и лично Полю, Поль вызвал Эйхмана в ВФХА и резко, без обиняков, отчитал за состояние прибывающих и недопустимое количество мертвых и больных. Но Эйхман упрямо повторял, что это компетенция венгров. Против такой косности не попрешь! Мало-помалу я погружался в депрессию, что пагубно отражалось на моем здоровье в целом: я стал плохо и беспокойно спать, по три-четыре раза за ночь просыпался от жажды или чтобы помочиться, кончилось дело бессонницей. По утрам я поднимался с жуткой головной болью, в течение дня она мешала мне сосредоточиться, а иногда вынуждала прервать работу и около часа лежать на диване с холодным компрессом на лбу. Но, как бы я ни уставал, наступление ночи наводило на меня ужас. Не знаю, что сильнее меня изводило – бессонница или сны, становившиеся все более тревожными. Вот один из них, особенно меня поразивший: раввин Бремена эмигрировал в Палестину. Услышав, что немцы убивают евреев, он отказывается этому верить, является в немецкое консульство и просит визу в Рейх, чтобы самому убедиться, обоснованы ли дошедшие до него слухи. Естественно, кончает он плохо. Тем временем сцена меняется. Я, специалист по еврейским делам, ожидаю аудиенции у рейхсфюрера, выразившего желание кое-что обо мне узнать. Я нервничаю, ясно понимая, что если рейхсфюрера не удовлетворят мои ответы, я умру. Действие происходит в каком-то сумрачном замке. Я встречаю Гиммлера в одной из комнат, он жмет мне руку, невысокий, невозмутимый, не привлекающий внимания человек в длинной шинели и с вечным пенсне с круглыми стеклами на носу. Потом я долго веду его по коридору, стены которого уставлены книгами. Наверное, книги принадлежат мне, рейхсфюрер, похоже, под впечатлением от библиотеки и поздравляет меня. Мы оказываемся в другой комнате и обсуждаем интересующие его вещи. Позже мы вроде уже на улице, в центре города, объятого пожаром. Мой страх перед Генрихом Гиммлером прошел, я чувствую себя с ним в безопасности, но теперь боюсь бомб и огня. Нам надо перебежать через горящий двор какого-то здания. Рейхсфюрер берет меня за руку: «Доверьтесь мне. Что бы ни случилось, я вас не брошу. Мы пересечем двор вместе или погибнем вместе». Я не понимаю, почему рейхсфюрер хочет спасти меня, маленького еврейчика, но верю ему и чувствую, что он искренен и что я даже мог бы полюбить этого странного человека.
Но я должен все-таки рассказать вам о тех знаменитых переговорах. Личного участия я в них не принимал, только однажды встретился с Кастнером и Бехером, когда Бехер заключил очередное частное соглашение, повергшее Эйхмана в ярость. Тем не менее я проявлял живой интерес к происходящему, ведь одно из предложений состояло в том, чтобы «заморозить» определенное число евреев, то есть послать их на работы, минуя Аушвиц. Меня, конечно, это очень устраивало. Бехер, сын предпринимателя из высшего общества Гамбурга, страстный любитель верховой езды, поступивший в кавалерийский полк СС, неоднократно отличился на Востоке, например в начале 1943 года на Дону, где получил Германский золотой крест. Теперь он занимался важными задачами материально-технического обеспечения и возглавлял экономический отдел оперативного штаба СС, SS-Führungshauptamt (ФХА), контролирующий обеспечение всех ваффен-СС. После того как Бехер прибрал к рукам предприятие «Манфред-Вайс» – о чем со мной никогда не говорил, я об этом знаю исключительно из книг, но, похоже, что началось все случайно, – рейхсфюрер приказал ему продолжить переговоры с евреями и приблизительно те же инструкции дал Эйхману, несомненно, чтобы столкнуть их лбами. Бехер пользовался доверием рейхсфюрера и мог многое обещать, но ответственности за «еврейские дела» не нес, и влияние его в этом вопросе было не больше моего. В той истории было замешано множество людей. Группа шумных, недисциплинированных молодцов Шелленберга, кое-кто из бывшего IV управления, например, Хёттл, который взял фамилию Клагес, а позже опубликовал книгу под третьей, не помню какой, кое-кто из абвера Канариса, Гефроренер (alias доктор Шмидт), Дурст (alias Виннигер), Лауфер (alias Шредер), хотя, возможно, я переврал имена и псевдонимы. Был еще этот мерзкий Пауль Карл Шмидт, в будущем Пауль Карелл, я его уже упоминал и надеюсь, не спутал с Гефроренером (alias доктор Шмидт), но не уверен. И всем им евреи давали деньги и драгоценности, а эти люди брали – для своих ведомств или для себя лично, кто знает? В марте Гефроренер с коллегами арестовали Джоэля Брандта, чтобы «защитить» его от Эйхмана. Потом у Брандта запросили несколько миллионов долларов, обещав свести его с Вислицени. И Вислицени, Крумей и Хунше тоже выудили у Брандта много денег, еще до переговоров о грузовиках. Сам я Брандта никогда не видел, с ним общался Эйхман. В итоге Брандт довольно поспешно уехал в Стамбул и обратно не вернулся. Однажды в «Мажестике» я встретил его жену, молодую женщину ярко выраженного еврейского типа, не красавицу, но очень колоритную, в компании Кастнера. Он-то мне и представил ее как жену Брандта. Доподлинно неизвестно, кому принадлежала идея с грузовиками, Бехер утверждал, что ему, но я уверен, что рейхсфюрера надоумил Шелленберг. А если это и вправду была идея Бехера, то Шелленберг ее развил. Как бы то ни было, в начале апреля рейхсфюрер вызвал Бехера и Эйхмана в Берлин и приказал Эйхману получить у евреев приблизительно десять тысяч грузовиков и моторизовать 8-ю и 22-ю кавалерийские дивизии СС. Вот, собственно, откуда знаменитая история о сделке, которую окрестили «Кровь за товары»: десять тысяч грузовиков с зимней комплектацией за миллион евреев. Все основные участники: Бехер, Эйхман, чета Брандт и Кастнер – выжили в войну и выступали свидетелями по этому делу. Бедняга Кастнер в 1957 году, за три года до ареста Эйхмана, был убит еврейскими экстремистами в Тель-Авиве за сотрудничество с нами – какая печальная ирония судьбы! Одно из условий сделки гласило, что грузовики будут использоваться исключительно на Восточном фронте против большевиков, а не западных держав, и поставку осуществлять могли, разумеется, только американские евреи. Я убежден, что Эйхман воспринял предложение буквально, к тому же командующий 22-й дивизии бригадефюрер СС Август Цэендер являлся его хорошим другом. Эйхман действительно вообразил, что наша главная цель – моторизация дивизий, и готов был даже отпустить такое количество евреев, лишь бы помочь своему другу Цэендеру. Как будто грузовики изменили бы ход войны! Сколько грузовиков, или танков, или самолетов построили бы евреи, если бы в наших лагерях их оказался миллион? Подозреваю, что сионисты с Кастнером во главе сразу поняли, что это обман, но обман, который мог бы послужить их интересам и позволил бы выиграть время. Люди они были трезвомыслящие, реалисты, и не хуже рейхсфюрера знали, что ни одна вражеская страна не только не согласится отдать Германии десять тысяч грузовиков, но уж тем более не выразит готовности принять миллион евреев. Что касается меня, то как раз за уточнением, согласно которому грузовики не отправятся на Запад, я разглядел Шелленберга. Он, как намекнул мне Томас, считал единственно правильным решение разорвать противоестественный союз между капиталистическими демократиями и сталинистами и разыграть карту Европа – крепость против большевизма. Послевоенная история, впрочем, доказала и абсолютную правоту Шелленберга, и то, что он опережал свое время. Операция «Кровь за товары» преследовала множество целей. Конечно, – кто же знает, ведь и чудо могло произойти, – евреи и страны коалиции договорились бы, и тогда с помощью грузовиков легче было бы посеять зерна раздора между русскими и их англо-американскими союзниками или даже расколоть их. Гиммлер, похоже, лишь о том и грезил, но Шелленберг, реалист в большей степени, не возлагал надежд на этот вариант. В его понимании все обстояло гораздо проще: через евреев, еще сохранявших определенное влияние, послать дипломатический сигнал о том, что Германия готова договариваться и о сепаратном мире, и о прекращении программы уничтожения, посмотреть на реакцию англичан и американцев и в зависимости от нее предпринимать другие демарши. В общем, выкатить пробный шар. Впрочем, реакция англичан и американцев показала, что они быстро раскусили наш ход: информация о сделке появилась в газетах и была сурово осуждена. Возможно, Гиммлер рассчитывал, что если союзники откажутся от предложения, то продемонстрируют свое наплевательское отношение к судьбе евреев или даже тайное одобрение наших мер. То есть часть ответственности ляжет на союзные страны и замарает их, как Гиммлер уже замарал гауляйтеров и других германских чиновников. Как бы то ни было, Шелленберг и Гиммлер партию не прекращали, и переговоры, в которых на кону стояла судьба евреев, продолжались до конца войны. При посредничестве евреев в Швейцарии – в нарушение тегеранских договоренностей – состоялась встреча Бехера с Мак-Клелланом, человеком Рузвельта, не давшая, впрочем, никаких результатов. Я уже давно занял отстраненную позицию. Время от времени до меня доходили какие-то слухи от Томаса или Эйхмана, не более того. Даже в Венгрии, как я уже объяснял, моя роль оставалась второстепенной. У меня интерес к переговорам о грузовиках проснулся после посещения Аушвица, ближе к июню, когда англичане и американцы высадились в Нормандии. Бургомистр Вены, почетный бригадефюрер СС Блашке, попросил Кальтенбруннера прислать Arbeitsjuden, рабочих-евреев, ему на заводы, где катастрофически не хватало рук. Евреев, переправленных в Вену, можно было бы рассматривать как тот самый «замороженный» резерв, и я решил воспользоваться выпавшим шансом, чтобы положить конец спорам с Эйхманом и получить рабочую силу. Именно в тот момент Бехер познакомил меня с Кастнером, личностью необыкновенно яркой. Всегда безупречно элегантный, Кастнер держался с нами на равных и с полным пренебрежением относился к собственной жизни, что наделяло его определенной силой в наших глазах. Запугать его не удавалось никому, хотя попытки были, несколько раз его арестовывали СП и венгерские жандармы. Он усаживался в кресло, хотя Бехер его не приглашал, вынимал из серебряного портсигара ароматизированную сигарету и закуривал, не спрашивая разрешения и тем более не угощая нас. На Эйхмана произвели впечатление его хладнокровие и идейная бескомпромиссность, он полагал, что если бы Кастнер родился немцем, то стал бы отличным офицером гестапо, а это в устах Эйхмана несомненно звучало как наивысший комплимент. «Кастнер мыслит, как мы, – выдал мне однажды Эйхман. – Его заботит только биологический потенциал расы, он готов пожертвовать всеми стариками, чтобы спасти молодых, сильных мужчин и женщин, способных к деторождению. Он думает о будущем своей расы. Я ему сказал: „Если бы я был евреем, то точно таким же, как вы, фанатичным сионистом“». Кастнер заинтересовался венским предложением и готов был платить, если безопасность отсылаемых евреев будет гарантирована. Я передал это предложение Эйхману, который пребывал в крайнем раздражении из-за исчезновения Джоэля Брандта и отсутствия результатов в переговорах по поводу грузовиков. Бехер тем временем улаживал собственные дела, эвакуировал евреев маленькими группками – в основном через Румынию и, разумеется, не задаром. Эйхман лютовал, даже приказал Кастнеру больше не контактировать с Бехером, на что тот, конечно, не обратил никакого внимания, и Бехер, кстати, вывез семью Кастнера из Венгрии. Эйхман, кипя от ярости, рассказал мне, как Бехер показывал золотое колье, которое собирался подарить рейхсфюреру для любовницы, секретарши, имевшей от него ребенка. «Бехер в фаворе у рейхсфюрера, не знаю, что мне делать», – стонал Эйхман. В итоге мои маневры увенчались определенным успехом: Эйхман получил шестьдесят пять тысяч рейхсмарок и кофе, правда немного прогорклый, что зачел в качестве задатка запрошенной им суммы в пять миллионов швейцарских франков, а восемнадцать тысяч молодых евреев уехали на работы в Вену. Гордый собой, я отправил рапорт рейхсфюреру, но ответа не последовало. В любом случае венгерская операция приближалась к концу, только мы этого еще не знали. Хорти, явно напуганный программами «Би-би-си» и дипломатическими депешами из Америки, перехваченными его службами, пригласил Винкельмана и спросил, что происходит с эвакуированными евреями, которые как-никак оставались венгерскими гражданами. Винкельман растерялся и в свою очередь вызвал Эйхмана. Вечером в баре «Мажестика» Эйхман описывал нам тот эпизод, по его мнению весьма забавный. У Хорти собрались Вислицени, Крумей и Тренкер, глава СП и СД Будапешта, приятный австриец, друг Хёттля. «Я ответил: мы их направляем на работы, – смеялся Эйхман, – больше он меня ни о чем не спрашивал». Однако Хорти не удовлетворил уклончивый ответ Эйхмана. Тридцатого июня он перенес сроки запланированной на первое июля депортации из Будапешта, а несколькими днями позже и вовсе ее запретил. Но Эйхман, несмотря на запрет, успел очистить Кистарцу и Сарваш: исключительно, чтобы сохранить лицо. Эвакуации завершились. Однако без инцидентов не обошлось. Хорти отстранил от должности Эндре и Баки, но под давлением немцев был вынужден их восстановить. Позже, в конце августа, он уволил Стояи и назначил премьером консерватора генерала Лакатоша. Впрочем, к тому времени меня уже не было в Венгрии. Вернулся я в Берлин больной, измученный и окончательно впал в депрессию. Эйхману и его коллегам удалось депортировать четыреста тысяч евреев, из них от силы пятьдесят тысяч смогли удержаться на предприятиях (плюс восемнадцать тысяч в Вене). Я был ошарашен и подавлен подобной некомпетентностью, обструкцией и интриганством. Эйхман, впрочем, чувствовал себя не лучше моего. Последний раз я виделся с ним в его кабинете в начале июля перед отъездом. Его одновременно переполняли энтузиазм и сомнения. «Венгрия, оберштурмбанфюрер, высшее мое достижение. Даже если тут придется поставить точку. Вам известно, сколько стран я уже очистил от евреев? Францию, Голландию, Бельгию, Грецию, часть Италии и Хорватии. Германию, разумеется, тоже, но это было легко, всего-навсего технический вопрос с транспортом. Единственный мой провал – Дания. Что такое тысяча евреев? Пыль. Теперь, я уверен, евреи никогда не оправятся. Здесь нас тоже ждал успех, венгры стремились избавиться от них, как от кислого пива, мы работать не успевали. Жаль, что надо закругляться, но, может, мы еще продолжим». Я молча слушал. Лицо Эйхмана подергивалось от тика больше, чем обычно, он тер нос и выворачивал шею. Несмотря на патетику своих заявлений, Эйхман выглядел подавленным. Он вдруг спросил меня: «А мне что делать? Что со мной будет? Что станется с моей семьей?» Несколькими днями раньше РСХА перехватило радиопередачу из Нью-Йорка, представившую данные по евреям, убитым в Аушвице, цифры очень близкие к настоящим. Эйхман наверняка об этом знал, как и о том, что его имя фигурировало во всех списках наших врагов. «Честно?» – спросил я тихо. «Да. Вы же знаете, невзирая на наши разногласия, я всегда уважал ваше мнение», – ответил Эйхман. «Ладно. Если мы проиграем войну, вам крышка». Эйхман вскинул голову: «Да, я понимаю. И не рассчитываю выжить. Если мы потерпим поражение, я пущу себе пулю в висок, с гордостью за выполненный долг. А если мы победим?» – «А если мы победим, – проговорил я еще тише, – вас повысят. Вы же не будете заниматься этим вечно. После войны Германия будет совершенно другой, многое изменится, возникнут новые задачи. Вам придется приспосабливаться к ним». Эйхман ничего не ответил, и, попрощавшись, я вернулся в «Асторию». К моей бессоннице и головным болям добавились теперь резкие и внезапные скачки температуры. А доконал меня визит этих двух бульдогов, Клеменса и Везера, без предупреждения появившихся в моем отеле. «Что вы здесь делаете?» – воскликнул я. «Ну, оберштурмбанфюрер, – ответил Клеменс, а может, и Везер, я точно не помню, – мы приехали поговорить с вами». – «О чем нам говорить? – раздраженно спросил я. – Дело закрыто». – «А вот как раз и нет», – возразил Клеменс. Полицейские сняли шляпы и сели, не дожидаясь приглашения. Клеменс – на заскрипевший под ним стул рококо, а Везер на длинную софу. «Да, против вас не выдвинули обвинения, ладно, мы с этим согласны. Но расследование убийства продолжается. Например, мы по-прежнему ищем вашу сестру и близнецов». – «Вообразите, оберштурмбанфюрер, французы сообщили нам марку одежды, которую они обнаружили. Припоминаете? В ванной. Благодаря чему мы смогли выйти на известного портного, некоего Пфаба. Вы заказывали костюмы у господина Пфаба, оберштурмбанфюрер?» Я улыбнулся: «Конечно. Он один из лучших портных в Берлине. Но предупреждаю, если вы будете и дальше копать под меня, я попрошу рейхсфюрера отстранить вас за несоблюдение субординации». – «О! – отозвался Везер. – Не надо нам угрожать, оберштурмбанфюрер. Никто под вас не копает. Мы просто хотим еще раз допросить вас в качестве свидетеля». – «Точно, – пробасил Клеменс, – в качестве свидетеля». Он передал блокнот Везеру, тот пролистнул несколько страниц и ткнул в нужную, чтобы Клеменс прочел. «Французская полиция нашла завещание господина Моро, – заговорщически прошептал Везер. – Но спешу вам сообщить, вы в нем не упомянуты. Как и ваша сестра. Господин Моро оставляет все имущество, предприятия и дом двум близнецам». – «Мы сочли это странным», – буркнул Клеменс. «Вот именно, – подтвердил Везер. – Судя по тому, что нам удалось узнать, дети это приемные, возможно, они в родстве с вашей матерью, возможно, нет, но никак не с Моро». Я пожал плечами: «Я вам уже говорил, что мы с Моро не ладили. Неудивительно, что он мне ничего не оставил. Но у него не было ни детей, ни других родственников, и он, должно быть, привязался к близнецам». – «Допустим, допустим, – повторил Клеменс. – Однако выглядит все примерно следующим образом: близнецы могли быть свидетелями преступления, они наследники и исчезли с помощью вашей сестры, которая, по-видимому, в Германию не возвращалась. Вы не прольете хоть немного света на ситуацию? Даже если и не имеете к ней ни малейшего отношения». – «Господа, – я откашлялся, – я уже сообщил вам все, что мне известно. Если вы явились в Будапешт, чтобы задать мне этот вопрос, вы напрасно потратили время». – «О, не беспокойтесь, – желчно заметил Везер, – мы никогда не тратим времени даром. Всегда находим что-нибудь полезное. И потом, нам нравится беседовать с вами». – «Н-да, – рыгнул Клеменс. – Нам очень приятно. И мы скоро продолжим». – «Потому что, видите ли, – встрял Везер, – если уж начинаешь что-то, надо доводить дело до конца». – «Да, иначе не имеет смысла начинать», – поддакнул Клеменс. Я молчал, холодно глядя на них, но страх переполнял меня. Я видел, что эти придурки вбили себе в головы, что я виновен, и вряд ли прекратят преследовать меня. Необходимо предпринять меры, но какие? Я был слишком подавлен, чтобы действовать. Полицейские задали мне еще пару вопросов о сестре и ее муже, я отвечал рассеянно. Перед уходом Клеменс, уже в шляпе, сказал: «Приятно было пообщаться с разумным человеком, оберштурмбанфюрер». «Надеемся, что не в последний раз, – ухмыльнулся Везер. – Вы скоро собираетесь в Берлин? Не пугайтесь: город не тот, что прежде».
Везер сказал правду. Я вернулся в Берлин на второй неделе июля, чтобы отчитаться о проделанной работе и получить новые инструкции. Кабинеты рейхсфюрера и РСХА изрядно пострадали еще в период мартовских и апрельских бомбардировок. Фугасные бомбы превратили Дворец принца Альбрехта в развалины, здание СС уцелело частично, мой кабинет вновь переехал в другой корпус Министерства внутренних дел. Крыло, которое занимало гестапо, сгорело, огромные трещины расползлись по стенам, пустые оконные проемы были забиты досками; большинство отделов и секций перебазировались в пригород или даже в отдаленные деревни. Заключенные продолжали красить коридоры и разгребать мусор в разбомбленных учреждениях; впрочем, многие из них погибли во время одного из майских налетов. Для людей, оставшихся в городе, настала тяжелая жизнь. Водопровод практически не работал, солдаты выдавали по два ведра воды в день на семью, ни газа, ни электричества не было. Чиновники, с трудом добиравшиеся до работы, закутывали лица шарфами, чтобы хоть как-то защититься от постоянного дыма пожарищ. Вняв патриотической пропаганде Геббельса, женщины больше не носили ни шляпок, ни нарядной одежды; на тех, что продолжали пользоваться косметикой, прохожие на улицах набрасывались с руганью. Массированные налеты с некоторых пор прекратились, но короткие, внезапные и изматывающие атаки «москито» продолжались. Мы наконец обстреляли Лондон, но не ракетами Шпеера и Каммлера, а малыми, принадлежавшими люфтваффе, которые Геббельс окрестил «оружием возмездия» – Vergeltungswaffen V-1. На моральном настрое англичан это почти не отразилось и еще меньший эффект произвело на наше гражданское население, удрученное бомбардировками Центральной Германии и катастрофическими новостями с фронта (удачная высадка десанта в Нормандии, капитуляция Шербура, потеря Монтекассино и поражение под Севастополем в конце мая). Вермахту, несмотря на распространявшиеся слухи, пока удавалось скрывать правду о сокрушительном прорыве нашей обороны большевиками в Белоруссии. Лишь немногие, и я в том числе, знали все, а именно то, что за три недели русские достигли моря, что группа армий «Север» отрезана на Балтике, а группа армий «Центр» больше не существует. На фоне общей мрачной атмосферы Гротман, адъютант Брандта, принял меня холодно, держался чуть ли не презрительно, казалось, ответственность за плачевные результаты венгерской операции он возлагает на меня лично, но я был слишком деморализован, чтобы протестовать. Сам Брандт находился в Растенбурге с рейхсфюрером. Мои коллеги, похоже, пребывали в растерянности, никто толком не понимал, куда идти и что делать. Шпеер, с тех пор как заболел, не предпринимал попыток связаться со мной, но я по-прежнему получал копии его гневных писем рейхсфюреру. С начала года за разного рода нарушения гестапо арестовало более трех тысяч человек, из них две тысячи иностранных рабочих, пополнивших контингент концлагерей. Шпеер обвинял Гиммлера в браконьерском истреблении рабочей силы и угрожал сообщить об этом фюреру. И другие наши партнеры копили жалобы и критические замечания, особенно Jägerstab, считавший себя решительно обманутым. На наши собственные письма и просьбы мы получали отписки. Но мне было уже все равно, я бегло просматривал их, не вникая в содержание. Однажды в куче ожидавшей меня почты я обнаружил письмо от судьи Баумана. Я поспешно разорвал конверт и вытащил листок бумаги и фотографию, копию старого снимка, зернистого и немного расплывшегося. На нем были верховые – на снегу, в разномастных формах, стальных касках, морских фуражках, каракулевых шапках. Бауман поставил чернильный крест над одним из военных в длинной шинели с офицерскими знаками различия. Черты овального лицо распознать было совершенно невозможно. На обороте Бауман сделал пометку: КУРЛЯНДИЯ, ПОД ВОЛЬМАРОМ, 1919. Его вежливая записка тоже ничего не проясняла.
Мне повезло: моя квартира уцелела. Окна опять выбило, соседка худо-бедно закрыла проемы досками и парниковой пленкой. В гостиной разбились стеклянные дверцы буфета, потолок потрескался, люстра упала. Спальня пропахла гарью, потому что у соседей был пожар – зажигательная бомба влетела в окно. Впрочем, квартира была пригодной для жизни и даже чистой. Моя соседка фрау Цемпке все вымыла и побелила стены, чтобы ликвидировать следы копоти. Керосиновые лампы, начищенные до блеска, стояли в ряд на буфете, в ванной я обнаружил бочку и множество бидонов с водой. Я распахнул балкон и все незаколоченные рамы, чтобы впустить свет уходящего дня, потом спустился поблагодарить фрау Цемпке. Я заплатил ей за услуги, а между тем деньгам она бы, наверное, предпочла венгерскую колбасу, я же – в который раз – упустил это из виду. Я отдал ей продовольственные купоны и попросил готовить мне еду, однако фрау Цемпке объяснила, что купоны уже не пригодятся: магазин, где на них отоваривались, разбомбили, но если я добавлю еще немного денег, она что-нибудь придумает. Я поднялся к себе. Подвинул кресло к открытому балкону; выдался безмятежный прекрасный летний вечер. От половины домов в округе остались лишь пустые, немые фасады или груды развалин, и я долго созерцал этот апокалиптический пейзаж. Из парка больше не доносился гомон, наверное, всех детей отправили в деревню. Я не заводил музыку и наслаждался мягким покоем. Фрау Цемпке принесла мне сосисок, хлеба и немного супа, извинилась, что нет ничего лучше, но это было как раз то, что нужно. В столовой гестапо я прихватил пива и теперь ел и пил с удовольствием, воображая, что я на острове, в тихой гавани посреди всеобщей катастрофы. Помыв посуду, я налил себе стакан плохого шнапса, закурил, сел и, пощупав карман, где лежало письмо Баумана, принялся наблюдать за игрой закатного солнца на руинах. Длинные, косые лучи окрашивали желтым отштукатуренные фасады зданий и проникали внутрь сквозь зияющие оконные проемы, выхватывая из полумрака рухнувшие перегородки и обугленные балки. В некоторых квартирах еще сохранились следы протекавшей там недавно жизни: рамка с фотографией или репродукция, до сих пор болтавшаяся на стене, разодранные обои, стол под красно-белой клетчатой скатертью, наполовину висевший в воздухе, изразцовые печи на каждом этаже, там, где полы уже обвалились. Но не все люди покинули свое жилье: то здесь, то там я примечал белье, развешанное на балконе или перед окном, горшки с цветами, дымок, струящийся из трубы. Солнце быстро опускалось за руины, отбрасывавшие огромные уродливые тени. Вот, подумал я, во что превратилась столица нашего тысячелетнего Рейха. Что бы дальше ни произошло, нам не хватит жизни, чтобы отстроить все заново. Потом я поставил несколько ламп рядом со своим креслом и, наконец, вытащил фотографию из кармана. Должен сказать, я испугался. Я не узнавал этого человека, сколько ни вглядывался в снимок. Вместо лица под фуражкой было белое пятно, на котором угадывались контуры носа, рта и глаз, размытые, лишенные всякой индивидуальности. Это мог быть кто угодно. И я, отхлебывая шнапс, недоумевал, как могло случиться, что, глядя на плохую копию плохой фотографии, я не решаюсь без колебаний сказать: да, вот мой отец или: нет, это не он. Сомнение казалось мне невыносимым, я допил стакан и налил еще. Не отрывая глаз от снимка, я перебирал воспоминания, пытаясь по крохам собрать образ отца, но детали ускользали, ни одну не удавалось удержать, белое пятно на фотографии их отталкивало, как один конец магнита отталкивает другой с той же полярностью, разрушало, не давало соединиться. У меня не осталось портретов отца. Через некоторое время после его отъезда мать все уничтожила. И сейчас противоречивый, ускользающий силуэт на снимке вытравлял то, что сохранилось в памяти, заменял живое присутствие расплывшимся лицом и фигурой в форме. В приступе бешенства я порвал фотографию в клочья и выбросил с балкона. Потом залпом опрокинул стакан и тут же налил другой. Я вспотел, мне казалось, что моя кожа стала слишком тесной для владевшего мной гнева и страха. Я разделся и уселся голышом перед открытым балконом, не потрудившись потушить лампы. Бережно, как маленького раненого воробья, подобранного в поле, зажав в руке член и яички, я осушал стакан за стаканом и курил без передышки. Прикончив бутылку, я взял ее за горлышко, размахнулся и метнул подальше, в направлении парка, не заботясь о гуляющих там людях. Мне хотелось выкидывать вещи, опустошать квартиру, раскачивать мебель. Я пошел в ванную, умылся и, подняв керосиновую лампу, посмотрел в зеркало: на исказившемся мертвенно-бледном лице глаза блестели словно два черных галечных камня. Показалось, что мои черты плавятся как воск от жара моей ненависти и убожества, все распадалось, не держалось вместе. Я швырнул лампу в зеркало, оно разлетелось вдребезги, немного масла вытекло и обожгло мне плечо и шею. Я возвратился в гостиную и свернулся клубком на диване. Я дрожал и лязгал зубами. Не знаю, откуда у меня взялись силы дойти до кровати, я закутался в одеяла, но это не помогло, я просто умирал от холода. По телу бегали мурашки, его сотрясали судороги, затылок свело спазмом, я стонал от боли. Все эти ощущения поднимались громадными волнами и волокли меня в серо-зеленые мутные воды. Каждую секунду я думал, что хуже уже быть не может, но опять меня уносило потоком и я оказывался там, где прежние страдания казались чуть ли не приятными, детское преувеличение. Во рту у меня пересохло, язык покрылся вязкой пленкой, но подняться и попить не было сил. Я долго блуждал в дремучих лесах лихорадки, в плену старых наваждений. Одновременно с судорогами и ознобом обездвиженное тело пронзало острое сексуальное желание, анус покалывало, возникла болезненная эрекция, но шевельнуться и облегчиться я не мог, это было бы все равно, что дрочить рукой полной толченого стекла. Я смирился и поплыл по течению. В некоторые моменты я по неистовым сталкивающимся потокам скатывался в сон, и мое сознание наводняли пугающие образы. Я, маленький голый ребенок, сижу на корточках в снегу и испражняюсь, поднимаю голову и вижу, что меня окружили кавалеристы с каменными лицами, в шинелях времен Мировой войны, но не с винтовками, а с копьями в руках, и молча осуждают мое непристойное поведение. Я хотел бежать, но солдаты плотнее сомкнули круг. Перепуганный, я топтался в собственном дерьме, весь испачкался, и вдруг один из них, с расплывшимися чертами, отделился от группы и направился ко мне – и все исчезло. Видимо, я погружался и выныривал из галлюцинаций и гнетущих снов, словно пловец в море, постоянно пересекающий границу между водой и воздухом. Иногда возникало такое чувство, что тело мне больше не нужно. Я бы с удовольствием избавился от него, скинул поскорее, как мокрое пальто. Потом я опять участвовал в какой-то запутанной и непонятной истории. За мной гналась иностранная полиция, меня запихнули в фургон, который ехал вроде бы по скале, я не разобрал, вот деревня, каменные домики выстроены на разных уровнях склона среди сосен и густого кустарника, скорее всего, это провансальская глубинка. И мне захотелось иметь домик в деревне, захотелось покоя, который я смог бы там обрести. После долгих перипетий ситуация разрешилась, преследовавшие меня полицейские исчезли, я купил домик, расположенный в низине, с садом и террасой и с соснами вокруг. О, идиллическая картинка! И вот настала ночь, и на небе начался звездный дождь. Горящие розовые и красные метеориты падали медленно, по вертикали, как угасающие искры салюта. И я смотрел на огромный переливающийся занавес. В местах, где первые космические заряды касались земли, стали разрастаться странные организмы, растения ярких цветов, красные, белые, с пятнами, густые и мясистые, как отдельные виды водорослей. Их стебли утолщались и с бешеной скоростью устремлялись в небо на высоту нескольких сотен метров, сея тучи семян, которые тут же давали ростки, которые завоевывали новое пространство, тянулись вверх и мощным неодолимым напором уничтожали все на своем пути: деревья, дома, машины. Гигантские стены растений простирались во всех направлениях и загораживали горизонт. Я понимал, что событие, показавшееся мне несущественным, в действительности обернулось катастрофой. Организмы из космоса нашли на нашей земле и в атмосфере чрезвычайно благоприятную среду и безостановочно размножались, занимая свободные площади и растирая в пыль все под собой, слепо, без враждебности, просто силой стремления к жизни и развитию. Ничто не могло их сдержать, и через несколько дней земле суждено исчезнуть под ними. Все, что составляло нашу жизнь, историю, цивилизацию, уничтожат ненасытные растения. Абсурд, несчастное стечение обстоятельств, но времени на ответный удар нет, и человечество обречено на гибель. Искрящиеся метеориты продолжали падать, растения, движимые буйной, неистовой энергией, взметались ввысь к небу, чтобы заполонить своим пьянящим ароматом всю атмосферу. И тогда, а может, позже, уже очнувшись ото сна, я вдруг понял, что это справедливо. Таков закон всего живого, каждый организм, без злого умысла, жаждет жить и плодиться. Палочки Коха, сожравшие легкие Перголези и Пёрселла, Кафки и Чехова, не испытывали к ним неприязни и не желали зла своим хозяевам, но это был закон их выживания и развития. И мы боремся с бациллами с помощью изобретаемых ежедневно медикаментов, без ненависти, тем же способом, только для того, чтобы самим выжить. И все наше существование основывается на убийстве других созданий. Разве хочется умирать животным, которых мы едим, и растениям, насекомым, которых мы истребляем, будь они опасны, как скорпионы или вши, или просто надоедливы, как мухи, наказание человеческое? Кто не убивал мухи, когда ее раздражающее жужжание мешало читать? Это не жестокость, а закон нашей жизни. Мы сильнее других обитателей Земли и распоряжаемся ими по нашему усмотрению: коровы, куры, пшеничные колосья должны нам служить. И совершенно нормально, что друг с другом мы ведем себя таким же образом. Любая человеческая группа стремится истребить тех, кто посягает на ее земли, воду, воздух. С чего бы лучше относиться к евреям, чем к коровам или палочкам Коха, если мы можем их уничтожить, а если бы евреи могли, они бы поступали так же и с нами, и со всеми прочими, отстаивая собственную жизнь. Это закон всего на свете, постоянная война всех против всех. Я знаю, в подобных мыслях нет ничего оригинального, это практически общее место биологического и социального дарвинизма, но той ночью в лихорадке меня, как ни до, ни после, поразила сила их истинности, а сон, где человечество погибает от другого, более мощного и жизнеспособного организма, только обострил восприятие. Я, конечно, понимал, что это правило применимо ко всем, и тот, кто окажется сильнее нас, поступит с нами так, как мы поступали с другими. Перед его натиском слабые защитные заслоны – право, юстиция, мораль, которые люди возводили, пытаясь урегулировать жизнь в обществе, – немногого стоят, малейший приступ страха или чуть более сильный импульс опрокинут любые барьеры, словно соломенный плетень. Но тот, кто делает первый шаг, должен понимать, что другие, когда наступит их черед, не будут уважать права и законы. И я боялся, потому что мы проигрывали войну.
Я оставил окна открытыми, и утренний свет потихоньку наполнял квартиру. Перепады температуры медленно вернули мне ощущение собственного тела. Окончательно проснулся я от жуткого позыва, с трудом дотащился до ванной и плюхнулся на унитаз. Мне казалось, что понос не прекратится никогда. Продриставшись, я с горем пополам подтерся, взял замусоленный стакан, в котором стояла зубная щетка, зачерпнул прямо из ведра и с жадностью выпил несвежую воду, показавшуюся мне вкусной, словно из чистого источника. Но сил выплеснуть остатки воды в унитаз, полный экскрементов (спуск уже давно не работал), не хватило. Я снова закутался в одеяла, меня бил жуткий озноб. Потом я услышал стук в дверь: наверное, это пришел Пионтек, обычно мы встречались с ним на улице. Но встать я не мог. Температура по-прежнему падала и повышалась, мое тело горело огнем. Несколько раз звонил телефон, каждый звонок ножом врезался в барабанные перепонки, но я не мог ни ответить, ни отключить аппарат. Меня опять мучила жажда, поглощая почти все мое внимание, я практически ни на чем не концентрировался и наблюдал свои симптомы бесстрастно, словно со стороны. Я понимал, что если ничего не предпринимать, если никто не придет, я умру здесь на кровати в луже дерьма и мочи, потому что я уже довольно скоро сходил под себя, слабость не позволила подняться. Но эта мысль меня не огорчала, не внушала ни жалости, ни страха, я лишь чувствовал презрение к тому, в кого превратился, и не желал, ни чтобы все кончилось, ни чтобы продолжалось. Посреди лихорадочного бреда дверь в комнату, залитую светом, распахнулась, и вошел Пионтек. Я принял его за очередную галлюцинацию и только глупо улыбался, когда он со мной заговорил. Пионтек приблизился к кровати, дотронулся до моего лба, отчетливо выругался: «Черт!» и позвал фрау Цемпке, которая, наверное, его и впустила. «Принесите попить», – попросил он. Потом принялся названивать куда-то. «Вы меня слышите, оберштурмбанфюрер?» Я кивнул. «Я звонил в отдел. Врач придет. Или вы хотите, чтобы я отвез вас в больницу?» Я отрицательно покачал головой. Фрау Цемпке принесла графинчик воды. Пионтек наполнил стакан, приподнял меня и дал напиться. Половина вылилась мне на грудь и на простыню. «Еще», – попросил я. Выхлебав несколько стаканов, я вернулся к жизни. «Спасибо», – поблагодарил я. Фрау Цемпке закрывала окна. «Оставьте открытыми», – приказал я. «Хотите поесть?» – тревожился Пионтек. «Нет», – ответил я, откинувшись на мокрые подушки. Пионтек полез в шкаф, достал чистое белье и перестелил постель. Сухие свежие простыни оказались слишком шершавыми для моей сверхчувствительной кожи, я никак не мог найти удобную позу. Чуть позже пришел врач СС, незнакомый мне гауптштурмфюрер. Осмотрел меня с головы до пят, пощупал, послушал, холодный металл стетоскопа обжег тело, померил температуру, простучал грудь и наконец объявил: «Вам надо в больницу». – «Я не хочу», – сказал я. Он задумался: «Есть кому о вас позаботиться? Я сейчас сделаю вам укол, но вы должны принимать таблетки, пить фруктовый сок и бульон». Пионтек поговорил с фрау Цемпке, та спустилась к себе, потом вернулась, чтобы дать согласие. Врач объяснял, что со мной, но я ничего не понял из его слов или сразу же забыл диагноз. Укол был очень болезненный. «Я навещу вас завтра, – пообещал врач. – Если температура не спадет, мы вас госпитализируем». – «Я не поеду в больницу», – пробормотал я. «А мне все равно», – сказал он напоследок строго. Пионтек выглядел смущенным. «Ладно, оберштурмбанфюрер, я поеду, посмотрю, что можно достать для фрау Цемпке». Я кивнул, Пионтек скрылся за дверью. Немного позже фрау Цемпке появилась с мисочкой бульона и заставила меня проглотить пару ложек. Теплая жидкость текла у меня изо рта по заросшему щетиной подбородку. Фрау Цемпке терпеливо ее вытирала и продолжала меня кормить, потом дала попить воды. Врач водил меня помочиться, но теперь крутило живот. После пребывания в Хоенлихене я потерял всякий стыд по этому поводу и, извинившись, попросил фрау Цемпке мне помочь, и эта уже пожилая женщина ухаживала за мной без отвращения, словно за ребенком. Потом она тоже ушла, и я распластался на кровати. Я ощущал легкость, покой, укол, видимо, подействовал, но я совершенно обессилел и не мог ни с одеялом справиться, ни руки поднять. Впрочем, меня это не волновало, я выдохся и тихо тонул в жару, мягком летнем свете и голубом, чистом, безмятежном небе, заполнившем проемы распахнутых окон. Я мысленно тянул на себя не только простыни и одеяло, но и всю квартиру целиком, заворачивался в них, мне было тепло и надежно, как в матке, которую я бы ни за что не покинул, – сумрачный, безмолвный, эластичный рай, приводимый в движение ритмом бьющегося сердца и течением крови. Грандиозная органическая симфония. Не фрау Цемпке мне нужна, а плацента, я плавал в поту, как в околоплодной жидкости, и мечтал никогда не родиться. Огненный меч изгнал меня из райского сада, это был голос Томаса: «Да ты, я вижу, не в форме!» Он тоже меня приподнял и напоил. «Тебе надо в больницу», – заключил он, как и другие. «Я не хочу в больницу», – повторял я глупо и упрямо. Томас огляделся, вышел на балкон, вернулся: «А что ты будешь делать во время воздушной тревоги? Тебе не спуститься в подвал». – «Плевать». – «Переезжай хотя бы ко мне. Я теперь в Ваннзее, тебе там будет спокойно. Моя домработница о тебе позаботится». – «Нет». Томас пожал плечами: «Ну, как пожелаешь». Мне опять приспичило, и я воспользовался его присутствием. Томас намеревался продолжить беседу, но я молчал. Наконец он ушел. Позже вокруг меня снова принялась хлопотать фрау Цемпке, я покорился с мрачным равнодушием. Вечером в моей спальне появилась Хелена с маленьким чемоданчиком, который она поставила у двери, потом медленно вынула булавку из шляпки и встряхнула густыми, светлыми, чуть вьющимися волосами, не отводя от меня глаз. «Какого черта вам здесь нужно?» – грубо спросил я. «Томас меня предупредил. Я буду за вами ухаживать». – «Я не хочу, чтобы за мной ухаживали, – злобно прошипел я. – Мне фрау Цемпке хватает». – «У фрау Цемпке семья, она не может находиться здесь постоянно. Я останусь здесь, пока вам не станет лучше». Я сверлил ее взглядом: «Убирайтесь!» Она села возле кровати и взяла меня за руку, я не мог вырваться, сил не было. «Вы горите». Она встала, сняла жакет, повесила его на спинку стула, смочила в ванной салфетку и положила мне на лоб. Я молча терпел. «В любом случае, – сказала она, – сейчас у меня не так много работы, мне дадут отпуск. С вами обязательно кто-то должен сидеть». Я не проронил ни слова. День угасал. Хелена меня напоила, попробовала покормить холодным бульоном, потом села у окна и открыла книгу. Летнее небо побледнело, приближался вечер. Я наблюдал за Хеленой: она была как чужая. Со времени отъезда в Венгрию, уже больше трех месяцев, я не имел с ней никакой связи, не написал ей ни одного письма и, мне казалось, уже почти забыл ее. Я рассматривал серьезное лицо Хелены, ее нежный профиль, но ее красота не трогала меня, ни уму, как говорится, ни сердцу. Без сил я лежал, уставившись в потолок. Через час, не поворачивая к Хелене головы, сказал: «Приведите мне фрау Цемпке». – «Зачем?» – поинтересовалась она, захлопнув книгу. «Мне кое-что надо». – «Что? Я здесь для того, чтобы вам помочь». Я посмотрел на нее: меня страшно раздражал спокойный взгляд карих глаз. «Просраться», – схамил я. Но вывести ее из себя не удалось. «Скажите, что нужно делать, – невозмутимо ответила она, – я помогу». Я объяснил, без грубостей, но и без обиняков, и Хелена все выполнила. Я с горечью подумал, что она впервые видит меня голым (я лежал без пижамы) и, наверное, даже не представляла, что это случится при таких обстоятельствах. Я не стыдился, но был противен сам себе, и это отвращение распространялось и на Хелену, на ее терпение и нежность. Мне хотелось ее оскорбить, мастурбировать перед ней, предлагать что-нибудь непристойное, но дальше желаний дело не шло: какая уж там эрекция, когда я не мог сделать ни одного движения. Температура вновь ползла вверх, я потел, потом меня зазнобило. «Вам холодно, – Хелена закончила меня обтирать, – подождите». Она вышла, вернулась через несколько минут с одеялом и укрыла меня. Я свернулся клубком, лязгал зубами, мне казалось, что мои кости стучат друг о друга. Ночь не наступала, бесконечный летний день все длился, меня это сводило с ума. Но я осознавал, что ночь не принесет мне ни отдыха, ни облегчения. Ласково и осторожно Хелена напоила меня, но ее забота меня только раздражала. Что она возомнила? И чего привязалась со своей добротой и сердечностью? Надеется чего-то добиться? Печется обо мне, будто я ее брат, или любовник, или муж. Но она мне никто – ни сестра, ни жена. Я дрожал, меня сотрясали приступы лихорадки, а Хелена вытирала мне лоб. Когда она подносила руку к моему рту, я не знал, поцеловать ее или укусить. Потом все поплыло, закрутились какие-то картинки, сны или мысли, – те же, что занимали меня в начале года. Я был мужем этой женщины, моя жизнь наладилась, я оставил службу в СС, сбросил тяжесть грехов и ошибок, как змея кожу, навязчивые идеи испарились, словно летние облачка, я опять окунулся в реку нормальных будней. Но эти мысли не утешали, а возмущали меня. Вот еще! Задушить мечты, чтобы совокупляться с ней, обнимать пухнущий живот, вынашивающий красивых здоровых детей? Я снова видел молодых беременных женщин, сидевших на чемоданах в грязи Кошице или Мункаша, представил их вагины между ног под круглыми животами и животы, которые они понесут в газовую камеру. В лоне у женщин всегда есть ребенок, вот что ужасно. Почему такая чудовищная привилегия? Почему отношения между мужчинами и женщинами должны в итоге сводиться к оплодотворению? Мешок с семенем, наседка, дойная корова – вот она, женщина в таинстве брака. Каким бы малопривлекательным ни был мой образ жизни, он, по крайней мере, ничего общего не имеет с подобной продажностью. Парадокс, возможно. Сейчас, когда пишу, мне это ясно, но тогда мысли, вращавшиеся по широким спиралям воспаленного сознания, казались мне исключительно логичными и последовательными. Мне хотелось вскочить, встряхнуть Хелену и объяснить ей все, но, наверное, мой порыв мне приснился, я был не в состоянии и пальцем шевельнуть. К утру температура немного спала. Не знаю, где спала Хелена, скорее всего, на диване, но помню, что каждый час она подходила ко мне, обтирала лицо и поила. Болезнь лишила мое тело энергии, я лежал разбитый и бессильный, как некогда в школьные годы. Бред прекратился, оставив лишь глубокое чувство горечи и острое желание побыстрее умереть, чтобы положить всему этому конец. Еще до завтрака явился Пионтек с полной корзиной апельсинов – неслыханное в Германии тех лет сокровище. «Герр Мандельброд прислал в отдел», – пояснил он. Хелена взяла пару апельсинов и спустилась к фрау Цемпке выжать сок. Потом они с Пионтеком помогли мне приподняться на подушках, и она напоила меня маленькими глотками, после чего у меня во рту остался странный, почти металлический привкус. Пионтек с Хеленой пошушукались о чем-то, и он ушел. Позднее фрау Цемпке принесла мои вчерашние простыни, постиранные и высушенные, и с помощью Хелены сменила мне постель, мокрую после ночного жара. «Хорошо, что вы потеете, сгоняете температуру», – сказала она. Я не реагировал и мечтал только об одном – отдохнуть, но мне не давали ни минуты покоя. Дальше пожаловал гаупштурмфюрер, приходивший накануне, осмотрел меня с мрачным видом: «Вы по-прежнему отказываетесь от больницы?» – «Да». Он прошел в гостиную, чтобы поговорить с Хеленой, потом появился снова. «Лихорадка чуть отступила, – сообщил он. – Я велел вашей подруге регулярно мерить вам температуру. Если будет выше сорока одного градуса, вас надо срочно везти в больницу. Ясно?» Он опять засадил мне в задницу укол. «Я тут оставляю еще одну ампулу, ваша подруга сделает вам укол на ночь, чтобы сбить температуру. Постарайтесь хоть немного поесть». После ухода врача Хелена принесла бульон, покрошила кусочек хлеба, размочила его и попробовала меня накормить, но я отказался. С трудом отпил чуть-чуть бульона. Как и после первого укола, голова у меня просветлела, но я был опустошен и выжат как лимон. Я не сопротивлялся, пока Хелена бережно губкой и теплой водой мыла меня, а потом одевала в пижаму, одолженную у господина Цемпке. Но только Хелена села и собралась почитать, меня прорвало. «Почему вы все это делаете? – процедил я злобно. – Что вам от меня нужно?» Она закрыла книгу и смотрела на меня спокойными большими глазами: «Мне ничего не нужно. Я просто хочу вам помочь». – «Зачем? На что вы рассчитываете?» – «Да ни на что». Она слегка пожала плечами: «Я пришла по-дружески поддержать вас, не более». Она стояла спиной к окну, и лицо ее было в тени, я жадно вглядывался, но не мог угадать его выражения. «По-дружески! – рявкнул я. – Какая дружба? Что вы обо мне знаете? Мы несколько раз прогулялись вместе – и все, а теперь вы устроились здесь, как у себя дома». Она улыбнулась: «Не нервничайте, вы устанете». Ее улыбка меня взбесила: «Тебе-то что известно об усталости? Что? Что ты о ней знаешь?» Я приподнялся и в изнеможении откинулся назад, прислонившись затылком к стене. «Ты никакого представления не имеешь об усталости. Ведешь тепличную жизнь добропорядочной немки, с закрытыми глазами, ничего не видишь, таскаешься на работу, ищешь нового мужа и не замечаешь, что происходит вокруг!» Хелена не дрогнула и грубое «ты» пропустила мимо ушей. Я продолжал орать, брызгая слюной: «Ты ни черта не знаешь ни обо мне, ни о том, чем я занимаюсь, ни о том, как я устал, три года подряд убивая людей! Да, вот что мы делаем – убиваем. Евреев, цыган, русских, украинцев, поляков, больных, стариков, женщин, девушек, таких же молоденьких, как ты, детей!» Она стиснула зубы и не произнесла ни слова. Но меня несло дальше: «А тех, кого не убиваем, отправляем, как рабов, на наши заводы, тут уже, понимаешь ли, экономический вопрос. Не прикидывайся паинькой! Откуда, как ты думаешь, твоя одежда? А снаряды для „Флака“, которые тебя защищают, откуда? А танки, сдерживающие большевиков на Востоке? Сколько рабов умерло, чтобы их произвести? Ты никогда не задавала себе подобных вопросов?» Хелена не отвечала, и чем дольше она молчала и сохраняла хладнокровие, тем сильнее я распалялся. «Или ты не в курсе? Да? Как и все честные немцы. Никто ничего не знает, кроме тех, кто выполняет грязную работу. Куда подевались твои соседи-евреи из Моабита? Ты никогда себя об этом не спрашивала? На Восток? Их отправили работать на Восток? А куда? Если бы шесть или семь миллионов евреев вкалывали на Востоке, они бы уже города целые построили! Ты не слушаешь «Би-би-си»? Они-то прекрасно информированы! Все всё знают, кроме славных немцев, которые ничего не желают знать». Я бесился, а Хелена по-прежнему молчала и, похоже, слушала очень внимательно. «А твой муж в Югославии, по-твоему, чем он занимался? В ваффен-СС? Воевал с партизанами? А ты знаешь, что такое борьба с партизанами? Самих партизан мы видим редко, зато в районе, где они действуют, уничтожаем все подряд. Ты понимаешь, о чем речь? Представь своего Ганса, убивающего женщин, детей на глазах матерей и сжигающего дома с их телами!» В первый раз она прервала меня: «Замолчите! Вы не имеете права!» – «Почему же я не имею права? – ухмыльнулся я. – Ты, может, вообразила, что я лучше? Ты тут ухаживаешь за мной, думаешь, что я милый человек, доктор права, галантный кавалер, отличная партия? Мы убиваем людей, уясни ты себе, твой муж – убийца, я – убийца, а ты сообщница убийц, ты носишь и ешь плоды нашего тяжкого труда». Она мертвенно побледнела, лицо выразило глубокую грусть: «Вы несчастный человек». – «Почему же? Я сам себе нравлюсь. Меня повышают по службе. Конечно, долго это не продлится. Вряд ли мы всех поубиваем, их слишком много, мы проиграем войну. А ты, вместо того, чтобы тратить время на игры в медсестру и несчастного больного, лучше задумайся, куда бежать. Я бы на твоем месте отправился на Запад. У янки не так член зудит, как у иванов. По крайней мере, они хоть презерватив наденут: эти бравые парни боятся болезней. Или тебе по вкусу вонючие монголы? Может, ты о них мечтаешь ночами?» Хелена, по-прежнему бледная, улыбнулась моим последним словам: «Вы бредите. Все из-за температуры, слышали бы вы себя». – «Я прекрасно себя слышу». Я задыхался и изнемогал от напряжения. Хелена смочила компресс и вытерла мне лоб. «Если я попрошу тебя раздеться догола, ты согласишься? Для меня? Будешь мастурбировать передо мной? Пососешь член? Ты это сделаешь?» – «Успокойтесь, иначе у вас подскочит температура», – попросила она. Что тут скажешь, упрямая попалась девушка. Я закрыл глаза и сосредоточился на ощущении прохладного компресса на лбу. Хелена поправила подушки, подоткнула одеяло. Я дышал со свистом, опять мне хотелось ее избить, ударить ногой в живот за ее неприличную, невыносимую доброту.
Вечером Хелена сделала мне укол. Я с трудом перевернулся на живот. Когда я приспустил пижамные штаны, в моей голове промелькнуло, но тотчас исчезло воспоминание о крепких юношах, я был слишком слаб. Хелена колебалась, видимо, делала укол впервые, а потом уверенно и твердо ввела иглу, пропитала ватный тампон спиртом и протерла мне ягодицу. Наверное, вспомнила, как действуют санитарки в подобных случаях. Я лег на бок, сунул себе градусник в задний проход, чтобы измерить температуру, не обращая на Хелену внимания, но и не пытаясь ее специально провоцировать. Чуть выше сорока градусов. Опять наступила ночь, третья в этой каменной вечности. Опять я блуждал среди зарослей и осыпающихся скал своих мыслей. Глубокой ночью я начал обильно потеть, мокрая пижама липла к телу, я был почти без сознания, но помню руку Хелены, она убирала мне волосы со лба и легонько гладила по заросшей щетиной щеке. Позже Хелена мне рассказала, что я принялся говорить в полный голос и разбудил ее. Обрывки фраз, почти бессвязные, – уверяла она. Хелена так никогда и не проговорилась, чтó сумела разобрать, а я не настаивал. На следующее утро температура упала ниже 39 градусов. Когда Пионтек заехал справиться о моем здоровье, я отослал его обратно в контору за настоящим кофе для Хелены, у меня там имелся запас. Врач меня поздравил: «Полагаю, кризис позади. Но вы еще больны и должны набираться сил». Я чувствовал себя как человек, потерпевший кораблекрушение, которого после яростной и изнурительной борьбы с морской стихией выбросило на песчаный берег. Похоже, я все-таки не умру. Хотя сравнение с утопающим неудачное, он ведь плывет, борется за жизнь, а я ничего не предпринимал, раскис, но смерть меня забрать не захотела. Я с жадностью выпил апельсиновый сок, который принесла Хелена. К полудню попытался сесть. Хелена стояла в дверях между спальней и гостиной, опершись на наличник, накинув на плечи легкий свитер, с чашкой дымящегося кофе в руке, и рассеянно смотрела на меня. «Завидую, что вы пьете кофе», – сказал я. «О, подождите, я вам помогу». – «Не надо». Мне удалось подсунуть под спину подушку и более или менее удобно устроиться. «Извините за вчерашнее, прошу вас. Я был отвратителен». Она кивнула, отхлебнула кофе и отвернулась к балкону. Через минуту опять на меня взглянула: «То, что вы говорили… об умерших, правда?» – «Вы действительно хотите знать?» – «Да». Она не сводила с меня прекрасных глаз, мне показалось, что в них промелькнула тревога, но Хелена владела собой и виду не подала. «Все, что я сказал, правда». – «И женщин, и детей?» – «Да». Она закусила верхнюю губу и опустила голову, а когда снова взглянула на меня, глаза ее были полны слез: «Это печально». – «Да. Очень печально». Хелена задумалась прежде, чем продолжить: «Вы понимаете, что нам придется за это заплатить». – «Да. Если мы проиграем войну, месть наших врагов будет безжалостна». – «Я не о том. Даже если мы победим, мы заплатим за все. Должны будем заплатить». Она колебалась, потом решилась: «Мне вас жаль». Больше она этой темы не касалась и по-прежнему исполняла обязанности сиделки, даже самые неприятные. Но ее прикосновения стали другими, более холодными и деловитыми. Я попросил Хелену вернуться к себе, как только смог встать. Она колебалась, но я настаивал: «Вы тоже вымотались. Если мне что-нибудь понадобится, фрау Цемпке поможет». Наконец, Хелена согласилась и упаковала вещи в маленький чемоданчик. Я вызвал Пионтека, чтобы тот отвез ее домой. «Я вам позвоню», – пообещал я. Когда Пионтек подъехал, я проводил ее до двери. «Спасибо за заботу», – я пожал Хелене руку. Она кивнула, но ничего не ответила. «До скорого», – добавил я сухо.
Следующие дни я спал. Температура еще держалась, но я уже пил апельсиновый сок и мясной бульон, ел понемножку хлеб и курицу. По ночам часто гудели сирены, но я не обращал на это никакого внимания. Возможно, и в те три ночи, когда я бредил, тоже случались воздушные атаки, не знаю. Налеты были короткие – несколько «москито», которые в основном бомбили административный центр. Но однажды вечером фрау Цемпке и ее муж заставили меня надеть домашний халат и спуститься в подвал. Я до того ослаб, что им пришлось буквально нести меня вниз. Через несколько дней после отъезда Хелены ко мне вечером ворвалась фрау Цемпке, вся красная, в бигуди и пеньюаре: «Герр оберштурмбанфюрер! Герр оберштурмбанфюрер!» Она меня разбудила, чем привела в крайнее раздражение. «Что случилось, фрау Цемпке?» – «На фюрера совершено покушение!» Она прерывающимся голосом пересказала то, что услышала по радио. Какой-то восточный пруссак пытался убить фюрера в штаб-квартире, фюрер невредим, принял Муссолини после полудня и уже вернулся к работе. «И что теперь?» – спросил я. «Ведь это ужасно!» – «Конечно. Но вы же утверждаете, что фюрер жив, – возразил я. – Это главное. Спокойной ночи». Фрау Цемпке, несколько растерявшись, помедлила еще минуту и убралась восвояси. Должен признаться, эта новость нисколько не заинтересовала меня, меня вообще ничто больше не интересовало. Через несколько дней ко мне наведался Томас. «Тебе вроде полегчало». – «Да, немного». Я наконец побрился, постепенно надо было возвращаться к человеческому виду. Мысли я по-прежнему формулировал с трудом, от такого усилия они дробились, распадались на разрозненные куски, Хелена, фюрер, моя работа, Мандельброд, Клеменс и Везер, беспорядочное нагромождение.
«Слышал новость?» – спросил Томас, садясь возле окна и закуривая. «Да. Как себя чувствует фюрер?» – «Хорошо. Но это больше, чем попытка убийства. Вермахт, по меньшей мере половина, собирался устроить государственный переворот». Я даже крякнул от удивления, а Томас подробно расписал мне обстоятельства дела. «Вначале думали, что это ограничивается заговором офицеров. В действительности нити ведут во все стороны. Клика в абвере, в Министерстве иностранных дел, в кругу старых аристократов. Даже Небе, похоже, замешан. Он исчез вчера, но попытался спасти свою шкуру, выдав заговорщиков. И Фромм тоже. Короче, бардак. Рейхсфюрер назначен командующим Резервной армией вместо Фромма. Понятно, что СС предстоит взять на себя главную роль». В голосе Томаса, твердом и решительном, чувствовалась напряженность. «Что происходит в Министерстве иностранных дел?» – поинтересовался я. «Волнуешься за свою подружку? Уже много народу арестовали, в том числе и кое-кого из ее начальников. Со дня на день должны арестовать фон Тротта цу Зольца. Но мне кажется, тебе не следует хлопотать о ней». – «Я не хлопочу, просто спрашиваю. Ты занимаешься всем этим?» Томас кивнул. «Кальтенбруннер создал специальную комиссию расследовать дело во всех его разветвлениях. Этим займется Хуппенкотен, я буду его адъютантом. Панцингер, без сомнения, заменит Небе в крипо. В любом случае в гестапо уже началась полная реорганизация, что только ускорит ход событий». – «И на что метили твои заговорщики?» – «Они не мои, – резко оборвал Томас. – Все по-разному. Большинство, вероятно, полагали, что без фюрера и рейхсфюрера европейцы согласятся на сепаратный мир. И намеревались ликвидировать СС, видимо не отдавая себе отчета, что это будет новый Dolchstoss, удар ножом в спину, как в восемнадцатом году. Как будто Германия последовала бы за предателями! У меня такое впечатление, что многие из них утратили чувство реальности. Думали, стоит только штаны спустить, и удастся сохранить Эльзас и Лотарингию и присоединенные территории вдобавок. Мечтатели! Кстати, скоро нам будет что предъявить. Они оказались полными идиотами, особенно штатские, почти все шаги фиксировали письменно. Мы обнаружили массу планов и перечень министров для их нового правительства. Кстати, твоего друга Шпеера тоже включили в список. Скажу тебе, сейчас он перепуган насмерть». – «И кто должен был взять власть?» – «Бек. Но он мертв, покончил с собой. И Фромм сразу расстрелял немало людей, пытаясь скрыть свою причастность». И Томас объяснил мне детали покушения и провала путча. «Еще чуть-чуть – и дело было бы в шляпе. Никогда нас так не прижимали. Выздоравливай быстрее: работы непочатый край».
Но я не торопился вставать на ноги, мне хотелось отлежаться. Я опять начал слушать музыку. Медленно восстанавливал силы и заново учился двигаться. Врач СС дал мне месяц на выздоровление, и я собирался воспользоваться отпуском в полной мере, что бы ни происходило вокруг. В первых числах августа меня навестила Хелена. Я был еще слаб, но ходить мог, принял ее в пижаме и халате и угостил чаем. День выдался необыкновенно жаркий, ни дуновения ветерка сквозь распахнутые окна. Хелена, очень бледная, выглядела растерянной, какой я никогда ее не видел, осведомилась о моем самочувствии, и тут наконец я заметил, что она плачет. «Это ужасно, – всхлипывала Хелена, – ужасно». От смущения я не знал, что сказать. Многие из коллег, с которыми она работала годами, арестованы. «Немыслимо, здесь какая-то ошибка… Я слышала, что ваш друг Томас занимается расследованием. Вы не могли бы с ним поговорить?» – «Это бесполезно, – мягко ответил я. – Томас выполняет свой долг. Но вы особо не переживайте за своих друзей. Возможно, их просто хотят допросить. Если они невиновны, их отпустят». Хелена перестала плакать, вытерла глаза, но лицо ее оставалось напряженным. «Извините меня. Но надо же попытаться им помочь, как вы думаете?» Несмотря на слабость, я сохранял терпение: «Хелена, вам надо прочувствовать нынешнюю атмосферу. На фюрера совершено покушение, эти люди хотели предать Германию. Если вы попытаетесь вмешаться, то лишь навлечете на себя подозрения. Вы ничего не можете сделать. Все в руках Бога». – «Гестапо, вы имеете в виду, – Хелена подавила вспышку гнева, – простите, я… я…» Я коснулся ее руки: «Ничего страшного». Она выпила глоток чая, я наблюдал за ней. «А вы? – поинтересовалась она. – Вы вернетесь к вашей… работе?» Я посмотрел в окно на безмолвные руины, светло-голубое небо, затянутое дымовой завесой. «Не сразу. Мне надо набраться сил». Хелена держала чашку в ладонях. «Что будет дальше?» Я пожал плечами: «В общем? Мы продолжим сражаться, люди будут по-прежнему гибнуть, а потом, в один прекрасный день, война закончится, и оставшиеся в живых постараются обо всем забыть». Хелена склонила голову и прошептала: «Я скучаю по тем дням, когда мы ходили в бассейн». – «Если хотите, мы можем отправиться туда, как только я выздоровею», – предложил я. Теперь она посмотрела в окно и тихо ответила: «В Берлине больше нет бассейнов».
Уходя, она задержалась в дверях и еще раз взглянула на меня. Я хотел что-то сказать, но Хелена прижала палец к моим губам: «Не говорите ничего». И не отнимала пальца чуть дольше, чем следовало. Потом развернулась на каблуках и стала быстро спускаться по лестнице. Я не понимал, чего она ждала, отчего все ходила вокруг да около, не решаясь ни приблизиться, ни уйти. Меня такая неопределенность разочаровала, я бы предпочел, чтобы Хелена объяснилась откровенно. Тогда я мог бы выбирать, сказать «да» или «нет», и все было бы решено. Хотя она сама, похоже, не знала, что ей делать. И то, что я наболтал в бреду, не упрощало ситуацию. Никакой ванне, никакому бассейну не смыть тех слов.
Еще я вернулся к чтению. Но серьезные книги я читать не мог, по десять раз принимался за одну и ту же фразу, чтобы в итоге сказать себе, что ничего не понял. Пришлось отыскать в шкафу книги Берроуза из цикла «Марсиане», которые я забрал с чердака дома Моро и аккуратно поставил на полки, так и не открыв. Я проглотил их залпом, но, увы, не ощутил эмоций, переполнявших меня, когда подростком, запершись в туалете или спрятавшись под кроватью, я, забыв про внешний мир, часами в упоении блуждал по космическому пространству, в обществе варваров. Мое воображение будоражил скрытый эротизм воинов и принцесс, тела которых прикрывали лишь украшения и оружие, весь этот причудливый зоопарк монстров и машин. Зато сделал несколько удивительных открытий: в некоторых пассажах своих научно-фантастических романов автор представал провозвестником расовой идеи. Вспомнив о советах Брандта, – до сих пор я был слишком занят, чтобы следовать им, – я сел за печатную машинку и составил для рейхсфюрера доклад, используя мир Берроуза как модель глубоких социальных реформ, которую СС обязана принять на заметку после войны. В качестве примера я взял красных марсиан. Чтобы поднять рождаемость после войны и заставить молодых людей жениться, они рекрутировали на принудительные работы не только преступников и военнопленных, но и неимущих холостяков, неспособных платить высокий налог за безбрачие, установленный красномарсианским правительством. Я посвятил налогу за безбрачие целый абзац, но если бы однажды его действительно ввели, мои собственные финансы серьезно пострадали бы. Более радикальные предложения я припас для элиты СС. Образцом для нее должны были служить зеленые марсиане, трехметровые чудовища с клыками и четырьмя руками. Всем имуществом, кроме личного оружия, украшений, шелков и покрывал из шкур, зеленые марсиане владеют сообща… Женщин и детей из свиты мужчины можно сравнить с военным подразделением, за обучение, дисциплину и питание которого он несет ответственность. Женщины не являются его супругами. Их совокупление совершается исключительно в интересах общины и регулируется естественным отбором. Совет старейшин каждой общины контролирует этот вопрос так же строго, как владелец породистого жеребца из Кентукки руководит разведением потомства на научной основе с целью улучшения всей породы. Я предлагал ориентироваться на подобные реформы, постепенно внедряя их в программу «Lebensborn». По сути, я сам себе рыл могилу. Я писал, чуть ли не надрываясь от смеха, но мне казалось, что все это логически вытекает из нашего Weltanschauung. К тому же я знал, что рейхсфюреру понравится. Цитаты из Берроуза смутно напоминали утопические пророчества, которые рейхсфюрер излагал нам в Киеве в 1941 году. Я отослал письмо и через десять дней получил ответ, подписанный рейхсфюрером лично (в большинстве своем его приказы подписывал Брандт или даже Гротман).
Дорогой доктор Ауэ!
Я с живейшим интересом прочел ваше сочинение. Я рад узнать, что вы чувствуете себя лучше и посвящаете отпуск полезным исследованиям. Не думал, что вас так волнуют проблемы, насущные для будущего нашей расы. Я задаюсь вопросом, будет ли готова Германия, даже после войны, принять столь глубокие и нужные идеи. Безусловно, нам надо будет еще очень долго работать над мировоззрением нашего народа. Во всяком случае, когда вы выздоровеете, буду рад более подробно побеседовать с вами об этих проектах и авторе-провидце.
Хайль Гитлер! Ваш Генрих Гиммлер
Польщенный, я с нетерпением ждал Томаса, чтобы показать ему мое сочинение и это письмо. Но, к моему изумлению, Томас вышел из себя: «Ты вправду думаешь, что сейчас самое время для подобного ребячества?» Похоже, он напрочь утратил чувство юмора. Но, выслушав новости о последних арестах, я начал понимать почему. Пострадал кое-кто и из моего собственного окружения: два университетских товарища и Йессен, мой бывший профессор из Киля, в последние годы явно сблизившийся с Герделером. «У нас еще имеются улики против Небе, но он исчез. Растворился. Что тут скажешь? Он, похоже, спятил. У него дома обнаружили фильм, снятый в одной из газовых камер на Востоке. Только представь себе, что по вечерам он сидел и крутил эту пленку!» Редко мне доводилось видеть, чтобы Томас нервничал. Я налил ему выпить, предложил сигарету, но больше он ничего особенного не рассказал. Я понял, что до покушения Шелленберг был связан с определенными оппозиционными кругами. Между тем Томас с яростью обрушился на заговорщиков: «Убить фюрера! Как им в голову могло прийти, что это станет решением проблем? Отстранение от должности главнокомандующего вермахтом – согласен, фюрер все равно болен. Можно было бы предложить ему, ну, не знаю, взять самоотвод, если действительно существовала такая необходимость, а руководство передать рейхсфюреру… По словам Шелленберга, англичане согласились бы на переговоры с рейхсфюрером. Но убить фюрера?! Безумие! Они даже не отдают себе отчета… Ведь они ему присягали, а теперь пытались убить». Томаса, похоже, это действительно мучило. А меня поразила одна мысль о том, что Шелленберг или рейхсфюрер намеревались отнять у фюрера все полномочия. Особой разницы между убийством и лишением власти я не видел, но Томасу ничего не сказал. Он и так был слишком расстроен.
Олендорф, с которым я встретился в конце месяца, когда наконец начал выходить из дома, похоже, разделял мое мнение. Он был мрачен и еще более подавлен, чем Томас. И признался мне, что сохранил отношения с Йессеном, несмотря на случившееся, и в ночь накануне его казни глаз не сомкнул. «Я постоянно думаю о его жене и детях. Постараюсь помочь, наверное, буду отдавать часть зарплаты». Вместе с тем он считал, что Йессен заслужил смертный приговор. Несколько лет назад наш профессор порвал связи с национал-социализмом, – рассказывал мне Олендорф. Но они продолжали видеться, беседовали, и Йессен даже старался перетянуть бывшего ученика на свою сторону. Олендорф соглашался с ним по многим пунктам. «Совершенно ясно, что массовая коррупция в Партии, разложение формального права, плюралистическая анархия недопустимы. И эти меры против евреев, это Окончательное решение, были ошибкой. Но свергнуть фюрера и НСДАП – немыслимо! Нам надо провести чистку Партии, поднять дух фронтовиков, сохранивших реалистичный взгляд на вещи, и членов „Гитлерюгенда“, пожалуй единственных оставшихся среди нас идеалистов. Именно молодежи предстоит заняться обновлением Партии после войны. Нам нельзя возвращаться назад к бюргерскому консерватизму кадровых военных и прусских аристократов. Этот шаг их навсегда дискредитировал. Впрочем, народ все отлично понял». Так оно и было на самом деле. Все рапорты СД свидетельствовали, что обычные люди и солдаты, невзирая на свои заботы, усталость, страхи, уныние и даже пораженчество, возмущены предательством заговорщиков и с энтузиазмом восприняли кампанию по жестким мерам экономии и наращиванию военной мощи. Геббельс в очередной раз призвал к столь милой его сердцу «всеобщей войне» и лез из кожи вон, разжигая страсти, хотя в этом не было никакой необходимости. Между тем ситуация продолжала ухудшаться. Русские опять заняли Галицию и расширили свои границы по сравнению с 1939 годом. Люблин пал. Волна наступления улеглась только под Варшавой. Высшее командование большевиков явно дожидалось, когда нашими силами для него будет подавлено польское восстание, поднятое в начале месяца. «Мы играем по правилам Сталина, – прокомментировал Олендорф. – Надо разъяснить АК, что большевики гораздо опаснее нас. Если бы поляки сражались на нашей стороне, у нас бы появился шанс затормозить русских. Но фюрер даже слышать об этом не желает. И Балканы скоро развалятся, как карточный домик». Действительно, в Бессарабии вновь сформированная 6-я армия под командованием Фреттера-Пико распадалась на части, ворота Румынии распахнулись настежь. Францию мы тоже, по всей видимости, потеряли. Англичане с американцами, открыв новый фронт в Провансе и взяв Париж, собирались очистить остальные регионы страны, в то время как наши разбитые войска отходили за Рейн. Олендорф был настроен крайне пессимистически: «По словам Каммлера, новые ракеты практически готовы. Он уверен, что теперь ход войны изменится. Но я не понимаю как. Наша ракета транспортирует меньше взрывчатки, чем американский Б-17, и используется один раз». В отличие от Шелленберга, о котором он отказывался говорить, Олендорф не имел ни конкретных планов, ни решений. Только апеллировал к «мощному броску, последнему усилию национал-социализма», что мне слишком напоминало риторику Геббельса. У меня создалось такое впечатление, что Олендорф в глубине души уже смирился с поражением, но, наверное, сам себе в этом еще не признался.
События двадцатого июля для меня обернулись еще одной неприятностью, пустячной, но досадной. В середине августа гестапо арестовало штандартенфюрера Баумана из берлинского суда СС. Я довольно быстро узнал об этом от Томаса, но поначалу недооценил возможные последствия. В первых числах сентября меня вызвал Брандт, сопровождавший рейхсфюрера в инспекционной командировке в Шлезвиг-Гольштейн. Я сел в спецпоезд около Любека. Брандт перво-наперво сообщил мне, что рейхсфюрер хочет наградить меня Крестом за военные заслуги 1-й степени. «Вы вольны думать, что угодно, но ваша операция в Венгрии была очень полезна. Рейхсфюрер доволен. К тому же ваша последняя инициатива произвела на него очень благоприятное впечатление». И уже потом Брандт сказал, что крипо попросила судью, заменившего Баумана, пересмотреть досье, в котором я фигурировал как подозреваемый. И тот написал рейхсфюреру, что, с его точки зрения, материалы дела требуют дальнейшего расследования. «Рейхсфюрер своего мнения не изменил и по-прежнему выражает вам доверие. Но думает, что, повторно отказав суду в расследовании, окажет вам медвежью услугу. Вы должны знать, что слухи уже поползли. Будет лучше, если вы защитите себя и докажете свою невиновность. Тогда и закроем дело раз и навсегда». Идея мне совершенно не понравилась, но я уже отлично знал маниакальное упрямство Клеменса и Везера, и выбора у меня не было. По приезде в Берлин я, не дожидаясь приглашения, явился к судье СС фон Рабингену, фанатичному национал-социалисту, и изложил ему свою версию событий. Фон Рабинген возразил, что досье, представленное крипо, содержит смущающие его факты, и особенно упирал на окровавленную одежду немецкого производства моего размера. Его заинтриговала и история с близнецами, в которую он непременно хотел внести ясность. Крипо наконец допросила мою сестру, вернувшуюся в Померанию. Она определила близнецов в частный пансион в Швейцарии и утверждала, что речь идет об осиротевших детях нашей кузины. Мальчики появились на свет на французской территории, но их свидетельства о рождении пропали во время разгрома Франции в 1940 году. «Возможно, это правда, – строго заявил фон Рабинген, – но проверить ее на сегодняшний день нельзя».
Постоянные подозрения доставляли мне массу хлопот. Я едва не заболел снова, несколько дней сидел, запершись дома, в мрачном унынии и даже не впустил Хелену, которая пришла меня проведать. Ночью Клеменс и Везер, грубо вырезанные и небрежно раскрашенные марионетки, оживали и прыгали вокруг меня, сквозь дрему я слышал, что они скрипят и гудят, словно глумливые насекомые. Иногда к их хору присоединялась моя мать собственной персоной, и я наконец, к своему ужасу, поверил, что эти два клоуна правы и я в припадке безумия действительно убил ее. Но я чувствовал, что с ума не сходил, и все дело в чудовищном недоразумении. Немного успокоившись, я решил связаться с Моргеном, принципиальным и неподкупным судьей, с которым мы познакомились в Люблине. Он работал в Ораниенбурге и сразу пригласил меня к себе, встретил очень радушно и принялся рассказывать о своих делах. После Люблина он организовал комиссию в Аушвице и предъявил Грабнеру, начальнику политического отдела, обвинение в незаконном убийстве двух тысяч человек. Кальтенбруннер выпустил Грабнера на свободу, а Морген снова арестовал. Следствие по делу Грабнера и его многочисленных сообщников и продажных подчиненных шло своим чередом. Но в январе в результате преступного поджога барак, где комиссия хранила все доказательства вины и часть досье, сгорел, и все очень осложнилось. И еще Морген сообщил мне по секрету, что теперь метит в самого Хёсса. «Я убежден, что Хёсс виновен в хищении государственного имущества и убийствах. Но доказать это трудно, Хёсс имеет высокопоставленных покровителей. А вы? Я слышал, у вас проблемы». Я объяснил Моргену мой случай. «Обвинений недостаточно, у них должны быть доказательства, – сказал он задумчиво. – Лично я верю в вашу искренность. Уж я-то имею представление о криминальных элементах СС и знаю, что вы не из них. В любом случае, чтобы вас обвинить, им надо найти подтверждение конкретным фактам. Например, что вы находились в доме в момент убийства, что окровавленная одежда принадлежит вам. Кстати, а где она? Если осталась во Франции, то обвинение держится на волоске. И потом, французские власти, ходатайствовавшие о юридической помощи, теперь находятся под контролем вражеских сил. Вы должны попросить у специалиста по международному праву изучить этот аспект дела». После нашего разговора я немного воспрянул духом. Нездоровая настырность двух следователей превратила меня в параноика. Я уже не понимал, где правда, а где ложь. Но Морген, трезво, с юридической точки зрения оценив ситуацию, помог мне обрести твердую почву под ногами.
В итоге эта история, как все судебные дела, затянулась на месяцы. Не буду вдаваться в детали. Мне пришлось еще несколько раз встретиться с фон Рабингеном и двумя следователями. Моя сестра в Померании вынуждена была дать показания. Она, проявив осторожность, скрыла, что именно я сообщил ей об убийстве, и утверждала, что получила телеграмму из Антиба от компаньона Моро. Клеменс и Везер вынуждены были признаться, что никогда не видели той пресловутой одежды. Информацию они черпали из писем французской криминальной полиции, и прежде не имевших юридической силы, а теперь и подавно. Впрочем, поскольку убийство произошло во Франции, обвинение привело бы лишь к моей экстрадиции, что, естественно, в настоящий момент было неосуществимо. Хотя один адвокат, кстати довольно приятный, заявил, что суд СС мог бы вынести мне смертный приговор за нарушение кодекса чести, не принимая во внимание гражданский уголовный кодекс.
Эти разбирательства, похоже, не повлияли на доброжелательное отношение ко мне рейхсфюрера. В один из своих кратких визитов в Берлин он вызвал меня к поезду и после церемонии, во время которой я, вместе с десятком других офицеров, в основном из ваффен-СС, получил новый орден, пригласил в личное купе, чтобы обсудить мой доклад. Идеи показались ему здравыми, но требовали дальнейшего углубления. «Например, что касается католической церкви. Если мы введем налог на безбрачие, церковь тут же потребует освободить от него духовенство. И если мы согласимся, для церкви это станет еще одной победой, доказательством ее силы. Следовательно, после войны первоначальным условием любого позитивного развития будет урегулирование Kirchenfrage, вопроса двух церквей. И радикальным способом, если понадобится: эти попы, эти монахи немногим лучше евреев. Как вы считаете? Я полностью разделяю мнение фюрера по данному вопросу. Христианская религия – религия евреев. Савл, еврейский учитель, создал ее как средство вывести иудаизм на другой уровень, теперь же вкупе с большевизмом она еще более опасна. Уничтожить евреев и сохранить христиан – все равно что остановиться на полдороге». Я внимательно слушал и записывал. И только в конце беседы рейхсфюрер упомянул о моем деле: «Они не нашли ни одного доказательства?» – «Нет, господин рейхсфюрер. Ни единого». – «Отлично. Я сразу подумал: какая глупость! Но хорошо, что они сами в этом убедились, верно?» Рейхсфюрер проводил меня до двери, я отсалютовал. Он пожал мне руку: «Я очень доволен вашей работой, оберштурмбанфюрер. Вы – офицер с большим будущим».
С большим будущим? Наоборот, мне казалось, что будущее, как мое, так и Германии, сужается с каждым днем. Оборачиваясь назад, я с ужасом видел длинный, темный коридор, туннель, идущий из глубин прошлого к настоящему моменту. Куда делись бескрайние равнины, открывшиеся перед нами, когда, простившись с детством, мы уверенно и энергично штурмовали жизнь? Похоже, всю ту силу мы израсходовали на строительство тюрьмы, если не виселицы для нас самих. После болезни я ни с кем не встречался, забросил спорт, предоставив все это другим. Обычно я ел дома в одиночестве, распахнув балконную дверь и наслаждаясь теплом уходящего лета и последней зеленой листвой, готовой вспыхнуть прощальным костром среди городских руин. Иногда мы гуляли с Хеленой, но теперь между нами чувствовалась мучительная неловкость. Мы оба тщетно пытались вернуть исчезнувшие нежность и очарование первых месяцев и одновременно делали вид, что ничего не изменилось, – абсурд. Я не понимал, почему Хелена упорно не хотела уезжать из Берлина, ее родители уже давно были у кузена в Бадене. Не из-за необъяснимой жестокости, охватившей меня в период болезни, а из искренних побуждений я торопил Хелену присоединиться к родным. Но она возражала, отыскивая пустяковые предлоги: то работа, то за квартирой надо присматривать. В минуты прозрения я говорил себе, что Хелена остается здесь из-за меня, и задавался вопросом, неужели ужас, который должны были внушать мои слова, не заставил ее отступиться? Уж не надеется ли она спасти меня от меня самого? Глупо, если так. Но кто знает, что творится в голове у женщины? Хотя тут явно примешивалось кое-что другое, я заметил. Однажды мы шли по улице, рядом с нами по луже промчалась машина. Струя воды брызнула Хелене под юбку и намочила до ляжек. Вдруг Хелена захохотала некстати и чуть ли не до истерики. «Почему вы смеетесь, что вас развеселило?» – «Вы, вы – сквозь смех выдавила она. – Вы никогда не дотрагивались до меня так высоко». Я ничего не ответил, что здесь скажешь? Я мог бы дать ей почитать свой доклад с цитатами из Берроуза, адресованный рейхсфюреру, но чувствовал, что ни это, ни даже откровенное признание в моих наклонностях ее не отвратили бы. Хелена была такая, упрямая. Почти случайно сделав выбор, Хелена упорно цеплялась за него, словно он был ей дороже избранника. Почему я не послал ее подальше? Не знаю. В моем окружении осталось немного людей, с кем можно было бы поговорить. Томас работал по четырнадцать-шестнадцать часов в сутки, я его и не видел. Большинство моих коллег переехали со своими ведомствами за город. Я позвонил в ОКВ и узнал, что Хоенэгга в июле отправили на фронт, и он постоянно находится в Кенигсберге с частью ОКХГ-Центр. В карьере, несмотря на поддержку рейхсфюрера, я достиг мертвой точки. Шпеер поставил на мне крест. Я общался исключительно с подчиненными, а мой отдел, с которого больше ничего не требовали, превратился в подобие почтового ящика для жалоб от разнообразных предприятий, из служб и министерств. Время от времени Асбах и другие члены команды разрешались очередным проектом. Я рассылал его по всем инстанциям. Потом приходил вежливый отказ или воцарялось молчание. Но я не понимал, где дал маху до тех пор, пока однажды герр Леланд не пригласил меня выпить чаю. Это было в баре «Адлона», чуть ли не единственного из еще открытых в Берлине ресторанов. Гости говорили на десятке языков – настоящая Вавилонская башня, похоже, все члены дипломатического корпуса назначали там встречи. Я нашел Леланда за столом в глубине зала. Метрдотель точными движениями сервировал чай, Леланд дожидался, пока тот удалится, чтобы начать беседу. «Как твое здоровье?» – осведомился Леланд. «Хорошо, господин Леланд. Я уже совершенно поправился». – «А твоя работа?» – «Тоже в порядке, господин Леланд. Рейхсфюрер, кажется, доволен. Недавно меня наградили». Леланд молча отпил немного чая. «Но вот уже несколько месяцев я не вижу рейхсминистра Шпеера», – посетовал я. Леланд с досадой махнул рукой: «Это больше не имеет значения. Шпеер нас сильно разочаровал. Теперь пора заняться и другими вещами». – «Что, господин Леланд?» – «Все пока в процессе разработки», – медленно произнес Леланд с присущим ему легким и довольно своеобразным акцентом. «Как себя чувствует доктор Мандельброд, господин Леланд?» Он взглянул на меня холодно и сурово. И, как обычно, я не смог отличить стеклянный глаз от живого. «Мандельброд в порядке. Но вынужден предупредить, ты его расстроил». Я молчал. Прежде чем продолжить, Леланд отхлебнул еще глоток чая: «Должен отметить, ты не оправдал наших надежд и не проявлял особой инициативы последнее время. Результаты, которые ты показал в Венгрии, неудовлетворительны». – «Господин Леланд… Я делал все, что мог. И рейхсфюрер хвалил мою работу. Но между ведомствами страшная конкуренция, все чинили друг другу препятствия». Леланд, похоже, не обратил ни малейшего внимания на мои слова. «У нас создалось впечатление, – промолвил он наконец, – что ты не понял, чего мы от тебя ждем». – «А чего вы от меня ждете, господин Леланд?» – «Большего энтузиазма. Большей изобретательности. Ты должен выдавать решения, а не гробить дело. И потом, позволь заметить, ты слишком распыляешься. Рейхсфюрер переслал нам твой последний опус. Вместо того чтобы тратить время на ребячество, ты должен думать о спасении Германии». Я почувствовал, что у меня горят щеки, и попытался совладать с голосом. «Я ни о чем другом и не помышляю, герр Леланд. Но, как вам известно, я был очень болен. И еще у меня… есть проблемы». Два дня назад у меня состоялся трудный разговор с фон Рабингеном. Леланд молчал, потом сделал знак, метрдотель появился вновь, чтобы нас обслужить. В баре слишком громко смеялся молодой человек с вьющимися волосами, в костюме в клетку и с галстуком-бабочкой. Я с первого взгляда все про него понял: давно я уже не думал ни о чем подобном. Леланд опять заговорил: «Мы в курсе твоих проблем. Нельзя было допускать, чтобы дело зашло так далеко. Если тебе понадобилось убить эту женщину, ладно, но сделал бы все чисто». – «Господин Леланд… – вымолвил я упавшим голосом. – Я ее не убивал. Это не я». Он спокойно посмотрел на меня: «Послушай, нам совершенно все равно. Ты имел право, свое право, суверенное право так поступить. Мы, старые друзья твоего отца, полностью понимаем причину. Но ты не имел права себя компрометировать. Это чрезвычайно снизило степень твоей полезности для нас». Я собрался возразить, но Леланд жестом остановил меня. «Поглядим, как будут развиваться события. Мы надеемся, что ты войдешь в колею». Я молчал. Леланд поднял палец, перед нами тут же возник метрдотель. Леланд шепнул ему пару слов и встал. Я тоже встал. «До скорого. Если тебе что-нибудь нужно, свяжись с нами», – бесцветным тоном сказал Леланд и ушел, не пожав мне руки, метрдотель семенил за ним. До чая я не дотронулся, вернулся в бар, заказал коньяка и залпом осушил рюмку. Рядом со мной раздался приятный, тягучий голос, правда, слова молодой человек в бабочке коверкал довольно сильно: «Не слишком ли рано вы пьете? Желаете еще?» Я согласился, он заказал две порции и отрекомендовался: Михай И., третий секретарь Румынского посольства. «Как дела в СС?» – спросил он, глотнув коньяку. «В СС? Нормально. А в дипломатическом корпусе?» Он пожал плечами: «Дрянь». Потом обвел широким жестом зал: «Остались только последние могикане. Из-за дефицита мы больше не устраиваем коктейлей, вот и встречаемся здесь минимум раз в день. В любом случае у меня нет больше правительства, интересы которого я должен представлять». В конце августа Румыния объявила войну Германии и недавно капитулировала перед большевиками. «Действительно, и кого же тогда представляет ваша миссия?» – «Вообще-то, Хорию Симу. Но это фикция, господин Сима и сам прекрасно справляется. Как бы там ни было, мы все, – он снова обернулся к залу, – в более или менее одинаковом положении. В первую очередь мои французские и болгарские коллеги. Почти все финны уехали, никуда не собираются лишь швейцарцы да шведы, настоящие дипломаты». Он с улыбкой взглянул на меня: «Поужинайте с нами, я вас познакомлю с другими моими друзьями-привидениями».
Я уже, наверное, писал, что в личной жизни тщательно избегал интеллектуалов и людей своего сословия. Им вечно хотелось поговорить, и потом они имели досадную привычку влюбляться. Для Михая я сделал исключение. Особенного риска тут не было, он оказался циником, безнравственным и ветреным. Жил Михай в домике на западной окраине Шарлоттенбурга. Тем же вечером после ужина я отправился к нему в гости под предлогом пропустить еще по стаканчику и остался на ночь. Несмотря на эксцентричный вид, у него было крепкое мускулистое тело атлета, поросшее темными, курчавыми волосами, и резкий запах самца. Михая страшно забавляло то, что он соблазнил эсэсовца: «Вермахт или Министерство иностранных дел – это запросто, а вот СС…» После этого я время от времени с ним встречался. Иногда прямо после ужина с Хеленой. И грубо и ненасытно пользовался им, чтобы выбросить из головы мысли о желаниях моей подруги или о собственной двойственности.
В октябре, сразу после своего дня рождения, я снова получил назначение в Венгрию. С помощью фон дем Баха и Скорцени Хорти был свергнут, и у власти оказались «Скрещенные стрелы» Салаши. Каммлер настойчиво требовал рабочей силы для подземных заводов и ракеты V-2, первые модели которой выпустили в сентябре. Советские войска уже вошли в Венгрию с юга и даже на территорию Рейха, в Восточную Пруссию. SEk в Будапеште прекратил свое существование в сентябре. Но Вислицени из Будапешта не уехал, а вскоре появился и Эйхман. В очередной раз операция обернулась катастрофой. Венгры согласились передать нам пятьдесят тысяч будапештских евреев, но уже в ноябре Салаши подчеркнул, что нам их только «одалживают». Евреев надо было везти в Вену – к Каммлеру и на строительство «Восточного вала» (Ostwall), но транспорта катастрофически не хватало. Эйхман, условившись с Веезенмайером, решил отправить их пешком. История эта хорошо известна: множество погибло по дороге, а оберштурмбанфюрер Хёзе, офицер, отвечавший за приемку, забраковал большинство прибывших, потому что не мог использовать женщин на земляных работах. Я тоже не в силах был ничего изменить: никто не слушал моих предложений – ни Эйхман, ни Винкельман, ни Веезенмайер, ни венгры. Когда в Будапешт вместе с Бехером приехал обергруппенфюрер Юттнер, начальник СС ФХА, я попробовал поговорить с ним. Юттнер по пути встретился с колонной, заключенные мерли как мухи, оставаясь лежать в грязи, снегу, лужах. Зрелище Юттнера возмутило, о чем он поспешил заявить Винкельману. Но Винкельман направил обергруппенфюрера к Эйхману, на которого тот не имел рычагов воздействия. Эйхман категорически отказался принять Юттнера и выслал к нему одного из своих подчиненных, который в резкой форме отверг все претензии. Эйхман явно спятил, он вообще никого не слушал, кроме, пожалуй, Мюллера и Кальтенбруннера. А Кальтенбруннер, похоже, перестал подчиняться даже рейхсфюреру. Я сказал об этом Бехеру накануне его визита к Гиммлеру и попросил вмешаться, он обещал сделать все возможное. Салаши, напуганный приближением русских, в середине ноября прекратил операцию, мы не успели перегнать и тридцати тысяч евреев. Полная бесхозяйственность! Казалось, больше никто не соображал, что делает, или, скорее, каждый делал, что хотел, в одиночку, на свое усмотрение. Работать в таких условиях становилось невыносимо. Я совершил последнюю попытку связаться со Шпеером. Рейхсминистр с октября полностью контролировал все вопросы, связанные с использованием труда заключенных. Он наконец согласился меня принять, но беседа не представляла для него интереса и потому оказалась совсем краткой. Действительно, ничего конкретного я сообщить не мог. Что до рейхсфюрера, я абсолютно не понимал его позиции. В конце октября он отправил в Аушвиц приказ не травить евреев газом, в конце ноября объявил, что еврейский вопрос решен и распорядился снести помещения для уничтожения. В то же время в РСХА и личном штабе активно обсуждалось строительство нового ликвидационного лагеря в Алтейст-Гартеле рядом с Маутхаузеном. Ходили слухи, что рейхсфюрер ведет переговоры с евреями в Швейцарии и Швеции. Бехер, очевидно, был в курсе дела, но, когда я пытался прояснить ситуацию, отвечал уклончиво. Я знал, что Бехер добился, чтобы рейхсфюрер вызвал к себе Эйхмана (это произошло в декабре). Но содержание их разговора стало мне известно лишь спустя семнадцать лет, во время процесса над нашим бравым оберштурмфюрером в Иерусалиме. При даче свидетельских показаний Бехер, позже, в Бремене, превратившийся в дельца и миллионера, рассказал, что встреча проходила в специальном поезде рейхсфюрера в Шварцвальде неподалеку от Тримберга и что рейхсфюрер беседовал с Эйхманом и по-хорошему, и по-плохому. Теперь частенько цитируют фразу, которую, по словам Бехера, рейхсфюрер адресовал своему упрямому подчиненному. «Если до сих пор вы уничтожали евреев, то отныне, если я вам прикажу, что, собственно, я и делаю, вы станете для них нянькой. Напоминаю вам, что именно я, а не группенфюрер Мюллер и не вы создал в тысяча девятьсот тридцать третьем году РСХА. Если вы не желаете мне подчиняться, скажите прямо!» Вполне допускаю, что это правда. Но свидетельства Бехера в высшей степени сомнительны. Например, он приписывал своему влиянию на Гиммлера прекращение пеших эвакуаций из Будапешта, хотя приказ исходил непосредственно от запаниковавших венгров, и инициатива о приостановлении Окончательного решения – вопиющее преувеличение. Если кто-то и подал эту идею рейхсфюреру, то, быть может, Шелленберг, но никак не хитрый аферист Бехер.
Расследование моего дела шло своим чередом. Судья фон Рабинген регулярно вызывал меня, чтобы получить разъяснения по тем или иным пунктам. Иногда я виделся с Михаем. Что до Хелены, она становилась все прозрачнее, и виной тому был не страх, а подавляемые чувства. Вернувшись из Венгрии, я рассказал ей о зверствах русских в Ньиредьхазе. В конце ноября 3-я танковая дивизия отбила у них город, и выяснилось, что они насиловали женщин всех возрастов, а родителей приколачивали заживо к дверям на глазах у изувеченных детей, – и это они творили с венграми, а не с немцами! Хелена долго смотрела на меня, а потом тихо спросила: «А в России было иначе?» Я ничего не ответил. Я любовался ее тонкими запястьями, выглядывавшими из рукавов, и думал, что мог бы легко обхватить их большим и указательным пальцами. «Я знаю, что их месть будет ужасна, – вымолвила она с трудом, – но мы ее заслужили». В начале ноября мою квартиру все-таки разбомбили. Мина прошла через крышу и снесла два верхних этажа. Бедный герр Цемпке, выбравшись из полуразрушенного подвала, умер от сердечного приступа. К счастью, у меня появилась привычка хранить часть белья и одежды в служебном кабинете. Михай предложил мне переехать к нему. Но я предпочел Томаса, который устроился в Ванзее после того, как в мае сгорел его дом в Далеме. Томас жил в бешеном ритме. У него постоянно толкались типы из VI ведомства, пара коллег, Шелленберг и, конечно же, девочки. Шелленберг часто беседовал с Томасом с глазу на глаз, но мне явно не доверял. Однажды я вернулся немного раньше обычного и услышал бурную дискуссию в гостиной, громкие голоса и насмешливый, напористый тон Шелленберга. «Если этот Бернадотт согласится…» Шелленберг, увидев меня в дверях, сразу замолчал и весело поздоровался: «Ауэ, рад нашей встрече», но беседы с Томасом не продолжил. Если я не оставался на вечеринках у своего друга, то принимал приглашения Михая. Он каждый вечер посещал прощальные праздники доктора Козака, хорватского посла, происходившие либо в дипмиссии, либо на вилле в Далеме. Цвет дипломатического корпуса и Министерства иностранных дел приходил туда объедаться, опиваться и развлекаться с самыми красивыми старлетками киностудии УФА, Марией Мильде, Ильзе Вернер и Марикой Рёкк. К полуночи хор запевал далмацкие народные песни. После уже привычного рейда «москито» к нам присоединялись артиллеристы хорватской зенитной батареи, расположившейся по соседству, и до рассвета выпивали и играли джаз. Среди них был офицер, выживший в Сталинграде, но я остерегался говорить, что я тоже там воевал, иначе он не отвязался бы от меня. Эти вечеринки зачастую превращались в настоящие оргии, парочки уединялись в комнатах посольства, а неудовлетворенные идиоты разряжали в саду обоймы пистолетов. Как-то вечером я занимался любовью с Михаем в спальне посла, храпевшего внизу на диване. Потом перевозбужденный Михай привел какую-то актриску и овладел ею при мне, а я тем временем приканчивал бутылку сливовицы и размышлял о власти плоти. Это пустое неистовое веселье не могло длиться вечно. В конце декабря, когда русские осадили Будапешт, а наше последнее наступление застопорилось в Арденнах, рейхсфюрер послал меня инспектировать эвакуацию Аушвица.
Летом поспешная и запоздалая эвакуация КЛ Люблин причинила нам массу хлопот. Большевикам достались нетронутые устройства по уничтожению и полные склады, что, разумеется, лило воду на мельницу их антигерманской пропаганды. С конца августа войска русских стояли на Висле, но, совершенно очевидно, задерживаться там не намеревались. Мы должны были срочно принять меры. Ответственность за возможную эвакуацию комплекса Аушвиц и подсобных лагерей ложилась на обергруппенфюрера Эрнста Шмаузера, ХССПФ военного дистрикта VIII, включавшего и Верхнюю Силезию. Операции, объяснил мне Брандт, будут проводиться персоналом лагеря. Моя роль сводилась к тому, чтобы обеспечить первоочередную эвакуацию рабочей силы, пригодной к использованию и предназначенной для дальнейшей эксплуатации внутри Рейха. После венгерской неразберихи меня одолевали сомнения. «Каковы мои полномочия? – спросил я Брандта. – Есть ли у меня право в случае необходимости отдавать приказы?» От прямого ответа он уклонился: «Всем командует обергруппенфюрер Шмаузер. Если вы видите, что персонал лагеря не желает действовать сообща в нужном русле, информируйте обергруппенфюрера, и он наведет порядок». – «А если у меня возникнут проблемы с обергруппенфюрером?» – «Этого не случится. Обергруппенфюрер – истинный национал-социалист. К тому же вы постоянно на связи с рейхсфюрером или со мной». Я уже знал по опыту, насколько ненадежна подобная гарантия. Но выбора у меня не было.
О вероятном наступлении врага, угрожающем концентрационному лагерю, рейхсфюрер заявил 17 июня 1944 года, инструкция под названием Fall-A – «Вариант А» – в критической ситуации наделяла ХССПФ региона неограниченной властью над персоналом. И если бы Шмаузер понимал важность максимального сохранения рабочей силы, все действительно могло бы пойти, как надо. Я отправился к нему в штаб-квартиру в Бреслау. Это был человек старой закалки, лет пятидесяти-пятидесяти пяти, суровый, жесткий, но профессионал в своем деле. План эвакуации лагерей, объяснил мне Шмаузер, входит в рамки общей стратегии отступления АРЛЦ – Auflockerung-Räumung-Lähmung-Zerstörung («Рассредоточение – эвакуация – приведение в негодность – разрушение»), сформулированной в конце 1943 года и «успешно примененной на Украине и в Белоруссии. Большевики не нашли там ни жилья, ни еды, а в некоторых областях, например в Новгороде, не встретили ни единого даже потенциально полезного человека». Дистрикт VIII ввел в действие приказ о введении в действие этой стратегии девятнадцатого сентября. 65 000 заключенных эвакуировали в Старый Рейх, в их числе поляков и русских, которые могли представлять опасность для тылов при приближении врага. Оставалось 67 000 заключенных, из них 35 000 продолжали работать на заводах Верхней Силезии и соседних регионов. Планирование окончательной эвакуации и двух последних фаз стратегии АРЛЦ с октября месяца Шмаузер поручал своему связному офицеру, майору полиции Бёзенбергу. Я намеревался уточнить у него детали, хотя знал, что только гауляйтер Брахт, как рейхскомиссар обороны гау, может приводить решение в исполнение. «Вы понимаете, – заявил мне в итоге Шмаузер, – мы все осознаем, в какой степени нам важен рабочий потенциал. Но для нас и для рейхсфюрера, конечно, вопросы безопасности главнее. Такая человеческая вражеская масса внутри наших границ – это огромный риск, даже если она не вооружена. Шестьдесят семь тысяч заключенных – почти что семь дивизий. Только вообразите, семь вражеских дивизий на свободе позади наших войск во время наступления! Вам, вероятно, известно, что в октябре в Биркенау произошло восстание среди евреев зондеркоманды. К счастью, мы его подавили, но потеряли людей, и один из крематориев был взорван. Вы только подумайте: если бы им удалось связаться с польскими партизанами, которые вечно бродят вокруг лагеря, они бы нанесли колоссальный ущерб и помогли бы бежать тысячам заключенных! А с августа американцы повадились бомбить завод „И.Г. Фарбен“, чем заключенные и пользуются, каждый раз пытаясь удрать. Если окончательная эвакуация состоится, мы должны сделать все, чтобы подобные ситуации не повторялись. Нельзя терять бдительность». Я отлично понимал его точку зрения, но боялся реальных последствий, которыми это могло быть чревато. Доклад Бёзенберга тоже не слишком меня успокоил. Он тщательно разработал план на бумаге, с точными картами дорог для эвакуации. Бёзенберг активно критиковал штурмбанфюрера Бера, отказавшегося от общих обсуждений при подготовке маршрутов. По завершении последней административной реорганизации в конце ноября Бер, бывший пекарь, сохранил пост коменданта соединенных лагерей I и II, а также начальника гарнизона СС трех лагерей и всех подсобных лагерей. Бер ссылался на то, что ХССПФ не обладает никакой юрисдикцией над лагерем, – так оно, собственно, и было до объявления Fall-A – и соглашался контактировать только с Амтсгруппой «Д». Короче говоря, тесного, бесконфликтного сотрудничества между ответственными инстанциями даже не намечалось. К тому же – и это волновало меня еще больше, учитывая опыт октября и ноября, – план Бёзенберга предусматривал пешую эвакуацию лагеря. Заключенным предстояло пройти порядка шестидесяти километров до поездов в Глейвице и Лослау. Вполне логично: план предвосхищал военную ситуацию, не позволявшую осуществить движение по железной дороге до самого лагеря, да и поездов отчаянно не хватало. По всей Германии осталось около двухсот тысяч железнодорожных вагонов, за два месяца мы потеряли более семидесяти процентов подвижного состава. Надо было еще учесть эвакуацию немецких граждан, имевших особые права, иностранных рабочих и военнопленных. 21 декабря гауляйтер Брахт приступил к исполнению плана массовой эвакуации для провинции, объединив его с планом Бёзенберга, и решил в целях безопасности в первую очередь переправлять через Одер – самое узкое место на маршруте эвакуации заключенных КЛ. Повторюсь, на бумаге все выглядело резонно, но я-то знал, чем заканчивается неподготовленный форсированный марш в середине зимы. Кроме того, из Будапешта гнали людей сытых и здоровых, а не изнуренных, голодных и плохо одетых узников, не говоря уж об общей ситуации – даже спланированная заранее, она в любой момент могла усугубиться и выйти из-под контроля. Я долго обсуждал с Бёзенбергом основные пункты. Он уверял, что перед отправлением заключенным раздадут теплую одежду и дополнительные одеяла, а продовольственные запасы будут пополняться по дороге. Лучше не организовать, – утверждал он. И мне пришлось признать его правоту.
В комендатуре Аушвица я пересекся со штурмбанфюрером Краусом, связным офицером, присланным Шмаузером с зондеркомандой СД и возглавившим в лагере «отдел связи и транзита». Краус, молодой, приветливый офицер, со следами страшных ожогов на шее и левом ухе, сообщил мне, что отвечает главным образом за фазы «Блокирование» и «Разрушение». В частности, он должен убедиться, что при отступлении устройства по уничтожению и склады не попадут в руки русских в целости и сохранности. Ответственность за выполнение приказа об эвакуации, если таковой будет отдан, ложится на Бера. Бер встретил меня не слишком любезно, в его глазах я был очередным чиновником, явившимся докучать ему. Внешность Бера меня поразила: беспокойный, проницательный взгляд, бесформенный нос, тонкие, но необычайно чувственные губы, густые вьющиеся волосы тщательно причесаны и смазаны брильянтином, как у берлинских денди. Мне он показался удивительно ограниченным и серым, хуже Хёсса, который хотя бы сохранил чутье бывшего ландскнехта. Воспользовавшись своим званием, я строго отчитал Бера за нежелание сотрудничать со службами ХССПФ. Он нахально возразил мне, что Поль полностью разделяет его позицию. «Когда Fall-A будет введен в действие, я последую приказам обергруппенфюрера Шмаузера. До тех пор я подчиняюсь Ораниенбургу. И вы не имеете права мне указывать». – «Когда объявят Fall-A, будет слишком поздно исправлять результаты вашей некомпетентности! – в бешенстве заорал я. – Предупреждаю, что в своем рапорте рейхсфюреру сделаю вас лично виновным за любые непредвиденные потери». Мои угрозы, похоже, не произвели на Бера ни малейшего впечатления, он слушал молча, с плохо скрываемым презрением.
Бер выделил мне кабинеты в комендатуре Биркенау, и я вызвал из Ораниенбурга оберштурмфюрера Элиаса и одного из моих новых подчиненных, унтерштурмфюрера Дариуса. Расквартировался я в Доме ваффен-СС. Мне дали ту же комнату, что и в первое посещение полтора года назад. Погода стояла ужасная, холодная, влажная, переменчивая. Весь район лежал под толстым снежным покрывалом, украшенным серым кружевом копоти из шахт и заводских труб. В лагере снег был практически черный, утоптанный тысячами заключенных и смешанный с застывшей от мороза грязью. Мощные порывы ветра неожиданно обрушивались на лагерь с Бескид, минут двадцать не давали продохнуть сквозь белую колыхающуюся завесу, а потом также стремительно рассеивались, наведя повсюду хоть на несколько мгновений безупречную чистоту. В Биркенау дымила одна-единственная печь, и то с перебоями: крематорий IV поддерживали в рабочем состоянии, чтобы сжигать умерших в лагере заключенных. Крематорий III разрушили во время октябрьского восстания, а два других, согласно указанию Гиммлера, частично демонтировали. Новую строительную зону забросили, бóльшую часть бараков сломали, и теперь огромное опустевшее пространство заносило снегом. Проблему перенаселения решили предварительными эвакуациями. Если вдруг тучи поднимались выше, за прямоугольными рядами бараков появлялась голубоватая линия Бескид. И лагерь под снегом казался тихим и присмиревшим. Чуть ли не ежедневно я ездил с инспекциями по разным лагерям – Гюнтергрубе, Фюрстергрубе, Чеховице, маленьким лагерям Глейвица, проверял, как идет подготовка к эвакуации. На длинных равнинных дорогах мне не встречалось ни души, лишь изредка покой нарушали грузовики вермахта. Возвращался я, как правило, вечером под темным небом – давящей серой массой, наполненной снегом. Порой белая пелена укрывала отдаленные деревни, за ней небо было голубовато-желтым, лучи заходящего солнца освещали по краям фиолетовые облака и подсинивали снег и лед на многочисленных польских болотах. Вечером тридцать первого декабря в Доме ваффен-СС организовали скромный праздник для офицеров лагеря. Собравшиеся печально распевали гимны, пили медленно и разговаривали негромко. Все понимали, что это последний Новый год войны, что Рейх почти не имеет шансов просуществовать до следующего. Я встретил там совершенно подавленного доктора Виртса, уже отправившего семью в Германию, и унтерштурмфюрера Шурца, нового начальника Политического отдела, приветствовавшего меня с гораздо большей почтительностью, чем его комендант. Я долго беседовал с Краусом. Он несколько лет служил в России, пока не получил серьезное ранение под Курском, где ему еле удалось выбраться из горящего танка. После выздоровления Крауса определили в дистрикт СС «Юго-Восток» в Бреслау, и в результате он оказался в штаб-квартире Шмаузера. Звали его (как и другого Крауса, известного католического богослова прошлого века) Франц Ксавер, и он произвел на меня впечатление человека серьезного, открытого мнению окружающих, но полного фанатической решимости довести свою миссию до конца. Краус понимал мои задачи, как он меня уверял, но одновременно настаивал на том, чтобы никто из заключенных не попал живым в руки русских. И не видел здесь никаких противоречий. По сути, он был прав, но я, со своей стороны, волновался, не без повода, как вы увидите дальше, что слишком суровые приказы усугубят жестокость лагерной охраны. На шестом году войны она уже состояла из отбросов СС, людей больных или слишком старых для фронта, едва говорящих по-немецки фольксдойче, ветеранов, страдавших психическими расстройствами, но признанных пригодными для службы, алкоголиков, наркоманов и выродков, хитростью сумевших избежать штрафных батальонов или карательных взводов. Большинство офицеров стоили немногим больше своих солдат. За минувший год стремительного развития системы концлагерей ВФХА пришлось мобилизовать последние резервы, повышать в ранге явно некомпетентных людей, вновь призывать разжалованных за серьезные проступки офицеров или тех, кого никуда не принимали. Гауптштурмфюрер Дрешер, еще один офицер, с которым я пересекся в тот вечер, лишний раз подтвердил, что мой пессимизм вполне обоснован. Дрешер руководил отделом комиссии Моргена, до сих пор находящейся в лагере, и видел меня однажды в Люблине у своего начальника. Тем вечером за столиком в нише, немного изолированной от общего ресторанного зала, Дрешер откровенно рассказывал мне о текущих расследованиях. Дело против Хёсса, близившееся к завершению в октябре, вдруг рассыпалось в ноябре, несмотря на показания одной узницы, австрийской проститутки, которую Хёсс соблазнил, а после пытался уничтожить, закрыв в карцере. В конце 1943 года Хёсс оставил жену и детей в доме коменданта, вынудив следующих заместителей искать жилье в другом месте. Он забрал семью лишь месяц назад, без сомнения, из-за угрозы вторжения русских. В лагере все знали, что фрау Хёсс вывозила четыре полных грузовика всякого добра. Дрешер от расстройства заболел, а Моргену не по силам было тягаться с покровителями Хёсса. Расследования продолжались, впрочем, теперь они касались только мелких сошек. К нам присоединился Виртс, но Дрешер продолжал говорить, не смущаясь присутствием доктора, для которого, видимо, его откровения новостью не являлись. Виртса беспокоила предстоящая эвакуация. В нарушение плана Бёзенберга ни в главном лагере, ни в Биркенау меры по заготовке продовольствия и теплой одежды в дорогу не принимались. Меня все это беспокоило не меньше.
А русские между тем не двигались. Наши войска отчаянно пытались прорвать фронт (американцы крепко засели в Бастони). Нам удалось перейти в наступление в Будапеште, что вселяло хоть немного надежды. Но те, кто умел читать между строк, понимали, что пресловутые ракеты V-2 оказались неэффективными. Противник незамедлительно подавил наше второе наступление в Северном Эльзасе, и стало очевидно, что наше поражение – вопрос времени. В начале января я дал Пионтеку отпуск на день, чтобы вывезти семью из Тарновиц хотя бы в Бреслау. Мне не хотелось, чтобы в решающий момент он беспокоился о родных. Снег валил без перерыва, но когда небо прояснилось, над силезским пейзажем поднялся тяжелый черный дым из заводских труб, свидетельство непрекращающегося до последнего момента производства танков, пушек, оружия. Двенадцать дней протекли в напряженном ожидании и бюрократических стычках. Мне в итоге удалось убедить Бера в необходимости позаботиться о пайках, чтобы раздать их заключенным перед самой эвакуацией. Теплую одежду он пообещал взять из «Канады», склады которой из-за нехватки транспорта для вывоза были битком забиты. Хорошая новость ненадолго ослабила напряжение. Как-то вечером в Доме перед моим столиком возник улыбающийся в усы Дрешер с двумя рюмками коньяку. «Поздравляю, оберштурмбанфюрер», – объявил он, протягивая мне одну рюмку и поднимая другую. «Спасибо, но с чем?» – «Я сегодня беседовал со штурмбанфюрером Моргеном. Он просил сообщить, что ваше дело закрыто». Я почувствовал такое облегчение, что даже не удивился осведомленности Дрешера. Дрешер продолжал: «За отсутствием материальных улик судья фон Рабинген решил прекратить следствие. Фон Рабинген сказал штурмбанфюреру, что никогда не сталкивался с подобным, плохо сфабрикованным и практически не обоснованным случаем, крипо работала отвратительно. Он почти уверен, что все это происки против вас». Я глубоко вздохнул: «Я всегда это утверждал. К счастью, я сохранил доверие рейхсфюрера. Если то, что вы говорите, правда, моя честь восстановлена». – «Да, действительно, – кивнул Дрешер. – Штурмбанфюрер даже сказал мне по секрету, что судья фон Рабинген намерен применить дисциплинарные санкции к ополчившимся на вас инспекторам». – «Я буду рад». Через три дня я получил подтверждение новости в письме от Брандта с копией заявления рейхсфюреру, где фон Рабинген заверял, что полностью убедился в моей невиновности. Клеменс и Везер не упоминались ни в одном из писем, но я все равно ликовал.
Наконец, после короткого привала на плацдармах у Вислы, большевики перешли в наступление, которого мы так опасались, и смели наши скудные войска прикрытия. Во время передышки русские стянули к Висле неслыханную огневую мощь. Их танки Т-34 шли колоннами через польские равнины, с блеском повторяя нашу тактику 1941 года и разбивая в пух и прах наши дивизии. На многих участках вражеские танки застигали врасплох наших солдат, полагавших, что линия фронта находится более чем в ста километрах. Семнадцатого января генерал-губернатор Франк и его администрация эвакуировали Краков, а наши последние соединения отходили по руинам Варшавы. И только когда первые советские бронетранспортеры уже прорвались в Силезию, Шмаузер начал операцию Fall-A. Я со своей стороны предпринял все возможное: погрузил канистры с бензином, бутерброды и ром в наши две машины и уничтожил копии рапортов. Вечером семнадцатого Бер вызвал меня и других офицеров и сообщил, что по инструкции Шмаузера с завтрашнего утра все здоровые заключенные будут эвакуированы, пешком, и это собрание последнее. Эвакуация пройдет по плану. Каждый начальник колонны должен следить, чтобы никто из заключенных не сбежал и не отстал, попытки такого рода безжалостно пресекать. Однако Бер рекомендовал не расстреливать заключенных в деревнях, чтобы не шокировать население. Один оберштурмфюрер, начальник колонны, взял слово: «Штурмбанфюрер, не слишком ли строго? Да, если заключенный бежит, он заслуживает расстрела. А если он просто слишком слаб, чтобы идти?» – «Все, кого мы эвакуируем, признаны работоспособными и должны без проблем осилить пятьдесят километров, – возразил Бер. – Больные и непригодные останутся в лагере. Заболевших по дороге уничтожать. Соблюдать приказы неукоснительно».
Той ночью эсэсовцы в лагере спали мало. Из окон Дома, расположенного возле вокзала, я наблюдал за длинными колоннами штатских немцев, бегущих от русских. Пройдя город и мост через Солу, граждане Рейха штурмовали вокзал или с трудом продолжали путь на запад пешком. СС охраняли специальный поезд, зарезервированный для семей персонала лагеря, но вагоны уже были заполнены под завязку: рядом с женами и детьми мужья пытались втиснуть в купе огромные тюки. После обеда я поехал с проверкой в Аушвиц I и Биркенау. Осмотрел несколько бараков. Заключенные старались заснуть. Капо доложили, что дополнительную одежду так и не раздали, но я понадеялся, что ее выдадут перед отправкой. На дорожках горели стопы документов, мусоросжигательные печи были перегружены. В Биркенау возле «Канады» царила жуткая суета. Заключенные при свете прожекторов грузили всякого рода товары в грузовики. Унтерштурмфюрер, контролировавший процесс, отрапортовал, что машины движутся к КЛ Гросс-Розен. Но я прекрасно видел, как охрана СС отбирает вещи для себя и зачастую делает это в открытую. Все кричали, входили в раж, напрасно растрачивая силы. Я понимал, что этих людей охватывает паника, им уже не до дисциплины, и чувство меры отказывает им. Как всегда, все дела мы отложили на последнюю минуту, ведь начни мы действовать раньше, это было бы истолковано как пораженчество. Теперь, когда русские дышали нам в затылок, охрана Аушвица, памятуя о судьбе эсэсовцев, захваченных в плен в лагере Люблина, полностью утратила представление о приоритетах и думала только, как бы сбежать. Совершенно удрученный, я заглянул в кабинет к Дрешеру в Аушвице I. Он тоже жег бумаги. «Видели, как воруют?» – спросил он, усмехнувшись в бородку. И вытащил из ящика бутылку дорогого «Арманьяка». «Что скажете? Один унтерштурмфюрер, которого я преследую уже четыре месяца и никак не могу прижать, вручил ее мне в качестве прощального подарка, сволочь такая. Украл, конечно. Выпьете со мной?» Он плеснул коньяку в стаканы для воды: «Увы, посуды получше у меня нет». И поднял стакан, я тоже. «Ну, предложите тост». Мне ничего не приходило на ум, Дрешер пожал плечами: «Ну, тогда просто выпьем». «Арманьяк» был восхитителен, ароматный, чуть обжигающий. «Куда вы теперь?» – спросил я. «В Ораниенбург, докладываться. У меня имеются улики против еще одиннадцати человек. А после – не знаю, отправят, куда захотят». Уже в дверях он протянул мне бутылку: «Держите, вам нужнее». Я сунул ее в карман шинели, пожал Дрешеру руку и шагнул за порог. Зашел в ХКБ, где Виртс контролировал вывоз медицинского оборудования и медикаментов, сообщить о проблеме с теплой одеждой. «Склады ломятся, – заверил он меня. – Сложностей с выдачей заключенным одеял, обуви и пальто возникнуть не должно». Но Бер, которого я застал уже около двух часов ночи в комендатуре за планированием очередности выдвижения колонн, это мнение, похоже, не разделял. «Вещи на складах – собственность Рейха. У меня нет приказа распределять их между заключенными. При первой возможности мы все вывезем грузовиками или поездом». На улице было минус десять, скользко, дороги замерзли. «Ваши заключенные, одетые как попало, не выживут. Многие практически босые». – «Кто сможет, выживет, – заявил Бер. – А других нам и не надо». Во мне закипал гнев, я спустился в центр связи и попросил соединить меня с Бреслау. Но Шмаузер был недоступен, Бёзенберг тем более. Оператор показал мне депешу вермахта. Ченстохова только что пала, советские войска стояли у ворот Кракова. «Ситуация накаляется», – лаконично высказался он. Я хотел было отправить телекс рейхсфюреру, но что бы это изменило? Лучше завтра найти Шмаузера, у него-то, наверное, больше здравого смысла, чем у такого осла, как Бер. Я вдруг ощутил страшную усталость, вернулся к себе и лег. Колонны гражданских, к которым теперь примешивались солдаты вермахта, все текли и текли. Изнуренные, закутанные крестьяне толкали перед собой повозки со скарбом и детьми и гнали скотину.
Пионтек меня не будил, и я проспал до восьми часов. Кухня пока работала, и я заказал омлет с колбасой. Потом вышел на улицу. Колонны из Аушвица I и Биркенау уже двинулись. Заключенные, обернув ноги всем, что только удалось раздобыть, медленно, спотыкаясь, продвигались вперед в окружении тепло одетых и хорошо накормленных капо и охраны СС. Те, кто имел одеяла, захватили их с собой и несли, водрузив на голову, словно бедуины. И больше ничего. На мой вопрос мне ответили, что узникам раздали по куску хлеба и колбасы на три дня, и никто не слышал распоряжения об одежде.
В первый день, несмотря на лед и мокрый снег, все шло более или менее нормально. Я наблюдал за колоннами, покидавшими лагерь, переговаривался с Краусом, выезжал вперед, чтобы изучить обстановку. И везде отмечал злоупотребления. Охранники заставляли заключенных толкать тележки с добром или тащить на себе их чемоданы. По краю дороги то здесь, то там в снегу валялись трупы, часто с окровавленными головами. Охрана выполняла строгие приказы Бера. Но колонны шли организованно, не пытаясь протестовать. В середине дня я сумел связаться со Шмаузером и обсудить проблему одежды. Долго слушать он не стал и отмел мои возражения. «Мы не можем выдать им гражданскую одежду, есть риск, что они убегут». – «Тогда хотя бы обувь». Шмаузер колебался. «Улаживайте вопрос с Бером», – сказал он наконец. Я чувствовал, что Шмаузер занят другим, но добивался четкого распоряжения. Я отправился в Аушвиц I на поиски Бера: «Обергруппенфюрер Шмаузер приказал раздать обувь заключенным, у которых ее нет». Бер пожал плечами: «А у меня тут тоже ничего нет, все уже погружено и готово к отправке. Посмотрите со Шварцхубером в Биркенау». Я два часа искал офицера Шварцхубера, лагерфюрера Биркенау, инспектировавшего одну из колонн. «Хорошо, я об этом позабочусь», – пообещал он, услышав приказ. К вечеру мы встретились с Элиасом и Дариусом, которых я посылал контролировать эвакуацию в Моновице и прочих подсобных лагерях. Поначалу казалось, что все идет по плану, но уже во второй половине дня все больше заключенных оказывалось не в состоянии продолжать путь, и охрана их расстреливала. Мы с Пионтеком поехали инспектировать места привалов. Вопреки категорическому приказу Шмаузера некоторые колонны еще шли, охрана боялась, что узники воспользуются темнотой для побега. Я отчитал офицеров, но они возразили, что вверенные им колонны еще не достигли пункта назначения и нельзя же узникам ночевать на снегу и льду. Однако пункты, которые я посетил, оказались ничем не лучше. Амбар или школа, иногда на две тысячи заключенных, многие из них спали снаружи, прижавшись друг к другу. Я просил разжечь костры, но хворост взять было негде, деревья были слишком сырые, да и рубить их было нечем. Там, где нашлись доски и старые ящики, маленькие костерки все же развели, но они наверняка потухнут еще до рассвета. О супе никто не заикался, заключенные довольствовались тем, что получили в лагере. Пайки раздадут позже, уверяли меня. Большинство колонн не одолели и пяти километров и до сих пор не покинули почти совершенно опустевшую зону лагеря. В таком ритме эвакуация грозила затянуться дней на десять-двенадцать.
Я вернулся грязный, вымокший и уставший. Краус выпивал в столовой в компании коллег из СД. Он подсел ко мне и осведомился: «Как дела?» – «Не слишком хорошо. Будет множество лишних жертв. Бер мог бы сделать гораздо больше». – «Беру на все плевать. Вам известно, что его назначили комендантом Миттельбау?» У меня глаза на лоб полезли: «Нет, я не знал. А кто же будет контролировать закрытие лагеря?» – «Я. И уже получил приказ создать после эвакуации отдел, которому предстоит заняться расформированием администрации». – «Поздравляю», – выдавил я. «О, не подумайте, что я этому очень рад. Если честно, я бы предпочел что-нибудь другое». – «А ваши непосредственные задачи?» – «Дождемся, когда освободят лагеря, и начнем». – «Как вы поступите с оставшимися заключенными?» Он пожал плечами: «А как, по-вашему? Обергруппенфюрер распорядился их ликвидировать. Никто не должен попасть живым в руки большевиков». – «Понимаю». Я допил стакан. «Ну, удачи. Я вам не завидую».
Ситуация неуловимо ухудшалась. На следующее утро заключенные по-прежнему выходили из лагерей через главные ворота, на сторожевых вышках дежурила охрана, в общем, царил порядок. Но через несколько километров колонны растягивались, рассыпались из-за того, что самые слабые замедляли шаг. Трупов становилось все больше. Валил густой снег, хотя было не слишком холодно, – мне, по крайней мере. В России я не такие морозы пережил, да и одет был тепло, и разъезжал в отапливаемой машине. Охранникам, шедшим пешком, выдали свитера, толстые шинели и сапоги. А вот заключенные наверняка промерзли до костей. Охранники нервничали все больше и больше, они орали на узников и били их. Я видел, как один эсэсовец убил заключенного, остановившегося оправиться. Я сделал солдату выговор и попросил унтерштурмфюрера, руководившего колонной, взять его под арест. Унтер возразил, что людей не хватает, и он не может себе этого позволить. В деревнях польские крестьяне, ожидавшие русских, кричали что-то проходившим мимо заключенным на их языке или смотрели молча. Охранники грубо отталкивали тех, кто пытался сунуть узникам хлеб или другую какую-нибудь еду. Наши люди знали, что в деревнях полно партизан, и боялись внезапного налета. Вечером на местах привала, которые я проверял, опять не было ни супа, ни хлеба, а многие заключенные уже съели свои пайки. Я подумал, что при таком порядке вещей половина, а то и две трети колонн погибнет, не дотянув до цели. Я велел Пионтеку везти меня в Бреслау. Из-за плохой погоды и колонн арестантов мы приехали туда лишь к полуночи. Шмаузер уже спал, а Бёзенберг, как мне доложили в штабе, сорвался в Катовиц, ближе к фронту. Плохо выбритый офицер показал мне карту операций. Позиции большевиков, объяснил он, обозначены скорее теоретически, русские наступают так стремительно, что мы не успеваем вносить изменения. Что до наших дивизий, некоторые из представленных на карте уже не существуют, другие, по обрывочной информации, движутся во вражеском кольце за русскими линиями, пытаясь вновь соединиться с нашими отступающими частями. Тарновиц и Краков пали днем. Большевики в огромном количестве ворвались в Восточную Пруссию и, по слухам, чинили зверства страшнее, чем в Венгрии. Это была катастрофа. Но Шмаузер, принявший меня утром, казался спокойным и уверенным в себе. Я описал ему ситуацию и напомнил о своих требованиях: продовольственные пайки и дрова для костров на привалах, повозки для транспортировки изможденных заключенных, которых, вместо того чтобы ликвидировать, впоследствии можно будет подлечить и отправить на работы. «Обергруппенфюрер, я не имею в виду больных тифом или туберкулезом, только тех, кто плохо переносит холод и голод». – «Наши солдаты тоже мерзнут и недоедают, – сурово возразил Шмаузер. – И штатские тоже. Вы, пожалуй, не отдаете себе отчета в происходящем, оберштурмбанфюрер. У нас полтора миллиона беженцев на улицах. Они все-таки важнее ваших заключенных». – «Обергруппенфюрер, эти заключенные, рабочая сила, жизненно необходимый ресурс Рейха. В теперешней ситуации мы не можем себе позволить потерять двадцать или тридцать тысяч из них». – «У меня нет средств, чтобы вам помочь». – «Тогда дайте мне, по крайней мере, приказ, чтобы я заставил слушаться начальников колонн». Мне напечатали приказ в нескольких экземплярах, для Элиаса и Дариуса в том числе, после полудня Шмаузер их подписал, и я сразу уехал. Дороги были чудовищно перегружены. Бесконечные колонны беженцев, повозки, редкие грузовики вермахта, солдаты, отбившиеся от своей части. В деревнях полевые кухни НСВ разливали суп. В Аушвиц я вернулся поздно, мои коллеги уже разошлись и спали. Я решил встретиться с Краусом и застал его с Шурцем, начальником Политического отдела. Я захватил с собой «Арманьяк» Дрешера, который мы выпили вместе. Краус сообщил, что утром взорвали крематории I и II, а IV будет стоять до последней минуты. Приказ по ликвидации тоже приводится в исполнение. В женском лагере Биркенау расстреляны двести евреек. Но президент Катовицкого правительственного округа Шпрингорум отозвал из лагеря для неотложных целей свою зондеркоманду, и у Крауса теперь нет людей, чтобы продолжать операцию. Работоспособные заключенные покинули лагерь, но, по его мнению, во всем комплексе еще остается больше восьми тысяч больных или слишком слабых узников. Убивать этих людей при теперешнем положении вещей казалось мне глупым и ненужным, но у Крауса имелся приказ, а в мои полномочия этот вопрос не входил, мне и так хватало проблем с эвакуированными.
Четыре следующих дня я бегал вдоль колонн. У меня создалось впечатление, что я борюсь с лавиной грязи. Я тратил по нескольку часов, чтобы продвинуться вперед, и когда наконец находил ответственного офицера и показывал приказы, он подчинялся с огромной неохотой. Кое-где я организовал раздачу пайков, впрочем, в других местах их распределяли и без моего участия. Потом распорядился собрать одеяла с мертвых и отдать живым, конфисковать повозки у польских крестьян и грузить туда ослабевших заключенных. Но назавтра, когда я явился с проверкой тех же колонн, выяснилось, что офицеры расстреляли заключенных, которые не смогли подняться, а повозки стояли практически пустые. Я не присматривался к заключенным, меня волновала не судьба отдельных конкретных людей, а их общая участь. К тому же все они представляли собой серую, грязную, вонючую, несмотря на мороз, недифференцируемую массу. Женщин от мужчин отличить можно было с трудом. Взгляд выхватывал лишь отдельные детали – нашивка, непокрытая голова, голая нога, куртка не такая, как у всех. Иногда под складками одеяла я замечал их глаза, пустые, невидящие, отражающие лишь одно – необходимость идти, идти, идти. Чем дальше от Вислы, тем становилось холоднее, тем больше мы теряли заключенных. Порой, чтобы уступить место вермахту, колонны вынуждены были ждать часами на обочине дороги или срезáть путь по ледяным полям, перебираясь через бесчисленные каналы и земляные насыпи, прежде чем опять вернуться на шоссе. Когда колонна останавливалась на привал, измученные жаждой заключенные валились на колени и лизали снег. Каждую колонну, даже те, которые по моему приказу снабдили повозками, сопровождал отряд охраны. Солдаты выстрелом или ударом приклада приканчивали падавших или просто замешкавшихся узников, а хлопоты о погребении тел офицеры возлагали на областные администрации. Как обычно в ситуациях подобного рода у некоторых людей обострялась врожденная жестокость. Обуреваемые желанием убивать, они явно пренебрегали инструкциями. Перепуганные молодые офицеры еле контролировали своих подчиненных. Однако не только рядовые теряли чувство меры. На третий или четвертый день я по дороге пересекся с Элиасом и Дариусом. Они инспектировали колонну из Лаурахютте, маршрут которой изменили из-за стремительного наступления русских. Большевики теснили нас не только с востока, но и с севера и, по имевшейся у меня информации, уже почти достигли Гросс-Штрелица, перед самым Блехгаммером. Элиас держался рядом с командующим колонной, молодым обершарфюрером, до чрезвычайности нервным и взвинченным. Я спросил, где Дариус. Элиас сказал, что в хвосте и занимается больными. Я решил узнать, как именно, и застиг Дариуса в тот момент, когда он приканчивал заключенных из пистолета. «Вы спятили?» Он поздоровался со мной, ничуть не смутившись: «Я следую вашим распоряжениям, оберштурмбанфюрер. Я тщательно отсортировал больных и ослабленных заключенных и погрузил на повозки тех, кто еще может поправиться. Мы ликвидировали только абсолютно негодных». – «Унтерштурмфюрер, – выговорил я ледяным тоном, – ликвидации не в вашей компетенции. Ваша задача свести их к минимуму и уж точно не принимать в них участия. Ясно?» Элиасу тоже досталось, в конце концов, он отвечал за Дариуса.
Иногда мне встречались более понятливые начальники колонн, соглашавшиеся с логикой и необходимостью того, что я им объяснял. Но средства, имевшиеся в их распоряжении, были ничтожны, и командовали они людьми ограниченными, напуганными, озлобленными годами работы в лагерях, неспособными изменить свои методы и в результате ослабления дисциплины, вызванного всеобщим хаосом, вернувшимися к прежним порокам и рефлексам. У каждого, размышлял я, нашлись причины вести себя жестоко. Так, например, Дариус стремился продемонстрировать твердость и решительность перед людьми зачастую гораздо старше его самого. Впрочем, помимо анализа мотивов, побуждавших людей к подобным действиям, мне было чем заняться. Я с превеликим трудом добивался выполнения моих приказов. Но большинство командиров не проявляли должного понимания, думая лишь об одном – как можно быстрее и не осложняя себе жизнь, уйти от врага с доверенными им скотами.
В течение этих четырех дней я спал где придется: в трактирах, у деревенских старост, в домах местных жителей. Двадцать пятого января ветер разогнал тучи, заблестело небо чистое, светлое. Я вернулся в Аушвиц проверить, что там происходит, и на вокзале застал солдат зенитной батареи. В основном это был «Гитлерюгенд», по сути дела еще дети, которых запихнули в люфтваффе. Сейчас они готовились к эвакуации. Фельдфебель, вращая глазами, лишенным всякого выражения голосом сообщил мне, что русские уже на противоположном берегу Вислы, и на заводе «И.Г. Фарбен» идет бой. На пути к Биркенау я столкнулся с длинной колонной заключенных, двигавшейся вдоль берега реки в окружении эсэсовцев, которые стреляли вверх, практически наугад. Позади дорога к лагерю была устелена трупами. Я остановился и подозвал их начальника, человека Крауса. «Что вы творите?» – «Штурмбанфюрер приказал освободить секторы II-e и II-ф и переправить заключенных в главный лагерь». – «А почему же вы их расстреливаете?» Он насупился: «По-другому они идти не желают». – «Где штурмбанфюрер Краус?» – «В Аушвице I». Я задумался: «Лучше бегите. Русские будут здесь через несколько часов». Поколебавшись, он решился, сделал знак своим людям, и группа, бросив заключенных, затрусила к Аушвицу I. Я смотрел на узников. Они не шевелились, кто-то смотрел на меня, кто-то сел на землю. Я обернулся к Биркенау, с высокого берега его территория полностью открывалась взгляду. От горящего сектора «Канада» в небо поднимался черный столп дыма, на фоне которого еле угадывалась тонкая струйка из трубы продолжавшего работать крематория IV. Снег на крышах бараков искрился на солнце. Лагерь казался опустевшим, я не приметил людей, только темные точки, рассыпанные по дорожкам, наверное, трупы. На сторожевых вышках уже никого не было, все замерло. Я сел в машину, развернулся и уехал, оставив заключенных на произвол судьбы. До Аушвица я добрался раньше той команды СС с реки. Мимо меня сновали туда-сюда перепуганные, взволнованные сотрудники СД и катовицкого гестапо. Дорожки лагеря были завалены трупами, мусором, кучами грязной одежды. В отдалении я иногда замечал заключенного, обшаривавшего мертвецов или украдкой перебегавшего от одного здания к другому и бросавшегося наутек при виде меня. Я нашел Крауса в комендатуре, пустые коридоры были усеяны бумагами и документами. Он допивал бутылку шнапса и курил сигарету. Я присоединился. «Вы слышите?» – спросил он спокойно. С севера и востока доносились глухие, однообразные взрывы, стреляла русская артиллерия. «Ваши люди не соображают, что делают», – заявил я, наливая себе шнапса. «Ну и что с того? Я сейчас уезжаю. А вы?» – «Тоже, разумеется. Дом еще открыт?» – «Нет. Они уехали вчера». – «А ваши люди?» – «Часть оставлю, пусть заканчивают взрывные работы вечером или завтра. Наши войска должны продержаться до этого времени. А другую перевожу в Катовице. Вы слышали, что рейхсфюрера назначили командующим группой армий?» – «Нет, – изумился я, – я не знал». – «Вчера. Ее окрестили Группа армий „Висла“, хотя фронт уже почти на Одере, если не за ним. Красные дошли до Балтики. Восточная Пруссия отрезана от Рейха». – «Да, – сказал я, – новости печальные. Возможно, рейхсфюреру удастся что-нибудь исправить». – «Меня бы это удивило. По-моему, нам крышка. Но мы бились до последнего». Краус плеснул остаток бутылки себе в стакан. «Жаль, что я допил „Арманьяк“», – посетовал я. «Ничего страшного». Он отхлебнул шнапса, взглянул на меня: «Почему вы так усердствуете? Я имею в виду рабочую силу. Вы действительно полагаете, что горстка заключенных сможет изменить нашу ситуацию?» Я пожал плечами и опрокинул стакан. «У меня приказ. А вы почему рьяно их уничтожаете?» – «У меня тоже приказ. Это враги Рейха, и я не вижу оснований, почему они должны уцелеть, когда наш народ вот-вот погибнет. Но теперь мне уже все равно. Времени больше нет». – «В любом случае большинство узников протянет лишь пару дней, – сообщил я, уставившись в пустой стакан. – Вы видели, в каком они состоянии». Краус тоже допил последний глоток и встал: «Ну, в путь». На улице он отдал несколько распоряжений, потом обернулся ко мне: «Прощайте, герр оберштурмбанфюрер. Удачи». – «Вам тоже». Я сел в машину и велел Пионтеку ехать в Глейвиц.
Поезда из Глейвица ходили ежедневно с девятнадцатого января, вывозя заключенных по мере их прибытия. Я знал, что первые поезда отправлялись в Гросс-Розен, где подготовку к приемке вел Бер. Но вскоре Гросс-Розен переполнился и отказался брать людей. Составы шли теперь через Протекторат и оттуда направлялись или к Вене, в КЛ Маутхаузен, или к Праге, чтобы потом перераспределиться по лагерям Старого Рейха. Я появился на вокзале Глейвица, когда заключенных как раз сажали в поезд. К моему ужасу, все вагоны стояли открытыми, в них намело снега еще до того, как туда стали прикладами загонять заключенных, внутри не было ни воды, ни продовольствия, ни ведра для туалета. Я расспросил узников. Их эвакуировали из Ной-Даха и пайков по дороге не раздавали, некоторые не ели уже четыре дня. Я в растерянности смотрел на эти привидения, на теснившиеся в вагонах с сугробами скелеты, закутанные в мокрые, обледеневшие одеяла. Я резко окликнул одного из охранников: «Кто здесь командующий?» Он злобно передернул плечами: «Я почем знаю, герр оберштурмбанфюрер. Нам сказали грузить, и все тут». Я вошел в главное здание и приступил с вопросом к начальнику вокзала, высокому худому человеку с усами щеточкой и в круглых профессорских очках: «Кто ответственный за поезд?» Он указал на мои погоны свернутым красным флажком, который держал в руке: «Не вы ли, герр офицер? Я думал, что СС». – «Кто конкретно? Кто формирует составы? Кто предоставляет вагоны?» – «Собственно, что касается вагонов, это Катовицкое отделение Рейхсбана, – сказал он, засовывая флажок под мышку, – а следить за спецпоездами прислали амтсрата». Он потащил меня на улицу и показал барак, расположенный чуть ниже возле путей: «Амтсрат устроился там». Я ворвался туда без стука. За столом, заваленным бумагами, развалился жирный, плохо выбритый человек в штатском. Возле печки грелись два железнодорожника. «Вы амтсрат Катовиц?» – рявкнул я. Он поднял голову: «Да, я амтсрат Катовиц. Керлинг, к вашим услугам». От него нестерпимо разило шнапсом. Я показал на рельсы: «Вы отвечаете за это безобразие?» – «Вы о каком безобразии, уточните? Сейчас оно повсюду». Я еле сдержался: «О поездах. Вагоны для заключенных КЛ стоят нараспашку». – «Ах, вот оно что! Нет, это ваши коллеги. Я всего лишь руковожу формированием составов». – «Значит, вы даете вагоны». Он порылся в бумагах. «Я вам сейчас объясню. Садитесь, старина. Вот. Спецпоезда предоставлены Generalbetriebsleitung Ost [90] в Берлине. Вагоны мы должны найти на месте, среди имеющегося в наличии подвижного состава. К тому же вы, наверное, уже заметили, – он махнул рукой в сторону вокзала, – в последние дни тут небольшой бардак. Открытые вагоны – единственные оставшиеся. Гауляйтер реквизировал все крытые вагоны для эвакуации гражданского населения и вермахта. Если вы недовольны, накройте их брезентом». Я слушал его стоя. «Да где же мне взять брезент?» – «Не моя проблема». – «Вы хотя бы могли очистить вагоны!» Керлинг вздохнул: «Вот что, старина, я должен формировать по двадцать-двадцать пять спецпоездов в день. Мои люди еле успевают сцепить вагоны». – «А продовольствие?» – «Опять-таки не моя забота. Но если вы интересуетесь, тут где-то есть оберштурмфюрер, которому поручено этим заниматься». Я вышел, хлопнув дверью. Возле поездов я разыскал обервахтмейстера из шупо. «О да, я видел оберштурмфюрера, раздававшего приказы. Он, скорее всего, в СП». Там мне подтвердили, что, действительно, есть такой оберштурмфюрер из Аушвица, координирующий эвакуацию заключенных, но он обедает. Я послал за ним. Он явился мрачнее тучи. Я показал ему распоряжение Шмаузера и отчитал за состояние вагонов. Он слушал, стоя навытяжку, красный как рак. Когда я закончил, он залепетал: «Оберштурмбанфюрер, оберштурмбанфюрер, это не моя вина. У меня нет средств. Рейхсбан отказывается давать мне крытые вагоны, продовольствия тоже нет, ничего нет. Мне постоянно звонят, спрашивают, почему поезда задерживаются. Я делаю, что могу». – «Что, во всем Глейвице нет продовольственного склада? Нет брезента? Лопат, чтобы расчистить вагоны? Эти заключенные – важный для Рейха ресурс, оберштурмфюрер! Разве офицеров СС больше не учат проявлять инициативу?» – «Оберштурмбанфюрер, я не в курсе дела, но я могу узнать». Я приподнял брови: «Ну так идите, узнавайте. К завтрашнему дню обеспечьте подходящий транспорт. Понятно?» – «Есть, оберштурмбанфюрер». Он отсалютовал и скрылся за дверью. Я сел и попросил связного принести мне чаю. Не успел я подуть на горячую чашку, как передо мной возник ротный фельдфебель: «Извините, оберштурмбанфюрер, вы не из штаба рейхсфюрера?» – «Да». – «Там два господина из крипо ищут оберштурмбанфюрера из Личного штаба. Это, наверно, вы?» Я проследовал за фельдфебелем, он привел меня в кабинет. Клеменс оперся локтями о стол, Везер, руки в карманах, спиной к стене, качался на стуле. Я улыбнулся и прислонился к наличнику, держа чашку дымящегося чая в ладонях: «О, старые друзья! Каким ветром вас сюда занесло?» Клеменс направил на меня толстый палец: «Мы вас ищем, Ауэ». Я, продолжая улыбаться, похлопал по погонам: «Вы забыли мой чин, комиссар?» – «Плевать нам на ваш чин, – пробормотал Клеменс. – Вы его не заслуживаете». Тут и Везер подключился: «Получив ответ судьи фон Рабингена, вы, конечно же, воскликнули: вот славно, все закончилось. Разве не так?» – «Собственно, так я это и понял. Если не ошибаюсь, ваши материалы подвергли резкой критике». Клеменс пожал плечами: «Судьи сами не знают, чего хотят. Но это не значит, что они правы». – «К сожалению для вас, – сказал я насмешливо, – вы служите правосудию». – «Именно ему, правосудию, мы и служим, – процедил сквозь зубы Кеменс, – и потому иногда оказываемся в одиночестве». – «Вы проделали столь длинный путь по Силезии, чтобы сообщить мне это? Я польщен». – «Не совсем так, – возразил Везер, перестав качаться. – Понимаете, у нас тут возникла идея». – «Очень оригинально», – ответил я, поднося чашку к губам. «Я вам сейчас объясню, Ауэ. Ваша сестра нам рассказала, что заезжала в Берлин незадолго до убийства, останавливалась в отеле „Кайзерхоф“. И виделась с вами. Вот мы и зашли в „Кайзерхоф“. Там отлично знают барона Юкскюля, он старый клиент, привычек не меняет. Один из служащих администрации вспомнил, что через несколько дней после их отъезда приходил офицер СС и отправил фрау Юкскюль телеграмму. А вы знаете, что, когда отправляют телеграмму из отеля, это фиксируется в регистрационной книге, каждая телеграмма под своим номером. А на почте хранятся копии телеграмм. Три года по закону». Он вынул бумажку из внутреннего кармана пальто и развернул ее. «Узнаете, Ауэ?» Я по-прежнему улыбался: «Дело закрыто, господа». – «Вы солгали нам, Ауэ!» – загремел Клеменс. «Да, обманывать полицию плохо», – подтвердил Везер. Я спокойно допил чай, вежливо кивнул, пожелал им хорошего вечера и закрыл за собой дверь.
На улице снова начался сильный снегопад. Я вернулся на вокзал. Орды заключенных ждали на пустыре, сидя в грязи под порывами ветра. Я попытался разместить их в здании вокзала, но залы ожидания заполонили солдаты вермахта. Я, совершенно измученный, спал с Пионтеком в машине. Утром на пустыре остался только десяток трупов, засыпанных снегом. Я хотел найти вчерашнего оберштурмфюрера, чтобы посмотреть, выполняет ли он мои инструкции. Но абсолютная бесполезность всего этого угнетала меня и парализовывала мою волю. К полудню я уже принял решение. Приказал Пионтеку запастись бензином, потом через СП связался с Элиасом и Дариусом. И еще до обеда был на дороге к Берлину.
Бои вынудили нас сделать серьезный крюк через Острау, потом Прагу и Дрезден. Пионтек и я вели машину по очереди, дорога заняла два дня. За десятки километров до Берлина нам пришлось прокладывать путь в толпах беженцев с Востока, которых по распоряжению Геббельса не пускали в город. В центре от крыла Министерства внутренних дел, где находился мой кабинет, остался только голый каркас. Снег, еще лежавший на руинах, таял под холодным, противным дождем. Улицы были замусоренные, грязные. Я наконец разыскал Гротмана, и он проинформировал меня, что Брандт с рейхсфюрером в Померании, в Дойч-Кроне [91]. Я отправился в Ораниенбург. Мой отдел, словно оторванный от мира, продолжал работать. Асбах доложил, что фрейлейн Праксу ранило во время бомбардировки, ожоги на руке и груди, и он распорядился отвезти ее в больницу во Франконии. Элиас и Дариус после взятия русскими Катовица перебрались в Бреслау и ждали инструкций. Я приказал им возвращаться. Потом я принялся разбирать почту, к которой после случившегося с фрейлейн Праксой никто больше не притрагивался, и среди официальных писем обнаружил личное. Я сразу узнал почерк Хелены. Дорогой Макс, – писала она, – мой дом разбомбили, и я вынуждена покинуть Берлин. Я в отчаянии от безызвестности. Где вы? Ваши коллеги ничего не желают говорить. Я еду к родителям в Баден. Напишите мне. Если захотите, я вернусь в Берлин. Еще не все потеряно. Ваша Хелена. Почти объяснение в любви, но я не понял, что она имела в виду под «еще не все потеряно». Я быстро написал ей по указанному адресу, сообщил, что приехал, но что в данный момент ей лучше оставаться в Бадене.
Два дня я посвятил составлению рапорта, где резко критиковал эвакуацию. Я говорил об этом с Полем, который с легкостью разбил мои аргументы: «В любом случае нам негде их размещать, все лагеря трещат по швам». В Берлине я пересекся с Томасом. Праздников он больше не закатывал и пребывал в мрачном настроении. Шелленберг уехал. По словам Томаса, перевоплощение Гиммлера в командующего группой армий имело довольно плачевные последствия. Похоже, это был очередной маневр Бормана, чтобы дискредитировать рейхсфюрера. Но все эти безумные партии, разыгрывавшиеся напоследок, меня больше не интересовали. Я опять плохо себя чувствовал, приступы рвоты возобновились, меня тошнило за печатной машинкой. Мне сообщили, что Морген в Ораниенбурге, и я решил заглянуть к нему и пожаловаться на необъяснимое усердие двух служащих крипо. «Действительно, – задумчиво произнес он, – странно. Похоже, они имеют что-то против вас лично. К тому же я читал материалы, там нет ничего конкретного. Это мог быть какой-нибудь деклассированный опустившийся тип, кто угодно, но вы? Нет, полный абсурд». – «Похоже на классовую ненависть, – предположил я. – Такое впечатление, что им непременно хочется меня унизить». – «Да, возможно. Вы человек образованный, а предрассудков по отношению к интеллектуалам среди отбросов Партии предостаточно. Слушайте, я доложу фон Рабингену и попрошу сделать им официальный выговор. Они не имеют права продолжать следствие вопреки решению судьи».
В полдень по случаю двенадцатой и, как оказалось, последней годовщины взятия власти по радио передавали речь фюрера. Я слушал ее без особого внимания в столовой Ораниенбурга и даже не помню, что он говорил, вроде опять о большевистских ордах или о чем-то в этом роде. Меня в гораздо большей степени поразила реакция присутствующих офицеров СС. Только часть из них встала и вскинула руку в салюте, когда в конце зазвучал национальный гимн. Вольность еще несколько месяцев назад немыслимая и непростительная. В тот же день возле Данцига советская подводная лодка торпедировала «Вильгельм-Густлофф», флагманский корабль флотилии Лея «Крафт дурх фройде», транспортировавший более восьми тысяч эвакуированных, половину из которых составляли дети. Почти все пассажиры погибли. В день моего возвращения в Берлин русские дошли до Одера и практически беспрепятственно его пересекли, создав широкий плацдарм между Кюстрином и Франкфуртом. Меня рвало после каждого приема пищи, и я боялся, как бы снова не началась лихорадка.
В начале февраля посреди белого дня над Берлином опять появились американцы. Несмотря на запрет, город наводнили хмурые, озлобленные беженцы, устроившие себе жилье в руинах и обворовывавшие склады и магазины. Полиция с ними не справлялась. Я задержался в гестапо, было около одиннадцати часов. Меня с немногими офицерами, продолжавшими там работать, проводили в убежище, сооруженное на краю разгромленного парка Дворца принца Альбрехта, от которого остались лишь стены без крыши. Убежище, увы, не подземное, представляло собой длинный бетонный бункер и доверия не внушало, впрочем, выбирать не приходилось. Вдобавок офицеры гестапо привели сюда пленных, небритых, с цепями на ногах, наверное, из соседних камер. Некоторых я узнал, это были июльские заговорщики, я видел их фотографии в газетах и кинохрониках. Налет был чудовищной мощности. Приземистый бункер со стенами толщиной больше метра качало из стороны в сторону, как осину на ветру. Мне казалось, что я нахожусь в эпицентре урагана, но не разбушевавшейся стихии, а дикого, первозданного шума, всех шумов ошалевшего мира. Меня оглушали взрывы, мучительно давили на барабанные перепонки, я боялся, что они лопнут. Лучше бы меня смело с лица земли или прихлопнуло, я не мог все это больше выносить. Преступникам запретили садиться, и они, свернувшись клубком, лежали на полу. Потом меня словно подняла и отшвырнула в сторону гигантская рука. Когда я открыл глаза, надо мной плавало множество лиц. Все вроде бы кричали, но я не понимал, что им нужно. Тряхнул головой и почувствовал, как ее удерживают и заставляют меня лежать спокойно. После окончания тревоги меня вывели на улицу. Я опирался на Томаса. Полуденное небо потемнело от дыма, языки пламени лизали окна здания гестапо, в парке деревья полыхали, как факелы, задняя стена дворца полностью обрушилась. Томас усадил меня на обломок скамейки. Я ощупал лицо, по щеке текла кровь. В ушах гудело, но звуки я различал. Томас вернулся: «Ты меня слышишь?» Я кивнул. Несмотря на ужасную боль, я понимал, что он мне говорил. «Не двигайся. Ты неудачно ударился». Чуть позже меня усадили в «опель». На Асканишерплатц горели покореженные машины и грузовики. Вокзал Анхальтер Банхоф словно сложился пополам и испускал густой, едкий дым. Европа-хаус и окрестные дома тоже были охвачены огнем. Солдаты и подручные с черными от копоти лицами боролись с пожарами, но тщетно. Меня привезли на Курфюрстенштрассе в пока еще уцелевшее ведомство Эйхмана и положили на стол среди других раненых. Пришел врач, уже знакомый мне гауптштурмфюрер, правда, имя его я забыл. «Опять вы», – сказал он приветливо. Томас объяснил, что я при падении врезался головой в стену бункера и не приходил в сознание минут двадцать. Врач попросил меня высунуть язык, посветил в глаза ослепляющей лампочкой, потом констатировал: «У вас сотрясение мозга». И обратился уже к Томасу: «Проследите, чтобы он сделал рентген головы. Если повреждений нет, три недели покоя». Чиркнул пару слов на листочке, отдал его Томасу и исчез. Томас сказал: «Я поищу тебе больницу с рентгеном. Если тебя отпустят, можешь передохнуть у меня. О Гротмане я позабочусь». Я засмеялся: «А если у тебя больше нет дома?» Томас пожал плечами: «Возвращайся сюда».
Трещин черепа у меня не обнаружили. Дом Томаса уцелел. Томас появился ближе к вечеру и протянул мне бумагу с подписью и печатью: «Твой отпуск. Тебе лучше уехать из Берлина». Голова у меня болела, я цедил коньяк, разбавленный минеральной водой. «И куда же?» – «Ну, я не знаю. Навести свою подружку в Бадене». – «Боюсь, американцы будут там раньше меня». – «Ладно. Поезжай с ней в Баварию или Австрию. Найди отельчик и устрой романтические каникулы. Я бы на твоем месте воспользовался моментом. Велика вероятность, что у тебя долго не будет отпуска». Потом Томас рассказал мне о последствиях налета. Здание гестапо в аварийном состоянии, бывшая канцелярия разрушена, новая, шпееровская, сильно пострадала, даже личные апартаменты фюрера сгорели. Бомба попала и в здание Народного суда, когда там шел процесс над генералом фон Шлабрендорфом, одним из заговорщиков из штаба ОКХГ. После воздушной тревоги судью Фрейслера обнаружили мертвым с проломленной головой и с делом Шлабрендорфа в руке. По слухам, во время пылкой обвинительной речи на судью упал стоявший за его спиной бронзовый бюст фюрера.
Идея уехать мне понравилась. Но куда? О Бадене и романтических каникулах и речи быть не могло. Томас собирался вывезти родителей из пригорода Вены и предложил мне отправиться туда вместо него и проводить их к кузену на ферму. «У тебя есть родители?» Он изумленно посмотрел на меня: «Естественно. У всех есть родители. Что за вопрос?» Но венский вариант казался мне ужасно сложным и не способствующим выздоровлению. Томас сразу со мной согласился. «Не волнуйся, я как-нибудь все улажу. Это не проблема. А тебе надо развеяться». Я ничего не мог придумать. Но, тем не менее, попросил Пионтека явиться утром и с несколькими цистернами бензина. Ночью мне не спалось, я вскакивал от прострелов в ушах, голова болела, два раза меня рвало, и что-то еще не давало покоя. Когда Пионтек подал машину, я взял справку об отпуске, без нее невозможно было пересечь контрольно-пропускные посты, бутылку конька, четыре пачки сигарет, которые мне подарил Томас, чемодан с вещами и сменным бельем и, даже не предложив Пионтеку кофе, приказал трогаться. «Куда едем, оберштурмбанфюрер?» – «Держи путь на Штеттин» [92].
Я сказал это, не задумываясь, уверенно, и тут же мне стало ясно, что по-другому и быть не могло. До автострады мы добирались сложными окольными путями. Пионтек сообщил, что ночевал в гараже, что Моабит и Веддинг сровняли с землей и толпы берлинцев пополнили поток беженцев с Востока. По шоссе тянулась длинная вереница повозок – лошадь мордой к впереди стоящей колымаге, и так до бесконечности. Большинство подвод были накрыты белым брезентом, под которым люди прятались от снега и пронизывающего холода. Правую полосу шупо и фельджандармы держали для военных колонн, продвигавшихся на фронт. Иногда в небе появлялся русский штурмовик, и начиналась паника. Люди спрыгивали с повозок и бежали в заснеженные поля, пока истребитель летал вдоль колонны и косил запоздавших пулеметной очередью, разносил на куски головы и брюхо обезумевших от страха лошадей, поджигал тюки и телеги. Во время очередной атаки обстреляли и мою машину, пули изрешетили дверцы, заднее стекло разбилось, но мотор уцелел и коньяк тоже. Я протянул бутылку Пионтеку, потом сам отпил добрый глоток прямо из горлышка, и мы двинулись дальше среди криков раненых и воя перепуганных беженцев. В Штеттине мы пересекли Одер, лед растаял рано, процесс ускорили военные корабли с динамитом и ледорезами. Потом мы с севера обогнули Маню-Зее, проехали через Штаргард, занятый ваффен-СС с черно-желто-красными нашивками на рукавах – валлонами Дегрелля. Потом мы свернули на большую трассу на восток. Я ориентировал Пионтека по карте: в этом районе мне бывать не доводилось. Вдоль загруженного шоссе тянулись холмистые поля, покрытые нетронутым кристально-чистым снегом, березовые рощи или темные мрачные сосны. То здесь, то там виднелась одинокая ферма, длинные приземистые постройки, притаившиеся под соломенной кровлей, запорошенной метелью. Маленькие деревеньки с домами красного кирпича, с серыми остроконечными крышами и строгими лютеранскими церквами казались удивительно спокойными, жители как ни в чем не бывало занимались повседневной работой. После Вангерина дорога поднималась над холодными, свинцовыми озерами, лед на которых держался только по краям. Мы миновали Драмбург и Фалькенбург. В Темпельбурге, небольшом городке на южном берегу Дратциг-Зее, я велел Пионтеку съехать с трассы и направляться на север по дороге на Бад-Польцин. После длинного прямого отрезка пути через широкие поля, чередовавшиеся с сосняком, прятавшим озеро, дорога пошла по обрывистому, поросшему деревьями перешейку, который словно лезвием ножа отрезал Дратциг-Зее от Саребен-Зее, озера поменьше. Внизу крошечная деревушка Альт-Драхейм образовывала вытянутую между двух озер дугу, располагаясь ярусами вокруг развалин старого замка. Северный берег Саребен-Зее по ту сторону деревни был покрыт сосновым лесом. Я остановился и спросил крестьянина, как мне добраться до места. Он объяснил на словах, без лишних жестов: еще приблизительно два километра, потом направо. «Вы не пропустите поворот, – уверял он. – Там большая березовая аллея». Но Пионтек все-таки ее не заметил и чуть не проскочил мимо. Аллея шла сперва через небольшой лесок, потом по живописной открытой местности – свободная прямая линия между двумя высокими занавесями голых бледных берез, безмятежных и тихих посреди белой девственной равнины. Дом стоял в глубине.
Напев
Особняк был закрыт. Я приказал Пионтеку остановиться при въезде во двор и пошел к крыльцу по нетронутому, плотному снегу. Погода стояла необычайно мягкая. Все ставни вдоль фасада были затворены. Я обошел здание, сзади находилась просторная терраса с балюстрадой и витой лестницей, которая вела в заснеженный сад, сначала ровный, потом пологий. Дальше поднимался лес, среди стройных сосен мелькали буковые деревья. С этой стороны тоже было заперто, повсюду царила тишина. Я вернулся к Пионтеку и велел ехать в деревню. Там мне указали дом некоей Кете, работавшей в имении кухаркой и присматривавшей за хозяйством в отсутствие господ. На Кете, крепкую крестьянку лет пятидесяти, светловолосую и белокожую, произвела впечатление моя военная форма, ключ я получил без проблем. Моя сестра с мужем покинули здешние места еще до Рождества, и с тех пор вестей от них не было, – объяснила мне Кете. Мы с Пионтеком возвратились обратно. Жилище фон Юкскюля представляло собой небольшой красивый дворец XVIII века в барочном стиле, удивительно изящный, немного асимметричный, своеобразный и непривычный для холодного сурового края. Красно-коричневый фасад ярким пятном выделялся на снежном полотне. Входную дверь и наличники окон первого этажа украшали гротески, не повторяющие друг друга. Если смотреть анфас, фигуры улыбались во весь рот, оскалив зубы, а сбоку казалось, что они раздирают губы пальцами обеих рук. Над тяжелой деревянной дверью на картуше в орнаменте из цветов, мушкетов и музыкальных инструментов значилась дата 1713. В Берлине фон Юкскюль рассказывал мне об истории этого почти французского дома, принадлежавшего его матери, одной из фон Рекнагелей. Предок, построивший замок, гугенот, перебрался в Германию после отмены Нантского эдикта. Ему удалось сохранить большую часть состояния и остаться богатым человеком. В старости он женился на осиротевшей дочери прусского дворянина, унаследовавшей от отца окрестные земли. Жилище ее мужу не понравилось, он снес ее дом и на его месте отстроил дворец. Набожная супруга сочла подобное роскошество возмутительным, велела возвести часовню и крыло позади здания, в котором и жила до конца своих дней и которое муж после ее смерти сровнял с землей. Часовня по-прежнему стояла немного в стороне под старыми дубами, суровая, аскетичная, с голым фасадом красного кирпича и покатой крышей под серой черепицей. Я медленно обогнул часовню, но внутрь попасть даже не пытался. Пионтек по-прежнему находился возле машины в молчаливом ожидании. Я подошел, распахнул заднюю дверцу, взял сумку и сказал: «Я останусь здесь на несколько дней. Ты возвращайся в Берлин. Я позвоню или дам телеграмму, чтобы ты за мной приехал. Ты запомнил дорогу? Если спросят, говори, что не знаешь, где я». Он развернулся не без труда, машина, подпрыгивая на ухабах, покатила обратно по длинной березовой аллее. Я смотрел на заваленный снегом двор, на удалявшуюся машину Пионтека. Помимо следов шин никаких других видно не было, никто сюда не забредал. Я дождался, пока Пионтек свернет на дорогу к Темпельбургу, и открыл дверь.
Ключ, который отдала мне Кете, был большой и тяжелый, но хорошо смазанный замок поддался легко. Дверные петли тоже, видимо, смазывали: дверь не скрипела. Я толкнул ставни, чтобы осветить переднюю, и обвел взглядом прекрасную лестницу резного дерева, ряды библиотечных шкафов, отполированный временем паркет, миниатюрные скульптуры и лепнину, на которой еще можно было различить остатки позолоты. Я повернул выключатель, в центре комнаты вспыхнула люстра. Я погасил ее и поднялся наверх, не потрудившись ни прикрыть дверь, ни снять фуражку, пальто и перчатки. По второму этажу тянулся длинный коридор с окнами. Я распахивал их одно за другим, отодвигал ставни и закрывал рамы. Потом принялся за двери. Рядом с лестницей находились кладовая, комната прислуги и проход к черной лестнице, напротив окон – туалетная и две крошечные холодные комнатки. В конце коридора за дверью, обтянутой тканью, располагались просторные хозяйские апартаменты, занимавшие заднюю часть этажа. Я зажег свет. В спальне стояли широкая кровать с витыми колонками, но без балдахина, старый диван с вытертой и потрескавшейся кожей, шкаф, секретер, туалетный столик с высоким зеркалом, второе – напольное – зеркало напротив кровати. Рядом со шкафом я заметил узкую дверь, наверное, в ванную. По всей видимости, это была спальня моей сестры, холодная, без запахов. Я еще раз осмотрел ее, вышел, не тронув ставни, и притворил дверь. Из передней нижнего этажа я прошел в огромную гостиную с длинным обеденным столом старинного дерева и роялем, за ней шли хозяйственные помещения и кухня. Здесь я распахнул все окна и на минуту выскочил наружу поглядеть на террасу и лес. Было тепло, небо серое, тающий снег тихонько капал с крыши на плитку террасы и чуть дальше, пробивая дырочки в снежном настиле у подножия стен. Через пару дней, если не похолодает, все развезет, и грязища задержит русских, – подумал я. Ворона, каркая, тяжело взлетела между сосен и уселась в некотором отдалении. Я прикрыл стеклянную дверь и вернулся в переднюю. Внес сумку и только теперь запер входную дверь. За лестницей я обнаружил еще одну – полированную с двумя створками и орнаментом кольцами. Вероятно, это были комнаты фон Юкскюля. Поколебавшись, я вернулся в гостиную и принялся разглядывать мебель, редкие, со вкусом подобранные безделушки, огромный каменный камин, рояль. В углу за роялем висел портрет молодого фон Юкскюля в полный рост. Он был изображен вполоборота, со взглядом, устремленным на зрителя, с непокрытой головой и в военной форме времен Мировой войны. Я изучил его очень внимательно, от моего взгляда не ускользнули ни награды, ни перстень с печаткой, ни замшевые перчатки, небрежно лежавшие в руке. Портрет немного меня напугал, даже живот скрутило, но должен признать, когда-то фон Юкскюль был интересным мужчиной. Я направился к роялю, поднял крышку и поглядывал то на портрет, то на ряд клавиш слоновой кости. Не снимая перчаток, я нажал на клавишу. Я не имел ни малейшего понятия, что это за нота, и перед портретом красавца фон Юкскюля меня вновь охватило давнее сожаление. Я сказал про себя: как бы мне хотелось уметь играть на пианино, как бы мне хотелось еще раз перед смертью услышать Баха. Но к чему терзаться? Я опустил крышку и вышел из гостиной через террасу. В сарае я отыскал запас дров и за несколько ходок перенес в камин большие колоды, а мелкие расколотые полешки сложил в люльку из грубой кожи. Я притащил дрова на второй этаж, где затопил печку в одной из маленьких гостевых комнат, огонь разжигал старыми номерами VB, скопившимися в туалете. Потом я наконец снял в передней шинель, сменил сапоги на шлепанцы огромного размера, вернулся наверх, разобрал сумку на узкой латунной кровати и спрятал белье в шкаф. Комната была простая, обклеенная скромными обоями, с практичной мебелью, кувшином и раковиной. Изразцовая печка нагревалась быстро. Я спустился с бутылкой коньяка и стал разводить камин. Здесь я возился дольше, чем с печкой, но, в конце концов пламя занялось. Я налил рюмку коньяку, взял пепельницу и, расстегнув китель, устроился в удобном кресле у огня. Снаружи день тихо клонился к закату, в голове у меня не было ни одной мысли.
Не знаю, могу ли я толком рассказать о происходившем в том прекрасном доме. Я уже подробно изложил все события. Когда я писал, мне все казалось достоверным, но теперь выходит, что это никакого отношения к правде не имеет. Почему так? Трудно судить. Но не оттого, что мои воспоминания смутны, наоборот, их у меня сохранилось множество и очень точных, но большинство деталей путаются и даже противоречат друг другу, и они ненадежны. Долгое время мне казалось, что моя сестра находилась в доме, когда я приехал, и ждала меня при входе в темном платье, длинные черные тяжелые волосы сливались с петлями толстой черной шали, укутавшей ее плечи. Мы говорили, стоя в снегу, я просил Уну уйти со мной, но она не соглашалась, отказывалась даже после того, как я ей растолковал, что красные скоро будут здесь, что это вопрос недели или даже нескольких дней. Муж работает, пояснила она, пишет музыку, впервые после длительного перерыва, и они не могут теперь уехать, – тогда и я решил остаться и отослал Пионтека. После обеда мы пили чай и беседовали, я рассказал о работе и Хелене. Уну интересовало, спал ли я с ней, люблю ли я ее, и я не сумел ответить. Потом еще Уна спрашивала, почему я не женюсь на Хелене, я опять промолчал, и наконец она уточнила: «Это из-за меня ты не спишь с ней и не женишься?» Я стыдливо опустил глаза и погрузился в изучение геометрических узоров на ковре. Вот что я помню. Но, похоже, события развивались иначе, и сейчас я вынужден признать, что, конечно, моя сестра с мужем отсутствовали, поэтому я приступаю к рассказу с самого начала, пытаясь придерживаться фактов, которые могут найти подтверждение. К вечеру появилась Кете с продуктами в маленькой повозке, которую тянул ослик, и приготовила мне поесть. Пока она хозяйничала на кухне, я спустился за вином в длинный, пыльный погреб со сводами, где приятно пахло земельной сыростью. Там хранились сотни бутылок, в том числе и очень старых, я сдувал пыль, чтобы прочесть этикетки, иногда полностью заплесневевшие. И без малейшего смущения выбрал лучшие сорта, нечего оставлять такие сокровища иванам, ведь они все равно любят только водку. Я нашел «Шато-Марго» 1900 года, прихватил того же года «Шато-Озон» и бордосское «От-Брион» урожая 1923 года. Уже позже я понял, что допустил ошибку, 1923 год выдался не слишком удачным и гораздо правильнее было бы остановиться на 1921-м. Я откупорил «Марго», пока Кете накрывала на стол, и договорился, прежде чем распрощаться, что в течение дня она оставляет меня одного, а вечером приходит готовить ужин. Блюда были простыми и сытными: суп, мясо, картофель, жаренный в сале, и я еще острее наслаждался вином. Я уселся в конце длинного стола, не на месте хозяина, а сбоку, спиной к камину, где трещали поленья, поставил рядом канделябр, выключил электричество и ел в золотистом свете свечей, методично глотая куски мяса с кровью, картошку и смакуя вино. И будто моя сестра с блуждающей улыбкой сидит напротив меня, а ее муж между нами во главе стола в инвалидном кресле. Мы неторопливо ужинаем и дружески болтаем. Сестра говорит негромко и внятно, фон Юкскюль – приветливо, но внушительно и жестко (от этой манеры ему, видимо, уже никогда не избавиться), сохраняя, однако, всю предупредительность истинного аристократа, ни разу не поставив меня в неловкое положение. И в теплом мерцающем свете я явственно вижу этот ужин с бутылкой чудесного насыщенного бордо и слышу нашу беседу. Я описывал фон Юкскюлю разгром Берлина и в конце заметил: «Но вы, похоже, не слишком потрясены». «Это катастрофа, но не неожиданность, – возразил он. – Наши враги используют наши собственные методы, что вполне естественно, верно? Германии суждено испить чашу до дна, пока все не кончится». Потом мы обсуждали двадцатое июля. От Томаса я знал, что многие друзья фон Юкскюля непосредственно замешаны в деле. «С того времени ваше гестапо истребило большую часть померанской аристократии, – холодно прокомментировал фон Юкскюль. – Я близко знаком с отцом фон Трескова, человеком строгих нравственных правил, как и его сын. И конечно, с фон Штауффенбергом, он мой дальний родственник». – «Как так?» – «Его мать Каролина фон Юкскюль-Гилленбанд – моя троюродная сестра». Уна слушала молча. «Вы, похоже, одобряете их поступок», – бросил я. «Я очень уважаю некоторых из них лично, но их попытку осуждаю по двум причинам. Во-первых, уже слишком поздно. Им надо было действовать в тысяча девятьсот тридцать восьмом, в момент Судетского кризиса. Они так и планировали, и Бек соглашался, но когда англичане и французы стали заискивать перед этим нелепым ефрейтором, паруса у них сдулись. Успехи Гитлера их деморализовали и в итоге убедили даже Гальдера, человека умного, но слишком рассудочного. Бек имел понятие о чести, он наверняка осознавал, что время упущено, но не отступил, чтобы поддержать других. Настоящая же причина в том, что Германия, выбрав себе вождя, который любой ценой желал, чтобы наступили сумерки богов, теперь должна следовать за ним до конца. Убить его сейчас с целью спасти то, что осталось, означало бы смошенничать, разыграть фальшивую карту. Я повторяю, придется испить чашу до дна. Только так может начаться что-то новое». – «Юнгер того же мнения, – добавила Уна, – он писал Берндту». – «Да, он косвенно дал мне это понять. У него есть эссе на эту тему, которое ходит по рукам». – «Я встречался с Юнгером на Кавказе, но, к сожалению, не имел возможности с ним поговорить, – продолжил я. – Но в любом случае, покушаться на фюрера – немыслимое преступление. Вероятно, выхода нет, но предательство, по-моему, недопустимо, как сегодня, так и в тысяча девятьсот тридцать восьмом. Это рефлекс вашего класса, обреченного на исчезновение. Он и при большевиках не выживет». – «Разумеется, – спокойно отреагировал фон Юкскюль. – Я вам уже говорил: все последовали за Гитлером, даже юнкеры. Гальдер считал, что мы победим русских. Один Людендорф все понял, но тоже поздно, он проклял Гинденбурга, уступившего власть Гитлеру. Я всегда Гитлера ненавидел, но не считал это поводом отрешаться от судьбы Германии». – «Время ваше и вам подобных, уж извините меня, истекло». – «А ваше скоро истечет. И оно оказалось гораздо короче нашего». Фон Юкскюль взглянул на меня пристально, как смотрят на таракана или паука, без отвращения, но с холодным любопытством энтомолога. Я очень хорошо это понимал. Я допил «Шато-Марго», меня немного повело, открыл «Сент-Эмильон», поменял бокалы и предложил фон Юкскюлю. Он изучал этикетку: «Я помню эту бутылку. Мне ее прислал один римский кардинал. Мы с ним вели долгую дискуссию о роли евреев. Он занимал сугубо католическую позицию: евреев надо прижать, но оставить их как свидетелей истины Христа, подобную точку зрения я всегда считал абсурдной. Впрочем, мне кажется, он ее защищал скорее ради удовольствия поспорить, – иезуит, одно слово». Фон Юкскюль улыбнулся и следующий вопрос задал явно, чтобы меня подразнить: «Что же церковь, она чинила препятствия, когда вы собрались эвакуировать евреев из Рима?» – «Да. Но меня там не было». – «И не только церковь, – вмешалась Уна. – Ты помнишь, твой друг Карл Фридрих рассказывал, что итальянцы ничего не смыслят в еврейском вопросе?» – «Да, верно, – ответил Юкскюль, – он говорил, что итальянцы не исполняют свои собственные расовые законы, что они защищают евреев назло немцам». «Это так, – я стушевался. – У нас с ними возникли проблемы по этому поводу». И вот как ответила моя сестра: «Отличное доказательство того, что итальянцы здоровые люди. Они знают настоящую цену жизни. Я их понимаю. У них чудесная страна, много солнца, вкусная еда, красивые женщины». – «Не то что Германия», – лаконично заметил фон Юкскюль и спросил, глядя на меня: «Вы знаете, зачем убиваете евреев? Вот вы знаете?» Я попробовал вино. Оно пахло жареной гвоздикой и слегка кофе и показалось мне более ярким, чем «Марго», мягкое, круглое и изысканное. Фон Юкскюль опять посмотрел на меня: «Вы знаете, зачем убиваете евреев? Вы знаете?». Во время нашей странной беседы он постоянно меня провоцировал, но я не отвечал и наслаждался вином. «Почему немцы так яростно истребляли евреев?» – «Вы ошибаетесь, если думаете, что дело только в евреях, – спокойно возразил я. – Евреи – лишь одна из категорий врагов. Мы уничтожаем всех наших врагов, кто и где бы они ни были». – «Да, но признайтесь, по отношению к евреям вы проявляли особое рвение». – «Я другого мнения. У фюрера, возможно, есть личные основания ненавидеть евреев. Но в СД мы никого не ненавидим, мы беспристрастно преследуем врагов. Выбор, который мы сделали, рационален». – «Ну, не вполне. Зачем вам ликвидировать душевнобольных или инвалидов в больницах? Какая от этих несчастных исходит опасность?» – «Лишние рты. Вам известно, сколько миллионов рейхсмарок мы сэкономили таким образом? Уж не говоря о кроватях в больницах, освободившихся для раненых фронтовиков». – «А я знаю, почему мы убили евреев, – в золотистом теплом свете раздался голос долго молчавшей Уны. – Убивая евреев, мы хотели убить самих себя, убить в себе еврея, вытравить в себе то, что мы приписываем евреям. Убить в себе толстобрюхого бюргера, который считает каждый грош, гоняется за почестями и грезит о власти, о той власти, которую в его представлении олицетворяет Наполеон Третий или банкир, убить бюргерскую мораль, убогую, успокаивающую, убить привычку экономить, покорность, услужливость кнехтов, убить все эти немецкие достоинства. Нам до сих пор невдомек, что качества, которыми мы наделяем евреев, – пресмыкательство, слабоволие, жадность, скупость, стремление к господству, злобность – по сути немецкие. Евреи проявляют их, потому что мечтают походить на немцев, быть немцами. Они нам раболепно подражают, мы для них – воплощение всего прекрасного и положительного, что есть в крупном бюргерстве, мы – золотой телец тех, кто избегает суровости пустыни и Закона. Или они только делают вид. Вполне вероятно, что в итоге они переняли эти качества чуть ли не из вежливости, из симпатии к нам, чтобы не казаться чужими. А мы – наоборот, мечта немцев – быть евреями, быть чистыми, несокрушимыми, верными Закону, отличаться от других и быть близко к Богу. В действительности же заблуждаются и немцы, и евреи. Потому что, если слово еврей и обозначает что-то в наши дни, то обозначает кого-то или нечто Иное, быть может, невозможное, но необходимое». Она залпом допила бокал. «Друзья Берндта тоже вообще ничего не поняли. Утверждают, что, в конце концов, истребление евреев не имело большого значения, и, убив Гитлера, заговорщики переложили бы это преступление на него, на СС, на убийц-маньяков, на тебя. Но они ответственны в той же мере, что и ты, потому что они тоже немцы и тоже воевали за победу этой Германии, а не какой-то другой. И худшее в том, что если евреи выпутаются, если Германия погибнет, а евреи выживут, то они забудут, что значит быть евреем, и как никогда прежде захотят стать немцами». Я продолжал пить, пока она говорила – четко и быстро. Вино ударило мне в голову. И вдруг я вспомнил о своем видéнии в Цейхгаузе, фюрера-еврея в молитвенном покрывале раввина и с кожаными тфилинами перед огромной аудиторией, где никто, кроме меня, ничего не замечал. Потом внезапно исчезло все – Уна, ее муж, наша беседа, и я остался один с недоеденными блюдами и изумительными винами, пьяный, сытый, немного грустный, незваный гость.
В ту ночь на узкой кровати мне спалось плохо. Я выпил лишнего, голова кружилась, к тому же сказывались последствия позавчерашней контузии. Ставни я не закрыл, и мягкий лунный свет струился в комнату. Я воображал, что проник в спальню в конце коридора, скользнул по обнаженному телу спящей сестры, мне хотелось стать светом, неосязаемой нежностью. И одновременно мой разум распалялся, ядовитые замечания, отпущенные за ужином, отдавались в голове бешеным звоном православных колоколов на Пасху, нарушая покой, в который я мечтал окунуться. Наконец я провалился в забытье, но дурнота не прекращалась, окрашивая сны в ужасные цвета. Я увидел в темной комнате высокую, красивую женщину в длинном белом платье, скорее всего, свадебном. Мне не удавалось разглядеть черты ее лица, но, без сомнений, это была моя сестра. Она распростерлась на полу, на ковре, и билась в конвульсиях. Ее мучила диарея, черное дерьмо сочилось сквозь платье. Фон Юкскюль, обнаружив ее в таком состоянии, вышел в коридор (он ходил) и тоном, не терпящим возражений, позвал то ли лифтера, то ли дежурного по этажу (то есть все случилось в отеле, поэтому я решил, что это их первая брачная ночь). Вернувшись в спальню, фон Юкскюль приказал служащему поднять Уну за руки, а сам взял ее за ноги, чтобы перенести ее в ванную, раздеть и помыть. Он действовал невозмутимо и оперативно, не обращая внимания на омерзительные запахи, исходившие от Уны. У меня от вони сперло горло, я еле сдерживал отвращение и подступающую рвоту. Но где был я, где мое место в том сне?
Встал я рано и обошел пустой, тихий дом. Нашел на кухне хлеб, масло, мед, кофе и позавтракал. Потом принялся изучать книги в библиотеке. Большинство было на немецком, но встречались и английские, и итальянские, и русские. Недолго думая, я, вспыхнув от удовольствия, выбрал «Воспитание чувств» на французском. Устроился возле окна и читал несколько часов подряд, изредка поднимая голову, чтобы взглянуть на лес и серое небо. Около полудня я приготовил себе омлет с салом и съел его за старым деревянным столом, задвинутым в угол кухни, большими глотками отхлебывая пиво. Потом сварил кофе, закурил и решил прогуляться. Погода стояла по-прежнему теплая, снег уже не таял, но был жестким и проседал. Я пересек сад и вошел в лес. Сосны, стройные, изящные, устремлялись ввысь, смыкая кроны, словно образовывали широкий купол. Я вышел на песчаную просеку между сосен, где отпечатались колеса повозки. По обочинам, на некотором расстоянии друг от друга, лежали аккуратными штабелями распиленные стволы. Дорога упиралась в речку, серую, метров десять шириной. На противоположном берегу тянулось вспаханное поле, черные борозды с полосками снега, а за ним буковая роща. Я свернул направо и побрел по лесу по течению негромко журчащей реки. Я шел и представлял, что рядом шагает Уна. В шерстяной юбке, сапогах, мужской кожаной куртке и своей большой вязаной шали. Я видел, как она идет передо мной уверенным, спокойным шагом, упивался игрой бедер и ягодиц, любовался гордой прямой спиной. Ничего более благородного, прекрасного и истинного я и вообразить не мог. Дальше с соснами смешивались буки и вязы, почва стала болотистой, ее покрывали опавшие, до краев наполненные водой листья, под которыми пряталась грязь, стянутая морозцем. Но еще чуть дальше начиналась легкая возвышенность, где земля опять была сухой и удобной для ходьбы. За лесом открылся луг с густой прошлогодней травой, почти без снега, его оконечность нависала над неподвижным озером. С правой стороны я приметил несколько маленьких домиков, дорогу, гребень перешейка, увенчанный елями и березами. Я помнил, что река называется Драге, что она вытекает из озера Дратциг и продолжает свой путь к Крёссин-Зее, где возле Фалькенбурга находилось юнкерское училище СС. Я смотрел на свинцовую поверхность озера, вокруг все тот же упорядоченный пейзаж – то черная земля, то лес. Я добрался до деревни по берегу. Меня окликнул крестьянин, работавший в саду, мы обменялись парой слов. Он волновался, боялся русских, я не мог сообщить ему последние новости, но знал, что боится он не напрасно. На дороге я взял левее и медленно побрел по вытянутой между двух озер полоске земли. Откосы становились все выше и загораживали воду. На вершине перешейка я взобрался на холм и двинулся, раздвигая ветви руками, между деревьями к довольно высокому месту, с которого взгляду открывалась вся бухта. Неподвижность воды, черный лес на другом берегу придавали этому пейзажу торжественный, таинственный вид, королевство по ту сторону жизни, но пока еще по эту сторону смерти, пограничная земля. Я закурил сигарету и продолжал смотреть на озеро. Мне вспомнился один разговор из детства или юности. Сестра как-то рассказала мне старую померанскую легенду о Винете, прекрасном и гордом городе, который поглотило Балтийское море. Рыбаки до сих пор слышат, как под водой звонят его колокола, предположительно где-то возле Кольберга [93]. Большой, очень богатый город, – с детской серьезностью объясняла мне Уна, – погиб из-за неуемных страстей женщины, дочери короля. Многие моряки и рыцари приезжали в город пить и веселиться, сильные красивые молодцы, полные жизни. И каждый вечер там появлялась переодетая дочь короля, спускалась в трактиры, самые грязные притоны, и выбирала мужчину. Она приводила своего избранника во дворец, всю ночь занималась с ним любовью, и к утру мужчина умирал от изнеможения. Никто, каким бы сильным он ни был, не мог противостоять ее ненасытному желанию. Труп она выбрасывала в море, в иссеченную штормами бухту. Неудовлетворенность все больше распаляла ее непомерное желание. Люди видели, как она, гуляя по берегу, взывала к Океану, прося взять ее в любовницы. Только Океан, – пела она, – огромный, могучий, мог бы меня ублажить. И вот как-то ночью, не в силах дальше сдерживать себя, нагая королевна выбежала из дворца, оставив в постели труп последней жертвы. Бушевала гроза, Океан бился о дамбы, защищавшие город. Королевна вышла на мол и открыла огромные бронзовые ворота, возведенные ее отцом. Океан устремился в город, забрал королевну, сделал ее своей супругой, а затопленный город взял в качестве приданого. Когда Уна закончила историю, я сказал, что есть такая же французская легенда о городе Исе. «Конечно, но эта красивее», – возразила она надменно. «Если я правильно понимаю, она говорит, что порядок в городе несопоставим с неутолимым удовольствием, которое испытывают женщины». – «Я бы уточнила: с беспредельным удовольствием женщин. Твоя точка зрения – типично мужская. И вообще я уверена, что все эти идеи, меру, мораль, придумали мужчины, чтобы компенсировать ограниченность своего удовольствия. Мужчинам ведь давно уже известно, что их удовольствие не сравнится с тем, что испытываем мы, у нас оно совершенно другого рода».
На обратном пути я двигался автоматически, чувствуя себя опустошенным, будто выпотрошенная раковина. Я анализировал свой мерзкий сон, пытался представить ноги сестры, испачканные жидким, липким дерьмом, тошнотворную сладковатую вонь. У истощенных женщин, эвакуированных из Аушвица, скорчившихся под одеялами, ноги, похожие на палки, тоже были в дерьме. Тех, кто останавливался испражниться, убивали, поэтому они срали на ходу, как лошади. Уна, измаранная говном, выглядела бы еще прекраснее, солнечнее и чище, эта грязь ее бы не коснулась, не осквернила. Я бы свернулся между ее ногами, как потерянный младенец, изголодавшийся по молоку и любви. Эти мысли терзали меня, я тщетно старался избавиться от них всю дорогу. В доме я бесцельно шатался по коридорам и комнатам, наугад распахивая двери. Хотел открыть спальню фон Юкскюля, но в последний момент, уже держась за ручку, остановился, охваченный тем невыразимым смущением, когда ребенком в отсутствие отца проникал в его кабинет, чтобы погладить книжные переплеты и поиграть с бабочками. Я поднялся на второй этаж и вошел в комнату Уны. Быстро толкнул ставни, растворившиеся с громким деревянным стуком. Окна с одной стороны выходили во двор, с другой – на террасу, сад и лес, за которым виднелся уголок озера. Я сел на сундук у подножия кровати напротив зеркала. И принялся разглядывать оказавшегося передо мной мужчину, апатичного, уставшего, хмурого, с обиженным лицом. Я его не узнавал, этот тип не мог быть мной, но тем не менее. Я встал, задрал голову, но ничего не изменилось. Я представлял себе Уну перед зеркалом, голую или в платье, любующуюся своей сказочной красотой. Как же ей повезло, она могла смотреть на себя, в малейших подробностях изучать свое восхитительное тело. Впрочем, она могла и не замечать собственной красоты, не видеть этой доводящей до безумия необыкновенности, этого соблазна грудей и половых губ, этой штуки между ног, недоступной взору и ревниво прячущей свою прелесть. Вполне вероятно, что Уна ощущала лишь неуклюжесть медленно стареющего тела с легкой грустью или с мягкостью и доверительной покорностью, но никогда с горечью вызывающего панику вожделения: давай, посмотри, тут и взглянуть не на что. Я с трудом переводил дыхание, встал, направился к окну, вдали чернел лес. Жар, вызванный долгой ходьбой, спал, теперь комната казалась мне ледяной. Я повернулся к секретеру, стоявшему в простенке между двух окон, выходивших в сад, и попытался его открыть. Дверца была заперта на ключ. Я спустился, взял на кухне внушительных размеров нож, захватил полешко из кожаной люльки, бутылку коньяка и стакан и поднялся наверх. В спальне плеснул себе коньяку, выпил и стал разводить огонь в большой печи в углу. Когда он как следует занялся, я выпрямился и ножом взломал скважину секретера, она поддалась легко. Я сел со стаканом в руке и обшарил ящики. Там было много всякой всячины: бумаги, украшения, несколько экзотических раковин, окаменелости, деловая корреспонденция, письма Уне времен ее жизни в Швейцарии, содержавшие в основном вопросы по психологии вперемешку с безобидными сплетнями и еще всякими разными пустяками. В одном из ящиков я обнаружил кожаную папку со стопкой листков, исписанных Униным почерком, куча адресованных мне, но так и не отправленных писем. С бьющимся сердцем я освободил стол и разложил письма веером, словно игральные карты. Ощупал их и вытянул одно, наугад, как мне подумалось, но на самом деле, конечно, не случайно. Письмо было датировано 28 апреля 1944 года и начиналось так: Дорогой Макс, сегодня год со смерти мамы. Ты мне так и не написал и ничего не сообщил о том, что произошло, ты мне так ничего и не объяснил… Здесь письмо обрывалось, я пробежал глазами еще парочку, все они оказались не законченными. Тогда я отхлебнул немного коньяку и принялся все, в точности, не опуская мельчайших подробностей, рассказывать сестре, как уже изложил вам. Это заняло довольно много времени, когда я замолчал, в комнате уже царил полумрак. Я взял другое письмо и подошел с ним к окну. Теперь Уна завела речь о нашем отце, я читал, не отрываясь, с пересохшими, сведенными от страха губами. Уна писала, что моя обида на мать из-за отца несправедлива, что по его вине, из-за его холодности, отлучек и необъяснимого окончательного ухода у мамы была тяжелая жизнь. Сестра спрашивала, помню ли я его. Действительно, я помнил очень мало, запах, пот, то, как мы кидались на него и боролись, когда он читал на диване, и как он хватал нас на руки и хохотал во все горло. Однажды я кашлял, отец дал мне лекарство, которым меня тут же вырвало на ковер. Я умирал со стыда и боялся, что отец рассердится, но он утешал меня, а потом вытер ковер. Уна продолжала. Ее муж познакомился с нашим отцом в Курляндии, где тот, как мне уже сообщил судья Бауман, командовал фрайкором. Фон Юкскюль командовал другой частью, но отца знал очень хорошо. Берндт утверждает, что это был сорвавшийся с цепи зверь. Человек без веры, без тормозов. Он приказывал распинать изнасилованных женщин на деревьях, собственными руками бросал живых детей в горящие амбары, отдавал пленных на растерзание своим молодцам, обезумевшим скотам, смеялся и пил, наблюдая за муками несчастных. Как командира, его отличали упрямство и ограниченность, не слушал он никого. Весь фланг, который ему приказали оборонять у Митау, был полностью уничтожен из-за его самонадеянности, что в результате ускорило отступление армии. Я знаю, ты мне не поверишь, добавляла Уна, но это правда, ты волен относиться к ней, как угодно. В ужасе и бешенстве я скомкал письмо, хотел его разорвать, но удержался, бросил листок на секретер, заметался по комнате, порывался выйти, возвращался, колебался, потом сделал глоток коньяка, немного успокоился и, прихватив бутылку, спустился допивать ее в гостиной.
Пришла Кете, стряпая еду, она шастала туда-сюда через кухню, и ее присутствие меня тяготило. Я вернулся в переднюю и отпер дверь апартаментов фон Юкскюля. Две красивые комнаты, рабочий кабинет и спальня, со вкусом обставленные старинной тяжелой мебелью темного дерева, восточные ковры, простые металлические украшения, ванная со специальным оборудованием для инвалидов. Я снова ощутил неловкость, но подавил ее и прошел в кабинет. На большом массивном столе без стула – ни единого предмета. На этажерках громоздились партитуры композиторов всех мастей, распределенные по странам и периодам, тонкая перевязанная стопка в стороне содержала произведения самого фон Юкскюля. Я открыл одну и уставился на ряды нот, полная абстракция для меня, читать их я не умел. В Берлине он рассказывал мне о своей задумке сочинить фугу или, как он выразился, серию вариаций в форме фуги. «Пока неясно, возможно ли воплотить мой замысел», – добавил он. Когда же я поинтересовался темой, он скривился: «Это не романтическая музыка. Темы нет. Это лишь этюд». Тогда я спросил: «И какое она имеет предназначение?» – «Никакого. Вам хорошо известно, что мои произведения не исполняют в Германии. Я, естественно, никогда не услышу, как она звучит». – «Зачем же вы тогда пишете?» Фон Юкскюль широко и радостно улыбнулся: «Чтобы сделать дело, пока я не умер».
Среди партитур я, разумеется, обнаружил Рамо, Куперена, Форкре, Бальбатра. Наткнулся на «Гавот с шестью дублями» Рамо, взглянул на страницу, и тут же в моей голове зазвучала музыка, чистая, бодрая, хрустальная, словно галоп породистого коня по русской равнине зимой, до того легкий, что подковы едва касаются снега, оставляя еле заметный след. Но напрасно я всматривался в лист, мне не удавалось связать волшебные трели с линейками, заполненными значками. В конце нашего берлинского ужина фон Юкскюль вернулся к Рамо. «Вы заслуженно любите эту музыку. Она светлая, свободная, никогда не теряет изящества, но вместе с тем полна сюрпризов и даже ловушек, игровая, радостная, в ней есть и математический расчет, и сама жизнь». Он высказал и весьма любопытные суждения о Моцарте: «Долгое время я его недооценивал. В юности принимал за одаренного гедониста, без особой глубины. Но, возможно, это проистекало из моего собственного пуританства. Старея, я начал верить, что он обладал столь же сильным чувством жизни, как Ницше, его музыка кажется простой лишь потому, что жизнь в сущности тоже довольна проста. Впрочем, чтобы убедиться в своей правоте, я должен слушать его снова и снова».
Кете ушла, и я решил поесть. Торжественно откупорил еще одну чудесную бутылку фон Юкскюля. Постепенно дом становился для меня уютным и родным. Кете разожгла огонь в камине, по комнате распространилось приятное тепло, я чувствовал умиротворение, благостное расположение ко всему – огню, отменному вину и даже портрету мужа моей сестры, висящему за пианино, на котором я не умел играть. Но это ощущение долго не продлилось. После ужина я убрал посуду, налил себе коньяку, устроился у камина и попытался читать Флобера, но не мог сосредоточиться. Меня одолевало смутное волнение. Я возбудился, мне в голову пришла мысль раздеться и голым побродить по этому большому дому, мрачному, холодному и безмолвному, по этому пространству, скрытому от чужих глаз и полному тайн, совсем как дом Моро, в котором мы жили детьми. За первую мысль зацепилась другая – о расчерченной на квадраты и строго охраняемой территории лагерей. В бараках теснота, толпа кишит у параши, и негде уединиться, чтобы удовлетворить естественное человеческое желание. Однажды я говорил об этом с Хёссом. Он уверял, что, несмотря на все запреты и меры предосторожности, среди заключенных существуют сексуальные отношения, и речь не только о капо с мальчиками-Pipel [94] или лесбиянках. Мужчины подкупают охранников и просят привести им любовниц. Или проникают в женский лагерь с рабочей командой и рискуют жизнью ради короткого совокупления бритых, грязных тел. Меня глубоко впечатлила эта обреченная эротика, противоположная в своей безысходности свободной, неомраченной, ломающей все табу эротике богатых. Возможно, ее скрытая правда неявно и упрямо доказывает, что настоящая любовь неумолимо устремлена к смерти, и убожество тел не имеет значения в страсти. Человек из грубых, неотложных потребностей, присущих всем созданиям, размножающимся половым путем, выстроил воображаемый безграничный мир, темный и глубокий, эротизм, который больше всего остального отличает его от зверей. То же самое он сделал с идеей смерти, но этот воображаемый мир не знает имени, странно, можно было бы назвать его, к примеру, «танатизм» [95]. Эти воображаемые миры, игра навязчивых мыслей, а не процесс как таковой, и есть двигательная сила, заставляющая нас жаждать жизни, знаний, и терзать себя. Я по-прежнему держал на коленях почти вплотную к члену «Воспитание чувств», я и забыл про книгу, пока предавался всем этим размышлениям мятущегося идиота, с сердцем, испуганно колотившимся в висках.
Утром я чувствовал себя гораздо спокойнее. Позавтракав кофе с хлебом, я снова устроился было почитать в гостиной, но мои мысли были далеко от переживаний Фредерика и мадам Арну. Я спрашивал себя: зачем ты сюда приехал? Чего ты хочешь на самом деле? Ждать возращения Уны? Ждать, пока какой-нибудь русский тебя не придушит? Покончить с собой? Я вспомнил о Хелене. Она и моя сестра – единственные женщины, не считая нескольких санитарок, видевшие мое тело обнаженным. Что увидела Хелена и что подумала? Что углядела во мне, чего я не замечаю, и на что моя сестра уже давно отказывается смотреть? Я вспомнил тело Хелены, я часто видел ее в купальнике, она была более изящной и худощавой, чем сестра, и грудь у нее меньше. Обе были белокожие, но у сестры кожа контрастировала с густой черной гривой, а у Хелены гармонировала со светлыми волосами. Ее лобок тоже, наверное, был светлым, но об этом я думать не хотел. Внезапно меня охватило отвращение. Я сказал себе: любовь умерла, единственная моя любовь умерла. Не стоило мне приезжать, пора обратно в Берлин. Но я не хотел возвращаться в Берлин, я хотел остаться. Чуть позже я встал и вышел из дома. Я снова пересек лес, отыскал старый деревянный мост через Драгу и перебрался на другой берег. Чаща становилась все гуще и сумрачнее, продвигаться вперед можно было лишь по тропинкам лесников и дровосеков, ветки цеплялись за мою одежду. Дальше возвышалась небольшая одинокая гора, откуда, вероятно, открывался вид на весь край, но я туда не полез, я шагал вперед без цели, наконец снова очутился у реки и вернулся домой. Кете заспешила мне навстречу из кухни: «Здесь герр Буссе с герром Гастом и еще несколько человек. Они ждут вас во дворе. Я угостила их шнапсом». Буссе арендовал у фон Юкскюля ферму. «Что им от меня надо?» – спросил я. «Они хотят поговорить». Я спустился во двор. Крестьяне сидели в шарабане, тощая упряжная лошадь щипала травинки, выбившиеся из-под снега. Завидев меня, они сняли шляпы и спрыгнули на землю. Один из них, краснолицый мужик с седыми волосами, но пока еще черными усами, приблизился ко мне и слегка поклонился. «Здравствуйте, герр оберштурмбанфюрер. Кете сказала нам, что вы брат баронессы». Он говорил вежливо, но смущался и с трудом подыскивал слова. «Это правда», – ответил я. «А вы знаете, где господин барон и баронесса? Вы знаете, что они намерены делать?» – «Нет, я надеялся, что они здесь. Мне неизвестно, где они. Скорее всего, в Швейцарии». – «Вот только нам скоро надо будет уезжать. Особенно медлить нельзя. Красные атаковали Штаргард и окружили Арнсвальде. Люди волнуются. Крейсляйтер говорит, что они никогда сюда не дойдут, но мы ему не верим». Он робел, вертел в руках шляпу. «Герр Буссе, – обратился к нему я. – Я понимаю вашу тревогу. Вы должны позаботиться о семьях. Если вы считаете, что должны уехать, езжайте. Никто вас не задерживает». Его лицо немного просветлело. «Спасибо, герр оберштурмбанфюрер, мы беспокоились, потому что дом-то пустой». Он колебался. «Если желаете, я дам вам повозку и лошадь. Мы поможем, если вы соберетесь грузить мебель. Мы ее возьмем с собой и перевезем в надежное место». – «Благодарю, герр Буссе. Я подумаю. И сообщу через Кете, если приму какое-нибудь решение».
Мужчины уселись, и шарабан медленно покатил по березовой аллее. Предупреждение Буссе не произвело на меня ни малейшего впечатления, я не мог представить приход русских как конкретное событие ближайшего будущего. Я оперся о наличник большой двери, курил и смотрел на удалявшуюся по аллее повозку. Позже, около полудня, явились еще двое мужчин в синих куртках из грубого холста, в нескладных, подбитых гвоздями сапогах, они стояли и мяли в руках фуражки. Я сразу понял, что это два француза из вывезенных на принудительные работы, о которых говорила Кете. Фон Юкскюль нанял их для сельскохозяйственных и ремонтных работ. Не считая Кете, из обслуги здесь остались только они. Всех мужчин уже призвали, садовник ушел в народное ополчение, Volkssturm, а горничная отправилась к родителям, эвакуированным в Мекленбург. Я понятия не имел, где жили французы, возможно, у Буссе. Я обратился к ним по-французски. Старший, Анри, коренастый, сильный крестьянин лет сорока, родом из Люберона, знал Антиб. Другой, на вид еще молодой, явно был из какого-то провинциального городка. Они тоже нервничали и пришли сообщить, что хотят уехать, если уж все уезжают. «Понимаете, мсье офицер, мы большевиков любим не больше вашего. Они же дикари, от них неизвестно чего и ждать». – «Если герр Буссе уезжает, – повторил я, – вы можете ехать с ним. Я вас не удерживаю». Они явно вздохнули с облегчением: «Спасибо, мсье офицер. Наше почтение мсье барону и мадам, когда вы с ними встретитесь».
Когда я с ними встречусь? Эта мысль показалась мне едва ли не смешной. Но в то же время я не мог смириться с тем, что, вполне вероятно, больше никогда не увижу сестру. В прямом смысле слова это было невообразимо. Вечером я пораньше отпустил Кете и сам накрыл на стол. Я в третий раз торжественно ужинал в огромной гостиной, освещенной свечами в канделябрах, я ел и пил, и вдруг передо мной развернулась захватывающая и совершенно безумная картина, эдакая фантазия самодостаточного копрофага. Мы с Уной изолированы от мира и навсегда заперты в этом замке. Каждый вечер мы надеваем лучшие одежды, я – костюм и шелковую рубашку, Уна – красивое обтягивающее платье с вырезом на спине и тяжелые, почти варварские, серебряные украшения. Мы садимся за изысканный ужин. На столе, накрытом кружевной скатертью, хрустальные фужеры, фамильное серебро с выгравированным гербом, тарелки севрского фарфора, массивные канделябры из серебра, ощетинившиеся длинными белыми свечами. В бокалах наша собственная моча, на тарелках красивые твердые бледные экскременты, которые мы невозмутимо поедаем маленькими серебряными ложечками. Мы вытираем губы батистовыми салфетками с монограммой, пьем и, закончив трапезу, идем на кухню мыть посуду. Таким образом, мы довольствуемся собственными средствами, без потерь, не оставляя следов, в чистоте. После этой нелепой сцены меня до конца ужина не отпускало омерзение. Потом я поднялся в комнату Уны допивать коньяк и курить. Бутылку я уже почти опорожнил. Я взглянул на запертый секретер, меня не покидало неприятное ощущение, я не знал, что делать, но точно не хотел открывать его дверцу. Я распахнул шкаф и осмотрел платья сестры, глубоко вдыхая запах, которые они источали. Я выбрал одно, красивое вечернее платье из тонкой ткани, черное с серым, прошитое серебряными нитями. Я приложил платье к себе и принялся на полном серьезе жеманничать перед зеркалом, как женщина. Затем поспешно, чувствуя стыд и отвращение, повесил платье в шкаф. Что за игру я тут затеял? Мое тело не было и не будет телом Уны. Однако я уже не мог остановиться, мне бы впору уйти из дома, но я не мог этого сделать. Тогда я сел на диван, допил коньяк и постарался проанализировать обрывки прочитанных писем, бесчисленные загадки без разгадок, отъезд отца, смерть матери. Я встал, взял письма, устроился поудобнее и распечатал еще несколько. Сестра пыталась задавать мне вопросы, спрашивала, как я мог спать, пока убивали нашу мать, какие эмоции я испытал, увидев ее тело, о чем мы разговаривали накануне. Я не сумел ответить почти ни на один из них. В одном письме Уна сообщала о посещении Клеменса и Везера. Интуитивно она им солгала, не сказала, что я обнаружил тела, но теперь хотела знать, почему я врал и что помню на самом деле. О чем помню? Я и сам не знаю, что такое воспоминание. Однажды, будучи ребенком, я поднимался по лестнице, и сейчас, описывая этот эпизод, я отчетливо представляю, как с трудом карабкался по серым ступеням какого-то огромного мавзолея или памятника, затерянного в лесу. Наверное, стояла поздняя осень, за деревьями не видно было неба. Ступени устилали опавшие листья – красные, оранжевые, коричневые, золотые, мои ноги утопали в листве почти до самых икр, а ступени были до того высокими, что я помогал себе руками, взбираясь на каждую следующую. Воспоминание было тягостным, меня пугали пламенеющие цвета листьев, я прокладывал себе дорогу на тех уступах для великанов по сухой ломкой массе и боялся увязнуть в ней и исчезнуть навсегда. Годами я считал, что запомнил детское сновидение. Но как-то раз, вернувшись в Киль на занятия, я совершенно случайно в лесу наткнулся на небольшое гранитное надгробие в виде зиккурата, это было то самое место, оно существовало в реальности. Конечно же, я лазил тут совсем маленьким, потому и ступени мне казались огромными, но меня поразило обстоятельство, что после стольких лет я увидел наяву то, что всегда располагал в мире снов. И на все те вещи, о которых мне пыталась сказать Уна в своих обрывочных письмах, я реагировал таким же образом. Эти бесконечные мысли имели острые углы, я дико разодрал кожу, по коридорам холодного гнетущего дома текла кровавая корпия моих чувств, молодая здоровая горничная должна вымыть здесь все большим количеством воды, но горничной нет. Я спрятал письма в секретер и, не убрав пустую бутылку и стаканы, пошел отдохнуть в соседнюю комнату. Но стоило мне прилечь, как меня вновь начали одолевать непристойные, извращенные фантазии. Я вскочил и в мерцающем свете свечи стал разглядывать свое голое тело в зеркале шкафа. Я трогал плоский живот, твердый член, ягодицы. Кончиками пальцев ласкал свой затылок. Потом задул свечу и опять лег. Но мысли не рассеивались, лезли из углов комнаты, как злобные собаки, бросались на меня, кусали, разжигали мою плоть. Мы с Уной меняемся одеждой, голые, в одних чулках, я надеваю ее длинное платье, а она затягивает в талии мой китель, поднимает волосы и засовывает их под фуражку. Потом сажает меня перед туалетным столиком, старательно красит, зачесывает мне волосы назад, проводит по моим губам помадой, кладет тушь на ресницы, пудрит щеки, наносит мне на шею капельку духов и покрывает лаком ногти. Закончив приготовления, мы столь же откровенно меняемся ролями. Уна вооружается эбеновым фаллосом и берет меня, как мужчина, перед огромным зеркалом, невозмутимо отражающим наши сплетенные тела, она смазывает фаллос кольд-кремом, от его резкого запаха у меня щиплет в носу, и пользуется мной, как женщиной, пока полностью не исчезает всякое различие, и я не говорю: «Я – твоя сестра, а ты – мой брат», и она вторит: «Ты – моя сестра, я – твой брат».
Целыми днями эти образы сводили меня с ума, грызли, словно псы, сорвавшиеся с цепи. Я и мои мысли стояли напротив как два магнита, и неведомая сила постоянно разворачивала нас противоположными полюсами. Если мы притягивались, полюса менялись, и нас разносило в разные стороны, только оттолкнулись, снова перемена, и мы тянемся друг к другу, все движения совершались с такой быстротой, что мы, я и мысли, синхронно раскачивались на определенной дистанции, не в состоянии ни приблизиться, ни отдалиться. Снег во дворе таял, землю развезло. Днем пришла Кете сообщить, что уезжает. Официально эвакуацию не разрешили, но Кете решила отправиться к кузине, жившей в Нижней Саксонии. Буссе навестил меня еще раз и повторил свое предложение. Он записался добровольцем в Volkssturm, и пока оставалось время, хотел вывезти отсюда семью. Буссе попросил меня расплатиться с ним по счетам за фон Юкскюля, но я отказался и, прощаясь, велел ему прихватить заодно с семьей двух французов. Если мне случалось идти вдоль дороги, особого движения я не замечал, хотя в Альт-Драхеме бдительные жители потихоньку готовились к отъезду. Они подчистую выгребали кладовые и продали мне задешево кучу продуктов. В деревне было спокойно, лишь изредка высоко в небе гудел самолет. И вдруг однажды – я в тот момент сидел на втором этаже – на аллею вырулила машина. Я наблюдал за ней, спрятавшись за занавеску, и когда она приблизилась, различил значок крипо. Я кинулся к себе в комнату, вытащил из кобуры табельный пистолет и, недолго думая, сбежал по черному ходу через кухонную дверь в заросли за террасой. С пистолетом в трясущейся руке, я под надежным прикрытием деревьев обогнул сад и залег в кустах, наблюдая за домом. Я увидел некий силуэт, человек вышел через стеклянную дверь гостиной, пересек террасу, остановился у балюстрады, вглядываясь в сад, руки в карманах пальто. «Ауэ! Ауэ!» – крикнул он дважды. Это был Везер, я сразу его признал. Высокая фигура Клеменса вырисовывалась в проеме двери. Везер выкрикнул мое имя в третий раз тоном, не терпящим выражений, потом повернулся и вслед за Клеменсом исчез в доме. Я выжидал. Через довольно длительный промежуток времени их тени показались в окне, полицейские хозяйничали в спальне моей сестры. Меня захлестнула бешеная злоба, я побагровел и, перезарядив пистолет, приготовился ворваться в дом и безжалостно пристрелить двух озлобленных ищеек. Я с трудом сдержался и остался в убежище, сжимая побелевшими от напряжения, дрожащими пальцами пистолет. Наконец я услышал шум мотора. Еще немного подождал, вел себя осторожно на случай, если бы они мне подстроили ловушку. Машина тронулась, дом был свободен. В моей спальне они как будто ничего не тронули, в комнате Уны секретер был закрыт, но я обнаружил, что пропали целые связки писем. Я опустился на стул в изнеможении, забыв про пистолет, лежавший у меня на коленях. Что еще искали Клеменс и Везер, взбесившиеся, твердолобые, глухие к любым доводам рассудка твари? Тщетно я старался привести мысли в порядок и вспомнить содержание писем. Я знал, что там есть доказательство моего присутствия в Антибе в момент убийства. Впрочем, какая, собственно, разница. Близнецы? Шла ли в письмах речь о близнецах? Я напряг память, кажется, нет, о близнецах не было ни слова, хотя, по всей видимости, они волновали мою сестру гораздо больше, чем судьба нашей матери. Кем приходятся Уне те мальчишки? Я встал, положил пистолет на столик и заново перерыл секретер, теперь уже медленно, методично, как, наверное, делали Клеменс и Везер. И в ящичке, которого сначала и не заметил, нашел фотографию двух голеньких смеющихся малышей, сидевших спиной к морю, вероятно, неподалеку от Антиба. Да, вполне возможно, они ее дети, заподозрил я, внимательно изучая снимок. Но кто тогда отец? Естественно, не фон Юкскюль. Я попытался представить сестру беременной, обхватившей живот обеими руками, сестру в родах, разодранную, испускающую вопли. Невероятно! Нет, если так оно и случилось, сестру, конечно же, вскрывали и доставали младенцев из живота, по-другому и быть не могло. Я подумал о страхе Уне перед тем, что набухало в ее чреве. «Я всегда боялась», – когда-то сказала она мне. Где? Забыл. Она говорила мне о постоянном страхе, который испытывают женщины, страхе – постоянном спутнике, не покидающем их ни на минуту. Страх ежемесячных кровотечений, страх перед зачатием, страх перед проникновением грубого мужского члена, страх тяжести, от которой обвисают животы и груди. То же самое, наверное, и со страхом беременности. Что-то толкается, толкается в животе, чужое тело внутри тебя, оно движется и высасывает все соки, и тебе известно, что оно должно выйти наружу, даже если убьет вас обоих, оно должно выйти, – просто кошмар! И со сколькими бы мужчинами я ни был, мне никогда не приблизиться к этому, не понять безумного страха женщин. А после рождения детей все становится еще хуже, потому что отныне страх тебя преследует день и ночь и заканчивается с тобой или с ними. У меня перед глазами стояли матери, прижимавшие к себе детей во время расстрела. Я видел венгерских евреек, сидевших на чемоданах, беременных женщин и невинных девиц, дожидавшихся поезда и газовой камеры в конце путешествия. Наверное, это я у них и заметил, и уже не мог от этого отделаться, и не умел выразить – страх. Не их явный, нескрываемый страх перед жандармами и немцами, перед нами, а немой страх, живший внутри них, в хрупкости их тел и половых органов, спрятанных между ног, хрупкость, которую мы намеревались уничтожить, даже не увидев ее.
Установилась теплая погода. Я вынес стул на террасу и проводил там часы напролет, читал, слушал, как звенит капель в саду на склоне, смотрел, как из-под тающего снега появляются подстриженные кусты, опять навязывая свое присутствие. Я читал Флобера, а когда меня утомлял широкий поток его прозы, развлекался старофранцузской поэзией: У меня подружка есть, но не знаю, кто / И видать ее не видел – честно говорю. Я чувствовал себя радостным и беззаботным, словно на острове, отрезанном от мира. Если бы, как в волшебных сказках, мне удалось окружить дом невидимой стеной, я, почти счастливый, навечно остался бы здесь ждать возвращения сестры, и пускай бы тролли и большевики захватывали окрестные земли. Мне, как принцам-поэтам позднего Средневековья, вполне достаточно было одной мысли о любви женщины, заточенной в далеком замке или швейцарском санатории. Я в благостном спокойствии представлял, что она тоже сидит на террасе, только лицом к высоким горам, а не к лесу, тоже в одиночестве (ее муж проходит лечение) и читает книги, похожие на те, которые я утащил из ее библиотеки. Свежий горный воздух пощипывает ее кожу, может быть, она завернулась в плед, а под ним ее тело, полновесное, осязаемое. В детстве наши тощие тела устремлялись друг к другу, сталкивались в яростной схватке, но мешали соприкасаться обнаженным чувствам. Мы еще не осознали, каков объем любви, живущей в теле, гнездящейся в самых потаенных его уголках. Я в деталях представлял тело читающей Уны, удобно расположившейся на стуле, изгиб ее спины, шеи, вес скрещенных ног, почти неслышный звук дыхания. Меня восхищала мысль о поте у нее под мышками, я приходил в исступление от восторга, избавлявшее меня от собственной плоти и превращавшее в чистое восприятие, напряженное, на разрыв. Но такие моменты долго не длились. Вода медленно капала с деревьев и там, в Швейцарии, Уна вставала, откидывала плед и возвращалась в общие комнаты, оставляя меня наедине с химерами. Мои темные химеры, когда я тоже вернулся в дом, приспосабливались к его архитектуре, поочередно занимали комнаты, где я жил, которых избегал или тщетно пытался избежать – например, спальню Уны. Наконец я толкнул дверь в ее ванную комнату. Просторное помещение, принадлежавшее женщине, длинная фарфоровая ванна, биде, унитаз в дальнем углу. Я повертел в руках флаконы с духами, с горечью посмотрел на свое отражение в зеркале над раковиной. Напрасно я глубоко вдыхал – как и в спальне, здесь не осталось запаха Уны, она уехала слишком давно, а Кете сделала отличную уборку. Нюхая душистое мыло или открывая пузырьки с туалетной водой, я ощущал чудесные ароматы, совершенно женские, но не ее. Выйдя из ванной, я разворошил постель, обнюхал, и опять зря: Кете постелила чистые простыни, белые, шершавые, свежие. Даже Унины трусики ничем не пахли, несколько пар черных кружевных трусиков, тщательно выстиранных и сложенных в ящики комода. И только зарывшись лицом в ее платья в шкафу, я что-то учуял, слабый, неопределенный запах, от которого у меня застучала кровь в висках. Вечером при свече (электричество отключили несколько дней назад) я нагрел на плите два больших ведра воды, поднялся с ними наверх и вылил в ванну сестры. Вода вскипела, и, чтобы взяться за горячие ручки, мне пришлось надеть перчатки. Я плеснул в кипяток пару ковшей холодной воды, дотронулся рукой, проверил температуру и добавил ароматной пены. Теперь я пил местную сливовую водку, огромную бутыль которой обнаружил на кухне, и прихватил с собой графин, стакан и пепельницу на серебряном подносе, его я поставил поперек биде. Перед тем как погрузиться в воду, я взглянул на свое тело, на бледную кожу, казавшуюся золотистой при свечах в канделябре, который я пристроил у подножия ванны. Тело мне не слишком нравилось, но с другой стороны, как было его не обожать? Я залез в ванну, представляя себе сестру, одинокую, нагую в ванной комнате швейцарского отеля, крупные голубые вены, змеящиеся под ее сливочной кожей. Я не видел ее голой со времен нашего детства, испугавшись, я потушил свет, но это не помешало мне представлять ее тело во всех подробностях: тяжелые, спелые груди, упругие, широкие бедра, красивый круглый живот, терявшийся в черном курчавом треугольнике, рассеченный от пупка до лобка большим вертикальным шрамом. Я хлебнул водки и окунулся в горячую воду, положив голову на бортик, совсем рядом с канделябром, мой подбородок чуть высовывался из обильной пены, я видел безмятежное лицо сестры, длинные волосы подняты в тяжелый пучок и заколоты серебряной спицей. Воображая, как Уна растянулась в воде и чуть развела ноги, я вспомнил легенду о зачатии Реса. Его мать, одна из Муз, забыл какая, кажется Каллиопа, будучи еще девственницей, собралась на музыкальный поединок, чтобы ответить на вызов Тамириса. Путь ее лежал мимо реки Стримона, который брызнул ей в промежность свежей струей, и она понесла. Моя сестра – с горечью спрашивал я себя – тоже забеременела близнецами в пенистой воде ванны? Конечно, после меня она знала и других мужчин, много мужчин. Коль уж она меня предала, надеюсь, мужчин было достаточно, целая армия, и она каждый день обманывала мужа, неспособного воспротивиться происходящему. Я представлял, как она приглашает сюда на второй этаж в ванную мужчину, парня с фермы, садовника, молочника, одного из работников-французов. Все в поместье, разумеется, в курсе, но молчат из уважения к фон Юкскюлю. А фон Юкскюлю плевать, он притаился, как паук, у себя в апартаментах и грезит об абстрактной музыке, уносящей его далеко от искалеченного тела. И моя сестра смеется над тем, что думают и говорят соседи, пока они с любовником поднимаются по лестнице. Она просит мужчин принести воды, помочь ей расстегнуть платье, а они такие неловкие, краснеют, пальцы, загрубевшие от работы, не слушаются, и ей приходится раздеваться самой. Большинство возбуждались, не успев порог переступить, что легко было заметить по их оттопыренным штанам, и не знали, как вести себя, Уна все им подсказывала. Мужчины терли ей спину, грудь, а потом Уна сношалась с ними в спальне. От них несло землей, дешевым табаком, а ей, наверное, это очень нравилось. Их члены, когда она обнажала головку, воняли мочой. Потом она их выпроваживала, любезно, но без улыбки. Она не мылась, спала в их запахе, как ребенок. То есть ее жизнь, пока меня не было рядом, стоила моей. Мы оба, друг без друга, наши тела, с их бесконечными и в то же время ограниченными возможностями, погрязли в пороке. Ванна медленно остывала, но я не вылезал, дурные мысли грели меня изнутри, я находил утешение в своих безумных фантазиях, даже самых гнусных, я, словно мальчишка под одеялом, искал убежища в мечтах, потому что какими бы жестокими и развратными они ни были, это лучше, чем нестерпимая горечь внешнего мира. Наконец я выбрался из ванны, не обсохнув, глотнул стакан водки и завернулся в большое махровое полотенце, которое лежало рядом. Я зажег сигарету и, не одеваясь, курил у одного из окон, выходящих во двор. По нижней кромке неба тянулась бледная линия, постепенно из розового переходившая в белый, серый и потом в темно-синий, который таял в ночи. Докурив, я выпил еще один стакан, лег на широкой кровати с колонками, натянул на себя крахмальные простыни с тяжелыми одеялами. Распластался на животе, уткнулся лицом в мягкую подушку, лежал так, как в течение многих лет ложилась Уна после ванны. Я отчетливо это видел, будоражащие, противоречивые вещи поднимались во мне, словно черная вода или резкий крик, угрожающий перекрыть все другие звуки, рассудок, бдительность, даже разумные желания. Я провел рукой между ляжек и сказал себе: если бы я так погладил Уну, она бы больше не сдерживалась. Но одновременно эта мысль меня возмущала, я не хотел, чтобы сестра делала со мной то же, что с мальчишкой с фермы, только ради собственного удовлетворения, я мечтал, чтобы она меня вожделела, откровенно, как я вожделел ее, и любила, как я ее любил. Потом я уснул, из страшных, обрывочных снов сохранилась лишь фраза, произнесенная мелодичным голосом Уны: «Ты мужчина слишком тяжелый, раздавишь женщину».
Незаметно я почти утратил способность обуздывать приливы, поглощавшие меня, сбивавшие с толку, импульсы, несовместимые друг с другом. Я бесцельно бродил по дому, часами гладил кончиками пальцев резьбу, украшавшую полированные деревянные двери апартаментов фон Юкскюля, спускался со свечой в погреб, растягивался прямо на утрамбованном земляном полу, сыром и холодном, и с наслаждением вдыхал терпкие, затхлые, архаичные запахи подземелья. Я с дотошностью полицейского обследовал спальни домашней прислуги и уборные. Стоячий клозет с ребристыми, тщательно оттертыми щеткой подножками и широким очком, чтобы женщины – в моем воображении сильные, белокожие, крепко сбитые, похожие на Кете, – имели достаточно места опорожнить кишечник. Я больше не думал о прошлом, не испытывал соблазна оглянуться на Эвридику, я смотрел прямо перед собой, видел совершенно неприемлемое настоящее и знал, твердо верил, что она идет за мной след в след, как моя тень. И когда я выдвигал ящики комода и рылся в ее белье, ее руки осторожно проскальзывали под мои, разворачивали, поглаживали роскошные, тончайшего черного кружева трусики. Мне незачем было оборачиваться, чтобы увидеть, как она сидит на диване и развертывает шелковый чулок, украшенный по верхней кромке широкой кружевной лентой, на гладкой мясистой поверхности белой кожи с небольшими впадинками между сухожилий. Или как заводит руки за спину и застегивает крючки на лифчике, а потом быстрым движением поочередно поправляет груди. Она бы совершала все эти движения, повседневные ритуалы, передо мной, не стесняясь, без ложной скромности, без эксгибиционизма, точно так, как выполняла бы их одна, не машинально, а внимательно, с наслаждением. И если она надевала кружевное белье, то уж явно не для мужа, не для любовника на вечер, не для меня, а для себя, для собственного удовольствия, чтобы кожей ощущать кружево и шелк, любоваться отражением своей нарядной красоты в большом зеркале. Она смотрела бы на себя именно так, как я бы смотрел или хотел бы смотреть на себя – не самовлюбленно, не критически, выискивая недостатки, а отчаянно пытаясь поймать ускользающую от глаза реальность, взглядом художника, если желаете, но я не художник и, увы, не музыкант. И если бы действительно она стояла передо мной, почти голая, я бы не отрывал от нее подобного взгляда, и желание лишь обостряло бы мою проницательность, я бы изучал фактуру ее кожи, растр пор, коричневые точки произвольно рассыпанных родинок, пока безымянных созвездий, переплетенные русла вен, обвивающих локоть; длинные лучи поднимаются к предплечью, вздуваются на тыльной стороне руки и запястье прежде, чем, просочившись между суставов, исчезнуть в пальцах, в точности как на моих собственных мужских руках. Наши тела идентичны, я объясню ей. Разве мужчины не рудименты женщины? Каждый зародыш сначала имеет женскую форму, а признаки различия появляются позже. Тела мужчин навсегда сохранили этот след, бесполезные бугорки несозревших грудей, бороздку, разделяющую мошонку и идущую по промежности до ануса, оставив метку там, где вульва закрылась и спрятала яичники, которые, опустившись, превратились в яички, пока клитор отрастал до огромных размеров. Мне на самом деле не хватало лишь одного, чтобы быть настоящей женщиной, как Уна, непроизносимого «е» французских окончаний женского рода, потрясающей возможности говорить и писать: «Je suis nue, je suis aimée, je suis desirée». Именно «е» делает женщин ужасно женственными, и я очень страдал из-за того, что у меня его отняли, прискорбная утрата, не менее невосполнимая, чем утрата вагины, которой я лишился у врат жизни.
Когда в душе стихали грозы, я, усевшись так, чтобы видеть лес и низкое свинцовое небо, в тишине и спокойствии погружался в чтение Флобера. Но кровь снова приливала к лицу, и я неминуемо забывал про книгу на коленях. Тогда, чтобы скоротать время, я опять принимался за старофранцузского поэта, состояние которого, судя по всему, не слишком отличалось от моего: Явь иль сон, я сам не знаю, коли не подскажут. У сестры было старое издание «Тристана и Изольды» в версии Томаса Британского, которое я тоже перелистывал, пока с ужасом, пронзившим меня, словно резкая боль, не наткнулся на стихи, отмеченные Уной карандашом:
Quand fait que faire ne désire Pur sun buen qu´il ne peut aveir Encontre desir fait voleir [96].И еще раз ее длинная рука, из швейцарского изгнания или прямо из-за моей спины, скользнула под мою руку, чтобы мягко положить палец на эти строки, на не подлежащую обжалованию максиму, которой я принять не мог и отвергал со всем еще оставшимся у меня жалким упрямством.
И так медленно я перешел к длинному, бесконечному стретто, когда, прежде чем завершался вопрос, en cancrizan, навыворот, противодвижением приходил ответ. От последних дней, проведенных в том доме, у меня в памяти остались лишь обрывочные картинки, бессвязные и бессмысленные, смутные, разворачивающиеся по неумолимой логике сновидений, где говорит или, точнее, безобразно квакает одно желание. Теперь я каждую ночь спал в ее постели, лишенной запахов, лежа на животе, раскинув руки и ноги, или свернувшись клубком на боку, с совершенно пустой головой. В кровати я не обнаружил ни малейшего следа Уны, ни единого волоска, я снял простыни, осмотрел матрас в надежде найти хоть пятнышко крови, но матрас был такой же чистый, как простыни. Тогда я решил его испачкать, сел на корточки, широко расставив ноги, воображаемое тело сестры распласталось подо мной, голова чуть повернута, волосы зачесаны, открывая маленькое круглое, нежное ушко, столь любимое мною. Потом я рухнул в собственную слизь и сразу же заснул, прямо с липким животом. Я хотел стать хозяином кровати, но это она мной завладела и больше от себя не отпускала. Химеры разных мастей свивались кольцом в моих снах, я пытался прогнать их, потому что хотел, чтобы мне снилась только сестра, но они оказались упрямыми и появлялись там, где я меньше всего ожидал их встретить, как те маленькие бесстыдницы в Сталинграде. Я открыл глаза, одна из них прильнула ко мне, повернулась спиной и приподняла ягодицы к моему животу, я вошел в нее, она начала медленно двигаться и не выпускала мой член из задницы, мы так и заснули, переплетясь друг с другом. А когда проснулись, она просунула руку между ляжками и потерла мне мошонку, достаточно больно, член опять напрягся в ней, положив ладонь на упругое бедро, я перевернул ее на живот и продолжил, а она судорожно вцеплялась тонкими пальцами в простыни и не издавала ни единого звука. Больше она меня в покое не оставляла. И еще меня внезапно охватило другое чувство – нежность, смешанная с растерянностью. Да, именно так. Я сейчас вспоминаю, она была светловолосая, сама кротость и смущение. Не знаю, как далеко у нас с ней зашло. Но образ девицы, заснувшей с членом любовника в заднице, не имеет к ней никакого отношения. Совершенно точно это не Хелена, я почему-то подозревал, что отец Хелены – полицейский, занимающий ответственный пост, не одобрил выбор дочери и ко мне настроен враждебно, и потом Хелену я выше коленки и не щупал, а здесь был случай совершенно иного рода. Та блондинка тоже претендовала на место в огромной кровати, место, которое ей не полагалось. Мне это доставляло массу хлопот. Но наконец, применив грубую силу, я отпихнул всех девиц и за руку привел сестру, и положил ее в центре кровати, и навалился на нее всем своим весом, плотно прижавшись животом к рубцу на ее животе, бился об нее с нарастающей яростью, и напрасно. И вдруг образовалось широкое отверстие. Мое тело будто тоже разрезал хирургический нож, кишки вылились на Уну, подо мной распахнулась дверь, откуда когда-то появились ее дети, и все вошло внутрь. И я лежал на ней, как лежат в снегу, еще одетый, потом снял кожу и отдал голые кости объятиям белого, холодного снега, которым было ее тело, и оно поглотило меня.
Лучи закатного солнца пробились сквозь облака и осветили стену спальни, секретер, боковую сторону шкафа и подножие кровати. Я встал, пописал, спустился на кухню. Вокруг стояла тишина. Я нарезал вкусный серый деревенский хлеб, намазал маслом и положил сверху толстые ломти ветчины. Еще я нашел маринованные огурцы, миску с паштетом, яйца вкрутую, поставил все на поднос с приборами, двумя стаканами и бутылкой хорошего бургундского. Вернулся в спальню, устроил поднос на кровати. Сел по-турецки и глядел на пустовавшее напротив место. Постепенно передо мной воплотилась сестра, на удивление материально. Она спала на боку, калачиком, тяжелые груди и живот немножко отвисли, кожа на угловатом, выступающем бедре натянулась. Спало даже не ее тело, а она сама, умиротворенная, притаившаяся в нем. Тонкая струйка крови текла между ее ног, не пачкая кровати, и вся эта невыносимая человеческая природа уязвляла меня. Мне будто кол в глаз воткнули, но я не ослеп, наоборот, у меня опять открылось третье око, теменной глаз, привитый русским снайпером. Я откупорил бутылку, глубоко вдохнул хмельной аромат, наполнил оба стакана. Выпил и принялся за еду. Я ужасно проголодался, сожрал все, что принес, и осушил бутылку. День угасал, и комната погружалась в темноту. Я убрал поднос, зажег свечи и взял сигареты, курил, вытянувшись на спине, держа пепельницу на животе. Вдруг где-то надо мной раздалось отчаянное жужжание, я, не двигаясь, поискал глазами и заметил на потолке муху. Паук ее бросил и убежал в щелку в лепнине. Муха попалась в паутину и билась, жужжа, стараясь освободиться, но тщетно. В этот момент легкое дуновение, невидимый пальчик, кончик языка коснулись моего члена, он сразу начал расправляться, надулся. Я отодвинул пепельницу и вообразил, что по мне скользит тело сестры, я взвешиваю на ладонях ее груди, ее черные волосы, обрамляющие лицо, освещенное лучезарной, радостной улыбкой, опустились вокруг моей головы словно занавес. И Уна говорит: «Ты появился на свет по одной-единственной причине – чтобы трахать меня». Муха продолжала жужжать, но с возрастающими паузами, вдруг загудит, потом замолкает. Я словно ощупывал позвоночник Уны, чуть ниже поясницы, губы надо мной шептали: «О господи, о господи». Потом я еще раз взглянул на муху. Она притихла и не шевелилась, яд наконец ее парализовал. Я заметил, как вылез паук. Потом, наверное, я задремал. Меня разбудило неистовое жужжание, я открыл глаза. Паук сидел возле бьющейся в паутине мухи. Паук колебался, приближался и отступал и все-таки решил вернуться в убежище. Муха опять замерла. Я попытался представить ее безмолвный ужас, страх, отраженный в ее глазах с тысячью граней. Время от времени паук выбегал, проверял добычу лапкой, опутывал кокон еще несколькими витками и возвращался в укрытие. А я наблюдал за этой бесконечной агонией, пока через несколько часов паук не уволок в щель обессилевшую или уже мертвую муху, чтобы спокойно ее высосать.
На следующий день я голышом, надев только ботинки, чтобы не испачкать ноги, отправился исследовать холодный, мрачный дом. Вокруг моего наэлектризованного тела с побелевшей и покрывшейся от холода мурашками кожей развертывались поверхности, такие же чувствительные, как мой возбужденный член или свербящий анус. Это было приглашение к необузданному распутству, к самым абсурдным играм, к нарушению всех табу, мне отказали в нежном, теплом теле, которое я страстно желал, тогда вместо него я воспользуюсь домом, займусь с принадлежащим ему домом любовью. Я заходил во все комнаты, ложился на кровати, растягивался на столах или коврах, терся задницей об углы мебели, дрочил в креслах или запершись в шкафах среди одежды, пахнувшей пылью и нафталином. Я вошел в комнаты фон Юкскюля, но охватившее меня сначала детское торжество сменилось ощущением униженности. Это ощущение наряду с осознанием глупости и тщетности всех моих действий преследовало меня, доставляя при этом какое-то злорадное удовольствие.
Эти разрозненные мысли, это бешеное расходование возможностей заменили мне время. Рассветы, закаты лишь задавали ритм, как голод или жажда или естественные потребности, сон, например, который одолевал меня в любой момент, восстанавливал силы и снова возвращал к убожеству тела. Иногда я кое-как одевался и отправлялся на прогулку. Было почти тепло, брошенные поля на другом берегу Драге отяжелели, и я обходил их стороной, жирная, рыхлая земля налипала на подошвы. Я никого не встречал на своем пути. В лесу одного дуновения ветерка хватало, чтобы все во мне перевернулось, я спускал штаны, задирал рубашку и ложился прямо на твердую, холодную землю, устланную иголками, которые кололи мне задницу. В густых лесах за мостом через Драге я разделся догола, но обувь не снял, и принялся бегать, как когда-то в детстве, продираясь сквозь ветки, царапавшие мне кожу. Потом остановился возле дерева, развернулся, завел руки за спину и, обхватив ствол, медленно терся анусом о кору. Но это меня не удовлетворяло. Однажды я наткнулся на лежащее поперек дороги, поваленное грозой дерево со сломанной у верхушки веткой, ножиком укоротил ветку, содрал кору и отполировал древесину, аккуратно закруглив кончик. Потом обильно смочил его слюной, уселся верхом на ствол и, опираясь руками, медленно, глубоко ввел ветку внутрь себя. Я получил огромное наслаждение, и все это время, прикрыв глаза, забыв про член, воображал, как сестра в моем присутствии совокупляется с деревьями в лесу, словно похотливая дриада, подставляя то вагину, то анус, достигая удовольствия, по исключительной силе не сравнимого с моим. Мое тело несколько раз сотрясла сильная судорога, я кончил, вытащил испачканную палку, упал на бок, откинулся назад на сук, глубоко распоровший мне спину, резкая, восхитительная боль, и, навалившись на него всем весом, пару мгновений лежал, не двигаясь, в полуобмороке. Потом откатился в сторону, кровь, не останавливаясь, лилась из раны, к пальцам прилипли сухие листья и иголки, я встал, после мощной разрядки ноги дрожали, и начал бегать между деревьями. Немного дальше лес был сырой, земля на поверхности размокла, места посуше покрывали подушки мха, я поскользнулся на грязи и опять повалился на бок, еле дыша. В подлеске раздался крик сарыча. Я поднялся и пошел вниз к Драге, снял обувь и окунулся в ледяную реку, легкие сразу свело спазмом, смыл грязь и все еще текшую кровь, которая, когда я вылез из речки, смешавшись с водой, холодными ручейками струилась по спине. Обсохнув, я ощутил прилив бодрости, воздух приятно согревал кожу. Я хотел бы нарубить веток и построить хижину, устлать ее мхом и голым провести в ней ночь. Но все-таки было еще слишком холодно, и потом не было ни Изольды, готовой разделить со мной кров, ни тем более Марка, чтобы выгнать нас из замка. Тогда я попробовал заблудиться в лесу, сначала по-детски радуясь, потом почти в отчаянии, потому что это оказалось невозможно, я постоянно упирался в дорогу или же в поле, все пути выводили меня на знакомые ориентиры, какое направление я бы ни выбирал.
О том, что происходило во внешнем мире, я не имел ни малейшего понятия. Радио не работало, ни одна живая душа не появлялась. Где-то в уголке мозга сидела мысль о том, что, пока я тут бешусь от собственного бессилия, на юге гибнут люди, как погибло уже великое множество других, но мне было все равно. Я не смог бы сказать, где находятся русские – в двадцати километрах или в ста, я о них и не думал, эти события разворачивались в ином, отличном от моего времени, не говоря уж о пространстве. И если вдруг оба времени столкнутся, неизвестно, какое еще победит. Но, несмотря на всю отрешенность, в моем теле возникал чистый страх и стекал с него, как капельки таявшего снега падают с дерева, ударяясь о нижние ветки и иголки на земле. Страх беззвучно разъедал меня. Как зверь, роющийся в шерсти в поисках источника боли, как упрямый ребенок, разозлившийся на неподатливые игрушки, я пытался дать имя моим страданиям. Я выпил несколько бутылок вина и стаканов водки, потом валялся в забытьи на кровати, на холодном влажном сквозняке. Я с грустью смотрелся в зеркало, разглядывал свой красный, натруженный член, болтавшийся под лобковыми волосами, и думал, что он очень изменился, и если бы даже она оказалась здесь, все было бы иначе, не как раньше. В одиннадцать, двенадцать лет половые органы у нас были крошечные, и там, в полумраке чердака, соприкасались друг с другом худенькие, как скелетики, тела. А теперь появилась вся эта тяжесть и полнота плоти, и ужасные раны, которые ей нанесли: у Уны – вспоротый живот, а у меня глубокая дыра в черепе. Вагина, ректум – тоже дыры в теле, но внутри живая плоть, образующая целостную поверхность. Что же тогда дыра, пустота? Это то, что в голове. Когда мысль осмеливается ускользнуть, отделиться от тела, вести себя так, как будто его не существует, как будто можно думать без тела. Как если бы мысль, самая абстрактная, например о моральной норме, которая висит над головой, словно звездное небо, не сообразовывалась с ритмом дыхания, пульсацией крови в венах, с хрустом суставов. И вправду, когда я в детстве играл с Уной, и позже, когда обучался с конкретными целями пользоваться телами хотевших меня парней, я был молод и еще не понимал и не прочувствовал особенную тяжесть тел и то, к чему побуждает и на что обрекает плотская любовь. Возраст для меня не играл никакой роли, даже в Цюрихе. Только теперь я начал стремиться к сближению, я предугадывал, что означает жить в женском теле, с тяжелыми грудями, садиться на унитаз или на корточки, чтобы помочиться, в теле, которое надо вскрыть ножом, чтобы достать из живота детей. Как бы мне хотелось видеть перед собой на диване это тело, с раскрытыми, словно страницы книги, ляжками, тоненькой полоской белых кружев, прячущей припухлость вагины, верхнюю часть широкого шрама и линии сухожилий по бокам. Как страстно припал бы я губами к впадинкам и не отрывался бы, одновременно медленно двумя пальцами отодвигая кружевную ткань: «Посмотри только, какая белизна. Подумай, как черно под ней». Мне безумно хотелось увидеть эту вагину, притаившуюся между двумя ложбинками, и хоть один раз осторожно провести языком снизу вверх по почти сухой щели. Еще мне хотелось посмотреть, как писает это прекрасное тело, сидит на унитазе, нагнувшись вперед, уперев локти в колени, и услышать журчание мочи. Еще я хотел, чтобы, закончив писать, она наклонилась, взяла губами мой вялый член, чтобы обнюхала волосы на моем лобке, ямки между мошонкой и ляжками, линию чресел, упивалась моим терпким, кисловатым запахом, запахом мужчины, так хорошо знакомым мне самому. Я сгорал от желания уложить ее в постель, раздвинуть ей ноги, рыть носом влажную вульву, как свинья выкапывает рылом гнездо черных трюфелей, потом перевернуть ее на живот, обеими руками раздвинуть ягодицы и любоваться фиолетовой розочкой ануса, подрагивающего тихонько, словно веко, прижаться к нему и вдыхать. Я мечтал уткнуться во сне во вьющиеся волоски ее подмышки, чувствовать щекой тяжесть ее груди, обхватить ногами ее ногу, а рукой нежно обнять ее плечо. При пробуждении это тело подо мной полностью бы меня поглотило, она бы посмотрела на меня с блуждающей улыбкой, опять раздвинула бы ноги и баюкала меня в себе в медленном, подземном ритме старинной мессы Жоскена. И мы бы неспешно удалились от берега, несомые нашими телами, словно теплым, спокойным, соленым морем, и она прошептала бы мне на ухо ясно, внятно: «Бог создал меня для любви».
Опять похолодало, выпал снег, замело террасу, двор, сад. Еды почти не осталось, хлеб кончился, я попробовал его приготовить самостоятельно из муки Кете. Я понятия не имел, что надо делать, но нашел в поваренной книге рецепт и испек несколько булок. Отщипывал и глотал куски, не давая им остыть, как только вынимал из печки, вприкуску с сырой луковицей, от которой у меня потом воняло изо рта. Ни яиц, ни ветчины больше не было, но в подвале я наткнулся на ящик мелких зеленых яблок прошлогоднего урожая, покрытых белым налетом, но сладких, и грыз их в течение дня, запивая водкой. Ресурсы винного погреба, по счастью, были неисчерпаемы. Еще я обнаружил остатки паштета и ужинал паштетом, салом, поджаренным с луком, и лучшими французскими винами. Ночью поднялась метель, мрачно завывал северный ветер, при сильных порывах хлопали плохо закрепленные ставни, а снег бился в оконные стекла. Но дров у меня имелось достаточно, печка гудела, спальня хорошо прогрелась, и я голый растянулся в темноте, подсвеченной снегом, и вихри словно секли мою кожу. На следующий день ветер стих, но снег валил крупными частыми хлопьями, укрывая землю и деревья. Под снегом мне привиделся смутный силуэт, напомнивший трупы на снегу в Сталинграде. Я видел их со всей отчетливостью – синие губы, кожа бронзового цвета, испещренная щетиной, застигнутые смертью врасплох, изумленные, остолбеневшие, но спокойные, почти умиротворенные, в отличие от мертвого Моро, плававшего в крови на ковре, от распластанного на кровати тела матери со свернутой шеей. Жуткие, непереносимые картины, несмотря на все усилия, я не мог их остановить и, чтобы от них избавиться, мысленно поднялся по лестнице на чердак в доме Моро, спрятался там, съежился в углу и принялся ждать, когда сестра найдет и утешит меня, – меня, своего печального рыцаря с пробитой головой.
Тем вечером я долго принимал горячую ванну. Я поставил на бортик одну ногу, потом вторую и, обмывая станок прямо в той же воде, тщательно их побрил. Потом побрил подмышки. Лезвие скользило по намыленной густой поросли, клочки завитых волос падали в пену. Я вылез, сменил лезвие, опять поставил ногу на бортик ванны и выбрил лобок и мошонку. Я действовал аккуратно, особенно в тех местах, до которых трудно достать, но совершил неловкое движение и порезался, прямо за яичками, там, где кожа наиболее чувствительная. Три капельки крови упали в белую пену. Я протер порез одеколоном, пожгло немного, потом полегчало. На поверхности воды плавали волосы и ошметки крема для бритья. Я обмылся ведром холодной воды, кожа покрылась мурашками, яички сморщились. Выйдя из ванной, я посмотрелся в зеркало, и это ужасающе голое тело показалось мне чужим, оно больше напоминало тело Аполлона с кифарой из Парижского музея, чем мое. Я плотно прижался к зеркалу, закрыл глаза и представил, как медленно, осторожно брею половые органы сестры, придерживаю двумя пальцами складки кожи, чтобы не поранить ее, потом поворачиваю ее задом, наклоняю вперед и сбриваю вьющийся пушок вокруг ануса. Потом Уна терлась щекой о мою голую, побледневшую от холода кожу, щекотала сжавшиеся мальчишеские яички и лизала кончик обрезанного члена, быстро, подразнивая, прикасаясь к нему языком. «Мне даже больше нравилось, когда он был вот таких размеров», – заявила она, смеясь, расставив большой и указательный палец на несколько сантиметров. А я поднял сестру и смотрел на ее выпуклые голые половые губы, выдававшиеся между ног. Длинный рубец, который я по-прежнему видел в воображении, тянулся вниз к влагалищу, но не доходил до него, это было влагалище моей маленькой сестры-близняшки, и я расплакался.
Я лег на кровать, трогал половые органы, по-детски голые, странные на ощупь, повернулся на живот, гладил ягодицы, легонько проводил пальцем по заднему проходу. Я изо всех сил старался вообразить, что это ягодицы моей сестры, мял их, похлопывал. Уна смеялась. Я продолжал, моя ладонь опускалась на упругую задницу со звонкими шлепками. Уна, как и я, зарывшись лицом и грудью в простыни, тряслась от безудержного смеха. Я остановился, когда ягодицы уже побагровели, я не знал, действительно ли они мои, потому что в таком положении невозможно ударить себя сильно, но в той невероятной сцене ягодицы были красными, я видел выступающую между ними бритую вульву, пока еще бело-розовую. И я развернул тело сестры задницей к большому напольному зеркалу и сказал: «Гляди». И она, все еще хохоча, обернулась и перестала смеяться, у нее, как и у меня, перехватило дыхание. Мысли повисли в воздухе, я парил в темном, пустом пространстве, где обитали только наши тела. Медленно протянул к ней руку и сунул указательный палец в щелку, которая приоткрылась, словно не зарубцевавшаяся рана. Потом я скользнул за Уну, но не опустился на четвереньки, а сел на корточки, чтобы смотреть себе между ног и чтобы она могла смотреть. Опершись ладонью на ее беззащитный затылок – она положила голову на постель и разглядывала свою промежность – другой рукой я взял член и вставил его между униных половых губ. В зеркале я ясно видел свой член в детской вульве и внизу запрокинутое унино лицо, налитое кровью, омерзительное. «Прекрати, прекрати, – стонала она, – не надо так делать». Я толкнул Уну вперед, ее тело снова распласталась на кровати под моим, и трахал ее, сцепив пальцы на длинной девичьей шее, душил и сам хрипел, пока кончал. После оторвался от нее и откатился на простыни, а она плакала, словно маленькая девочка: «Нельзя так делать». Тогда я тоже расплакался, дотронулся до ее щеки: «А как можно?» Она тихонько забралась на меня, принялась целовать лицо, глаза, волосы. «Не плачь, не плачь, я покажу тебе», – она успокоилась, я тоже. Она оседлала меня, терлась животом и гладкой вульвой о мой живот, затем выпрямилась и, подняв колени, присела на мои бедра, ее опухшее влагалище, похожее скорее на украшение, прилепленное к телу, накрыло член и начало ерзать по нему, и он распустился и извергнул семя, смешавшееся с влагалищными выделениями. И она, лицом ко мне, обмазала меня слизью и, словно губами, целовала мне вульвой живот. Я встал, схватил Уну сзади за шею, притянул к себе и засунул ей язык в рот, теперь к моему члену прижались ее ягодицы, потом она повалила меня на спину, оперлась мне на грудь, сама направила член и воткнула его в себя. «Вот так, вот так», – повторяла она, закрыв глаза, двигаясь рывками назад, вперед. Я же, в отупении, словно оглушенный, изучал ее, искал прежнее маленькое плоское тело, спрятавшееся под грудями и округлостями бедер. Оргазм, короткий, сухой, почти без спермы, полоснул меня острым ножом. Уна сидела на мне, вульву, распахнутую раковину, продолжал большой прямой шрам, раскроивший живот, и сейчас все это образовывало единую длинную щель, которую мой член вспарывал до пупка.
Снег шел всю ночь. Я кружил по бескрайнему пространству, где властвовала лишь моя мысль, непринужденно творя и уничтожая формы, впрочем, ее свобода постоянно наталкивалась на границы тел – моего, реального, материального, и Униного, воображаемого, а значит, неисчерпаемого, с каждым разом оставлявшего меня более опустошенным в нарастающем лихорадочном возбуждении и отчаянии. Сидя голышом на кровати, я в изнеможении пил водку и курил. И мой взгляд от внешнего, от моих покрасневших колен, длинных, с выпуклыми венами рук, члена, сморщившегося внизу под слегка вздутым брюшком, устремлялся к внутреннему и блуждал по телу спящей на животе Уны. Лицо обращено ко мне, ноги вытянуты, маленькая девочка. Я нежно убрал волосы, обнажил прекрасную, крепкую шею и, как в один из вечеров, мысленно вернулся к задушенной матери, носившей нас в чреве. Я гладил шею сестры и старался серьезно, прилежно вообразить, как я скручиваю шею матери, нет, невозможно, сцена не вырисовывалась, не сохранилось во мне и следа подобной сцены. Напрасно я вглядывался в глубь себя, словно в зеркало, образы упорно не желали появляться в нем, стекло ничего не отражало, даже когда я просовывал руки под волосы сестры и говорил: «О, мои руки на шее сестры. О, мои руки на шее матери». Нет, ничего, ничего не было. Меня била дрожь, я по-собачьи, калачиком, прикорнул в конце кровати. Открыл глаза после долгого отдыха. Уна лежала навзничь, раздвинув ноги, ладонь на животе, вульва напротив моего лица таращилась на меня, следила за мной, как голова медузы Горгоны, как неподвижный циклоп, единственный глаз которого никогда не моргает. Постепенно этот молчаливый взгляд пронял меня до мозга костей, дыхание участилось, я заслонил глаз рукой, чтобы больше его не видеть, но он по-прежнему смотрел на меня и обнажал (хотя я и так уже был голый). Если бы у меня возникла эрекция, подумал я, то вместо заостренной дубинки я бы воспользовался членом и ослепил бы этого Полифема, превращавшего меня в ничтожество. Но член оставался неподвижным, и сам я будто окаменел. Потом я выпростал руку и пырнул этот огромный глаз средним пальцем. Бедра чуть дрогнули, и все. Я его не выколол, наоборот, расковырял, освободив взгляд, скрывавшийся еще глубже. Тогда у меня появилась другая идея, я вытащил палец, подполз ближе и, опершись на предплечья, уперся лбом в вульву, прижался к дыре своим шрамом. Теперь уже я смотрел внутрь, шарил лучом третьего глаза в глубине тела Уны, а луч ее единственного глаза направлялся на меня, и мы таким образом ослепляли друг друга. Не шевелясь, я кончил в мощном взрыве белого света, она кричала: «Что ты делаешь? Что ты делаешь?», а я хохотал во все горло, сперма сильными струями брызгала из члена, я, ликуя, кусал вульву, хотел выхлебать ее, и глаза мои открылись, просветлели и увидели все.
Утром окрестности окутал густой туман. Из спальни я не мог различить ни березовую аллею, ни лес, ни даже край террасы. Я распахнул окно, снова услышал, как капли падают с крыши и далеко в лесу гнусавит сарыч. Я босиком спустился на первый этаж и вышел на террасу. Снег на плиточном полу холодил ноги, от свежего воздуха по коже побежали мурашки, я облокотился о каменные перила. Обернулся: фасад дома, продолжение парапета исчезли, растворились в дымке, у меня было ощущение, что я отделился от мира и плыву. Мое внимание привлекла фигура в заснеженном саду, которую я приметил накануне. Я нагнулся, чтобы лучше рассмотреть, ее наполовину обволакивал туман. Она снова напомнила мне труп, теперь уже труп девушки, повешенной в Харькове, лежавшей на снегу в Профсоюзном саду, грудь которой обглодали собаки. Я дрожал, кожа горела, холод сделал ее чрезвычайно чувствительной, голый бритый член, бодрящий воздух, окружавший меня туман – все это вызывало фантастическое чувство наготы, абсолютной, почти безобразной. Фигура исчезла, наверное, просто какая-то неровность земли, я и думать о ней забыл, прижался к перилам и дал волю рукам. Я едва заметил, как пальцы начали мять член, настолько мало это ощущение отличалось от тех, которые медленно снимали с меня кожу, обдирали мышцы и удаляли кости, оставляя только нечто, не имеющее названия. Оно, отражаясь, доставляло удовольствие самому себе, как идентичному, но в то же время слегка смещенному объекту, не противоположному, а смешавшемуся с противоположностями. Оргазм, как отдача при выстреле, откинул меня назад, я упал на занесенную снегом плитку террасы и лежал, оглушенный, дрожа всем телом. Я как будто различил чей-то силуэт в тумане, женскую фигуру, бродившую возле меня, расслышал крики вдалеке, но, вероятно, это я сам орал, хотя вместе с тем я осознавал, что все происходит в тишине, и ни один звук не сорвался с моих губ, не нарушил спокойствия серого утра. Фигура вышла из тумана и легла рядом со мной. Я на снегу промерз до костей. «Это мы, – шептал я в лабиринт ее маленького, круглого ушка, – это мы». Но фигура молчала, и я понимал, что это не «мы», а я, только я. Я вернулся в дом. Меня трясло, тяжело дыша, я катался по коврам, чтобы вытереться насухо. Потом спустился в погреб. Наугад вытаскивал бутылки вина, дул сверху, чихал от поднимавшихся облаков пыли, читал этикетки. Стылый, сырой запах погреба проникал в ноздри, мне было приятно ощущать подошвами ног ледяной, влажный, почти скользкий земляной пол. Я выбрал бутылку, откупорил ее штопором, висевшим на веревке, и стал пить из горла. Вино текло изо рта на подбородок и на грудь, я снова возбудился. Фигура теперь стояла за стеллажами и тихонько покачивалась, я предложил ей вина, но она не шевельнулась. Я лег на пол, она уселась верхом, и пока она мной пользовалась, продолжал хлебать из бутылки. Я плюнул в фигуру вином, но она не обратила на это внимания и не перестала скакать на мне. Раз от разу мой оргазм был более острым, болезненным, мучительным, отросшие крошечные щетинки раздражали кожу и член, и, когда возбуждение спало, под красной, сморщенной кожей выступили крупные зеленые вены и сетка маленьких фиолетовых. Однако я не унимался, бегал с громким топотом по дому, по спальням, по ванным комнатам, вызывал у себя эрекцию всеми мыслимыми способами, но не кончал, потому что уже не мог. Я играл в прятки, зная, что искать меня некому, я уже не отдавал себе отчета в действиях, просто тупо следовал импульсам тела, хотя мой разум оставался светлым и ясным. Чем больше я теребил свое тело, тем меньше оно мне служило, тем чаще превращалось в препятствие. Я старался хитростью одолеть эту толстокожесть, проклинал его, распалял, возбуждал, доводя до безумия, но возбуждение имело холодную, почти асексуальную форму. Я совершил массу непристойных, инфантильных поступков. В комнате прислуги я опустился на колени на узкой кровати и воткнул себе свечку в анус, с трудом зажег фитиль и крутился и так, и сяк, роняя капли горячего воска на задницу и обратную сторону мошонки, дрочил, уперев голову в железную раму кровати. Потом я на корточках срал в очко в темной клетушке, туалете для слуг. Бумагой я пользоваться не стал и мастурбировал, стоя на лестнице черного хода, терся грязной задницей о перила. От вони, ударившей в нос, меня повело, и, кончая, я чуть не полетел со ступенек кувырком, в последний момент удержал равновесие и расхохотался. Осмотрел следы дерьма на дереве, я тщательно вытер их кружевной салфеткой из гостевой комнаты. Я еле терпел собственные прикосновения, скрежетал зубами, смеялся, как сумасшедший, и заснул, растянувшись на полу в коридоре. Проснулся страшно голодным, сожрал все, что нашел, и выпил еще одну бутылку вина. Снаружи стелился туман, наверное, уже наступил день, но время определить было невозможно. Я отпер чердак, там было темно, пахло мускусом, на пыльном полу отпечатались мои следы. Я взял кожаный ремень, перекинул его через балку и приготовился показать фигуре, тихонько прокравшейся за мной, как я маленьким мальчиком вешался в лесу. Когда шею сдавило, член опять напрягся, а я испугался и, чтобы не удавиться, встал на цыпочки. Я дрочил, пока сперма не брызнула через чердак, и, кончая, всем весом повис на ремне, так что, если бы фигура меня не поддержала, точно задохнулся бы. Потом отцепился и упал в пыль. Фигура, словно маленький жадный зверек, на четвереньках обнюхала мой дряблый орган, задрала ногу, выставила на обозрение вульву, но от моих простертых рук увернулась. С фигурой я возбуждался медленно, и она накинула мне на шею один из ремней. Когда, наконец, член встал, она освободила мне шею, связала ноги и бросилась на меня. «Теперь ты сожми», – сказала она. Я сдавил ее шею большими пальцами, и фигура на корточках, ступни на полу, поднималась и приседала на мне. Ее дыхание с резким свистом вырывалось из губ, я сжал сильнее, ее лицо страшно надулось и побагровело, язык вывалился изо рта, она даже не могла хрипеть и, кончая, вцепившись ногтями в мои запястья, сходила под себя. Я вопил, ревел и бился головой об пол, бесился, рыдал, но не от отвращения, не потому, что эта женская фигура, упорно не хотевшая становиться моей сестрой, обоссала меня, нет, не потому. Я смотрел, как она, задыхаясь, кончала и писала, и видел повешенных в Харькове, при удушении мочившихся на прохожих. Я видел девушку, которую мы повесили в зимний день в парке за памятником Шевченко, молодую, здоровую, цветущую. Дошла ли она до оргазма, когда ее вздернули, и когда она наделала в трусы? Кончила ли, когда с петлей на шее, извивалась и дергала ногами? Кончала ли вообще, она ведь была слишком юная, пережила ли она это, прежде чем оказаться на виселице? Как мы посмели повесить девочку? Я рыдал и не мог остановиться, воспоминание о ней привело меня в совершенное отчаяние, моя Дева Мария Снежная. Тут не было угрызений совести, я их не испытывал и не считал себя виноватым. И не думал, что все могло или должно было развиваться по-другому, просто понимал, что значит повесить девочку: мы ее задушили, как мясник удавливает быка, бесстрастно, потому что того требовали обстоятельства, потому что она совершила глупость и заплатила за нее жизнью. Таковы правила игры, нашей игры. Но мы же повесили не свинью, не теленка, которых убивают, не задумываясь, чтобы потом съесть их мясо, а девушку. Возможно, маленькой девочкой она была счастлива, и вот теперь вступила в жизнь, в жизнь, полную убийц, и не сумела спастись, девушка, такая же, как моя сестра, может, тоже чья-то сестра, ведь и я чей-то брат. И подобная жестокость не имела названия, какой бы ни была реальная необходимость, она разрушала все. Если мы уж это сделали, казнили девушку, значит, мы на все способны. Больше нет гарантий. Моя сестра могла сегодня весело писать в туалете, а завтра облегчаться, болтаясь на веревке, что лишено было всякого смысла. Вот почему я плакал, я больше ничего не понимал и хотел быть один, чтобы ничего не понимать и дальше.
Я проснулся в кровати Уны. По-прежнему голый, но чистый, и ноги мои были свободны. Как я здесь очутился? Я не помнил совершенно. Печка погасла, и я замерз. Я, как идиот, тихонько бубнил под нос имя сестры: «Уна, Уна». Меня трясло от леденящей душу тишины, а может, просто от холода. Я встал. За окном занимался день, было облачно, но повсюду разливался красивый свет. Туман рассеялся, и я смотрел на лес, на еще согнутые под тяжестью снега ветки. На ум пришли абсурдные строки, старинная песня Гильома IX, сумасбродного герцога Аквитанского:
Я хотел создать стихи совсем не из чего ни о себе, ни о тебе, ни о любви, и ни о чем.Я поднялся и направился в угол комнаты, где кучей валялись мои вещи, надел брюки, натянул подтяжки на голые плечи. Проходя мимо зеркала, посмотрел на свое отражение: толстая красная полоса охватывала горло. Я спустился вниз, сгрыз на кухне яблоко, отпил пару глотков вина из открытой бутылки. Хлеб кончился. Я вышел на террасу, было по-прежнему холодно, я потер руки. Натруженный член болел, шерстяные брюки только усиливали раздражение. Я оглядел пальцы, предплечья, забавы ради попытался поддеть ногтем толстые голубые вены на запястье. Под ногти забилась грязь, ноготь на большом пальце левой руки сломался. На противоположной стороне дома, во дворе, каркали вороны. Воздух был бодрящий, колкий. Снег на земле подтаял, а потом опять покрылся твердой коркой. На террасе оставались четкие следы и оттиск моего тела. Я подошел к краю террасы, перегнулся через перила. В саду на снегу лежал труп женщины, полуголой, в распахнутом халате, оцепеневшей, голова наклонена, открытые глаза устремлены в небо. Кончик языка деликатно высовывался в уголке посиневших губ, между ног пробивался темный пушок, он все еще упорно продолжал расти. У меня перехватило дыхание: тело на снегу было зеркальным отражением мертвой девушки в Харькове. И тогда я понял, что тело этой девушки, свернутая шея, выступающий подбородок, ее замерзшие, обглоданные груди не являлось слепым отражением, как мне вначале показалось, одного образа, тут были две фигуры, слитые воедино и в то же время отдельные, одна стояла на террасе, другая распласталась внизу на снегу. Вы, наверное, подумали: ну, слава богу, эта история закончилась. Нет, она еще продолжается.
Жига
Томас нашел меня на краю террасы. Я сидел на стуле, глядел на лес, на небо и пил водку маленькими глотками из горлышка. Высокая балюстрада загораживала мне сад, но меня смутно терзала мысль о том, что я там увидел. Сколько дней пролетело, один или два? Не спрашивайте, как я их провел. Томас, наверное, обогнул дом сбоку. Я ничего не слышал, ни шума мотора, ни окрика. Я протянул ему бутылку: «За здоровье и братство. Пей». Конечно, я был немного пьян. Томас огляделся вокруг, сделал глоток, но бутылку мне не вернул. «Какого черта ты здесь делаешь?» – спросил он наконец. Я только глупо улыбнулся. Он кивнул на дом. «Ты один?» – «Думаю, да». Томас приблизился, пристально посмотрел на меня и повторил: «Какого черта ты здесь? Твой отпуск истек неделю назад. Гротман в ярости и грозится отдать тебя под трибунал за дезертирство. А сейчас военный трибунал длится пять минут». Я пожал плечами и потянулся к бутылке, которую Томас держал в руке. Он убрал руку. «А ты? Почему ты здесь?» – поинтересовался я. «Пионтек мне сказал, где ты. Он меня и привез. Я за тобой». – «Значит, пора возвращаться?» – грустно сказал я. «Да, иди одевайся». Я встал, поднялся на второй этаж. В спальне Уны вместо того, чтобы одеваться, я сел на кожаный диван и закурил. Думалось мне о ней с трудом, мысли тянулись пустые, вялые. Голос Томаса, раздавшийся на лестнице, заставил меня очнуться: «Поторопись, черт тебя подери!» Я одевался, не особо подбирая вещи, но и не бездумно, все-таки холода еще держались: длинное нижнее белье, шерстяные носки, свитер с горлом под форменный китель. На секретере валялось «Воспитание чувств», я сунул его в карман кителя. Потом принялся открывать окна, чтобы запереть ставни. В дверном проеме возник Томас: «Чем ты занимаешься?» – «Закрываю. Не оставлять же дом нараспашку». И тогда он дал волю своему плохому настроению: «Ты, похоже, не понимаешь, что происходит. В течение недели русские атакуют нас по всей линии фронта. Они могут явиться с минуты на минуту». Он бесцеремонно схватил меня за руку: «Давай, шевелись». В передней я вырвался, отыскал большой ключ от входной двери, напялил шинель, фуражку, вышел, тщательно запер замок. Во дворе перед домом Пионтек протирал фары «опеля». Он встал навытяжку, приветствуя меня, и мы сели в машину. Томас рядом с Пионтеком, я сзади. Трясясь на ухабах длинной аллеи, Томас спросил Пионтека: «Думаешь, проскочим через Темпельбург?» – «Не знаю, штандартенфюрер. Пока вроде спокойно, попробуем». На главной дороге Пионтек свернул налево. В Альт-Драхейме несколько семей еще грузили повозки, запряженные маленькими померанскими лошадками. «Опель» объехал старый форт и начал подниматься по длинному перешейку. На вершине показался мощный, приземистый танк. «Черт! – воскликнул Томас. – Т-34!» Но Пионтек уже затормозил и дал задний ход. Танк опустил пушку и выстрелил в нас, но не смог навести прицел так низко, снаряд пролетел над нами и взорвался возле дороги у деревни. Танк приближался с ужасным металлическим скрежетом гусениц. Пионтек быстро развернулся и помчался на всех скоростях в направлении деревни. Второй снаряд упал довольно близко, выбив левое боковое стекло, потом мы обогнули форт и оказались в безопасности. В деревне люди слышали взрывы и в ужасе носились туда-сюда. Мы проехали мимо, не останавливаясь, и погнали на север. «Не могли же они взять Темпельбург! – негодовал Томас. – Мы там были часа два назад!» – «Они, наверное, двигались в обход через поля», – предположил Пионтек. Томас изучал карту: «Ладно, езжай до Бад-Польцина. Разузнаем все на месте. Даже если Штаргард пал, доберемся до Шивельбейна-Наугарда, а потом до Штеттина». Я не прислушивался к его словам, любуясь пейзажем сквозь разбитое окно и выковыривая из рамы последние осколки. По обочинам длинного прямого шоссе росли высокие тополя, за ними расстилались заснеженные тихие поля, в сером небе кружила стая птиц, мелькали одинокие фермы, заколоченные, безмолвные. Через несколько километров, в Клаусхагене, чистой, унылой, благопристойной деревушке, дорогу между небольшим озерцом и лесом перегородили ополченцы в штатском с повязками «фольксштурма» на рукавах. Встревоженные крестьяне выспрашивали у нас новости. Томас посоветовал им ехать с семьями к Польцину, но они сомневались, теребили усы, поглаживали допотопные самопалы и два панцерфауста, которые им недавно выдали. Кое-кто прицепил к куртке награды за Мировую войну. Бойцы шупо в формах бутылочного зеленого цвета, стоявшие по бокам, тоже чувствовали себя не в своей тарелке. От страха люди говорили медленно, что придавало их речи торжественность, будто они выступали на собрании.
В окрестностях Бад-Польцина оборону организовали гораздо лучше. Дорогу охраняли ваффен-СС, а зенитная пушка, установленная на возвышенности, прикрывала подступы. Томас вышел из машины переговорить с унтерштурмфюрером, командовавшим частью, но тот никакой информации не имел и переадресовал нас к своему начальнику в штаб, расположенный в городе, в старом замке. Улицы были запружены грузовиками и повозками, физически ощущалась общая напряженность, матери кричали на детей, мужчины остервенело дергали лошадей за поводья, ругали наемных рабочих-французов, пригнанных на принудработы, грузивших матрасы и сумки с провизией. Я последовал за Томасом в штаб и слушал, стоя у него за спиной. Оберштурмфюрер тоже, увы, ничего особенного нам не сообщил. Его прислали сюда руководить операцией по защите позиций на ударных направлениях, а их подразделение присоединили к Х корпусу СС. Он считал, что русские придут с юга или востока, 2-я армия в районе Данцига и Готенхафена уже отрезана от Рейха, русские прорвались до Балтики на направлении Нойштеттин – Кёслин, в этом оберштурмфюрер практически не сомневался, но предполагал, что дороги на запад еще свободны. Мы двинулись на Шивельбейн. Шоссе с твердым покрытием наполовину заняли длинные повозки беженцев. Нескончаемый поток – то же грустное зрелище, что и месяцем раньше на автостраде Штеттин – Берлин. Медленно, со скоростью лошадиного шага, пустел восток Германии. Военной техники на дороге почти не было, но среди штатских шагало довольно много Rückkämpfer – солдат, и вооруженных, и без оружия, возвращавшихся в свои части или пытавшихся присоединиться к другим. Я замерз, в разбитое окно сильно дуло и мело снегом. Пионтек, сигналя, обгонял повозки; люди, лошади, скот, создававшие заторы, не спешили отойти в сторону. Дорога шла вдоль полей, потом снова через еловый лес. Вдруг повозки перед нами остановились, возникла паника, раздался жуткий шум, я сразу не разобрал, что это. Люди кричали и бежали к лесу. «Русские!» – завопил Пионтек. «Выскакиваем! Быстро!» – приказал Томас. Мы с Пионтеком выпрыгнули с левой стороны. Метрах в двухстах от нас показался танк, он быстро приближался, давя на своем пути повозки, лошадей, замешкавшихся беглецов. С Пионтеком и штатскими мы в ужасе со всех ног удирали в лес. Томас пересек колонну и несся с другой стороны. Повозки под гусеницами танка ломались, как спички. Душераздирающее ржание умирающих лошадей заглушал металлический лязг. Нашу машину танк протаранил в лоб, оттеснил назад, смял и с грохотом опрокинул на бок в канаву. Прямо перед собой я увидел солдата, вскарабкавшегося на броню, азиата с приплюснутым, черным от моторного масла лицом. В кожаном танкистском шлеме и маленьких дамских очках в шестиугольной оправе и с розовыми стеклами. В одной руке солдат держал большой автомат с круглым диском, а на плече – летний зонтик с гипюровой каймой. Расставив ноги, опершись на башню, он оседлал пушку, как верховое животное, и сохранял равновесие при любых толчках с ловкостью всадника-скифа, пятками управляющего низкорослым коньком. За первым танком следовали еще два, с тюфяками и пружинными матрасами, притороченными по бокам, и приканчивали покалеченных людей, копошащихся среди обломков. Все длилось не более десяти секунд, танки удалялись в сторону Бад-Польцина, за ними широкой полосой тянулся след – куски дерева в крови и каше из лошадиного мяса и кишок. По обе стороны дороги в снегу алели борозды: это раненые пытались отползти в укрытие. Здесь с воем извивался человек без ног, там валялись обезглавленные туловища, из отвратительного красного месива торчали руки. Я дрожал всем телом, Пионтек помог мне дойти до дороги. Люди вокруг вопили, метались, кое-кто, наоборот, от шока словно окаменел, дети беспрерывно истошно орали. Меня сразу догнал Томас, обшарил наш покореженный «опель», вытащил карту и маленькую сумку. «Дальше пешком», – сказал он. Я растерянно повел рукой: «А люди?..» – «Пусть сами о себе позаботятся, – отрезал Томас, – мы ничего не можем сделать. Идем». Он перевел меня через дорогу, Пионтек шел за нами. Я старался не наступить на человеческие останки, но кровь была всюду, и мои сапоги оставляли на снегу красные отпечатки. Под деревьями Томас развернул карту. «Ступай, поройся в повозках и найди что-нибудь поесть», – приказал он Пионтеку и принялся изучать маршрут. Когда Пионтек вернулся с продуктами, которые он запихал в наволочку, Томас показал нам карту Померании в крупном масштабе, с обозначенными дорогами и деревнями, но без специальных отметок. «Если русские пришли оттуда, получается, Шивельбейн они уже взяли и сейчас, видимо, продвигаются к Кольбергу. Мы пойдем на север, попробуем добраться до Бельгарда. Если наши еще там, хорошо, если нет, подумаем. Будем держаться подальше от дорог, так безопаснее. Танки прорвались быстро, значит, пехота пока далеко позади». Он ткнул пальцем в деревушку на карте, Гросс-Рамбин. «Вот железная дорога. Если русские еще не там, мы что-нибудь да отыщем».
Мы торопливо пересекли лес и пошли по полям. Снег таял на вспаханной земле, мы увязали чуть ли не до середины икр, на краю каждого участка пролегали канавки, полные воды, вдоль них тянулась колючая проволока, перебираться через которую было непросто. Потом мы кружили по узким раскисшим грунтовым дорогам. Воздух был морозный, и вокруг царили тишина и покой. Шагали мы уверенно, но выглядели мы с Томасом, наверное, смешно в своих черных формах, с брюками, заляпанными грязью. Пионтек нес провизию. У нас имелись только два табельных парабеллума. К вечеру мы добрались до возвышенности у Рамбина. Справа от нас протекала небольшая речка, мы сделали привал в рощице, среди буков и ясеней. Опять начался снег, ветер гнал нам в лицо мокрые, липкие хлопья. Слева, чуть дальше, виднелась железная дорога и первые дома. «Дождемся ночи», – сказал Томас. Я прислонился к дереву, подоткнув под себя полы шинели, Пионтек раздал нам яйца вкрутую и колбасу. «Хлеба я не нашел», – грустно констатировал он. Томас вынул из сумки конфискованную у меня бутылку водки, и каждый выпил почти по стакану. Небо потемнело, снег усилился. Я утомился и так и заснул у дерева. Меня разбудил Томас, шинель запорошило, я совершенно окоченел. Луна спряталась, в деревне не было ни огонька. Мы проскользнули по краю леса до железной дороги, потом крались друг за другом во мраке по склону. Томас вытащил пистолет, я тоже, не очень ясно представляя себе, как буду с ним управляться, если нас застигнут врасплох. Под нашими ногами скрипел занесенный снегом настил из гравия. Первые дома, темные, безмолвные, показались справа от путей рядом с широким прудом. На здании маленького вокзала висел замок. Пересекая город, мы держались железнодорожного полотна, потом убрали пистолеты и немного расслабились. Мы скользили, гравий разъезжался под сапогами, к тому же пролеты между шпалами не позволяли идти в нормальном темпе, наконец мы по очереди спустились с насыпи и побрели по нетронутому снегу. Чуть дальше пути опять терялись в густом сосновом лесу. Я страшно устал, мы шли уже несколько часов, в голове не было ни мыслей, ни образов, все усилия тратились на ходьбу. Я тяжело дышал и кроме поскрипывания мокрого снега под нашими сапогами и навязчивого ритма собственного дыхания не различал ничего. Через пару часов за соснами поднялась луна, еще не полная, пятна белого света падали на снег между деревьев. Еще чуть-чуть – мы доплелись до опушки леса. За широкой равниной в нескольких километрах от нас в небе плясали желтые огни, издалека доносился треск выстрелов и глухие взрывы. При луне на равнине явно различались черные полосы рельс, кусты и редкие рассредоточенные рощицы. «Бой, наверное, идет в окрестностях Бельгарда, – сказал Томас. – Поспим немного. Если сейчас двинемся вперед, подстрелят наши». Мне не улыбалось спать в снегу, и с помощью Пионтека я соорудил подстилку из валежника, свернулся на ней калачиком и заснул.
Меня разбудил грубый удар по сапогу. Еще не рассвело. Вокруг нас толпились какие-то фигуры, поблескивала сталь пулеметов. Послышался шепот: «Deutsche? Deutsche?» Я сел, человек отпрянул: «Извините, герр офицер», – говорил он, сильно коверкая слова. Я поднялся, Томас уже вскочил. «Вы немецкие солдаты?» – тоже не повышая голоса, спросил он. «Так точно, герр офицер». Мои глаза привыкли к темноте. На шинелях окружавших нас людей я заметил знаки различия СС и нашивки с синей, белой и красной полосками. «Я оберштурмбанфюрер СС», – сказал я по-французски. Один из них воскликнул: «Слышал, Роже, он знает французский!» Мне ответил его товарищ: «Извините, оберштурмбанфюрер. Мы в темноте вас не разглядели, приняли за дезертиров». – «Мы из СД, – добавил Томас, тоже по-французски, но со своим австрийским акцентом. – Русские отрезали нам путь, мы пытаемся соединиться с нашими линиями. А вы?» – «Штурмман Ланкенуа, третья рота, первый взвод, штандартенфюрер. Мы из дивизии „Шарлемань“, наш полк разделился». Их было человек десять. Ланкенуа, видимо главный у них, коротко объяснил ситуацию. Уже много часов назад им дали приказ оставить позиции и отступать к югу. Основная часть полка, к которой они пытались присоединиться, находилась, скорее всего, чуть дальше к востоку, ориентировочно у реки Персанты. «Нами командует оберфюрер Эдгар Пюо. В Бельгарде пока еще стоит вермахт, но обстановка накалена до предела». – «Почему вы не идете на север, к Кольбергу?» – сухо обрубил Томас. «Не знаем, штандартенфюрер. Ничего не понятно. Русаки повсюду». – «Дорога, наверное, перерезана», – поддержал другой голос. «Наши войска еще удерживают Кёрлин?» – «Неизвестно». – «А Кольберг?» – «Не знаем, штандартенфюрер. Никто ничего не знает». Томас попросил фонарик и с Ланкенуа и его солдатом принялся по карте изучать район. «Мы попытаемся пройти через север до Кёрлина или, по крайней мере, до Кольберга, – объявил в итоге Томас. – Вы хотите пойти с нами? Маленькими группками мы сможем просочиться через линии русских, если понадобится. Скорее всего, они заняли только дороги и несколько деревень». – «Нет, штандартенфюрер. Не потому, что мы не хотим, мы-то очень даже хотим. Но надо догнать товарищей». – «Как угодно». Томас взял у солдат автомат и патроны и поручил Пионтеку нести оружие. Небо постепенно бледнело, густой туман заполнил впадины на равнине и стелился до реки. Французские солдаты отсалютовали и скрылись в лесу. Томас обратился ко мне: «Мы воспользуемся туманом, чтобы обогнуть Бельгард. Живее. На другом берегу Персанты, между изгибом реки и шоссе, лес. Мы проберемся по нему до Кёрлина. А там посмотрим». Я молчал, сил больше не было. Мы вернулись обратно и пошли вдоль рельсов. Где-то впереди и справа раздавались взрывы. Если железная дорога пересекала шоссе, мы прятались, выжидали минут десять и совершали перебежку. Порой мы слышали металлическое звяканье пряжек на ремнях, котелков, фляжек, вооруженные люди проходили мимо нас в тумане. И мы, притаившись, ухо востро, ждали, когда они удалятся, и понятия не имели, наши это или враги. С юга, за спиной, тоже доносилась канонада. Впереди грохотало отчетливее, но бой, вероятно, заканчивался, уже слышались только одиночные выстрелы и очереди и всего пара взрывов. Не успели мы выйти к Персанте, как поднялся ветер и туман стал рассеиваться. Мы свернули в сторону от рельсов и спрятались в камышах, чтобы оглядеться. Железнодорожный мост взорван, покореженные обломки торчали из серых, плотных вод реки. Мы сидели в укрытии около четверти часа, туман почти рассеялся, на небе сверкало холодное солнце, позади, справа, горел Бельгард. Разрушенный мост, похоже, не охранялся. «Если быть осторожными, можно пройти по балкам», – прошептал Томас. Он встал, Пионтек за ним, с автоматом, взятым у французов, наготове. С берега переход показался нам легким, но, вступив на мост, мы поняли, что балки коварные, влажные и скользкие. Мы судорожно цеплялись за наружный настил, практически над самой водой. Томас и Пионтек справились благополучно. В нескольких метрах от берега мое внимание привлекло отражение в воде, мутное, искаженное рябью. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть его, нога соскользнула, и я полетел ему навстречу. Запутавшись в тяжелой шинели, я на мгновение погрузился в ледяную воду. Потом схватился рукой за металлическую перекладину, подтянулся и вылез на берег. Пионтек возвратился и вытащил меня за рукав, я лежал на земле, с меня стекала вода, я кашлял и злился. Томас смеялся, от чего я бесился еще больше. Фуражка, которую я сунул за ремень прежде, чем ступить на мост, была на месте, я снял сапоги, вылил воду, Пионтек помог мне худо-бедно отжать шинель. «Поторопитесь, нам нельзя здесь задерживаться», – шептал развеселившийся Томас. Я похлопал по карманам и нащупал книгу, про которую успел забыть. Сердце у меня заныло при виде покоробленных, пропитавшихся влагой страниц. Но делать было нечего, Томас подгонял меня, я положил книгу в карман, набросил мокрую шинель на плечи и зашагал вперед.
В сырой одежде я дрожал от холода, немного согревала меня лишь быстрая ходьба. Город позади нас горел, черный, густой дым заволок серое небо и закрыл солнце. Какое-то время нас преследовала дюжина голодных, одичавших собак, с ожесточенным лаем они кусали нас за пятки. Пионтек срезал палку, получив пару ударов, они отступили. Землю у реки развезло, снег почти весь растаял, лишь редкие пятна указывали сухие места. Сапоги тонули по щиколотку. Вдоль Персанты тянулась длинная, поросшая травой и покрытая снегом дамба. Справа, у подножья холма, трясина становилась еще глубже, потом начинались леса, тоже топкие. Вскоре мы оказались запертыми на дамбе, вокруг – ни души, ни немцев, ни русских. Впрочем, другие прошли здесь раньше нас: то там, то сям среди деревьев мы натыкались на труп, ногой или рукой запутавшийся в валежнике или лежащий лицом вниз на краю дамбы, солдат или штатский, очутившийся здесь на свою погибель. Небо прояснилось, лучи бледного солнца заканчивающейся зимы постепенно разогнали серую хмарь. По дамбе идти было легко, мы быстро продвигались вперед, Бельгард уже исчез из вида. По коричневым водам Персанты плавали утки, некоторые с зелеными головками, другие черно-белые, при нашем приближении они внезапно оторвались от речной глади, издавая жалобные трубные звуки, и перелетели чуть дальше. Напротив, за прибрежной полосой расстилался темный, высокий сосновый лес. Справа за небольшим водоотводным рвом росли в основном березы и дубы. Вдали послышался гул, над нами на огромной высоте в светло-зеленом небе кружил одинокий самолет. Появление штурмовика встревожило Томаса, он увлек нас к каналу, который мы перебежали по поваленному стволу и укрылись под деревьями, но здесь твердая земля исчезла под водой. Мы пошли по лугу, густая, длинная трава размокла и полегла. За лугом опять все затоплено, крошечный охотничий домик, запертый на замок, окружала вода. Снег в этих местах полностью растаял. Жаться к деревьям было бесполезно, сапоги погружались в жидкую грязь, под настилом мокрой гнилой листвы прятались рытвины. Иногда, встречая островки твердой земли, мы приободрялись. Еще чуть дальше дорога стала совсем непроходимой. Деревья стояли на кочках или прямо в воде, узкие языки земли между водными пространствами были тоже затоплены, мы в отчаянии шлепали вперед, понимая, что надо возвращаться на дамбу. Наконец она снова открылась среди полей, сырых и еще заснеженных, по которым можно было идти. Потом мы добрались до леса с корабельными соснами, тонкими, прямыми, высокими, с красными стволами. Солнце пробивалось сквозь деревья, разбрасывая пятна света на темной, почти голой земле с редкими бляшками снега или холодного, зеленого мха. Путь нам преграждали срубленные и брошенные деревья и сломанные ветки, но по черной, развороченной колесами повозок грязи, по извилистым дорогам, проложенным в бору дровосеками, идти было гораздо сложнее. Я задыхался, да и проголодался тоже, Томас наконец согласился сделать привал. В движении я согрелся, одежда на разгоряченном теле почти высохла. Я снял шинель, пиджак, сапоги и брюки и развесил их на солнце на штабелях сосновых бревен, аккуратно сложенных квадратом у обочины дороги. Я и Флобера вынул, чтобы просушить покоробившиеся страницы, а сам, нелепый в длинном нижнем белье, залез на соседний штабель. Через несколько минут я замерз, и Томас со смехом протянул мне свою шинель. Пионтек раздал еду, мы перекусили. Я изнемогал от усталости, мне хотелось прилечь на шинель под неярким солнышком и уснуть. Но Томас настаивал, чтобы мы шли к Кёрлину, и рассчитывал оказаться в Кольберге сегодня же. Я опять надел влажную одежду, сунул в карман Флобера и побрел за остальными. Рядом с лесом мы увидели деревушку, приютившуюся в излучине реки. Чтобы ее обогнуть, нам потребовалось бы сделать огромный крюк. Слышался только лай собак, лошадиное ржание и протяжное, жалобное мычание недоенных коров – никаких других звуков. Томас решил подойти. Перед нами были большие старые, обветшавшие фермерские дома из кирпича и просторные амбары под широкими крышами, двери выбиты, на дороге валялись перевернутые повозки, сломанная мебель, разорванные простыни. Мы перешагивали то через труп крестьянина, то старухи, расстрелянных в упор. По улочкам гуляла странная метель: ветер гонял пух из вспоротых одеял и матрасов. Томас послал Пионтека поискать еды и, пока мы ждали, перевел мне надпись, наспех намалеванную по-русски на табличке, висевшей на шее крестьянина, которого привязали на приличной высоте к дубу, кишки, вытекшие из раны на животе, уже наполовину съели собаки. «У тебя был дом, коровы, консервы в банках. Какого черта ты приперся к нам, придурок?» Меня затошнило от запаха требухи, и жажда мучила, я напился из еще работавшей помпы колодца. К нам присоединился Пионтек, он раздобыл сала, луку, яблок и консервов, мы распределили все по карманам. Челюсть у Пионтека тряслась, он был мертвенно бледен и отказался рассказывать о том, что увидел в доме, только переводил испуганный взгляд с мертвеца со вспоротым животом на рычащих собак, двигавшихся на нас сквозь кружившийся пух. Мы поспешно покинули деревню. За ней тянулись широкие волнистые поля, желтоватые и коричневые под еще крепким снегом. Дорога огибала небольшой приток, взбиралась на гребень, шла под стоявшей на краю леса фермой, зажиточной, а теперь опустевшей, и опять спускалась к Персанте. Мы шагали по довольно высокому берегу, на противоположной стороне чернели леса. Путь нам перегородил ручей, мы сняли сапоги, носки и двинулись вброд, вода была ледяная, прежде чем идти, я немножко попил и смочил шею. И снова перед нами лежали заснеженные поля, а далеко справа на возвышенности виднелась кромка леса. Томас хотел срезать путь по полям, но на бездорожье мы совсем выбились из сил, земля оказалась коварной, да еще приходилось перелезать через ограждения из колючей проволоки, и мы чуть погодя опять отступили к реке. По воде скользила пара лебедей, наше присутствие их совершенно не встревожило. Птицы причалили к островку, встали, грациозно вытянули длиннющие прекрасные шеи и принялись чистить перья. Снова начался лес, сосны, в основном молодые деревья, заботливо выращенные для вырубки, бор, полный воздуха и света. Здесь идти было легче. Дважды шум наших шагов вспугивал небольших ланей, мы заметили, как они прыгали между деревьями. Томас заставлял нас блуждать разными тропками под высоким спокойным сводом, но постоянно выводил к Персанте, нашей путеводной нити. Одна тропинка перерезала невысокий дубовый лесок, запутанный плетеный серый узор из побегов и голых веток. Землю под снегом устилал ковер сухих коричневых листьев. Мы приближались к Кёрлину, ноги у меня затекли, спина болела, но дороги пока еще были вполне проходимыми.
В Кёрлине шел ожесточенный бой. Притаившись на опушке леса, мы смотрели, как русские танки, рассредоточенные на дороге, с небольшой возвышенности беспрерывно обстреливают немецкие позиции. Пехотинцы бежали рядом с танками, прыгали во рвы. Снег и черноватую землю усеивало множество коричневых точек, трупы. Мы осторожно отступили в лес. Чуть выше обнаружили нетронутый каменный мостик через Персанту, вернулись, перебрались на другой берег и, прячась в буковой роще, проскользнули к основной трассе на Плате. В лесах тоже везде валялись тела, русские и немцы вперемешку, – останки тех, что бились здесь не на жизнь, а на смерть. У многих немецких солдат я заметил французские нашивки. Теперь все стихло. Обшарив карманы, мы нашли несколько полезных вещей: ножи, компас, вяленую рыбу в вещмешке у русского. Внизу советские бронетранспортеры на полной скорости катили к Кёрлину. Томас решил дожидаться ночи, а потом попытаться пересечь шоссе, чтобы узнать, кто занимает дорогу на Кольберг, наши или русские. Я устроился в кустах спиной к дороге, выпил водки, закусывая луковицей, достал из кармана «Воспитание чувств» во вздувшемся и полностью деформированном переплете, аккуратно расклеил несколько страниц и принялся читать. Длинный, спокойный поток прозы быстро увлек меня, я больше не слышал ни скрежета гусениц, ни грохота моторов, ни несуразных криков русских: «Давай! Давай!», ни отдаленных взрывов. Чтению мешали только слипшиеся и покоробившиеся страницы. Стемнело, и я с сожалением закрыл книгу. Мы с Пионтеком немного поспали, а Томас сидел и вглядывался в лес. Проснулся я под толстым слоем пушистого снега, крупные снежинки кружились между деревьями и ложились на землю. По шоссе время от времени проезжал танк, свет фар пронизывал снежные вихри, и больше ничто не нарушало тишину. Мы прокрались к дороге и стали выжидать. Со стороны Кёрлина все еще раздавались выстрелы. Показались два танка, за ними грузовик, «студебеккер» с красной звездой. Как только они проехали, мы перебежали шоссе, скатились под откос и помчались в лес. Через несколько километров пришлось повторить этот маневр, чтобы пересечь небольшую дорогу на соседнюю деревню Гросс-Йестин; там путь тоже был заблокирован танками и машинами. Пока мы шли по полям, нас скрывал плотный снег, ветра не было, и он падал почти вертикально, приглушая звуки, взрывы, шум моторов, крики. Заслышав металлический лязг или громкие голоса русских, мы быстро ложились в ближайшую канаву или за кустарник. Патруль проходил мимо в двух шагах, не замечая нас. В конце концов мы снова вышли к Персанте. Шоссе на Кольберг проходило за ней, и мы брели вдоль реки к северу, пока Томас не отыскал в камышах лодку, правда, без весел. Взамен их Пионтек срезал длинные палки, и мы благополучно перебрались на другой берег. На шоссе царило оживленное движение в двух направлениях. Русские транспортеры и грузовики ехали с зажженными фарами, как по автостраде. Длинная колонна танков катила к Кольбергу. Зрелище было феерическое, каждый танк украшали кружева, большие белые скатерти, привязанные к пушкам и орудийным башням, развевались по бокам, и в снежных вихрях, подсвеченных фарами, грохочущие, темные машины казались легкими, почти невесомыми, они словно плыли по дороге сквозь снег, сливавшийся с их парусами. Мы медленно отошли обратно в лес. «Переберемся назад через Персанту, – встревожено шептал Томас. – О Кольберге можно забыть. Надо, конечно, идти до Одера». Но лодки мы не нашли и тащились довольно долго, прежде чем обнаружили брод, который определили по кольям и подобию пешеходного мостика, натянутого под водой, рядом, зацепившись за него ногой, плавал на животе труп французского солдата ваффен-СС. Холодная вода поднималась до бедер, я держал книгу в руках, чтобы уберечь ее от очередного купания. Крупные снежинки падали на воду и тут же таяли. Мы, все трое, уснули в хижине лесника в чаще леса, даже не позаботившись о карауле, сапоги мы сняли, но брюки не просохли ни за ночь, ни даже утром. Мы шли уже почти тридцать шесть часов и изнемогали от усталости, но идти нам предстояло еще долго.
Ночью мы двигались вперед, а днем прятались в лесу, я спал или читал Флобера и со своими спутниками разговаривал мало. Во мне накипала бессильная злоба. Я не понимал, зачем покинул дом у Альт-Драхейма, сердился, что меня выманили оттуда, и теперь я, как дикарь, вынужден бродить по лесам, вместо того, чтобы жить спокойно. Наши лица заросли бородами, форма задубела от высохшей грязи, ноги под корявой материей сводило судорогой. Питались мы кое-как – только тем, что удавалось найти на брошенных фермах или объедками, которые выкидывали беженцы. Я не жаловался, но сырое сало мне казалось отвратительным: без хлеба долго не удавалось избавиться от ощущения, что весь рот покрыт жиром. Мы постоянно мерзли, но огня не разжигали. Раньше я любил здешнюю важную, умиротворенную деревню, приветливую тишину березовых рощ и корабельных сосен, серое небо, волнуемое легким ветерком, приглушенный скрип последнего в году снега. Теперь она была мертвая, необитаемая, пустые поля, пустые фермы. Повсюду видны были ужасные следы войны. Все крупные населенные пункты, которые мы ночью обходили стороной, заняли русские. Еще на подступах в темноте мы слышали, как пьяные солдаты поют и стреляют в воздух. Иногда в деревнях оставались немцы, среди брани и восклицаний русских мы различали их испуганные, смиренные голоса, часто раздавались крики, в основном кричали женщины. Но даже это было во сто крат лучше, чем сожженные деревни, куда нас толкал голод. На улицах разлагалась дохлая скотина, от домов несло гарью и трупным запахом, в поисках еды мы проникали внутрь и неизбежно натыкались на изуродованные, часто обнаженные тела женщин, даже старух и десятилетних девчонок с пятнами крови между ног. Впрочем, и в лесу нам то и дело попадались мертвецы. На перекрестках на мощных ветвях столетних дубов гроздьями висели трупы – чаще всего ополченцы, несчастные жертвы чересчур усердных фельджандармов. Опушки были усеяны трупами, один молодой человек, голый, лежал на снегу с подогнутой ногой, безмятежный, как Повешенный на XII карте Таро, пугающий своей странностью. Светлые воды в лесных озерцах тоже осквернены были трупами, и мы проходили мимо, страдая от жажды. В тех лесах и рощах мы встречали и живых, обезумевших от страха штатских, неспособных сообщить нам никакой информации, и солдат, поодиночке и небольшими группами пытавшихся, как и мы, пробраться через линии русских. Ни солдаты ваффен-СС, ни солдаты вермахта не соглашались идти с нами, видно, боялись попасть в плен вместе с офицерами СС высшего звена. Это заставило Томаса задуматься. Он настоял, чтобы мы уничтожили военные билеты и прочие документы и сорвали погоны, на случай, если мы все же попадем в лапы русским. При этом, опасаясь фельджандармов, решил – довольно нелогично – не снимать нашей красивой черной формы, не слишком уместной в данных обстоятельствах. Все решения он принимал единолично, а я соглашался без лишних размышлений, отчужденный от всего, кроме того, что прямо бросалось в глаза в течение нашего долгого похода.
Но если что-то вызывало во мне реакцию, было еще хуже. На вторую ночь после Кёрлина на рассвете мы вошли в небольшой поселок, несколько усадеб вокруг замка. Чуть в стороне возвышалась кирпичная кирха с остроконечной колокольней и серой черепичной крышей. Из открытой двери доносилась органная музыка. Пионтек с Томасом отправились обшаривать кухни. Я переступил порог церкви. Рядом с алтарем старик играл «Искусство фуги», по-моему, третий контрапункт, с красивыми раскатами басов, которые на органе исполняют на педальной клавиатуре. Я приблизился, сел на скамью и слушал. Старик завершил пассаж и обернулся ко мне, – монокль, седые, аккуратно подстриженные усики, форма оберстлейтенанта прошлой войны и крест за заслуги на шее. «Они все могут разрушить, – спокойно сказал он, – но не это. Это уничтожить невозможно, музыка будет жить вечно, даже когда я закончу играть». Я молчал, старик начал следующий контрапункт. Появился Томас. Он не садился, я тоже встал. Музыка была восхитительна, орган не обладал особой мощностью, но в маленькой семейной кирхе звучал превосходно, линии контрапунктов пересекались, играли и танцевали друг с другом. Однако, вместо того чтобы умиротворять, музыка разжигала во мне злобу, и это было невыносимо. Я ни о чем не думал, в голове звучала музыка, а злоба давила до черноты в глазах. Я хотел крикнуть старику, чтобы он прекратил, но решил дождаться конца отрывка, а старик сразу приступил к следующему, пятому. Длинные аристократические пальцы летали по клавишам, выдвигали и задвигали регистровые рукоятки. Он доиграл фугу и закрыл их резким ударом, я вытащил пистолет и выстрелил ему в голову. Старик рухнул на клавиши, половина труб органа открылись и заревели уныло и нестройно. Я убрал пистолет, подошел и потянул старика назад за воротник. Звуки смолкли, только кровь капала на плитку пола. «Ты совсем спятил! – прошипел Томас. – Что тебе на ум взбрело?» Я холодно посмотрел на него, побледнел, отвечал отрывисто, но голос у меня не дрожал: «Из-за таких вот продажных юнкеров Германия терпит поражение в войне. Национал-социализм гибнет, а они играют Баха. Надо это запретить». Томас вытаращил на меня глаза, не зная, что ответить, потом пожал плечами: «Может, ты и прав. Но лучше давай без фокусов. Пойдем». На широком дворе стоял Пионтек, он перепугался, услышав выстрел, и держал автомат наготове. Я предложил отдохнуть в замке на настоящих кроватях с простынями, но Томас, похоже сердившийся на меня, сказал, что мы поспим в лесу, я думаю, мне назло. Я решил сдержать раздражение, ведь как-никак он был моим другом, и без возражений последовал за ним.
Погода резко изменилась, стала мягче, холода отступили, и сразу потеплело, я сильно потел в шинели, жирная земля на полях прилипала к ногам. Мы держались севернее дороги на Плате и незаметно, избегая открытых пространств, пробираясь лесами, еще больше отклонились на север. Мы предполагали перебраться через Регу в районе Грейфенберга, но очутились возле Трептова, меньше чем в десяти километрах от моря. По карте Томаса между Трептовом и устьем весь левый берег был болотистым, но вдоль моря тянулся большой лес, и под его покровом мы могли дойти до Хорста или Реваля. Если эти приморские курорты еще принадлежали немцам, мы смогли бы перейти линию фронта, а если нет, вернулись бы в глубокие тылы. Той ночью мы переправились через железную дорогу, связывавшую Трептов с Кольбергом, потом почти час пережидали колонну русских, следовавшую по шоссе на Дееп. Перейдя шоссе, мы оказались практически на виду, деревень в округе не было, мы приближались к Реге по незаметным дорожкам в ее излучине. В темноте перед нами появился лес, огромная черная преграда на фоне светлой стены ночи. Мы уже чуяли запах моря. И совершенно не представляли, как переправиться через реку, ближе к устью ставшую довольно широкой. Тем не менее назад мы не повернули и шагали к Деепу. Обогнув город, где спали, пили и пели русские, мы спустились к площадке с пляжным оборудованием. Советский патрульный дрых в шезлонге, Томас ударил его металлической ручкой пляжного зонта. Шум прибоя заглушал все звуки. Пионтек взломал цепь, скреплявшую водные велосипеды. Ледяной ветер с запада поднимал на море высокие черные волны, но мы протащили велосипед по песку до самого устья реки, там было спокойнее, и, ощутив внезапную радость, я отдался на волю волн. Крутил педали и вспоминал о летних каникулах на пляжах Антиба или Жуан-ле-Пена, когда мы с сестрой, умолив Моро взять напрокат водный велосипед, уплывали в море, насколько хватало сил наших маленьких ног, и совершенно счастливые плыли навстречу солнцу. Мы двигались достаточно быстро, я и Томас крутили изо всей мочи педали, а Пионтек, лежавший между нами с автоматом в руках, не сводил глаз с пляжа. На другом берегу, где я не без сожаления расстался с нашим велосипедом, мы сразу же очутились в лесу. Разнообразные низкорослые деревья искривились от ветра, без перерыва подметавшего длинное унылое побережье. Тропинок практически не было, мы продирались сквозь молодую поросль, заполонившую землю между деревьями. Лес простирался до песчаного пляжа и возвышался над морем, прямо возле огромных дюн, отступавших под напором ветра к деревьям и засыпáвших стволы до середины. За этим барьером, не смолкая ни на секунду, шумело невидимое море. Мы шли до рассвета, а когда небо посветлело, Томас влез на дюну, чтобы оглядеться. Я за ним. По холодному бледному песку тянулась бесконечная полоса обломков и трупов, искореженных машин, брошенных артиллерийских орудий, перевернутых и поломанных повозок. Мертвецы лежали там, где их сразила пуля, на песке или головой в воде, наполовину покрытые белой пеной, другие плавали вблизи, покачиваясь на волнах. Морская вода унылого серо-зеленого цвета казалась тяжелой, почти грязной в сравнении со светло-бежевым песком. Крупные чайки кружили над самым песком или повисали в потоках воздуха над ревущими волнами, против ветра, чтобы затем уверенным взмахом крыльев изменить направление и исчезнуть. Мы сбежали с дюны вниз и принялись поспешно ощупывать трупы в поисках съестного. Среди мертвых были и солдаты, и женщины, и маленькие дети. Ничего не найдя, мы помчались обратно. Мне очень хотелось поспать за дюной на холодном твердом песке, но Томас боялся патрулей и потащил нас глубже в лес. Я проспал несколько часов на сосновых иголках и до вечера читал свою помятую книгу, обманывая голод описаниями пышных пиров буржуазной монархии, пока Томас не дал сигнал трогаться. Через два часа мы добрались до края леса, огибавшего небольшое озеро, отделенное от Балтики серой песчаной косой с прелестными брошенными домиками. Коса мягко спускалась к морю, образуя длинный пляж, теперь заваленный мусором. Мы проскальзывали от дома к дому, не выпуская из виду дороги и пляж. Хорст, старый курорт, в свое время очень популярный, в последние годы принимавший инвалидов и раненых на реабилитации, находился совсем рядом. На берегу громоздились обломки машин и множество трупов, здесь явно развернулся ожесточенный бой. Вдалеке мелькали огни, гудели моторы – по всей видимости, это были русские. Мы миновали озеро; судя по карте, до острова Воллин нам оставалось не более двадцати-двадцати двух километров. В одном из домов мы обнаружили немецкого солдата, раненного в живот осколком шрапнели. Он притаился под лестницей, но, услышав, как мы шепчемся, подал голос. Томас и Пионтек зажали ему рот, чтобы не кричал, и перенесли на вспоротую софу. Солдат хотел пить, Томас смочил тряпку и несколько раз приложил к его губам. Бедняга скрывался здесь уже много дней, мы еле разбирали то, что он пытался сказать, задыхаясь и хрипя. Остатки нескольких дивизий и десятки тысяч штатских под их руководством образовали в Хорсте, Ревале и Хоффе очаг сопротивления; он с остатками их полка пришел сюда из Драмбурга. Потом они пытались прорвать оборону на направлении к Воллину. Русские заняли позиции на скалах над берегом и методично отстреливали толпы отчаявшихся людей, проходивших мимо них внизу. «Настоящая стрельба по голубям». Этого солдата ранило почти сразу, товарищи его бросили. Днем на берегу сновали русские, обворовывали мертвых. Он знал, что большевики взяли Каммин и, конечно же, контролируют весь залив Гафф. «Область, наверное, кишмя кишит патрулями, – отозвался Томас. – Красные ищут выживших при наступлении». Солдат продолжал бормотать, стонал, пот тек с него градом. Он требовал воды, но мы не дали, иначе взвыл бы от боли, и сигарет у нас не было, чтобы его угостить. Перед нашим уходом он попросил пистолет, я оставил ему свой и остатки водки. Он обещал пока не стрелять, выждать, когда мы будем далеко. Мы взяли курс на юг. За Гросс-Юстином и Цицмаром простирался лес. На шоссе движение не прекращалось, американские джипы и «студебеккеры» с красными звездами, мотоциклы, танки. Дороги теперь контролировали пешие патрули по пять-шесть человек, и требовалось предельное внимание, чтобы не столкнуться с ними. В десяти километрах от берега на полях и в лесах снег еще не растаял. Мы направлялись к Гюльцову, на запад от Грейфенберга. Затем, объяснил Томас, мы попытаемся пересечь Одер около Гольнова. Незадолго до рассвета мы нашли в лесу хижину, но, заметив вокруг нее следы сапог, свернули с дороги и, закутавшись в шинели, легли спать на снегу в соснах рядом с опушкой.
Проснулся я в толпе детей. Они взяли меня, Томаса и Пионтека в кольцо и молча разглядывали нас. Все в лохмотьях, грязные, со спутанными волосами, на многих атрибуты немецкой формы, кители, каски, грубо обкромсанные шинели. Кое-кто вооружился сельскохозяйственным инвентарем, мотыгами, граблями, лопатами, другие – винтовками и самодельными автоматами. Взгляд недетский, твердый и угрожающий, хотя большинству было лет десять-тринадцать, а кое-кому не исполнилось и шести. За спинами мальчишек держались девочки. Мы поднялись, и Томас вежливо поздоровался. Самый старший, тощий белобрысый парень, в шинели штабного офицера с красными бархатными отворотами, надетой поверх черной танкистской куртки, шагнул вперед и рявкнул: «Вы кто?» Он говорил по-немецки с явным акцентом фольксдойче из Рутении [97] или, может, даже из Баната [98]. «Мы немецкие офицеры, – с расстановкой ответил Томас. – А вы?» – «Боевая группа „Адам“. Генерал-майор Адам – это я, а это моя команда». Пионтек прыснул со смеху. «Мы из СС», – сказал Томас. «Где ваши погоны? – парень сплюнул. – Вы – дезертиры!» Пионтек перестал смеяться. Томас сохранял хладнокровие: «Мы не дезертиры. Мы были вынуждены оторвать погоны, есть опасность попасть в лапы большевиков». – «Штандартенфюрер! – крикнул Пионтек. – Чего вы разговариваете с сопляками? Вы не видите, они чокнутые? Задать им хорошую трепку!» – «Пионтек, замолчи», – велел Томас. Я под пристальными, фанатичными взглядами детей впал в оцепенение. «Нет уж, я им сейчас покажу!» – заорал Пионтек, вынимая из-за спины автомат. Парень в офицерском пальто подал знак, и полдюжины мальчишек кинулись на Пионтека, стали колошматить его лопатами и таскать по земле. Один замахнулся мотыгой и ударил Пионтека по щеке, выбив ему зубы, потом из орбиты вылетел глаз. Пионтек истошно вопил, но удар дубинкой, размозживший ему лоб, заставил его замолчать. Дети продолжали бить, пока голова Пионтека не превратилась в красное месиво. Меня охватила паника, а у Томаса ни один мускул не дрогнул. Когда дети отпустили труп, старший крикнул еще раз: «Вы – дезертиры, и мы вас повесим как предателей!» – «Мы не дезертиры, – холодно повторил Томас. – Мы выполняем специальное поручение фюрера в тылу у русских, а вы только что убили нашего шофера». – «Где ваши документы, чтобы доказать это?» – настаивал мальчик. «Мы их уничтожили. Если бы русские взяли нас в плен, они бы догадались, кто мы, нас бы пытали и заставили говорить». – «Докажите!» – «Проводите нас до немецких линий и убедитесь». – «Нам больше заняться нечем, кроме как сопровождать дезертиров, – прошипел парень. – Я позвоню начальству». – «Как угодно», – спокойно отреагировал Томас. Сквозь толпу протиснулся мальчонка лет восьми с коробкой на плече. Ко дну ящика от боеприпасов с русской маркировкой были привинчены болтики и вбиты кружки из цветного картона. Сбоку свисала консервная банка, соединенная с ящиком проводом, длинный металлический стержень, антенна, держался на креплении, на шее у мальчишки болтались настоящие наушники связиста. Он нацепил наушники, водрузил ящик на колени, повертел цветные кружки, потеребил провода, поднес консервную банку к губам и громко несколько раз повторил: «Боевая группа „Адам“ вызывает командный пункт! Боевая группа „Адам“ вызывает командный пункт! Ответьте!» Потом высвободил ухо из огромных, явно ему не по размеру, наушников. «Они на линии, герр генерал-майор, – отрапортовал он белобрысому. – Что я должен сказать?» Старший обратился к Томасу: «Ваше имя и звание!» – «Штандартенфюрер СС Хаузер, прикреплен к полиции безопасности». Парень повернулся к малышу: «Спроси, подтверждают ли они задание штандартенфюрера Хаузера из зипо». Мальчуган повторил сообщение в консервную банку, подождал и потом заявил: «Они ничего не знают, герр генерал-майор». – «Неудивительно, – возразил Томас с потрясающей невозмутимостью. – Мы напрямую подчиняемся фюреру. Дайте мне позвонить в Берлин, и он подтвердит вам все лично». – «Лично?» – со странным блеском в глазах переспросил командовавший группой парень. «Лично», – уверил Томас. Я окаменел, от смелости Томаса у меня кровь в жилах стыла. Белобрысый кивнул, малыш снял наушники и протянул их вместе с консервной банкой Томасу. «Говорите. И в конце всегда добавляйте: „Прием“». Томас прижал наушники к уху, взял банку и заладил: «Берлин! Берлин! Хаузер вызывает Берлин. Отвечайте». Потом произнес: «Штандартенфюрер Хаузер, по особому поручению, с докладом. Мне надо поговорить с фюрером. Прием… Да, я подожду. Прием». Дети вытаращились на Томаса, челюсть назвавшегося Адамом слегка тряслась. Томас вытянулся по стойке смирно, щелкнул каблуками и крикнул в консервную банку: «Хайль Гитлер! Штандартенфюрер Хаузер из гестапо на проводе, господин фюрер! Прием». И продолжил после паузы: «Мы с оберштурмбанфюрером Ауэ возвращаемся со специального задания, мой фюрер! Мы встретили боевую группу „Адам“ и просим подтвердить нашу миссию и наши личности. Прием». Он помолчал, потом сказал: «Есть, мой фюрер. Sieg Heil!» И протянул банку и наушники парню в офицерской шинели. «Он хочет говорить с вами, герр генерал-майор». – «Это фюрер?» – голос его звучал глухо. «Да. Не бойтесь. Он добрый человек». Мальчик медленно принял наушники, надел их, выпрямился в струнку, вскинул руку в салюте и заорал: «Хайль Гитлер! Генерал-майор Адам в вашем распоряжении, мой фюрер! Прием!» И дальше: «Есть, мой фюрер! Слушаюсь, так точно! Зиг Хайль!» Когда он отдавал наушники малышу, в его глазах стояли слезы. «Это был фюрер, – торжественно объявил он. – Фюрер подтверждает вашу миссию и личности. Сожалею, что так получилось с шофером, но он сделал неудачное движение, мы же не знали, что у него на уме. Моя группа к вашим услугам. Что мы можем для вас сделать?» – «Мы должны целыми и невредимыми добраться до наших линий, чтобы передать секретную, жизненно важную для Рейха информацию. Вы можете нам помочь?» Парень отошел в сторону, посовещался со своими дружками. Вернулся: «Хотя мы проникли в сосредоточение большевистских сил, чтобы уничтожить их, мы можем проводить вас до Одера. На юге есть лес, проскользнем под носом у этих скотов. Мы вам поможем».
И вот мы, бросив тело бедного Пионтека, тронулись в путь с ордой оборвышей. Томас тащил автомат, я – мешок с едой. В группе насчитывалось около шестидесяти мальчишек и десяток девочек. Большинство, как мы поняли позже, оказались сиротами, кто из области Замостья, кто-то даже из Галиции или окрестностей Одессы. Они месяцами блуждали за линиями русских, питались чем придется, принимали других детей, безжалостно убивали и русских, и тех немцев, которых считали дезертирами. Как и мы, они шли ночью и отдыхали днем, хоронясь в лесах. По дороге двигались в военном порядке, впереди звено разведчиков, потом основная часть группы, девочки в середине. Мы дважды видели, как они, разбившись на маленькие группки, убивают спящих русских. Первый раз это было легко: солдаты напились водки на ферме, дети всех передушили или зарубили во сне. Во второй раз один мальчишка проломил караульному голову камнем, а другие кинулись на тех, кто храпел у костра рядом со сломавшимся грузовиком. Любопытно, что они никогда не брали у русских оружие. «Наши немецкие винтовки самые лучшие», – объяснил Адам. Как-то мы оказались свидетелями их нападения на патруль, неслыханного по коварству и жестокости. Разведчики обнаружили небольшое соединение и сообщили группе, человек двадцать мальчиков пошли по шоссе к русским с криками: «Русские! Давай! Хлеб, хлеб!», остальные спрятались в лесу. Русские, ничего не подозревая, позволили бродяжкам подойти, некоторые даже смеялись и доставали из котомок хлеб. Дети окружили солдат, а потом набросились на них с лопатами и ножами, устроив неистовое побоище. Я видел, как семилетний малыш вскарабкался на спину русскому и воткнул ему в глаз длинный гвоздь. Тем не менее двое солдат, прежде чем их убили, успели дать очередь. Троих детей расстреляли в упор, пятерых ранили. После стычки выжившие, залитые кровью мальчики принесли в лагерь пострадавших, те плакали и выли от боли. Адам отдал честь своим бойцам и сам прикончил раненных в ноги или в живот, двоих, более везучих, поручил девочкам. Мы с Томасом тоже пытались худо-бедно промыть и перевязать лоскутами рубашек их раны. Друг с другом дети обращались так же жестоко, как со взрослыми. На привалах мы имели удовольствие наблюдать за ними. Адаму прислуживала одна из девочек-подростков, которую потом он поволок в лес. Мальчишки дрались за кусок хлеба или колбасы, малыши крали еду из сумок и пускались наутек, а старшие раздавали им пинки и даже охаживали лопатой. Потом двое или трое парней хватали какую-нибудь девочку за волосы, швыряли на землю, насиловали на глазах у остальных, кусали за шею, как щенки. Многие, глядя на них, открыто дрочили, нетерпеливые били влезшего на девочку и отшвыривали в сторону, чтобы занять его место. Если несчастная пыталась бежать, ее догоняли и опрокидывали ударом ноги в живот, все это сопровождалось пронзительными криками и воем. Впрочем, большинство девочек, едва достигших половой зрелости, похоже, были уже беременны. Я ощущал себя пациентом сумасшедшего дома, мои нервы с трудом выдерживали эту дикость. Дети постарше едва говорили по-немецки. Хотя, по крайней мере до прошлого года, все они ходили в школу, от воспитания не осталось и следа, кроме непоколебимой убежденности в принадлежности к высшей расе. Они жили как примитивное племя или шайка, удачно объединившаяся, чтобы убивать или искать еду, и яростно ссорились из-за добычи. Авторитет Адама, физически самого сильного, был непререкаем. Однажды в моем присутствии он до крови разбил о дерево голову мальчику, не сразу выполнившему приказ. Возможно, подумал я, Адам убивает всех оказавшихся на его пути взрослых, чтобы оставаться командиром.
Наш поход длился несколько ночей. Я чувствовал, что постепенно теряю контроль над собой, и прилагал неимоверные усилия, чтобы самому не избить кого-нибудь. Томас сохранял олимпийское спокойствие, следил за маршрутом по карте и компасу и совещался с Адамом, в каком направлении продолжать путь. Перед Гольновом мы пересекли железную дорогу на Каммин, а потом – небольшими группками – шоссе, за которым лежал огромный, дремучий и опасный лес; нам повезло: патрули в основном держались автострады. Нам снова стали встречаться отбившиеся от частей немецкие солдаты, которые в одиночку или группами пробирались к Одеру. Томас не давал Адаму их убивать. К нам присоединились двое военных, немец и эсэсовец-бельгиец, другие шли мимо, предпочитая спасаться в одиночку. За вторым шоссе лес сменился болотами, мы уже были недалеко от Одера. На юге, по карте, топи вели к Ине, одному из притоков. Идти стало трудно, мы увязали по колено, а иногда по пояс, дети чуть не тонули, проваливаясь в ямы под водой. Уже совсем потеплело, даже в лесу снег растаял, и я наконец снял тяжелую, до сих пор не просохшую шинель. Адам решил проводить нас до Одера в усеченном составе и оставил девочек и малышей под охраной двух раненых на длинном языке сухой земли. Переправа через болото заняла почти всю ночь, иногда требовалось сделать огромный крюк, но мы ориентировались по компасу Томаса. Наконец перед нами возник черный, сверкавший под луной Одер. Между нами и немецким берегом тянулась длинная цепь островов. Лодки мы не нашли. «Тем хуже, – заявил Томас, – тогда доберемся вплавь». «Я не умею плавать», – признался бельгиец. Уроженец Валлонии, на Кавказе он близко общался с Липпером и рассказал мне о его гибели в Ново-Буде. «Я тебе помогу», – пообещал я. Томас обратился к Адаму: «Не хотите с нами? Обратно в Германию?» – «Нет, – ответил мальчик. – У нас свои задачи». Мы сняли сапоги, засунули их за ремень, фуражку я спрятал под китель. Томас и солдат-немец, назвавшийся Фрицем, оставили при себе пистолеты, на случай нежелательных встреч на острове. В том месте ширина реки достигала примерно трехсот метров, но по весне вода разлилась, и течение было быстрым. Мы с бельгийцем, которого я, плывя на спине, держал за подбородок, продвигались вперед медленно, нас сносило в сторону, и я чуть не пропустил остров. Почувствовав землю под ногами, я еще немного протащил бельгийца за воротник, пока он не смог идти самостоятельно. На берегу я в изнеможении опустился на землю. Напротив, с болота не доносилось ни звука, дети уже исчезли. Остров, на котором мы очутились, был лесистый, и здесь я не слышал ничего, кроме шепота волн. Бельгиец отправился на поиски Томаса и немецкого солдата; те поднялись выше и, вернувшись, сообщили, что остров вроде бы пуст. Как только я опять смог держаться на ногах, мы побрели через лес. Противоположный берег тоже был темный и безмолвный. Но на пляже столб, выкрашенный в красно-белую полосу, указывал место связи. Кабель полевого телефона, накрытого от непогоды брезентом, тянулся под водой. Томас снял трубку и покрутил рукоятку. «Добрый вечер, – поздоровался он, – да, мы немецкие офицеры». Он назвал наши имени и звания. Потом последовало: «Отлично». Томас повесил трубку, выпрямился и взглянул на меня, широко улыбаясь. «Нам велено стать в ряд и расставить ноги». Едва мы успели выполнить приказ, на немецком берегу зажгли прожектор, нас осветил мощный луч. Так мы и стояли несколько минут. «Здорово придумано», – прокомментировал Томас. В темноте раздался шум мотора. Рядом с нами причалила резиновая лодка, трое солдат молча, изучающе смотрели на нас, держа автоматы на прицеле, пока не удостоверились, что мы и правда немцы. По-прежнему не произнеся ни слова, посадили нас на борт, и лодка помчалась по черным водам.
На берегу в темноте ждали фельджандармы. Большие металлические бляхи блестели при луне. Нас отвели в бункер к какому-то полицейскому офицеру. Он попросил наши документы, ни у одного из нас их не было. «В таком случае я должен отправить вас под конвоем в Штеттин, – сказал он. – Мне жаль, но теперь кто только не пытается проскользнуть». Пока мы ждали, он угостил нас сигаретами, и Томас пустился с ним в дружескую беседу. «Много тут у вас народу проходит?» – «По десять-пятнадцать человек за ночь. А на всем участке дюжинами. Недавно сразу двести и с оружием. Большинство дальше не идут из-за болот, здесь-то русские патрули редки, как вы сами уже убедились». – «Идея с телефоном гениальна». – «Спасибо. Река разлилась, и многие утонули, пытаясь ее переплыть. Телефон избавляет нас от неприятных сюрпризов… по крайней мере, мы надеемся, – добавил он с улыбкой. – Русские ведь тоже засылают к нам шпионов». На рассвете нас с еще тремя отбившимися от полка солдатами и вооруженными фельджандармами посадили в грузовик. Мы переезжали реку прямо над Пёлицем, но город обстреливала русская артиллерия, и наш грузовик сделал приличный крюк, прежде чем попасть в Штеттин. Там тоже грохотали снаряды, языки пламени вырывались из окон домов, через боковой борт я видел на улицах практически одних солдат. Нас проводили в командный пункт вермахта и сразу изолировали от солдат; допрашивал нас суровый майор, к которому незамедлительно присоединился представитель гестапо в штатском. Говорил Томас, он подробно рассказывал нашу историю, а я отвечал, только когда мне задавали вопросы напрямую. Под напором Томаса человек из гестапо согласился позвонить в Берлин. Хуппенкотен, начальник Томаса, отсутствовал, но нам удалось связаться с его заместителем, который сразу нас опознал. Поведение майора и гестаповца изменилось в мгновение ока. Они стали обращаться к нам по званиям и предложили шнапса. Гестаповец ушел, пообещав позаботиться о машине на Берлин. Майор дал нам сигарет и усадил на банкетке в коридоре. Мы молча курили, впервые с начала нашего похода. Голова кружилась. Календарь на письменном столе майора показывал двадцать первое марта, то есть мы блуждали семнадцать дней, о чем, собственно, свидетельствовал наш внешний вид. От нас несло за версту, лица заросли бородами, рваная форма коробилась от грязи. Но мы были не первые, появившиеся здесь в таком обличье, и, похоже, никого не шокировали. Томас сидел прямо, нога на ногу, явно довольный исходом нашего предприятия, я обмяк от усталости и вытянул ноги вперед, поза, не вполне подходящая для военного. Пробегавший мимо, крайне озабоченный оберст наградил меня презрительным взглядом. Я тут же его узнал и вскочил с радостным приветствием. Это был Оснабругге, специалист по сносу мостов. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто я, потом он вытаращил глаза: «Оберштурмбанфюрер! Что с вами?» Я кратко поведал ему о наших приключениях. «А вы? Теперь взрываете немецкие мосты?» Он опечалился: «Увы, да. Два дня назад, после эвакуации Альтдама и Финкенвальде, мы подняли на воздух штеттинский мост. Просто кошмар: по всему мосту болтались повешенные, дезертиры, пойманные фельджандармами. Трое остались висеть уже после взрыва, в самом начале моста, совсем свежие. Но мы не все уничтожили, – продолжил он, собравшись с духом. – У Одера перед Штеттином пять рукавов, и мы решили снести только последний мост. Так что шансы на реконструкцию есть». – «Как хорошо, что вы думаете о будущем и не унываете», – ответил я. На этом мы расстались, Оснабругге спешил. Немного погодя появился местный гестаповец и усадил нас в машину с офицером СС, тоже возвращавшимся в Берлин, наш запах, похоже, нимало его не смутил. На автостраде зрелище перед нами развернулось еще более ужасающее, чем в феврале: бесконечный поток перепуганных беженцев и измученных, помятых солдат, грузовики с ранеными, всюду следы спешного отступления. Я почти сразу уснул, меня разбудили во время налета штурмовика, но стоило мне сесть в машину, я опять отключился.
В Берлине мы с трудом, но оправдались, хотя я ожидал бóльших неприятностей. Простых солдат вешали и расстреливали по малейшему подозрению, без суда и следствия. Не побрившись, не помывшись, Томас отправился к Кальтенбруннеру. Тот теперь обосновался на Курфюрстенштрассе, в бывших кабинетах Эйхмана, в одном из последних более или менее уцелевших зданий РСХА. Поскольку я не знал, кому докладываться, – даже Гротман покинул Берлин – я пошел с Томасом. Мы придумали более или менее правдоподобную версию: дескать, я воспользовался отпуском, чтобы попытаться эвакуировать сестру и ее мужа, наступление русских застало нас с Томасом, приехавшим на помощь, врасплох. Впрочем, проницательный Томас перед отъездом позаботился об оформлении служебной командировки у Хуппенкотена. Кальтенбруннер выслушал нас молча, потом без каких-либо комментариев разрешил идти, но предварительно сообщил мне, что рейхсфюрер сложил с себя обязанности командующего Группой армий «Висла» и находится сейчас в Хоенлихене. С рапортом о смерти Пионтека проблем не возникло, но мне пришлось заполнить множество бумажек, чтобы объяснить потерю машины. К вечеру мы добрались до Ванзее, дом Томаса не пострадал, но в нем отключили и электричество, и водопровод. Перед сном мы кое-как обмылись холодной водой и побрились. На следующее утро я в чистой форме явился в Хоенлихен на прием к Брандту. Взглянув на меня, он приказал: «Приведите себя в порядок, подстригитесь и возвращайтесь в надлежащем виде». В больнице еще была горячая вода, я почти час с наслаждением простоял под душем, потом отправился к парикмахеру и заодно попросил побрить меня и побрызгать одеколоном. Взбодрившись, я вернулся к Брандту. Он с явным неудовольствием выслушал мой рассказ, резко заметил, что я по своей безалаберности задолжал Рейху несколько рабочих недель, потом объявил, что меня признали без вести пропавшим, мой отдел распустили, коллег назначили на другие должности, а документы отправили в архив. В настоящий момент рейхсфюрер не нуждается в моих услугах. Брандт приказал мне вернуться в Берлин в распоряжение Кальтенбруннера. После этой беседы секретарь Брандта пригласил меня в свой кабинет и передал личную корреспонденцию, которую Асбах накануне закрытия отдела перевез в Ораниенбург, в основном это были счета, датированная февралем короткая записка от Олендорфа касательно моего ранения, письмо от Хелены. Я, не распечатывая, сунул конверт в карман. Потом я возвратился в Берлин. На Курфюрстенштрассе царил полный хаос. В здании теперь располагались штабы РСХА и гестапо, а также многочисленные представители СД. Места всем не хватало, мало кто понимал, что нужно делать, люди бесцельно слонялись по коридорам, пытаясь создать видимость деятельности. Кальтенбруннер мог меня принять лишь вечером, я устроился в уголке на стуле и снова взялся за «Воспитание чувств», во время переправы через Одер книга в очередной раз намокла, но дочитать ее мне все равно хотелось. Кальтенбруннер вызвал меня, когда я как раз добрался до последней встречи Фредерика и мадам Арну. Я был раздосадован, он вполне мог принять меня чуть позднее, тем более что сам не знал, куда меня определить, и в итоге, почти наобум, назначил ответственным за связь с ОКВ. Моя работа состояла в следующем: три раза на дню я должен был ходить на Бендлерштрассе и доставлять оттуда депеши о ситуации на фронте. В остальное время я мог спокойно предаваться своим мыслям. Флобера я закончил быстро, но есть ведь и другие книги. Гулять мне не запрещалось, но и не рекомендовалось. Город был в ужасном состоянии. Повсюду зияли пустые глазницы оконных проемов, часто с ужасным грохотом обрушивались стены домов. На улицах команды без устали разбирали завалы и сгребали обломки в кучи так, чтобы между ними, хоть зигзагами, могли проехать редкие машины, но часто кучи эти рассыпались, и все приходилось начинать заново. Терпкий весенний воздух казался тяжелым от черного дыма и кирпичной пыли, скрипевшей на зубах. Последний крупный налет вражеские самолеты совершили за три дня до нашего возвращения. Люфтваффе, использовав в ответ новое оружие, удивительно маневренные машины, тоже сумели нанести противнику урон, и с тех пор нас донимали только «москито». Следующее по нашему прибытию воскресенье было первым погожим днем весны 1945 года. В Тиргартене на деревьях набухли почки, трава пробилась сквозь обломки, земля в садах зазеленела. Мы, к сожалению, почти не имели возможности наслаждаться теплой погодой. Потеряв восточные территории, Германия урезала до минимума продовольственные пайки, даже в хороших ресторанах нечего стало заказывать. Для пополнения вермахта министерства вынужденно сократили кадры, но из-за того, что регистрационные книги были уничтожены, и из-за неразберихи в администрациях большинство освобожденных от должностей людей неделями ждали вызова. На Курфюрстенштрассе открыли отдел, выдававший фальшивые документы вермахта и других организаций служащим РСХА, считавшимся скомпрометированными. Томас раздобыл себе несколько разных наборов и, смеясь, показал их мне: инженер концерна Круппа, гауптман вермахта, служащий Министерства сельского хозяйства. Он и мне советовал сделать то же самое, но я все тянул, а потом восстановил военный билет и удостоверение СД вместо тех, от которых избавился в Померании. Иногда я сталкивался с крайне подавленным Эйхманом. Он нервничал и задавался вопросом о своей дальнейшей судьбе, отлично понимая, что, если попадет в руки к врагам, ему крышка. Он отправил семью в надежное место и пока еще надеялся к ней присоединиться. Однажды я видел, как в коридоре Эйхман с горечью обсуждал эту тему с Блобелем, который тоже шатался без дела, не зная куда приткнуться, почти всегда пьяный, злой и раздраженный. Несколько дней назад Эйхман встречался с рейхсфюрером в Хоенлихене и вернулся в полном унынии. Он пригласил меня к себе в кабинет выпить шнапса и послушать его жалобы на жизнь; похоже, он сохранил ко мне определенное уважение и считал чуть ли не доверенным лицом, – почему, сам удивляюсь. Я молча пил, пока Эйхман изливал мне душу. «Не понимаю, – ныл он, поправляя очки на носу. – Рейсхфюрер мне говорит: „Эйхман, если бы я начинал сначала, то организовал бы концентрационные лагеря по английскому образцу“. Так и объявил. И добавил: „Тут я допустил ошибку“. Что он имел в виду? Я не понимаю. А вы? Может, он полагает, что в лагерях все должно быть более, ну, не знаю, элегантно, эстетично, вежливо». Я тоже не понимал, что хотел сказать рейхсфюрер, но, откровенно говоря, мне было все равно. От Томаса, который сразу же погрузился в прежние интриги, я знал, что Гиммлер, настроенный Шелленбергом и Керстеном, своим массажистом-финном, продолжал пассы – довольно, впрочем, неуклюжие – в сторону англичан и американцев. «Шелленбергу удалось побудить его к заявлению: „Я защищаю трон. Но это не обязательно означает, что и того, кто на нем сидит“. Уже большой прогресс», – растолковывал мне Томас. «Конечно. Томас, почему ты не уезжаешь из Берлина?» Русские остановились на Одере, но все знали, что это вопрос времени. Томас улыбнулся: «Шелленберг попросил меня остаться. Чтобы следить за Кальтенбруннером и особенно за Мюллером. Оба творят, что заблагорассудится». Действительно, все делали, что хотели, – и Гиммлер (в первую очередь), и сам Шелленберг, и Каммлер, который имел теперь прямой доступ к фюреру и не слушался рейхсфюрера. Шпеер, по слухам, ездил туда-сюда по Рурской области и пытался препятствовать исполнению приказов фюрера о разрушении различных объектов в связи с наступлением американцев. Народ потерял всякую надежду, и пропаганда Геббельса уже ничего изменить не могла, она обещала лишь, что фюрер в своей великой мудрости на случай поражения предусмотрел для немецкого народа легкую гибель – отравление газом. И вправду весьма ободряюще! Злые языки говорили: «Кто трус? Тот, кто из Берлина просится на фронт». На второй неделе апреля филармонический оркестр давал последний концерт. Программа была отвратительная, совершенно в духе времени: заключительная ария Брунгильды, «Гибель богов», естественно, и напоследок «Романтическая симфония» Брукнера, но я, тем не менее, решил пойти. В промерзшем, но не тронутом снарядами зале всеми огнями горели люстры, я издалека заметил Шпеера с адмиралом Дёницем в почетной ложе. На выходе стояли с корзинками юноши в форме «Гитлерюгенда», предлагая публике капсулы с цианистым калием. С досады мне захотелось проглотить одну прямо на месте. Уверен, Флобер поперхнулся бы от подобной вызывающей глупости. Такие пессимистические демонстрации чередовались со вспышками исступленной радости и оптимизма. В день того достопамятного концерта умер Рузвельт, и Геббельс, не иначе как перепутав Трумэна с Петром III, назавтра провозгласил: «Царица мертва». Солдаты клялись, что видели в облаках лицо «старого Фрица». А к двадцатому апреля, дню рождения нашего фюрера, обещали решительное контрнаступление и победу. Томас, по-прежнему поглощенный разнообразными интригами, держал нос по ветру. Ему удалось перевезти родителей в Тироль, ближе к Инсбруку, в область, которую, несомненно, займут американцы. «Кальтенбруннер все уладил. Через гестапо в Вене». И, заметив мое удивление, добавил: «Кальтенбруннер – человек понимающий. У него тоже семья. Он знает, что это такое». После этого Томас безоглядно предался светским увеселениям и таскал меня с праздника на праздник, где я напивался до беспамятства, пока он, явно приукрашивая, рассказывал о нашей померанской одиссее впечатлительным юным дамам. Каждый вечер где-нибудь да закатывали пирушку, никто уже почти не обращал внимания ни на налеты «москито», ни на пропагандистские предписания. Под Вильгельмплац, в бункере, переделанном в ночной кабак, можно было хорошо развлечься, отведать вина, крепкого алкоголя, изысканных закусок и выкурить отличную сигару. Это место посещали высшие офицерские чины ОКВ, СС и РСХА, богатые горожане и аристократы в компании актрис и кокетливых молодых красоток в роскошных нарядах. Почти все вечера мы проводили в «Адлоне», где нас церемонно встречал невозмутимый метрдотель во фраке, провожал в ярко освещенный зал, и официанты, тоже во фраках, приносили на серебряных тарелках кусочки фиолетовой кольраби. Бар был всегда забит до отказа, в основном последними из оставшихся дипломатов – итальянцами, японцами, венграми, французами. Как-то вечером я случайно встретил там Михая в белом костюме и канареечной шелковой рубашке. «Все еще в Берлине? – с усмешкой бросил он. – Давненько не виделись». И принялся открыто, на глазах у всех, заигрывать со мной. Я крепко ухватил Михая за руку и отволок в сторону. «Прекрати», – прошипел я. «Что прекратить?» – улыбнулся он. Эта улыбка самодовольного, расчетливого хлыща вывела меня из себя. «Пойдем», – сказал я и подтолкнул его к туалету. В просторном помещении с белой плиткой, массивными раковинами и писсуарами горел яркий свет. Я проверил кабинки – пусто, и запер дверь на щеколду. Михай стоял у раковин с большими латунными кранами, пялился на меня и ухмылялся, руки в карманах белого пиджака. Потом приблизился с той же плотоядной улыбкой. Когда Михай поднял голову, чтобы поцеловать меня, я снял фуражку и с силой стукнул его лбом в лицо. Одним ударом разбил ему нос, кровь брызнула фонтаном, Михай взвыл и упал на пол. Я перешагнул через него, держа фуражку в руке, и глянул в зеркало. Лоб в крови, но на воротнике и форме ни пятнышка. Я тщательно умылся и надел фуражку. Михай на полу, зажав нос, корчился от боли и жалобно стонал: «Почему ты это сделал?» Он уцепился за мою брючину, я отодвинул ногу и обвел туалет взглядом. В углу в цинковом ведре стояла швабра. Я взял ее, положил поперек шеи Михая, встал сверху на ручку, так, что его шея оказалась между моих ступней, и принялся тихонько балансировать. Лицо Михая покраснело, стало пунцовым, потом фиолетовым, челюсть судорожно тряслась, ногти царапали мои сапоги, глаза вылезли из орбит, он в ужасе смотрел на меня и сучил по полу ногами. Он хотел что-то сказать, но не мог выдавить ни звука, изо рта бесстыдно свесился распухший язык. Негромкое урчание, Михай испражнился, в помещении запахло дерьмом. Он в последний раз дернул ногами и обмяк. Я слез со швабры, положил ее в сторону, ткнул щеку Михая носком сапога. Его голова вяло мотнулась на бок, потом обратно. Я подхватил Михая под мышки, отволок в кабинку, усадил на унитаз и поставил ему ноги ровно. В кабинках были щеколды, вращающиеся на винте; удерживая лапку кончиком ножа, я закрыл дверь и опустил щеколду, будто кабинку заперли изнутри. На плитку натекло немного крови, я вымыл пол, прополоскал тряпку, потом вытер платком ручку швабры и сунул швабру обратно в ведро. Из туалета я направился в бар пропустить стаканчик, люди входили в туалет и выходили, и никто, кажется, ничего не замечал. Кто-то из знакомых чуть позже поинтересовался: «Ты не видел Михая?» Я оглянулся вокруг: «Нет. Он, должно быть, там, в зале». Я допил стакан и пошел поболтать с Томасом. Около часа ночи началась суматоха: тело обнаружили. Среди дипломатов раздавались испуганные возгласы, приехала полиция, нас, как и всех других, допросили, я сказал, что ничего не знаю. Больше я об этой истории не слышал. И вот, наконец, русские начали наступление. Шестнадцатого апреля они атаковали Зееловские высоты, заслон города. Погода стояла пасмурная, моросил дождь. Я целый день, а потом еще и часть ночи носил депеши с Бендлерштрассе на Курфюрстенштрассе – маршрут короткий, но сложный из-за налетов штурмовиков. Около полуночи на Бендлерштрассе я встретил Оснабругге. Вид он имел одновременно растерянный и удрученный. «Они собираются взорвать все мосты в городе». Оснабругге чуть не плакал. «Ну, ведь если враг на подходе, это естественно, разве нет?» – «Вы не отдаете себе отчета, чем чревато подобное решение! В Берлине девятьсот пятьдесят мостов. Если их поднять на воздух, город умрет! Навсегда. Ни снабжения, ни промышленности. Ужас еще и в том, что все электрические кабели и водопровод проложены через мосты. Вы представляете? Эпидемии, люди, умирающие с голоду среди руин!» Я пожал плечами: «Но не можем же мы просто сдать город русским!» – «Да, но это не повод сносить все подряд! Надо выбрать, уничтожить только мосты на главных направлениях». Он вытер лоб. «Я, в любом случае, делаю это в последний раз, прямо вам говорю, и расстреляйте меня, если хотите. Когда кончится все это безумие, плевать мне, на кого работать, но я буду строить. Ведь рано или поздно надо будет восстанавливать, да?» – «Конечно. Вы еще не разучились возводить мосты?» – «Разумеется, нет», – он ушел, покачивая головой. Той же ночью я приехал к Томасу в Ванзее. Он не спал, сидел в одной рубашке в гостиной и пил. «Ну?» – спросил он. «Мы пока удерживаем Зееловское укрепление. Но на юге их танки пересекли Нейссе». Томас скривился: «Да. Как ни крути, нам капут». Я снял фуражку, мокрую шинель и налил себе стакан. «Это действительно конец?» – «Конец», – подтвердил Томас. «Опять поражение?» – «Опять». – «И что дальше?» – «Посмотрим. Германию с карты все равно не сотрут, нравится это господину Моргентау или нет. Противоестественный альянс наших врагов продержится до их победы, не дольше. Западным державам нужен бастион против большевизма. Я даю им три года, максимум». Я пил и слушал. Потом сказал: «Я не об этом». – «А-а, ты о нас?» – «Да. Придется платить по счетам». – «Почему ты не позаботился о документах?» – «Не знаю. Не видел смысла. Что с ними делать, с документами? Рано или поздно все равно нас найдут. И тогда веревка или Сибирь». Томас поболтал коньяком в стакане: «Ясно. Надо исчезнуть на некоторое время. Уехать, пока страсти не улягутся. Потом можно вернуться. Какой бы ни стала новая Германия, ей будут нужны таланты». – «Уехать? Куда? И как?» Томас посмотрел на меня с улыбкой: «Ты думаешь, об этом никто не побеспокоился? Есть множество каналов: в Голландии, Швейцарии люди готовы нам помогать по убеждениям или из интереса. Лучшие связи – в Италии, в Риме. Церковь не покинет своих агнцев в беде». Он поднял стакан, вроде как чокнуться со мной, и выпил. «И Шелленберг, и Вольф заручились отличными гарантиями. Конечно, это будет не просто. Финальная партия – вещь тонкая». – «А потом?» – «Посмотрим. Южная Америка, солнце, пампасы, как тебе? Или тебе больше по вкусу пирамиды? Англичане уйдут, там тоже потребуются специалисты». Я плеснул себе еще коньяка, отхлебнул: «А если Берлин окружен? Как ты собираешься уехать? Останешься?» – «Да, останусь. Кальтенбруннер и Мюллер по-прежнему причиняют нам массу хлопот. Оба ведут себя неблагоразумно. Но я обо всем успел подумать. Пойдем, увидишь». Он прошел в спальню, открыл шкаф, вытащил одежду и разложил ее на кровати: «Смотри». Это была рабочая спецовка из синего сукна, перепачканная машинным маслом и грязью. «Взгляни на этикетку». Я убедился, что одежда французская. «У меня еще есть ботинки, берет, повязка, все. И документы. Вот здесь». Он показал мне документы французского рабочего из СТО. «Во Франции, понятно, возникли бы проблемы, меня бы живо раскусили, но для русских этого достаточно. Даже если попадется офицер, говорящий по-французски, вряд ли мой акцент будет резать ему ухо. К тому же всегда можно сказать, что я из Эльзаса». – «Неглупо, – подтвердил я. – А где же ты все это взял?» Томас постучал пальцем о край стакана и усмехнулся: «Ты полагаешь, что кто-то теперь в Берлине считает иностранных рабочих? Одним больше, одним меньше…» Он глотнул коньяка. «Раскинь мозгами. С твоим французским тебе прямая дорога в Париж». Мы вернулись в гостиную. Томас налил еще по стаканчику. «Предприятие, конечно, рискованное, – рассмеялся он. – Но что такое риск? Мы целыми и невредимыми выбрались из Сталинграда. Надо просто быть хитрее, вот и все. Ты слышал, что кое-кто в гестапо пытается приобрести еврейские звезды и документы? – Томас хохотнул. – И не получается, товар дефицитный».
Спал я мало, и рано утром возвратился на Бендлерштрассе. Небо расчистилось, повсюду кружили штурмовики. На следующий день погода выдалась еще лучше, среди руин зацвели сады. С Томасом я не виделся, он впутался в конфликт между Кальтенбруннером и Вольфом. Подробностей я не знаю, но вроде бы Вольф приехал из Италии, чтобы обсудить возможные пути капитуляции, Кальтенбруннер рассвирепел и хотел его арестовать или повесить, – как обычно, все кончилось вмешательством фюрера, который отослал Вольфа обратно. Когда я наконец встретился с Томасом, в день падения Зееловских высот, он был в бешенстве, ругал Кальтенбруннера, его глупость и ограниченность. Я тоже совершенно не понимал игры Кальтенбруннера: зачем ему нужно выступать против рейхсфюрера, интриговать с Борманом, маневрировать, чтобы стать новым фаворитом фюрера. Кальтенбруннер же не идиот и должен знать лучше, чем кто-либо, что партия сыграна. И вместо того чтобы вовремя сориентироваться, он тратил силы на бесплодные, пустые склоки, неубедительную демонстрацию выдержки и волевой решимости, но никогда, что было очевидным для всех, кто его знал, не осмелился бы на соответствующие действия. И Кальтенбруннер далеко не единственный, кто утратил чувство меры. В Берлине повсюду формировались Sperrkomandos, заградительные отряды, состоявшие из служащих СД, полицейских, фельджандармов и членов разных партийных организаций, которые вершили, мягко говоря, безосновательный суд над более благоразумными, чем они, людьми, просто стремившимися выжить. А иногда и над теми, кто не имел никакого отношения к происходящему, но, на свое несчастье, очутился в неподходящее время в неподходящем месте. Фанатики из «Лейбштандарта» вытаскивали раненых солдат из подвалов и казнили. Куда ни глянь: фонари, деревья, мосты, пути городской железной дороги, любые места, где можно повесить человека, украшали изнуренные фронтовики вермахта, недавно призванные штатские, шестнадцатилетние мальчишки с фиолетовыми лицами и всегда с неизменной табличкой: «Я ЗДЕСЬ, ПОТОМУ ЧТО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ». Берлинцы покорились судьбе: «Лучше верить в победу, чем быть повешенным». Даже у меня возникли проблемы с этими извергами: поскольку я много ездил по городу, у меня постоянно проверяли документы, и я уже подумывал взять вооруженную охрану. И одновременно я испытывал жалость к людям, опьяненным злобой и горечью, изглоданным бессильной ненавистью, которую они не могли направить на врага и потому обращали на своих. Бешеные волки, пожирающие друг друга. Как-то утром на службу не явился оберштурмфюрер гестапо Герсбах, и, хотя никакой работы у него не было, его отсутствие заметили. Полицейские нашли Герсбаха, мертвецки пьяного, дома. Мюллер выждал, пока тот протрезвеет, и выстрелил ему в затылок перед офицерами, собравшимися во дворе здания. После этого труп Герсбаха кинули на асфальт, и юный новобранец СС, почти в истерике, выпустил весь магазин автомата в тело бедняги.
Новости, которые я передавал несколько раз в сутки, редко оказывались утешительными. День за днем большевики продвигались вперед, вошли в Лихтенберг и Панков, взяли Вейссензее. Длинные колонны беженцев текли через Берлин, многих из них хватали наобум и вешали как дезертиров. Люди гибли и под огнем русской артиллерии: со дня рождения фюрера русские стояли у стен города на расстоянии досягаемости своих орудий. Этот день, пятница, выдался чудесным, солнечным, в заброшенных садах благоухала сирень. Тут и там на руинах висели флаги со свастикой или огромные плакаты с лозунгами, воспринимавшимися как ирония, которая, надеюсь, была неумышленной. Например, над обломками Лютцовплатц красовалось: «СПАСИБО ЗА ВСЕ НАШЕМУ ФЮРЕРУ. Д-Р ГЕББЕЛЬС». Утром англичане и американцы предприняли массированную атаку с воздуха – больше тысячи бомбардировщиков за два часа, а за ними еще «москито». Не успели они скрыться, эстафету приняла русская артиллерия. Отличный салют, но мало кто его оценил, по крайней мере, с нашей стороны. Геббельс в честь праздника попытался организовать выдачу дополнительных пайков, но и это сорвалось. Множество горожан, ожидавших в очереди, стали жертвами артиллерийского обстрела. Назавтра, несмотря на сильный дождь, получилось еще хуже: снаряд попал в толпу у крупного магазина «Карштадт». Германплац была усеяна окровавленными трупами, оторванными конечностями, дети, рыдая, трясли бездыханные тела матерей, я видел это собственными глазами. В воскресенье по-весеннему ослепительное солнце сменилось внезапным ливнем, и снова на мокрых руинах и завалах заиграли лучи. Пели птицы, повсюду цвели тюльпаны и сирень, яблони, груши, вишни, а в Тиргартене распустились рододендроны. Но прекрасный цветочный аромат не заглушал витавшего на улицах запаха гниения и горелых кирпичей. Тяжелый, не рассеивающийся дым закрывал небо, а в дождь сгущался еще больше, заставляя людей задыхаться. Несмотря на артиллерийские атаки, на улицах было оживленно. Вскарабкавшись на противотанковые баррикады, мальчишки в бумажных касках сражались на деревянных шпагах, мне встретились пожилые дамы, толкавшие перед собой коляски, наполненные кирпичами, а по пути через Тиргартен к бункеру в зоопарке – солдаты, гнавшие стадо мычащих коров. Вечером снова заморосил дождь. Теперь красные отмечали день рождения Ленина на свой лад – безумной артиллерийской канонадой.
Общественные службы закрывались одна за другой, персонал эвакуировали. Генерал Рейнман, комендант города, за день до увольнения снабдил функционеров НСДАП двумя тысячами пропусков, дававшими право покинуть Берлин. Те, кто, на свое несчастье, разрешения не получил, мог купить себе путь к отступлению. На Курфюрстенштрассе один офицер гестапо объяснил мне, что полный комплект документов стоит примерно восемьдесят тысяч рейхсмарок. Линии подземки работали до двадцать третьего апреля, городская железная дорога – до двадцать пятого, городской телефон – до двадцать шестого (рассказывали, что одному русскому удалось дозвониться Геббельсу в кабинет в Сименсштадт). Кальтенбруннер уехал в Австрию сразу после дня рождения фюрера, но Мюллер остался, и я теперь служил связным у него. Чаще всего мой маршрут лежал через Тиргартен, потому что на улицах к югу от Бендлерштрассе у Ландверканала не успевали расчищать завалы. Статуи правителей Пруссии и Бранденбурга на Ной-Зигесаллее раскололись от непрекращающихся взрывов, улицу усыпали головы, руки и ноги Гогенцоллернов, по ночам куски белого мрамора блестели в лунном свете. В ОКВ, где обосновался новый комендант города (Рейнмана заменил некий Кетер, двумя днями позже его отстранили от должности и назначили Вейдлинга), меня порой заставляли ждать часами, прежде чем дать информацию, как обычно, неполную. Чтобы не казаться слишком навязчивым, я сидел с шофером в машине во дворе под навесом из бетона. У меня перед носом бегали взбудораженные, испуганные офицеры, я видел и изможденных солдат, которые мешкали, чтобы не с ходу возвращаться под огонь, и жадных до славы юнцов из «Гитлерюгенда», выпрашивавших панцерфаусты, и растерянных ополченцев, дожидавшихся приказа. Как-то вечером я рылся в карманах, искал сигареты и нащупал письмо Хелены, спрятанное мной еще в Хоенлихене и благополучно забытое. Я вскрыл конверт и, закурив, принялся читать. Это оказалось короткое и недвусмысленное признание в любви. Она не понимает моего поведения, – писала Хелена, – и не пытается его понять, она хочет знать, приеду ли я к ней, и спрашивает, собираюсь ли я на ней жениться. Честность и прямота ее письма потрясли меня, но было уже слишком поздно, и я через опущенное окно машины выбросил смятый листок в лужу.
Тиски сжимались. «Адлон» закрыл свои двери, мне осталось единственное развлечение – пить шнапс на Курфюрстенштрассе или в Ванзее у Томаса, который, посмеиваясь, рассказывал о последних событиях во властных структурах. Мюллер искал «крота», вражеского агента, появившегося, скорее всего, в окружении высших должностных лиц СС. Шелленберг видел здесь заговор с целью ослабить позиции Гиммлера, и на Томаса была возложена обязанность следить за развитием этой интриги. Ситуация смахивала на водевиль. Вернулся Шпеер, потерявший доверие фюрера, проскользнул на личном стареньком самолете между штурмовиками и приземлился на оси Восток – Запад, чтобы опять искать милости. Геринг, несколько поторопившийся списывать ценности со счетов своего господина и учителя, лишился всех полномочий и званий и был взят под арест в Баварии. Самые трезвомыслящие, фон Риббентроп и военные, затаились или перебирались к американцам. Несметное количество кандидатов в самоубийцы воображали в красках финальную сцену. Наши солдаты на фронте сознательно шли на верную гибель, двадцать четвертого апреля французский батальон СС «Шарлемань» выискал способ войти в Берлин, чтобы укрепить дивизию СС «Нордланд», и административный центр Рейха теперь защищали лишь финны, эстонцы, голландцы и небольшие группки французов. Где-то люди еще сохраняли хладнокровие: мощная армия, говорили они, в пути, она спасет Берлин и отбросит русских за Одер, но на Бендлерштрассе мои собеседники крайне неопределенно отзывались о позиции и продвижении дивизий, и обещанное наступление армии Венка все запаздывало – так же, как намеченный несколькими днями ранее удар силами ваффен-СС Штейнера. Что до меня, то, честно говоря, Сумерки богов не слишком меня занимали, я бы предпочел очутиться где-нибудь подальше и спокойно подумать о своем положении. Не то чтобы я боялся умереть, уж поверьте, после всего у меня было мало причин держаться за жизнь, но мысль, что меня убьет вот так, по воле случая, снаряд или шальная пуля, мне категорически не нравилась. Чем барахтаться в черном водовороте, я бы с большим удовольствием сидел и наблюдал за происходящим. Но выбора мне, увы, не предоставили, я должен был служить, как и другие, а поскольку я исполнял свои обязанности честно, то собирал и передавал бесполезную информацию, служившую, казалось мне, лишь предлогом не отпускать меня из Берлина. Наши враги решительно игнорировали всю эту возню и продвигались вперед.
Вскоре пришлось эвакуировать и Курфюрстенштрассе. Оставшихся офицеров распустили. Мюллер возвратился обратно в резервный командный пункт в крипте кирхи Святой Троицы на Мауерштрассе. Линия фронта теперь проходила почти по самой Бендлерштрассе, поддерживать связь становилось все труднее. Чтобы добраться до здания, я, лавируя между грудами обломков, доезжал до Тиргартена, потом шел пешком, через подвалы и руины меня провожали Kellerkinder – дети подземелья, маленькие сироты, грязные, тощие, которые знали здесь каждый уголок. Грохот бомбардировок, казалось, уже превратился в живое существо; разнообразные, непрекращающиеся шумы терзали слух, но еще хуже было, когда вдруг воцарялась чудовищная тишина. При разрывах фосфорных бомб возникали огромные пожары, горели целые районы, мощные тепловые потоки переносили по воздуху искры и раздували новые очаги пламени. Иногда сильные, короткие ливни тушили несколько полыхавших домов, но запах гари только усиливался. На оси Восток – Запад пока еще пытались приземлиться самолеты. Двенадцать «Юнкерсов-52», перевозивших юнкеров СС, сбили при подлете, один за другим. По информации, которую мне поручили передать, армия Венка, похоже, растворилась где-то южнее Потсдама. Двадцать седьмого апреля было очень холодно. «Лейбштандарт Адольф Гитлер» отразил страшную атаку большевиков на Потсдамерплатц, и нам выпало несколько часов покоя. Когда я вернулся в кирху на Мауерштрассе, чтобы доложить о новостях Мюллеру, мне сообщили, что он в одном из крыльев Министерства внутренних дел и что мне тоже приказано туда явиться. Я нашел Мюллера в компании Томаса и еще тридцати офицеров СД и гестапо в большом зале почти без мебели, с пятнами от сырости на стенах. Мюллер заставил нас прождать еще полчаса, но пришли еще только пять человек (хотя всего он вызвал пятьдесят). Мы выстроились в ряд и во время короткой речи стояли навытяжку. Накануне, после беседы по телефону с обергруппенфюрером Кальтенбруннером, фюрер решил удостоить РСХА высокой чести за службу и безупречную честность. Он хочет наградить Золотым немецким крестом десять оставшихся в Берлине офицеров, особенно отличившихся на войне. Список составлял Кальтенбруннер, те, кто себя в нем не обнаружат, пусть не расстраиваются, они тоже получат свою долю почестей. Потом Мюллер зачитал список, который начинался с него самого. Я не удивился, услышав фамилию Томаса, но, к моему вящему изумлению, предпоследним Мюллер назвал меня. Что же я совершил, чтобы меня так отметили? С Кальтенбруннером на короткой ноге я не был, совсем наоборот. Томас, стоявший в другом конце шеренги, незаметно мне подмигнул. Потом мы, разбившись на группы, отправились в канцелярию. В машине Томас объяснил мне суть дела. Роль сыграло то, что мы с ним служили на фронте, а таких среди офицеров, оставшихся в Берлине, – единицы. Добраться до канцелярии по Вильгельмштрассе оказалось довольно сложно, канализационные трубы лопнули, улицу затопило, плавающие в воде трупы слегка покачивались, когда рядом проезжали машины. Путь мы заканчивали пешком, брюки вымокли до колен. Мюллер вместе с нами карабкался по руинам Министерства иностранных дел, оттуда подземный туннель вел в бункер фюрера. Туннель тоже заполнялся водой, доходившей нам почти до лодыжек. Вход в бункер охраняли чины ваффен-СС «Лейбштандарта», они забрали у нас табельные пистолеты и пропустили. Мы прошли через первый бункер, потом по винтовой лестнице, с которой струились ручейки, во второй, более глубокий. Мы шлепали по воде, поток тек от Министерства, внизу у ступенек уже намокли красные ковры, устилавшие длинный коридор, где нас усадили вдоль стены на школьные деревянные стулья. Прямо при нас генерал вермахта кричал на другого, носившего погоны генерал-оберста: «Мы тут все утонем!» Тот старался его успокоить и заверял, что скоро привезут насос. В бункере к отвратительному запаху мочи примешивались запахи сырости и затхлости, пота и шерсти, пропитанной влагой, которые тщетно пытались заглушить дезинфицирующими средствами. Нам пришлось ждать, офицеры сновали туда-сюда, под ногами у них громко хлюпало, они исчезали внизу в другом кабинете или поднимались по винтовой лестнице. В помещении не смолкало жужжание дизельного генератора. Мимо нас, оживленно беседуя, продефилировали два молодых элегантных офицера, за ними следовал мой старый друг доктор Хоенэгг. Я радостно вскочил и кинулся жать ему руку, он, не выпуская моей, повел меня в комнату, где солдаты ваффен-СС играли в карты или спали на двухъярусных кроватях. «Меня прислали сюда в качестве внештатного врача фюрера», – мрачно пояснил Хоенэгг. Его потная лысина блестела под электрической лампочкой. «И как здоровье фюрера?» – «О, не очень. Но я им не занимаюсь, мне доверили детей нашего дорогого министра пропаганды. Они тут, в первом бункере», – добавил он, ткнув пальцем в потолок. Он оглянулся и понизил голос: «Это отчасти пустая трата времени. Когда я оказываюсь наедине с их матерью, она мне клянется всеми богами, что отравит малышей, а потом покончит с собой. Бедные дети ни о чем не подозревают, они такие милые, у меня сердце разрывается, честное слово. А наш хромоногий Мефистофель твердо решил сформировать почетный караул для сопровождения своего господина в ад. Ну и пусть». – «Все уже так далеко зашло?» – «Конечно. Толстяк Борман, которому идея совсем не понравилась, попытался сподвигнуть его на отъезд, но он отказался. Но, по моему скромному мнению, долго все это не продлится». – «А вы, дорогой доктор?» – спросил я с улыбкой. Я, правда, был счастлив видеть его вновь. «Я? Carpe diem, как говорят мальчики в английских школах. Мы сегодня вечером организуем праздник. Наверху, в канцелярии, чтобы его не беспокоить. Приходите, если сможете. Будет много горячих девиц, предпочитающих подарить свою девственность любому немцу, невзирая на его внешность, чем лохматому, вонючему калмыку». Он похлопал по пухлому животу: «В моем возрасте от подобных подарков не отказываются. А потом, – брови комично поползли вверх на лоб, – потом посмотрим». – «Доктор, – торжественно сказал я, – вы мудрее меня». – «Я ни минуты в этом не сомневался, оберштурмбанфюрер. Зато мне не везет так бессовестно, как вам». – «В любом случае, поверьте, я очень рад нашей встрече». – «Я тоже, я тоже!» Мы уже вышли в коридор. «Приходите, если сможете», – повторил он и засеменил дальше на своих коротеньких ножках.
Чуть позже нас пригласили в зал, расположенный в глубине бункера. Мы сами отодвинули столы, заваленные картами, и построились вдоль стены на мокром ковре. Два генерала, ругавшиеся из-за воды, встали у двери напротив нас. На одном из столов адъютант раскладывал коробочки с медалями. Дверь открылась, и на пороге появился фюрер. Мы все одновременно вытянулись по струнке, вскинули руки в воздух и гаркнули: «Хайль Гитлер!» Генералы тоже замерли по стойке смирно. Фюрер отсалютовал в ответ, но рука его сильно дрожала. Потом он приблизился неуверенной, прыгающей походкой. За ним из комнаты вышел Борман, затянутый в коричневую форму. Никогда я еще не видел фюрера так близко. На нем была простая серая форма и фуражка, лицо уставшее, желтое, опухшее, растерянное, вытаращенные глаза смотрели в одну точку, он вдруг принимался часто моргать, в уголке губ блестела капелька слюны. Когда фюрера покачивало, Борман волосатой лапой поддерживал его за локоть. Фюрер оперся об угол стола и произнес довольно бессвязную речь, упомянув Фридриха Великого, вечную славу и евреев. После он направился к Мюллеру. Борман следовал за ним тенью. Адъютант поднес фюреру открытый футляр с крестом. Фюрер медленно взял крест и, не пристегивая, сунул ее в правый карман Мюллера, долго жал ему руку, приговаривая: «Мой добрый Мюллер, мой верный Мюллер», и в конце похлопал по плечу. Я держал голову прямо и наблюдал за сценой краем глаза. Церемония повторилась со всеми по очереди. Мюллер выкрикивал имя, звание и занимаемую должность, фюрер награждал. Вот уже очередь дошла до Томаса. Чем ближе фюрер подходил ко мне – я стоял почти в самом конце шеренги – тем сильнее мое внимание приковывал его нос. Я до сих пор не замечал, до какой степени он широкий и непропорциональный. В профиль это было явно заметно, потому что взгляд не отвлекали маленькие усики. Основание носа было мясистое, крылья плоские, задранный кончик, – определенно славянский или богемский, даже почти монгольский нос. Не знаю почему, меня этот нос заворожил, показался мне чуть ли не неприличным. Фюрер подступал ко мне, я продолжал изучать его нос. Когда фюрер оказался передо мной, я с удивлением отметил, что его фуражка еле достает мне до уровня глаз, а я ведь не слишком высокий. Он пробормотал поздравление и нащупал награду. Его тошнотворное, смрадное дыхание меня доконало, чаша моего терпения переполнилась. Я наклонился и укусил фюрера сильно, до крови, за его нос-картошку. Даже сегодня я не в состоянии вам объяснить, зачем я это сделал, просто не смог удержаться. Фюрер пронзительно завопил и отскочил назад в объятия Бормана. На какой-то момент все замерли, потом на меня навалилось сразу несколько человек. Меня опрокинули на пол, били; свернувшись клубком на мокром ковре, я пытался, насколько возможно, защищаться от ударов сапог. Все орали, фюрер ругался. Наконец меня встряхнули и поставили на ноги. Фуражка слетела, я хотел хотя бы поправить галстук, но мне крепко скрутили руки. Борман подталкивал фюрера к комнате и ревел: «Расстрелять его!» Томас позади толпы молча наблюдал за мной, с видом одновременно разочарованным и насмешливым. Меня поволокли к двери в глубине зала. Потом раздался грубый, твердый голос Мюллера: «Подождите! Я хочу его сначала допросить. Доставьте его в камеру».
Мне доподлинно известно, что ни Тревор-Ропер, ни Баллок, никто из историков, изучавших последние дни фюрера, ни словом не обмолвился об этом эпизоде. Но я вас уверяю, что он имел место. Впрочем, молчание хроникеров понятно. Мюллер пропал несколькими днями позже, то ли погиб, то ли попал в плен к русским. Бормана, пытавшегося бежать из Берлина, точно убили. Кребс и Бургдорф, а именно они были, по-видимому, теми двумя генералами, покончили с собой. Адъютанта тоже, скорее всего, нет в живых. О судьбе офицеров РСХА, свидетелей происшествия, я ничего не знаю, но нетрудно догадаться, учитывая их служебное положение, что, если кто из них и выжил, вряд ли стал бы хвастаться наградами, полученными от фюрера лично за три дня до его смерти. Вероятно поэтому курьезный случай ускользнул от внимания исследователей. А может быть, какое-то упоминание о нем осталось в советских архивах? Меня выволокли на поверхность по длинной лестнице, выходившей в сады канцелярии. Удар бомбы обратил прекрасное здание в руины, но в свежем весеннем воздухе разливалось восхитительное благоухание жасмина и гиацинтов. Меня пинками затолкали в машину и отвезли в расположенную совсем рядом церковь. Там мы спустись в бункер, и меня, без разбирательств, бросили в камеру с бетонными стенами, пустую и сырую. На полу были лужи, стены покрыты влагой, когда тяжелая металлическая дверь закрылась, меня поглотил мрак, кромешный, утробный. Напрасно я пялился в темноту, ни единого луча сюда не проникало. За несколько часов, проведенных там, я вымок и замерз. Потом за мной пришли. Меня привязали к стулу, я щурился, свет резал глаза. Мюллер вел допрос лично, меня били дубинками по бокам, плечам и рукам, Мюллер тоже отвесил мне несколько оплеух своим огромным деревенским кулаком. Я пытался объяснить, что за моим деянием ничего не стоит, что я не планировал его заранее, на меня нашло помутнение, но Мюллер не верил. Он видел здесь долго вызревавший заговор и требовал, чтобы я назвал сообщников. Тщетно я отпирался, Мюллер не отступал, если уж он брался за дело, то становился упрямым как баран. Меня снова проводили в камеру, я лежал в луже и ждал, когда успокоится боль от побоев, да так и заснул, головой наполовину в воде, а когда очнулся, продрогнув до костей, тело сводило судорогой. Вдруг дверь распахнулась, и ко мне втолкнули какого-то человека. Я едва успел заметить, что на нем форма офицера СС, без наград и погон. Я слышал, как в темноте он бурчал с баварским выговором: «Здесь что – ни сухого местечка?» – «Попробуйте у стены», – прошептал я вежливо. «Ты-то еще кто?» – спросил офицер грубо, но без вызова. «Я? Оберштурмбанфюрер доктор Ауэ из СД. А вы?» Он сменил тон: «Извините, оберштурмбанфюрер. Я – группенфюрер Фегелейн. То есть бывший группенфюрер Фегелейн», – уточнил он с явной иронией. Мне его имя было знакомо. Фегелейн заменил Вольфа на посту связного между рейхсфюрером и фюрером, а до этого командовал кавалерийской дивизией СС в России, преследовал партизан и евреев в болотах Припяти. В управлении СС он слыл балагуром, хорошим малым, честолюбивым, рисковым. Я приподнялся на локтях: «А как вы здесь очутились, герр бывший группенфюрер?» – «О, по недоразумению. Я немного выпил и сидел дома с девочкой, а психи из бункера решили, что я намерен дезертировать. Держу пари, тут Борман постарался. Они, конечно, все обезумели, но истории про Валгаллу не для меня, спасибо, увольте. Думаю, скоро моя проблема уладится, свояченица обо мне позаботится». Я не знал, кого он имел в виду, но промолчал, а понял лишь годы спустя, прочитав Тревор-Ропера. Фегелейн был женат на сестре Евы Браун, о существовании которой я, как и большинство других, не подозревал. Впрочем, столь выгодная женитьба Фегелейну не помогла. Несмотря на связи, обаяние и хорошо подвешенный язык, его расстреляли на следующий вечер в садах канцелярии (об этом я тоже узнал гораздо позже). «А вы, оберштурмбанфюрер?» – спросил Фегелейн. Я рассказал о своих злоключениях. «А! – воскликнул он. – Скверно. То-то они в плохом настроении. Мюллер, свинья, чуть голову мне не оторвал». – «Вас он тоже бил?» – «Да, ему в башку втемяшилось, что девочка, с которой я развлекался, английская шпионка. Не знаю, что на него вдруг нашло». – «Да уж, правда, – я вспомнил слова Томаса. – Группенфюрер Мюллер ищет шпиона, „крота“». – «Возможно, – пробормотал Фегелейн. – Но я здесь совершенно ни при чем». – «Извините, а который час?» – спросил я. «Точно не скажу. Вероятно, полночь или час ночи». – «Тогда не лучше ли нам поспать?» – в шутку предложил я. «Я бы предпочел свою кровать», – ворчал Фегелейн. «Отлично вас понимаю». Я растянулся на полу возле стены и заснул, бедра и ноги в воде, но это все же лучше, чем голова. Спалось мне хорошо, я видел приятные сны и проснулся с сожалением от ударов сапога в бок и окрика: «Подъем!» Я с трудом встал. Фегелейн сидел у двери, обняв руками колени. Когда я выходил, он робко улыбнулся и махнул рукой. Меня отвели в церковь, там уже ждали эсэсовцы в форме и два полицейских в штатском, у одного был пистолет. Вооруженный полицейский вцепился мне в руку, выволок на улицу и запихал в «опель», за нами уселись остальные. «Куда едем?» – спросил я полицейского, тот ткнул меня дулом под ребра и рявкнул: «Заткнись!» Машина тронулась, свернула на Мауэрштрассе, не проехала и ста метров, как раздался пронзительный свист, мощный взрыв поднял «опель» на воздух и опрокинул на бок. Полицейский, оказавшийся подо мной, выстрелил, я помню, мне показалось, что он убил одного из эсэсовцев впереди. Второй полицейский, окровавленный, бездыханный, навалился на меня. Я, с жуткими усилиями отталкиваясь ногами и локтями, выбрался из перевернутой машины через разбитое заднее стекло, правда, порезался немного. Снаряды падали совсем рядом, взметая вверх фонтаны кирпичей и земли. Меня оглушило, в ушах стоял звон. Я опустился на тротуар и лежал в изнеможении несколько минут. Сзади из «опеля» выполз полицейский и бухнулся мне на ноги. Я нащупал кирпич и саданул его по голове. Мы катались по обломкам, в красной пыли и грязи. Я колотил его изо всей мочи, но не так просто убить человека осколком кирпича, да еще обгоревшего, с третьим или четвертым ударом кирпич раскрошился у меня в пальцах. Я принялся искать другой камень, но полицейский перевернул меня и стал душить. Он бешено вращал глазами, кровь, текшая по лбу, оставляла грязные полоски на лице, покрытом кирпичной пылью. Наконец я дотянулся до булыжника и стукнул его с размаху по темени. Он рухнул на меня. Я высвободился и бил полицейского головой о мостовую, пока не лопнула черепная коробка и из нее, смешавшись с волосами и грязью, не потек мозг. Я встал, еще в дурмане, посмотрел, нет ли у полицейского оружия, но его пистолет, наверное, остался в машине, одно колесо до сих пор крутилось в воздухе. Трое других конвоиров, похоже, погибли. Снаряды больше пока не взрывались. Я затрусил к Мауэрштрассе.
Теперь надо было спрятаться. Меня окружали только министерства и прочие служебные здания, почти все разрушенные. Я повернул на Лейпцигерштрассе и вошел в подъезд жилого дома. Передо мной болтались, тихонько покачиваясь в воздухе, ноги, и голые, и в носках. Я поднял голову. На перилах лестницы висело множество людей, в том числе женщины и дети, руки опущены плетьми. Я отыскал и открыл подвал: в нос ударила волна смрада, разложившихся тел, дерьма и рвоты, в воде сидели вспухшие трупы. Я затворил дверь и попытался подняться на второй этаж, но после первого пролета лестница вела в пустоту. Я спустился, осторожно огибая повешенных, и вышел. На улице моросил дождь, со всех сторон слышались взрывы. Передо мной зияла дыра метро, станция «Штадтмитте», линия С. Я сбежал вниз, перескакивая через ступеньки, миновал турникеты и двинулся в темноте на ощупь вдоль стены. Плитка мокрая, вода скапливалась под потолком и стекала по своду. С платформы доносились приглушенные голоса, народу было полным-полно, я не мог разглядеть, кто мертв, кто спит, кто просто лежит, спотыкался о тела, взрослые возмущались, дети плакали или ныли. На перроне стоял вагон с разбитыми стеклами, освещенный мерцающими огоньками свечей. Внутри в ряд по стойке смирно выстроились солдаты ваффен-СС с французскими нашивками, и высокий бригадефюрер в черном кожаном плаще, стоявший ко мне спиной, торжественно раздавал награды. Мне не хотелось им мешать, я тихо проскользнул мимо, прыгнул на пути и приземлился в холодную воду, доходившую мне до икр. Я намеревался двинуться на север, но потерял ориентировку, попытался восстановить в памяти направления поездов, но не сумел даже определить, на какой станции нахожусь, все перепуталось. С одной стороны туннеля я заметил слабый свет и побрел туда по воде, скрывавшей рельсы, спотыкаясь о невидимые препятствия. В конце туннеля вереницей стояли поезда, в них тоже горели свечи, это был временный лазарет, до отказа забитый кричавшими, ругавшимися, стонавшими ранеными. Я прокрался вдоль вагонов, внимания на меня никто не обратил, и продолжил путь, по-прежнему держась за стену. Вода прибывала и теперь поднялась почти до колена. Я остановился, погрузил в воду руку и ощутил, что двигаюсь против течения. Я пошел дальше. Задел плывший навстречу труп. Я почти не чувствовал ступней, онемевших от холода. Впереди вроде опять мелькнул свет, и кроме плеска воды я улавливал теперь другие звуки. Наконец я добрался до станции, освещенной одной-единственной свечой. Вода уже доходила до колен. Тут тоже кишели люди. Я спросил: «Какая это станция, скажите, пожалуйста?» – «Кохштрассе», – ответили мне довольно любезно. Я ошибся в направлении и двигался к линиям русских. Я вернулся в туннель и побрел назад к центру города. Вот опять показались огоньки лазарета. На путях рядом с последним вагоном стояли две фигуры, высокая и пониже. Вспыхнувший фонарик ослепил меня, я отвернулся, знакомый голос пророкотал: «Привет, Ауэ. Как дела?» – «Ты очень вовремя, – отозвался второй, более тонкий голос, – мы как раз тебя искали». Это были Клеменс и Везер. Зажегся второй фонарик, полицейские приближались, я, спотыкаясь, пятился назад. «Мы хотели с тобой побеседовать, – сказал Клеменс. – О твоей маме». – «О, господа! – воскликнул я. – Вы думаете, сейчас подходящий момент?» – «Если речь о важных вещах, то момент всегда подходящий», – жесткий голос Везера резал слух. Я сделал еще пару шагов назад, но уперся в стену, струйки холодной воды текли по бетону мне на плечи, я совсем закоченел. «Что вам от меня надо? – взвизгнул я. – Мое дело давно закрыто!» – «Продажными, нечестными судьями», – осек Клеменс. «До сих пор тебе удавалось выпутываться благодаря разным махинациям, – сказал Везер. – Но теперь всему конец». – «Вам не кажется, что судить об этом вправе лишь рейхсфюрер или обергруппенфюрер Брейтхаупт?» Последний являлся главой суда СС. «Брейтхаупт погиб несколько дней назад в автокатастрофе, – флегматично заметил Клеменс. – А рейхсфюрер далеко». – «Нет, – добавил Везер. – Сейчас действительно разговор только между тобой и нами». – «Но чего вы хотите?» – «Правосудия», – холодно ответил Клеменс. Они подошли еще ближе, встали по бокам и направили мне в лицо фонари, а я про себя отметил, что в руках у них пистолеты. «Послушайте, – забормотал я, – все это ужасное недоразумение. Я невиновен». – «Невиновен? – грубо перебил Везер. – Давай посмотрим!» – «Мы тебе расскажем, как обстояло дело», – начал Клеменс. Меня слепили их фонарики, и казалось, что низкий голос Клеменса исходит из яркого света. «Ты сел на ночной поезд Париж – Марсель. В Марселе двадцать шестого апреля ты получил пропуск в итальянскую зону. На следующий день ты явился в Антиб и пошел домой, где тебя приняли как сына, возлюбленного сына, коим ты и был. Вечером вы ужинали в семейном кругу, и потом ты ночевал в спальне наверху, рядом с комнатой близнецов и напротив спальни Моро и твоей матери. Потом наступило двадцать восьмое апреля». – «Слушай, – вмешался Везер. – Сегодня ведь тоже двадцать восьмое, какое совпадение!» – «Господа, – я все еще храбрился, – вы бредите». – «Заткнись, – отрезал Клеменс. – Я продолжаю. Неизвестно, чем ты занимался днем. Мы знаем, что рубил дрова и вместо того, чтобы отнести топор в сарай, оставил его на кухне. Потом ты разгуливал по городу и купил обратный билет. Ты был в штатском и внимания не привлек. После ты вернулся домой». Теперь взял слово Везер: «Что последовало затем, неясно. Может, ты спорил с Моро, с матерью, может, вы крупно поссорились. Мы не уверены. И не знаем, в котором часу все происходило. Но нам известно, что ты оказался с Моро один на один. Тогда ты взял на кухне топор, вернулся в гостиную и убил отчима». – «Кстати, мы охотно верим, что ты ненамеренно оставил топор, – встрял Клеменс, – забыл его случайно и ничего заранее не замышлял, все получилось само собой. Но, раз начав, ты решил довести работу до конца». Везер продолжил: «Да уж, точно. Моро, наверное, удивился, когда ты засадил ему топор в грудь. Со звуком, будто полено раскололи. Твой отчим упал, захлебываясь кровью и булькая, с топором в грудной клетке. Ты поставил ему ногу на плечо для упора, вытащил топор и снова ударил, но плохо рассчитал угол, топор отпрыгнул, сломав Моро несколько ребер. Ты отступил, прицелился более тщательно и рубанул по горлу. Лезвие рассекло адамово яблоко, и ты услышал хруст перебитого позвоночника. Моро пронзила страшная судорога, он изрыгнул на тебя поток черной крови, из его шеи тоже хлестала кровь, и ты был полностью в крови. Потом его глаза заволокло пеленой, вся кровь вытекла через наполовину отрубленную шею, а ты смотрел, как потухли его глаза, словно у барана, которому перерезали горло на траве». – «Господа, – произнес я с нажимом, – вы совершенно сумасшедшие». Опять заговорил Клеменс: «Мы не знаем, видели ли близнецы убийство или только то, как ты поднимался по лестнице. Ты бросил тело и топор и, окровавленный, отправился на второй этаж». – «Мы не знаем, почему ты не убил мальчиков, – сказал Везер. – Ты мог легко это сделать, но не сделал. Может, не захотел, а может, и захотел, но поздно, они уже убежали. Или поначалу хотел, а потом передумал. Или ты уже догадался, что они – дети твоей сестры». – «Мы заезжали к ней в Померанию, – проворчал Клеменс. – Нашли письма, документы. Разные интересные вещи и среди прочего – свидетельства о рождении малышей. Впрочем, мы уже знали, кто они». Я истерично хихикнул: «А ведь я там был, сидел в кустах и наблюдал за вами». – «Да, мы это подозревали, – невозмутимо ответил Везер, – но не стали упорствовать, решили, что и так когда-нибудь тебя встретим. И, гляди-ка, вправду встретили». – «Продолжим нашу историю, – предложил Клеменс. – Итак, ты поднялся, залитый кровью. Мать ждала тебя или возле лестницы, или у двери в спальню. Стояла в ночной рубашке, твоя старая мать. Она заговорила, глядя тебе в глаза. Неизвестно, что она тебе сказала. Близнецы все слышали, но они молчат. Наверное, она тебе напомнила, как носила тебя в утробе, потом кормила грудью, как подтирала тебе задницу и мыла, пока твой отец шлялся по бабам, бог весть где. Может, она тебе показала грудь». – «Неправдоподобно, – я сплюнул и горько усмехнулся. – У меня аллергия на ее молоко, она никогда не кормила меня грудью». – «Тем хуже, – Клеменс и глазом не моргнул. – Может, она тебя погладила по подбородку, по щеке, назвала тебя „дитя мое“. Но тебя это не растрогало. Ты должен был ей отплатить любовью, но ты ее ненавидел. Ты зажмурился, чтобы не видеть материнскую грудь, схватил мать за шею и задушил». – «Вы – чокнутые! – завопил я. – Несете какую-то околесицу!» – «Ну, уж не совсем, – съязвил Везер, – конечно, мы лишь восстанавливаем события, но они совпадают с фактами». – «Потом ты пошел в туалетную комнату и разделся, – бесстрастно пробасил Клеменс, – кинул вещи в ванну, смысл с себя кровь и ринулся в свою спальню, голышом». – «Тут непонятно, – встрял Везер. – Или ты удовлетворял свои извращенные потребности, или просто уснул. На рассвете ты встал, надел форму и уехал. Ты сел в автобус, потом на поезд, добрался до Парижа, а оттуда до Берлина. Тридцатого апреля ты послал телеграмму сестре. Она поехала в Антиб, похоронила мать и отчима и незамедлительно покинула город, прихватив детей. Возможно, она обо всем догадалась». – «Послушайте, – залепетал я, – вы потеряли рассудок. Судьи говорили, что у вас нет ни одного доказательства. Почему я убил? Какой у меня мотив? Всегда же нужен мотив». – «Мы не знаем, – спокойно ответил Везер. – Но, если откровенно, нам это неважно. Может, ты хотел денег Моро. Или ты психопат, сексуальный маньяк. Не исключено, что ты повредился умом после ранения. Возможно, речь о старой ненависти, которую ты питал к семье, – сколько таких случаев – и решил воспользоваться войной, чтобы по-тихому свести счеты, полагая, что среди такого количества смертей никто не заметит еще две. Или ты просто свихнулся». – «Ну и что вам, наконец, надо?» – опять завопил я. «Мы тебе уже сказали, – прошипел Клеменс, – правосудия». – «Город в огне! – выкрикнул я. – Трибунала больше нет! Все судьи либо мертвы, либо эвакуированы. Как вы будете меня судить?» – «Мы тебя уже осудили, – Везер говорил очень тихо, я слышал, как капает вода. – И признали тебя виновным». – «Вы? – ухмыльнулся я. – Вы ищейки. Вы не имеете права судить». – «Учитывая обстоятельства, – прогремел грубый голос Клеменса, – мы взяли на себя такое право». – «Ну, тогда вы, даже если у вас есть основание, ничуть не лучше меня», – грустно констатировал я.
В тот же момент с Кохштрассе донесся сильный шум. Люди орали и бежали, с громким плеском рассекая воду. Один человек на бегу крикнул нам: «Русские! Русские в туннеле!» – «Черт!» – выругался Клеменс. Они с Везером посветили фонариками в сторону станции. Немецкие солдаты отступали, отстреливаясь наугад. В глубине мелькали огни, вырывавшиеся из жерла автоматов, пули свистели, с треском отскакивали от стен или ударялись о воду с глухим шлепком. Люди вопили, падали, как подкошенные. Клеменс и Везер, не выключая фонарей, неторопливо, без суеты подняли пистолеты и принялись стрелять во врагов. Туннель заполнился криками, выстрелами, плеском воды. Русские напротив отвечали пулеметными очередями. Клеменс и Везер хотели потушить фонарики. И именно в этот момент в короткой вспышке света я увидел, как пуля попала Везеру под подбородок. Везер выпрямился и опрокинулся назад во весь рост, подняв кучу брызг. Клеменс взревел: «Везер! Черт!» Но его фонарик погас. Я, затаив дыхание, нырнул под воду. И, ориентируясь по рельсам, скорее пошел, чем поплыл, к санитарным вагонам. Когда я высунул голову, вокруг меня засвистели пули, пациенты больницы верещали от ужаса. Я различил французскую речь, короткие приказы. «Не стреляйте, ребята!» – заорал я по-французски. Чья-то рука схватила меня за ворот и потащила к платформе, вода текла с меня ручьями. «Земляк?» – насмешливо спросил голос. Я дышал с трудом, кашлял, наглотавшись воды. «Нет, нет, я – немец», – просипел я. Тип выпустил очередь у моего уха, я только успел услышать голос Клеменса: «Ауэ! Подонок! Я тебя достану!» Я взобрался на платформу, расталкивая руками и локтями перепуганных людей, проложил себе дорогу к лестнице и помчался, перепрыгивая через три ступеньки.
На улице ни души, кроме трех эсэсовцев-иностранцев, трусивших с тяжелым пулеметом и панцерфаустами к Циммерштрассе, не обращая внимания ни на меня, ни на прочих штатских, удиравших из метро. Я понесся в противоположную сторону, вверх по Фридрихштрассе, между горящими домами, трупами и покореженными машинами к северу, на Унтер-ден-Линден. Из лопнувшей канализации бил фонтан, орошая тела и обломки. На углу улицы показались два небритых старика, с виду совершенно безучастные к грохоту минометов и тяжелой артиллерии. Один носил повязку слепого, второй служил ему поводырем. «Куда вы идете?» – спросил я, задыхаясь. «Не знаем», – ответил слепой. «А откуда хотя бы?» – «Тоже не знаем». Они сели на ящик между руинами и грудой щебня. Слепой оперся на трость, его попутчик с безумными глазами оглядывался вокруг и теребил за рукав своего друга. Я повернулся к ним спиной и продолжил свой путь. На улице, насколько хватало взгляда, пусто. Передо мной возвышалась контора доктора Мандельброда и герра Леланда. Здание, конечно, задели снаряды, но явных разрушений я не видел. Одна из входных дверей висела на петлях, я вышиб ее ударом плеча и проник в вестибюль, заваленный осколками мрамора и лепнины, отвалившейся от стен. Наверное, здесь стояли лагерем солдаты. Я заметил следы от костра, на котором готовили пищу, пустые консервные банки, почти уже высохшие экскременты. Но теперь в вестибюле никого не было. Я толкнул дверь на запасную лестницу и побежал наверх. Коридор на последнем этаже вел к красивой приемной Мандельброда. Там сидели две амазонки, на диване и в кресле, у одной голова была запрокинута, у другой наклонена набок, глаза широко распахнуты, каждая держала маленький автоматический пистолет с перламутровой рукояткой, тоненькая струйка текла из висков и уголков губ. Третья девушка лежала навзничь поперек двойной двери, обитой тканью. Я оцепенел от ужаса, потом приблизился, наклонился и рассмотрел девушек, не касаясь их. Безупречно одеты, волосы зачесаны назад, на полных губах помада, черная тушь подчеркивает длинные ресницы, обрамлявшие остекленевшие глаза, ноготки на пальчиках, жавших спусковой крючок, аккуратно подстрижены и покрыты лаком. Напрасно я вглядывался в их прекрасные лица, отличить Хильду от Хельги или Эдвиги мне не удавалось, хотя они вовсе не были близнецами. Я перешагнул через распластавшуюся в дверях секретаршу и вошел в кабинет. Еще три мертвые девушки – на ковре и на канапе. Мандельброд и Леланд находились в глубине комнаты у огромного разбитого окна среди гор кожаных чемоданов и сумок. Снаружи за их спинами неистовствовал пожар, но ни Мандельброд, ни Леланд не обращали ни малейшего внимания на клубы дыма, заволакивавшие комнату. Я направился к ним и спросил, кивнув на багаж: «Вы собрались в путешествие?» Мандельброд гладил кошку, примостившуюся у него на коленях, на заплывшем жиром лице мелькнула улыбка. «Совершенно верно, – зазвучал в ответ его чудесный, мелодичный голос. – Хочешь с нами?» Я вслух пересчитал багаж: «Девятнадцать, неплохо. Вы далеко едете?» – «Для начала в Москву, а там посмотрим», – сказал Мандельброд. Леланд в длинном, цвета морской волны плаще сидел на стульчике рядом с Мандельбродом, курил сигарету, стряхивая пепел в стеклянную пепельницу, и молча буравил меня взглядом. «Понятно. И вы надеетесь все это унести?» – поинтересовался я. «Да, конечно, – опять улыбнулся Мандельброд. – Мы обо всем уже договорились. Ждем, когда за нами придут». – «Русские? Пока квартал еще за нашими, имейте в виду». – «Мы знаем, – Леланд выпустил большое облако дыма. – Большевики сообщили, что непременно будут здесь завтра». – «Очень образованный полковник, – добавил Мандельброд. – Он просил не волноваться, все заботы о нас он берет на себя. Ты должен знать, что работы непочатый край». – «А девушки?» – махнул я рукой в сторону трупов. «Бедняжки не желали ехать с нами. Слишком сильна их любовь к матери-отчизне. Не захотели понять, что существуют еще более важные ценности». – «Фюреру – крышка, – бесстрастно констатировал Леланд. – Но начатая онтологическая война не завершена. Кому, как не Сталину, доводить дело до конца?» – «Когда мы предложили большевикам наши услуги, – зашептал Мандельброд, поглаживая кошку, – они тут же проявили интерес. Они понимают, что после войны им понадобятся такие люди, как мы, они же не могут допустить, чтобы сливки сняли западные державы. Если поедешь с нами, гарантирую, ты получишь отличную должность со всеми привилегиями». – «Ты продолжишь заниматься тем, что хорошо умеешь», – уточнил Леланд. «Вы сумасшедшие! – воскликнул я. – Вы все здесь помешались! Все в этом городе безумны!» Я пятился к двери, мимо застывших в изящных позах девушек. «Кроме меня!» – выкрикнул я, прежде чем выскочить за порог. До меня донеслись слова Леланда: «Если передумаешь, возвращайся!»
На Унтер-ден-Линден было по-прежнему пусто, снаряды, приземлявшиеся то тут, то там, обращали фасады домов в кучу обломков. Я ринулся к Бранденбургским воротам. Любой ценой надо было вырваться из города, ставшего опасной ловушкой. Информация, которой я владел, устарела на один день, но я знал, что единственный выход – пройти через Тиргартен, потом по оси Восток – Запад до Адольф-Гитлер-платц, дальше по обстоятельствам. Накануне эту часть города не перекрыли, а «Гитлерюгенд» еще удерживал мост через Гафель, и Ваннзее оставалась в наших руках. Если удастся добраться до Томаса, я спасен, думал я. На Паризерплатц, перед Воротами, кстати практически не пострадавшими, громоздились опрокинутые, искореженные, обугленные машины. За моей спиной раздался мощный грохот, русский танк приближался, сметая с дороги остовы машин, сверху сидели солдаты ваффен-СС, по-видимому захватившие его. Танк остановился рядом со мной, выстрелил и двинулся дальше, громыхая гусеницами, один солдат окинул меня равнодушным взглядом. Потом танк взял вправо и скрылся на Вильгельмштрассе. Чуть дальше на Унтер-ден-Линден между фонарями и рядами обрубленных деревьев мелькнула сквозь дымовую завесу человеческая фигура в шляпе. Я бросился бежать, лавируя между препятствиями, и миновал Ворота, черные от дыма, изрешеченные пулями и осколками гранат.
За Воротами располагался Тиргартен. Я свернул с улицы в гущу деревьев. В парке царила необычайная тишина, только вдалеке гремели взрывы и со свистом падали минометные снаряды. Серые вороны, вечно оглашавшие Тиргартен хриплым карканьем, улетели в более надежное место, прочь от непрекращающихся бомбардировок. В небе ни Sperrkommando, команд блокирования, ни летучего военного трибунала для птиц, воронам страшно повезло, а они об этом даже не догадываются. Между деревьями валялись трупы, там, где их настигла пуля, а по обеим сторонам аллей качались повешенные. Сквозь вновь заморосивший дождик пробивалось солнце, на газонах цвели кусты, аромат роз смешивался с трупным запахом. Время от времени я оглядывался: мне казалось, что кто-то крадется следом. Я вынул шмайсер из рук мертвого солдата, прицелился и нажал на спуск, но автомат заклинило, и я в ярости швырнул его в кусты. Я не собирался сильно отдаляться от улицы, но мне видно было, что по ней по-прежнему снуют машины, люди, и я решил углубиться в парк. Справа от меня над деревьями по-прежнему возвышалась несокрушимая колонна Победы, спрятанная под защитными щитами. Впереди дорогу мне перегораживали многочисленные пруды. Но я не стал возвращаться к улице и подумал, что обогну их со стороны канала, где когда-то очень давно я прогуливался ночью в поиске удовольствий. Оттуда срежу путь через зоопарк, рассуждал я, и затеряюсь в районе Шарлоттенбурга. Я перешел канал по мосту, на котором однажды вечером случилась нелепая ссора с Гансом П. Стена зоопарка во многих местах обрушилась, и я карабкался по кучам щебня. Со стороны большого бункера доносились частые выстрелы, залпы легкой гаубицы и пулеметные очереди.
Эта часть зоопарка оказалась полностью затопленной. Бомбы проломили аквариум, и из лопнувших резервуаров хлынули тонны воды, раскидывая по аллеям дохлых рыб, лангустов, крокодилов, медуз. Задыхающийся дельфин, лежавший на боку, испуганно смотрел на меня. Я шлепал вперед, мимо Острова бабуинов, где детеныши цеплялись крохотными лапками за животы обезумевших от ужаса матерей, мимо попугаев, мертвых обезьян, мимо жирафа, длинная шея которого свесилась с ограды, мимо окровавленных медведей. Потом вошел в наполовину разрушенное помещение. В просторной клетке сидел мертвый самец громадной черной гориллы со штыком в груди. Река черной крови стекла между решеток в воду. Вид у гориллы был озадаченный и удивленный, морщинистое лицо, открытые глаза, огромные пальцы поразительно напоминали человеческие, казалось, что самец вот-вот заговорит со мной. За зданием расстилался широкий, огороженный пруд, в котором плавал мертвый гиппопотам, в спину ему воткнулся стабилизатор минометного снаряда, второй гиппопотам, тяжело дыша, агонизировал на площадке. Вода, выплеснувшаяся из берегов пруда, насквозь пропитала одежду двух солдат ваффен-СС, лежавших поблизости. Третий, с потухшим взглядом, прислонился спиной к клетке, держа на коленях автомат. Я собрался продолжить путь, как вдруг уловил обрывки русской речи. Вблизи испуганно трубил слон. Я спрятался за кустом, потом повернул обратно, чтобы обойти клетки по маленькому мостику. Дорогу мне преградил Клеменс, с его мягкой шляпы капало, он стоял в луже в конце мостика и целился в меня из пистолета. Я, будто в кино, поднял руки вверх. «Ты заставил меня побегать, – переводя дух, сказал Клеменс. – Везер убит. Но тебя я поймал». – «Комиссар Клеменс, – просипел я, тоже задыхаясь от бега, – не будьте смешным. Русские в ста метрах. Они услышат ваш выстрел». – «Я должен утопить тебя в пруду, говнюк, – ругнулся Клеменс, – зашить в мешок и утопить. Но у меня нет времени». – «Вы даже не побрились, комиссар Клеменс, а намереваетесь вершить суд!» – завопил я. Он злобно усмехнулся. Вдруг хлопнул выстрел, шляпа сползла Клеменсу на лицо, и он камнем рухнул поперек мостика, головой в лужу. Из-за клетки появился вооруженный карабином Томас с радостной улыбкой на губах. «Я, как обычно, вовремя», – весело заметил он и кивнул на массивное тело Клеменса: «Чего ему от тебя надо?» – «Это один из тех двух полицейских, помнишь? Хотел меня убить». – «Упрямый парень. Все из-за той истории?» – «Да не знаю, похоже, они просто рехнулись». – «А ты-то сам, ты что наделал? – строго сказал Томас. – Тебя повсюду ищут. Мюллер в бешенстве». Я пожал плечами и осмотрелся. Дождь кончился, меж облаков проглядывало солнце, мокрые деревья и лужи на аллеях блестели в его лучах. Опять раздались голоса, русские, наверное, находились уже совсем близко, за вольером с обезьянами. Снова затрубил слон. Томас прислонил карабин к перилам мостика, сел на корточки возле тела Клеменса, сунул в карман его пистолет и принялся ощупывать одежду. Я встал у Томаса за спиной, вокруг – ни души. Томас повернулся ко мне и помахал толстой пачкой рейхсмарок: «Глянь-ка, – рассмеялся он. – Богатая добыча – твой шпик». Томас спрятал деньги и продолжал обыскивать Клеменса. Рядом валялся железный прут, вырванный из клетки взрывом. Я поднял прут, взвесил и со всей силы ударил Томаса по затылку. Хрустнули позвонки, Томас замертво упал вперед на тело Клеменса. Я бросил прут и посмотрел на трупы. Потом перевернул Томаса, глаза у него еще были открыты, и расстегнул на нем куртку, сбросил свой китель, быстро переоделся и снова уложил Томаса на живот. Вывернул его карманы и кроме пистолета и банкнот Клеменса прихватил фальшивые документы француза, вывезенного из Франции на работы, и сигареты. Ключи от дома в Ванзее я нашел у Томаса в брюках, мои собственные документы остались в кителе.
Русские прошли мимо. Навстречу мне по аллее семенил слоненок, за ним три шимпанзе и оцелот. Они обогнули мертвецов и, не замедляя хода, перебежали мостик, бросив меня одного. Меня лихорадило, сознание раздваивалось. Но я и сейчас ясно помню два тела, лежащие одно на другом в луже около мостика, и удаляющихся животных. Душа болела, но у меня не было возможности осознать, отчего именно. Я вдруг ощутил всю тяжесть прошлого, боль жизни и неумолимой памяти. Я остался один на один с умирающим гиппопотамом, страусами и трупами, один на один со временем, печалью, горькими воспоминаниями, жестокостью своего существования и грядущей смерти. Мой след взяли Благоволительницы.
Глоссарий
АА (Auswärtiges Amt) – Министерство иностранных дел, возглавлявшееся Иоахимом фон Риббентропом.
Абвер (Amt Ausland/Abwehr im Oberkommando der Wehrmacht) – орган военной разведки и контрразведки Германии, входил в состав Верховного командования вермахта.
Айнзатц (Einsatz) – военный термин, обозначающий «акция» или «операция».
Айнзатцгруппы (Einsatzgruppe) – оперативные (карательные) группы полиции безопасности (СП) и СД, созданные для уничтожения евреев, партизан, лиц, недовольных немецким режимом на оккупированных территориях. Впервые задействованы в 1938 году. Во время аннексии Австрии и оккупации Чехословакии «исполнительные команды СС» обеспечивали наиболее срочные нужды и задачи безопасности СС до момента учреждения постоянных отделов полиции. Система была окончательно сформирована в сентябре 1939 года при оккупации Польши. Для вторжения в СССР, согласно договору между РСХА и вермахтом, к каждой группе армий была прикреплена айнзатцгруппа. Четыре айнзатцгруппы разделили фронт по географическому принципу: группа «А» – страны Прибалтики, «Б» – Смоленск, Москва, «Ц» – район Киева, «Д» – прикреплена непосредственно к 11-й армии (Крым, Румыния). Каждая айнзатцгруппа состояла из штаба (Gruppenstab) и нескольких айнзатцкоманд (Ensatzkommandos – Ek) и зондеркоманд (Sonderkommandos – Sk). Каждая команда в свою очередь подразделялась на штаб (Kommandostab) с обслуживающим персоналом (шоферы, переводчики и т. д.) и многочисленные тайлькоманды (Teilkommandos). Штабы групп и команд воспроизводили организацию РСХА. В их состав также входили руководители управлений (ляйтеры): I (кадры и администрация), II (продовольствие), III (СД), IV (гестапо) и V (крипо). Один из них, обычно ляйтер III или IV, являлся командующим штабом.
Амт (Amt) – отдел, управление, департамент.
АОК (Armeeoberkommando) – Генеральный штаб армии, контролировавший определенное число дивизий. На всех уровнях (армия, дивизия, полк и т. д.) военные штабы состояли из начальника штаба; генерала, отвечающего за проведение операций Ia (Eins-a); интенданта Ib (Eins-b); офицера разведки Ic/AO (Eins-c/Abwehroffizier).
Арбайтсайнзатц (Arbeitseinsatz) – департамент, уполномоченный организовывать принудительный труд заключенных в концентрационных лагерях
ВФХА (WVHA – Wirtschafts-Verwaltungshauptamt) – Главное административно-хозяйственное управление СС, созданное в начале 1942 года, для объединения разветвленной структуры хозяйственных органов СС, занимавшееся вопросами строительства и продовольствия, войсковым хозяйством, бюджетом и финансами СС, строительством, подведомственными СС промышленными предприятиями. Кроме того, в состав ВФХА входило и управление, руководившее концентрационными лагерями. Возглавлял ВФХА обергруппенфюрер СС и генерал войск СС Освальд Поль, тайный советник Гиммлера по экономическим вопросам. В состав ВФХА входили пять служб: Амтсгруппа «А» – административно-хозяйственная служба (Truppenverwaltung); Амтсгруппа «Б» – войсковое хозяйство, регулировавшая все вопросы по администрированию и снабжению продовольствием ваффен-СС и персонал концентрационных лагерей (Truppenwirtschaft); Амтсгруппа «Ц» – строительство, объединявшая все технические службы СС, связанные со строительством (Bauweisen); Амтсгруппа «Д» – концентрационные лагеря, переименованная в ИКЛ; Амтсгруппа «В» (Wirtschaftliche Unternehmungen) – промышленность, огромная экономическая империя СС, включавшая предприятия разных отраслей, (земляные и горные работы, вооружение, пищевая промышленность, деревообрабатывающие предприятия, текстильная и кожевенная промышленность, полиграфия).
Гауляйтер (Gauleiter) – наместник гау, административной области в нацистской Германии. Гауляйтерами назначались высшие партийные функционеры национал-социалистической партии, в своем регионе они располагали почти неограниченной властью.
Гестапо (Gestapo – Geheime Staatspolizei) – тайная государственная полиция Третьего рейха, с 1939 года до конца войны возглавлявшаяся Генрихом Мюллером.
Гонвед (Honvéd) – вооруженные силы Венгрии.
ГФП (GFP – Geheime Feldpolizei) – тайная полевая полиция или тайная военная полиция. Армейская служба безопасности, исполнявшая функции гестапо в зоне боевых действий, во фронтовых и армейских тылах. Вела усиленную борьбу с партизанами. Большинство офицеров ГФП набирались из немецкой полиции и действовали в контакте с полицией безопасности и СД.
ИКЛ (IKL–Inspektion der Konzentrationslager) – Инспекция концлагерей. Первый концентрационный лагерь, Дахау, был создан 20 марта 1933 года, за ним последовало множество других. В июне 1934 года, после «путча Рёма» и ликвидации руководства СА, непосредственное управление лагерями перешло к СС, после чего и была организована ИКЛ. ИКЛ располагалась в Ораниенбурге, ее начальником был назначен обергруппенфюрер СС Теодор Эйке, комендант Дахау. Именно ему Гиммлер доверил реорганизацию лагерей. «Система Эйке» вводилась с 1934 года и вплоть до первых лет войны и предусматривала психологическое, а иногда и физическое уничтожение противников режима. Принудительный труд, существовавший в лагерях и до Эйхе, применялся в качестве пытки. Но в начале 1942 года, когда Германия наращивала военный потенциал в связи с затягивающейся войной с СССР, Гиммлер решил, что «система Эйке» не соответствует новой ситуации, требовавшей максимального использования рабочей силы заключенных. С марта 1942 года ИКЛ подчиняется ВФХА, Главному административно-хозяйственному управлению СС, так же как и Амтсгруппа «Д» с ее четырьмя департаментами: «Д I» или Центральным управлением; «Д II» или арбайтсайнзатц, отвечавшей за принудительный труд; «Д III» или санитарно-медицинским департаментом; «Д IV» или департаментом, отвечавшим за администрирование и финансы. Эта перестройка не имела особого успеха: Освальду Полю, начальнику ВФХА, так и не удалось ни полностью реформировать ИКЛ, ни заменить кадровый состав. Напряженность, вызванная несовместимостью политико-полицейской функции лагерей и функции экономической, усугубившаяся ликвидационной функцией, порученной двум лагерям под контролем ВФХА (КЛ Аушвиц и КЛ Люблин, более известный под названием Майданек), сохранялась до падения нацистского режима.
«Источник жизни» (Lebensborn) – организация СС, сформированная в 1936 году под эгидой личного штаба рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Регулировала проблемы деторождения и усыновления детей арийского происхождения членами СС и их женами. Поощряла рождение детей от членов СС, гарантировала секретность родов, в том числе для незамужних женщин.
КЛ (KL – Konzentrationslager) – структура управления концентрационных лагерей. Эта структура включала: комендатуру, возглавляемую комендантом, Schutzhaftlagerführer или Lagerführer, которому подчинялись главы отделов; политический отдел, Politische Abteilung, автономное подразделение гестапо, ответственное за личные дела заключенных, а с 1943 года осуществлявшее руководство казнями (этот отдел утверждал списки евреев, отобранных при «селекции» для умерщвления в газовых камерах); лагерь «превентивного заключения» под командованием офицеров СС, отвечавших за порядок и дисциплину в жилых бараках лагеря; администрацию, которая занималась вопросами управления, внутренними и хозяйственными делами лагеря; санитарно-медицинский отдел (для СС и для заключенных). Все отделы возглавлялись офицерами и младшими офицерами СС, но основная часть работ осуществлялась заключенными-чиновниками, или как их часто называли «привилегированными».
Крипо (Kripo) – уголовная полиция в Германии. С 1937-го года по июль 1944-го ее возглавлял группенфюрер СС Артур Небе.
Ляйтер (Leiter) – должностное лицо, руководитель.
Метисы (Mischlinge) – полукровки, потомки межрасовых браков. Термин, являвшейся частью юридического словаря расистских национал-социалистических законов, определял статус потомка неарийского происхождения.
ОКВ (OKW – Oberkommando der Wermacht) – Верховное командование вермахта, центральный элемент управленческой структуры вооруженных сил Германии. Создано в феврале 1938 года Гитлером и действовало непосредственно под его личным командованием, чтобы заменить Военное министерство. Формально осуществляло руководство и координацию деятельности ОКХ – Верховного командования сухопутными войсками, ОКЛ – Верховного командования военно-воздушными силами (люфтваффе) под командованием рейхсмаршала Германа Геринга и ОКМ – Верховного командования военно-морским флотом (кригсмарине) под командованием гросс-адмирала Карла Дёница. Начальником штаба ОКВ был назначен генерал артиллерии Вильгельм Кейтель.
ОКХ (OKH – Oberkommando des Heeres) – Верховное командование сухопутных войск. ОКХ формально подчинялось Верховному командованию вермахта, ОКВ. Фактически ОКХ являлось командованием восточно-европейского театра военных действий, в то время как ОКВ командовало западно-европейским. С декабря 1941, после отставки генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича, Гитлер лично возглавил ОКХ.
ОКХГ (OKHG – Oberkommando der Heeresgruppe) – штаб, контролировавший группу армий.
Орпо (Orpo – Hauptamt Ordnungspolizei) – полиция порядка, структура, подчинявшаяся главному управлению СС. С 1936 года главное управление полиции порядка возглавлял оберстгруппенфюрер Курт Далюге. Орпо объединяла полицейские силы Рейха, жандармерию, гестапо, охранную полицию, шупо и т. д. Батальоны полиции орпо неоднократно привлекались для массовых казней в рамках операции «Окончательное решение».
Остминистериум (Ostministerium) – Министерство по делам Восточных (оккупированных) территорий, возглавлялось идеологом нацизма Альфредом Розенбергом, автором «Мифа ХХ века».
ОУН (Організація Українських Націоналістів) – Организация украинских националистов.
РКФ (RKF – Reichskommissariat für die Festung deutschen Volkstums) – Имперский комиссариат по укреплению германской народности. Задачи по ликвидации, возложенные на айнзатцгруппы в Польше в конце 1939 года и особенно после вторжения в СССР, были тесным образом связаны с рядом «позитивных» задач, также порученных рейхсфюреру СС: переселением фольксдойче, этнических немцев СССР и Баната, и германизацией Востока. Именно для успешного выполнения этих задач Гиммлер создал в СС новую структуру РКФ и был назначен ее комиссаром. Два направления деятельности – ликвидация евреев и германизация – имели общие точки и в организационном, и в идеологическом плане. Например, когда район Замостья был выбран приоритетной целью германизации, Гиммлер поручил ее осуществление начальнику СС и полиции дистрикта Люблин группенфюреру СС Одило Глобочнику, возглавившему «Операцию Рейнхард» – программу по систематическому истреблению в лагерях смерти Треблинка, Собибор и Бельзец.
Рольбан (Rollbahn) – подразделения Вермахта, отвечавшие за транспортировку и снабжение войск; тем же термином обозначались основные пути немецкого военного снабжения на Восточном фронте.
РСХА (RSHA – Reichssicherheitshauptamt) – Главное управление имперской безопасности. С момента взятия власти 30 января 1933 года СС искала возможностей расширить свои полномочия в системе безопасности. После долгой внутренней борьбы, развернутой против Геринга, Гиммлеру в июне 1936 года удается взять под контроль немецкую полицию, ее новые политические структуры, криминальную полицию и отделы, объединенные в орпо. Тем не менее, полиция остается государственным институтом и финансируется из бюджета Рейха, а кадровый состав подчиняется правилам государственной бюрократии. Чтобы избежать бюрократической несогласованности и собрать в единую организацию государственную полицию безопасности и службы безопасности СС, рейхсфюрер получает назначение на должность начальника немецкой полиции в Министерстве внутренних дел. Крипо прикрепляется к гестапо для формирования полиции безопасности, СП, которая осталась государственной структурой. Служба безопасности, СД, продолжает функционировать внутри СС. Можно сказать, что в результате СП и СД объединились посредством «союза кадров»: обергруппенфюрер СС Рейнхард Гейдрих официально становится начальником СП и СД, заняв позицию, схожую с позицией его шефа Генриха Гиммлера, между Партией и Государством.
В 1939 году, после вторжения в Польшу было создано РСХА, объединившее Главное управление полиции безопасности и службы безопасности в единую организацию. Перестройка была проведена успешно. РСХА окончательно сформировалось к сентябрю 1940 года и включало в себя семь департаментов: амт I – Первое управление, служба личного состава для всего РСХА; амт II – Второе управление, административные и экономические вопросы; амт III – Третье управление, служба внутренней безопасности; амт IV – Четвертое управление, гестапо, оперативная служба с политическими функциями; амт V – Пятое управление, крипо; амт VI – Шестое управление, служба внешней безопасности; амт VII – Седьмое управление, занимавшееся изучением идеологии противников режима.
Структуры РСХА воспроизводились на всех региональных уровнях, в каждом округе имелись амт III, амт IV и амт V, руководил которыми инспектор СП и СД (IdS). После начала войны те же структуры были утверждены на оккупированных территориях. Инспектор назывался Befehlshaber (BdS) и иногда имел в своем подчинении нескольких командиров СП и СД (KdS). В орпо существовали те же градации: IdO, BdO, KdO.
СА (SA – Sturmabteilung) – штурмовые отряды, военизированные формирования НСДАП. Сыграли решающую роль в подъеме и росте влияния Партии и после взятия власти в январе 1933 года. В июне 1934 года Гитлер при поддержке СС и вермахта ликвидировал руководство СА во главе с Эрнстом Рёмом. Утратив прежнее значение, СА продолжали существовать до падения режима.
СД (SD – Hauptamt Sicherheitsdienst): – внутрипартийная служба безопасности НСДАП, структура СС, сформированная в марте 1934 года и возглавлявшаяся Рейнхардом Гейдрихом.
СП или зипо (SP, Sipo – Hauptamt Sicherheitspolizei) – полиция безопасности в Третьем рейхе, занимавшаяся борьбой с криминальными и антисоциальными элементами. Объединяла уголовный розыск Рейха и гестапо.
СС (SS – Schutzstaffel, «отряд охраны») – военизированные формирования, охранные отряды НСДАП. Были сформированы внутри национал-социалистической партии летом 1925 года и предназначались для личной охраны вождя НСДАП, фюрера Адольфа Гитлера, который уже в то время пытался создать противовес СА (штурмовым отрядам). 6 января 1929 года рейхсфюрером СС становится Генрих Гиммлер. Осенью 1930 года СС были выделены из штурмовых отрядов, как отдельная независимая структура, и сыграли решающую роль в «Ночи длинных ножей».
Фольксдойче (Volksdeutsche) – этнические немцы, которые жили в диаспоре, то есть за пределами Германии. В отличие от «рейхсдойче» (Reichsdeutsche), германцев Рейха, принадлежность к «фольксдойче» устанавливалась по отдельным признакам (предки-немцы, немецкий как родной язык, имя и т. д.)
Хиви (Hiwi – Hilfswillige) – помощники-добровольцы вермахта из местного населения, в основном рекрутированные в лагерях для военнопленных и используемых на тяжелых работах, в интендантстве, на транспорте и т. д.
ХССПФ (HSSPF – Höhere SS- und Polizeiführer) – верховный командующий СС и полиции. Для координирования всех отделов и учреждений СС на региональном уровне Гиммлер в 1937 году учреждает должность ХССПФ, которым в вверенных областях подчиняются все формирования СС. В Германии рейхсфюрер СС назначал ХССПФ в «военный округ», Wehrkreis, обозначенный вермахтом. Позже ХССПФ назначались по одному на оккупированную страну, имея иногда в подчинении нескольких ССПФ, как, например, в генерал-губернаторстве оккупированной Польши. В 1941 году, после вторжения в советскую Россию, Гиммлер назначил ХССПФ в каждую из трех групп армий, Север, Центр и Юг.
Сергей Зенкин Джонатан Литтелл как русский писатель
У русского читателя книга Джонатана Литтелла неизбежно вызовет не предусмотренные автором ассоциации с сериалом «Семнадцать мгновений весны». И тут и там действие происходит в немецких СС, и тут и там встречаются одни и те же исторические персонажи: Гиммлер, Кальтенбруннер, Мюллер, Шелленберг, Борман. И тут и там эсэсовцы – по крайней мере, многие из них – изображены «по-человечески», у них понятные, распространенные характеры, проблемы, недостатки, а кое у кого и достоинства (скажем, образованность, художественный вкус, критическое мышление), их внешность и быт не лишены эстетической привлекательности. И тут и там главные герои служат примерно в одних и тех же чинах, общаются по службе с высшими лицами нацистской иерархии, но сами остаются «чужими среди своих». В какой-то момент может даже возникнуть головокружительное чувство соприкосновения двух историй, созданных в разных странах, в разное время и с разными намерениями: так, у Литтелла упоминается о том, как Мюллер в апреле 1945 года «искал „крота“, вражеского агента, появившегося, скорее всего, в окружении высших должностных лиц СС» (с. 687 [99]), – позвольте, мы же знаем, это ведь он нашего Штирлица искал?..
Разумеется, не надо преувеличивать это случайное, внятное лишь для наших соотечественников сближение. Хотя герой и рассказчик «Благоволительниц» [100], оберштурмбанфюрер Макс Ауэ, преступен перед рейхом (по неполитическим статьям), скрывает свою истинную жизнь и обманывает следователей, но он никакой не иностранный агент и служит этому рейху не за страх, а за совесть, не останавливаясь перед самыми жуткими делами. На его примере видно, чем реально должен был заниматься какой-нибудь Штирлиц, чтобы сделать карьеру в СС, – прежде всего это участие в массовых убийствах, в «окончательном решении еврейского вопроса». Правда, Ауэ все время как-то умудряется служить не прямым исполнителем, а наблюдателем, офицером связи, аналитиком, разработчиком более или менее «гуманных» проектов реорганизации концлагерей. В разговоре с приятелем-врачом он пытается отмежеваться от настоящих палачей: «Я лишь наблюдаю и ни в чем не участвую», тогда как «некоторые из моих дорогих коллег здесь отъявленные мерзавцы». «Наблюдению без практики грош цена», – подхватывает собеседник, обыгрывая двусмысленность этих медицинских терминов (с. 190). Но в другой беседе, с сестрой, он без всякой словесной игры признает: наблюдатель расстрелов – такой же их участник, как и те, кто стреляет. «Наступает момент, когда надо действовать, и уже неважно, кто исполнитель. Впрочем, думаю, что нес одинаковую ответственность, убивая и наблюдая за расстрелом» (с. 351). К тому же оставаться простым свидетелем удается не всегда: Макс Ауэ участвует-таки в массовом расстреле евреев в Бабьем Яру, командует группой палачей и сам добивает раненых – а потом, вернувшись к тихой роли наблюдателя, изготовляет роскошный фотоальбом об этой «акции», чтобы командование с гордостью преподнесло его высшему начальству. Во время другой «акции» на Украине ему приходится отвести за руку к расстрельному рву испуганную еврейскую девочку и отдать ее эсэсовцу-палачу с «идиотской» просьбой: «Будьте к ней добры …» (с. 88).
Значительная часть действия «Благоволительниц», включая большинство самых страшных сцен, происходит на территории Советского Союза, и наша страна вообще сильно присутствует в книге и в личной судьбе ее автора. Джонатан Литтелл – сын американского журналиста и писателя Роберта Литтелла, автора известных шпионских романов, потомок еврейских эмигрантов конца XIX века, чья фамилия «Лидские» [101] указывает на происхождение из нынешней Белоруссии. Сам он родился в Нью-Йорке в 1967 году, вырос во Франции (отсюда его билингвизм и решение написать свой роман по-французски), а в 1993–2001 годах, окончив Йельский университет, работал в разных странах мира как сотрудник одной из гуманитарных организаций; он провел два года и в России, в частности в Чечне, где однажды подвергся нападению каких-то повстанцев/бандитов, был легко ранен и чуть не попал в заложники [102]. С детства увлеченный историей Второй мировой войны, особенно на Восточном фронте, он впервые стал думать о своем будущем романе еще в университете, увидев на фотографии «труп русской партизанки, убитой нацистами под Москвой и превращенной в икону советской военной пропагандой» [103], – то есть Зои Космодемьянской, чье имя, правда, не упомянуто в «Благоволительницах», а сам эпизод казни партизанки (другой, вымышленной) перенесен в Харьков, поскольку герой романа проходит службу на южных направлениях фронта – на Украине, Северном Кавказе, в Сталинграде. Джонатан Литтелл, знающий русский язык, специально ездил по этим местам, осматривая натуру; он основательно изучил и исторические сведения о нашей стране. Сдержанно, с почти научной объективностью он рассказывает об ужасных и отталкивающих фактах: о массовых расстрелах заключенных в западноукраинских тюрьмах НКВД сразу после начала советско-германской войны, о еврейских погромах, устроенных украинскими националистами после захвата этих приграничных городов немцами, о русских и украинских «вспомогательных добровольцах» СС, которым нацисты поручают самые грязные дела (впрочем, один из них, ординарец Макса Ауэ в окруженном Сталинграде, честно служит немецкому офицеру, несколько раз спасает его от смерти, сам не строя иллюзий относительно участи, ожидающей его после взятия города советской армией), об убийствах и насилиях, творимых русскими солдатами в оккупированных странах на исходе войны [104]. В мыслях
и разговорах действующих лиц неоднократно всплывает тема родства двух сильных и жестоких режимов – немецкого и советского. Нацисты, понятно, оправдывают этим свои преступления – дескать, не мы одни так себя ведем, – но в подобных сравнениях звучит и искреннее восхищение, даже признание некоторого превосходства своих врагов. Русские, размышляет Макс Ауэ, откровеннее немцев в своей жестокости, меньше скрывают ее под благоприличными эвфемизмами; в Сталинграде пленный советский комиссар доказывает ему преимущество мировых притязаний коммунизма перед этнической ограниченностью нацизма: «Я отношусь к вашему национал-социализму как к ереси марксизма» (с. 290); когда же Ауэ рассказывает об этой поразившей его встрече французскому приятелю – профашистскому литератору Люсьену Ребате (историческое лицо), тот разделяет его впечатление: «Я, ты знаешь, восхищаюсь большевиками. <…> Если бы не было Гитлера, я, наверное, стал бы коммунистом» (с. 370). Русские и советские мотивы проникают не только в политическую идеологию, но и в личную жизнь героя: со своей сестрой он тайно переписывается молоком, используя его как симпатические чернила: «Идею мы позаимствовали из рассказа о Ленине, найденного и тайком прочитанного у букиниста…» (с. 381).
Однако между книгой Литтелла и Россией есть еще и другое, не менее важное соотношение: в романе широко присутствует русская литература. Параллели с нею не раз проводились критиками; некоторые из них слишком банальные, и автор справедливо их отводит, например, сопоставление этого большого исторического повествования с «Войной и миром». Сходства с творчеством Достоевского он тоже склонен не признавать, но в данном случае уже менее обоснованно: и в «Преступлении и наказании», и в «Благоволительницах» герой совершает двойное убийство топором, мучается кошмарами, действует в бессознательном состоянии… И уж совсем бесспорны реминисценции из «Жизни и судьбы» Гроссмана, откуда в книгу Литтелла перекочевал эпизод спора между нацистским офицером и пленным комиссаром, и особенно из «Героя нашего времени» Лермонтова. Интеллигентному эсэсовцу, доктору права Максу Ауэ война с Россией не мешает восхищаться русской культурой, и, оказавшись осенью 1942 года в Пятигорске и Кисловодске, он не только читает (по-русски!) своего любимого автора, не только посещает его музей и место последней дуэли, – он еще и сам начинает жить как лермонтовский Печорин. Рядом с ним, словно по волшебству, появляется персонаж, соответствующий Вернеру из «Княжны Мери», – умный и симпатичный немецкий врач. Поссорившись с другим эсэсовским офицером – жестоким негодяем, который, оправдываясь перед коллегами за свою «неарийскую» внешность, лютует над беззащитными евреями, – Ауэ вызывает его на дуэль в точном соответствии с сюжетом Лермонтова (убитого спишем на партизан…). Его самоидентификация с автором «Героя нашего времени» может толковаться как очередное нелицеприятное уподобление России и Германии: у нас ведь нечасто вспоминают, что Михаил Юрьевич Лермонтов участвовал в кровавых карательных экспедициях
против горцев [105]. А самоотождествление с Печориным вообще выводит Макса Ауэ за пределы исторической действительности, открывает перед ним, по словам также любимого им французского писателя Мориса Бланшо, «пространство литературы» – пространство неопределенности, зыбкости, находясь в котором «никогда не знаешь, действительно ли ты в нем находишься» [106].
Присутствие России/Советского Союза в «Благоволительницах» может по-разному восприниматься по разные стороны границы. У нас книга Литтелла способна прозвучать болезненным, но полезным напоминанием о прошлом, расчет с которым до сих пор не состоялся до конца, – в частности, о том, что наш народ страшнее многих пострадал от Второй мировой войны, но и сам несет долю ответственности за ее жестокости и даже за ее разжигание. На Западе же, где проведение параллелей между гитлеровским и сталинским режимами часто встречают с недоверием, усматривая в нем попытку смягчить ответственность нацистов, объяснить их политику необходимостью отвечать на советскую угрозу и т. д. [107], – книга Литтелла (где подобные идеи действительно высказываются – но лишь устами самих нацистов!) неизбежно должна была встретить, и действительно встретила, возмущенную критику за «профанацию», банализацию памяти об истреблении евреев, за отрицание исключительности этого преступления [108]. Память о геноциде окружена культом, и в таких условиях реминисценции из классической литературы, помогающие увидеть в персонаже-эсэсовце не просто врага и преступника, но и мыслящего, чувствующего человека, тоже могут читаться как профанация святынь, «сведение свидетельства к литературе» [109], кощунственная попытка дать слово палачу вместо жертв.
Проблема стара: литература действительно все превращает в слова, в условные формы – даже самый страшный документ, самое трагическое свидетельство. Когда в 1952 году французский писатель Робер Мерль выпустил роман «Смерть – мое ремесло», вымышленные мемуары коменданта Аушвица, то писатель и поэт Жан Кейроль, сам бывший узник немецкого лагеря, осудил его за недопустимую
беллетризацию исторической трагедии. Между тем роман Мерля (переведенный на русский язык) был довольно непритязательным, добросовестно-натуралистическим повествованием. Случай Джонатана Литтелла гораздо сложнее. Писатель проделал огромную работу над источниками, его книга не имеет ничего общего с безответственной псевдоисторической беллетристикой. Этот толстый том полон точными фактическими данными: именами, географическими названиями, цифрами, – и за годы, прошедшие после ее выхода, самые придирчивые историки нашли в этой массе фактов лишь кое-какие мелкие ошибки, не подрывающие достоверности целого. Но вместе с тем в некоторых местах – и чем дальше по ходу действия, тем чаще, – повествование открыто порывает не просто с исторической точностью, а с элементарным правдоподобием: незаметно, без всяких композиционных швов, оно соскальзывает в пересказ снов и бредовых видений (некоторые из них так и остаются неразрешенными до конца – то ли это примерещилось герою, то ли все-таки было на самом деле), в переделку греческого мифа о матереубийце Оресте (которого как раз и преследовали «Благоволительницы»-Эринии), в реминисценции из художественной культуры. Источниками последних служат не только шедевры русской прозы или средневековой европейской поэзии [110], но и массовая культура, вплоть до эротического кино 70-х годов, эксплуатировавшего антураж Третьего рейха для постановки садомазохистских сцен. Иногда литературной игрой, вроде бы всерьез, но на грани пародии, начинает заниматься сам герой романа: за несколько месяцев до разгрома Германии – вот уж выбрал время! – направляет Гиммлеру «модель глубоких социальных реформ, которые СС обязана принять на заметку после войны (с. 595), – черпая идеи этих реформ из научно-фантастических романов о Марсе Э.Р. Берроуза, автора «Тарзана». Рейсфюрер СС якобы принял марсианский прожект с осторожной благожелательностью… Длинный «лермонтовский» эпизод представляет собой еще более впечатляющее отступление от документальности: перемежая историческое повествование очевидными вариациями на тему «Героя нашего времени» [111], «обнажая прием» художественного вымысла, романист одновременно и передоверяет эту литературную игру своему преступному герою, и сам подыгрывает ему.
Выше уже было сказано об исключительности этого персонажа: он и «свой» и «чужой» в СС, и верный слуга режима, и уголовный преступник, по следу которого идет полиция. Еще более исключительно то, что он сам рассказывает о своих наблюдениях, переживаниях, сомнениях. В этом некоторые критики романа (например, Клод Ланцман, автор знаменитого документального фильма «Шоа» [112]) увидели искусственность, неправдоподобие: настоящие палачи не бывают столь разговорчивы, они стараются скрыть и даже забыть свое прошлое. Сам Литтелл в интервью признал это неправдоподобие:
…социологически достоверный нацист никогда не мог бы высказываться так, как мой рассказчик. Подобный рассказчик никогда не мог бы так осветить окружающих его людей <…>. Мой Ауэ – это рентгеновский луч, сканер. Он действительно не является правдоподобным персонажем. Я стремился не к правдоподобию, а к правде [113].
Итак, исключительность Макса Ауэ обусловлена его повествовательной функцией, он условный, не совсем настоящий нацист, необходимый для «освещения» всех остальных, для того, чтобы о них можно было говорить. Чуть выше в том же интервью Литтелл вспомнил фразу Жоржа Батая: «У палачей нет языка, а если они говорят, то на языке государства» [114]. Поэтому, продолжает он, многочисленные и даже полезные фактическими сведениями тексты нацистских палачей (показания, мемуары и т. д.) не годились ему как образец для художественного повествования; надо было самому «влезть в шкуру палача», вообразить себе его внутренний мир, его речь, которая опирается на личные переживания, а не на государственно-идеологические ценности, и оттого, по определению, не находит себе выхода во внешний мир. Многословный рассказ о себе Макса Ауэ – трудно назвать его исповедью, хотя в нем и говорится о преступлениях и даже страданиях автора, – это текст на небывалом, невозможном языке, которому нет ни места, ни названия в реальной действительности. Это одновременно и язык палача, и язык писателя, который в жизни близко насмотрелся на всевозможных
палачей и на их деяния [115].На этом языке рассказчик-эсэсовец долго, с бесконечными подробностями описывает технологию своей службы, ее оперативные планы, административные процедуры и коллизии; за бюрократическими подробностями впору позабыть, что перед нами технология уничтожения. Но время от времени язык словно восстает против рассказчика, когда автор расчетливо перебивает это чиновничье занудство прямыми сценами убийства, насилия, унижения людей – иногда масштабно-массовыми, как расстрел в Бабьем Яру или газовые камеры в Аушвице, а иногда индивидуальными, окрашенными жестоко-эстетским гротеском: у подножия виселицы немцы один за другим целуют в губы русскую партизанку, некоторые «целовали ее нежно, почти целомудренно, как школьники <…> а когда прошли все, ее повесили» (с. 138); еще одна женщина висит в центре Харькова на вытянутой руке памятника Ленину; после боев в здании сталинградского театра «на балконе два убитых русских солдата, которых никто не потрудился снести в фойе, разлеглись в креслах, словно ожидая начала все время откладывающейся пьесы» (с. 295 – не навеяна ли эта картина кадрами из зрительного зала «Норд-оста»?); постояльцам эсэсовской гостиницы в оккупированном Люблине не только горничные оказывают сексуальные услуги, но даже в нужнике специальные служители подтирают их после отправления физических потребностей, просовывая руку сквозь отверстие в стене… Кошмарно-зрелищный гротеск подобных сцен (в последнем случае напоминающий «Сто двадцать дней Содома» маркиза де Сада) построен по кинематографическому принципу: показ чудовищного и невероятного ничем технически не отличается от изображения заурядной реальности [116], реальность естественно переходит в бред: например, в той же сцене казни партизанки Макс Ауэ, когда приходит его очередь, под «ясным, пронзительным, отрешенным взглядом» обреченной девушки переживает что-то вроде никем не замеченного обморока: «то, что от меня осталось, превратилось в соляной столп <…>. Потом я рухнул у ее ног, и ветер разметал и развеял горку соли» (с. 138). Автор исподволь сотрудничает с героем, подыгрывает ему, помогает высказываться; их общая, сплетающаяся речь обычно лишена броских стилистических эффектов, но в глубине своей она нестерпима – не просто из-за чудовищности вещей, о которых говорится, а потому, что мы никак не можем решить, «наша» она или «чужая». Вероятно, особенно сильно эту нестерпимость должны ощущать представители тех народов, которые непосредственно изображаются в роли жертв, – будь то мы, жители России, или же еврей Джонатан Литтелл. Для повествования об абсолютном зле требуется исключительный язык.
Абсолютность и исключительность – это жизненные убеждения Макса Ауэ, которые сделали его нацистом:
С детства я был одержим стремлением к абсолюту и преодолению границ; эта страсть и привела меня к расстрельным рвам на Украине. Я всегда желал мыслить радикально; вот и государство, и нация тоже выбрали радикальное и абсолютное… (с. 78).
От своих убеждений Ауэ не отрекается и в конце войны, уже видя обреченность гитлеровского рейха. Вспоминая стихи английского поэта XIX века Ковентри Патмора о том, что «истина велика, и она восторжествует, заботит кого-нибудь ее торжество или нет», он продолжает:
Я всегда был убежден <…>, что национал-социализм – не что иное, как общее радение об истинной вере и правде <…> я тоже хотел заложить свой кирпичик в коллективное здание, я тоже хотел ощутить себя частицей всеобщего. Увы, в нашем национал-социалистическом государстве, и особенно вне кругов СД, мало кто разделял мои мысли (с. 552).
Ауэ действительно мыслит радикальнее многих своих соратников по партии. Истребление евреев, в котором он участвует, он пытается осмыслить, оправдать и рационализировать: евреи – объективные враги рейха, с ними необходимо что-то делать; не будь войны, их можно было бы просто изгнать, принудить к эмиграции, но в военных условиях приходится их уничтожать, включая женщин и детей; что ж, надо выполнять эту тяжкую работу организованно, эффективно, без ненависти и излишней жестокости. Когда по мере затягивания войны узники концлагерей начинают цениться как дешевая работая сила, он получает новое служебное поручение – заботиться о ее сохранении, пусть даже Германия победит благодаря труду заключенных-евреев. Однако сам он довольно рано приходит к еще более «абсолютному» объяснению, отбрасывая всякие соображения пользы и даже необходимости: в конечном счете геноцид евреев обусловлен не практическими соображениями и не идеологическими принципами, а скорее понятиями сакрального [117]– стремлением дойти до конца, до абсолюта в поиске истины, превратить германскую нацию в особенный, исключительный, священный народ, стоящий по ту сторону обычного человечества.
Убийство евреев, в сущности, ничего не дает <…>, – рассуждает Ауэ, развивая логику незнакомого ему (но не автору романа!) Жоржа Батая. – Никакой пользы – ни экономической, ни политической – в нем нет. Наоборот, мы рвем с миром экономики и политики. Это чистое расточение, растрата. Смысл здесь один: он в бесповоротном жертвоприношении, которое нас связало окончательно, раз и навсегда отрезав пути возврата (с. 112).
Как революционеры в «Бесах» Достоевского сплачивали боевую группу коллективным убийством, так и нацисты пытаются сплотить нацию, связав ее жертвенной кровью, – и, конечно, для целой нации крови требуется пролить много. Жертвенное преступление совершается не ради внешней выгоды, а для того, чтобы самим преступникам утвердиться в собственной исключительности. Но в реальности такая программа полна противоречий, и Макс Ауэ слишком умен и внимателен, чтобы не понимать этого. Уникальность Германии – иллюзия, на самом деле не только нацистский режим очень похож на советский, но и, хуже того, немецкий народ в своем самосознании представляет собой зеркальное отражение еврейского, фактически он сражается с собственной тенью. Оба народа стремятся к исключительности, обособленности, каждый завидует и подражает другому: евреи пытаются сделаться добропорядочными бюргерами, а немцы – чистыми в своей вере идеалистами. За долгие столетия, объясняет Максу Ауэ его друг, евреи привыкли к скаредности, стали народом, «неспособным ни дарить, ни тратить, народом, не знавшим войны <…> умеющим копить, а не расточать»; теперь же сами нацисты «расточительным» уничтожением евреев «научили их трате, научили их воевать». Восстания в гетто и концлагерях показывают, что евреи «тоже превращаются в воинов, тоже становятся убийцами и проявляют жестокость. Я думаю, это прекрасно. Мы сделали из евреев достойных нас врагов» (с. 526) [118].
И все же главная слабость нацистского интеллектуализма проявляется не в логических изъянах и противоречиях (их-то Ауэ достаточно легко забывает), а в собственной судьбе самого интеллектуала. Прежде всего, он непосредственно, на уровне телесных ощущений переживает последствия совершенного им шага по ту сторону человеческой морали. Он хотел бы не только свой народ, но и себя лично воображать особенным, исключительным. В Сталинграде, тяжело больной, он видит в бреду ангела, вставляющего ему в уста пылающий уголь (неточная реминисценция из пророка Исайи или же из «Пророка» Пушкина? – во всяком случае, подобными мотивами обычно описывается превращение
человека в шамана), а будучи вслед за тем ранен в голову [119], воспринимает эту рану как третий глаз, который «не выносит ослепительного света, обращен в сумрак, наделен даром видеть обнаженное лицо смерти» (с. 323 – еще одна отчетливая реминисценция из Батая). Но главным результатом пережитого на войне становится не столько сверхъестественная прозорливость, сколько психосоматические расстройства – ночные кошмары, бред наяву, приступы рвоты и поноса. Ауэ никогда не рассматривает себя как больного, не пытается обращаться к врачам, словно понимая, что его недуги не физического, а духовного порядка.
Отвергая либерально-гуманистическую критику нацизма, он пишет в своих воспоминаниях: «После войны много говорили о бесчеловечности, пытаясь объяснить, что произошло. Но бесчеловечности, уж простите меня, не существует. Есть только человеческое и еще раз человеческое…» (с. 429). Здесь важнейшая этическая проблема романа Литтелла: злодеяния нацизма совершались не чудовищами, а людьми достаточно нормальными по своим личным качествам; от них нельзя отмахнуться как от извергов рода человеческого, как от клинических маньяков. «…Психи – не в счет. Угроза – особенно в смутные времена – кроется в обычных гражданах, из которых состоит государство» (с. 24). Но так мыслит Ауэ-теоретик. В жизни же он переживает себя именно как «изверга», об отверженности которого свидетельствует сама природа, сам организм. После того, чем он занимался на Украине, невозможно жить спокойно; отсюда его алкоголизм, психосоматические недуги, чувство тоски и бессмысленности, «отсутствия воздуха» (с. 200), – как говорит он сам, вспоминая слова Блока о Пушкине, убитом не пулей Дантеса, а этим самым отсутствием воздуха. В «Преступлении и наказании» Раскольников не раскаивается в своем преступлении вплоть до отправки на каторгу; если он не выдержал и донес на себя, то не из-за нравственного чувства вины и ответственности, а из-за физической невыносимости жить среди людей, будучи среди них чужим, отверженным – «убивцем». Так и Макс Ауэ даже много лет спустя после войны не выказывает раскаяния (самое большее – признает геноцид политической ошибкой…), но за него «раскаивается» его собственное тело, его исключительность запечатлевается в физических страданиях, как у шамана она выражается в конвульсиях, а у великого поэта – в «отсутствии воздуха». Нет ничего кощунственного в том, чтобы сопоставить поэта и злодея, – сакральная чужеродность, позитивная или негативная, равно отражается на них обоих.
Наряду с темой исключительности в «Благоволительницах» звучит и другая сакральная тема – тема Судьбы. В романе говорится (а Джонатан Литтелл еще и от себя повторяет в интервью) о греческом понимании вины и ответственности, которые не отменяются неведением или волей рока. Эдип убил отца, не желая того, не зная, кто перед ним, – неважно, он виновен в отцеубийстве и проклят. Так и Макс Ауэ не хочет становиться палачом – но становится, и теперь уже напрасно пытается взваливать свою вину на кого-то другого («…во что меня превратили, – сказал я себе, – что теперь я при виде леса думаю об общей могиле» – с. 510). Такая же непреднамеренная ответственность падает на него и в личной жизни. С детства боготворя (как потом выясняется, зря) пропавшего без вести отца-воина, он ненавидел «офранцузившуюся» мать и в конце концов убил ее вместе с отчимом-французом – в очередном приступе беспамятства, до конца повествования отказываясь признаться себе в содеянном, несмотря на все улики. Что ж, пусть он и не желал сознательно этих смертей, пусть и реализовывал этим свою предначертанную судьбу Ореста – все равно вина на нем. Кстати, эдиповская тема в видоизмененном виде тоже присутствует в романе: в юности Макс Ауэ вступил в кровосмесительную связь с собственной сестрой и, судя по всему, даже прижил с нею двух детей [120]; насильственно разлученный с нею, он отказался иметь дело с другими женщинами и обратился к гомосексуальным наслаждениям, строго запрещенным в жаждущем «чистоты» нацистском рейхе. Эта его «запятнанная анкета» удивительным образом остается неизвестной начальству и не мешает его служебной карьере; критики «Благоволительниц» не преминули отметить искусственность такого сюжетного хода. Сам писатель, вообще не очень многословный в беседах о своем романе, наотрез отказывается комментировать его эротическую линию; собственно, досужей публике и незачем знать, какие подавленные комплексы и фантазмы могли ее питать. Важнее другое: не в меньшей степени ее питают классические сюжеты культуры – тут и миф об Оресте, и «Человек без свойств» Роберта Музиля, и проза Жана Жене… Джонатан Литтелл не мог не понимать, насколько опознаваемы эти реминисценции и какой эффект они произведут. Своей авторской волей он нейтрализует, обесценивает эротические фантазмы своего героя, сводит их к игре заемными мотивами.
Для преодоления противоречия между преступной биографией Макса Ауэ и службой в СС в роман введены сразу несколько персонажей-посредников, которые помогают главному герою вступить в эту закрытую корпорацию, совершавшую массовые убийства, но не терпевшую индивидуальных прегрешений. Сначала, еще в университете, он был завербован своим профессором, юристом и национал-социалистом Отто Олендорфом (историческое лицо, впоследствии один из начальников Ауэ на Восточном фронте) в качестве осведомителя, обязанного изучать реакции населения на политику нацистов, обеспечивая тем самым обратную связь между властью и народом: «В некотором роде такой подход заменял выборы…» (с. 58). А потом, после неприятной истории с уголовной полицией, едва не раскрывшей гомосексуальные похождения Ауэ, его покровителем и закадычным другом становится некто Томас Хаузер, который делает его кадровым сотрудником СД, способствует его карьере, не раз спасает его в отчаянных ситуациях. Этот вымышленный персонаж – очень странный, двусмысленный человек: неунывающий, энергичный, верный друг, любимец женщин, а вместе с тем офицер тайной полиции, циник, успешно шагающий по ступеням должностной лестницы. То ли он, по какому-то чудесному стечению обстоятельств, так и не проведал о предосудительных деяниях своего друга, то ли знает о них и приберегает свое знание для шантажа (но никогда открыто этого не признает). Внешне он верный Пилад – друг Ореста из греческого мифа, а по сути скорее Мефистофель из гетевского «Фауста», воплощение рокового соблазна [121]. Именно он окончательно толкнул Ауэ на путь кровавых дел, заставил его сделаться участником геноцида. С этого пути уже не сойти: в какой-то момент, после ранения, герой романа пытается искать себе другую, более «чистую» службу, что-нибудь по дипломатической линии, но все его попытки вязнут в бюрократических хитросплетениях, все появляющиеся было возможности поистине фатально закрываются – зато ему настоятельно предлагают новый пост в системе концлагерей, и, когда он наконец скрепя сердце соглашается, приказ о назначении ему приносит не кто иной, как Хаузер. Этот симпатичный соблазнитель служит условной, но самой сильной фигурой Судьбы. От его дружеской опеки можно избавиться, только убив его, зато на этом и обрывается роман, подчеркивая литературно-повествовательную природу этой Судьбы. История героя закончена, теперь ему остается только до конца своих дней скрываться под чужим именем – от человеческого правосудия, но не от внутренних терзаний, от которых не уйдешь: «Мой след взяли Благоволительницы» (с. 701).
Джонатан Литтелл предпринял необычный и очень серьезный художественный эксперимент. Литература часто изображает злодеев, нередко они бывают умны, наделены глубокими чувствами, предстают во всем значительнее окружающих. Но у Литтелла такой герой действует не на свой страх и риск, а как верный солдат гитлеровского рейха, беря на себя ответственность за все деяния этого рейха, и с такой ответственностью не сравнится вина никакого индивидуального злодея. Преступления Макса Ауэ – часть преступлений государства, они совершаются по убеждению, опираясь на идеологию, претендующую на тотальный охват мира и оперирующую не только рационально-политическими, но и сакральными понятиями. Эта мыслительная система способна быть сильным конкурентом рационалистической этики, некоторые ее ценности – «жертва», «трата» и т. д. – близки к ценностям, на которых зиждется художественное творчество. Автор романа признает, принимает ее в качестве рабочей гипотезы: предположим, всеобщей морали не существует, предположим, категорический императив Канта сводится к исполнению приказов вождя, предположим, в основе справедливости – только сила, и сильный сам определяет, что справедливо, а что нет. На такой территории эстетического имморализма, в неопределенном «пространстве литературы» он исследует мотивы и последствия действий своего героя, «влезая в его шкуру» [122]. И тогда выясняется: подобную гипотезу можно открыто развертывать лишь в литературе. У палачей нет собственной речи, а идеология их государства, даже самого свирепого, никогда не дойдет до такой степени откровенности. Такие идеи держатся лишь до тех пор, пока нам напоминают о художественной условности, пока их подпирают книжными реминисценциями и стереотипами массовой культуры; где кончается литературность – там эти идеи рушатся, теряют убедительность, и вместо них начинает звучать язык телесной боли [123]. Литература, художество всегда радикальны; оттого это единственная среда, где имморализм способен высказываться, а следовательно роман Литтелла может – пожалуй, даже должен, если мы хотим понять всю его сложность, – читаться как творческая самокритика литературы средствами самой же литературы.
Для нас, русских читателей, этот роман интересен вдвойне. Во-первых, фигура тоталитарного интеллектуала, идеалиста на службе у палачей отнюдь не чужда нашему собственному национальному опыту. А во-вторых, русская литература, пожалуй, вправе гордиться тем, что именно в ней американо-французский писатель нашел так много материалов, средств, точек опоры, чтобы вывести на свет разума из мрака и молчания своих «благоволительных», желающих добра демонов.
Примечания
1
Dr. jur. – сокращенное латинское Doctor juris (доктор права).
(обратно)2
Софокл, «Эдип в Колоне», 1270. Перевод С. Шервинского.
(обратно)3
А. Шопенгауэр, «Афоризмы и максимы», гл. ХII. Перевод Ф. Черниговца.
(обратно)4
Слушаюсь (нем.).
(обратно)5
Выстрел в затылок (нем.).
(обратно)6
Акция, операция (нем.).
(обратно)7
Львов, 1884; Люблин, 1853, [Издано] у Шмуэля Беренштейна (нем.).
(обратно)8
В описываемое время Мировой (или Великой) войной называли Первую мировую войну.
(обратно)9
Нет проблем (нем.).
(обратно)10
Исчислено, взвешено, разделено (Дан, 5: 25).
(обратно)11
«Же сюи парту» («Je suis partout» – «Я повсюду») – профашистская, антисемитская газета, издававшаяся в 1930–1944 гг.
(обратно)12
«Нахтигаль» (Nachtigall) – соловей (нем.).
(обратно)13
Плутарх. «Сравнительные жизнеописания». «Алкивиад». XXIII. Перевод Е. Озерецкой.
(обратно)14
Штрихюнген (Strichjungen) – парни-проститутки (нем.).
(обратно)15
Платон, «Государство», книга четвертая. Перевод А. Н. Егунова.
(обратно)16
Свинство, величайшее свинство (нем.).
(обратно)17
Приказ об уничтожении (нем.).
(обратно)18
Приказ фюрера (нем.).
(обратно)19
Международным финансовым еврейством (нем.).
(обратно)20
«Война есть война, а шнапс есть шнапс» (нем.).
(обратно)21
Приятно (нем.).
(обратно)22
Большая акция (нем.).
(обратно)23
Окончательная победа (нем.).
(обратно)24
Приказ о комиссарах (нем.).
(обратно)25
Юноша, молодой человек (греч.).
(обратно)26
Отрок, юноша (греч.).
(обратно)27
Неразумный, малолетний (греч.).
(обратно)28
Геродот, «История», IV, 130–131. Перевод Г. Стратановского.
(обратно)29
Здесь: и все такое прочее (итал.).
(обратно)30
Это жизнь (франц.).
(обратно)31
Понятно? (итал.).
(обратно)32
Лови день, пользуйся мгновением (лат.).
(обратно)33
«Иностранные армии Востока» (нем.) – отдел Генерального штаба гитлеровской армии.
(обратно)34
Букв.: человек рабочий (лат.).
(обратно)35
Не человек, добившийся всего собственными силами, а человек сформированный (англ.).
(обратно)36
Стендаль, «Красное и черное», ч. II, гл. 8. Перевод С. Боброва и М. Богословской.
(обратно)37
Раненый (нем.).
(обратно)38
Софокл, «Электра», 1164, 1415, 1487–89. Перевод Ф. Зелинского.
(обратно)39
Не прикасайся ко мне (лат.). Цитата из Евангелия от Иоанна (20: 17).
(обратно)40
Неизведанная земля (лат.).
(обратно)41
Оберабшнит – основной территориальный округ в системе СС.
(обратно)42
[Входящие] оставьте упованья (итал.) – надпись на вратах ада (Данте, «Божественная комедия», III, 9; Перевод М. Лозинского).
(обратно)43
Филипп Боулер (1899–1945) – руководитель канцелярии Гитлера.
(обратно)44
Чингисхан, то есть «великий хан над всеми племенами, всемирный правитель», – титул Темучина (Темуджина), основателя единого Монгольского государства. Слово «чингис» происходит от тюркского «тенгиз» – море, океан.
(обратно)45
«Конингсби» – роман Бенджамина Дизраэли.
(обратно)46
Военный губернатор оккупированной территории (нем.).
(обратно)47
Абец Отто – в 1940–1944 гг. посол Германии во Франции.
(обратно)48
Альгемайне-СС – подразделения СС, отвечавшие за госбезопасность, контрразведку, уголовную полицию, охрану концлагерей (в отличие от войсковых подразделений – ваффен-СС).
(обратно)49
Адольф Эйхман возглавлял отдел гестапо IV-B-4, отвечавший за «Окончательное решение» еврейского вопроса.
(обратно)50
Вандерфёгель (букв. «перелетные птицы», нем.) – наименование различных немецких и немецкоязычных (Австрия, Швейцария, Люксембург) культурно-образовательных и туристических молодежных групп и клубов, впервые появившихся в 1896 г. и существующих по сей день. С приходом к власти НСДАП (1933 г.) оказались вне закона.
(обратно)51
Пивная (нем.).
(обратно)52
Дуралей (нем.).
(обратно)53
На данный случай, ситуативные (лат.).
(обратно)54
Отца ищи не здесь, не здесь.
Пять саженей воды над ним.
И он одрагоценен весь
Преображением морским.
Где кость была, зацвел коралл.
В глазницах жемчуг замерцал.
Слышал колокол наяд?
Вот сейчас: динь-дон.
По отце твоем звонят
Что ни час: динь-дон.
Уильям Шекспир, «Буря». Перевод О. Сороки
(обратно)55
Воздушные убийцы (нем.).
(обратно)56
Лоренцо да Понте (1749–1838) – итальянский либреттист и поэт. Автор либретто к операм Моцарта.
(обратно)57
Ратенау Вальтер (1867–1922) – германский промышленник еврейского происхождения, сторонник плановой экономики военного типа, министр иностранных дел Германии. Убит тремя ультраправыми студентами из экстремистской организации «Консул».
(обратно)58
«Аксьон франсез» («Action française» – «Французское действие») – «Ля нувель ревю франсез» («La Nouvelle Revue française» – «Новое французское обозрение») – влиятельный французский литературный журнал.
(обратно)59
Серж Александр Стависки – знаменитый аферист 1930-х гг.
(обратно)60
«Любимый» (греч.), в древней Греции – обычно в годах моложе. Старшего партнера звали erastes «любовник».
(обратно)61
Ребате хочет подчеркнуть созвучие латинских слов fascinus (половой член) и fasces (фасции – пучки прутьев с топором, знак достоинства римских магистратов), от которых происходит слово «фашизм».
(обратно)62
Имеется в виду Анри Филипп Петен (1856–1951), глава коллаборационистского режима Виши.
(обратно)63
Рультабий – герой нескольких произведений Гастона Леру (1868–1927), известного автора детективных романов.
(обратно)64
Здесь: организация использования рабочей силы (нем.).
(обратно)65
Здесь: «совершенно секретно» (нем.).
(обратно)66
Анатомический коллеж (лат.).
(обратно)67
Время борьбы (нем.).
(обратно)68
Здесь: еврейская рабочая сила (нем.).
(обратно)69
Из ничего (лат.).
(обратно)70
Три лилии (нем.) – старинная немецкая песня.
(обратно)71
Все проходит (нем.).
(обратно)72
Все проходит, / Все уходит, / Я в России пребываю, / Ни фига не понимаю (нем.).
(обратно)73
Протекторат – Протекторат Богемии и Моравии, зависимое государственное образование, учрежденное властями Третьего рейха во время Второй мировой войны на оккупированных территориях Богемии, Моравии и Силезии, населенных этническими чехами.
(обратно)74
Заключенные, арестанты (нем.).
(обратно)75
«Внимание! Пилотки снять! Пилотки надеть! В колонну по пять!» (нем.).
(обратно)76
Доведение до бессмысленного (лат.).
(обратно)77
RAF (Royal Airforce) – Королевские военно-воздушные силы, один из видов вооруженных сил Великобритании.
(обратно)78
«Дикий кабан» (нем.).
(обратно)79
Здесь: «авторитеты» (нем.).
(обратно)80
Этнографические представления (нем.).
(обратно)81
Славное царство польское, небеса для дворян, рай для евреев и ад для крестьян (лат.).
(обратно)82
Ироническое обыгрывание названия ордена «Pour la Mérite» («За заслуги»).
(обратно)83
Горе побежденным (лат.).
(обратно)84
Капповский путч – мятеж, предпринятый консервативными силами в 1920 г. против правительства Веймарской республики.
(обратно)85
Балтикумеры – бойцы балтийско-немецкого антисоветского сопротивления.
(обратно)86
Истребительный штаб (нем.).
(обратно)87
Истина велика, и она восторжествует, заботит кого-нибудь ее торжество или нет (англ.).
(обратно)88
Баварская Советская республика – кратковременное государственное образование, провозглашенное советом рабочих и солдатских депутатов 13 апреля 1919 г. в Мюнхене. Просуществовало до 1 мая 1919 г.
(обратно)89
Удел, возмездие (греч.).
(обратно)90
Генеральная дирекция «Восток» (нем.).
(обратно)91
Дойч-Кроне – ныне город Валч в Польше.
(обратно)92
Штеттин – современный Щецин в Польше.
(обратно)93
Кольберг – ныне Колобжег в Польше.
(обратно)94
Pipel (нем.) – малолетние узники нацистских концлагерей, которые пользовались поблажками за то, что оказывали сексуальные услуги авторитетным заключенным.
(обратно)95
От греч. thanatos – «смерть».
(обратно)96
Кто делает то, чего делать не желает, потому что не может обладать тем, чего желает, тот вопреки своему сокровенному желанию уступает влечению (старофранц.).
(обратно)97
Рутения – латинское название России. В более узком значении – киевские, черниговские, галицко-волынские земли.
(обратно)98
Банат – историческая область, разделенная между Сербией, Румынией и Венгрией.
(обратно)99
[] Здесь и далее ссылки на текст романа даются по настоящему изданию с указанием номера страницы в круглых скобках.
(обратно)100
[] Как известно, таков смысл имени «Эвмениды», которым древние греки опасливо называли злобных Эриний, богинь мщения. Не будет ошибкой так и переводить название романа – «Эвмениды», – но поскольку автор все же выбрал для заголовка не греческий, а французский вариант «Les Bienveillantes», то и в переводе предпочтительным оказывается не греческое слово, а русский неологизм.
(обратно)101
[] См. интервью Дж. Литтелла израильской газете «Гаарец» (Sat., June 21, 2008 Sivan 18, 5768).
(обратно)102
[] См.: Paul-Eric Blanrue, Les Malveillantes: Enquête sur le cas Jonathan Littell, Scali, 2006, р. 36. Это одна из нескольких книг, уже написанных о Литтелле и его романе.
(обратно)103
[] Le Figaro Magazine, 29 décembre 2006.
(обратно)104
[] Справедливости ради надо сказать, что действия западных союзников показаны не более гуманными: в романе подробно описываются их смертоносные авианалеты на Берлин, по поводу которых один из нацистских вождей высказывает гротескную (но, собственно, что в ней абсурдного?) идею: «После победы мы должны провести судебные расследования военных преступлений. Виновные в подобных зверствах еще за них ответят» (с. 393).
(обратно)105
[] См.: Эйхенбаум Б.М., Мой временник, СПб., Инапресс, 2001, с. 456. Трудно сказать, насколько эти сведения известны Литтеллу, вообще-то очень осведомленному в нашей истории. О кавказских «зачистках» образца XIX века говорится в «Казаках» Льва Толстого, глава XV:
«…ваши черти солдаты в аул пришли <…> ребеночка убил какой черт, взял за ножки да об угол. Разве не делают так-то?» Аналогичный эпизод есть и в «Благоволительницах» Литтелла, дело происходит в 1941 году на оккупированной Украине, и убийство совершает немец.
(обратно)106
[] Так сам Литтелл объясняет это понятие в интервью (Le Monde des livres, 16.11.2006).
(обратно)107
[] У нас до сих пор мало известен знаменитый «спор историков» в Германии 1980-х годов по этому вопросу, в котором участвовали, в числе прочих, историк Эрнст Нольте и философ Юрген Хабермас.
(обратно)108
[] Так, в частности, оценивает ее французский эссеист и переводчик Пьер-Эмманюэль Доза: Pierre-Emmanuel Dauzat, Holocauste ordinaire, Bayard, 2007, p. 53.
(обратно)109
[] Ibid. p. 181.
(обратно)110
[] Уже отмечалось, например, что обращение к «людям-братьям», которым Макс Ауэ начинает свой рассказ, является цитатой из «Баллады о повешенных» Франсуа Вийона. По словам автора (из уже цитированного интервью газете «Гаарец»), «первоначально там стояло “друзья”, но так звучало хуже»; то есть при правке текста сработала культурная память начитанного франко-американского писателя. Литературные реминисценции содержатся и в имени героя романа: критики вычитывают в нем – по чисто графической аналогии, без всяких содержательных сходств – имя испано-французского писателя-сюрреалиста Макса Ауба (Max Aue/Max Aub), но не менее оправданно было бы вспомнить жившего незадолго до Вийона немецкого поэта-миннезингера Гартмана фон Ауэ, автора знаменитых любовных стихов и романов.
(обратно)111
[] Положим, они очевидны не для всех читателей, а лишь для тех, кто помнит Лермонтова (мы, русские, здесь в выигрышном положении); но во всяком случае автор сам сослался на свой источник, указал, в какой книге его искать.
(обратно)112
[] См.: Le Nouvel Observateur, 21 septembre 2006.
(обратно)113
[] Le Monde des livres, 16.11.2006.
(обратно)114
[] Вот эти слова Батая, сказанные именно по поводу нацистских концлагерей: «Как правило, палач пользуется не языком насилия, которое он творит от имени установленной власти, а языком самой власти, который по видимости извиняет, обеляет его и дает ему возвышенное оправдание. <…> Поскольку человеку хочется мучить других, роль законного палача дает легкий выход этому желанию; с другими же людьми, если ему есть до них дело, палач говорит на языке государства» (Батай Ж., Проклятая часть: Сакральная социология, М., Ладомир, 2006, с. 632–633, перевод Е.Д. Гальцовой).
(обратно)115
[] «В своей работе мне часто приходилось вести переговоры с людьми, похожими на него, – с убийцами сербскими, руандийскими, чеченскими, русскими, афганскими… Я пожимал им руку, широко улыбаясь. Это профессиональный вопрос: наша задача добиться от них желаемого, и все. Мы их не судим» (Le Figaro Magazine, 29 décembre 2006).
(обратно)116
[] Роман Литтелла вообще написан под сильным влиянием техники кино, хотя автор категорически заявлял, что не станет никому предоставлять права на экранизацию: «Не думаю, чтобы эту книгу можно было адаптировать в кино» (Le Monde des livres, 16.11.2006).
(обратно)117
[] Ауэ отдает себе отчет в квази-религиозной природе режима, бороться с которым можно было разве что с позиции другой религии: «малочисленные противники власти по большей части религиозны: они сохранили иной нравственный ориентир, в разграничении Добра и Зла фюрер для них не мерило, они опираются на Бога, чтобы предавать свою страну и вождя» (с. 431).
(обратно)118
[] Опять пример авторского «сотрудничества» с персонажами: романист незаметно заставляет их высказывать нечто такое, чего они не могут знать, – то философские категории Батая («трата», «дар», «расточение»), то опыт позднейшей истории, включая воинственную политику государства Израиль (намек на нее довольно прозрачен); вместе с ними он соглашается эстетизировать ужасные, невыносимо жестокие события: «Я думаю, это прекрасно…»
(обратно)119
[] Фронтовое ранение способствовало дальнейшей карьере Ауэ, но фактически он был ранен не в бою, а опять-таки в бреду: больной, в полубессознательном состоянии среди бела дня побрел на советские позиции – не в атаку, не в разведку, даже не сдаваться в плен, а просто «посмотреть на Волгу» – и, естественно, получил снайперскую пулю. Вообще, состоя на военной службе и не раз попадая на фронт, он так и не становится воином; по ходу повествования он собственноручно убивает нескольких человек и соучаствует в планомерном истреблении бессчетного числа других, но среди этих людей нет ни одного вооруженного врага.
(обратно)120
[] Эти два мальчика, случайные свидетели совершенного Максом убийства, потом бесследно исчезают, до конца войны он не может их найти, а после войны, кажется, уже и не пытается. Непричастные к безумию нацизма, они своим взглядом со стороны вывели бы повествование из заколдованного круга судьбы.
(обратно)121
[] О двусмысленности и литературности фигуры Хаузера, который (наряду с Олендорфом) выступает в роли образца, идеала для главного героя романа, пишет Антуан Компаньон: Antoine Compagnon, «Nazisme, histoire et féerie: retour sur les Bienveillantes», Critique, 2007, № 726, p. 881–896.
(обратно)122
[] «Единственным средством было влезть в шкуру палача. А палачей я знал по опыту. Я близко общался с ними», – вспоминал Литтелл (Le Monde des livres, 16.11.2006). И в другом интервью, говоря о главном герое «Благоволительниц»: «Это как бы мое возможное “я”, если бы я родился немцем в 1913 году, а не американцем в 1967-м <…>. Люди не всегда сами делают выбор <…>. Он служит нацизму с такой же искренностью, с какой я служил в гуманитарной организации <…>. Но это не значит, что я его оправдываю» (Le Figaro Magazine, 29 décembre 2006).
(обратно)123
[] Мысль о языке тела, языке боли присутствует у Литтелла. Его герой наблюдает агонию своего смертельно раненного друга, лингвиста Фосса, и описывает издаваемые им странные звуки в характерных выражениях Мориса Бланшо: «какой-то первобытный зов; но то была именно речь, она не говорила ничего и выражала лишь свое собственное исчезновение» (с. 234).
(обратно)


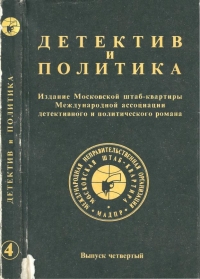
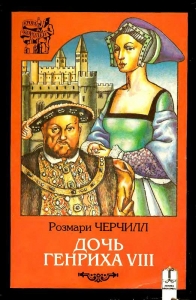

Комментарии к книге «Благоволительницы», Джонатан Литтел
Всего 0 комментариев