На златом престоле
ВСТУПЛЕНИЕ
Землю эту называли в народе Русью Червонной. Упираясь на западе в ленивые пологие увалы лесистых Карпат, достигала она холмов Подолии, охватывала север лесов Буковины, пересекала бесчисленные, словно рукой неведомого художника вырисованные, текущие по строгой уставной линии с севера на юг притоки буйного Днестра — Стрыпу, Липу Золотую и Гнилую, Серет, Збруч, Смотрич, Мурафу.
И городков укреплённых, и сёл богатых здесь, на юго-западной окраине некогда могучей Киевской державы, было видимо-невидимо. Как воины-сторожа, обступали пределы её обведённые дубовыми, буковыми, а порой и каменными стенами, окружённые земляными валами и рвами крепости. Несли они суровую службу на горных и речных рубежах, затворяли врата иноземным ворогам — ляхам, уграм[1], половцам[2].
Зе́мли в Червонной Руси, мягкие и плодородные, давали всякий год обильные урожаи пшеницы, ячменя, ржи. Летом утопали города, деревни, слободы в зелени садов, реки полны были стерлядью, голавлём, судаком, окунём, а леса и рощи — дикими кабанами, оленями, косулями, рысями, водилась здесь ценная мехом желтодущатая куница, гнездились по берегам озёр и рек серые утки, гуси, кряквы, нырки; жадно выискивал добычу белоголовый сип, чёрные грифы зловеще кружили под облаками. В горных же лесах, на Карпатских склонах, бродили но скальным тропам огромные бурые медведи.
Всем богата, всем обильна была Русь Червонная, потому и желающих овладеть ею издревле хватало.
То обры — вархониты[3] накладывали на жителей её — гордых непокорливых дулебов[4], тиверцев[5] и белых хорват[6] — тяжкую дань, то поляки занимали города и ставили здесь своих наместников — кастелянов, то кочевники-мадьяры[7] грабили, жгли, разоряли хаты и амбары, вытаптывали рольи[8].
После, во время расцвета Киева, правили здесь княжьи посадники: творили суды, собирали дани, выезжали на ловы[9] в леса и горы.
Но вот, изгрызанная червями междоусобий, рухнула, обратившись в прах, как колосс из библейской книги пророка Даниила, некогда могучая киевская держава, распалась на мелкие и крупные хрупкие осколки отдельных княжеств.
Города Червонной Руси отошли во владения троих братьев — Рюрика, Володаря и Василька Ростиславичей. Братья друг за дружку держались, жили меж собой мирно и союзно, вместе обороняли свои земли от посягательств Киева, Польши, Венгрии. Но после того как в один год умерли оба молодших брата, от былого единения не осталось и следа. Дети их перессорились, каждый тянул одеяло на себя, и только много позже, правдами и неправдами, когда лукавством, а когда силой прибрал к рукам все земли от верховьев Сана и до истоков Южного Буга хитрый и «многоглаголивый» князь Владимирко, сын князя Володаря. Столицей своей сделал он город Галич на правом, высоком берегу среброструйного Днестра, отчего и владение его стали называть Галичиной.
В те времена по югу Руси шли нескончаемые косящие люд усобицы, кровь лилась потоками, велась яростная борьба за хиреющий киевский великий стол[10]. Волны ратей накатывали порой и на Галицкое княжество[11], заливали заревом пожаров хаты крестьян, усадьбы бояр, купецкие дворы. Беспрестанным кипением страстей, тревогой и смятением наполнена была в ту пору жизнь.
С событий грозового 1151 года от Рождества Христова приступаем мы к нашему повествованию.
ГЛАВА 1
Ласковое весеннее солнце повисло над Галичем, клубилась пыль, поднимаемая конями и телегами; со стороны крепостного двора, из-за обитых листами кованой меди ворот, раздавался привычный лязг оружия. По соседству в кузне громко бухал молот.
По вьющейся над крутым обрывистым берегом Днестра дороге вверх к воротам двигалась вереница всадников на выхоленных тонконогих скакунах.
Впереди ехал молодой человек, на вид лет двадцати пяти — двадцати шести, на соловом[12] спокойного нрава фаре[13]. Облачён он был в голубого цвета лёгкий суконный плащ, застёгнутый на правом плече фибулой[14] с серебристой змейкой. Шапка с бархатным парчовым верхом, вышитым крестами, была низко надвинута на чело, на жёлтых тимовых[15] сапогах поблескивали округлые медные бодни[16], под плащом виднелась алая сорочка с вышивкой, с рукавами, перехваченными на запястьях серебряными обручами.
Лицо, тёмное от загара, отличалось правильностью черт. От слегка выпуклого, с горбинкой, переносья вдоль щеки под правым глазом тянулся застарелый белый шрам, такой же тонкий след проступал и на деснице[17], начинаясь между безымянным и средним перстами и уходя под рукав сорочки. Светло-русые волосы, слегка вьющиеся, струились непослушными прядями, ниспадали сзади из-под шапки и закрывали шею; усы, по тогдашнему обычаю, были на кончиках напомажены и вытянуты в долгие тонкие стрелки; узкая борода доходила едва не до пупа и слегка колыхалась при каждом движении.
Всадник часто оборачивался, оглядывал своих спутников, со вниманием щуря большие чуть навыкате глаза цвета речного ила.
Следом ехал на ширококостном буланом мерине полный пожилой муж, седовласый, с насупленными лохматыми бровями, весь с головы до ног облитый железом. Чешуйчатый ромейский[18] доспех его блестел на солнце, по лицу из-под островерхого шишака[19] градом катился пот. По правую руку от него на мышастом низкорослом прядущем ушами коньке скакал ещё один вершник[20], как и передний, молодой. Что-то масляно-лукавое проглядывало в чертах этого молодца, напоминал он хитрована-купчика, только что объегорившего на торгу наивного покупателя и светившегося от самодовольства. Маленькая войлочная шапчонка покрывала лишь самую макушку, оставляя почти полностью открытой гриву огненно-рыжих волос. На устах вершника играла лёгкая усмешка, и она же скользила в зелёных, как у кошки, глазах, каких-то неожиданно ярких. Одет был рыжеволосый просто, в долгую светло-коричневую свиту[21] из грубого сукна. По пути он беспрерывно что-то насвистывал, к явному неудовольствию пожилого мужа.
Сзади ехали несколько воинов, оборуженных копьями. На двух крытых рогожей телегах везли, как видно, охотничьи трофеи, — в одном месте выставлялись из-под рогожи оленьи рога, в другом — морда вепря с острыми и кривыми, как сабли, [стыками.
Все всадники были хорошо вооружены, у каждого на поясе или в портупее за спиной висел меч или сабля, у молодых к сёдлам были приторочены кольчуги.
— Семьюнко! — окликнул передний рыжего. — Погляди, врата крепостные на запоре. И мост через ров подняли. Или беда какая створилась?
— А может, и так, княжич, — прикрывая глаза ладонью от солнца, ответил рыжий молодец. — Али попросту родитель твой бережётся, крамол боярских опасается.
Семьюнко косо глянул на пожилого и добавил:
— И не зря, верно, боярин Домажир?
Пожилой, недовольно хмурясь, молча передёрнул плечами.
— Помнишь, Ярославе, — продолжал Семьюнко, обращаясь к княжичу, — как единожды выехал князь Владимирко на ловы в Тисменицу, вот такожде[22], как и мы ноне, а бояре тем часом заперли врата да выкликнули на княженье Ивана Берладника. Больших трудов стоило отцу твоему Галич воротить и Берладника согнать со стола.
— Помню. Не забудешь такое. Вот, до скончания дней земных память. — Ярослав провёл пальцем по шраму на щеке. — Под Ушицей сабля половецкая проехалась. Хвала Пресвятой Богородице — защитила, отвела напасть. Но давайте-ка поскачем скорее. Проведаем, что там, во граде.
Он тронул боднями коня. Спокойный угорский иноходец пошёл рысью, далеко вперёд выбрасывая длинные передние ноги.
Узнав княжеского сына, охранники у ворот опустили через ров подъёмный мост. Всадники въехали в обитые медью Немецкие Ворота, пересекли вымощенную досками улицу, миновали другие ворота и оказались на просторном дворе перед княжеским дворцом. Возле крыльца трехъярусных хором с теремными каменными башнями по краям Ярослав торопливо спрыгнул с коня наземь, коротко бросил Домажиру и Семьюнке:
— Подождите в горнице. Я к отцу, — и скорым шагом поспешил вверх по крутой винтовой лестнице.
В горницах и переходах ему раболепно кланялись дворовые челядинцы. На верхнем жиле[23], возле одной из палат Ярослав едва не столкнулся с рослой молодой женщиной в цветастом саяне[24] и повое[25] на голове. Холодно кивнув ей и промолвив коротко:
— Здрава будь, Млава! — Он помчался дальше, через гостиную залу с толстыми оштукатуренными столпами прошёл на гульбище[26], оттуда свернул в ярко освещённый смоляными факелами на стенах переход и, наконец, постучался в дубовую скруглённую наверху дверь. Страж в кольчуге и высоком булатном шеломе[27] приветствовал княжича поясным поклоном.
— Кто тамо? Входи вборзе[28]! — послышался за дверью раздражённый голос.
Ярослав шагнул в уставленную столами узкую и длинную палату. Князь Владимирко Володаревич, сверля сына колючим неодобрительным взглядом, резко встал с высокого резного кресла.
Был он приземист, ширококостен, белолиц, лет имел пятьдесят шесть; будучи ростом меньше сына, стоя рядом, смотрел на него своими светло-серыми белесыми глазами снизу вверх, исподлобья. Руками с толстыми короткими пальцами он перебирал окладистую пшеничного цвета бороду, говорил отрывисто, цедя сквозь зубы:
— Снова вороги подымаются на нас, сын. Изяслав Мстиславич Киевский с уграми, с королём Гезой сговаривается. Хочет за прошлое мне отомстить. Собирает, совокупляет силы ратные на Волыни, во Владимире. Король Геза вельми гневен. Помнит, как я в прошлое лето угорский отряд, на подмогу Изяславу супротив князя Юрья шедший, избил. До единого человека тогда угров в мечи мои удальцы взяли. Вот и злобится король, а Изяслав, враг мой давний, злобу сию разжигает. Вовсе обнаглел Мстиславич. Топерича силу свою чует. Почитай, соуз у его и с ляхами, и с уграми, и с черниговским Изяславом Давидовичем. Князя Юрья Суздальского, тестя твово, с Киева прогнали в обрат в Суздаль. Ну, да сам в своих бедах виноват князь Юрий. Всё людей жалел, воевать не хотел, всё миром поладить мыслил. Да время нынче не такое.
Владимирко вздохнул, переведя взор на забранное слюдой в свинцовой оплётке окно.
— Вот тако, сыне. Без соузников мы с тобою остались. Чую, не выдюжить супротив Изяслава в ратоборстве. Иной путь надоть искать. Вот, ждал тебя, да ты, бают[29], из утра на ловы отъехал. Топерича не до ловов. Давай-ка, сядем тут, обмыслим, как быти.
Ярослав сел на обитую синим бархатом лавку, облокотился о стол. Кусая уста, думал, молчал, опустив голову; наконец, сказал, глядя на вышагивающего по палате отца:
— Ведаю, отче, слова мои тебе будут не по нраву. Но всё ж скажу. Нынешняя вражда твоя с Изяславом — из-за городков бужских. Занял ты Тихомль, Шумск, Выгошев, Гнойницу, Бужск, се — города волынские, Изяславовы. Ежели отдашь их, успокоится киевский князь. А королю Гезе воевать и так не шибко-то охота. И ещё. Архиепископ Кукниш, ближник королевский, златолюбив паче всякой меры, не раз ты через него за гривны[30] и куны мир у короля покупал.
— О Кукнише баишь ты верно. А в остальном — глупость городишь. Бужск, Тихомль, Шумск отдавать ворогу свому — нет, пущай другого охотника ищут!
Ярослав ничего не ответил.
«Скуп отец, прижимист, — думал княжич. — И упрям излиха, никому ни в чём уступать не привык. Умён, изворотлив, но с добытками своими расставаться вельми не любит. Может, оттого и рати нескончаемые на земле нашей, и беда новая едва не каждое лето в двери стучится. Когда городок Мическ на Киевщине осадил, так такой взял с горожан окуп, что жёнки даже серьги из ушей вынимали, а попы кресты и потиры[31] златые из церквей выносили».
Князь Владимирко прервал мысли сына:
— Вот ты глаголешь: отдай городки! Да рази ж в городках сих дело? Ну, пущай даже Изяслава с Гезой умирим мы. А наши, галицкие вороги, бояре крамольные? Тотчас ослабу[32] мою учуют, головы подымут, с Берладником, двоюродником твоим, опять сноситься почнут. Нынче ведь как я их утишил? Вот, скажем, Домажир и Молибог завсегда супротив меня козни строили. Дак я Домажира обласкал, сыну его в Шумске посадничество дал. А Молибога, приятеля егового закадычного, не принял, гнать велел взашей из Галича. Топерича сидит Молибог в замке своём горном, злобою пышет, и злобится-то боле всего на Домажира: обошёл-де меня, предал боярин. И ты тако дей, сыне. Расколоть их надоть, рассорить друг с дружкой. А коли Шумск отдам я Изяславу Киевскому, опять Домажир с Молибогом и иными опальниками снюхается. Дескать, лишил мя князь волости, опозорил, сына с посадничества свёл. Тако вот, Ярославе. Со боярами хитро деять надобно. Помни се.
— Ну, пусть так, отец, — согласился княжич. — Но тогда как же нам теперь быть, что делать?
— Слабость свою николи[33], сын, боярам и черни казать не мочно[34]. Собирать полк, дружину готовить будем, выступим к Перемышлю. К сербам, к болгарам послано уже. Помощь пришлют. Но ратиться с сим забиякою, с Изяславом, очертя голову на его идти — не след. Потому вот что. — Владимирко опёрся обеими руками о стол, склонился над сыном и вполголоса, словно опасаясь, как бы кто не подслушал под дверью их разговор, сказал: — Грамоты разошлём. Ко князю Юрью — шёл бы на Киев. К полоцким боярам и князю их, Ростиславу Глебовичу, дабы выступили супротив зятя Изяславова, Рогволода. К новгородцам — погнали б сына Изяславова со стола. А главное — к ромейскому базилевсу[35], Мануилу. Как-никак родич он наш, сестра моя старшая Ирина за стрыем[36] его Исааком замужем, вроде как друг и соузник Мануил нам покуда. Побудить его надоть на угров идти, на Саву. Так, мол, и так, отпишу, час настал удобный. Ударь по мадьярам, оттяпай у короля Гезы Хорватию. Гезе тогда не до нас станет, сын. Своя рубашка — она завсегда к телу ближе. Попомни слова мои, Ярославе, отступится Геза от Изяслава, побежит свои владенья боронить. Тако вот. Мануилу сам я грамоту составлю, а ты ступай, пиши полочанам да новгородцам. Пошлём в Новгород боярина Домажира, а в Суздаль, ко князю Юрью, Щепана. Семьюнко же, отрок[37] твой, к Кукнишу пущай езжает. Парень он смекалистый, далеко пойдёт. А епископ угорский, верно ты сказал, златолюбив вельми. Отговаривать почнёт на наши гривны Гезу от войны. Эх, жаль гривен! Этакой сволочи и веверицу[38] отдать жалко, да что ж топерича?! Большее потерять мочно. Ну, с Богом, сыне. Ступай, да не мешкай. Тотчас садись за грамоты.
...Дело спорилось. Макая в чернильницу перо, выводил Ярослав на пергаменте киноварью[39] полууставные буквы. Семьюнко сидел напротив, княжич иногда просил его подсказать то или иное выражение, читал вслух отрывки:
«...Изяслав, бояре, к ногтю вас прижать мыслит, к земле пригнуть. На всю Русь длань свою тяжкую наложить этот хищник вознамерился. Князь же Рогволод — подручник его верный. Дабы волости свои уберечь, не принимайте Рогволода, людей его и киян[40] избивайте, а своего князя, Ростислава Глебовича, крепко держитесь...»
Новгородскому посаднику Судиле Ивановичу, старому приятелю Юрия Суздальского, писал так: «Град ваш издревле вольный, Изяслав же Киевский холопами[41] вас сделать хощет... Не к лицу Новому городу подручника киевского у себя держать. Всем вам киевский князь мечом грозит, всем вам от него один позор и одна погибель...»
Отложив перо, Ярослав присыпал грамоты песком, чтобы высохли чернила, велел звать печатника. Пергамент свернули в свитки, прикрепили к ним восковые вислые печати с родовым княжеским гербом — соколом и изображением князя Владимирка со скипетром в деснице.
Закончив дело, Ярослав устало потянулся и поднялся со скамьи.
— Собирайся, Семьюнко, — сказал он. — К Кукнишу, архиепископу угорскому, отец тебя посылает. Осторожно с ним надо будет говорить, намёками. Ну да что тебя учить, сам знаешь. Если придёшь, мешок со златом на стол бросишь — давай, мол, Кукниш, отговаривай короля от рати — не поймут тебя. А ежели исподволь, тихонько, с глазу на глаз, да ночкою тёмною в шатре, вот тогда, думаю, уразумеете вы друг друга.
Он невесело рассмеялся.
— Да, друже, торными дорогами здесь не пройдёшь. Всё приходится петлять, как в горах, обходить завалы, скалы, чащи. Напролом идти — глупо. Вот стрыйчич[42] мой, Иван Берладник, тот, говорят, человек безоглядчивый, простодушный, прямой. Девки его любят, дружина, люд простой, а не нагрел он на земле места. А всё потому, что княжеские дела — не охотничьи забавы, где против тебя — зверь лютый, и у тебя в руках меч или рогатина. Одним словом, людьми править — не оружьем бряцать. Тяжкий се крест, и не всякому он по плечу.
— Оно тако, княжич. — При свете свечи на столе лукавинкой сверкнули зелёные глаза Семьюнки. — Мне, оно конечно, до премудрости ентой далеко. Вот, мыслю токмо... — Он замялся. — Думаю, в стан королевский ежели я поеду, надоть мне приодеться. Кафтанчик какой ни то справить, сапожки. Сам знаешь, княжич, беден аз. Дак ты бы... Дал бы мне маленько злата из скотницы[43] княжой. Всё ж таки, как-никак, а на службе состою, князя Владимирка порученья исполняю.
Ярослав вдруг рассмеялся. Да, Семьюнко себя никогда не забывает. Не столь уж он и беден, отец его покойный солью промышлял, возил из Коломыи в самый Киев. Наверное, золотишко у Семьюнки водится. Ну да разве человека изменишь? Лучше малым пожертвовать, чем ворога себе наживать.
— Попрошу отца. Думаю, даст злата. Заутре же велит казначею отсыпать тебе, — ответил он.
Смазливое лицо Семьюнки озарилось масляной улыбкой.
...Проводив его, Ярослав прошёл в смежный с палатой молитвенный покой. Здесь на поставце в мерцающем свете лампад стояли иконы, а на стене в полный рост, почти до сводчатого потолка, изображена была Пресвятая Богоматерь. Молитвенно сложив на груди руки, смотрела она на княжича с любовью, страданием и немой укоризной. Короткий голубой мафорий[44] покрывал её голову и плечи, светло-зелёная хламида[45] струилась вниз, вокруг головы сиял, разбрасывая в стороны тонкие золотистые лучи, нимб с греческими буквами.
Встав на колени, Ярослав склонил голову и зашептал молитву.
— Достойно есть яко воистину блажити Тя[46] Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истленья Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.
Он смотрел в тусклый лик Божьей Матери, и на глаза его наворачивались слёзы, тяжёлый ком подкатывал к горлу и перехватывал дыхание.
Княжич не знал, не помнил матери, рано умершей дочери венгерского короля Коломана Софии, рос без материнского пригляда и ласки, и Богородица, этот лик, эта фреска на стене заменяла ему в одинокие тоскливые вечера и ночи самого дорогого на свете человека, которого он был лишён. Ей, Богородице, пресвятой Деве Марии, поверял он все свои тайны, делился сомнениями, переживаниями, только одна Она своим безмолвием поддерживала и понимала его, Ей дарил он свою сыновью любовь, к Ней обращался за советом и помощью.
— Спаси нас, Пречистая Богоматерь! Заступись за мя, грешного, пред Господом! Бо[47] человек аз, жалок аз, нищ и грешен, и мерзостей земных преисполнен! Вот писал днесь[48] грамотки подмётные по отцову веленью, подстрекал новгородцев и полочан ко встани[49]. Из-за мя теперь кровь прольётся, люди погибнут. Но мог ли, мог ли по-иному содеять?! Не ради оправданья, но ради нищеты и малости своей молю: заступись, Пресветлая Богоматерь, не дай пропасть и погинуть душе моей в геенне огненной! Умолила ты Сына Своего, дабы от Пасхи и до Троицы не мучились человеци худые и грешные в аду! Бо претят Тебе стоны и страданья людские! Аз, жалкий раб Божий, худым умом своим мыслю одно: Твоим путём идти, по Твоему примеру земные дела вершить! Оберегу землю Галицкую, кою дала ты мне в наследство, от ратей, глада, мора! За дело се всё, что имею, отдам, самую жизнь положу! Спаси мя, Пречистая Матерь Божья!
То ли показалось, то ли в самом деле лёгкая улыбка тронула уста Богородицы, и некоей чистотой, светом невидимым горним обдало княжича. И сделалось Ярославу как-то хорошо-хорошо, так приятно, тихо на душе, все сомнения, колебания, беспокойные мысли его отступили куда-то, истаяли, он чувствовал тепло, как бы исходящее от этой фрески, словно мать родная, о коей не знал почти ничего, прижала его сейчас к своей груди и ласковыми дланями провела по непокорным волосам.
Исчез тяжкий ком в горле, высохли слёзы, Ярослав поднялся на ноги, удивлённо окинул взором молельню и, чувствуя необычайную лёгкость в теле, очарованный, вернулся обратно в палату.
Ждали его впереди большие заботы и свершения.
ГЛАВА 2
Тёмная весенняя ночь стояла над Галичем, тишину нарушали время от времени оклики стражи и удары деревянного била[50] на крепостной стене, едва различимой с гульбища в серебристом свете луны. Было холодно, ветер доносил до Ярослава, прижавшегося спиной к толстому деревянному столпу, запахи молодой листвы, трав, той свежести и новизны, какая бывает только ранней весной, в пору, когда природа пробуждается после долгой зимней спячки и словно упивается торжеством вновь нарождающейся жизни.
Каким-то глупым недоразумением казалась княжичу война, которая вот-вот могла разразиться. Нет, не для стрел и копий создал Бог этот мир, не для кровавых баталий и смертей на бранных полях, думалось Ярославу. Для чего ратаи всю жизнь свою пашут землю, для чего выращивают хлеб, разбивают яблоневые и вишнёвые сады над берегами обеих Лип и среброструйного Днестра? Для чего зиждители[51] строят храмы, украшают их фресками, мусией[52], акантом? Или ремественники-гончары создают дивную поливную посуду, а златокузнецы — кресты-энколпионы[53], мониста и браслеты, от одного взгляда на которые захватывает дух? Зашёл в лавку такого умельца — и будто в сказку попал! Нет, жизнь следует мирно обустраивать. Как, Ярослав пока ещё не знал.
Отец — он, понятно, годами цеплялся за власть, за достойное место меж родичей-князей. Лукавил, предавал, бросал в бой дружины, не щадил ни себя, ни других. Прав он был? Наверное, не всегда, но он создал на месте крохотных уделов обширное княжество, укрепил и украсил города, сделал Червонную Русь сильной, с самим киевским князем Изяславом тягается теперь за города и веси. Но вот если б на месте отцовом он, Ярослав, оказался? Так ли бы поступил? Или всё-таки отец прав?.. Он говорит: с боярами допрежь[54] всего сладить надо...
Ответов на свои вопросы Ярослав не находил.
Далеко внизу под стеной ворчливо тявкнула разбуженная собака, лязгнула железная цепь. Снова раздался привычный стук деревянного била. Стало холоднее, кунтуш[55] на меху, обшитый сверху тёмно-зелёным сукном, не согревал тело.
Да что там говорить, если ещё седмицу[56] назад снег срывался над долиной Луквы за городом. Ранняя весна, март-березозол. В такую вот пору и начинают князья свои рати.
...На душе стало тягостно, неприятно. О чём бы ни думал, все мысли поворачивают на Изяслава и угров. Верно, быть опять войне, литься крови.
Ярослав вздохнул, качнул головой и, круто повернувшись, ушёл с гульбища в хоромы...
В ложнице[57] чадил глиняный светильник. Пробудившаяся холопка-суздальчанка стрелой метнулась в переход.
Ярослав, сбросив с плеч кунтуш, в одной расписной рубахе медленно опустился на лавку. На ложе, укрытая беличьим одеялом, спала жена, Ольга, дочь суздальского князя Юрия, того, что прозван был за извечное своё стремление прибрать к рукам Киев и иные южнорусские города Долгоруким. Ольга была рослой пышногрудой жёнкой с громким грубым голосом. Полтора года уже, как состоялась их свадьба, а так и не прикипели супруги друг к другу душой, так и остались чужими. Скрашивали порой холод отношений ночные совокупления, когда уже не порывы души, а лишь похоть одна от близости тёплого женского тела, от ощущения жадной плоти её рядом с собой бросала Ярослава в Ольгины объятия. После всякий раз становилось противно, гадко, думалось: ну, прямь стойно[58] жеребец на кобылу! Но потом опять всё повторялось из раза в раз.
Вот так, соединили отцы Галич с Суздалем, привезли Ярославу эту жёнку, что сейчас громко, с присвистом, сопит на пуховой перине, и не помыслили, люба ли она ему, а он — ей.
Недавно родила Ольга сына. Мальчика нарекли Владимиром — в честь деда. Более всех рад был его рождению князь Владимирко. Считал князь, что укреплялся, укоренялся его род на Галицкой Земле. Оно так, конечно, да вот только самому Ярославу был этот ребёнок вовсе не в радость. Полагал он, была уже Ольга непраздна, когда состоялась их свадьба. Зная о том, верно, и торопил князь Юрий отца, и настаивал, и хотел побыстрее вытолкать замуж перезревшую грешную дочь свою. Тогда, полтора года назад, в очередной раз овладел Долгорукий Киевом, изгнав князя Изяслава на Волынь. Помнит Ярослав просторные киевские палаты, шумные пиры, горластых суздальских дружинников, вечно пьяных, златоверхий Михайловский собор на круче над Днепром, золото опадающей листвы в садах, всю набеленную улыбающуюся Ольгу, здравицы, кольца на перстах, хоросы[59] и паникадила, от которых слепило в глазах. Потом была ночь на сенях[60] — первая их брачная ночь, робость его и издевательский смех молодой жены, её вопрос:
— У тебя чё, и девок николи не бывало?
Затем был яростный неодолимый порыв плоти и чувство гадливости от случившегося.
Одолев себя, спросил тихо, шёпотом:
— Почему не цела?
Услышал в ответ лишь короткий презрительный смешок, отвернулся от неё, раздосадованный и обиженный сам на себя за неумелость свою, да так и заснул.
После родов Ольга располнела, распухла, как дрожжевое тесто. С годами всё более напоминала она отца своего, князя Юрия — такая же была рослая, полная, с округлым лицом и кривым, скошенным немного набок, носом. Ходила по терему, переваливаясь, будто медведица, вечно чем-нибудь недовольная, вела себя в Галицких хоромах хозяйкою, пушила слуг грубым голосом своим, досаждала и ему, Ярославу, придирками своими и криками.
...Ярослав грустно глянул на её полураскрытый рот, на распущенные густые волосы цвета воронова крыла, разметавшиеся по подушке, подумал вдруг: «Хороша только, когда спит. Хоть не ругается, и то ладно».
Стал в уме прикидывать, кем ему Ольга приходится, какова у них степень родства.
Так, оба они — потомки великого киевского князя Ярослава, наречённого летописцами Мудрым. Владимир и Всеволод Ярославичи — родные братья. У Владимира сын был Ростислав, у Всеволода — Владимир Мономах, они меж собой братья двухродные[61]. Дед Ярослава, князь Володарь, был Ростиславу сыном, а князь Юрий — сын Мономаха, выходит, его брат троюродный. И, стало быть, Ольга его, Ярослава, отцу четвероюродной сестрой приходится. Вот так, смешно и грустно. Получается, на дальней тётке своей он женат. Глупость, да и только. Впрочем, что ж тут глупого? fie он, Ярослав, первый такой. Для князя женитьба — не сладкая утеха, не любовь светлая, а дело державное. Союзили Галич с Суздалем родители — вот и учинили сей брак. Как купцы, деля прибыли, ударили по рукам.
Ольга внезапно пробудилась. Приподняла голову с подушки, изумлённо изогнула тонкие дуги чёрных бровей, хрипло спросила:
— Чего расселся, не ложишься?
— Не спится. С отцом баил. Снова Изяслав Киевский ратью нам грозит.
Он глянул на её немного раскосые серые с голубинкой глаза. Глаза были половецкие; от покойной матери, дочери хана Аепы, достались они Ольге, равно как и волосы чёрные, и брови.
Жена заворочалась под одеялом, зевнула, проворчала нехотя:
— Всю жизнь рати одни! Никоего покоя!
Перекрестив рот, она тотчас откинулась на подушки и мгновение спустя снова заснула.
Ярослав посмотрел на неё с той же хмурой грустью и стал нехотя расстёгивать ворот рубахи. Спать не хотелось вовсе, но в теле чувствовалась усталость. Коротко помолившись, Ярослав забрался на ложе рядом с нелюбимой женой.
Ночью ему приснилась Богоматерь с ласковой улыбкой на тонких устах. Стало тепло и спокойно, страхи и тревоги на время ушли. Почему-то ему подумалось сквозь сон, что всё будет хорошо.
ГЛАВА 3
В то время как на юге Руси уже начинали зеленеть деревья и молодая трава пробивала себе путь к тёплым солнечным лучам, на севере, на гигантских просторах Залесья ещё царствовала зима и на полях лежали белые сугробы. Сурова природа Суздальщины, иной раз и урожаи здесь, на этой щедро обдуваемой холодными ветрами земле, бывали столь скудны, что хоть с голоду помирай. Впрочем, край обустраивался, полнился людьми, бежавшими с Киевщины, с Черниговщины или из иных областей от княжьих усобиц и половецких набегов. Возникали сёла, укреплённые города, на освобождённых от вековых пущ участках земли колосилась рожь.
Но всё же в описываемую нами пору оставалось Залесье окраиной Руси. Многотрудно было житие в этих местах, а тут ещё эхо войн опалило огнём города и посёлки, когда киевский князь Изяслав в союзе с новгородцами прошёлся по ним, сжигая, разоряя, уводя в полон. Или когда суздальский владетель, Юрий Долгорукий, один за другим совершал походы на юг, уводя с собой ополченцев, отрывая мужей от жён, отцов — от детей, сынов — от матерей.
Но самое гиблое, наверное, место в Залесье — княжеский поруб[62]. В стороне от роскошного суздальского дворца Долгорукого, по соседству со сторожевой башней-вежей[63], вырыта была земляная яма. Хоть и обложили яму сверху рядами толстых брёвен и укрепили с боков такими же врытыми вертикально в землю столпами, но царили в ней холод и сырость. Одинокий узник в видавшем виды кожушке, некогда красивом, обшитом серебристой нитью по вороту и полам, а ныне свалявшемся, утратившем былой блеск и яркость, безмолвно сидел на дощатых нарах и уныло смотрел в потолок. В долгой широкой бороде его, давно нечесаной, проглядывали седые нити, на худом лице проступали острые скулы. Большие серые глаза смотрели мутно, в них уже померкло страдание, уступив место равнодушию, такому, когда лишь одна мысль успокаивает и заставляет ровно биться сердце: «И это пройдёт».
Не узнать было в узнике некогда удалого и хваткого молодца, забубенную головушку, безудельного князя Ивана Ростиславича Берладника.
Давно потерял Иван счёт времени, понимал он лишь, что там, наверху, над настилом из брёвен, властвует зима, дуют холодные пронизывающие ветры, метёт лихая метель. Иной раз сходил по дощатой крутой лесенке к нему в поруб суровый усатый стражник, молча, с подозрительностью осматривал утлое сырое помещение с факелом в руке. С пленником никто никогда не разговаривал — таков, видно, был приказ Долгорукого.
Всякий день ему спускали сверху на верёвке кус чёрствого ржаного хлеба и корчагу с водой, реже — с квасом. То была единственная еда узника. Изредка, по большим праздникам, к хлебу и питью добавляли маленький котелок с горячими щами — тогда и для Ивана наступал праздник. Он жадно, обжигая уста, поглощал пахнущую капустой наваристую похлёбку. Но праздник оканчивался с последней ложкой щей. Снова наступали тянущиеся унылой чередой дни и ночи.
А ведь был когда-то Иван лихим удальцом, смелым добрым воином, хлебосольным хозяином. Ещё подростком остался он без отца. Князь Ростислав Володаревич владел городами Перемышлем и Звенигородом, что располагался на левом берегу Днестра между устьями Серета и Збруча. Боролся он с братом Владимирком за Свиноград, хотел овладеть всею горной страной закарпатской, да старшие князья примирили братьев, каждому велели держать свою волость. Вскоре за тем Ростислав внезапно занемог и умер. Ходили кривотолки, будто это Владимирко постарался извести братца, велел подсыпать ему в пищу какую-то гадость.
Как бы то ни было, а пришлось малолетнему Ивану с матерью уносить из Звенигорода ноги.
Мать Ивана была родом из дунайских болгар, красавица была, каких мало. Иван на всю жизнь запомнил её роскошные каштановые волосы и ласковую улыбку на алых устах.
Осели они с матерью в городке Берладе, расположенном посреди холмистой гряды на речке такого же названья. Всякий народ стекался в Берлад — и беглые холопы из Русских и Угорских земель, и болгары, спасавшиеся от гнёта империи ромеев, и кочевые половцы и печенеги, покинувшие земли соплеменников.
Сбирались эти людишки, промыслом которых становился разбой на торговых путях, в лихие шайки, баловали по Сирету, Пруту и Дунаю, грабили купцов. Прозывали людей сих, без роду-племени, берладниками, по имени городка. И его, Ивана, тож прозвали Берладником, иначе — Берлядином. Так и вошёл он в русские летописи, извечный бродяга и кочевник.
Среди разбойного народа быстро стал он своим, стал предводителем лихой вольницы, этаким князем без княжества. Когда подрос, сам возглавлял не раз набеги на соседние земли. Единожды аж до Месемврии доходил на стругах по Чермному морю.
С годами обзавёлся Иван преданными людьми, своего рода дружиной. С их-то помощью и держал власть в Берладе. Ещё позже понял: одним разбоем не проживёшь, не укрепишься в Подунавье. Даровал грамоты ромейским и иным купцам, пропускал через владенья свои в междуречье Сирета и Прута торговые суда, брал пошлины. Жил в ту пору неплохо, но захотелось большего. И когда позвал его Владимирко в Звенигород, на отцово место, отправился не колеблясь.
В Звенигороде сыграл свадьбу с юной дочерью боярской, жить стал весело, на широкую ногу. Вместе с дядей ходил на Волынь, затем оборонял Галичину от киевских князей, от угров и ляхов, славу заслужил и честь беспримерной храбростью своей, и многие бояре галицкие, недовольные крутым норовом Владимирки, стали поглядывать в сторону Ивана, думая про себя: нам бы в князи этакого молодца. В дела боярские нос особо совать не станет, а от ворога любого завсегда оборонит.
И единожды приехал в Звенигород галицкий боярин, Стефан Дементьевич. Долго ходил вокруг да около, расспрашивал Ивана о покойных отце с матерью, а потом и ляпнул будто невзначай: зовут-де тя, княже Иван, бояре в Галич. Нет нам сладу с дядькою твоим, в бараний рог он нас скрутил. Жесток паче всякой меры князь Владимирко. Прижимист, скуп, купцов поборами душит, ремественный люд такожде от него стонет. И нам, боярам, подняться не даёт. У кого земли отберёт, кого засудит, а иной раз и вовсе головы лишит. Ты, мол, токмо согласье дай. Тотчас весь Галич за тя встанет.
Проняли Ивана речи Стефановы. Решил он рискнуть, бросить на кон лихую судьбу свою.
В ту пору Владимирко охотился в Тисменице. Тем и воспользовались бояре. Галопом, на взмыленном скакуне влетел Иван в городские ворота, и в тот же час посажен он был на стол в соборе Спаса. Закружилась у добра молодца головушка.
Князь Владимирко, сведав о случившемся, мешкать не стал. Тотчас собрал великую рать и подступил к галицким стенам. Привёл с собой множество сербов и болгар — давних своих друзей и соузников.
Началась долгая осада. Но успешно отражали галичане все приступы Владимиркова воинства. Может, и удержался бы Иван в Галиче, да подвела его глупая самонадеянность.
Однажды решил он совершить вылазку во вражий стан, пощипать как следует разношёрстную Владимиркову рать. Надоело любящему вольный простор удальцу просиживать за крепостной стеной. Вырвался отряд бешеных всадников — берладников, охотников «за зипунами» из ворот, врезался в гущу опешивших супротивников, погнал их берегом Днестра наперегонки с зимней вьюгой. Ох, славно посекли тогда ворогов удальцы! Только и звенели, только и ходили мечи вверх-вниз, опускаясь на вражьи плечи и спины.
Но за лихой атакой проглядели берладники главное — отрезал их Владимирко со свежим полком от градских стен, а затем и взял в плотное кольцо.
Целую ночь рубились берладники, почти все и полегли на бранном поле. Едва вырвался тогда Иван из окружения. Весь перемазанный кровью, ускакал вдоль холмистого Днестровского берега в Звенигород. Так рухнула в одночасье мечта его о Галицком столе. Впрочем, нет — мечта остаюсь, рухнули лишь надежды занять Галич сейчас. В Звенигороде же городские старцы[64] вежливо, но твёрдо сказали Ивану: ушёл от нас, соблазнился хлебным столом, дак не обессудь.
Указали князю-изгою из Звенигорода путь. С той поры служил Иван разным князьям — сперва Всеволоду Ольговичу, затем Изяславу Мстиславичу, вместе с ними ратоборствовал супротив Владимирки. Супругу свою с малым чадом отослал в Смоленск — тамошняя княгиня приходилась сестрой его матери. Когда же узрел Иван остуду к своей персоне со стороны Изяслава Мстиславича, рванул, не думая особо, как всегда, в Суздаль, к Юрию Долгорукому, первейшему Изяславову врагу. Предложил Юрию свой меч, стал служить, как служил прежде иным князьям, а не уразумел, что Юрий в большой начавшейся в те годы борьбе за киевский золотой стол — соузник Владимирки. Поначалу, правда, не до Ивана было Галицкому владетелю, а у князя Юрия любой добрый воин был на счету — мыслил он отнять Киев у Изяслава.
Может, всё бы и обошлось, да угораздило Ивана один раз глянуть в серые с голубинкой очи молодшей дочки Долгорукого, Ольги. Глянул — и утонул, словно заворожила его суздальчанка. Видно, и княжне по душе пришёлся удатный[65] молодец, косая сажень в плечах. Ольга была не из таких, что молча вздыхают и сохнут в девичьих светлицах. Капризная избалованная отцова любимица привыкла добиваться своего. Скоро настала тёмная ночка, повстречались они на сеновале на задворках княжьего терема, возле башни-повалуши[66], потом были ещё встречи, были объятия, поцелуи, и был грех. О, сколь сладка была Юрьева дочь, и сколь велика была страсть!
Узнал о встречах их Долгорукий, разгневался, велел тотчас поковать Ивана, а после бросил его гнить в поруб.
Ольгу же немедля вытолкали замуж, и за кого?! За сына Владимиркова! Вот уж, воистину, мир тесен.
Поначалу Иван рвал на себе волосы, но затем пыл его угас, отчаяние в душе сменилось равнодушием. Клял себя он за неразумие, за лихость свою, но вместе с тем и думал: да разве мог он по-иному? Доведись снова пройти весь прежний путь — прошёл бы без сожаленья! Сидел в сырой темнице без надежды, но и вне отчаяния.
...Поддерживаемый под руки двумя дружинниками, в поруб медленно ввалился грузный рослый князь Юрий. По лицу Ивана скользнула искорка изумления. Впрочем, она тотчас угасла, уступив место привычному безразличию.
От князя Юрия исходил сильный запах хмельного. Уставившись на Ивана, Юрий грозным раскатистым басом проревел:
— Что, ворог, коромольник! Невест чужих, стало быть, портишь! Вот оно как! Но ничего! Посидишь, соколик ясный, в клетке! — Он злобно расхохотался. — Требует тя стрый твой, Владимир Галицкий! Просит выдать тя ему на расправу! Что молчишь?! Вот думаю, смекаю: а стоит ли?! Али лучше уж тут те сдохнуть?!
Долгорукий замолчал. Он долго стоял посреди поруба, уперев руки в бока, косо, с хитроватым прищуром посматривал на своих дружинников, на Ивана, всё такого же равнодушного к своей судьбе. Наконец, махнул десницей:
— А, чёрт с тобою! Сиди покудова, а тамо поглядим ещё!
Он ожидал, что узник бросится перед ним на колени, будет молить не выдавать его жестокому Владимирке, умоется слезами, и тогда бы Долгорукий проявил милость и простил бы его, вывел из поруба, послал на войну против Изяслава. А после... на войне бывает всякое. Ни к чему суздальскому князю, в конце концов, ссориться с галицким, они — друзья и близкие родичи... Случайная стрела, невзначай брошенная сулица[67]. Мало ли что может створиться. Зато его, Юрия, будут хвалить за милосердие и справедливость.
Но Иван молчал, чем немало удивил и разгневал Долгорукого.
Ругнувшись, суздальский князь так же медленно, тяжело дыша, полез наверх. За ним вслед, звеня бронями, поднялись дружинники.
Опять окружили несчастного узника тишина, тьма и неизвестность.
ГЛАВА 4
Семьюнко торопился, стегал половецкой нагайкой гнедого конька, ударял ему боднями в бока. Клубилась из-под копыт густая пыль, майское солнце не ласкало, а жарило незадачливого путника своими обжигающими копьями-лучами. Пот бисером катился по взмокшему челу. Позади остался Перемышль с его соляными складами и амбарами, разбросанными возле речных вымолов[68]. Семьюнко по броду пересёк стремительный извилистый Сан и окунулся в прохладу зелёного букового перелеска. Стройными цепочками потянулись перед глазами холмы с обрывистыми склонами, поросшие буйной зеленью. В чисто вымытом небе пели жаворонки, в выси зависали, махая крылышками, кобчики.
Семьюнко огляделся по сторонам, придержал конька, осторожно, перейдя на шаг, выехал из леска на обдуваемый тёплым ветром простор. Стал медленно взбираться на крутой холм. Вниз струями посыпался сухой песок.
«Где-то тут стан угорский». — Семьюнко остановился на вершине холма, на самом косогоре, приложил ладонь к челу, снова стал осматриваться вокруг.
У самого окоёма[69] на полуночной стороне сверкнул под солнцем булат. Зоркий глаз отрока различил фигуры воинов в панцирных бронях и белые шатры, почти сливающиеся с маленькими белоснежными облачками. Он пустил конька рысью и промчался по твёрдому выложенному из бука мостку через густо поросшую орешником балку, на дне которой гневно журчала на камнях узенькая речушка, вся в белом пенном крошеве.
Громкий оклик заставил Семьюнку вздыбить коня. Два угра в пластинчатых доспехах, блестящих на солнце, с копьями наперевес спешили ему навстречу.
— Кто есть?! Куда идти?! — посыпались вопросы на ломаном русском языке.
— Грамоту везу. Епископу Кукнишу.
Семьюнко развязал суму и потряс зажатой в деснице грамотой с серебряной княжеской печатью.
Стражи велели ему сойти с коня.
— Доложим, — сказал резким неприятным голосом один из них, худощавый смуглый ратник с тонкими и длинными загнутыми книзу усами.
Из-за холма показались ещё четверо угров. Подозрительно посматривая на незнакомого человека в кафтане русского покроя, под которым виднелись кольца кольчуги, они обступили Семьюнку со всех сторон. Грозно щетинились острые длинные копья.
Худощавый побежал в сторону лагеря. Спустя короткое время он вернулся и приказал отроку следовать за собой. Двое угров остались у мостка, остальные направились с Семьюнком.
Вскоре отрок очутился в просторном белом шатре, на ткани которого были золотом вышиты большие латинские кресты-крыжи. Епископ Кукниш, облачённый в лилового цвета сутану, с гладко выбритым лицом и тонзурой на голове, сидел в высоком кресле и перебирал пальцами чётки. Полное розовощёкое лицо его дышало достатком и сытостью, маленькие карие глазки неприятно скользили, словно тщательно ощупывая собеседника.
За спиной Кукниша висели тяжёлые латы и шлем с забралом, украшенный алым пушистым пером. Крест и меч шли по жизни рядом, мир сменялся войной, ратная страда — полевыми работами. Латинский же бискуп[70] сочетал в одном лице монаха и воина. Такое было не редкостью в те времена на Западе.
— Кто ты? — осведомился Кукниш, хмуро сведя густые смоляные брови.
Он говорил по-русски, и довольно чисто.
— С грамотой к тебе, святой отец. Князь Володимирко просит тебя, о благочестивый господин, принять его послание и щедрые дары. Со скорбью узнал наш князь о том, что король угров готовится воевать его землю, вняв совету недостойного киевского князя Изяслава.
— Вот оно что, — медленно, растягивая слова, проговорил Кукниш. — Дары... В другой час я бы посодействовал миру. Но ныне... — Он сокрушённо покачал головой. — Очень жаль мне, но король пребывает в сильном гневе. В прошлое лето, да будет тебе известно, князь Владимирко уничтожил под Саноговом наш отряд, шедший на подмогу князю Изяславу. Коварно, предательски, под покровом ночной темноты его ратники изрубили наших воинов до последнего человека. По этой причине, гонец, я даже не рискну подойти к его величеству с предложением мира. Хотя, не скрою, очень бы хотел наступлению тишины и благодати.
«Ещё бы! Небось, уразумел, что не пустой я приехал. Видал, верно, торока, рухлядью[71] набитые», — тщательно скрывая в усах презрительную ухмылку, думал Семьюнко.
Да, каша заваривалась густая. Отрок стоял перед епископом, соображая, как ему лучше поступить.
— Битвы не избежать, — продолжал тем часом Кукниш. — К тому же князь Изяслав уже на подходе к нашему лагерю. С ним его старший сын, Мстислав. Он ещё непримиримей настроен.
— Но какова выгода короля в этом деле? — решился спросить Семьюнко.
— Выгода... — Епископ вздохнул. — Если бы всё мерилось выгодой! Золотом, уделами... Нет здесь ни какой выгоды. Король Геза — рыцарь, и верен данным князю Изяславу клятвенным обещаниям. И потом, сильное влияние на короля имеет королева Фружина. Не забывай, что она — сводная сестра князя Изяслава.
— Но ведь у державы угров есть свои враги. И с ними нельзя будет поладить так, как с нашим князем, — с наигранным недоумением промолвил Семьюнко.
— Ты говоришь о Ромее. Ты прав. — Кукниш опять вздохнул. — Но король очень уж зол на вашего Владимирка. Нет, отрок, войны не остановить... Пока не остановить. Думаю, ты меня понял.
Он хитровато улыбнулся, сверля собеседника прищуренным взглядом своих пронзительных карих глаз.
Семьюнко молча кивнул.
Приложив десницу к груди, он низко поклонился епископу. Кукниш стал, медленно разворачивая, вчитываться в грамоту, чуть заметно кивал головой, снова горестно вздыхал.
— Попробуем что-нибудь сделать. Но, повторяю, не теперь. И, разумеется, если князь Владимирко окажется достаточно щедр, — наконец произнёс он. — Пока же я пошлю к нему одного своего каноника. А ты останешься здесь. И знай: у меня надёжная охрана...
«Пугает или успокаивает?» — Семьюнко уставился на епископа с немым вопросом.
— Люди Изяслава не смогут причинить тебе лиха. Если, конечно, ты будешь осторожен и благоразумен.
Епископ позвонил в серебряный колокольчик. Тотчас на пороге шатра возникли два рослых стража в чешуйчатых катафрактах[72].
— Этого человека тщательно оберегать. Никто посторонний не должен о нём знать! Всё понятно?!
— Точно так, ваша эминенция! — пробасил один из охранников.
Семьюнко молча кусал губы.
«Хорошо хоть, часть княжого золотишка припрятал в Перемышле, у брательника[73] на складе. Еже[74] что...» — Семьюнко оборвал ход собственных рассуждений, запретив себе даже мыслить об этом «еже что».
...Отрока поселили в том же епископовом шатре, огородив войлочными пологами и ширмами, велели сбросить русское платно, кольчугу и облачиться в голубой угорский жупан грубого сукна, приставили слугу — немого монаха, который приносил ему еду и вино. В тревожном нетерпеливом ожидании потянулись для Семьюнки дни.
ГЛАВА 5
Громыхали тяжёлые доспехи. Ржали вздыбленные лошади. На возах везли оружие и припасы. К берегу Сана, извиваясь серебристо-серой змеёй, подходила грозная тьмочисленная Изяславова рать. Шли киевский и черниговский полки, боярские отроки, дружины из Владимира, Луцка, Пересопницы, шли туровцы, берестейцы[75], ратники из киевских пригородов, союзные торки[76] и берендеи[77]. В глазах рябило от многоцветья хоругвей[78]. И вся эта огромная масса валила в сторону Перемышля, готовясь задавить, подмять под себя Червонную Русь с её упрямым и лукавым князем Владимирком, с её богатым боярством, с ушлыми купцами и знатными ремественниками. Словно дракон, разверзший пасть, сминая, сжигая на своём пути сёла и городки, двигалось воинство, щетинясь копьями, сверкая мечами и саблями.
Вблизи на пологих зеленеющих холмах расположились союзные угры. Король Геза ещё накануне вечером послал к Изяславу скорого гонца, призывая на совет. И сейчас вместе с ближними баронами король, облачённый в горностаевую мантию поверх лат, в золотой короне на голове, наблюдал за тем, как от змееподобного воинства отделяется группа всадников в нарядных разноцветных одеждах и скачет вверх по склону.
Но совет будет после. Пока же ждёт гостей и хозяев шумный роскошный пир. Ради шурина своего не поскупился Геза. Перед шатрами уже расставлены столы, уже щекочут ноздри ароматы готовящихся яств, уже виночерпии готовы щедро наполнять братины[79] и ендовы[80] светлым мадьярским вином, пшеничным и ячменным олом[81], терпкой сливовицей.
Вот, наконец, на вершину холма въезжает на статном коне белоснежной масти киевский князь Изяслав Мстиславич. По левую руку от него — его брат, Святополк Волынский, по правую — сын Мстислав. Владетели спускаются с коней, Геза идёт навстречу шурину, широко распахивая объятия. Родичи-союзники обнимаются, лобызают друг дружку, затем Геза приглашает гостей разделить с ним трапезу. Льётся вино, слуги несут на подносах огромные туши жареного мяса, тащат разноличную рыбу, приправы, соусы, блюда из птицы. Вздымаются чары, произносятся здравицы, звучит весёлая музыка.
Изяслав хмур, улыбается с натугой, через силу. Тёмно-русые волосы, сзади коротко подстриженные, непокорно вьются, неровными прядями спадают на чело, тонкие вытянутые в стрелки усы грозно топорщатся, он мало ест и почти ничего не пьёт. На приветствия угорских вельмож больше отвечает его брат, Изяслав лишь рассеянно кивает и недобро косит по сторонам своими светлыми золотушными глазами.
Война была его стихией, если чем и отличался он, так это ратным умением, лучше любого воеводы знал всякие воинские хитрости. Вот и ходил по всей Руси с мечом, покоряя, сжигая, разоряя, бросая закованных в булат дружинников на непокорных князей и строптивые города. Сеял на земле смерть, добиваясь вожделенной цели — великого киевского стола, стола отцовского и дедовского, побеждая и изгоняя тех, кто противился его власти, его воле. Всегда и везде признавал он один только способ достижения целей — харалужный[82] меч. Шестой год длилось лихолетье, и не было ему видно конца и края.
Шумные застолья и пиры Изяслав не жаловал, если пил, то только когда вынуждали его к тому обстоятельства. Все дела, кроме войны и охоты, он полагал второстепенными. Может, потому и киевский стол он то захватывал легко, со стремительностью находника-степняка[83], то столь же неожиданно и быстро уступал главному супротивнику — стрыю своему Юрию Суздальскому. Грызлись меж собой дядя с племянником, яко лютые звери, и втягивали в яростную эту грызню всё новые и новые силы: угров, ляхов, торков с берендеями — Изяслав, половецкие орды — Юрий.
Изяслав чаще побеждал, бывал более искусен в манёврах, он пользовался поддержкой старых киевских бояр, которые боялись засилья в стольном Юрьевых «суздальцев». Иными словами, за Юрия был закон, был старый дедов ряд[84] — порядок наследования, за Изяслава — сила и люди, «набольшие мужи». Уступать же никто никому не хотел.
В битвах Изяславу везло, в жёнах — нет. Первой женой его была полячка Рикса, от неё имел князь троих сыновей — Мстислава, Ярослава и Ярополка. Жили плохо, княгине не по нраву были нескончаемые отлучки мужа, его рати и вечные скитания по Руси из конца в конец. Чего только не было: Полоцк и Новгород, Владимир-на-Волыни и Переяславль[85], Туров и Берестье.
Надоела Риксе такая жизнь, завершился брак Изяславов громким разводом. Рикса, как говорили, уехала в Швецию и вышла там вдругорядь[86] замуж за короля Сверкера. Живёт в каменном замке в Упсале, шлёт длинные послания любимому сыну Ярославу в Новгород, пишет, что обрела тихое счастье и покой. Изяслав вроде тоже долго не горевал, вскорости послал сватов в Литву, к диким лесным язычникам. Новая княгиня, рослая белокурая красавица Эгле, заступила место сварливой нравной полячки. Но молода была литвинка, а Изяслав, покалеченный в долгой череде войн, израненный, со шрамами на теле, уставший от бесконечных перемещений человек, которому перевалило за пятьдесят, уже никак не мог удовлетворить её вкусы и желания. Заскучала литовская княжна по родной стороне, но парню молодому из соседнего племени, к коему крепко прикипела душою. И вот, дождавшись, когда ушёл Изяслав в очередной свой поход, обманула она бдительность теремной стражи и ускакала на лихом коне с двумя верными слугами в любимые с детства литовские пущи. Да не успела красна девица — догнали её Изяславовы подручники, слуг тотчас повесили на дубу, а её, как изменницу, бросили гнить в мрачное подземелье. Из темницы Изяслав литвинку больше не выпустил — от тоски, сырости и отчаяния полгода спустя Эгле скончалась.
Расправившись с неверной литвин кой, стал Изяслав подумывать о новом браке. Невесту отыскали ему в далёкой стране абхазов, да, видно, неблизок был путь от берегов Понта[87] до стольного Киева. Покуда ждал её терпеливо князь, перемежая удачные войны с охотами и заключая выгодные союзы. Первенца своего, Мстислава, женил на Агнессе, сестре краковского князя Болеслава Кудрявого, младшего брата Святополка — на моравской княжне Евфимии, дочери Оттона, другого брата, Владимира — на дочери венгерского бана[88] Белуша, ближнего королевского советника. Оброс родственными связями, обрёл выгодных союзников и шёл теперь усмирять одного из злейших своих врагов — Владимирка Галицкого. При одном упоминании о нём стискивал Изяслав пудовый кулак.
Нынешнее пиршество раздражало его. Стоит ли тратить попусту время на безлепую[89] похвальбу, если рядом — враг, которого надо давить, давить?! Вот осилим сию лукавую галицкую лисицу — что ж, тогда можно б и попировать. Глядишь, там и невеста к Изяславу прибудет. Говорят, красна обезская[90] княжна! Чад народит, потешит пожилого скучающего по женской ласке князя.
Изяслав бросал угрюмые взгляды то на сына Мстислава, то на Святополка, то на короля Гезу. Кряжистый коренастый Мстислав, совсем ещё юноша с короткой тёмной бородкой, черноволосый, большеглазый, с сильными руками, вдоволь ел и пил, охотно, в отличие от отца, вступал в беседу с угорскими баронами, любезно улыбался, но во всём знал меру.
«Державный муж растёт», — думал о нём довольный Изяслав. Если он чему и рад был сейчас, так это сыну, его немного резким порывистым словам о том, что Владимирко достоин самой суровой кары и что его следует примерно наказать за преступные удары исподтишка и изощрённое коварство.
Король Геза в ответ расплывался в улыбке и убеждал Изяслава и его сына в своей дружбе и решимости покончить с «галицким смутьяном».
Слова короля шумно поддержали угорские бароны и киевские бояре. Снова заискрилось в чарах и ендовах золотистое вино. Зазвенели бубны, перед столами закружились в пляске скоморохи. Появились жёнки в красочных нарядах, одна из них беззастенчиво села на колени к Мстиславу, другая удобно поместилась между двумя баронами, третья, самая яркая и красивая, ударяя в бубен, понеслась в безудержном танце, запрокинув назад роскошные волосы цвета вороного крыла.
Изяслав, обернувшись, кликнул стольника.
— Вечером приведёшь ко мне... енту, — качнул он головой в сторону танцовщицы.
— Содеем, княже, — подобострастно кланяясь, пробормотал стольник.
Расталкивая скоморохов, к князю протиснулся молодой боярин в обшитом узорочьем кафтане с высоким стоячим воротом. На боку у него в сафьяновых ножнах висела сабля с дорогой рукоятью.
— Что тебе, Пётр? — нахмурился Изяслав.
— Княже! Владимирко на том берегу... Силы совокупляет. Болгары, сербы к нему пришли. Рать великая! — взволнованно выпалил боярин. Холёные долгие персты его нервно подрагивали.
Изяслав как-то сразу оживился, подобрался, на устах его заиграла улыбка. Он залпом осушил огромную чару, кряхтя, вытер колючие усы, поднялся с раскладного стульца, заключил торжественно:
— Час сечи настаёт, други и соузники! Наказуем же вора и отметчика[91]! Станем супротив их на сем бреге!
И сразу оборвалась музыка, исчезли скоморохи, попрятались куда-то гулевые жёнки. Пир сменился совещанием в королевском шатре.
Сидели по-степному, на кошмах, скрестив под собой ноги, говорили кто по-русски, кто по-угорски. Толмач, хромой убогий монашек, бойко переводил сказанное. Боярин Пётр, скрипя пером, записывал по княжому повеленью речи короля, князей и вельмож. На харатье[92] выводились строгим полууставом буквы славянской кириллицы.
— Стрельцам надобно поутру занять холмы над Саном. А комонным[93] переходить по бродам на ту сторону. Коли станет Володимирко мешать переправе — стрелами его попотчевать, — говорил Изяслав. — Мы станем у излуки, а ты, брат, — обратился он к Гезе, — иди выше вдоль реки. Тамо такожде брод есть.
Геза молчал, раздумывал, переглядывался с советниками.
— Сколько у нас всего силы ратной? — спросил молодой Мстислав.
— У меня семьдесят три полка, — отмолвил ему король.
— И у нас тыщ тридцать дружины и пешцев, — обронил Волынский воевода Дорогил, воспитатель-вуй[94] Мстислава, долгобородый муж, худой и костистый.
— Да, силы немалые. Владимирке столько не собрать, — задумчиво заключил Изяслав. — Даже со всеми еговыми болгарами да сербами. А потому жду от него очередного лукавства. Тут главное, брат, не верить ему, не поддаваться словесам его сладким.
Геза опять промолчал. Накануне подступил к нему епископ Кукниш, говорил, что неплохо бы поладить с галицким князем миром. Король с негодованием отверг это предложение, смерив епископа презрительным взглядом, но ночью примчал в его стан скорый гонец из одной из крепостей на южной границе.
Ромейский базилевс Мануил Комнин подтянул к берегам Савы свою армию, его боевые корабли бороздят воды Дуная. В Сербии и Боснии назревает ратная гроза. Было о чём задуматься, от чего закручиниться королю угров. Война с двумя противниками сразу в намерения Гезы не входила. Получалось, что этот трус Кукниш был не так уж и неправ. Но обещания и союзный долг заставляли Гезу продолжать поход. Надеялся он сейчас на то, что с Владимирком удастся быстро управиться.
Эту мысль он высказал вслух.
— Галицкого князя следует как можно скорее привести к покорности. Ибо у тебя возможна новая рать с Юрием, а мне угрожают греки.
— Владимирку надо уничтожить! — горячо воскликнул Мстислав.
По лицам большинства угорских баронов пробежали усмешки. Молодой князь весь сгорал от нетерпения, охваченный боевым пылом. Спору нет, храбрость и решительность — добрые свойства, но время ли теперь яростно махать мечом и очертя голову бросаться в сечу. Многие угры сомневались, верно ли поступили они, столь глубоко ввязавшись в русские распри. Впрочем, оказались среди них и такие, которые были согласны с Мстиславом.
— Наши сабли остры, наши кони быстры! — заявил молодой барон Фаркаш, вскакивая с кошм.
— Это всё так, но Владимирко — опасный враг, — заметил опытный воевода Або. — В таком деле, как наше, кроме отваги, нужна осторожность.
Другие бароны согласно закивали головами.
Изяслав нахмурил чело и вопросительно уставился на короля. Геза постарался тотчас рассеять его сомнения.
— Мы выступим завтра утром, как ты и советуешь. Возьмём галицкого князя в клещи, попытаемся овладеть Перемышлем. Надеюсь, ты не сомневаешься в нашей искренности и преданности.
На том и порешили. Совет был окончен. Изяслав и его спутники не мешкая покинули угорский лагерь. Геза во главе пышной свиты, разряжённой в ромейский аксамит[95] и парчу, в кафтаны из драгоценных лунских[96] и ипрских[97] сукон, на конях с дорогой обрудью[98], проводил его до подножия холма. Обратно он возвращался мрачный и озабоченный. Сидя на вороном аргамаке[99], в обитом серебром седле с высокой лукой, он недобро взирал за реку. Там в туманной дымке видны были дубовые крепостные стены Перемышля. Угрия ввязывалась в дело, не сулящее особых выгод. Но отступать, рушить данные клятвы король не хотел.
В лагере горели костры, готовилась еда для воинов. Стучали топоры — стан обносился частоколом из остроконечных кольев. В шатрах притихли, затаились вельможи. Кое-где раздавался звон оружия и доспехов. Высоко в небе реяли хоругви и бунчуки.
— На заре выводить полки! — обернувшись, резким голосом недовольно бросил Геза бану Белушу и, ударив боднями коня, взмыл на вершину холма.
ГЛАВА 6
Молодой Избигнев Ивачич с тревогой всматривался в синюю сумеречную даль. Внизу тихо плескался Сан, уже можно было рассмотреть в тусклом свете извивающуюся змейку воды. За рекой пологой цепью чернели длинные холмы, пустынные, густо поросшие молодой травой. Днём отсюда, с правого берега, открывался дивный вид, но сейчас, в эту беспокойную предутреннюю пору не о красотах думалось Избигневу. Волнение охватывало девятнадцатилетнего парня, никогда ещё не приходилось ему участвовать в жаркой сече, и вот нынче... Доведётся ему принять боевое крещение. Такова судьба, таков удел всякого княжьего отрока. Успокаивал сам себя, вспоминал напутствие отца, говорившего: «Не ты первый, не ты — последний», но всё одно — предательски подрагивали в волнении длани, когда напряжённо вслушивался в царящую вокруг тишину и глядел на чёрные холмы и поблескивающие в свете пробуждающегося дня небольшие болотца, повсюду разбросанные на низком правом берегу Сана.
— Светает. Сейчас, верно, пойдут, — хрипло проговорил вполголоса стоящий рядом с Избигневым тысяцкий[100] Держикрай.
На востоке быстро всходило солнце. День обещал быть тёплым и ясным, ни тучки, ни облачка не было заметно на светлеющем небосклоне. Розовая заря залила восходнюю сторону неба, в ярком свете её засверкали булатные шеломы галицких ратников. Слева вдали заструились под ветром стяги союзных болгар и сербов. Ночные стражи принялись громко перекликаться.
Уже когда диск солнца выкатился из-за холмов и темнота окончательно отступила, тишину утра оборвал, нагло, резко и яростно, громкий звон литавров. Ему вторило басистое рычание боевых труб.
— Угры вышли! — крикнул Держикрай.
Избигнев увидел, как на вершине широко раскинувшегося за рекой холма появились ратники в кольчатых доспехах, в плосковерхих булатных шапках, конные и пешие. Высоко вверх взвилось белое знамя с золотистыми ангелами и короной святого Стефана.
— Стяг подняли. К сече изготовились, — промолвил кто-то из отроков.
— Избигнев! Скачи ко князю. Передай: угры поднялись! — приказал тысяцкий.
Отрок незамедлительно взмыл в седло. Конь, недовольный столь резким движением всадника, обиженно заржал, забрыкался, покосился на Избигнева тёмным осуждающим глазом, но, после того как отрок тихонько похлопал его по шее, немного успокоился и быстрой рысью понёс его вверх по склону.
Тем временем за Саном чуть в стороне от королевских полков показались ратники Изяслава. Избигнев разглядел голубой киевский стяг с ликом Михаила Архангела. Видно было, как от основного войска отделились два небольших отряда и подъехали к самой реке.
«Броды осматривают», — понял Избигнев и боднями поторопил коня.
Князь Владимирко, в золочёном остроконечном шеломе с наносником, с кольчужной бармицей[101], закрывающей шею и плечи, и дощатом доспехе[102] с фигурными пластинами, украшенными спереди чеканным узором в виде листьев аканта, сидел на раскладном стольце[103].
— Княже! Угры вышли. И Изяслав такожде! — Голос Избигнева взволнованно прозвенел в свежем утреннем воздухе.
— Вижу! — коротко и резко отмолвил Владимирко. Весь подобравшись, он сверлил взглядом холодных жестоких глаз собирающиеся вражеские полки.
Довольно долго князь сидел, замерев, без движения, размышляя, как теперь поступить.
Наконец, он обернулся к скромно стоящему в сторонке Избигневу.
— Ивана Халдеича сын! — признал князь юношу. — Добре. Будешь сегодня посыльным. Сей же час скачи к воеводе Серославу. Передашь, чтобы на бродах стрелами угров и киян держали. Пускай оставит там немного людей, а с остальными отступит на холмы. Тамо укрепимся, заборолы[104] сделаем. Удержим ворогов.
Бывалый ратоборец, князь Владимирко прекрасно понимал, что в прямой сшибке ему не устоять, слишком велики силы были у Изяслава и Гезы. Только одно мог он теперь: сдержать вражий натиск, отбиться, не дать киевскому князю и его союзникам добраться до Перемышля.
Избигнев тотчас ускакал выполнять его повеленье. Владимирко отдал распоряжения другим отрокам и приказал подвести коня.
«Стало быть, Семьюнко не смог убедить епископа. А может... — Вспомнив масленую рожу рыжего отрока, князь с досадой подумал, — Зря я ему столь важное дело доверил. Поди, серебришко спрятал и уграм же и передался. Эх, был бы кто понадёжней... Да где их, надёжных-то, сыскать?! Каждый о своей выгоде думает!»
Впрочем, рассуждать было теперь некогда. Одного боярчонка Владимирко немедля послал в Галич. Пусть Ярослав в его отсутствие держит ворота города закрытыми и изготовится на всякий случай к осаде. Бог весть, как может повернуть дело.
Гридни[105] подали князю статного белоснежного коня, услужливо подсадили в седло. Владимирко рысью взмыл на самую вершину холма, из-под ладони стал смотреть за тем, как совокупляют силы на левом берегу Сана его враги. Тем временем галицкие воеводы и тысяцкие с полками спешили занять удобные высокие места над Саном. Час битвы близился.
...Угорские рати остались у брода напротив холма, который занимали галичане, Изяслав же с остальным воинством двинулся вдоль Сана вверх по течению. Увидев движение противника, Владимирко велел наёмным сербам и болгарам идти за ним и не давать киянам переправиться через реку.
Бой начался с тучи стрел, залпом выпущенных с угорской стороны. Галичане у брода ответили дружными выстрелами. И в тот же миг через брод, пятная воду пенным крошевом, бросились лихие угорские всадники. Их встречали стрелами, короткие сулицы запели в воздухе, а затем конная дружина воеводы Серослава, облачённая в тяжёлые ромейские катафракты, уже у самого берега мощным ударом обратила лихой венгерский авангард вспять. Падали с дико ржущих коней в свирепо пенящуюся воду сражённые всадники, изрыгая ругательства, вмиг всё на броде перемешалось, перепуталось, и, наконец, вырвавшиеся из железных клещей Серослава угры ринули на спасительный левый берег. Вслед им неслись стрелы.
Понимая, что сил у него мало, воевода Серослав не стал преследовать отступающих. Угры построились в боевой порядок и изготовились повторить натиск.
Владимирко смотрел с вершины холма, как и вторая ещё более яростная атака угорской конницы была отбита галичанами. Но выше по течению, по левую руку от него, резко и бешено рванули через брод дружинники Изяслава. Болгары и сербы, хоть и удерживали броды, но пятились, отступали. Где-то среди сражавшихся промелькнул всадник в золочёных доспехах.
«Изяслав, ал и сын его, Мстислав, — подумал Владимирко. — Вот взять бы такого в полон, тогда бы...»
Князь, с досадой прикусив губу, оборвал ход собственных мыслей. Мечты, мечты несбыточные. Вон какая сила через брод валит!
Избигнев прискакал от Серослава, просил вспоможения, дышал тяжело, конь был весь в мыле.
Владимирко усмехнулся горько, ответил резким грубым голосом, переходя на крик:
— Где я ему возьму ратников?! Пускай держится, покуда может!
Воевода Тудор Елукович прислал гонца с вестью, что часть угров ушла вверх по Сану.
«Верно, к Изяславу в подмогу», — Владимирко окликнул Избигнева и послал его с пятью сотнями всадников к Тудору для вспоможения.
— Потом ещё дам. Пусть, сколько могут, держат Изяслава у брода, — отрезал он хмуро.
Когда Избигнев примчался к Тудору, бой шёл уже на правом берегу реки. Изяславовы дружины рассеяли болгар и сербов и, при поддержке угорского отряда, теснили галичан.
Киевляне не могли подать помощь основным силам Гезы из-за глубокого рва между бродами, и весь свой удар они обрушили на воеводу Тудора, который, хоть и отступал, но оставлял перед собой множество поверженных противников.
Сеча теперь, кажется, достигла наибольшего ожесточения. Ударяли ратники друг друга, бились свирепо, с яростью. Избигнев, сам не понимая как, но оказался вдруг в самой сердцевине схватки. Скрещивались мечи и сабли, валились под копыта сражённые, падали кони. Кого-то он съездил саблей по голове, затем уклонился от удара тяжёлого меча, с каким-то ражим киевлянином схватился у самого края рва, оба они враз полетели с коней куда-то вниз, ломая густые заросли кустарника. Уже на дне рва, возле звонко журчащего ручья, они вскочили, схватились за оружие, но вдруг остановились. Киевлянин внимательно разглядывал Избигнева, молодой галицкий отрок, недоумевая, делал то же.
— Ты кто таков будешь? — спросил киевлянин.
— Избигнев я, Ивачич. Отроком служу князю Владимирку.
— Галичанин?
— Со Свинограда.
— A-а. Знаю. Бывал. А я — Нестор, Бориславич, боярин киевский. С братом Петром мы у князя Изяслава в старшей дружине.
Киевлянин огладил всклокоченную жёсткую бороду, вдруг рассмеялся, посмотрел в юное лицо Избигнева, спросил:
— И чего мы тут делим, чего друг дружку тузим? Ну, не поделили князи какие-то городки, а нам-то какого беса головы класть?! Вот что, Избигнев. Давай-ка прекратим безлепицу сию, — он указал на свою саблю. — Вложим оружье в ножны. И каждый из нас к своему князю поедет. Вижу, навоевались вдосталь. Пора и мир творить. Твой князь — он упрямый.
Нестор снова беззлобно рассмеялся.
Избигнев пристально смотрел на его смугловатое лицо с прямым носом и добрыми карими глазами. Нестору было на вид лет около тридцати, не больше.
— Ну, ступай, отроче. Думаю, не раз мы ещё с тобою встретимся. Токмо гляди, береги себя, — напутствовал его на прощание Нестор.
— Имею надежду, не на бранном поле свидимся, — вымученно улыбнулся в ответ Избигнев.
— Вот то ж. Ну, бывай.
Они расстались, и каждый встал взбираться на свою сторону рва.
Уже наверху Избигнев нашёл гнедого конька, видно, оставшегося без всадника, вскочил в седло и, видя, что галичане, не выдержав натиска Изяслава, отступают, бросился в сторону лагеря Владимирки.
...Угры перешли-таки через Сан, оттеснив Серославову дружину, и тогда князь Владимирко, не выдержав, ринулся с основной своей ратью им наперерез. Сеча закипела бешеная, никто не хотел уступать. Храбро бился и сам Владимирко, и его дружинники, но и король Геза немало супротивников срубил своей рукой, и молодой Мстислав Изяславич, приведя своих переяславцев и чёрных клобуков королю на помощь, с горячностью, поднимая десницу с окровавленным мечом, разил одного галичанина за другим.
— Ты за нас ныне бьёшься, а мне стыдно напрасно стоять! — велел объявить он Гезе.
Приход Мстислава, его прорыв через ров, в котором ещё недавно мирились Избигнев с Нестором, и решил окончательно исход боя. В час, когда молодой отрок добрался-таки до своего князя, вокруг того осталось совсем мало воинов.
— Отходим! К городу! — крикнул разгорячённый схваткой Владимирко Избигневу.
Страшной силы ударом меча он свалил с коня наседавшего справа угра и, увлекая за собой ратников, в ярости и отчаянии врезался в тесно сомкнутые вражеские ряды.
Им удалось прорваться. Галопом понеслись скакуны по полю, взлетали с холма на холм, хрипели, понукаемые всадниками. Уже перед самыми воротами Перемышля Избигнев обернулся и, к ужасу своему, понял, что скачут они с князем вдвоём. Всех остальных или настигли и порубали угорские и переяславские конники, или попали они в полон. В продолговатый червлёный щит4, которым отрок прикрывался от врагов, впилось несколько калёных стрел.[106]
На городской площади перед хоромами Владимирко устало сполз с седла. С раздражением сорвав с головы золочёный шелом, весь покорёженный, со следами от сабельных ударов, он тотчас поспешил укрыться в тёмных переходах. Избигнев неторопливо спешился и, тут только почувствовав наваливающуюся на плечи усталость, направил стопы в гридницу1.
Состояние было какое-то странное, перед глазами всё ещё стояла картина битвы, он как наяву видел падающих под копыта воинов в кольчугах, видел кровь, а в ушах раздавался свист смертоносных стрел. Было опустошение, и ещё был Нестор со своей улыбкой и со словами: «И чего мы тут делим?»
ГЛАВА 7
В гриднице стояла непривычная тишина, лишь пара челядинов едва слышно проскользила между столами. Избигнев устало расположился на лавке, намереваясь предаться отдыху. Всё тело его тряслось, как в лихорадке, он ещё словно был там, в гуще неистового боя, видел кровь, смерть, ярость. И ещё был Нестор, его улыбка как будто успокаивала Избигнева, дарила юноше надежду, что война эта кончится и настанет мирная жизнь.
«Нет, рати — это не моё, не мой удел, — думал Избигнев. — Уж лучше в монахи подамся, чем так... Всюду убиенные, рати нескончаемые. И кому от того польза?»
Вот отец, боярин Иван Халдеевич, был муж суровый, к своим двоим сыновьям строгий, больше ругал их, мог и ударить, ежели что. Человек жестокий, прямой, хотел, чтоб и сыны были такими же, чтоб шли напролом к своей цели, переступая через кровь, если того требовали обстоятельства.
Нет, он, Избигнев, не смог бы, как отец, рубить головы смутьянам. Не в том видел юноша свою стезю. Наверное, Нестор — [107] гот совсем не такой человек, как отец. Где он теперь? Жив ли остался, а может, сложил голову там, у брода? Вон сколько ратников полегло с обеих сторон!
Мысли отрока прервал шум шагов и громкие голоса. Гридницу заполняли галицкие дружинники.
— Отстали вой[108] Изяславовы и угры. Двор загородный княжеский узрели, бросились жечь и грабить, нам и удалось в городе скрыться, — рассказал Избигневу сын боярина Домажира Иван, рослый плечистый увалень, косая сажень в плечах. — Воевода Тудор к Галичу отошёл, Серослав тож бежал, не ведаю куда. Еже и побили, гак более болгар да сербов. Своих немного мы потеряли.
— Что ж, сербы и болгары — не люди, что ли? — Избигнев горько усмехнулся. — Тоже, чай, у многих жёны, да матери, да чада малые.
Иван не ответил, лишь недовольно передёрнул крутыми плечами да стал снимать в нескольких местах повреждённую кольчугу.
— Отрок Избигнев! — протиснулся в гридницу княжеский слуга. — Князь тя кличет!
Избигнев быстро подхватился и поспешил по переходу за челядином. На стенах мерцали факелы, длинные тени тянулись вдоль бревенчатых стен. Большой чёрный кот, заметив приближающихся людей, шмыгнул куда-то в сторону, бесшумно сокрывшись в темноте.
...В просторной палате на цепях висели хоросы. Несколько перемышльских бояр сидели возле стены. Здесь же был и епископ Алексий, облачённый в чёрную рясу, с украшенной драгоценными каменьями панагией на груди.
Князь Владимирко лежал на широкой лавке. Пшеничная борода лопатой была всклокочена, поднята вверх, он слабо постанывал, шевелился под синим парчовым покрывалом с вытканными грифонами и львами.
Избигнев отвесил князю земной поклон. Заметив его, Владимирко приподнял голову и слабым голосом прохрипел:
— А, сын Ивана Халдеича. Звал... Вот, помираю... Сил нет... Поранили всего в сече лютой... Ты... Ты поезжай в стан угорский... Грамоту крулю Гезе передай... И архиепископа Кукниша повидай... Скажешь, умирает Владимирко и просит мира... Нынче же нощью поезжай... А покуда пожди в гридне... Призову... Окромя тя, послать некого... Уразумей, вьюнош... На тя надёжа единая. Створи мир.
Князь бессильно откинул голову на подушки.
— Оставьте меня... Все, — приказал он.
...Вскоре Избигнева снова позвали в княжеский покой.
«Неужто помирает! Вроде в Перемышль когда въезжали, жив и здоров был», — недоумевал отрок, во второй раз спеша по длинному тёмному переходу и опять видя того же чёрного кота.
Владимирко, когда они остались одни, резко отбросил в сторону покрывало, сел, а затем вскочил с лавки.
— Пускай все думают, ранен аз, при смерти лежу, — заговорил он быстро и тихо. — Средь бояр перемышльских есть доброхоты Изяславовы, тотчас ему весточку дадут. А ты поезжай к архиепископу Кукнишу и воеводе Або. Соглашайся на все условия — города Изяславу воротить, злата дать. Лишь бы убрались угры и кияне с Червонной Руси. Я же для всех — ранен тяжко, лежу, сил подняться не имею. Вот тебе грамота, Избигнев. И знай: дело справишь, не забуду. Паче отца твово, Свиноград от ворогов спасшего, ценить тя буду.
Сжимая в деснице грамоту с золотой княжеской печатью, Избигнев снова кланялся, пятясь к двери. После, уже в переходе, он в полной мере понял, сколь важное дело ему поручено. Справится ли он с ним? Судьба всей Земли внезапно оказалось в руках сто, девятнадцати летнего парня! На душе становилось тревожно, волнение охватывало душу, тяжёлый ком сжимал горло.
С наступлением вечерних сумерек Избигнев с несколькими гриднями отправился в угорский лагерь.
ГЛАВА 8
Архиепископ Кукниш и воевода Або, многозначительно переглядываясь, внимали княжеской грамоте. Избигнев, разворачивая свиток, читал вслух, делая паузы, во время которых хромой монах-толмач переводил его слова на венгерский язык. Хоть и знал молодой отрок довольно сносно угорскую молвь, но так было принято.
— «...поскольку Бог всемилостивый всем грешникам грехи отпускает, так бы мне отпустил и не предал меня в руки врагов моих, Изяслава и сына его. Я же от тяжких ран лежу при смерти и, если Бог изволит меня от сего света взять, чтоб король сына моего Ярослава взял в своё защищение...»
— Князь галицкий лежит на смертном одре?! — изумлённо изогнул седые брови Або. — Это странно. Я видел его целым и невредимым у ворот Перемышля.
— Князь держался, превозмогая боль, сколько мог долго, хотя и был опасно ранен, — отвечал ему Избигнев. — Уже после, в хоромах, силы совсем оставили его.
С трудом юноша сдерживал дрожь в голосе и в руках. Но, кажется, его взволнованная речь убедила бывалого воеводу и архиепископа.
По знаку последнего он продолжил чтение грамоты.
— «...Всем то известно, что отец короля, достославной памяти король Бела, был слеп и многие напасти терпел, но я его моим копьём и моими полками оборонял. За обиду его с поляками я бился. Того ради, воспомянув прежнее, ныне он мне да воздаст, а я вдвойне, когда потребно королю будет, постараюсь воздать, ежели жив буду. А коли помру ныне, сыну своему накажу служить ему защитою верою и правдою».
Гридни положили перед Кукнишем и Або дорогие сосуды, золото, серебро, отрезы ромейской парчи. Избигнев заметил, как лицо Кукниша аж вытянулось от вожделения при виде такого богатства.
— Князь Владимирко даст ещё больше всего этого, если вы, уважаемые, убедите короля Гезу заключить мир, — объявил Избигнев.
...Долго совещались угорские вельможи, долго сомневались, качали головами, но вид злата и парчи сделал своё дело. Они направили стопы к королю и вскоре передали Избигневу, что король Геза сам хочет его видеть.
В изумрудного цвета жупане ипрского сукна, в парчовой шапке, увенчанной изображением золотой зубчатой короны, Геза при виде посла нетерпеливо вскочил с раскладного стульца.
— Твой князь вправду так сильно болен? — Чёрные глаза-буравчики короля скользили по лицу смущённого Избигнева. — Или он опять всё врёт, как бывало не раз?!
— Он правда болен, государь, — по-угорски отвечал, краснея, Избигнев.
— Что же ты прячешь от меня свой взор, посол?! — допытывался Геза. — Скрываешь тёмные мысли?! Почему я должен верить этой грамоте?!
Он потряс харатейным свитком.
— Мой князь хочет мира, — теперь уже без обмана твёрдо сказал Избигнев и прямо добавил, думая рассеять недовольство и сомнения Гезы. — Да извинит меня король. Мне впервые выпала такая честь — быть послом к правителю столь могучей державы, отсюда моя робость.
— Посол говорит правду, ваше величество, — поспешил встать на его сторону Кукниш. — Этот человек не обманывает нас. Он слишком молод и прям. Поверьте, я знаю людей.
— А я бы не верил этому проходимцу! — вскочил с кошм весь разодетый в красочные цветастые одежды молодой барон Фаркаш. В руке он держал шелом с перьями. — Князь Владимирко в очередной раз изрыгает ложь! А тебя... — Он указал в сторону Избигнева.
Я вызываю на поединок. Пусть меч рассудит, чья правда!
— Да будет тебе известно, что особа посла неприкосновенна, — недовольно изрёк Кукниш. — Полагаю, здесь не место для обсуждения рыцарских поединков.
— Под Сапоговом этот пёс Владимирко погубил моего брага! — выкрикнул Фаркаш.
Избигнев вдруг вспыхнул. Прошла, исчезла мгновения назад владевшая им робость. Прямо и твёрдо смотря на короля, он резко вымолвил:
— Негоже мне подвергаться здесь унижениям. И слышать гадости о своём князе я здесь не намерен. Прошу, государь, унять ныл своего подданного.
Он повернулся, собираясь покинуть королевский шатёр.
— Постой! — окликнул его Геза. — Мы подумаем над предложением князя Владимирка. Вреда же тебе никто не причинит. На этом моё королевское слово. Теперь ты можешь идти. В нужный час я тебя призову.
Едва за Избигневом опустилась пола шатра, Геза крикнул Фаркашу:
— Не сметь задевать посла!
Он опустился на стулец, насупил тонкие вытянутые в стрелки брови, уставился на Або:
— Твоё предложение, воевода. Как нам поступить?
Або ответил уклончиво:
— Боюсь, если ты, государь, отдашь просящего тебя о милости князя галицкого в руки врага его, это будет умалением твоего достоинства. Стыд будет тебе от всех государей.
— Ты что скажешь? — обратился король к полнолицему барону Ласло.
— Полагаю, что мы достаточно помогли князю Изяславу.
— Каково твоё слово, Белуш? — повернул король голову в сторону хорватского бана.
— Меня беспокоит император ромеев Мануил. Сей молодой хищник — враг гораздо более опасный, чем галицкий князь.
— Ясно, — король всё сильнее хмурился. Он понимал, что, несмотря на нынешнюю победу, цели своей союзники не достигли. Владимирко не уничтожен, хотя, кажется, его можно привести к покорности. Об этом Геза собирался утром говорить с Изяславом.
Пока же он обратился к Кукнишу.
— Что думаешь ты, архиепископ? — осведомился он.
— Князь Изяслав — наш союзник, мы пришли оказать ему помощь. Твои воины, государь, бились не за страх, а за совесть, выказав храбрость и упорство в часы тяжкой сечи, — начал издалека Кукниш. — Но подумай так, светлый король. Лучше для нас, мадьяр, что у русских много князей. Они ослабляют друг друга, воюют между собой, нам не вредят, и нам нет причин их бояться. Но если Изяслав станет слишком силён...
Король решительным жестом с раздражением оборвал льющуюся сладким мёдом речь архиепископа.
— Мне ясно ваше мнение, доблестные мужи, — сказал он. — Утром я буду иметь встречу с князем Изяславом. Я не могу отвергнуть мольбы кающегося и нуждающегося в прощении.
...Среди ночи в лагерь Изяслава помчался скорый королевский гонец.
ГЛАВА 9
Семьюнко метался из угла в угол просторного шатра. Издали ушей его достигал шум сражения. Но едва стоило высунуть из-за войлочного полога голову, как тотчас оказывался рядом оружный[109] страж и закрывал весь обзор. Приходилось со вздохом возвращаться в опостылевший шатёр и бессильно падать на кошмы.
Уже вечером явился знакомый худощавый угр и коротко оповестил Семьюнку о битве и поражении Владимирки.
«Значит, князь укрылся в Перемышле. Как же там мои... — Мысли Семьюнки были об упрятанных на соляном складе ценностях. — Не добрались бы сии разбойники до сребра, до злата моего. Нечего мне тут сидеть, в стане угорском. Как стемнеет, бежать надобно, проверить, цело ли добро, да в Галич смываться поскорее. Коня бы своего токмо сыскать».
С нетерпением ждал Семьюнко наступления ночи. Слышно было, как угорские ратники возвращались в лагерь. Вблизи шатров загорелись костры, до Семьюнки доносился запах жареного мяса. Пировали, как обычно, шумно, вокруг костров раздавались пьяные крики, звенели чаши и оружие.
«Напьются, охрану ослабят», — решил Семьюнко. Вскоре он проверил свою догадку и с радостью обнаружил, что стража у полога нет. Тогда он осторожно выбрался из шатра и, никем не замечаемый, стал, озираясь по сторонам, медленно спускаться к берегу реки. Ночную тьму прорезали яркие огни костров, за рекой под Перемышлем тоже горели огни, виден был участок крепостной стены, на забороле[110] которой чадили смоляные факелы.
Город надо было обойти стороной, пробраться к складам, а оттуда держать путь в сторону Галича. Только бы стражи не хватились, не подняли тревогу.
Семьюнко добрался до своего коня, оглядел торока, усмехнулся горько. Как он и полагал, торока были пусты. Семьюнко тихо ругнулся, недобрым словом вспомнив епископа.
«Что тать[111], ничем не отличен. Лишь бы злата поболе. Тож, служитель Христов! Хоть кольчугу не забрал, и на том спасибо».
Ведя в поводу коня, отрок спустился к реке. На дороге попались ему два подвыпивших угра.
— Русс, да?! Из дружины Изяслава?! — воскликнул один из них на ломаной русской мове. — Храбро вы сегодня бились! Пойдём, нальём тебе вина! Отметим победу! Хорошее вино, настоящее мадьярское белое!
— Извините, други! Порученье княжое исполняю. Спешить мне надобно. — Семьюнко приложил палец к устам.
— А... Порученье!.. Поняли...
Угры отвязались. Пошатываясь, поплелись они своей дорогой к одному из ближних костров.
Уже изготовился Семьюнко к переправе через Сан, как вдруг набросились на него сзади двое, прижали к земле. Третий супротивник с факелом в руке склонился над ним. Семьюнко, подняв глаза, увидел сухощавое долгобородое лицо.
— В вежу его. Вборзе! Се и есь Владимирков лазутчик! — прохрипел долгобородый.
В веже Семьюнку привязали к двум длинным жердям над очагом. Долгобородый, взяв в руку факел, стал жечь пленнику ноги.
— Отвечай, гад, кто тебя к Кукнишу подсылал?! Владимирко?! О чём сговаривались?! Ну, отвечай! Я, Дорогил, вуй князя Мстислава, вопрошаю тя! Ну, вборзе, вборзе! У меня терпенья мало! Сожгу стопы-то, ходить не сможешь! Хотя, куды те топерича идти!
Дорогил залился противным каркающим смехом.
Семьюнко кричал от боли, но говорить отказывался. Дорогил жёг ему ноги, скрипел зубами от злости, ругался. Его подручные время от времени окатывали Семьюнку водой, чтобы он не потерял сознание. Неведомо, сколь долго длилась пытка, но внезапно на пороге вежи появились двое людей в дорогих одеждах. В одном из них Семьюнко тотчас узнал Кукниша, второй был брат Изяслава князь Святополк. Архиепископ что-то долго говорил князю на ухо. Святополк согласно кивал, а затем крикнул Дорогилу:
— Довольно! Брось факел! Развязать, отпустить сего человека! Немедля! Пусть идёт, куда хочет!
— Да как же, княже?! Я ж сего ворога от самого Перемышля вёл, следил. Как же, княже?! — возопил в недоумении Дорогил. — Да я из него всю душу выпотрошу! Я его — на дыбу! Все кости гадине переломаю!
— Тебе что сказано! — заорал Святополк. — Хватит, навоевались! Зверь ты, что ли, Дорогил! ...Да, и коня отроку воротить! И сряду! И кольчугу! Ну, быстрей!
— Ох, княже! — Дорогил нехотя стал развязывать Семьюнке руки.
Отрока выволокли из вежи. К изумлению своему, Семьюнко заметил, что ночь давно минула и на небе ярко светило солнце. Видно, не один час висел он на жердях и подвергался мучительным пыткам.
После, когда люди Святополка подсадили Семьюнку на коня, не вытерпел Мстиславов вуй, подошёл к нему, глянул в зелёные боязливо бегающие глаза, вымолвил со злостью:
— Запомнил я тя, Лисица Рыжая! Насквозь тя, гада, вижу! Эх, попадись ты мне ещё хоть разок! Отбивную из тя сделаю! Не терплю таких, хитрых да скрытных! А на роже твоей лукавство этак и написано! И ведай: тысяцкий Дорогил ворогов не забывает! Николи не забывает! Еже б не заступничество бессовестное бискупа да князя Святополка, горели б пятки твои! И ты бы сам в аду уже жарился с ими вместях[112]! Эх! Ну, проваливай!
Семьюнко, поняв, наконец, что свободен, ударил боднями коня и стремглав бросился через брод. В лицо полетели водяные брызги.
На берегу Дорогил стискивал кулаки и злобно грозил ему вслед.
ГЛАВА 10
Утром король Геза со своими баронами направился в лагерь Изяслава. Избигнев ехал вместе с уграми, мучительно размышляя дорогой, удастся ли ему створить мир.
Барон Фаркаш, улучив мгновение, подъехал к нему вплотную, вызывающе грубо толкнул, небрежно бросил:
— Как насчёт поединка?!
Избигнев внезапно вспыхнул.
— Не видишь, я княжью службу правлю! Не до твоего молодечества ныне. Потом, после!
— Да ты просто трус! — воскликнул Фаркаш.
— Трус? Ну, так давай сейчас прямо! Вот у меня сабля на поясе, у тебя, гляжу, тож! Давай начинай, доставай из ножен! Чего медлить?!
Фаркаш злобно засопел, огляделся по сторонам, нехотя обронил:
— Как только закончатся переговоры, жду тебя вон на том лугу.
— А чего сразу не хочешь? Зачем время тянуть? Вдруг меня в стане киевском задержат! — усмехнулся Избигнев. — Или ты сам боишься?
— Как ты смеешь сомневаться в моей храбрости?! — вспылил Фаркаш.
Слова его прервал звук трубы, извещающий о прибытии короля Гезы со свитой в стан Изяслава.
Киевские отроки и гридни, все разодетые в цветастые кафтаны и свиты, встречали гостей поклонами, помогали спуститься с коней, провожали до огромного шатра, над которым горделиво реял Михаил Архангел с мечом в деснице.
Князь Изяслав, в кафтане зелёного цвета с узорочьем, с золотой гривной на шее в три ряда, в багряных тимовых сапогах и в шапке с собольей опушкой и парчовым верхом, восседал на высоком стольце. Место напротив него на таком же стольце занял король Геза, рядом с Изяславом расположились его брат и сын, тоже в богатых одеяниях из парчи и аксамита. Возле владетелей полукругом расселись бояре и бароны. Среди приближённых киевского князя Избигнев вдруг заметил Нестора, который едва приметно улыбнулся и лукаво подмигнул ему.
— О чём речь вести умыслил, брат мой? — спросил Изяслав короля.
— Прибыл ко мне, брат мой Изяслав, от князя галицкого посол. — Геза указал рукой в сторону Избигнева. — Просит мира князь Владимирко. Велел передать, что болен вельми, страдает от ран и едва ли будет жив. Грамота имеется. Желаю, брат, слово твоё услышать.
Молодой Мстислав вскочил было со стольца, весь пылая от возмущения, но отец суровым взглядом удержал его и повелительным жестом приказал сесть на место.
— Что ж, отвечу так, — начал киевский князь. — Еже помер Владимирко, то Бог убил его за ковы, за клятвопреступления, за пролитие крови неповинной, за гибель христиан многих. Сколь полегло днесь люду на поле ратном! В том его, Владимирки, вина. Коли просит он мира, так того бы и я желая. Но, мыслю, творит он сие коварно, обманывает тя, брат. Ему токмо б ныне от рук наших избавиться, а после всё по-старому пойдёт: удары исподтишка, клятв попрание. Сколь раз он тебе обещал, а потом рушил клятвы, да ещё и вред немалый наносил с сожаленьем и тебе, и мне. Ныне же судом Господним предан он нам в руки. Ежели возьмём копьём Перемышль, да земли его меж собой поделим, так и усобью, и ковам его конец наступит.
Выслушав Изяслава, король поднялся.
— Я должен посовещаться с баронами, — сказал он и поспешил выйти из шатра.
Угорские вельможи потянулись следом за королём. Вместе с ними вышел и Избигнев.
Долго шептался Геза с ближними баронами, снова выслушивал их советы, качал головой. Угорская знать не желала продолжения ратоборства с галичанами, все опасались базилевса Мануила и горячо убеждали короля створить мир. Наконец, Геза вернулся в княжеский шатёр.
— Не могу погубить просящего милости и кающегося в винах своих не простить. Крест этот, — король принял из рук церковного служки небольшой серебряный латинский крест-крыж, — сам Бог прислал пращуру моему, святому королю Стефану. И кто, его целовав, клятву преступит, того Бог накажет страшною карою. Крест этот отнесут сегодня ко Владимирке. И если, поклявшись, нарушит князь галицкий обещания свои, то тогда, брат Изяслав, либо Владимирку быть в стране мадьяр государем, либо мне — в Галичине князем.
Так как Изяслав в ответ угрюмо молчал, король обратился к бледному от волнения Избигневу:
— Именем государя своего проси у брата моего, князя великого Изяслава, прощения за прежние ковы, за обман и предательство.
— О том повеления не имею! — коротко и твёрдо ответил Избигнев.
По рядам киевских бояр прокатился ропот недовольства. Мстислав, не выдержав, с лязгом приздынул из ножен меч. Отец молча удержал его за руку.
Король Геза постарался погасить назревающие страсти.
— Поезжай, посол, к своему князю. Пусть пришлёт к нам лучших своих мужей, пусть принесёт извинения за обиды. А ты, архиепископ, — обратился он к Кукнишу, — доставишь князю галицкому крест. На том слово моё крепко.
— Я согласен, — промолвил, отводя очи в сторону, Изяслав.
Он понимал, что король не желает продолжения войны, а спорить и тем самым рисковать потерять ценного союзника владетель Киева не хотел.
Мстислав, не выдержав, вскочил-таки и заговорил, быстро, глотая слова:
— Я вам, отец и король угров, скажу: того вы ко крестному целованью приводите, о коем сами прекрасно ведаете, что порушит он роту[113]! Ведаете такожде, что не поранен Владимирко, но притворяется токмо! Но, вижу, не убедить вас. Тогда таково слово моё к тебе, король: не забывай николи, что здесь, на месте сем, говорил, и преступника не оставь без отмщенья!
Изяслав, выслушав сына, заметно приободрился, заулыбался. По сердцу были ему Мстиславовы пылкие речи. Твёрд и крепок на рати и на совете его первенец! Достойный муж вырос, не страшно такому будет и стол передать. Ему бы — в походы дальние, на поганых хаживать, боронить землю Русскую, а не с такой дрянью, как Владимирко, ратоборствовать.
11рервав воцарившееся в шатре короткое молчание, Изяслав объявил:
— Я тоже своих людей ко Владимирке пошлю. Бояре Пётр и Нестор Бориславичи! Повелеваю вам отправиться в Перемышль. Будьте свидетелями целованья крестного!
...Как только король и его свита покинули киевский стан, к Избигневу снова подскакал Фаркаш.
Молодой барон с досадой обронил:
— Вынужден отложить наш поединок. Король посылает меня на Саву. Я должен немедля ехать.
Избигнев с виду равнодушно пожал плечами, хотя и был атому втайне рад. В самом деле, не время было до молодецких забав. Предстояли ещё трудные переговоры, и Бог весть, чем всё может закончиться.
...Притворяясь, будто тяжко страдает от ран, князь Владимирко лежал на постели в палате и тихо постанывал. К кресту он приложился охотно, говорил, что вернёт Изяславу спорные городки на Горыни[114] и Бужск, а также обещал одарить и его, и угров золотыми и серебряными гривнами и драгоценностями.
После, как заключили, наконец, мир, Избигнев возле городских ворот снова встретился с Нестором.
Бориславич улыбался ему, говорил, что рад миру, а потом, на прощанье, сказал так:
— Понимаешь ли, друже Избигнев, князья меняются, и не токмо князья. С годами у каждого человека меняются вкусы, привычки, привязанности. Так происходит всегда. Ныне мы с тобою по разные стороны бранного поля были, а будем, верится мне, вместях. Иные князи будут, иное время наступит. Л то, что здесь мы повстречались — то добре. Оба мы — русичи. И оба — рода боярского. А бояре — опора любой земли, любого княжества. Как они решают, так и бывает всегда. Так что прощай покудова, и до встречи.
Они пожали друг другу руки.
Нестор скрылся среди свиты вельмож, а Избигнев долго ещё стоял у ворот, смотрел вслед удаляющейся веренице всадников и размышлял о словах нежданно обретённого друга.
Чувство было такое, что за последние два дня он повзрослел сразу на несколько лет.
ГЛАВА 11
На забороле галицкой крепостной стены гулял ветер. Внизу, по ту сторону рва, россыпью убегали по склонам холмов в низину мазанки и хаты посадского люда. Луква лениво ползла к еле заметному вдали среброструйному Днестру, как непутёвая сестра к блестящему красавцу брату. Все ворота города заперты. У Немецких ворот, обитых листами позлащенной меди, застыла стража, видны остроконечные шишаки дружинников и их острые копья.
Ярослав в очередной раз обходил кругом стены. Вроде бы всё тихо, всюду расставлены сторожа, всё так же звенит медное било, оповещая об очередном минувшем часе. Суконная мятелия, долгополая, с серебряными узорами на вороте, подоле и рукавах, развевается на ветру. Под нею — панцирная кольчуга, на ногах — бутурлыки[115] с застёжками, на голове — лёгкий плосковерхий шлем-мисюрка[116], под ним — прилбица[117] волчьего меха, на наборном поясе — сабля в обшитых зелёным сафьяном деревянных ножнах — в полном вооружении ходил молодой княжич по стене, вглядывался вдаль с тревогой и сомнением, размышлял, как ему теперь быть. Он уже знал о сражении, о том, что отец укрылся в Перемышле и, кажется, был всерьёз ранен. Сперва в Галич прискакал воевода Серослав с вестью о разгроме рати на берегу Сана, затем явился с остатками воинства Тудор Елукович. Этот вёл себя спокойно, степенно, он предложил Ярославу, если что, идти с киевским князем на мировую.
— Отец твой — упрям вельми. Моя не слушай. Всё сам делай, — говорил удалой служивый печенежин на ломаной русской мови. — Нехорош думат каназ. Мир нада... Города отдать нада.
Ярослав был в душе согласен с Тудором. Но пока он ждал вестей. Если отец умрёт, тогда он тотчас пошлёт к Изяславу людей и уступит эти несчастные города. Воевать он не хотел и не любил. Города же, думалось, дело наживное. Сегодня Изяслав и угры в соузе, а завтра... как знать.
Обойдя стены, княжич спустился во двор, через крытые сени проследовал в собор Спаса. Поставил свечку за отцово здравие, пал на колени, долго и истово молился. Просил Господа уберечь Червонную Русь от вражьего меча, от крови и разора.
После молитвы он снова вышел во двор и внезапно лицом к лицу столкнулся с Семьюнком, который, хромая, ковылял к крыльцу княжеских хором.
Друзья обнялись и облобызались.
— Поранили тебя, что ли? — спросил обеспокоенный Ярослав.
— Дорогил, сволочь, споймал. Целую нощь пытал, ноги жёг.
— Дорогил? Это ещё кто такой?
— Мстислава, сына Изяславова, вуй. Из бояр переяславских.
Друзья прошли в горницу. Семьюнко устало плюхнулся на лавку.
— К архиепископу, как велено было, прибыл я, — стал рассказывать Семьюнко. — Ну, как водится, сребро-злато ему дал, архиепископ сей и отмолвил: не могу, мол, ничего покуда содеять. А дары взял, гад! Поселил меня у ся в шатре, велел сидеть безвылазно, ждать, чего тамо далее створится. Потом битва была. Ну, высунулся я поглядеть, тут на мя с десяток волынян и налетело. Скрутили, в вежу привели, Дорогил сей и давай пытать: кто, да что. Но я, княжич, ни слова ему не сказал.
— Тебя ведь и убить могли, — сокрушённо качнул головой Ярослав.
— Князь Святополк выручил. Пришёл в вежу вместях с Кукнишем, велел свободить. А Дорогил сей всё грозил, что встретит меня ещё, и не поздоровится мне тогда.
Ярослав нахмурился.
— Не разумею, отчего Святополк тебя отпустил. Какая ему в этом корысть? Как думаешь, друг.
— Мне помыслы княжьи неведомы. Малый слуга аз есмь. Токмо умишком своим худым смекаю, архиепископ его уговорил. Отца твово злато в том помогло.
— А может, в чём Святополк с братцем своим расходятся? Может, чего не поделили? Может, недоволен чем Святополк?
Семьюнко в ответ лишь пожал плечами. Улучив мгновение, он перевёл разговор на иное:
— Княжич! Просьба у меня к тебе! Ты прости уж. Поиздержался аз малость! Вот и кафтанчик прохудился, и черевы до дырок истёр. Ты б мне помог...
— Ладно. — Ярослав невольно усмехнулся. — Не переделать лукавую натуру твою. Отсыплю тебе из скотницы серебра за службу верную.
Зелёные глаза Семьюнки хитровато заблестели.
...Обедали друзья тут же, в горнице, хлебали из деревянных мис чечевичную похлёбку. Не до пиров роскошных было в тяжкий час войны.
После Ярослав позвал на совет некоторых ближних бояр. Явился полный, с жёлтым лицом боярин Гарбуз, за ним — худой костистый Лях — милостник Владимирки.
Лях несколько лет назад приехал в Галич из Польши, и вскоре князь Владимирко женил его на молодой вдове Млаве, своей полюбовнице. И вышло так, что грудастая белокурая Млава разрешилась от бремени сыном аккурат в один день с Ярославовой Ольгой. А так как молока у ражей вдовы было много, стала она кормилицей княжеского отпрыска. Потому и прозвище приклеилось к маленькому Володиславу, чаду Млавы — Кормилитич, то бишь, кормилицын сын. Ходили упорные слухи, что истинным отцом Володислава был князь Владимирко, а вовсе не Лях. Впрочем, слухи мало-помалу улеглись. После Млава родила одного за другим ещё двоих сыновей, Яволода и Ярополка. Лях же тем временем оказывал князю Владимирке одну услугу за другой. Вначале расстроил он союз Изяслава с поляками, а позже помог, используя свои связи на родине, выдать замуж за польских mi язей двоих сестёр Ярослава.
Самая старшая, надменная Анастасия, вышла за Болеслава Кудрявого, владетеля Кракова, наиболее сильного сейчас польского князя. За младшего Пяста[118], Метко, выдали вторую Ярославову сестрицу, смешливую Евдоксию. Обе свадьбы сыграли в Галиче в один день. Помнил Ярослав, как щедро лились хмельные меды, как напивались самохвальные паны олом[119] и вином, как бахвалились, учиняли драки, как тянула вверх голову отцовская любимица Анастасия, всем своим видом показывая, что княжеская дочь выше всей этой суеты, и как тихо хихикала, прикрывая рот ладонью, совсем ещё девочка Евдоксия, проказница и шалунья.
Быстро летит время. Два года минуло со времени того пира. Анастасия уже стала матерью, родила князю Болеславу сына. Может, шепнула что мужу на ухо ночью, вот и не пошли польские князья на подмогу Изяславу, как угры.
Ярослав отвлёкся от воспоминаний. Надо было решать, как теперь быть.
— Имею вести, отец мой при смерти лежит в Перемышле. Испрашиваю вашего совета. Как нам поступить? Если пойдут угры и ратники Изяслава воевать Червонную Русь, сёла и городки пустошить? Если к Галичу подступят в силе тяжкой? — спрашивал Ярослав.
Волнение звучало в его молодом голосе. Но растерянности не было, в словах сквозила не по летам свойственная Ярославу рассудительность. Словно уже взвесил княжич все за и против, уже принял решение и только хотел услышать поддержку от своих ближних советников.
— Отец твой, князь Владимирко Володаревич, жив покуда, — напомнил Лях.
Ярослав посмотрел на него с горькой усмешкой.
— Я ведь не об отце вопрошаю. Жить ему, али нет, то Бог определит. О Земле забота моя.
— Мириться надоть с Изяславом, — выдохнул Гарбуз.
— Воистину, — тихо поддержал старого боярина Семьюнко.
— Думаю, если подойдёт Изяслав под Галич, пошлю к нему грамоту. Отдам городки погорынские и Бужск. Иначе всё потеряем. Изгоем быть не хочу, а Русь Червонную сохранить надо, — твёрдо промолвил Ярослав. — В этом заботу главную свою вижу.
— Отец твой городки бы не отдал, — заметил Лях.
— Повторяю тебе, боярин — не об отце моём сейчас толковня[120], — повысив голос, гневно сверкнул на него глазами Ярослав. — Будет жив, Бог даст, будет решать он. А покуда... — он прикусил губу, задумался, но затем резко вскинул голову и заключил. — Сделаем так, как я говорю. Решено.
Он поднялся со стольца, подошёл к окну. За столпом гульбища видны были холмы с зелёными дубравами. Пастух перегонял по лугу отару овец, ближе, у деревянного моста через Днестр, копошились гуси, дым поднимался змейками над трубами посадских хат. Мирная жизнь кипела в Галиче, и мир этот хотел Ярослав сохранить. Пусть цена ему и будет дорогой.
...Закончив совет, он снова поспешил на заборол.
Уже вечером, когда, усталый, промокший под вешним дождём, ввалился он в свой покой, переоделся в сухие одежды и помолился, как делал ежедень, перед иконой Богородицы, подступила к нему вся пылающая возмущением Ольга.
В одеянии из лёгкого шёлка, обрисовывающем тело, с крупными звездчатыми серьгами в ушах, настойчивая и решительная, она словно бы заполонила собой всё пространство покоя.
— Что, мириться с ворогами измыслил?! Испужался, в порты наложил?! Батюшку свово и мово предать осмеливаешься?! — громко кричала дочь Долгорукого, топая ногами и стискивая в кулаки свои большие сильные руки, унизанные перстнями с жуковинами[121].
«Лях доложил. Жёнке своей шепнул, а та тотчас Ольге напела в уши», — догадался Ярослав.
Он отмолвил жене с едва скрываемым раздражением:
— Я — княжеский сын, а не баран! О стенку головой биться не намерен. О подданных своих заботу имею допрежь всего. Не справиться мне с Изяславом и с уграми одновременно. Лучше малым пожертвовать, нежели всё потерять. Об отцах наших молвила ты. Но мой отец нынче в ранах тяжких лежит, а твой — невестимо где обретается. Помощи от него не дождёшься. Покуда ждать будем — от Галича ничего не останется. И нам с тобой ноги тогда уносить отсюда придётся, в Берлад или куда подальше. Этого хочешь?!
— Труслив ты! — Ольга презрительно скривила тонкие губки, покрытые толстым слоем коринфского пурпура.
От неё пахло благовониями, и запах этот, резкий и густой, раздражат Ярослава. Не выдержав, он выпалил ей в лицо:
— В трусости упрекаешь? Так ведь не я из-под Киева опрометью бежал после битвы на Руте, а твой отец, князь Юрий. Не хочу я, как он, из волости в волость бегать. Потому и переговоры думаю начать с Изяславом. Если, конечно, до осады дело дойдёт.
— Не смей об отце моём тако! Сопляк! — топнув ногой, вскричала возмущённая до глубины души Ольга. — Мизинца егового не стоишь ты!
Она неожиданно разревелась, громко, навзрыд.
— Дура! — ругнулся Ярослав.
Он стремглав выскочил из покоя, с громким стуком захлопнув за собой массивную дубовую дверь.
Не было мира у молодого княжича в семье. На душе становилось от этого горько, гадко, противно.
«Ну зачем, зачем она мне? Или невесты доброй сыскать нельзя нигде! Вон у того же Мстислава — экая, говорят, красавица Агнешка Польская. Или у Святополка — мораванка Евфимия. Солнцеликой на Руси её кличут. Или у того же Долгорукого сыны, Андрей и Глеб — оба на боярских дочерях женаты. И обе жены, что Улита Кучковна, что Глебова княгиня — и красовиты, и норову спокойного. Не то что эта... Упрямая, дерзкая, грубая вся. Как древо неотёсанное, как кукла, как идол поганый, тряпками обмотанный!»
...Ночью Ярослав никак не мог заснуть. Забросив руки за голову, смотрел в бревенчатый потолок, тускло озаряемый светом лампады, вздыхал, думал.
Ольга внезапно явилась к нему, навалилась медведицей, словно и не было давешнего тяжкого разговора с криками и взаимными оскорблениями и обидами.
Ярослав равнодушно ласкал её полное тело с округлыми выступами грудей, целовал крупные соски, она в ответ дланями возбуждала его естество, с жадностью сосала устами, храпела от страсти, стойно[122] лошадь.
После, исполнив, как положено, супружеский долг, Ярослав гладил её по распущенным чёрным волосам, смотрел в исполненные лукавства раскосые половецкие глаза, шептал:
— Ты не спорь со мной, не гневайся. Я для нас обоих стараюсь.
Жена неожиданно рассмеялась.
— Буду и впредь тебе перечить! Думашь, люб ты мне? Просто замуж мне пора было, и всё! А ты был из всех женихов — самый мне подходящий, и по летам, и по знатности рода. И я княгиней галицкой стать захотела. И вот этого, — она ткнула перстом Ярослава в фаллос, — такожде хотелось. Чтоб не как прежде, а без стыда и оглядки, не боясь, еже кто узрит.
— У нас, верно, дети ещё будут, — осторожно заметил Ярослав.
— Знамо, будут. Кажную нощь совокупляемся, — Ольга весело расхохоталась.
— Давай спать. Может, дела как ни то без нас уладятся, — Ярослав со слабой надеждой уставился на мерцающие лампады и положил крест.
...Как в воду глядел княжич. Утром в Галич прискакал сын боярина Домажира Иван. Так в городе стало ведомо о хитрости князя Владимирка, о его мнимой болезни, о кресте святого Стефана и о заключении мира.
«Изворотлив отец. Обманул-таки врагов своих. Оберёг лукавством от разоренья Русь Червонную, — думал ободрившийся Ярослав, стоя на гульбище и подставляя лицо ласковым утренним лучам солнца. В эти мгновения он гордился своим отцом. — А я? Учиться мне ещё много надо уму и хитрости державной».
Ему верилось, что мир пришёл на Червонную Русь крепкий и долгий.
После он поймёт, что горько ошибается и что до прочного мира на Галичине ещё далеко. Не догадывался Ярослав, сколь много пота придётся пролить ему, сейчас ещё совсем молодому, чтобы, наконец, достичь для Червонной Руси расцвета, а для себя — могущества и уважения ближних и дальних родичей, бояр и иноземных владык.
ГЛАВА 12
Князь Владимирко, довольный собой, возбуждённо прохаживался по палате, потирал руки, усмехался лукаво, говорил сидящему в молчании на лавке Ярославу:
— Обманул я Изяслава и Гезу. Пущай топерича думают, что отдам я им городки на Горыни и Бужск. Не на такого напали!
— Ты же клялся, отче! — В карих глазах княжича на мгновение полыхнул страх. — Клялся на кресте, в коем частица Животворящего Креста Господня заключена. Это крест святого короля Стефана.
— То всё глупости, сыне! — морщась, отмахнулся Владимирко. — Принудили меня силой к сей клятве. Все об этом знают.
— Кощунствуешь ты, отче! Нельзя через крест преступать! — воскликнул Ярослав.
— Замолчь! — прикрикнул на него Владимирко. — Молод ещё мне указывать! Не отдам я Изяславу ни пяди земли своей. Домажирича Ивана послал уже в Шумск с наказом. Гнать в шею посадников и тиунов киевских повелел.
— Изяслав, отче, гневом воспылает! Тотчас новую рать на Галич поведёт. И король угорский, помнишь, что сказал. Мстить, говорит, буду.
— Мстить? — Владимирко, уперев руки в бока, громко расхохотался. — Ты, сыне, словам велеречивым не верь особо. Мало ли, чего он тамо болтал. Ты шире на мир гляди. На то и князь будущий.
— Как так, отче? Поясни, — Ярослав поднял голову и искоса воззрился на отца.
— Ты на Запад глянь. Уразумей, сейчас главное противоборство у них — между папой и германским императором. Те, кто сторону папы держат — гвельфы, а супротивники их — гибеллины. И все государи в сию борьбу втянуты. Скажем чешский Владислав — на стороне императора, а угорский Геза, наоборот, за папу стоит. Так вот, да будет тебе ведомо, Ярославе, германский император Конрад ныне с Мануилом Комнином союзится. Свояченица Конрада, Берта Зульцбахская — жена Мануила. И оба императора Гезе войной угрожают. Да и не просто угрожают — Мануил вон в открытую на Дунае флот сильный держит, Сербию у угров оттягать хочет. Потому, сыне, Геза к нам на Галичину в ближайшие лета более не сунется. Не стоит его опасаться. Да и бароны у него и епископы — люди продажные. Еже что... — Владимирко не договорил. — И ещё. Показать тебе хочу.
Он полез в маленький медный ларец и достал оттуда грамоту на багряного цвета пергаменте, с золотой печатью базилевса Ромеи.
— Се — договор мой с Мануилом. Думать, болгары с сербами просто так на помощь нам приходили? Нет, за ними — базилевс.
Ярослав развернул грамоту, стал читать. Греческий язык знал он хорошо, учителя были добрые. Споткнулся он на слове «hypospondos». Посмотрел изумлённо на отца, спросил с недоумением:
— Это что же получается? Базилевс Мануил вассалом тебя объявляет! Как же так, отец?! Всю жизнь боролся ты за самостоятельность Руси Червонной, отбивал наскоки ляхов и угров, ратился со Всеволодом Ольговичем и с Мстиславичами, а теперь! Получается, всё это ради того, чтоб перед ромеями на колени пасть?!
Ярослав с возмущением отодвинул от себя грамотицу.
— Базилевс далеко, а Киев — близко, сыне. Пускай думает Мануил, что его здесь, на Днестре и в Подунавье, власть. А на самом деле всё инако.
— Отец! Мануил — наш соузник. Это я могу понять. Но зачем он на Галич посягает? Зачем сувереном твоим себя именует?
— Иначе, сын, не было бы у меня с ним никоего соуза. Из двух зол меньшее выбирать надо, — поучительно изрёк Владимирко.
Он сел напротив Ярослава и пристально глянул ему в лицо.
— Это так. Только не думаю я, что Мануил лучше Изяслава будет. Одно хорошо — далеко он покуда. А если угров победит — рядом окажется, и тогда верности вассальной, клятв и дани от тебя потребует. И грамотку вот эту вспомнит.
— И что ты мне предлагаешь? — неодобрительно прищурил глаза Владимирко.
— С Изяславом мириться. Отдай ему эти чёртовы городки. Не стоят они крови пролитой. Был недавно в Бужске. Деревня деревней, разве стеной обведена. А Гнойница и вовсе — на болоте каком-то стоит.
Владимирко со злостью грохнул кулаком по столу.
— Вот оно! За спиной моей с ворогами мириться задумал! Знаю, сказали уже, что ты городки сии отдать хотел! Дак вот те, на, выкуси! — Он поднёс к лицу Ярослава кукиш. — Не получит Мстиславич сих городков. Ни Бужска, ни Гнойницы, ни которого!
«Млава с Ляхом донесли», — понял Ярослав, скрипнув зубами.
— Я Землю от ратей оберечь хотел, — сказал он отцу, выпрямившись и встав с лавки. — Не в чем тебе меня упрекать. А что насчёт ромеев и базилевса Мануила с тобой не согласен, так знай: ничьим холопом быть не хочу! Сам меня так учил.
— Учил. Выучил, на свою голову! Вот что, Ярославе. Поди вон! И не смей, слышишь, не смей мне перечить! Мальчишка! — Владимирко неожиданно сорвался на крик.
Ярослав спокойно вышел. У самой двери он обернулся и, презрительно усмехнувшись, спросил:
— Что, опять на князя Юрия надеешься? Да не придёт он из своего медвежьего Суздаля! А если придёт, так опоздает опять, с перепою! Брось ты за него держаться. Брось, отец, пока не поздно!
— Пошёл вон! Сказано тебе! — Владимирко снова бухнул кулаком но столу.
Когда Ярослав покорно ушёл, вдруг подумал галицкий князь, что касательно Юрия сын, наверное, прав.
Но городки он отдавать не хотел и в скором времени снарядил в Суздаль гонца.
ГЛАВА 13
Избигнев, как только закончились переговоры и был заключён мир, воротился в Свиноград. Крепость меж узкими рукавами речки Белки, обведённая буковыми стенами, высилась на холмах, окружённых болотистыми низинами. Путь к воротам пролегал по мосткам, переброшенным через топкие участки. Тучами кружили в воздухе мошки и комары, от болот исходило тепло и влага, так что дышать порой становилось трудно. Лишь на забрале стены, наверху, было легче. С высоты открывался вид на окрестные дали. Поля и низины перемежались с лесами и рощами, раскинувшимися на полуночной стороне. Восточнее, за рукавом Белки, располагался довольно обширный окольный город. Окаймляли его те же топкие болота и невысокая изгородь из плетня. Шлях, проложенный через гати, вёл к соседнему Плесненску и недалёкому Бужску, залегающему у истоков Западного Буга, тому самому городку, который стал яблоком раздора между Владимирком и Изяславом. В другую сторону, на юго-запад, тоже бежала дорога, более широкая и добрая. Вела она через холмы Подолии, крутые каньоны и среброструйные быстрые речки прямо в Галич.
Славился Свиноград своими косторезами и сапожниками, всю Галицкую Землю снабжал он добротной обувью и изделиями из кости. Обереги резали, крестики и всякие фигурки.
...Отец, старый седобородый Иван Халдеевич, лежал в тяжкой болезни. Избигнев, как приехал, тотчас направился к нему в покой. С тревогой взглядывая в бледное отцово лицо, в тусклые обведённые старческой серостью глаза, он рассказывал о битве и переговорах. Иван Халдеевич слушал молча, изредка согласно кивал. Потом, наконец, когда Избигнев окончил свой рассказ, разжал плотно сомкнутые уста, заговорил тихо, так, что сын, чтобы услышать, сел поближе, наклонился и прильнул к нему.
— Мне, чую, Избигнев, не встать более. Ослаб совсем. Поэтому послушай, что тебе сейчас скажу. И крепко запомни. Ранее многого тебе не рассказывал. Род свой ведём мы от хазарских[123] иудеев. Издавна, лет двести назад, осели наши предки в Киеве, на Копырёвом конце[124]. Дядя мой, Иванко Захариич, был первым воеводой у киевского князя Святополка. А после смерти Святополка случился в Киеве бунт, чернь восстала и разграбила много домов нашего народа. Многие иудеи ростовщиками были, многих чёрных людей закабалили. Вот и взметнулся Киев. Новый князь, Владимир Мономах, и велел тогда, в угоду простонародью, всем иудеям убираться из Земли Русской. Отец же мой ещё ранее в Свинограде поселился. Служил сперва князю Володарю, затем сынам его. Я, как и дядя, более по ратной части пошёл, никогда не забывайте. Понял, Избигнев? А ты, я смотрю, в отца моего, Халдея, выдался. Тот советником был у князя Володаря, к венграм и чехам ездил, посольство правил. Тебе, Избигнев, я вижу, дело ратное не по нутру. А в посольском деле преуспел ты, хвалю. Поэтому... — старый воевода устало смахнул с чела выступивший пот. — Вот мой тебе отцовский наказ. Езжай в Галич. Хватит тебе в отроках тут ходить. Воеводский сын, не дворянчик какой мелкий. Грамоту тебе дам. В Галиче сыщешь иудея Нехемию, живёт он у Немецких ворот, лавку держит. Он тебе поможет в свиту к княжичу Ярославу устроиться. К самому князю Владимирку не суйся — вокруг него всё схвачено старыми боярами. Но князь Владимирко не вечен. А сын у него один. Ярослав, полагаю, на новых людей опираться станет. Имею сведения, часто спорит он с отцом своим о делах. Вот с этого, Избигнев, службу и начни. Что проявил ты себя — это хорошо. Владимирко тебя, думаю, запомнил. Но держись Ярослава. Вот тебе мой совет. Брата твоего Михаила отправил я в Полоцк, пусть там путь себе пробивает. И так скажу: если что у тебя не выйдет, если беда какая, перебирайся к брату. А если, наоборот, у Михаила что не так пойдёт, примешь его у себя. Держитесь друг за дружку, служите, но и себя.
— Понял, отец.
— Да, и мать свою Марию в Галич забери, как я помру. Чую, не встану.
Иван Халдеевич снова тяжко вздохнул.
— Одно худо, Избигнев, — сказал он. — Мягок ты излишне. С людьми надо твёрже. Кому — в морду дать, кого и сабелькой полоснуть. А ты всё по-доброму, по-мирному хочешь. На отца моего похож. Тот тоже так. Убили его в стране угров. Нагло убили, в открытую грубые и невежественные бароны. Подняли длани на старца седобородого. Я отомстил, всех троих под Сапоговом схватил и повесил, как собак, на ближнем дубе. Будут помнить угры, каков воевода Иван Халдеевич. Ну вот, всё тебе сказал. Подай мне отвар тёплый. Вон, в жбане стоит, стынет. Попью, да, извини старика, спать буду. Устал.
Он снова вытер платом потевший лоб, дрожащими слабеющими руками принял жбан, долго, маленькими глотками пил отвар целебных трав. Затем уронил голову на подушки, слабо улыбнулся сыну, шепнул:
— Ступай, Избигнев. Дай, перекрещу тебя. Крещён ведь. И помни всё, что тебе тут сказал. Крепко помни. Дорога ждёт тебя долгая и многотрудная.
...Спустя седмицу Избигнев, взяв с собой одного челядина и поводного коня, выехал в Галич. Впервые надолго покидал он родной город и потому, часто оборачиваясь, смахивал с глаз непрошенные слёзы. Но постепенно юноша отвлёкся и стал смотреть на дорогу. Отец был прав, ждёт его впереди долгий и тернистый путь, и лучше не вспоминать прошлое, а устремляться мыслию вперёд, к новым свершениям и удачам. На душе почему-то стало спокойно и тихо.
На второй день Избигнев добрался до Галича.
ГЛАВА 14
Звенели яровчатые[125] гусли. Слепец-гусляр, перебирая тонкими перстами струны, пел стародавнюю песнь о былинных храбрах[126]. Притихшая гридница слушана, как выводил он неожиданно сильным звонким голосом рулады. Но вот окончил старик свою песнь. Оборвался полёт серебряных струн, тишина на короткие мгновения окутала огромную залу. Князь Владимирко широким жестом отсыпал в длань поводыря-подростка горсть золотых талеров.
Пир продолжился, зашумели бояре, в чары полился из ендов и братин тягучий мёд. Откупоривались бочонки со светлым и тёмным олом, били в серебро чар янтарные пенные струи, понеслись, как резвые скакуны в чистом поле, пышные славословия.
Радовались бояре и княжьи милостники. Рад был и князь Владимирко. Выкрутился, змеёй изогнулся, клятву преступил, но отвёл от Галичины беду хитрый князь. А значит, в целости останутся пашни, борти, угодья боярские, не вытопчут поля копыта вражьих коней, не полыхнут заревом хоромы и дворцы. Вот и хвалили бояре своего князя, превозносили до небес за «доброе охранение», за надёжную защиту. Славили его смекалку, его хитрость, его ум.
Быстро пустели и снова наполнялись чары. Обильные яства — свинина жареная, телятина на пару, лебеди, гуси, разноличная рыба, заморские фрукты — исчезали в бездонных желудках. А мёд продолжал литься тягучей вязкой рекой, развязывая всё сильней и сильней хмельные языки.
Появились скоморохи, задудели в дудки, забили в барабаны, закривлялись потешно. До слёз хохотали гости, глядя на их ужимки и маски-скураты[127].
Рядом с боярами — жёнки в ярких саянах, сверкают узорочьем платов, убрусов[128], высоких кик[129]. На почётном месте Млава — знали Владимирковы ближники, сколь велика власть этой молодой боярыни. Давно уже она — полюбовница Владимирки, и всегда слушает князь её советы, всегда потакает её прихотям. Не понравишься Млаве — больше и близко не подступишь ко княжьему двору.
Статная, в жемчужном очелье и парчовом летнике, с шёлковой перевязью-лором[130], переброшенном через плечо, вся в сиянии золота ожерелий, серьг, колец, Млава вела себя, стойно княгиня. Сидела вся важная, гордая, по правую руку от князя. Владимирко порой поглаживал её по белой холёной руке, Млава прищуривала, как сытая кошка, глаза и раздавала ближним боярам покровительственные улыбки.
Вот молодой Иван Домажирич, преподнёс он ей сегодня на поливном блюде два чеканных браслета. Молодец боярский сын! Знает, как продвинуться поближе ко княжьему столу.
А вот совсем ещё юный Коснятин, сын воеводы Серослава. Робеет отрок, жмётся к стене, подливает князю мёд из чары. Этого надобно будет Млаве приободрить, приголубить где-нибудь в переходе тёмном, сказать, чтоб смелее ступал по палатам дворца. Как-никак, отец его, воевода Серослав — сила в Галиче немалая.
Вдалеке в углу молча макает в пиво длинные усы супруг Млавы, боярин Лях. Тих, неприметен, не мешает своей жене властвовать у князя в терему, не учиняет дома криков и ссор, не ревнует. Видно, разумеет, что к чему. Имеет выгоду от жениной красоты. Доброго мужа подобрал Млаве Владимирко. За это она ему вдвойне благодарна. Не какая-то там вдова жалкая теперь Млава, а боярыня, мать семейства. Вон детишки — сыночки подрастают. А от кого они зачаты: от мужа, от князя аль от какого отрока, коего прислонила к стенке в переходе чёрной ночью, того и сама Млава не ведает.
...Княжич Ярослав пришёл в гридницу в самый разгар веселья. Сел возле отца, выпил чарку красного хиосского вина, отведал свежей телятины и голавля под сметанным соусом, извинился, молвил, что недосуг, торопится, и быстро покинул пир.
Давно приметила Млава, что и Ярослав, и дружки его молодые сторонятся шумных Владимирковых застолий. На неё, Млаву, смотрел княжич с едва скрываемым презрением. Единожды подловила она его в переходе, завела в закуток, стиснула в объятиях. Сказала прямо:
— Полюби мя, княжич. Тоскую. Отец твой уже немолод, боярин мой — и вовсе стар. А я, вишь, молода, горяча. Любви хочу.
Отодвинул её от себя Ярослав, усмехнулся, промолвил тихо:
— Отстань, изыди, сатана!
Крест положил и метнулся в темноту, только его и видели. Боялась Млава, что скажет отцу, да, видно, смолчал, себе же на пользу. Чуяла боярыня, непрост княжич. Чуяла такожде, что не люба ему молодая жена. Но как сыграть на этом, покуда не ведала. Да и Ольга оказалась не из простых. Хоть и подступала к ней Млава не раз с задушевными разговорами, не шла дочь Долгорукого на откровенность, молчала, поджимала уста. И знала Млава твёрдо: если что случится с Владимирком и сядет Ярослав на его место, в терем княжой путь ей будет заказан.
Пока же цвела, пользовалась своей красотой и своим положением боярыня, хохотала заливисто, подымала чарку, ударялась в пляс на весёлом пиру.
...Далеко за полночь закончилось шумное застолье. Кто из бояр тут же, в зале, на лавке храпел, упившись, кто под лавкой лежал, а кто кое-как доплёлся до крыльца и, рухнув в возок, крикнул возничему: «Гони! Домой!»
Опустела гридница. Стольники уносили на поварню недоеденные яства и посуду.
Князь Владимирко, перешагивая через тела, выбрался на гульбище. Глотнул полной грудью чистый ночной воздух, притянул к себе вовремя оказавшуюся рядом Млаву, заговорил, глядя в звёздную высь:
— Вот Мстиславича побьём, заживём! С ромеями, с немцами торг наладим, в шелках и паволоках у меня ходить будешь! Голубица моя! Как тебе плат звёздчатый, подарок мой давешний? По нраву? Звёзды на нём вытканы, яко на небе.
— Ох, по нраву, княже! — промурлыкала довольная боярыня. — Мне б ещё ожерелье янтарное! Бают, на море Варяжском[131] сей камень находят.
— Будет ожерелье! Заказал купцам нашим.
— А ещё багрянец бы, яко у царицы греческой! И мафорий хочу. Давно ить[132] обещал.
— Ненасытная ты! — Владимирко нахмурился.
Видя, что князь начинает сердиться, Млава тотчас спохватилась и добавила:
— Да всё то не к спеху. Нощь на дворе. Пойдём, княже мой возлюбленный, в ложницу.
Владимирко, как лёг в постель, так тотчас и захрапел. Млава, полежав немного, бесшумно поднялась и метнулась со свечой в руке в коридор. Шла осторожно, оглядываясь по сторонам. На пороге гридницы молодой Коснятин Серославич тушил свечи в огромном семисвечнике на стене.
— Пойдём со мной, отроче.
Нежные женские руки обхватили оробевшего боярчонка. Млава настойчиво потянула его за собой в темноту.
Часы до рассвета они провели в крохотной каморе на верхнем жиле. Уже под утро Млава засобиралась, ласково шепнув Коснятину:
— Чтоб князь не прознал, пойду. Вот тебе ключ от сей каморы. Заутре приходи. Сладко с тобою. Ну, прощай, мальчик мой. — Она потрепала его но щеке. — И помни: я доброты не забываю.
Она задорно хихикнула и, шурша дорогим платьем, скрылась за дверями.
Коснятин начал медленно одеваться. Голова болела после бессонной ночи. Он раздумывал, стоит ли приходить сюда ещё, или лучше остеречься. Вдруг кто что проведает, скажет князю.
Впрочем, днём сомнения воеводского сына разрешились сами собой. Князь вызвал его к себе, протянул грамоту и властно приказал:
— Даю тебе, Коснятин, двоих гридней в помощь. Выбери на конюшне добрых коней. Скачи в Суздаль, к свату моему, князю Юрию. Передай на словах: пора ему выступать на Киев. Настал час удобный. Да, и Изяславовых людей на пути берегись. Гридней даю тебе опытных, каждую тропку на Руси знают. Так что скачи, и не мешкай. Дела того требуют.
Коснятин сжимал в руке свиток с серебряной печатью, кланялся князю в пояс, пятился к двери.
На душе у него наступило даже некоторое облегчение. Казалось, уж проще мчаться через всю Русь в далёкий Суздаль, чем рисковать головой в объятиях княжеской полюбовницы.
Сын воеводы не догадывался, что как раз Млава и предложила князю именно его послать к Долгорукому.
ГЛАВА 15
Старик Нехемия дело своё знал. Вместе с Избигневом пришёл он поутру в княжеские хоромы, пошептался на сенях с дворским[133], затем подозвал жестом застывшего в ожидании у дверей отрока, молвил дворскому:
— Вот Ивана Халдеевича сын. Ты, боярин, помоги ему. В накладе не останешься.
Нехемия быстро исчез, словно растворился в воздухе. Дворский же провёл Избигнева вверх по лестнице на третий, самый верхний ярус хором.
Так очутился Избигнев в княжеской палате.
На стене красовались раскидистые лосиные рога и майоликовый[134] щит, рядом висела длинная алебарда с окрашенной в красный цвет рукоятью. Другую стену покрывал персидский ковёр. Лавки были обиты рытым[135] бархатом.
На одной из них сидел княжич Ярослав.
— Садись, отроче, — указал он на лавку напротив. — Стало быть, Ивана Халдеевича ты сын младший. Ты и на Сане был, в сече рубился? И на переговоры ездил? К королю Гезе? Так в грамотице твоего отца писано.
— Всё верно, княжич. Вот, отец меня к тебе отправил.
Избигнев смущённо развёл руками.
— И правильно сделал. Преданные и умные слуги любому князю нужны. Жаль, отец мой окружил себя одними подхалимами. А тем лишь бы пиры учинять да сребро из княжьих рук получать, да гривны воеводские.
Ярослав и Избигнев смотрели друг на друга, словно примеривались. Видно, понравился княжичу отрок. Да и Ярослав, улыбчивый, спокойный, внимательный, мягкий с виду, сразу пришёлся Избигневу по душе.
Говорил он прямо, открыто:
— Не по нраву мне, что не хочет отец отдавать Изяславу городки. Как бы новой войны не вышло. Нынче послал он людей ко князю Юрию в Суздаль, а сам рати готовит на Киев. Вот так. Опередить хочет Изяслава. Может, оно бы и правильно было, да не верю я в тестя моего. Медлителен он, излиха веселью, пьянству и блуду подвержен. Так вот, Избигнев. Ты вот мне отмолви, как думаешь, прав ли мой отец?
— Если бы князь Юрий на Киев пошёл, и вборзе, тогда да, верно князь Владимирко деет. А если нет... — Избигнев развёл руками. — Для чего тогда договор учиняли?
— Вот то-то же, — вздохнул Ярослав.
В дверь палаты просунулась рыжая голова Семьюнки.
— Чего сидеть тут, киснуть, Ярославе. Лето на дворе, солнце светит. Айда на Гнилую Липу. Искупаемся, рыбки нажарим. Может, девок каких сыщем. Дело молодое. И отрока сего, — он подмигнул Избигневу, — с собой бери!
— И вправду. Подождут дела, княжич решительно поднялся с лавки. — Пойдём, Избигнев.
...На вымоле у берега Луквы они забрались в небольшую лодку. Под дружными взмахами вёсел утлое рыбачье судёнышко стремительно понеслось через быстрый Днестр. Сильное течение относило его вниз, как раз к устью Гнилой Липы.
Солнце палило нещадно, из-под войлочных шапок градом катился пот. Вода искрилась, отливала яркой голубизной. Далеко, за противоположным правым берегом серебрились свинцовые маковки галицких церквей.
Днестр бурлил, шумел на перекатах, бил волной в борта, грозился перевернуть лодку, но Семьюнко и Ярослав своё дело знали. Не один раз плавали они в здешних водах, ведали, где на Днестре опасные водовороты, где омуты топкие, а где на камни подводные можно невзначай налететь.
— Правее держи! Вот сюда! — указывал рыжеволосый молодец Избигневу. — Так! Молодцом!
— Сейчас со стреженя сойдём, там легче будет, — оборачиваясь, говорил сидевший впереди княжич. — Вон уже и Гнилая Липа.
После довольно долгого качания на волнах лодка уткнулась носом в песчаный берег.
У реки зеленели толстоствольные липы, кое-где меж ними выглядывал стройный граб. Щебетали птицы. Ощущение было такое, что они очутились в раю. Избигневу после унылых свиноградских болот всё здесь было в диковинку, он зачарованно глядел по сторонам.
Вместе с Семьюнком они принесли хворосту, развели костёр, острогою наловили немного мелкой рыбы.
— Её здесь хоть руками лови, — говорил Ярослав.
Семьюнко достал из лодки заранее припасённый котелок.
Вскоре закипела в нём наваристая ушица.
Трое молодых людей сидели допоздна у костра, хлебали ароматное варево, вели откровенные разговоры обо всём, что придёт в голову.
Три человека, три в недалёком будущем державных мужа, от которых во многом зависела судьба Червонной Руси. Пока они ничего этого не знали, им хотелось быть сейчас просто молодыми людьми, радоваться ясному солнечному дню, тихому тёплому вечеру и вкусной ухе.
Увы, немного ждёт их впереди таких спокойных вечеров.
ГЛАВА 16
Весь пропитанный пылью дорог, пропахший духом лесных вятичских[136] дебрей, молодой Коснятин Серославич возвратился в Галич на исходе лета. Говорил на совете у Владимирки, рассказывал, бросая короткие отрывистые фразы:
— Князь суздальский Юрий Владимирыч... собрал рати на Киев... Союз заключил с рязанскими и муромскими князьями... вошёл в землю вятичей... С ним и половцев немало идёт... Которые меж Волгою и Доном кочуют... Пошёл далее князь Юрий на Мценск, на Вщиж да на Глухов... Оттуда я к тебе, княже Владимирко, поскакал вборзе. О сём велено тебе передать.
Получив добрую весть, Владимирко решительно ударил руками но подлокотникам стольца и, вскочив, объявил боярам:
— Сей же час рати готовлю. Прямо на Киев иду, покуда Изяслав не ждёт. Обложим его с князем Юрием, яко медведя в берлоге!
Он ободрился, отошёл от недавнего поражения под Перемышлем, чуял свою силу, предвкушал скорый успех.
Напрасно некоторые бояре остерегали его, отговаривали от войны.
— Обожди. Лиха бы не было, — качал седой головой старый Гарбуз.
На сей раз сторону его принял Домажир, обеспокоенный судьбой Шумска, в котором посадничал его сын Иван.
Сомневался в верности княжьего решения также опытный воевода Тудор.
Прочие поддержали князя.
Спустя несколько дней конная галицкая рать выступила на Киев. Громыхали доспехами дружинники, сверкали на солнце баданы[137], чешуйчатые и дощатые панцири, зерцала[138], шишаки, мисюрки, секиры, мечи и сабли в узорчатых чеканных ножнах. Реяли в воздухе прапоры с золотистым львом на светло-голубом фоне. Торжественно гудели боевые трубы, звенели литавры.
Но... как ушла рать, так и воротилась назад спустя седмицу. Так же сияло оружие и доспехи, реяли стяги, но в литавры не били, не было слышно и звуков труб.
Князь Владимирко, на ходу с раздражением срывая с себя шишак с меховым подшлемником и расстёгивая фибулу на алом плаще-корзне[139], бросился к себе в палату. Тотчас он вызвал к себе сына.
— Что стряслось, отче? — хмурясь, спросил Ярослав, видя, что отец гневен и бледен.
— А то, что ты был прав! — рявкнул Владимирко. — Зря я за сего Юрия держусь! Раззява он! Нет, ты подумай, какая сволочь!.. — Он неожиданно разразился проклятиями: — Олух! Болван! Пьяница!
— Успокойся, отец. Сказывай, что там у вас случилось?
Владимирко в бешенстве рванул ворот суконной вышитой узорами рубахи.
— Пошёл я, стало быть, на Киев, как уговаривались, и узнаю вдруг: Изяслав супротив меня со всей своей ратью идёт. Вопрошаю, где ж Юрий? Шлю гонцов, те возвращаются и передают: в Глухове тестюшко твой веселится. Вина тамо и меды рекой многоводной льются. Ну, я тут и не выдержал. Повернул рати обратно в Галич. Помысли, сын! Третий раз уже я из-за Юрья великий труд учинил и один токмо убыток понёс! Нет, более я за него воевать не хочу! Своё удерживать — да, стану! Ни пяди земли Изяславу не отдам! Но тесть твой отныне пускай другого себе помощника ищет!
— Что ж делать будем? — спросил Ярослав.
Он понимал, что Галичу грозит новая война с Киевом.
— Покуда сожидать придётся, и рати наготове держать. А там как Бог рассудит.
Владимирко устало откинулся на спинку лавки, крикнул челядинца, велел подать ола.
Крупными глотками отхлёбывал из оловянной кружки пенистое пиво, смотрел на молчавшего сына, вдруг сказал:
— А не дурак ты у меня! Вот токмо твёрдости тебе недостаёт. Но, надежду имею, с годами и то придёт. Даст Бог, оставлю тебе после себя владенья обширные, людьми и добрыми пашнями богатые. Так ты нажитое мной береги, помни: немало пота пролил я, собирал по крупицам Русь Червонную. Вот тебе мой наказ.
— Ты что, отец, помирать, что ли, собрался? — удивлённо вскинул взор на Владимирку сын. — Поживёшь ещё. Не старик, чай.
— Один Господь ведает, Ярославе, сколь кому лет на белом свете отмерено, — тяжко вздохнул галицкий владетель.
Ярослав смолчал. Нечего было ответить на отцовы слова. Видел только во взоре Владимирки, столь часто гневном, строгом, некую тоску. Отчего-то жалко стало Ярославу отца.
...На Руси было неспокойно. Снова двигались куда-то конные дружины, снова громыхали доспехи, снова звенело оружие.
Затаился Галич в тревожном ожидании. Как перед грозой: показались из-за окоёма уже чёрные тучи, и ждёшь, что вот-вот сверкнёт яркой вспышкой молния, разрезая стрелой небосвод, громыхнёт за нею вослед раскат и засвищет, пригибая к земле тонкие стволы дерев, разбойный злой ветер.
Время котор[140], время крамол, время нескончаемых кровопролитий! И когда же настанет ему конец!
ГЛАВА 17
Осень и зима после бурных событий конца весны и лета выдались на Галичине спокойными. Собран был крестьянами на княжьих и боярских рольях обильный урожай пшеницы, ячменя и ржи. Амбары и бретьяницы[141] ломились от зерна и муки. По Днестру вниз под охраной оружных дружинников отплыл с товарами большой торговый караван. Везли мёд, зерно, скору[142]. Быстроходные струги и хеландии[143] под разноцветными ветрилами[144] держали путь в болгарскую Месемврию и далее в Константинополь.
Пройдёт время, и воротятся купцы в Галич с греческими тканями, будет во что одеть знатным горожанам своих жён. Да и иного добра немало привезут с собой торговые люди: будет и оружие, и заморские фрукты, и вина, и диковинные звери пополнят княжеские загоны.
А пока наползли с Карпат мохнатые снеговые тучи, оделась земля белым покрывалом, загуляли по холмам Подолии свирепые метели. По зимним шляхам поскакали в города и веси скорые гонцы, принося с собой вести, когда желанные, когда тревожные, а когда попросту ненужные.
В такую пору князь Владимирко и его приближённые учиняли охоты, стреляли в лесах зайцев, уток, иной раз выходили и на крупного зверя. Ярослава в эту зиму охота почему-то не занимала и не радовала, больше просиживал он вечера за книгами. Сам перевёл с греческого часть Хроники Георгия Амартола, послал свой перевод в Киев, в Печерскую лавру, хотел, чтобы тамошние монахи посмотрели и оценили его труд.
Хотелось большего. В хоромах Ярославу становилось как-то тесно, но выезжать на ловы, рыскать по лесам в поисках зверя тоже не было ни малейшего желания. Семьюнко — тот носился вместе с дружиной, возвращался всякий раз с ловов разгорячённый, румяный, свежий, подробно рассказывал, где на сей раз охотился, какого зверя видел, какого добыл.
Избигнев — тот больше находился около Ярослава. Оказалось, молодой воеводский сын неплохо говорил по-гречески, знал латынь и венгерский. И книг был Избигнев любитель, так что коротать с ним время доставляло княжичу немалое удовольствие.
Беда грянула на исходе зимы. Из Киева с договорными грамотами приехал в Галич боярин Пётр Бориславич.
Стоял в горнице перед Владимирком, вальяжно развалившемся в высоком обитом голубой парчой кресле, обводил взором сидящих вдоль стен бояр, говорил резко, громко, чуя за своей спиной всю силу Киева и союзных ему земель.
— Клялся ты на кресте, что вернёшь князю Изяславу Мстиславичу города Бужск, Гнойницу, Тихомль, Выгошев и Шумск. О том был меж нами и такожде королём угорским заключён договор. И грамоты сии были составлены и утверждены. Ты же городков тех не отдал и по сию пору. Потому требует князь Изяслав Мстиславич, чтоб воротил ты немедля города, неправо отданные тебе Юрьем Суздальским в бытность его в Киеве. Также велено сказать тебе, княже Владимирко, что летом давешним ты, с войском идучи, многие области киевские разору подверг.
Но то согласен князь Изяслав тебе простить, токмо ежели города вышеупомянутые ты воротишь. Тогда миром дела наши уладим. Не хочет бо князь Изяслав войны.
Пётр стоял перед Владимирком, весь исполненный достоинства, в розового цвета кафтане с узорочьем по вороту и широким рукавам, с золотой гривной на шее, в шапке с парчовым верхом. Держался спокойно, уверенно, гордо вздёргивал голову, хоть и видел, что слова его Владимирка не пронимают и что не согласен на условия Изяслава упрямый галицкий владетель.
Владимирко внезапно рассмеялся послу в лицо.
— Брат мой Изяслав слишком многого захотел. Не подавился бы городками моими.
— Что же, князь? Выходит, не намерен ты городки отдавать? Не желаешь условия договора исполнять? — спросил Пётр.
— Не намерен! Мои се городки! Пусть на чужое не зарится князь твой! — Владимирко, внезапно разгневавшись, вскочил на ноги.
— Что ж. Вот тогда тебе грамоты мирные. — Пётр положил на стол перед князем два харатейных свитка. — Порушил ты, князь, клятву свою и ряд. Отныне меч нас рассудит.
— Ах, вот как заговорил, боярин Пётр! — загремел Владимирко. — Скажи тогда князю Изяславу: он на меня ворогов иноземных, угров, навёл! И области мои с ими вместях разорил! Сёла пожёг, поля повытоптал! И я теперь, как смогу, ему за то отомщу! А про городки погорынские и Бужск пусть забудет!
Лицо боярина Петра, доселе спокойное, покрыл багрянец возмущения. Довольно молод был ещё Бориславич, тридцать три года недавно стукнуло. Вот и не сдержался, крикнул Владимирку в ответ:
— Брату своему крест ты целовал! А топерича мстить неправо хочешь! Бог тебя наказует, князь! Опомнись, помысли, что глаголешь!
Владимирко, выслушав гневную отповедь, вдруг сразу остыл, сел обратно в кресло. Лицо его исказила полная лукавого презрения ухмылка.
— Ишь ты! О кресте вспомнил. Да мал тот крест был. И не крест вовсе, а так — крестик!
Кто-то из бояр, кажется, Лях, тихо засмеялся. За ним вослед загоготал Домажир.
Гул одобрения прокатился по горнице. Но боярин Пётр уже овладел собой. Он спокойно возразил Владимирку:
— Да, князь, мал был тот крест. Токмо не в том суть. Велик ли он, мал ли, но сила Божья во всех крестах равная. И ещё. Полагаю, ежели что князь сказал, так то и без креста должно быть твёрдо и велико. Вспомни, что тебе о кресте том говорил король Геза.
Владимирко с раздражением оборвал посла:
— Король, что хотел, то тогда и говорил! Его была перемога[145]! Аты ныне ступай вон! Надоел! Ещё учить меня вздумал! И передай князю свому мои слова! Вон!
Князь снова неожиданно сорвался в крик.
— Эй, дворский! Отроки! Гоните его взашей со двора! Подвод и коней не давать! Пускай на своих езжает!
Он топнул в негодовании ногой.
Пётр Бориславич молча поклонился ему в пояс и, оставив грамоты, вышел.
В палате большинство бояр шумно поддержали князя.
— Воевода Серослав! Заутре же на киевскую дорогу сторожей[146] пошли! Сожидать будем ворога! — приказал Владимирко.
И дружине вели мечи точить и кольчуги чистить!
...Ярослав наблюдал за приёмом киевского посла сверху, через одно из маленьких оконцев по соседству с палатами бабинца[147].
— Господи, что он глаголет! — шёпотом словно сами собой шептали уста княжича. Стало страшно. Как мог его отец, вот так легко, нарушить данную на кресте клятву, преступить через крестное целование. И эти Домажиры и Серославы, неужели они не понимают ничего?! Что может быть ужасней кары Господней!
Вспоминались книга Ветхого Завета, пламенные речи пророков, в горле стоял ком.
Княжич бросился было вниз, он хотел остеречь, остановить отца, задержать посла. Но вдруг понял тщету своих усилий. Эти горластые бояре попросту не дадут ему ничего сделать. От осознания собственного бессилия он беззвучно разрыдался, рухнув на лавку и обхватив руками голову.
Прервал его отчаяние колокол придворной божницы святого Спаса. Наступило время вечерни.
Быстро умывшись, Ярослав поспешил на молитву.
С переходов, ведущих на хоры церкви, был хорошо виден шлях, широкой полосой проходящий через нижний город к восточным городским воротам и далее к мосту через Днестр. И в этот час как раз медленно ехал по нему на усталых некормленых конях боярин Пётр. Увидав его, князь Владимирко, смеясь, сказал боярам:
— Вот посол Изяславов, взяв все мои городки, в Киев повёз!
Дружно хохотали над удачной шуткой льстивые бояре.
...Когда возвращались они после молитвы в хоромы, на том же самом месте Владимирко вдруг резко остановился.
— Ах! Кто это меня ударил за плечом! — возопил он.
Но сзади никого не было.
Князь попытался обернуться, но шатнулся и полетел вниз со ступенек. Двое гридней и церковный служка подхватили морщившегося от боли галицкого владетеля.
— В горницу несите его! Вборзе, раззявы! — прогремел воевода Серослав.
Ярослав увидел отца уже лежащим на постели. Владимирко бредил, лицо его, мертвенно-бледное, было перекошено от боли. Он шептал что-то неразборчивое. Вокруг суетились лекари, в покое стоял запах целебных трав.
— Выйдите все! — распорядился Серослав.
Седые усы воеводы грозно топорщились. Казалось, вот сейчас выхватит он из ножен меч и будет защищать своего князя от невидимого врага.
Ярослав остался стоять в переходе. Тело его пробирала дрожь. В голове пронеслось:
«Вот оно, наказанье Божье! Порушил отец клятву, преступил через крест святой, и теперь...»
Стало ещё страшнее, чем там, наверху. Он истово перекрестился. Не было ничего — один холод, одно опустошение. Ледяными перстами княжич ухватился за косяк двери. Стоял, слыша, как стучит в груди от волнения сердце.
«Неужели... Столь скоро... И я останусь один... С этими боярами... Ну почему один? А Избигнев! А Семьюнко! А воевода Тудор Елукович!.. А дядька Гарбуз! Они все мне помогут... Но князь теперь, владетель Галича, глава всей Руси Червонной — я! А рядом Киев с этим зверем Изяславом! Но почему зверем?! С ним, верно, можно и поладить... Почему князь Святополк отпустил тогда Семьюнку?.. Время ли о том думать?!» — Ярослав одёрнул сам себя и тряхнул русой головой, словно норовя отогнать ненужные в такой час мысли.
— Да что с им?! Пустите меня! — расталкивая челядь, спешила к Владимирку вся размалёванная, в ярких одеждах Млава.
Ярослав заступил ей дорогу, злобно процедил в круглое румяное лицо:
— Поди отсюда, боярыня! Не до тебя! Бог покарал отца моего за порушение роты! Поняла?!
Млава было возмутилась, но вдруг вмиг притихла, будто испугавшись Ярослава и его слов. Зашмыгала носом, прослезилась, прянула прочь.
Воевода Серослав положил длань Ярославу на плечо.
— Кончается отец твой. За попом послали. А покуда тебя кличет.
...Владимирко метался но постели. Ярослав сел у изголовья, напряжённо вслушиваясь в едва различимый шёпот. Приподнявшись, он прильнул ухом к отцовым устам.
— Сын мой... Тебе... оставляю... Галичину... Береги её... Юрьевичей... не держись... Слабы они тут... на юге... С уграми... мир твори... С Изяслава... сынами... мирно живи... Я... я... неправо деял... Крест... крест с мощами... серебряный... малый... сила велика... Наказуем за се.
Князь бессильно откинул голову на подушки. Его окладистая пшеничная борода поднялась кверху.
Ярослав, чувствуя, как тело его дрожит от напряжения, повалился обратно на стул.
«А что бы мать моя молвила, если бы была жива? — подумал он вдруг. — Да я ведь её и не знал. Сестра старшая — та её помнит. Спрошу у неё... А что ответит? Господи, что опять за мысли?!»
Княжич ужасался сам себе. Он вдруг понял, почему эту зиму так тосковал, сидя в терему. Он ждал, подспудно ждал, что вот-вот освободится от отцовой опеки и расправит крылья. Но расправит ли?
Пришёл священник, князя готовились соборовать.
— Я пойду, отче, — прошептал Ярослав.
— Иди... Прощай, сын, — слова Владимирки прозвучали неожиданно громко.
Ярослав вздрогнул и поспешил назад в переход.
Долго стоял со свечой в руке, дрожал всем телом, озирался по сторонам. И не заметил княжич, как подошёл к нему снова воевода Серослав.
— Князь Владимирко Володаревич преставился! — объявил он громко.
Тут только, до конца осознав, что случилось, Ярослав не выдержал и разрыдался, уронив голову на плечо оказавшегося рядом старика Гарбуза. Дядька успокаивал, гладил его широкой ладонью по русым волосам, говорил:
— Тихо, тихо, княже... Ты не плачь... Всё в руце Божией... Князь ты отныне... Твоё время пришло, Ярославе...
Почти те же слова говорила ему ночью Ольга.
Не до сна было, сидел Ярослав на лавке в смежной с ложницей утлой каморе, писал грамоты.
Первым делом он снарядил гонца вслед боярину Петру, велел, чтобы киевский посол никуда не уезжал, а ждал его приказаний.
Затем, уняв, наконец, дрожь в пальцах, начертал две короткие грамотки сёстрам. Утром понесутся с горестной вестью скорые гонцы в Краков — к Анастасии и в Познань — к Евдоксии.
После подозвал Ярослав Ольгу, велел ей:
— Садись, отпиши отцу своему. Пускай ведает, что у нас тут створилось.
— Плохо я пишу, — призналась откровенно Ольга. — Ты бы сам лучше... того.
— Ладно. Уйди, — Ярослав недовольно скривился. — Тоже мне, княгиня галицкая! Стыд один! Ступай покуда. Оставь меня одного.
Шурша платьем, Ольга послушно скрылась в ложнице. Вскоре до ушей Ярослава донёсся её мерный храп.
Молодой князь просидел без сна до рассвета. Думал о будущем, тревожился, вспоминал давнее и недавнее прошлое. Страх прошёл, схлынул, но возникло внезапно ощущение, словно некая сила тяжкая навалилась ему на плечи и давила, яро, зло, не позволяя распрямиться.
После он понял: сила эта была — власть. Хоть и ждал, и готовил себя, а в одночасье пришла она к нему, пришла и требовала — мой ты, мой! Служи мне!
...Князь Владимирко Володаревич умер в возрасте 58 лет. После себя оставил он сильное, богатое пахотной землёй и людьми княжество, но находилось оно в те дни накануне новой большой войны.
ГЛАВА 18
Ярослав принимал Петра Бориславича в той же палате, где ещё вчера издевался над киевским посланником его отец.
Он сидел на отцовском троне в чёрном клобуке и в чёрной епанче, а бояре, намедни[148] столь оживлённые, теперь в таких же траурных одеяниях горестно безмолвствовали на лавках вдоль стен. Многие скорбно опускали взоры.
В палате висела напряжённая тягостная тишина. Пётр Бориславич, ничего не знавший ещё о смерти Владимирка, недоумённо озирался по сторонам. Княжеские слуги поставили ему столец и усадили напротив Ярослава.
Молодой князь хотел было начать речь, но тут подступил к его горлу тяжкий ком. Слёзы покатились из глаз.
Пётр, всё ещё ничего не понимающий, тихо осведомился у боярина Домажира:
— Что всё сие означает?
— Ночью сей Бог взял князя Владимирка Володаревича, — коротко отмолвил как всегда важный степенный Домажир.
— Странно. Когда отъезжал я, князь ваш жив был и здоров! — изумился Пётр.
Он не поверил в случившееся. Казалось ему, Владимирко хочет обмануть его и приготовил какую-то свою очередную хитрость.
— Что-то в плечо его ударило, как с вечерни возвращался. Стал он от того сильно изнемогать, и Бог взял его, — в двух словах объяснил Домажир.
Пётр цветастым платом вытер со лба проступивший пот, перекрестился и прошептал:
— Воля Божья да будет! Всем нам там быть.
Глядя на лица Ярослава и бояр, он наконец-то поверил, что всё услышанное им здесь — сущая правда.
Тем временем Ярослав понемногу пришёл в себя. Утерев слёзы, со скорбью глянул он на киевского посла и объявил ему:
— Мы тебя, боярин Пётр Бориславич, призвали вот зачем. Бог проявил свою волю, как Он хотел. Теперь поезжай к отцу моему Изяславу и от меня ему поклонись, и передай ему следующее:
«Бог отца моего взял, и теперь ты будешь мне вместо отца. Ты сам знаешь, что было меж тобою и отцом моим, но то всё Бог уже рассудил. Он отца моего взял, а меня на его место поставил. Теперь, отец, кланяюсь тебе. Прими меня как сына своего Мстислава. Пусть ездит Мстислав подле твоего стремени по одной стороне от тебя, а я по другой стороне буду ездить со всеми своими полками».
Умолк князь, снова слёзы полились у него из глаз. Глядя на него, расчувствовался и обронил слезу и Пётр.
Тягостная тишина вновь воцарилась в палате. Потрескивали свечи. Из кадильниц, расставленных в нескольких местах на полу, курился фимиам.
Ярослав, удержав рыдания, велел выдать Петру свежих коней, корм и подводы. Посла отправляли по чести, а о городках погорынских речи покуда не вели — не до того было.
В притворе домовой церкви святого Спаса в морморяной[149] гробнице покоилось тело Владимирка. Возле гроба поместили, по старому славянскому обычаю, копьё и меч.
Скорбь и горе читались на лицах приближённых галицкого владетеля, тех, кто получал от него милости. Пётр Бориславич некоторое время постоял перед гробом, в полутёмном притворе, думая о том, сколь же велика Сила Божья.
После он напишет в своей летописи:
«Нужно стремиться к тому, чтобы с добрыми делами и с честью кончить жизнь. Особенно князьям следует быть осмотрительными в своих делах державных, ибо, помимо того, что сами князья могут ошибаться, как и прочие люди, но положение их подаёт дурной пример их подданным. Губят князья много невинных людей и разоряют, забывая, что они должны держать ответ перед Богом».
Уехал боярин Пётр, и вслед ему кружила зимняя пурга, заметая снегом широкий шлях.
Выл за окнами бешеный ветер. Страшно становилось Ярославу, он сидел в палате один, отпустив бояр, и думал. Отцовым путём идти далее не хотелось. Укреплять Русь Червонную, добиваться самостоятельности, отстаивать независимость своего княжества — на это он готов был и жизнь положить, но отцовы методы, его жестокость и алчность — такого молодой Ярослав не принимал и принять никак не мог.
После он поймёт, что надо быть князю и хитрым, и коварным, а где-то — и жестоким, что иначе нельзя. Но покуда душа его не принимала ничего этого, было тяжело, невозможно, дико мыслить сейчас о земных заботах. Чувство было такое, что соприкоснулся он с вечностью и узрел, сколь же малы все они, люди, сколь ничтожны дела их по сравнению с Богом, с Божьей Силой и Волей.
Снова текли слёзы, снова тело содрогалось от рыданий. Ярослав прошёл в свой покой, упал ниц перед иконой Богородицы, зашептал молитву.
И, о чудо, слёзы высохли как будто в одно мгновение, дрожь в членах исчезла. И когда встал Ярослав с колен, уже не юноша робкий, а державный муж взирал на лик Богородицы, и думалось уже как-то проще, без отчаяния и надрыва душевного:
«Да, так должно быть. Таков мой крест. К сему я готовился, сего ждал. Вот и настал час».
ГЛАВА 19
Две сестры Ярослава, Анастасия и Евдоксия, обе в долгих чёрных одеяниях, сидели на лавке в братнем покое. Богородица, словно мать родная, простирала над ними длани. Ярослав говорил сёстрам ласковые слова о любви, о том, что их отец, несмотря на многие беды, сохранил в целости обширное Галицкое княжество и что он будет впредь его укреплять и сёстрам своим всегда и во всех делах постарается стать опорой.
Слова звучали фальшиво. Евдоксия всё время плакала и вытирала своё миниатюрное лицо платочком.
«Совсем как девочка, — подумал про неё Ярослав. — Не изменилась нисколько за без малого три лета».
Евдоксия была младше Ярослава на год, вскоре после её рождения скончалась их мать София, дочь Коломана Венгерского. Ни Ярослав, ни Евдоксия матери не помнили.
Молодой князь с тихим горестным вздохом опустился на скамью напротив сестёр. Заполонили душу его воспоминания, словно наяву вставали перед взором незабываемые картины детства и отрочества.
...Князь Владимирко в 1124 году от Рождества Христова получил в наследство от своего отца Свиноград, тогда как младший брат его, Ростислав Володаревич, сел на стол в Перемышле. Недолго жили братья в мире, почти сразу же по смерти отца вспыхнула между ними распря. На стороне Ростислава выступили два брата Васильковича, Владимирко же прибег к помощи угров. В ссору владетелей Западной Руси поспешил вмешаться киевский князь Мстислав, сын Мономаха, грозным окриком из стольного велев, чтобы княжили Владимирко и Ростислав в городах, которые завещал им отец. Но братья не желали мириться, причём зачинщиком ссоры стал Владимирко. Тогда Мстислав послал на Червонную Русь оружные рати.
Струхнув, князь Владимирко бежал в Угры. Вместе с ним отправились туда ближние его советники, а также беременная жена и дочь Анастасия. В венгерской столице Эстергоме[150] княгиня София родила сына. Так появился на свет он, Ярослав. Мир на Червонной Руси вскоре был восстановлен, княжеская семья вернулась в Свиноград, а пару лет спустя, после неожиданной кончины Ростислава, Владимирко овладел и Перемышлем.
Первые детские воспоминания Ярослава связаны были с Перемышлем, смутно помнил он, как мамка — полногрудая страдающая одышкой венгерка, таскала его на пристань на берегу Сана, где тянулись долгой чередой соляные склады. Здесь было шумно и людно, отовсюду раздавалась многоязыкая речь. Испугавшись огромного горбатого верблюда, маленький княжич спрятался в складках мамкиной юбки и тихо плакал, размазывая по щекам слёзы.
Запомнил он также и постриги свои, и подстягу — обряд посвящения в воины, когда дядька, боярин Гарбуз, усадил его на коня, а отец, улыбающийся, наряженный в саженный самоцветами драгоценный кафтан, в горлатной шапке[151], провёз его вокруг двора. Маленький Ярослав от страха закрывал глаза.
Учиться грамоте его посадили в семь лет вместе с молодшей сестрой. Занимались они вроде бы прилежно, хотя непоседливая сестра без конца дразнила его, показывала язык, колола булавками. Решив отомстить ей, Ярослав выкрал у учителя-монаха Никодима лист дорогого пергамента, назначенного не для уроков, но для дел более важных — переписки книг, начертания грамот, ведения летописей, нарисовал на нём уродливую рожицу с острыми зубами и косичкой, схожей с крысиным хвостом, и подписал: «Се — Евдоксия». Девочка разревелась от обиды и пожаловалась отцу. В тот день Ярослава впервые подвергли порке, причём порол его сам Владимирко, а вслед за тем заставили просить у сестры прощения.
Анастасия была старше его на пять лет, и когда Ярослав с Евдоксией ещё только начали постигать грамоту, она уже числилась в невестах и ходила в красивых одеждах. Всегда надменная, высоко держащая голову, старшая сестра едва замечала их, а заметив, пренебрежительно кривила губки — что, мол, взять с вас? Дети всего лишь.
Евдоксия и Ярослав были друг на дружку похожи, оба русоволосые, кареглазые, с прямыми тонкими славянскими носами. Глаза, как говорили, достались им от матери, а носы и волосы — от отца. Старшая сестра совсем не походила на них — это была синеглазая курносенькая блондинка, к четырнадцати годам сильно вымахавшая в росте, с уже выпирающими из-под нижней сорочки округлостями грудей. Меж кумушками в тереме ходили слухи, что «сблодила покойная княгиня» с одним тиуном — чудином. Никого ибо в роду ни у Владимирки, ни у королей венгерских такового не было николи — белокурого да курносого. Тем не менее отец сильнее младших чад Анастасию любил и баловал; всякий раз, возвращаясь из похода, щедрой рукой дарил ей то паволоки, то сукно на сряду[152]. Однажды привёз из болгар диковинки — красные кожаные сандалии, серский[153] шёлк на платье и шёлковый же мафорий. Платье княжне пошили в короткий срок, и хаживала теперь по терему перемышльскому юная девица, ставшая ещё более надменной и напыщенной, стараясь как можно чаще напялить на себя весь этот пурпур. Выступала навой, при виде Ярослава, которого отец воспитывал в строгости и велел носить только самую простую одежду — посконную[154] рубаху да расширенные у колен порты, морщилась с нескрываемым презрением. Иной раз ткнёт в бок или в живот, засмеётся, глядя на его недовольное лицо, скажет: «Яко смерд[155], ходишь. Словно и не сын княжой вовсе».
«Расфуфыренная фуфырка» — так в шутку прозвали Анастасию при дворе Владимирки, так порой и отец её называл, привозя любимой дочери очередной дар.
Единожды в летнюю пору, в жару решил отрок Ярослав искупаться в Сане. Река узенькой змейкой извивалась меж холмов, бурлила на перекатах, и княжич старался не уплывать далеко, держаться близ берега. Выйдя из воды, невзначай столкнулся Ярослав с незнакомым мальчиком, явно не из семьи княжеской челяди или Владимирковых бояр.
— Ты кто?! — вопросительно уставились на княжича лукавые зелёные глаза. Волосы у мальчика были ярко-рыжего цвета.
— Я — Ярослав.
— Выходит, ты сын княжеский. А я — Семьюнко. Отец мой солью промышляет, возит из Коломыи.
— Вот как!
— Послушай, Ярославе. Давай с тобою дружить! — предложил рыжий.
Так началась дружба Ярослава с сыном купца Изденя. Князь Владимирко вначале этого не одобрял. Как-то раз Ярослав с Семьюнком украли на пристани лодку и переплыли Сан. Вся дворня несколько часов безуспешно разыскивала пропавшего княжича. Отроки же, переправившись на левый берег реки, лодку бросили, и её отнесло течением. Обратно в город они, вдоволь наигравшиеся, вернулись с помощью одного смерда, проведшего их через брод.
Оба мальца были нещадно пороты, досталось и старику челядину Стефану, что не уследил за княжичем. Владимирко при всей семье устроил княжичу и его дружку разнос, орал что было мочи, стучал по столу кулаком.
— Один ты у меня, один! — кричал князь. — На тя надёжа единая! Я тебе Русь Червонную в наследство оставить хочу, а ты! Заместо того, чтоб науку постигать, шляешься невесть где! А ежели б люди какие лихие?! Али лодка б посреди Сана перевернулась?!
На Семьюнку, видя, что прикипел к нему Ярослав, махнул князь рукой. Велел отдать его в учение вместе со своими и боярскими детьми. Сиживали отроки за буковыми столами, выводили буквицы, затем изучали более сложные предметы. Егоза Евдоксия оказалась к учению способной, с годами стала старательней и преуспевала паче прочих, Ярослав учился чуть похуже, Семьюнко, хоть и быстро всё ухватывал, да неусидчив был вельми, так и норовил куда сбежать с уроков. Иван же, сын боярина Домажира, читал и писал с превеликим трудом. Науки Ярославу давались, а вот в ратном деле получалось у него мало что. То с коня упадёт, вызвав гнев ярый родителя, то стрела у него с лука сорвётся. Чему обучился лучше — так это владеть саблей. Рубиться они с Семьюнком умели здорово, благо, учитель у них оказался добрый — дядька Гарбуз.
Как один раз упал с коня да едва не расшибся, помнил Ярослав до сей поры. Сидел сконфуженный, в ответ на отцовую ругань говорил одно и то же:
— Я ж не виноват. Конюхи твои тарпана[156] какого-то дикого подсунули. Он и понёс, ирод!
Угрюмо исподлобья взирал Ярослав на отца и сестёр. Анастасия, не выдержав, прыснула со смеху, смущённо прикрыла рот ладонью, в глазах Евдоксии тоже читалась насмешка. Отец злился, ходил взад-вперёд по горнице, ругался. Родителя отрок Ярослав сильно боялся. Крутым правом отличался князь Владимирко, в том числе и к сыну своему был строг. Однако строгость эта всё-таки помогла, научился княжич управляться с резвыми скакунами.
Шестнадцать лет стукнуло Ярославу, когда перебралась их семья в Галич. В этом городе умер один из двухродных братьев Владимирки — Игорь Василькович. Сыновей его князь Владимирко выгнал из пределов Червонной Руси, и те, все трое, вскоре сложили головы во время очередных княжеских междоусобиц.
В ту пору Галич был невелик, чуть поболее какого-нибудь Бужска или Белза, но после того, как сделал его Владимирко столицей своего обширного княжества, город стал быстро расти и хорошеть.
Затем случилась война с Киевом, была сеча под Ушицей с дружиной Изяслава Давидовича и союзными ему половцами, неожиданно яростная и кровавая. В рубке сей у стен крепости и получил Ярослав свои раны. После той битвы отец в походы его не брал, берёг сына, как зеницу ока, говорил, повторял из раза в раз:
— Один ты у меня. Не хочу без наследника остаться. Некому мне, окромя тебя, княжество Галицкое отдать. Пойдёт прахом всё мною собранное...
Ярослав отвлёкся от воспоминаний и вслушался в шепоток сестёр.
— У нас тоже воюют всё время. Брат моего Болеслава, Владислав, из Силезии ратью грозит. Говорят, с императором германским сговаривается, — говорила Анастасия. — Хочет Краков себе воротить. Молодшие братья его изгнали, вот и злобится.
Слова сестры заставили Ярослава вспомнить о хрисовуле[157] базилевса Мануила и о союзе «двух империй».
— А обо мне отец словно и забыл вовсе. Выдал замуж, и выбросил из жизни своей, — пожаловалась на покойного родителя Евдоксия, капризно, как в детские лета, надув губки.
— О покойном худые слова не стоит сейчас говорить. — строго сказал ей Ярослав и, смягчившись, добавил: — Отныне, сестрица, ты в моём доме всегда гостья желанная. Знай это. Думаю, схлынут в скором времени рати. Мирно жить будем.
— Кто ведает. Вон у немцев император Конрад недавно умер. На престоле сейчас племянник его, Фридрих, — напомнила Евдоксия. — И неизвестно, как он себя поведёт. Знаю только, что богемские[158] князья поклялись ему в верности.
— А я вот тяжела ныне, — огладила Анастасия своё округлившееся чрево. — Второго робёнка сожидаю.
Ярослав в мыслях порадовался за сестёр.
Кажется, обе устроены неплохо. Мужья их любят. Вот у Анастасии сын малый растёт, Болеслав. Даст Господь, ещё ребёнок будет.
— А отец, как овдовел, так боле и не оженился, — вздохнул он. — С разными путался, и с замужними, и с дочерьми боярскими. Говорил, не хочу, чтоб окромя тебя, Ярославе, сыны были. Не хочу земли разделенья.
— Млава ить у его была, — удивлённо приподняла брови Евдоксия.
— Млава, — подтвердил Ярослав. — Ныне замужняя она боярыня.
— Ведаю. За Ляхом, кой сосватал меня за Мешку.
— За ним. Троих чад имеет.
В покой тихо вплыла двухродная сестра Ярослава, Елена Ростиславна. Елене хоть и стукнуло уже тридцать лет, но была она всё ещё не замужем. Князь Владимирко, помня злые дела её родного братца, Ивана Берладника, не особо жаловал племянницу и держал её в одном из галицких монастырей.
Ярослав, посмотрев на длинное рябое лицо Елены с мясистым крупным носом, на её сгорбленную фигуру, вдруг почувствовал к ней жалость.
«Не виновата она, что брат такой», — пронеслось в голове.
Вслух он объявил ей:
— Отныне из монастыря можешь уезжать. Не монахиня, чай. Жениха тебе, Елена, сыщем. А пока в доме у меня поживёшь. Не чужой ты мне человек.
— Спаси тебя Бог, братец, — Елена, расчувствовавшись, всплакнула. — Да токмо куды мне, с этакой рожей, замуж. Никто и не возьмёт. А коли возьмёт, дак выгонит тотчас. Вон Анастасия и Евдоксия — экие красавицы!
— Никто тя обидеть не посмеет, сестрица, — успокоил её брат. — А о том, что я тебе сказал, подумай. Перебирайся ко мне в терем.
Елена снова рассыпалась в благодарностях, говорила, что не позабудет его доброту и что поставит свечку за его здравие.
После все они прошли в горницу. Собирались ближние бояре, княжьи милостники, отроки готовились прислуживать за столом. Явилась в сопровождении свиты из знатных галицких боярынь княгиня Ольга. Как обычно, громогласная, она распоряжалась за столом, покрикивала на слуг, указывала, куда что нести. Села рядом с Ярославом, самодовольная, гордая. Чуяла свою власть над всеми окружающими её людьми. Ещё бы — дочь самого Долгорукого, и кабы не её родитель, не было бы Галицкого княжества вовсе, съели бы его алчные соседи — Изяслав, ляхи, угры. Так полагала бывшая суздальская княжна, и не могли её разубедить в этом ни частые неудачи отца в борьбе за Киев, ни то, что далёк отсюда, от Галича сейчас князь Юрий и что другие совершенно у него цели и намерения. Что ей эти Ярославовы сёстры, жёны мелких князьков! Что ей бояре галицкие! Да у отца её земли во сто крат более, чем у всех их, вместе взятых! Что ей сам Ярослав — мальчишка вчерашний! Если не захочет ходить в воле её отца — полетит со стола, а Ольга вдругорядь выйдет замуж, за какого-нибудь более достойного государя.
Так и сидела, принимала с важностью пищу, слушала добрые слова о покойном Владимирке. Смахнула с глаза слезу, всплакнула — так было положено, затем снова приняла вид важной надутой гусыни. Евдоксия поглядывала на неё с заметным презрением, даже во взоре кроткой Елены читалось осуждение. Но не обращала на такие мелочи внимания гордая своим положением княгиня, не думала, как могут в будущем повредить ей эти как будто невзначай брошенные взгляды.
Опустели тарели с кутьёй, осушены были чарки с крепким мёдом. Закончился поминальный пир. Наутро сёстры Ярослава отправлялись в обратную дорогу, к мужьям и детям. Уже перед самым отъездом, когда стояли они втроём на гульбище и смотрели, как тихо сыпались на землю крупные хлопья снега, Евдоксия вдруг, спохватившись, сказала:
— Забыла совсем. В прошлое лето, перед тем как рать была у батюшки с уграми и с Изяславом, приезжал в Познань к нам один боярин волынский, Дорогил. Мстиславу, сыну Изяславову, он дядькой приходится. Вначале в Сандомире и Л гоблине, у князя Генрика он побывал, после к моему Мешку заявился. Уговаривал польских князей воевать супротив батюшки моего. Возмутилась я, накричала тогда на Мешку, говорила, разведусь, мол, с тобой, ежели на Перемышль выступишь. Удалось мне убедить супруга своего от союза с Изяславом и сыном его отказаться. И Генрика он такожде от рати отговорил. Но ты, брате, ведай, что и в другой раз Изяслав в Польшу мужа свово пошлёт супротив тебя.
— А ты у меня умница, сестрица, — ласково улыбнулся Ярослав. — Вот что. Пошлю я в Познань своего человека. Пусть постоянно при дворе Мешки обретается. И ты с ним связь держи. Ежели что...
Князь не договорил. Умные сёстры всё поймут и упредят его.
...Вечером князь посетил опального боярина Молибога. После смерти Владимирки хитрый лис почуял ветер перемен и воротился из своего горного гнезда в Галич. Чутьё его не обмануло. Рад был старик, что после долгих лет забвения сам князь пришёл к нему, растрогался, обронил слезу. Сидел перед Ярославом, худой, иссохший, слушал со вниманием, ликуя в душе.
— Сын у тебя взрослый, Филипп. Хочу, чтоб послужил он мне. Твоё же место отныне — в думе моей.
Теребя жёсткую белую с желтизной бороду длинными костлявыми перстами, Молибог позвал сына. Статный плечистый молодец поклонился Ярославу в пояс.
— Дело у меня к тебе, Филипп. Посылаю тебя в Польшу, в Познань, ко двору князя Мешко, к сестре моей Евдоксии. Побывай перед тем в Сандомире, православных людей наших посети — купцов, ремественников. И обо всём, что польские князи замышляют, что сестра моя тебе скажет, мне передавай. Когда грамотку черкнёшь, когда сам приедешь. Особо если об Изяславе и его людях что прознаешь.
— Понял, князь! — супя смоляные брови, отмолвил молодой красавец. — Заутре же на конь и в дорогу. Верно те службу справлю, не сумлевайся.
Как только Филипп вышел, старый Молибог стал жаловаться на неблагодарность, на то, что покойный Владимирко отодвинул его от себя, отобрал волости под Саноком, сослал.
— Во всех бедах моих боярин Домажир виной. Подольстился ко князю, нашептал в уши, — говорил он.
— Разберёмся и с Домажиром. Вот только с Киевом мир учиним. — Ярослав вздохнул. — Ну, прощевай, боярин. Думаю, встреча сия наша — не последняя.
Поутру рано выехали из Немецких ворот Галича несколько вершников, рванули намётом по дороге на Люблин. Вослед им долго кружили снежные вихри.
ГЛАВА 20
Боярин Нестор Бориславич с грамотой киевского князя прибыл в Галич спустя несколько дней. Как ранее старший брат Пётр, стоял он перед князем и боярами в той же палате, читал, разворачивая, свиток с золотой Изяславовой печатью:
«Что отца твоего Бог судил, то оставляю на Его волю святую. Что ты отцом меня нарицаешь и обещаешь быть в моей воле, оное нам, а тем паче тебе, весьма полезно, и я тебе мою любовь точно так же обещаю и о том прилежать буду, чтоб тебя никто не обидел. А кроме того, помогать тебе против твоих неприятелей хочу, чтобы твоя область расширялась и множилась. Только ты возврати мне города мои, которые отец твой неправо взял и, несмотря на клятвенное обещание, удержал. Ты же ведаешь и видишь, что Бог всякие неправды наказывает, и не захочешь тому греху участником, а пролитию крови христианской причиной быть».
Так писал киевский князь Изяслав. Слова Ярославовы принимал, но городки требовал и грозил ратью.
— Подумать мы должны, — выслушав посланца, объявил Ярослав и отпустил Нестора.
Надолго запомнил молодой князь то свещание в палате.
— Мыслю я, бояре, мир творить надо. Отдать придётся города Изяславу, — предложил Ярослав.
Что тут началось! Один за другим повскакивали ближние Владимирковы мужи с лавок.
— Да как же се! Да ты что, княже! — заорал яростно Домажир. — Да сии городки — наши! Отец твой сколь пота за них пролил, а ты отдать хочешь! Не бывать тому!
— Не бывать! — вторил ему пепельноволосый Щепан.
— Укажем киевскому князю место его! — кричал Лях. — Отгоним его ратников к Киеву, пущай к нам боле не суётся!
— Ко князю Юрью послов снарядим!
— С ляхами уговоримся!
— Ромейский базилевс болгар и сербов на подмогу нам пришлёт!
— Нечего нам бояться Изяслава!
Почти все бояре решительно воспротивились отдаче погорынских городов и Бужска.
Кох’да мало-помалу крики в палате утихли, за всех высказался воевода Серослав.
— Не хотим мы, бояре галицкие, князю своему урона нанести. Но будем его, не щадя живота[159] своего, защищать, покуда Бог нам позволит. Но к рати с Изяславом подготовиться надо. Потому, княже, вели тотчас посла киевского звать. Ответим ему, что съехаться надобно и о городках тех перетолковать. Тогда, мол, и договор о них учиним.
Дружно поддержали Серослава бояре. Ярослав, чувствуя своё бессилие перед этими крикунами, своё безвластие, свою малость, прикусил уста. Хотелось убежать из этой палаты, пасть ниц перед иконой Богородицы, плакать, умолять. С трудом уняв овладевшее им отчаяние, молодой князь спокойно заметил Серославу:
— Да ведь, воевода, не дурак Изяслав. Уразумеет, что мы токмо время тянем.
— Ну и пущай! Рать, дак рать! — завопил, потрясая кулаком, Домажир.
Снова шум прокатился по палате, снова враз закричали, замахали руками бояре. Пришлось Ярославу подчиниться их воле.
После он вызвал к себе Избигнева, они долго сидели в утлом покое, где обычно обмысливал тайные дела свои покойный князь Владимирко. Князь говорил:
— Обо всём, что на свещаньи было, приятелю своему Нестору расскажи. Ничего от него не утаивай. Пусть Изяслав знает, что я рати не хочу. Пусть поймёт такожде, кто его враги истинные.
— Что же, княже, выходит, война опять? — Избигнев горестно разводил руками.
— Получается, так. Мало у меня покуда власти в Галиче, не перекричать старых отцовых ближников. Вот ежели бы Изяслав в этом помог.
— Не всё здесь столь просто, князь. Кое-что я проведал. Домажир и его сын сносились с братом Изяславовым, Святополком. Обещали ему галицкий стол, если оставят Ивана Домажирича посадником в Шумске и ещё другие волости на Погорине дадут. Вот потому князь Святополк Семьюнку и отпустил. Не захотел лишний раз с галичанами ссориться.
— Вот как! — Ярослав вскочил. — Что ж, тотчас велю Домажира схватить и под стражу!
— Не надо, князь. Не горячись покуда. Мы с Семьюнком следить за ими людей направили. Думаем, не один Домажир в заговоре. Как всё выясним, тогда их...
— Ладно, Избигнев. А покуда как же нам быти?
— Ежели рать грянет, княже, мы все за тебя станем. Одно только: в бой сам лучше не ходи. Пускай бояре с Изяславом бьются, ты в стороне стой. А тамо поглядим.
Поздним вечером Ярослав отпустил Избигнева. Только теперь он смог пройти к себе в ложницу, упасть ниц перед Богородицей и страстной мольбой облегчить свои переживания.
И он поклялся:
— Ежели жив буду, ежели охранишь ты меня, Матерь, от меча вражьего, от стрелы шальной, от кинжала предательского, храм на Подоле[160] возведу в честь твою. И станет сей храм главным во всей Руси Червонной.
ГЛАВА 21
Был день Фёдоровой седмицы, 3 марта. Таяли снега, реки наполнялись мутными водами, пригревало ласковое вешнее солнце. И грянула война, снова шли друг супротив друга рати русские, шли, закованные в кольчуги, в тяжелые дощатые и чешуйчатые панцири дружины, шли пешцы с копьями и высокими, в рост человечий, щитами, шли лучники, шли союзные болгары и одетая кто во что придётся вольница берладников. Всех, кого можно, собрали галицкие воеводы на бой.
Изяслав тем часом занял Тихомль, перешёл через реку Серет и двинулся к Теребовле. Здесь, возле её крепких дубовых стен, па холмах, недавно только очистившихся от снега, и в низинах, где ещё кое-где виднелись чёрно-белые прожилки и потрескивал под ногами хрупкий лёд, и суждено было разыграться новой кровавой сече.
С утра пал туман, и хотя лазутчики докладывали Ярославу, что противник близко, не видать было ничего.
Воеводы Серослав и Тудор Елукович на левом крыле поставили болгар, возглавляемых воеводой Страшимиром, на правом — берладников, над которыми началовал некий Нечай, в середине же и в челе войска стали галицкие бояре со своими и княжескими дружинниками. Вперёд, как обычно, послали стрельцов с луками, за ними плотными рядами расположились пешцы. Уже когда выстроилась рать и изготовилась к бою, туман вдруг спал, рассеялся, да так неожиданно быстро, словно сам Господь разогнал его мановением десницы Своей.
Напротив галичан, грозно сверкая булатом, под разноцветными хоругвями стояла тьмочисленная вражья рать. Куда ни бросал Ярослав встревоженный взор, всюду видел он острые копья, блистающие на солнце шишаки, щиты и кольчуги.
— Супротив болгар дружины Святополка и Владимира Андреича Дорогобужского[161], — разъяснил князю подъехавший на буланой кобыле Семьюнко, облачённый в кольчатую бронь и в плосковерхом аварском шеломе[162]. — А супротив нашего чела сам Изяслав с киянами и чёрными клобуками. Видишь, шапки чёрные бараньи, концы набок свешиваются. То и есь клобуки. Комонные все. Говорят, рубятся здорово.
— А против берляди нашей Мстислав стал, — добавил бывший тут же боярин Лях. — Вон, глядите. Прапор переяславский на ветру развевается. И с им рядом черниговцы. Лазутчика ихнего намедни мы поймали. Сказал, Изяслав Давидович полк свой киянам в подмогу прислал.
— Изяслав Давидович — известный разбойник. То он Ушицу жёг с половцами вместях, — заметил Ярослав. — Вот, память на всю жизнь, — указал он на белый сабельный шрам у себя под глазом. — Лихая была рубка.
Воеводы и бояре собрались в веже на короткое совещание. Сидели, не снимая доспехов, на кошмах. Первым слово взял Тудор Елукович.
— Каназ! — обратился он к Ярославу. — Молод ты ещё.
Видя готовое сорваться с уст Ярослава возражение, он повысил голос и произнёс заранее заготовленную речь:
— Поезжай прочь... Стань наверху, на месте удобном... И смотри на битву. Будешь нам, как отец... Твой отец любил нас и жаловал. И мы тебя любить и жаловать будем...
— Ты у нас один, — добавил дядька Гарбуз, — если тебе, упаси Господь, приключится что вредное, останемся мы, стойно овцы без пастыря. Нас же хоть и тысячу побьют, власть твоя от того не ослабеет, войско же ты новое собрать сможешь. Потому возьми дворовых своих и ближников и стань у града. А мы будем с Изяславом биться.
— И кто из нас жив останется, тот станет тебе впредь верно служить, — сказал боярин Щепан.
— Ну что ж, пусть так, — после некоторого раздумья согласился Ярослав.
Уже когда выходили из вежи, услыхал он за спиной злобный шепоток Домажира:
— Где ж то видано, чтоб князь позади рати хоронился!
Сразу вспомнились Ярославу давешние слова Избигнева.
...Он отъехал на три перестрела в сторону городских стен и расположился на высоком холме, откуда, не слезая со статного вороного коня с длинной густой гривой, вместе с Избигневом и Семьюнком стал наблюдать за ходом начинающегося сражения.
Вот стрелы понеслись, вот пешие ратники с топорами ринулись вперёд, вот дружина Мстиславова ударила в правое крыло. Берладники выстояли, выдержали натиск, не отступили.
— Добро они бьются, — крикнул Ярославу в ухо Семьюнко. — Нечай не зря хвалился. Гляди, гляди, гонят!
Видно было, как переяславцы, а за ними черниговцы ринули вспять. Но вот воин в золочёных доспехах, видно, князь Мстислав, остановил их. Он что-то кричал, лицо его, обрамлённое короткой бородой, было искажено от ярости, он потрясал мечом, зажатым в боевой рукавице. Остановились переяславцы, сомкнули ряды, с новой силой закипела сеча.
В центре напирали кияне и чёрные клобуки. Свист и улюлюканье неслись из глоток степняков, сабли в их руках так и сверкали.
— Князь! Болгары Святополка гонят! — крикнул подскакавший отрок. — Здорово мы им врезали! Бегут, наложили в порты!
— Зато Изяслав в челе наседает! Гляди! — указал ему Избигнев.
Всё перед глазами Ярослава мешалось в каком-то багряносеребристом клубке. Непонятно было, чья перемога. Одно понимал он точно: правое крыло его рати опрокинуло-таки переяславцев с черниговцами, и Мстислав, такой всегда жадный до битв, такой искусный стратилат[163], в беспорядке отступает в сторону Серета.
«Вот тебе и берладники! — подумал Ярослав. — Не зря сказывали, будто без их помощи князю Юрью ни за что тогда, три лета назад, Киевом не овладеть было».
Мысли князя прервала неожиданно пущенная откуда-то слева стрела. Пропела она совсем рядом с грудью и пробила малиновое корзно, надетое поверх кольчуги.
Семьюнко рванул в галоп вослед удаляющемуся всаднику. За ним бросились двое отроков. Нападавший мчал что было сил, ударял боднями коня, отстреливался. Но вот один из отроков попал в скакуна беглеца. Конь дико заржал, взбрыкнул и, резко выбросив передние ноги, опрокинул седока. Семьюнко прыгнул на него сверху, ударил плашмя саблей по шишаку, оглушая.
Один из отроков ножом разрезал завязки и сорвал с его лица булатную личину. Совсем молодое лицо предстало взору Семьюнки и подскакавшего следом Ярослава.
— Кто ты?! Почто в меня стрелял? — спросил князь.
— Я... Меня... послали... велели убить... тебя.
— Кто велел?
— Князь Святополк Мстиславич.
— Это правда, ты не врёшь? — спросил, усмехаясь, Семьюнко. — Вот он каков, благодетель-то мой и защитник.
— Правда, не вру я. Мать у меня... в холопки её забрали... Отец купу взял... у князя... А отдать не возмог... Помер... Ну, нас всех в холопы и забрали... Потом тиун княжий приехал... Повёз ко князю... А князь и велел... Говорил, если содею, как нать... Вольную даст... Мать и всю семью... отпустит.
— Ах ты, дрянь! — Семьюнко замахнулся на полоняника плетью.
— Постой! — перехватил его руку своей цепкой дланью с долгими перстами Ярослав. — Что ещё знаешь?
— Нощью один боярин ко князю Святополку приходил. Сговаривались Галич ему отдать.
— Что за боярин?
— Я не ведаю.
— А увидишь — узнаешь?
— Да... Мыслю, смогу...
— Ну вот, — обратился Ярослав к Семьюнке и гридням. — Повязать его, и в обоз. А боярина того покажешь, отпущу.
— Княже! — воскликнул Семьюнко. — Убить он тя хотел!
— Довольно! Я сказал! — прикрикнул на него Ярослав.
Позже, когда отъехали они обратно на холм, он уже спокойно объяснил своему другу:
— Ты пойми, холоп сей — тупое орудие. Проведать надобно, кто за ним стоит. Если Домажир, то, верно, не он один.
— Может, Молибог?
— Нет, не думаю. Молибога я умилостивил, — видя недоумённое лицо Семьюнки, Ярослав невольно улыбнулся и добавил: — Сынка его в Польшу пристроил, на службу.
...Яростная сеча шла до вечерних сумерек. Так и неясно было, кто же победил в этой схватке, такой ожесточённой и кровопролитной, каких Галицкая Русь ещё не ведала.
С наступлением темноты воевода Тудор Елукович благоразумно отвёл остатки галицкой рати и болгар к стенам Теребовли. Ушли восвояси и берладники во главе с Нечаем. В жаркой сече не посрамила славы и чести своей удалая дунайская вольница. На месте битвы остался один Изяслав с киевлянами, союзники его и прочие князья бежали с поля битвы.
Простых пленных галицких ратников Изяслав велел перебить. Он убоялся остаться на поле брани, остерегаясь ночного нападения, и, равнодушно посмотрев, как рубят наотмашь, со злостью несчастных полоняников его закалённые в сечах дружинники, приказал отступать по дороге на Киев. Там ждал его сгорающий от стыда и ярости сын Мстислав. Впервые бежал молодой переяславский князь с поля битвы. Отец утешал его, говорил, что разберётся с этими галичанами вдругорядь.
Двадцать знатных галицких бояр увели с собой в Киев отец и сын. За них родичи заплатят немалый выкуп. Среди пленённых оказались сын Домажира Иван и боярин Лях.
Сам Домажир пал на бранном поле. В сутолоке, когда теснили Изяславовы рати галичан, поразила его в глаз калёная стрела. Погиб, уже в самом конце яростной схватки, и воевода Серослав. Налетели на него сразу трое чёрных клобуков, подняли на копья. Многие другие бояре, те, что так шумели на недавнем совете, также обрели на бранном поле у села со зловещим названием Останково свой последний земной приют.
Над Галичем плыл печальный перезвон. Убитых было столько, что телег не хватило всех сразу привезти. Горестный стон стоял над Червонной Русью.
А в хоромах, занимаемых полюбовницей покойного Владимирка боярыней Млавой, как дитя, рыдал на груди у хозяйки молодой Коснятин Серославич.
— Он, гад, сам сзади встал, испужался! А батюшку мово в самое пекло послал! Тож, князь! Князёк он, зайчишко трусливый, а не князь никакой вовсе! — размазывая по щекам слёзы, восклицал сын убитого воеводы. — Гад! Гад! Ненавижу! Отомщу, отомщу!
— Да успокойся ты, Коснятинушка, — медовым ласковым голосом гладила его по кудрявым волосам Млава. — Не одному тебе лихонько пришлось. Ты с плеча-то не руби, милый мой. Ты исподволь, не сразу. Мне вон Ярославка тож навредил, из терема княжого выгнал. А не помнит, как сына егового я своею грудью выкормила.
— Я... Я его убью! — вскричал, вырвавшись из её объятий, Коснятин.
— Глуп еси, младень! — фыркнула Млава. — Ты не так сделай. Ты, — Она поставила перед боярчонком чару с медовым квасом, — испей-ка покуда кваску. И охолонь. С ножом на князя бросаться — пустое. Ты в доверье к ему войди, а тамо... Тамо и видно будет.
Коснятин глотал слёзы, дрожащими устами пил квас, кивал головой, успокаивался понемногу. Хитрая Млава своё дело знала хорошо.
ГЛАВА 22
Скрывая в душе изумление, с наигранным равнодушием смотрел Ярослав на маленького колченогого человечка в коричневой свите, перетянутой на поясе простой верёвкой, тощего (в чём и душа держится), которого привёл к нему во Владимирков покой оружный гридень.
— Вот, проемся к тебе, княже. Все пороги поистёр, тя дожидаючись, — доложил страж, подталкивая незнакомца тупым концом копья.
— Оставь нас, Микола, — приказал Ярослав.
Человечек распростёрся ниц на дощатом полу и заговорил неожиданно тонким голоском по-гречески:
— О, светлый архонт[164]! Не могу выразить словами, как рад я видеть тебя, о солнцеликий! Молю, возьми меня к себе. Верным псом твоим станет грек Птеригионит! Остережёт тебя от злого врага, поможет найти верного друга, подслушает враждебные разговоры, устранит всякое препятствие, возникшее на твоём светлом пути!
«Евнух! — догадался Ярослав. — Что за прозвище странное. Птеригионит. Птеригион — значит, крылышко по-гречески. Что же ему от меня надо?»
— Встань, хватит валяться на полу, мил человек, — сказал князь также по-гречески. — Отмолви, какое имеешь ко мне дело? Хочешь служить мне? Но ничего я о тебе не знаю. Кто ты, откуда родом?
Человечек упрашивать себя не стал, мигом вскочил на ноги. На маленьком очень смуглом лице его появилась какая-то чудовищная улыбка, скорее напоминающая звериный оскал. Ярослав вздрогнул, но взял себя в руки и стиснул кулаки.
Обнажив непропорционально большие жёлтые зубы, незваный гость ответил:
— Кто я такой, ты и сам догадываешься, светлый князь. Птеригионитом прозвали меня в Константинополе за то, что я так мал ростом и лёгок на решения и действия.
— Ты евнух? Может, ты служил в покоях императрицы? — прямо спросил Ярослав.
— Да, я изуродован и превращён в недочеловека, — лицо Птеригионита приняло злобно-торжествующее выражение. — Но тем, кто был виновен в моей беде, больше нет места в этом мире.
Служил ли я базилиссе? Ты проницателен и догадлив, светлый архонт. Одно время я прислуживал в Палатии. Но базилисса Ирина не сумела оценить моих достоинств. Женщина — существо коварное и жестокое, архонт. Тем более эта немка. Хитрая, умная. Она, как гадюка.
— Какие же твои достоинства, раб?! И почему ты столь непочтительно отзываешься о порфироносной? — Ярослав рассердился, но за гневом его опытный придворный уловил оттенок иронии.
Он спокойно продолжил:
— Как-то раз я застал базилиссу в объятиях одного... вельможи, так скажем. Император Мануил в это время находился в походе. Я был обязан поднять во дворце переполох, но базилисса заплатила мне за молчание. А после, видно, не надеясь, что я буду молчать и в дальнейшем, попыталась убить. Подослала человека с кинжалом. Не поняла, с кем имеет дело, — евнух снова злобно ухмыльнулся. — Пусть я плохо владею оружием, но иногда мне его заменяют другие средства. Тот клеврет случайно упал в ров со стены Феодосия. В вонючую жижу. Базилисса узнала, всё поняла, мне пришлось скрыться. На первое время я обрёл пристанище у Андроника Комнина, двоюродного брата базилевса. Кстати, он и тебе, архонт, приходится двоюродным братом. Его мать, тоже Ирина, родная сестра твоего отца, блаженной памяти почившего архонта Владимирка.
— Можешь не напоминать об этом, грек, — сурово оборвал его Ярослав.
— Да, ты прав, о доблестный! — спохватился Птеригионит. — Извини, если я оказался слишком велеречив. Но я, поверь, хочу стать тебе верным слугой. Вернейшим. Ты оценишь меня, архонт. Я знаю, что ты умный и справедливый правитель.
— Продолжай, — потребовал князь. — Что же приключилось с тобой дальше?
— Избежав гибели от рук базилиссы, я вскоре вынужден был бежать из земли ромеев. Мой покровитель Андроник угодил в темницу, и мне пришлось уносить ноги. Так я оказался в Киеве, а потом во Владимире-Волынском. Архонт Святополк приказал мне следить за гинекеей[165]. У вас это называется — бабинец.
— И что? Ты опять не поладил с женщинами? — Ярослав рассмеялся.
— И снова ты оказываешься прав, архонт. Удивляюсь твоей догадливости! — Евнух развёл в стороны свои маленькие ручки. — Они решили: что взять с маленького Крылышка! Княгиня Евфимия за мелкую провинность ударила меня, а потом приказала высечь. Прилюдно, на площади в городе Владимире.
— В чём же ты провинился? Утащил какую-нибудь побрякушку?
— Птеригионит — не вор. Напрасно архонт так думает, — обиженно заметил евнух. — Просто я не люблю смотреть на голых женщин и прислуживать им в бане. Пусть я и не совсем мужчина, я не имею пола и желания, но снасти у меня есть. Отказался стоять перед ней и её приближёнными женщинами с корытом, за это и был наказан.
— Ну, так. Пусть я поверил тебе. Но что ты хочешь от меня? Не верю, что такие как ты вдруг являются и предлагают свои услуги. У тебя что-то есть. Такое, чего я, может, не ведаю, но что ведать важно и нужно.
— Опять в точку, архонт! Впервые вижу такого догадливого архонта! — взвизгнул от показной радости Птеригионит. — Я охотно посвящу тебя во всё то, что знаю, но...
Он замялся.
— Понял. — Ярослав достал из калиты и положил перед евнухом несколько серебряных монет. — Мыслю, эти флорины помогут тебе скорее вспомнить, что ты хотел мне сказать.
— Князь Святополк хочет занять твой престол. Он подсылал к тебе убийцу.
— Я это знаю.
— Знаю одно знатное лицо, которое приходило к нему в ночь перед битвой.
— Что за лицо?
— Его зовут Лях. Во время битвы он попал в плен.
— Полагаю, ты никому не говорил об этом в Галиче.
— Конечно нет, архонт. Ты узнаёшь первым о таком важном деле. Я помог бы тебе... У меня есть средство.
— Полагаю, яд?
— Ты снова прав.
Ярослав кивнул.
— Я должен подумать, грек. Крепко подумать. Сейчас я прикажу отвести тебя. Поселишься у одного верного мне человека. Его зовут Семьюнко.
— Красная Лисица. Слышал о нём.
— Я призову тебя в нужный час.
— Благодарю, архонт.
Евнух снова распростёрся на полу, снова говорил хвалебные слова, а затем быстро исчез, словно и не было его. Только запах неприятный остался висеть в палате. Ярославу показалось, что пахнет серой. Он истово перекрестился.
— Господи, обереги! — Ноги словно бы сами собой согнулись в коленях.
«Я окажусь сопричастным к греху, к греху тяжкому и неотмолимому! — Всё существо его противилось закравшимся в ум чёрным мыслишкам. — Нет, прочь сомнения! Мир наш жесток, а я не монах, не праведник, я — князь. О своих подданных должен я иметь заботу. Мой отец — он погиб, потому как не о Земле, но о добытках своих более радел. А я! О, Господи! Прости и сохрани! Я просто отвечу ударом на удар! Или я, или вороги мои! В конце концов, судить о нас, о князьях, о владетелях, не следует так, как о прочих смертных. Главное — какая у нас держава и что мы содеяли ради неё. Как живут в сей державе люди, хорошо ли, мирно ли. Но, о Господи! Мне страшно, Господи! Ответь мне, прав ли. Не могу, не могу по-иному!»
Князь закрыл руками лицо и горько разрыдался, повторяя шёпотом сквозь слёзы:
— Не погуби, не погуби, Господи!
...Утром он велел звать к себе Птеригионита.
— Ну вот, грек, твой наступает час. Поедешь к князю Святополку. Об остальном позаботишься сам. Думаю, ты знаешь, что делать, — объявил он сухо. — И помни: только мы двое ведаем, что и как.
Евнух кланялся, щерил в улыбке крупные зубы, послушно кивал.
В городке Корецке, невдалеке от так и не отданного Ярославом Киеву Шумска, ранним вешним утром в одночасье внезапно скончался князь владимиро-волынский Святополк Мстиславич. Отчего умер здоровый и не старый ещё владетель, так и осталось загадкой. Скорбела по почившему мужу княгиня Евфимия, плакали братья и племянники. Никто и не заметил, как в грозовую чёрную ночь из корецкого посада выехал на тощей лошадёнке некий маленький человечек. Выехал — и пропал. Больше его в городе не видели. Вряд ли когда и вспоминали при волынском дворе жалкого евнуха Птеригионита, пропавшего невесть куда. Да никто бы и не догадался, что именно он стал причиной нежданной смерти князя Святополка.
ГЛАВА 23
Снова заседал в княжеских палатах боярский совет. Снова сидели вдоль стен на крытых бархатом лавках бояре в красочных кафтанах, отделанных серебром и золотом. Снова Ярослав, восседая на высоком стольце с подлокотниками в виде разверстых львиных пастей, вёл речь о пресловутых городках на Горыни.
Изменилась боярская дума. Нет Домажира, место воеводы Серослава занял его сын, молодой Коснятин, появился после долгих лет забвения старый Молибог. Много среди бояр было новых, совсем молодых людей. На почётном месте в первом ряду находился Избигнев Ивачич, чуть поодаль расположился Семьюнко, немало было бывших отроков из Владимирковой дружины.
Ярослав, облачённый в синего цвета парчовый кафтан, в красных востроносых тимовых сапогах, в княжеской парчовой шапке с собольей опушкой, вышитой наверху крестами, держался сегодня гораздо увереннее, чем раньше. Не было среди бояр большинства прежних его недоброжелателей.
— Думаю, бояре, не отступится Изяслав от городков погорынских и от Бужска. Лето грядёт, снова пойдёт ратью на нас киевский князь. Вот и спрашиваю вашего совета: как быть? Отдать сии городки и жить далее в мире? Или воевать и потерять и людей, и городки заодно?
Поднялся дядька Гарбуз.
— Надобно мир творить. Изяслав ныне в силе.
— Верно, — поддержал его, шамкая беззубым ртом, Молибог.
— Киевский князь пленных галичан безоружных порубал! — Выкрикнул, резко, звонким голосом Коснятин. — А ты, княже, простить такое мыслишь!
— Хочешь, чтобы ещё больше он порубал? — с усмешкой возразил ему Избигнев. — Люди — не грибы. Опустеет, оскудеет земля людьми, что тогда делать? С кем на рать идти? Кто жито сеять будет?
— Рать гибельна для Червонной Руси, — сказал опытный боярин Щепан. — Полагаю, лучше на время отступить и отдать спорные городки. Можем потерять больше.
— Что ж. На том, стало быть, и порешим, — выслушав мнения бояр, Ярослав обвёл их пристальным взглядом. — Избигнев! Поедешь в Киев к Изяславу. Передашь грамоту мою, скажешь, что отдаю я ему Шумск, Тихомль, Гнойницу, Вышегошев и Бужск. И ходить согласен в воле его. Правы вы, бояре. Не время нам ратиться.
...Князь остался доволен. Почти никто из бояр не ратовал за новую войну, и уже одно это было хорошо. Верилось, что удастся заключить, наконец, мир и заняться устроением Червонной Руси.
Лето пришло на Галичину, земля зализывала раны, из княжеских сёл тянулись подводы с первым урожаем. В садах наливались соком яблоки, груши, вишни. По Днестру и с запада, из Регенсбурга[166], Пожони[167] и Вены спешили торговые караваны. На Подоле оживился торг. Волохи[168] и угры торговали лошадьми, чехи — оружием и изделиями из серебра, греки — тканями и фруктами. Солнце стояло в зените, на чисто вымытом небе не было ни облачка, Луква струилась тоненькой струйкой, Днестр привычно шумел на перекатах, унося воды к далёкому Чермному морю. Текла мирная жизнь, и ничто теперь, казалось, не могло нарушить этого привычного степенного хода.
Ярослав приободрился понемногу, о Птеригионите он старался не думать. Сделал евнух своё чёрное дело, и сделал. Отсыпал ему князь серебра, купил на него грек просторные хоромы на склоне Галичьей горы, где и поселился, да ещё приобрёл выморочное сельцо за Днестром. На то и жил, стараясь лишний раз на глаза людям не попадаться. Но, видно, в тереме княжеском везде были уши. Это Ярослав понял однажды вечером, когда подступила к нему в очередной раз нелюбимая жена. Ещё стала Ольга толще, с удовольствием поедала она сладости и пирожки, особенно лицо у ней округлилось, так что Ярослав иной раз в шутку называл её «луной».
В тот день она явилась, как часто бывало, к нему в покой, легла рядом, в белой ночной сорочке, вся потная, изнывающая от летней жары. Тискала его, возбуждала, постанывала от похотливого желания, он послушно исполнил её требования, а после, когда уже лежали они оба успокоенные, жена вдруг спросила:
— Карлик один тут у тя отирался. Грек. Имя у его ещё странное такое. Птица — не птица.
— Птеригионит.
— Господи! И не выговоришь. Так вот вопрошаю: на что он тебе? Такие, как он, в Ромее женские покои стерегут. Что, ко мне думаешь его приставить?
— С чего ты взяла? — удивился Ярослав. — Нет, не для того он мне нужен был.
— А для чего? — продолжала допытываться Ольга.
— Тебя это не касаемо.
— А всё ж? — Она стала щекотать его вокруг соска пальцем с коротким крашенным ногтем.
— Дело он одно добре спроворил. За то и хоромы получил, и сельцо. Да, может, хватит о нём?
— Ты меня дурой считаешь! — обиженно фыркнула Ольга. — А я не глупа вовсе. Догадываюсь о многом.
— О чём же? — Ярослав приподнялся на локтях.
— Яд он подсыпал князю Святополку. Что, не так?!
Ярослав зажал ей рукой рот.
— Тихо ты! — цыкнул он. — О таком молвишь. И откуда только всё вы, бабы, ведаете?
— Не у одного у тебя служба налажена, — рассмеялась Ольга. — Знаю, чую сердцем, не люба я тебе. Но мы с тобою, княже, единою верёвочкою повязаны. Мне, княгине галицкой, тоже хочется ворогов извести. Тех, кто на стол твой метит. Так вот, муженёк! Вороги у нас с тобою обчие. А потому покуда я тебе, вот такая, толстая баба грубая, надобна. Батюшка мой в силу ещё войдёт. И потом. Я тебе со многими ворогами управиться помогу. Помни. Хоть и нету у меня такого Птери... Птери... Тьфу, Господи, не выговорю.
Как-то не по себе стало Ярославу от этих слов. Выходит, Ольга всё знает, за всеми его делами следит. Ещё и за городки, верно, попрекать сейчас начнёт.
Но этого не случилось. Снова облапила она его медведицей, снова кувыркались они, перейдя в другую ложницу, оба ещё молодые и полные энергии страсти, а уже под утро жена призналась шёпотом:
— Робёнок у нас будет. Тяжела я.
Ярослав сухо расцеловал её в толстые румяные щёки. Не было у него любви к этой женщине, были лишь обязанность и необходимость. Он знал, чуял, что причинит она ему в грядущем немало страданий, переживаний, немало создаст забот. Пока же она носила под сердцем его, Ярослава, ребёнка, и она была права: сейчас у них много общих врагов, и надо им друг за дружку держаться.
ГЛАВА 24
Стольный Киев со свинцовыми куполами соборов, с розовыми стенами Софии, с украшенными киноварью хоромами, со многими воротами, обитыми листами позлащенной меди, многолюдным торгом, с вымолами, наполненными тьмочисленными судами, широко раскинулся над могучим Днепром. Над башнями реял стяг с крылатым Михаилом Архангелом. Дубовые городни[169] были столь высоки и мощны, что дух захватывало. Вообще, Киев был весь как будто пронизан чем-то этаким богатырским, старинным, величественным, от чего у молодого Избигнева захватывало дух. Была в городе этом какая-то притягательная сила, и становилось понятно, почему так стремились сюда и Изяслав, и Долгорукий, и Ольговичи, и Давидовичи. Да что там князья — всякий человек, хоть раз здесь побывавший, непременно захочет вернуться сюда ещё и ещё.
Поначалу Избигнев решил отыскать дом Нестора Бориславича. Думалось, знакомый боярин, столь доброжелательно отнёсшийся к нему во время сечи под Перемышлем, сможет что подсказать или посоветовать. И галицкий посол не ошибся.
Хоромы Нестора располагались на склоне киевской Горы, рядом с внутренней стеной городского Детинца[170]. Были они не сказать чтоб здорово велики и просторны, но сложены крепко и имели вид довольно внушительный.
— А, знакомец давешний! — Лицо боярина расплылось в доброй улыбке. — Здрав будь, Избигнев Ивачич! Вижу, не с пустыми руками к нам в гости. Что ж, добро пожаловать.
В палатах стояла чистота, ни пылинки, ни соринки. Челяди было мало, потом Избигнев поймёт, что выучены здесь боярские слуги, стараются лишний раз на глаза господам не попадаться, а делать все дела тихо и неприметно.
Супруга Нестора, совсем молодая полная красивая лицом боярыня, сама принесла гостю на подносе хлеб-соль.
После обильной трапезы, когда Избигневу показали его покои, Нестор наконец предложил побеседовать о делах.
— Надо будет подумать, как быти. Ты, друже, изложи, с чем прибыл, и помозгуем. Мыслю, верно ты содеял, ко мне сперва завернув.
Они устроились на гульбище, откуда открывался вид на Днепр и заречные дали. Золотая осень царила на Руси, деревья оделись в красочный золотисто-багряный наряд, что ещё более подчёркивало красоту Киева и его окрестностей.
Избигнев коротко изложил содержание грамоты Ярослава.
— Ясно. — Нестор задумчиво огладил рукой свою начинающую седеть короткую бороду. — Бояр ваших князь Изяслав отпускает за выкуп. Один, Иван Домажирич, бают, в Полоцк рванул. Не восхотел в Галич ворочаться. Иные отъехали давеча[171] по домам. Есть тут у нас ещё некий Лях. О нём мы с братом князю покуда ничего не сказывали. Так ты бы, может, Избигнев, что присоветовал? — Нестор хитровато прищурился. — Как с им поступить?
«Всё ить ведает, — догадался Избигнев, глядя на улыбающееся полное лукавства лицо киевского боярина. — И что Лях у Святополка был, и отчего Иван Домажирич в Полоцк сбежал. Такие, как Нестор сей, видно, в Киеве и заправляют».
— Подержали бы его в полоне подольше, — сказал галичанин осторожно. — Мне от моего князя никакого о нём повеленья нет. Знаю только: боярин сей за войну в думе ратовал средь первых.
Нестор кивнул, ничего не ответив.
Некоторое время они сидели молча.
Избигнев чувствовал себя неловко. Ощущение было такое, что его раздели донага и рассматривают.
Наконец, Нестор разжал плотно стиснутые уста и вымолвил:
— Мы с братом Петром не раз баили о делах ваших. Тако мыслю: ко князю Изяславу покуда не суйся, не спеши. Обождём немного. Нынче не до Галича ему. К тому же, сам ведаешь, злобу великую имеет князь наш на галичан. Потому... сперва мы с братом его подготовим. Полагаю одно: Ярослав ваш правильно всё решает. Князь Изяслав Мстиславич ныне в самом зените славы. Всех ворогов перемог. Вот ты погляди: Волынь — в его руках, тамо сын его Ярослав сидит. В Переяславле — Мстислав. Черниговский князь Изяслав Давидович — тоже нашему Изяславу соузник давний. Долгорукий — в Суздаль свой отогнан, в Залесье. В Полоцке — зять нашего Изяслава княжит, Рогволод Борисыч, Новый город такожде под властью Киева теперь. Нету никого, кто б мог с нашим Изяславом соперничать. Как будто времена славные воротились, когда вся Русь в единых руках была. Конец настал усобьям — тако мыслим. А всё почему? Да потому что мы, бояре, заедин круг свово князя встали. Тако и вам в Галиче надоть. А Ярослав ваш — умный.
— А как мыслишь, Нестор, долго ли ждать мне придётся?
— Да как тебе сказать? — Боярин пожал плечами. — Может, пару седмиц. А может, и месяц цельный. Говорю же: со князем побаить надоть. Али ты торопишься куда? У тя в Галиче что: жена, чада?
— Да нет покуда. Не обзавёлся.
— Ну, дак и не спеши. Живи тут у меня, Киевом ходи любуйся. Такого града нигде боле на Руси не сыщешь.
На том разговор и кончился. И больше Избигнев пока к нему не возвращался, благо было что в стольном граде посмотреть. Побывал он в Софии, полюбовался дивной мозаикой и фресками, посетил Михайловский Златоверхий собор, поклонился мощам печерских угодников. На торгу купил большой крест-энколпион греческой работы, с эмалью, не поскупился, щедро отсыпал заморскому гостю серебра.
Тем временем шли день за днём. Осыпалась листва с дерев, задули злые холодные ветры, опустело торжище. Первые снежинки кружились в воздухе, ложились на землю, таяли, напоминая о скорой зиме. Устремлялись на юг перелётные птицы, часто смотрел Избигнев, как пролетали они высоко в сером небе над городом, взмахивая крыльями. На душе становилось грустно и тревожно. Молчал, ничего не говорил Нестор. Видел его Избигнев редко, иногда днями пропадал где-то киевский боярин.
Наступил уже четырнадцатый день ноября, когда вдруг рано утром разбудил галицкого посла печальный звон колоколов.
«Что такое стряслось?» — Он с ходу натянул на плечи рубаху, кафтан, выбежал в сени.
Нестор прислал челядинца, прося галицкого гостя немедля зайти к нему в горницу.
Вместе со старшим братом Петром он сидел на лавке отрешённый, в чёрной мятелии.
— Беда стряслась у нас в Киеве, Избигнев. Князь наш Изяслав Мстиславич вчера пополудни слёг и помре, — объявил с тяжёлым вздохом боярин. — Тяжко болел в последнее время, изнемогал.
Избигнев в изумлении застыл посреди горницы.
ГЛАВА 25
Мраморную раку с телом Изяслава поместили в притворе собора святого Феодора, рядом с гробами его родителей — князя Мстислава Великого и княгини Христины Свейской[172]. Как полагалось по обычаю, над гробом повесили меч покойного — длинный, двуручный, с рукоятью, изузоренной травами. Даже сейчас меч этот, лишившись своего обладателя, производил впечатление грозное, особенно когда в мерцании свечей переливчато блестел холодный булат.
Бояре нарядили возле гроба караул, многие сокрушались и плакали искренне. Что ж, понять их было можно: Изяслав был прежде всего князем киевских бояр, он защищал их от притеснений Долгорукого, оберегал их вотчины от разорения, от набегов половцев, он помогал своим мечом приумножать их власть и богатство. За ним киевские верхи жили, словно за каменной стеной, и его начинания всегда находили в их сердцах живой отклик. Почему и напишет потом в своей летописи учёный муж Пётр Бориславич: «В лето 6662 (1154) ноября 13 преставился князь киевский Изяслав Мстиславич. Сей князь великий был честен и благоверен, славен в храбрости; ростом мал, но лицом красив, волосы короткие кудрявые и борода малая круглая; милостив ко всем, не сребролюбец и служащих ему верно пребогато награждал; о добром правлении и правосудии прилежал; был же любочестен и не мог обиды чести своей терпеть».
Избигнев вместе с Нестором тоже побывал на похоронах, послушал заупокойную молитву, повздыхал, подумал о том, сколь даже самый значительный на Земле человек мал в сравнении с вечностью и что на всё — Божья воля. Почему-то вспомнилось, как велел Изяслав изрубить после боя на Серете галицких полоняников и как сгноил в порубе литовскую красавицу Эгле.
«Вот и не попустил, верно, Господь сих преступлений, сего кровопролития, и наказал Изяслава. Не дал ему радостей вкусить в новом браке с обезской княжной, не позволил встать вровень с отцом своим и дедом. Те умели прощать. И людей берегли. И пленных щадили. А впрочем, мне ли ведать помыслы Божьи?! Что это я?! — Одёрнул себя, отгоняя непрошенные мысли, Избигнев. — Как можно! Умер человек, и умер. К добру ли, ко злу смерть сия — откуда ведать?»
Избигнев стал думать, как же теперь быть с Ярославовой грамотой. После недолгих размышлений он решил снова перетолковать с Нестором.
Они вышли из монастырской ограды и медленно побрели по киевскому предместью. Чёрный код[173] из одежд Нестора, в который за неимением иного облачили Избигнева, был широк для тонкостанного юноши и развевался на ветру.
— Ты гляди, не улети! — рассмеялся Нестор. — Вона как полы развеваются!
Смех вроде был совсем не к месту.
«Выходит, не столь уж и скорбят по Изяславу», — подумал Избигнев. На устах его проступила слабая улыбка.
— Потолковать бы нам, боярин, — попросил он.
— Что ж, перетолкуем. Оно как же. Вот до хором моих дойдём, и милости прошу в палату, — живо откликнулся Нестор. — Есь о чём словом перемолвиться, согласен. Да и тебе, верно, сидеть в Киеве надоело. Тако ить?
— Так.
...В палате Избигнев смог снять, наконец, опостылевший коц и остаться в простой суконной рубахе. Нестор также сбросил с плеч траурное облачение.
— Хочу совет твой услыхать, боярин, — начал, не откладывая, разговор Избигнев.
— О грамотице, верно, князя твово речь пойдёт. Ну дак вот, — Нестор низко наклонился над столом и, в упор глядя на юношу своими хитрыми карими глазами, промолвил наставительно. — Мой тебе совет. Грамотицу сию никому не показывай. Упрячь подале и скачи в свой Галич. Нету князя Изяслава, и некому покуда городки енти чёртовы отдавать. Мыслю, смуты в Киеве ныне начнутся. И князь твой тя по головке не погладит, аще[174] ты грамотицей сей трясти пред боярами киевскими почнёшь. Уезжай неприметно. Окромя меня да брата мово Петра никто о тебе тут толком не прознал. То и добре. И для тебя, и для князя твово. Коней тебе дам добрых, охрану наряжу, своих гридней такожде бери да езжай. Да, вот ещё что. Помнишь, про боярина Ляха речь у нас была?
— Помню, как же.
— Дак вот. Бежал твой боярин.
— Как так? Вы с Петром баили, в порубе он, под запорами.
— Эх, вьюнош! — Нестор усмехнулся. — Со сребром любой из наших порубов дорогу сыщет.
Избигнев промолчал. Знал он, что боярин Лях — враг князя Ярослава. Судя по всему, он как раз и договаривался с покойным Святополком о галицком столе. А раз так... Нестор прав. Он должен спешить в Галич. Но прежде... Был у него ещё один вопрос к этому, как видно, искушённому в державных хитростях боярину.
— Как мыслишь, друже Нестор, — спросил он прямо. — Кто теперь в Киеве сядет?
Нестор вздохнул, поскрёб перстами свою жёсткую колючую бородёнку, отмолвил не сразу, видно, сам немало думал над этим вопросом.
— Трудно сказать, как всё сложится. Есть три князя, три старейших владетеля. Первый — Изяслав Давидович, князь черниговский. Уже давно метит он на Киев. За ним — Ольговичи, вся огромная земля Чернигово-Северская. Окромя того, с половцами он в крепком соузе. Но не любят Давидовича в Киеве. Не наш он, понимаешь. Чужой. Такой придёт, своих бояр на наши места в думе посадит, волости начнёт раздавать. Хотя, князь он сильный и человек неглупый. Разве что горд излиха.
Топерь гляди. Второй — Ростислав, родной брат покойного князя Изяслава, ныне в Смоленске он княжит. Бояре наши многие хотят его видеть на столе. Токмо... то между нами должно остаться, Избигнев. Никому не сказывай. В обчем, нетвёрд Ростислав Мстиславич, набожен сверх всякой меры, нет в ём духа ратного, как у старшего брата. А надобен Киеву князь сильны й, человек державный, с замыслами широкими. Ростислав — не то. Но лучшего средь старших князей покуда нет.
Ну, и Долгорукий остаётся. Уж он издавна на Киев глядит, тянет длани жадные на наш град. И, думка наша с братом такая, он-то и воссядет топерича в Киеве. И многим лучшим людям придётся тогда из стольного ноги уносить. Так уж было не раз: приходили Юрьевы суздальцы, терема громили, разор чинили. А топерь, когда Изяслав Мстиславич в Бозе почил, — Нестор вздохнул. — Не на кого нам опереться. Ростислав, думаю, Киев не удержит, Давидовича сами кияне не пустят. Вот и смекай, вьюнош, какая беда у нас на пороге.
— А князь Мстислав, сын Изяслава? — спросил Избигнев. — Он ить отцу свому правой рукой был.
— Млад Мстислав, не хотят его бояре. Не его право Киевом володеть. Да и то сказать. Ему б в Переяславле усидеть, и то дело б было. Да, на рати наш Мстислав крепок. Но Киев занимает всегда старейший. Так издревле повелось.
— Что с того? Изяслав же не старейший был. Юрий больше прав имел.
— Вот что, Избигнев. — Нестор внезапно насупился. — Об ентом баить неча. Что сказал тебе, чем поделился, то ведай. А о праве княжеском... не тебе судить, младень!
Слова прозвучали строго и жёстко. Видно, разговор их на этом Нестор решил закончить. Правда, спустя некоторое время он добавил-таки:
— Вот что ещё скажу тебе, вьюнош. Знаешь, как брат мой Пётр молвил мне там, у гроба Изяславова? Дак вот, сказал он: «Последний великий князь был у нас». Понял? Те трое, о коих тут толковня наша была — люди мелкие. Нет у них замыслов широких, таких, чтоб на всю Русь, чтоб славу Киева былую возродить. Тако вот.
Снова горестно вздохнул Нестор. Тряхнул кудрявой головой, кликнул дворского, велел накрыть в горнице стол на двоих.
— На прощанье выпьем, друже Избигнев, — объяснил он. — Езжать тебе надобно. Не ведаю, свидимся ли скоро. А что я те молвил, запомни. Что князю Ярославу сказать, а о чём умолчать, сам решишь. Разумом Господь тебя не обделил.
— Спаси тебя Бог, друже Нестор. Благодарен тебе вельми, — молвил растроганный Избигнев. — Многому ты меня, младого, учишь, многое разъясняешь. Без тебя пропал бы тут. Натворил бы Бог весть чего. Торопился бы, а спешка, как оказалось, в деле нашем посольском вредна бывает. Ну, и за хлеб-соль, конечно, благодарю покорно.
Он встал с лавки и отвесил боярину низкий поклон.
— И ещё, — добавил юноша. — Если когда тебя судьба в Галич или во Свиноград забросит, помни: Избигнев Ивачич всегда тебе рад.
...Поздним вечером Избигнев с гриднями и с обозом выехал из Софийских ворот Киева. Ярко пламенела осенняя заря, и казалось ему, словно уходит, истаивает в русской жизни насыщенная бурными событиями, сумятицей, княжескими которами и набегами степняков жестокая эпоха. На смену ему идёт что-то новое. Каким оно будет? Какими будут они сами? Повторят ошибки отцов или пойдут новой, неизведанной дорогой?
Заря погасла, и окунулся он в чёрную мглу холодной ноябрьской ночи. Кони медленно скакали по шляху. Избигнев забрался в возок, велел холопу затопить печь и, накрывшись войлочным одеялом, провалился в сон.
ГЛАВА 26
На Подоле, вблизи увоза, ведущего от Галицкого Кремля к берегу Луквы, расчистили широкую площадь. С осени стали возить камень — белый с Карпат и зелёный из Червеня. Вырыли глубокий котлован, набросали туда бута, установили вапы — тёсаные из камня столбы.
Ярослав каждодневно выезжал на строительство. Главный зодчий, армянин Ашот, прибывший из восточных областей Ромеи, показывал схемы и рисунки будущего храма.
— В плане, если смотреть сверху, — говорил зодчий, — собор будет иметь вид креста. Так возводят сейчас все храмы. Такова и София Киевская, и базилики славного города Константинополя. Такие церкви есть и у меня на родине. Я строил храмы в Двине и Хлате, и в Константинополе тоже. Ты можешь положиться на мой опыт, князь.
Немного заискивающе смотрел своими чёрными, как спелые вишни, глазами армянин на Ярослава. Впрочем, рассказывал он дельно, да и порекомендовали его князю знающие толк люди.
— Собор сделаем трёхнефным. Нефом называется пространство внутри храма, ограниченное рядом колонн. Колонны будут большие и прямоугольные. Или лучше круглые? Нет, прямоугольные. Как в Софии. Снаружи, с севера и юга, сделаем открытые галереи. Здесь колонны возведём круглые. — Ашот чертил на земле вид будущего строения. — Куполов будет пять. Главный, самый большой, вот здесь, в центре. А вот тут будет алтарь. Апсиды[175] — выступы алтарные — сделаем как можно выше. Нартекс — притвор западный, тоже наподобие Софии. Из него — две лесенки винтовые на хоры. Хоры широкие, по обе стороны.
Один из помощников зиждителя слепил макет храма из воска и преподнёс его Ярославу на блюде.
Молодому князю нравилось, как быстро и со рвением принялись зодчие за работу.
— Давно не было такого заказа. Так, достраивали или перестраивали разные здания, — объяснял Ашот. — На нашей родине, в Армении, сейчас правят неверные, мусульмане. В Хлате сидит эмир Сукман, он называет себя Шахарменом. Он — враг греческого царя Мануила. А неверные не возводят церкви, да будет тебе известно. И мы рады были уехать, сначала — к ромеям, потом сюда.
Ярослав кивал головой. Он больше молчал, слушал, не торопился с выводами. Восковый собор был хорош, но каков будет храм Богородицы в камне? Надо было запастись терпением и ждать.
Время, кажется, наступало мирное. За Киев дрались между собой Ростислав Мстиславич и Изяслав Давидович, а тем часом где-то в глухих лесах собирал полки для нового похода на юг Долгорукий, загадочный и непредсказуемый. Опасность новой войны для Червонной Руси пока миновала. Не находилось желающих ратиться с ним, владетелем Галича.
На возводящийся храм ушло немало слитков серебра из скотницы. Кроме того, на строительство Ярослав велел забирать из окрестных деревень коней и подводы. Крестьяне роптали, но он на сей раз был неумолим: храм — прежде всего. Потом, после будут другие заботы. Про смердов он не забудет. В конце концов, и храм он решил возводить на Подоле, а не в Детинце, чтобы всякий человек мог в нём в любое время помолиться.
Давали средства на строительство собора и многие бояре. Прислал подводы с добром старый свиноградский посадник Иван Халдеич. Почти не вставал с постели старик, а на богоугодное дело не поскупился. Молибог тоже отсыпал серебра из скотницы, его примеру последовал удалой воевода Тудор. Этот внёс вклад от всей живущей в Галиче печенежской общины.
Дело двигалось, и этому Ярослав был рад.
В очередной раз возвращался он с Подола, медленно трусил на соловом иноходце, проехал через главные ворота. Слышал, как сзади переговаривались отроки и гридни, глядел ввысь, на серое затянутое тучами зимнее небо, думал о том, что с наступлением весны, с севом работы придётся приостановить. И ещё думалось о том, сколько много впереди будет у него дел — больших и малых. Молод был Ярослав, кипела в нём ещё не остывшая юная энергия, жизнь словно била ключом. Другие в такие лета хватали в руки меч, бросались в сечи, захватывали, завоёвывали, присоединяли города, сёла, земли. Он ратей не любил и не хотел. Жаждал он заниматься совсем иным, и, кажется, возможность такую Господь ему даровал.
Возле крыльца царила непривычная суета. Слонялся по двору забытый всеми в неразберихе четырёхлетний княжич Владимир, облачённый в подбитый изнутри мехом тулупчик, пинал сафьяновым сапожком снег, смеялся громко тоненьким голоском. Елена Ростиславна в привычном тёмном одеянии спустилась к нему, взяла за руку, повела в терем. На ходу она сделала какое-то замечание нерасторопной холопке, которая, заметив идущего по двору князя, вдруг заулыбалась, замахала цветастым платочком, крикнула:
— Доченька у тебя, княже! На Подоле ты был, оповестить не успели. Разрешилась княгиня от бремени!
...В бабинце стояла тишина. Ольга, бледная после родов, лежала на пуховых перинах. Ярослав сел рядом с ней на скамью, осторожно принял из рук повивальной бабки крохотное, завёрнутое, по старому языческому обычаю, в материнское платье из тонкого сукна тельце. На него смотрело сморщенное розовое личико с широко раскрытыми непонятно ещё какого цвета глазками. Маленький ротик скривился, раздался громкий плач. Заелозила новорожденная в незнакомых руках, засучила ручками-ножками, князь вернул дочь бабке, мягко улыбнулся, слушая, как опытная в своём деле женщина качает и успокаивает ребёнка.
Княжну вынесли в соседний покой и уложили в зыбку. Теперь холопка-кормилица будет неусыпно за ней следить.
«Вот и отцом я стал. Да ведь пора. Двадцать девятый год. — Подумал князь и тут же спохватился. — А Владимир? Но это же не мой сын! Не мой! Но только я и Ольга о том ведаем! Ну и что же? Ребёнок-то не виноват, что мамаша сблудила. Буду любить его, как и прочих детей. Но буду ли, смогу ли забыть?»
Он уставился на Ольгу. Уставшая молодая женщина спала, чуть приоткрыв рот и похрапывая. Нет, не было у Ярослава к ней любви. И чувствовал, знал он, что не полюбит Владимира так, как любил бы своего, родного сына. Но где-то за лесами, как могучий исполин-богатырь, собирает рати отец Ольги. За ним — сила, власть, воля. И сыновья его — они богаты, у них много волостей. Ярослав всех их видел, всех их знает. С такими лучше не спорить, не ссориться... Пока... И потом, у него же теперь дочь... Ольга женщина хитрая и умная. Дочерью она привяжет его к себе. А будут если ещё чада...
Ольга проснулась, посмотрела на него, зыркнула лукавыми половецкими глазами, вдруг засмеялась, вопросила:
— Чего глядишь? Собор строишь. А я-от, глянь, отстроилась уже. Зрел дочку-то?
— Видел. На тебя похожа. Такая же крикливая, — пошутил Ярослав, но тотчас же понял, что зря сказал такое.
Княгиня недовольно фыркнула, посетовала сухо:
— Для тебя старалась, дитё вынашивала, а ты...
— Для нас обоих, — поцелуем в тёплые уста Ярослав сгладил её недовольство. — Как наречём девочку? — спросил серьёзно.
— Я уже подумала. Будет Евфросинья. А что? Греческое имя. Тако и базилиссу звать не стыдно.
— Евфросинья, — задумчиво повторил князь. — Радость — по-гречески. Что же, имя доброе, для княжеской дочери вполне сгодится.
— Батюшке моему отпиши. Пусть ведает, — попросила Ольга.
— Да уж как без батюшки твоего.
В покой пришли Елена Ростиславна и три суздальские подружки Ольги. Все они были замужем за княжескими отроками. Говорили тихо, почти шёпотом, но наперебой, рассказывали княгине, где увидели у новорожденной родинки, каковы у неё глазки, каков ротик.
Ярослав вышел от них в сени, остоялся в тёмном переходе. Сам не понимал почему, но особой радости сейчас он не испытывал. Успокоил себя мыслью: дочери всегда нужны. Они — товар в сложной запутанной игре, имя которой — державная политика. Но о маленькой Евфросинье не хотелось думать, как о товаре. Пускай растёт, постигает мир, а там будет видно.
Вечером он снова был у Ольги, снова держал на руках дочь, которая на сей раз вела себя спокойно и не плакала. Словно чувствовала, что рядом с ней — отец, который всегда будет ей в нелёгкой жизни надёжной защитой.
ГЛАВА 27
За узкой змейкой скованного льдом Прута выступали башенки Коломыи. Издали крепость казалась маленькой, притулившейся на приречном холме как-то косо, неловко. Семьюнко, придержав за поводья мышастого конька, осмотрелся. Зимний шлях вился тонкой нитью, взбегал с вершины на вершину, выводил к узкому дощатому мосту, бежал дальше мимо мазанок пригородного посада к дубовым воротам, которые, как обычно, были на крепком запоре. Коломыя — город-сторож. Недалеки отсюда гребни Карпат, за которыми — земля мадьяр, давешних недругов. Как знать, вдруг решит король Геза ударить на Галичину с этой стороны.
При воспоминании об уграх мороз пробежал по коже Семьюнки. Как будто только что треклятый Дорогил жёг ему ноги и обещал подвесить на дыбе.
Служба князю — оно, конечно, неплохо, — рассуждал рыжий отрок. — Но что такое служба без положения, без богатства. Вон бояре в окружении князя Ярослава! У каждого немало холопов, немало рядовичей[176] и закупов[177] трудятся на богатых рольях. Да взять того же Избигнева. Совсем юнец, а как скакнул! А всё потому, что у батьки егового сундуки от злата да сребра ломятся. Иначе сидел бы в малых отроках да прислуживал боярам за столом. И то в самом лучшем случае.
А будет богат он, Семьюнко, не пошлют его во вражий стан тайные делишки проворить, станет он ездить на статном скакуне, в парче, с гривной на шее. Тогда никакой Дорогил ему не страшен. А так снится порой, старый злодей, с бородой долгой и перстами костлявыми, и всё тянется к нему, всё норовит ухватить за горло, всё орёт дико: «Говори! Говори!»
— Тьфу! Чур меня! — Семьюнко перекрестился и троекратно плюнул через левое плечо.
Не хотелось думать, что Избигнев стал ближником Ярослава за личные свои заслуги. В возвышении его видел рыжий отрок всего лишь влияние старого Ивана Халдеевича.
«Хоть бы мне повезло!» — вздыхал он, глядя на бревенчатые городни Коломыи.
Покойный отец, Издень Сновидович, конечно, оставил им с братом Миной кое-какие средства. Торг вёл солью, как-никак, в самом Киеве, серебра немало от того имел, но что их богатство в сравнению с боярскими угодьями! Одно то добро, что припрятали они с Миной в Перемышле на соляном складе, пожалуй, перевесит половину собранного отцом.
Мина, кажется, всем доволен, живёт, торгует солью, возит из Перемышля в Польшу и в Чехию. Семья у него, чада. Да и сам Семьюнко от братнего дела кое-какой доход имеет. Но купеческая жизнь была ему не по душе. Хотелось большего. Зря, что ли, с малых лет в дружбе он с князем Ярославом. Пошёл единожды на реку купаться, там княжича и встретил. Играли, бегали, катались на лодках, гребли наперегонки — так и спознались, и сдружились. А теперь, вишь, на двор княжеский путь ему открыт. Открыт-то открыт, да идти туда не с чем. Бояре недолюбливают, подсмеиваются над ним, Красною Лисицей обзывают. А чем он хитрее их? У них — богатство, у него — один дом в Галиче, хата покосившаяся.
Одно радует: князь молодой доверяет. Недавно вот велел приютить у себя одного грека, евнуха Птеригионита. А потом, как исчез евнух сей, сказал ему тайно, с глазу на глаз, к чему он тут был и что задело ему поручено. Страдал Ярослав, не по нраву было ему убивство, да Семьюнко успокоил, сказал: ворогов бить надобно. Для того любые средства хороши.
За думами своими переехал отрок мост. По льду через Прут переправляться он не решился — не столь было холодно, мог лёд и не выдержать конька с вершником. А омуты Прутские глубоки. Как глубоки и синие глаза Оксаны — троюродной сестры, к которой, собственно, и держит он ныне путь.
Старше его Оксана на несколько лет, была замужем за одним богатым немцем из Родно. Немец тот разбогател на свинцовых рудниках, сребра у него было столько, что и боярину иному не снилось. Да вот беда, в том руднике под землёй грохнул кто-то немца. Верно, жесток был с холопами, плетьми их бил, измывался. Немца сего Семьюнко не знал, и в воображении его покойный напоминал Дорогила — такой же старый и озверевший.
Второе лето, как Оксана овдовела. Не народили они с немцем чад, не осталось у него родичей, и богатство всё мужнее перешло к ней, молодой вдовице. Как проведал о том Семьюнко, так и зачастил в Коломыю. Троюродная сестра — не родная, можно б... О том впрямую даже и думать было пока рано.
Он въехал в городские ворота, поднялся вверх по заснеженной дороге, миновал амбары и бретьяницы, обогнул высокую мельницу — ветряк. Вот и дом Оксанин виден. Добротный дом, не его галицкая покосившаяся избёнка. Выложен дом сей из бука, просторен, широко разбросан по склону горы. Одних врат провозных трое. Всходы[178] высокие, сени светлые, окна, слюдой забранные, а внутри печи муравленые[179], травами изузоренные, ступени морморяные, ковры бархатные, хоросы на потолках, гульбища, переходы крытые и открытые.
Вот бы ему такое богатство. Облизнулся Семьюнко, как кот на сметану.
Встретили его челядинки, все чистенькие, в белых сорочках, в понёвах[180], с серёжками в ушках. Одна девка краше другой, аж глаза разбегаются. Но строго запретил себе отрок их разглядывать. Цель его — не холопки, а хозяйка.
Вскоре и сама боярыня появилась, сошла с мраморных ступенек. Светились ярко-синие глаза, прямой острый носик, когда говорила, слегка подрагивал, алели ярко накрашенные уста. На голове вдовы — повой белый, на нём — венчик бронзовый в виде короны. Платье верхнее, с широкими рукавами, тоже светлое, с вышивкой, рукава платья нижнего перехвачены браслетами серебряными с застёжками. На ногах — сапожки тимовые, на перстах — жуковины, на шее — гривна[181].
— Здрав будь, гость дорогой! — отвесила сестра лёгкий поясной поклон. — Чегой-то давненько не видали тебя.
В словах сквозила едва заметная насмешка. Ощущение было такое, что догадывается Оксана, зачем он приехал.
Семьюнко тоже поклонился ей в ответ, приложил руку к груди, сказал восхищённо:
— Ох, краса какая! Честно скажу, не признал тебя поначалу, Ксюша. Думал, русалка какая явилась. Воистину, давно не видал, вот и...
Он не договорил.
— По делу какому у нас в Коломые?
— Да, и по делу такожде. Сама ведаешь, какова жизнь у отрока бедного, неимущего. Всё дела, всё служба княжеская.
— Ой, да не прибедняйся ты! Знаем, как ты беден! — Оксана махнула изящной словно выточенной греческим мастером из мрамора ручкой и засмеялась. — Вот что. Ты, как подобает, сперва в церковь сходи, свечку поставь, тем часом мы баньку для тя истопим, а после за стол прошу.
...Обедали вдвоём, молодая вдова с улыбкой, подперев рукой щёку, смотрела, как голодный с дороги троюродный брат с жадностью уплетает уху из голавля и горячий курник. Длинные рыжие космы его разметались в стороны.
— Знаешь, как тя в народе кличут? — спросила Оксана. — Красная Лисица. Почто так?
— Да я ж откуда ведаю? Сказал тут ворог один, и пошло гулять.
— Что за ворог такой?
— Да... — Семьюнко не хотел вспоминать, но коль сорвалось с языка, пришлось поведать о своей поездке в угорский стаи и Дорогиле.
— Ну, ты, братец, даёшь! — Оксана сокрушённо покачала головой. — Опасно оно, стало быть, князьям-то служить.
— Что поделаешь? Беден аз, вот и приходится порой лезть в пекло самое. Мыслю, отметят, наградят, пожалуют чем. — Семьюнко наигранно вздохнул. — Вот ты тут живёшь, всего у тебя хватает. А у меня того нет. Потому и кружу по Руси Червонной, правлю отрочью службу.
— А ить лукавишь ты, братец. Ой, лукавишь! — погрозила ему пальчиком с розовым ноготком Оксана. — Догадку имею, просить чего хочешь. Может, серебра тебе дать. Так я не жадная. Говори, сколь надобно.
— Нет, красавица. Не нужно мне сребро. Вернее, оно, конечно, пригодилось бы, да не за тем приехал я.
— Ты хоть ся в порядок приведи. А то явился, чуть не в лохмотьях. А власы... Господи, космами висят. Гребень-то когда в последний раз в дланях держал? Верно, с той войны и ни разу? — Женщина опять лукаво заулыбалась.
— Да полно тебе.
— Пригляду женского за тобой нету. Оженился б, что ль.
Семьюнко едва не подавился куском пирога.
«Сама хочет. Всё намёками да намёками. Может, тогда и тянуть кота за хвост нечего. Прямо и предложить. Чего терять-то?» — Семьюнко заёрзал на лавке.
Всё-таки он решил обождать. Пусть яблоко созреет и само упадёт в руки.
Он ответил уклончиво:
— Оно, может, и неплохо бы было, да кому я такой нужен? Красная Лисица, говоришь. Обидно ведь такое прозванье иметь. Право слово, будто прохиндей какой-то. А я князю своему верно служу, безо всякого там лукавства.
Ничего не ответила вдовица. Так и окончили они трапезу в молчании.
После провели Семьюнку в приготовленный для него покой. Но не спалось отроку, не отдыхалось. Мерил он ногами дощатый пол, ходил в раздумье из угла в угол.
«Нет, нечего тут сожидать. Так дождёшься, выйдет Оксана за кого другого. Вот пойду к ней и скажу сразу всё».
Он достал из дорожной сумы серьги с ярко-синим сапфиром, под цвет сестриных глаз. Полюбовался самоцветами, собрался с духом, толкнул буковую дверь.
Оксану он застал на гульбище, посреди расписанных травами огромных столпов. Всё в том же богатом наряде, набелённая, нарумяненная, шла она ему навстречу, и всё та же улыбка лукавая играла на алых устах.
«А ведь красива. Да, в самом деле. Разве только в богатстве её дело?» — подумалось отроку.
— Вот, сестрица. Позабыл совсем, — он разжал ладонь.
Оксана ахнула, увидев серёжки.
— Ой, прелесть экая! — воскликнула она, взвизгнув от удовольствия. — Тотчас пойду, примерю.
— Погоди. Ты... Сказать у меня что есть. — Семьюнко вдруг замялся.
Изумлённо приподняла вдовица насурьмлённые брови, уставилась на него, полыхнули ясные синие озёра.
— Ксюша. Вот, гляжу я, одна ты тут живёшь, вдовствуешь. Коломыя — оно, конечно, место доброе. Но, может, в Галич тебе перебраться. Хоромы построишь. Тамо, как-никак, столица княжества нашего. Это первое. А второе... — Он замялся снова, но собрался с духом и решительно выпалил: — Выходи за меня, красавица! Не пожалеешь.
Потухли лукавые огоньки в очах Оксаны. Ответила она серьёзно, без колебаний, твёрдо и веско:
— Ведаю, на богатство моё польстился ты, Лисица Красная. А чтоб замуж мне идти, любовь быть должна. Ты же мне не люб. Вот гляжу на космы твои, на тебя: мальчишка ты ещё. Скакнул высоко при князе, мыслишь, верно, с моим серебром дорожку поближе ко княжьему столу проложить, первым советником Ярославовым стать. Насквозь тя вижу. Да и потом: старше я тя намного. Окромя того, в свойстве мы с тобою. Как-никак, трёхродные брат и сестра.
— Дальнее родство не помеха женитьбе. Вот коли б двухродные, надобно у епископа было разрешенья испрашивать, — глухим подавленным голосом разъяснил ей Семьюнко.
Строгая, суровая стояла вдова перед отроком, смотрела из-под насупленных бровей жёстко, и чувство у Семьюнки было такое, будто раздет он донага, и все мыслишки его, все побуждения хорошо известны ей.
И всё же он одолел себя и решился. Обхватил Оксану за тонкий стан, поднял её, визжащую и беспомощно болтающую в воздухе ногами, притянул к себе и расцеловал, горячо, пылко. Почему-то не думалось в эти мгновения ни о богатстве её, ни о своём положении, ни о чём-то ещё таком приземлённом.
— Люба ты мне, красавица! — будто сами собой выдохнули уста.
Не было ни обиды, ни злобы от отказа. Почему-то слова вдовы заставили Семьюнку взглянуть на неё совсем по-иному.
— Не отвергай, молю тебя! Родная, милая, жалимая! То, что ты говорила, оно так и есть, но есть ещё и любовь... Есть, Ксюша... Что, думаешь, не сыскал бы невесты я богатой? Да на княжой службе всяких перевидал. Но нужна мне ты... Ты одна. Ведай.
Он бережно опустил её, притихшую, задумчивую, поставил на пол и бросился прочь, назад, в свой покой.
Потом он скажет, что должен ехать, и наутро отправится в путь. Оксана о давешнем разговоре на прощание не промолвит ни слова. Только серёжки сапфировые будут полыхать синевой в маленьких розовых ушках, и поймёт Семьюнко, что есть у него надежда. Он будет скакать бешеным галопом по зимнему шляху, будет осматривать засеки на путях в Угрию, доберётся до самых дальних русинских селений и со тщанием проверит дозоры. А перед глазами будет неизменно стоять она — такая серьёзная и задумчивая. И поймёт рыжий отрок — пришла к нему настоящая большая любовь.
Уже в начале весны, когда возвращался в Галич, ударила в голову мысль: «А что, если князя попросить сватом быти. Расскажу всё, что и как, ничего от его не укрою. Строптива, мол, вельми вдовица. Но мне люба. Князю отказать не посмеет».
Ободрённый, Семьюнко улыбнулся, подставив лицо лучам тёплого вешнего солнышка.
ГЛАВА 28
Скоро росли на Подоле белокаменные стены собора. У западного притвора храма — нартекса возвели зодчие небольшую церковенку о четырёх столпах — крестильню. Из неё шла в собор, на хоры крутая винтовая лестница. Хоры мыслили возвести только над нартексом, как было сделано в церкви Успения в Киево-Печерской лавре. Вообще, храм во многом повторял Печерский, только куполов решено было возвести пять, а не один, как у иноков.
«Всё-таки епископальный собор, главный будет во всей Червонной Руси. Вот выстроим, пошлю к митрополиту[182]. Пора в Галиче свою кафедру иметь. Думаю, не откажут», — размышлял Ярослав.
Он каждодневно объезжал строительство, спрашивал Ашота и его помощников, в чём имеют они нужду, и старался исполнить все просьбы.
Думал он со временем возвести в Галиче ещё один храм и посвятить его своему небесному покровителю — великомученику и целителю Пантелеймону.
«Странно, что крестильное имя покойного Изяслава — тоже Пантелеймон. Выходит, тёзки мы с ним. Тоже строил Изяслав храмы, крепил города, а потом губил в ратях братоубивственных свои же начинания. Хотя, могло ли быть иначе? Время такое. Вот коли посчитать, сравнить, сколько Изяслав создал и сколько сжёг, что получится? Если и деревенские малые церковенки взять, и хаты, кои соузнички его, угры и чёрные клобуки, уничтожили? Впрочем, моё ли дело это — считать и судить других! Бог Изяславу судья. О своей душе думать надобно», — Ярослав решительно оборвал свои рассуждения.
Наступила весна, зеленели травы, благоухали сады. В такие дни любил Ярослав подолгу находиться в загородном доме в Тисменице. Вокруг этого небольшого городка на многие вёрсты простирались охотничьи угодья. Леса буковые, дубовые, грабовые полны были разноличного зверя и птицы. Покойный отец любил устраивать здесь многодневные ловитвы; собиралась в Тисменице вся окрестная знать, царил шум, бряцало оружие, лаяли гончие собаки. Но однажды отец, увлёкшись охотой на вепря, едва не потерял галицкий стол, который строптивые бояре, недовольные жёсткой его рукой, отдали Ивану Берладнику.
Иван Берладник... Говорят, сидит он в порубе у князя Юрия. Что, если... Да, так он и поступит... Только кого к Юрию послать... И потом... Следует подождать, чем окончится очередная свара старших князей за Киев.
Пока же отлучался молодой князь в Тисменицу на день-другой, не чаще, боялся боярских котор. Проведал о том, что боярин Лях отыскался в Венгрии, при дворе старого недруга, короля Гезы. Не иначе, будет строить козни, слать в Галич тайных гонцов, сговаривать их против его, Ярославовой, власти.
Нужны верные люди: отроки, милостники, житьи[183] — мелкие землевладельцы. Они — опора князя. Иначе станешь игрушкой в боярских дланях.
Одна радость была у Ярослава — крохотная дочь. С ней любил он подолгу возиться, разговаривал, наблюдая, как со вниманием смотрят на него большие круглые глазки.
Скоро предстоит Фросе учиться ходить. Первые шаги сделает маленький человечек, его, Ярослава, плоть и кровь. Подрастёт, станет он подыскивать ей доброго жениха.
К дочери привязался, а о нелюбимой жене старался не думать. Встречи в ложнице стали более редкими, княгиня по весне отправилась объезжать свои сёла — те, которые подарил ей покойный Владимирко в вено[184]. Суд, правда, не творила, просила мужа, чтобы он разбирал все тяжбы. Управлять не управляла, а доходы получала большие, имела свою скотницу, в которую Ярослав не совался.
В чём супруги сходились — оба жадно ловили вести из стольного Киева.
Осенью сел на киевское княжение призванный боярами брат Изяслава, Ростислав Мстиславич Смоленский. Но недолго просидел он на великом столе — вздумал воевать супротив Изяслава Давидовича Черниговского, пошёл на него ратью, да не выдюжил в бою супротив призванных Изяславом половцев. Бежал Ростислав с сынами обратно в свой Смоленск, а соузник его, Мстислав Изяславич, разругавшись с незадачливым стрыем, покинул Переяславль и объявился на Волыни, у другого своего дяди, Владимира Мстиславича. Сидел пока на берегах Горыни, в пограничной Пересопнице, выжидал, собирал силы. Совсем рядом с Галичиной обретался свирепый Изяславов первенец, и Ярослав тревожился, как бы не учинил тот внезапного нападения на его городки. Со Мстислава станется.
Тем временем Давидович, придя в Киев, отдал Переяславль сыну Долгорукого Глебу. Думал, верно, что не сунется Глебов отец на юг, удовлетворится сыновней волостью. Но не таков был Долгорукий. Сперва с сильной ратью прошёлся он по Смоленщине, погрозил оружием Ростиславу, смиряя тем самым богомольного племянника, соузился с ним в Зарайске, а затем, заручившись поддержкой северских Ольговичей, налетел чёрным коршуном и на самый Киев. Давидович уступать не хотел, кочевряжился. Достигнув вышней власти, слушать никого не хотел, но пришлось-таки убираться назад в свой Чернигов, кляня более удачливого Юрия, на чём свет стоит.
Торжественно, под гудение колоколов, въехал Долгорукий в стольный город в сверкании парчи, в золоте и дорогих мехах. Шли с ним, блистая дорогим оружием, суздальцы и ростовцы, шли половцы, едва не впервые проходя через киевские Золотые ворота не ворогами, но друзьями, шли соузные туровцы, смоляне, северяне.
Выгнал Юрий из Киева митрополита Климента, ставленного покойным Изяславом, послал в Царьград[185] для поставления на его место грека Константина. Раздавал щедрой рукой волости своим милостникам — суздальцам, чем вызывал тупое озлобление местных землевладельцев. Многие из киевских бояр бежали в те дни из стольного — кто укрылся в своих сёлах, кто убрался на Волынь, а кто последовал за Давидовичем в недалёкий Чернигов.
В стольнокиевских княжеских палатах гремели бесконечные пиры, царило безудержное веселье, в других городах князья и бояре тревожились, судили-рядили, как им теперь быть.
Долгорукий занял Киев 20 марта, и уже на другой день поскакал в Галич скорый гонец.
Ольга торжествовала. Наконец-то отец её, опора её и защита надёжная, занял подобающее ему по праву место. Именинницей чувствовала себя галицкая княгиня. Велела учинить пир в своих палатах в загородном сельце, созвала всех ближних бояр, с утра стала наряжаться в лучшие одежды, крутилась перед большим серебряным зеркалом.
Поверх нижнего платья — камизы[186], с узкими долгими рукавами, перехваченными на запястьях золотыми браслетами, облачили свою госпожу проворные служанки-суздальчанки в ромейскую багряницу — столу[187] с широкими короткими рукавами едва не до пола. Поверх столы на голову и плечи велела Ольга надеть синего цвета мафорий с бахромой, ноги обула в красные сапожки с самоцветами.
Радовалась молодая княгиня, чуяла власть свою и силу, надменно вздёргивала голову, свысока посматривала на приближённых — вообще на всех вокруг. Что ей теперь даже и муж! Никуда не денется, пребывать будет отныне в тестевой воле. Ишь, ходит мрачный да задумчивый, всё размышляет, как да что. А что толку размышлять! Кланяться надо в пояс батюшке её — великому деяниями своими и ратями князю Юрию.
Ярослав зашёл к ней в бабинец, взглядом велел колдовавшей вокруг своей госпожи холопке выйти, повалился на лавку. Был он тоже одет нарядно, в голубой длиннополый кафтан, под которым видны были ворот и рукава нижней шёлковой сорочки нежно-розового цвета. Такой же расцветки был и верх парчовой шапки, окаймлённой опушкой меха желтодущатой куницы.
Княгиня тем часом заканчивала своё одевание.
— Прямь царица заморская, — усмехнулся, рассматривая её, Ярослав. — Вижу, рада.
— Как не радовать. Одолел ворогов всех батюшка. Топерича и тобе б порадовать мочно. Чай, никто на городки твои не позарится.
Ольга стала медленно натягивать на руки алые сафьяновые рукавицы с золотой прошвой.
— Ну вот, теперь не хватает токмо короны на голове, а так — вылитая базилисса! — Ярослав рассмеялся, следя за её движениями.
— А чем хуже! Волость обильная, свой двор имею.
— Имеешь. Думаю, и в дальнейшем иметь всё это хочешь. Говоришь, отец твой — мой покровитель добрый. Так вот, жёнушка дорогая. Дело к тебе есть. Ты уж наберись терпенья, постарайся да отпиши в Киев.
— Ведаешь ить, худо я пишу, — Ольга капризно надула губку.
— Ничего, пару слов всего и надо тебе начертать, — Ярослав поднялся, резко распахнул двери горницы, глянул в тёмный переход. Там не было никого. На стене чадил факел.
Он снова захлопнул двери. Жена недоумённо повела плечами.
— Что-то важное? — спросила она, обеспокоенно хмуря чело.
— Важное. Ворогов у нас с тобой обчих хватает. А главный из них знаешь кто?.. Молчишь?.. Иван Берладник, двоюродник мой — вот кто!
Ольга невольно вскрикнула, но сдержалась и через силу улыбнулась.
— В порубе он сидит у князя Юрья, — продолжил Ярослав. — Вот и напиши отцу своему, чтобы привезли Берладника в оковах в Киев и в мои руки отдали. А уж я решу, как с ним поступить.
Ольга насупилась, стала нервно кусать уста. Праздничного настроения её как не бывало.
— На что он тебе надобен? Сидит, и пущай сидит в яме вонючей. На что тебе заботы лишние? — стараясь выглядеть равнодушной, снова передёрнула она плечами.
— Будет Берладник в моих руках, спокойней мне будет. А так... непостоянен твой отец... Возьмёт да отпустит его.
— Так может... ты бы сам батюшке отписал. С тобою он согласится. А я... — Ольга наклонила голову к плечу Ярослава. — Меня он может не послушать.
— Ладно, пусть так, — кивнул князь, согласившись с её доводами.
На том разговор и закончился. Ольга вдруг вспомнила о страшном евнухе Птеригионите. Сейчас ей очень сильно мог пригодиться этот неприметный маленький человечек.
ГЛАВА 29
Ходил-бродил маленький человечек по торгу, щупал костистыми перстами дорогие заморские ткани, причмокивал языком. Торговался визгливым дребезжащим голоском, доставал из сумы серебро нехотя, с сожалением.
Купил, наконец, нужный отрез ткани, засобирался сразу, подошёл к своему притулившемуся на краю торжища возку. Тут вдруг окликнула его, потянула за рукав свитки некая молодица в белом саяне[188]. Молвила тихонько:
— Сожидай ввечеру гостей.
Вздрогнул человечек, испуганно забегали его чёрные вишни-глаза, стал озираться он по сторонам, а молодицы уже и след простыл.
Воротился грек к себе в терем, отослал всех слуг кого куда, запер двери, стал с волнением дожидаться вечера.
В сумерках, в самом деле, тихо стукнул кто-то в дверь. Осторожно, дрожащими дланями отодвинул Птеригионит засов.
Некто большой и полный протиснулся в горницу. Намётанный глаз евнуха сразу признал женщину. Он зажёг свечи, сел на лавку напротив нежданной гостьи. Жёнка была в тёмной, но богато отделанной серебром одежде, лицо её покрывала булатная личина.
— Дело к тебе, — хрипло промолвила она, положив на стол перед собой тугой мешочек.
— Без дела ко мне не приходят, — Птеригионит мрачно ухмыльнулся.
Жёнка сняла личину. Тотчас признал евнух княгиню Ольгу.
— Ты княгиня галицкая, супруга Ярослава! — немало удивился он.
— Как видишь.
— Что же ты хочешь от меня? Я так понимаю, у тебя есть враг, которого надо...
Он не договорил.
— Прав ты, грек. Враг тот сейчас далеко. В Суздале. Сидит в темнице у моего отца, князя Юрия. Зовут его Иван Берладник.
— Твоему супругу он двоюродный брат и, значит, может претендовать на престол в Галиче.
— Да, так. И мой супруг хочет, чтобы мой отец передал Ивана в его руки.
— Он правильно поступает. Очень осмотрителен твой мудрый супруг, — пробормотал евнух, обнажая свои безобразные огромные зубы.
Ольга поморщилась от отвращения.
«Фу, какая гадость этот Птери... Запомнить никак не могу», — подумала она и решительно заявила:
— Ты не должен допустить, чтобы Иван Берладник попал к моему мужу... Живым... Ты понял?
— Конечно понял. Скопец Птеригионит не задаёт лишних вопросов. Вопрос у меня к тебе один, светлая госпожа: когда мне выезжать?
— Как уговорятся князья о выдаче Ивана, дам я те знать. Тотчас и поедешь. А дальше сам разумей. Спроворишь дело — озолочу. Нет — худо будет.
В хриплом голосе звучала угроза. Евнух нервно облизывал губы, косил вишнями-глазами по сторонам, прикидывал, соображал.
— Трудное дело. Князя Ивана крепко стерегут. Если только... Если будет очень много серебра, я смогу... — осторожно проговорил он.
— За сребром дело не станет, — Ольга брезгливо скривилась и махнула рукой.
Тугой тяжёлый мешочек тотчас полетел в сторону Птеригионита.
— Справишь дело, втрое боле дам.
— Не ведаю, скоро ли удастся мне подобраться к князю Ивану, — качая головой на тонкой змеиной шее, продолжал сомневаться Птеригионит. — Иногда проще оказывается отыскать путь к человеку свободному, чем к пленённому. Но я попробую.
Он развязал мешочек, скрупулёзно пересчитал серебряные слитки, стал пристально разглядывать находящиеся тут же несколько золотых колец.
Ольга с презрением смотрела на костлявые пальцы евнуха.
«Боже, какая гадина! Змеюка ядовитая!» — В душе у ней всё переворачивалось от омерзения.
— Что, мало? — спросила княгиня, пренебрежительно морща нос.
— Не в этом дело. Серебра и ценностей, конечно, достаточно. Для предварительной оплаты моего труда. Но, возможно, придётся купить кое-кого. Поэтому прошу, светлая госпожа, ещё столько же.
— Ладно, будет тебе серебро. Пред тем как поедешь, дам. Только дело справь. Гляди у меня! — Она поднесла к лицу грека довольно увесистый пухлый кулак.
Евнух испуганно отпрянул. Ольга наигранно, через силу расхохоталась. Затем резко поднялась с лавки, стала надевать личину, промолвила глухо:
— Пора мне идти. И не вздумай обмануть. Из-под земли достану!
Евнух, приложив руку к сердцу, отвесил ей глубокий поклон. Лязгнул засов, провалилась во тьму южной ночи зловещая фигура в чёрной одежде.
— Вот тебе и княгиня, — прошептал в пустоту Птеригионит, закрывая дверь и пугливо озираясь.
ГЛАВА 30
Снова сидел Ярослав с ближними своими людьми в малом Владимирковом покое, разложив на столе тестевы грамоты — багряного цвета, с золотой печатью — стойно хрисовулы[189] ромейского царя. Напротив него — всегда серьёзный задумчивый Избигнев, рядом с ним Семьюнко ерошил рыжие кудри, чуть поодаль — опытный дядька Гарбуз, воевода Тудор и молодой Коснятин Серославич, которого по просьбе Тудора недавно ввёл князь в члены своего «малого совета».
— Добр молодец... Рать добро знает... Ум хорош, — хвалил Коснятина воевода.
Умные советники были надобны, хотя отец Серославича некогда крепко спорил и возражал Ярославу. Ну да сын ведь за отца не в ответе.
— Вот прислал князь Юрий из Киева грамоты. Велит мне по праву старшего идти ратью на Волынь, на Луцк. Видно, не желает мира на Руси. Хочет вовсе Изяславовых сынов волостей лишить, — Ярослав вздохнул. — Хоть и клялся киянам, что с миром идёт, а всё одно послал воевод своих на Пересопницу, где засел Мстислав. Не стал старший Изяславич ждать осады, отъехал сперва в Луцк, к молодшему брату, а затем и дальше, в Польшу рванул. Помощи против князя Юрья просит. Испрашиваю вашего совета. Как мыслите, что нам теперь делать? Говори ты первый, Тудор.
— Каназ Юрий — сильный. Много войска имеет. Против него идти — нет, не нада. Нада Луцк идти, копьём брать, — решительно заявил печенежин.
— И я с сим соглашусь, — поддержал Тудора Коснятин.
— Так. Ну а ты что скажешь, Гарбуз?
— Я тако смекаю, — начал старый боярин, вытирая с чела обильный пот. — Тудор правильно байт: в силе ныне Долгорукий. Нам супротив его не стать, супротив его не выдюжить. Но то нынче. А дале... Сегодня — тако, заутре — инако. Мыслю, на Волыни у Изяславичей крепкие корни, а у Долгорукого в Киеве корней нет.
— К чему ты? Не уразумею тебя, боярин, — нахмурился в ответ на скользкую осторожную речь молодой Серославич.
— Погоди, Коснятин, — остановил его Ярослав. — Кажется, понял я тебя, дядька. На Луцк идти, но на штурм не бросаться. Обложить город и стоять, вестей сожидая. Так, что ли, надо, по-твоему?
— О том и толкую, — кивнул Гарбуз, довольный тем, что князь угадал его мысли и сказал прямо о том, о чём он начал толковать издалека.
— Потом, Волынь — земля нам не чужая, земля соседняя, — продолжал Ярослав гнуть своё, — разору её сёла и нивы подвергать нам выгоды особой нету. Злобить Изяславичей такожде ни к чему. Стоять и сожидать... Оно тако. Вроде и Долгорукого не ослушались, но и не содеяли ничего. Ты что скажешь, Избигнев?
— А если в Киеве догадаются, что нет у нас рвения особого супротив Изяславичей? — высказал свои сомнения Избигнев. — Не навредим ли мы себе?
— Если и навредим, то менее, чем ежели супротив Мстислава большую войну начнём. Мы — его разорим земли, он — наши. А князь Юрий будет в Киеве сидеть и меды попивать и подсмеиваться над удальцами галицкими да волынскими, кои друг дружку тузят. Нет, други! Полагаю, прав боярин Гарбуз, — заявил молодой князь. — Ты как думаешь, Семьюнко?
— Я с тобою согласен, княже, — коротко отмолвил рыжий молодец.
Необычно хмур был сегодня Семьюнко. Всё не выходила из головы у него Оксана. Послал ей в Коломыю в дар браслет серебряный, так воротила, сказала, что не может столь дорогой подарок принять. Хотел было рассказать обо всём Ярославу, посоветоваться, но отверг эту мысль. У князя и без него забот немало. А если сватовство учинить, дак жёнка Оксанка упрямая, твёрдая, может и князя не испужаться, даст ему от ворот поворот. Тогда и в думе сей, верно, не доведётся впредь Семьюнке сиживать.
Невесёлые обуревал и рыжего молодца думы.
Меж тем Ярослав совет продолжил.
— Ещё одно дело у меня к вам, мужи, — он замялся на мгновение. — Неприятное вельми дело. Сидит у тестя моего в Суздале в порубе двоюродник мой, Иван Берладник. Все вы его по прежним делам знаете. Знаете и то, что не прочь он столом галицким завладеть. Вот и полагаю... Уговорить надо князя Юрия, чтоб выдал мне Берладника головой.
— Верно говоришь, князь! Берладник тот — боль наша головная обчая, — поддержал первым Ярослава Коснятин. — Разбойник, вор. Вотчины наши он разору подверг, с подручниками своими. Бояр не уважал, тех, кто отцу твоему, князю Владимирку, служил верно.
— Сговаривал чернь супротив бояр, — добавил, поглаживая седую бороду, Гарбуз.
— А вот получишь ты Ивана, княже, и что дальше будешь с ним делать? — спросил Избигнев.
Вопроса этого Ярослав боялся больше всего. Не знал он на него ответа. Выручил тот же Гарбуз.
— Да нам бы заполучить его сперва. Тамо видно будет, чё деять, — веско заметил опытный дядька, обрывая тем самым сомнения и споры.
Заговорил Семьюнко.
— Дело непростое, княже, Долгорукого-то уговаривать. Любого из нас может он не послушать. Тебе бы самому с им встретиться да столковаться.
— В этом ты прав. Сперва мыслил грамоту в Киев отослать, а потом смекнул: грамотой тут не отделаешься. Думаю, как с Луцком дело утрясётся, поеду сам в Киев, — промолвил Ярослав. — А покуда вы, Тудор и Коснятин, рати готовьте. А ты, Семьюнко, сторожу на Волыни наладь. Чтоб ведать могли мы, что где творится.
Совет был окончен. Уже после подозвал Ярослав к себе Семьюнку, вопросил прямо:
— Что с тобою, друже? Мрачный ходишь, очи потупивши. Беда какая стряслась? Помочь тебе если чем, дак проси, не бойся.
Семьюнко, собравшись с духом, поведал ему о боли своей сердечной, рассказал о встрече в Коломые, о красоте Оксаниной, о возвращённом браслете.
— И что, столь дорога тебе вдовушка эта соломенная? Друже, да брось ты! Иную найдёшь! — попытался ободрить его Ярослав. — Если нет у неё к тебе любви, гак оно потом проявится. Жизнь себе испортишь, и ничего более. Пусть сидит на богатстве своём, как Иов на куче дерьма! Забудь ты её!
Семьюнко слабо улыбнулся в ответ, качнул рыжеволосой головой, промолвил тихо:
— Извини, княже, но не могу покуда. Запала в душу мне.
Он поклонился и выбежал в дубовые двери, унося с собой боли и страдания свои.
Ярослав долго смотрел ему вслед, а затем сел на скамью и, подперев рукой щёку, предался невесёлым раздумьям.
Не испытал он доселе любви, яркой, светлой, такой, чтоб обожгла, чтоб осветила и очистила его, чтоб душа в душу, сердце в сердце. Иной раз проезжал на коне по подолу градскому, смотрел на какую стройную молодицу, любовался красотой её и грациозными движениями, и хотелось посадить такую впереди себя на конь, расцеловать в ароматные щёчки, зарыться лицом в каскад волос, ощущая их невинный запах — запах юности и счастья. Или даже в хоромах княжьих — вон сколько красовитых холопок. Но князь и холопка — нет, ни за что! Тогда, выходит, не познать ему никогда того даже, что испытывает сейчас Семьюнко. Выходит, отрок счастливее князя!
Или придёт она к нему, любовь, раскроет врата, опалит жар-птицей, просто не дожил он до неё, не дорос, не постиг. А может, прошёл мимо, не заметил? Да нет, этого не заметить нельзя. Ждать надо! И надежду питать. В конце концов, ему ведь только двадцать девять.
А как же Ольга? Куда её девать? Как далека она от его чувств! Грубая, похотливая, растолстевшая, словно откормленная кобылица на вешнем степном лугу. Почему мир так устроен? Не вольны они, князья, выбирать, не их удел — девы подольские. Власть требует жертв. Но другим же ведь везёт! Вон, говорят, Мстислав, души в своей Агнешке не чает! Какое, наверное, счастье это великое — знать, что ждёт тебя дома жалимая, одна-единственная женщина, которой готов ты все царства к ногам бросить! Не то что дочь Долгорукого — сварливая грубая баба, хитрая, исполненная едких насмешек!
Хотелось жить, любить, верить в свет будущего.
Он опять стоял на коленях перед Богородицей. Он молил послать ему любовь — светлую и чистую, как солнечный луч. И проникался верой, что грядёт она, грядёт непременно.
Пока же надо было творить земные дела.
ГЛАВА 31
Под Луцком стояли недолгое время. Изредка ратники лениво перестреливались, кричали друг дружке обидные слова, переругивались, но до серьёзных действий не доходило. Жара стояла на берегах болотистой Стыри, медленно журчали водяные мельницы в пригородных сёлах, шумела листвой роща, близ которой располагался Гай — загородный дом луцких князей.
Высоки и крепки дубовые стены Луцка. А вокруг стен — рвы с водой, болонье болотистое, рядом — окольный город, тоже добротно укреплённый.
Из соседнего Владимира-на-Луге подоспел с ратью на подмогу Ярославу князь Владимир Мстиславич. Приходился он молодшим братом покойным Изяславу и Святополку, был молод — лет от роду имел всего двадцать пять, и, видно, как и Ярослав, исполнял грозный приказ Долгорукого без особой охоты. На галицкого владетеля посматривал он заискивающе, всё жаловался на бедность свою и бескормицу, всё вздыхал.
Вослед князю своему вздыхали бояре, простые же ратники нехотя объезжали луцкую твердыню и качали только головами да причмокивали языками: крепкая, мол, крепость. Как будто не на войну явились волыняне, а только чтоб показать малость свою и пожаловаться на то более богатому и сильному соседу.
Тем временем Семьюнко наладил сторожу, стало известно, что ляхи пришли на Волынь в помощь Мстиславу, но, видно, и им воевать не хотелось. Пограбили польские ратники сёла да воротились восвояси, наполнив добром обозы. Как проведал Ярослав, что убрались ляхи, тотчас велел отходить. Так и сказал на совете Владимиру Мстиславичу:
— Малою силою Луцк не взять. О том князю Юрию и скажу, посла направлю. Стоять же тут безлепо нечего, брат. Ты иди во Владимир, а я в Галич.
Ночью отхлынули галичане и владимирцы от стен и разошлись по своим волостям. Не было ни мира, ни войны, одно разоренье от ляхов да пустая похвальба.
Воротившись в Галич, Ярослав стал готовиться к скорой поездке в Киев. С князем вместе отъезжала в Киев к отцу княгиня, и многие бояре должны будут сопровождать их, и дружина. Собирались обозы с подарками Долгорукому и его окружению, наполнялись дорогими одеждами медные лари, дружинники чистили кольчуги и шеломы. Не хотел Ярослав ударить в грязь лицом перед тестем.
...При виде розовой нарядной Софии и церкви Благовещения на Золотых воротах нахлынули в душу Ярослава воспоминания. Вот здесь их с Ольгой венчали, он стоял ошарашенный, подавленный неимоверным количеством золота, драгоценностей, лампад, хоросов, многолюдьем. И как хотелось ему убежать тогда от этой торжественности, стать незаметным, маленьким, исчезнуть, раствориться! Пять лет минуло, а словно не изменилось ничего, и снова ловит он на себе сотни любопытных взглядов, видит лица заискивающие, улыбающиеся, хмурые, насторожённые, а потом они словно сливаются воедино, растворяются, и замечает вдруг он перед собой высокого полного старика с долгой седатой бородой, простирающего к нему свои несоразмерно длинные руки с крупными ладонями, с лицом, на котором играет довольная улыбка, и слышит то ли довольное, то ли насмешливое:
— Ну, здравствуй, зятёк!
Долгорукий, как обычно, пировал. В старых киевских хоромах, где когда-то восседали Владимир Мономах и Мстислав Великий, рекой лились меды. Все — и бояре, и отроки, и даже холопы были хмельны, всюду натыкался Ярослав на тела упившихся людей, всюду замечал обронённые пустые чаши. В тёмном переходе едва не вступил в блевотину, в последний миг отдёрнул ногу, плюнул и тихо ругнулся.
В горнице ему плеснули из ендовы красное вино, он поднял чару за здоровье князя Юрия и его семьи.
— Вино греческое любишь, зятёк, — смеялся, дыша Ярославу в лицо перегаром, подвыпивший Юрий. — Гляжу, тонок да нежен ты, стойно деревцо прихотливое. А мне-от сего не нать. Мне — мёд крепкий, чтоб душу насквозь!.. А ещё пиво люблю просяное... Вино есь на Руси веселье пити! Не мочно нам без того быти! — Заплетающимся голосом изрёк он старую пословицу. — Эй, отроки! Подливай вина! Гудцы! Громче играй!
Загремела музыка, закружились в танце наряженные в разноцветные одеяния гулевые девки, скоморохи в масках-скуратах выкидывали коленца. От криков и шума кружилась голова, в висках у Ярослава стучало: «Когда ж это кончится?! Господи!»
Шуршали одежды, звенели чары, кричали наперебой пьяные суздальские ближники Долгорукого, славили своего князя, а он сидел, хитровато щурясь, косился в сторону Ярослава, медленно попивал своё просяное пиво.
Наконец, Ярославу посреди всеобщего веселья удалось незаметно улизнуть из горницы. Через сени выбрался он на крыльцо с мраморными ступенями, устало присел на холодную мраморную же скамью на всходе.
Вечерело, заканчивался душный жаркий летний день. Свежий ветерок приятно обдувал лицо. Быстро наступили сумерки. Зажигались свечи в окнах соседних палат и теремных башен. Тишина царила, после шумного пира было особенно приятно сидеть здесь, прислонившись спиной к стене, и не думать ни о чём серьёзном, только созерцая гаснущую зарю и первые крохотные звёздочки на темнеющем небосводе.
Чья-то большая длинная тень легла на ступени всхода. Человек тяжело поднимался вверх, заметил его, остановился. Окликнул негромко:
— Никак, князь галицкий? Ярослав Владимирыч?
Ярослав встрепенулся, вскинул голову, оглядел подходившего к нему кряжистого плечистого человека. Вот показалась в призрачном свете короткая чёрная борода, Ярослав рассмотрел скуластое лицо с продолговатыми половецкими глазами и немного приплюснутым носом.
— Князь Андрей Юрьевич! — узнал он в подошедшем старшего сына Долгорукого.
В простой суконной рубахе, подпоясанной ремнем, в коротких башмаках и войлочной шапке, походил Андрей сейчас скорее на какого-нибудь отрока или слугу. И узнал поэтому его Ярослав не сразу. Вспомнил, как встречал их с отцом Андрей в Киеве, как по поручению Юрия «отдавал» ему невесту.
— Давно в Киеве? Я-от тож давеча из Вышгорода[190]. Что отец, всё веселится? Ты где остановился? — забросал его Андрей вопросами. — У Бориславичей? Знаком с ими? Люди книжные, учёные, одобряю твой выбор. И Ольга с тобой? Давно не видались. Пошли, брат, в хоромы, что тут сидеть. Нет, не на нир, не думай. Наверху есь тут у мя покой. Посидим, побаим. Есь, чай, о чём.
По крутой и длинной лестнице поднялись они на верхний ярус хором, миновали гульбище, затем снова поднимались по кривым ступенькам в каменную башню.
Челядинец услужливо распахнул дверь в просторный покой с забранными решёткой двумя маленькими окнами. Зажглась свеча, вспыхнул огонь в паникадиле, подвешенном на цепях к потолку.
— Выйди! — грубовато прикрикнул Андрей на челядинца.
Они остались вдвоём, сели на крытую медвежьей полостью лавку.
Явилась вскоре проворная девка, поставила два кувшина с медовым квасом, принесла блюдо с нежной телятиной и фрукты. Глянула на сорокалетнего господина лукаво-нежно, тотчас по взмаху его руки скрылась, юркнула в боковую дверь.
«Верно, не пренебрегает холопками. Жена далеко, в Суздале», — успел подумать Ярослав, прежде чем Андрей начал разговор.
— Побывал на пирушке отцовой, повидал, как тут все упиваются? — с усмешкой спросил Андрей. — Тако кажен день по седмице цельной. Эх, отец, отец! А ведь умный человек, справедливый правитель! Ты бы видел, как он Залесский край обустроил. Всюду крепости возвёл, народу много перевёл с Южной Руси, землёй пахотной наделил. Вот и сидел бы в Суздале, княжил, ан нет!.. А знаешь, почему? Потому как старое, родовое в крови. «Я — старший, я — в Киеве быть должон!» А что Киев! То раньше было — первый стол, Русь единая. Давно те времена минули, и князья, те, прежние, кои на Царьградских вратах щиты прибивали, Корсунь[191] копьём брали, хазар и половцев бивали так, что вся Степь содрогалась, где они? Нет их! И быть не может! А почему? Да потому что расцвела Земля Русская, города расстроились, народу прибавилось. Уже не в лесах дремучих племена славянские Перуну[192] да Сварогу[193] на капищах требы правят, а повсюду — церкви стоят, и градов, яко грибов после дождя. Вот и прошла, истаяла власть и слава Киева. Отец мой понять того не хочет, и держится, хватается за прежнее, за стародавнее. Да токмо одними былинами не проживёшь. Ты, Ярославе, пей, пей квасок. Добрый он, не хмельной. Вот твой отец покойный, князь Владимирко, я его за что уважал? Первым он из всех понял: нечего за киевским столом, яко за лебедицей в небесах, гоняться. Свой стол крепить надобно. Чтоб не рыхлые вотчины княжеские, в каждой из коих — свой князёк мелкий, брат там, сват али Бог весть кто был, но чтоб укреплено было большое и сильное княжество своё. О том и заботу имел. Цвела и людьми полнилась ваша Червонная Русь в его княжение. Такожде и у нас на Суздальщине. Всё путём шло, покуда не взялся отец Киев добывать. Хотя и не любят его здесь. По очам бояр да отроков вижу: токмо и ждут, когда уйдём мы отсель. Тако вот, Ярославе. Мне дал отец Вышгород в княжение. Ну, приехал я туда, поглядел. Нет, не по мне этот городишко. Хочу обратно, в Суздаль. Знаю, мыслит отец отдать Залесье молодшим сынам, но я уж его уломаю. Ворочусь к себе... Да, к себе. Там всё своё, родное. И ты ведь, верно, Галич на Киев не променяешь? А, Ярославе?
— Не променяю, брат. Червонную Русь крепить стану, а Киева мне не надо, — сказал откровенно Ярослав.
— Вот. И верно рассуждаешь. А Киев... Ну, будет в нём князь некий... Да не едино ли, кто... Полагаю, мы, сильнейшие князи: суздальский, галицкий, черниговский, смоленский должны достойного сами избирать и садить на стол. Ну, а еже и не так, всё едино...
Андрей умолк, видно было, что сказал всё, что было на душе. Потом поднял на Ярослава свои хитрые половецкие глаза, такие же, как у Ольги, только чёрные, жгучие, пронизывающие, спросил:
— Сестрица-то моя, как тебе, не шибко, верно, люба? Норовиста излиха. Да и раздалась вширь безмерно. Может, тебе, чтоб не скучно было, холопку прислать? У меня оставайся, ночуй, места, чай, много.
— Да нет, брат. Спаси тебя Бог, да я уж, верно, пойду. С отцом твоим потолковать мне надо будет вскорости.
— Ну что ж, — Андрей развёл руками. — Как говорится, насильно мил не будешь. Мыслю, однако, надолго ты здесь, в Киеве, останешься. Пока отец пропьётся да проспится, не один день минует. Так ты давай, заходи. Побаим. И о холопках не забывай, — он лукаво подмигнул.
Они пожали друг другу руки, после чего прежний челядинец вывел Ярослава через лабиринты переходов и гульбищ обратно на крыльцо. Там уже ждали Ярослава гридни и отроки.
— Поехали. На Бориславово подворье, к Нестору. Заутре всем отдыхать, — объявил молодой князь, чувствуя, как накатывает ему на плечи усталость после долгого пути, шумного застолья и всех этих высокоумных разговоров.
...О Берладнике он смог перетолковать с Юрием только спустя седмицу. Они сидели на гульбище, солнце обливало широкую площадку со столом посредине. Юрий пил всё то же просяное пиво, слушал Ярославову просьбу, супил косматые седые брови.
— Тебе... Ивана Берладника?! — Он многозначительно хмыкнул, вытер рукавом длинные усы, уставился на зятя пьяными глазами. — А ты его убьёшь, да?! Или в порубе сгноишь?! Батюшка твой покойный тако бы содеял. И не жалко тебе забубенной сей головушки?! Молодца удатного?! Воеводу б такого иметь — цены б ему не было! А как князь Иванко — слаб!
— Так отдашь? — нетерпеливо спросил Ярослав.
— Отдам. Зимой привезу в цепях в Киев. Забирай его тогда! Хоть и жаль, жаль молодца! Эх, головушка лихая! Такого губить — жаль! Но я... Я ради Ольки токмо... Дочерь любимая... Ты её береги! Не она — вот был бы те Иванко!
Долгорукий протянул к Ярославу свою длинную длань и показал ему кукиш.
Ярослав сдержался, хотя в душе у него всё кипело от возмущения.
«Подручником своим меня считает. Ну ладно, стерплю я покуда. Но коли Берладник у меня будет, тогда...»
Он твёрдо решил сейчас, когда смотрел на подвыпившего тестя, Берладника непременно уничтожить. Пусть что хотят думают о нём потом, пусть осуждают. В эти мгновения он ненавидел своего двухродного брата, ведь из-за него, выходит, сейчас вынужден он терпеть и позволять, чтобы так глумился над ним, владетелем Галича, этот пьяница Долгорукий!
Но полно, полно! Потом, после будут новые люди, новые союзы, новые князья. И вспоминать этот кукиш будет он со снисходительной усмешкой. Андрей был прав. Он умён, он намного умнее своего отца. И править он будет... Киевом править... из Суздаля... Вот в чём смысл давешних долгих речей его.
На следующее утро, распрощавшись с Долгоруким и его сыном, Ярослав стал собираться в обратный путь. Но прежде чем отъехать к себе в Галич, должен был молодой князь побывать ещё в одном месте. Ближе к вечеру, когда спадала мало-помалу летняя жара, а у окоёма с северной стороны по казались серые тучи, предвещая скорый дождь, направил он стопы в Печерскую лавру.
Ввысь возносилась одноглавая златоверхая церковь над главными воротами монастыря. За чугунной решёткой открылась широкая площадь, к которой примыкали трапезная и огромный Успенский собор, гоже одноглавый, с куполом на толстом изузоренном каменной резьбой барабане[194]. За собором сбоку шёл вход в Ближние пещеры. Ярослава окутал мрак, он спускался куда-то вслед за монастырским служкой по узким ступеням, затем поднимался и спускался вновь. Тонкая свеча в деснице горела переливчатым неярким светом, время от времени выхватывая из темноты ниши с мощами святых или входы в кельи.
Из Ближних пещер они проследовали в Дальние, расположенные ниже по горе. Здесь сильнее чувствовалась сырость, стало ещё темнее. Наконец, служка остановился возле одной из келий. Навстречу Ярославу поднялся ветхий летами старец с морщинистым жёлтым лицом, худой, с белой бородой до колен. За спиной его виден был чёрный куколь[195], такого же цвета долгое одеяние было в нескольких местах аккуратно заштопано.
— Игумен Акиндин? — вопросил Ярослав старца.
— Он самый. Здрав будь, княже. Господь милосердный да пребывает с тобой, — голос у старика оказался неожиданно сильным. — Разумею, Ярослав, князь галицкий, предо мною?
— Это так, святой отец.
Вспыхнули свечи в фигурном трёхсвечнике на столе. Игумен пригласил Ярослава сесть на низкую дощатую скамеечку. Было холодно и сыро, в углу по стене сочилась вода. На столе рядом с трёхсвечником лежала краюха хлеба, стояла деревянная миса и жбан с водой. Медный ларь и крытое грубым рядном[196] деревянное ложе — вот и всё убранство утлого жилища печерского монаха.
— Не перебрался покуда в покои. Недавно игуменствую, — пояснил Акиндин. — После Петрова поста перейду наверх. Последние деньки в молитвах доживаю. А тамо пойдут дела разноличные — воск надобен для обители, книги, одежды, сосуды церковные. Да много чего. За всем сим игумен назирать должон. А ты, княже, по каким делам у нас?
— Поклониться пришёл святым мощам преподобных Феодосия и Антония. Ну, и потом... Отче, посылал аз в монастырь перевод Хроники Амартола...
— Помню, как же. Скажу тако. Наделил тя, Ярославе, Господь и уменьем книжным, и слогом добрым. — Акиндин кликнул служку. — Позови брата Варсонофия!
Через некоторое время в келью прошёл высокий монах в чёрном куколе. В руках он держал толстую книгу в деревянном окладе, украшенную медными застёжками.
— Вот твоя Хроника, — сказал Акиндин. — Переписана мнихами нашими, заставками, рисунками дополнена. Два лета списывали.
Долго смотрел Ярослав книгу, листал осторожно пергаментные страницы, восхищался красотой букв и рисунками. Вот заглавная «В» извивается киноварью, стрелы и щит начертаны, вот птица вещая синим с изумрудным цветами изукрашена, а вот старец седой в полотняной рубахе белой склонился над летописью.
— Твой, княже, труд, ты переводил, писал, — говорил И1умен.
Становилось от этих слов молодому князю приятно, легко, все заботы мирские уходили куда-то посторонь, была только эта книга, были монахи и была радость от хорошо сделанного труда.
«Господи, хоть что-то доброе содеял!» — подумалось Ярославу.
— Забирай, княже, хронику. Твоё се детище, — молвил Акиндин.
— Книгу сию дарую монастырю. И прошу поминать имя моё в молитвах. — На глазах Ярослава внезапно выступили слёзы.
Высокий монах унёс книгу из кельи. Некоторое время князь и игумен молчали. Наконец, Ярослав заговорил:
— Просьбу имею, святой отец. Послал бы ты мне в Галич инока или послушника, в грамоте и книжной премудрости смыслённого. Много книг и грамот в хоромах у меня накоплено, а разобрать их недосуг. Знающий человек надобен.
— Пришлю, княже, — кивнул головой Акиндин. — Мнихи такие есть у нас.
Они попрощались. Служка снова вёл Ярослава по подземным переходам, снова видел он кельи и ниши, видел монахов в чёрных одеждах. И думалось: тут совсем другая жизнь течёт, размеренная, спокойная, отрешённая. И во многом она лучше, чище, чем то, что творим мы там, наверху, по ту сторону монастырской ограды. Но для него, князя, эта жизнь чужая, и всегда останется чужой, слишком глубоко и сильно засосал его круговорот мирских дел, порою грязных и отвратительных.
Он шёл, держа в поводу коня, по киевским улицам, замечая, как первые капли тёплого летнего дождя прибивают к земле лёгкую дорожную пыль.
ГЛАВА 32
Ни зимой, ни весной никакого Берладника в Киев не привезли. Ярослав хмурился, почти с яростью вспоминая тестев кукиш и своё унижение. Заставил Ольгу писать грамоту Долгорукому, получил короткий ответ: не до Берладника, мол, покуда, иные дела, но о просьбе любимой дочери своей он, Юрий, помнит и всё исполнит... к следующей зиме. А чтоб не огорчалась сильно дщерь, шлёт он ей и внучке Фросиньке дары. Ольга получила соболью шубу, чуть не визжала от восторга, расхаживала в ней по хоромам, хотя стояла летняя жара, переваливалась, стойно матёрая медведица. Годовалой Евфросинье прислал «добрый дедушка» воз деревянных игрушек — были тут и коньки, и звери диковинные новогородской и суздальской работы, и матрёшки, собирающиеся одна в другую. Так и жили: Фрося играла с мамкой, пятилетний Владимир бегал по саду с соседской детворой, Ольга красовалась, Ярослав собирал бояр, ждал и ловил поступающие отовсюду вести.
А приходили они тревожные. Сперва вроде урядились князи, заключили мир, даже и с половцами договорился Долгорукий, но снова, в который раз забузил неуступчивый, твёрдый как кремень Мстислав Изяславич. Из-за какого-то сельца поспорил он с дядей своим, Владимиром Мстиславичем, разгневался и с налёту захватил Владимир-на-Волыни. При этом пограбил Мстислав имение матери Владимира, вдовой княгини Любавы Дмитриевны, отобрал у неё подарки, кои прислала вдове дочь её Фружина, супруга Венгерского Гезы. Незадачливый дядя вначале прибежал к Ярославу в Перемышль, но долго здесь не задержался, унёсся в Угрию просить у короля помощи против разбойника и грабителя.
Добро Любавино и саму вдову Мстислав отправил под охраной в Луцк, сам же изготовился к осаде. Снова назревала ратная гроза.
Вскоре в Галич из Киева от Долгорукого прибыл вооружённый до зубов отряд дружинников.
Шли плечистые добры молодцы, везли на обозах доспехи и оружие, впереди всех гарцевал на огромном вороном коне исполин в княжеском кафтане и багряном корзне с фибулой. Меч в обитых сафьяном ножнах висел за правым плечом на портупее, на шее блестела золотая гривна в три ряда. Борода у незнакомца была узкая и длинная, черноватая, а очи серые и холодные. Внушительный вид имел вершник. А как спустился с коня у ворот терема, как прогромыхал сапогами с боднями по ступеням крыльца, как распахнул дверь в горницу ударом пудового кулака, жутковато сделалось многим собравшимся у Ярослава боярам.
— Вот, князь Ярослав. Послан тестем твоим, Юрием Долгие Руки, к тебе на службу, — пробасил великан, протягивая Ярославу грамоту с печатью.
«Служивый князь. Наподобие Берладника. Удела не имеет, вот и служит другим за хорошие гривны», — думал Ярослав, разворачивая харатейный свиток.
Долгорукий опять издевался, глумился над зятем. Не взял, мол, Ярослав, в прошлое лето Луцк. Верно, дружина у тебя мала и слаба. Вот потому посылаю тебе добрых ратников из Пинска, Турова да Клецка. Ведёт их Святополк Юрьич, сын Юрия Ярославина, такого же безудельного горемыки. Так ты бы, зятюшко, пригрел родственничка сего. Станет сей Святополк служить тебе верно мечом своим харалужным. И добавил особо: клялся Святополк княгиню Ольгу, дщерь возлюбленную мою, ото всех бед боронить.
— Сколько у тебя ратников, князь? — спросил, прочитав тестево послание, Ярослав.
— Пятьдесят человек. Да ты на число не гляди, у мя кажен вой троих стоит! — возгласил Святополк, грузно садясь на жалобно скрипнувшую лавку.
Зашушукались бояре, закачали головами. Неспроста, чуяли, явился в Галич этот великан. Видно, ратная страда грядёт.
— Что ещё велел передать князь Юрий? — спросил Ярослав.
— Велит тебе, совокупив дружину и полк, на Владимир идти. Сам он выступил уже со Владимиром Андреичем, сыновцом[197] своим, вместях. И батюшко мой, Юрий Ярославич, с ими.
— Вот как. Что же, помыслить нам надо. Говорите, бояре, что думаете?
Поднялся Молибог.
— Идти надоть. Иного нет. Много лиха на Волыни Мстиславка творит. Недобрый он сосед.
— Давно воду мутит! — выкрикнул ГЦепан.
— Проучить надоть его! — шумели другие бояре.
— Тогда вот что, — объявил Ярослав. — Будем дружину готовить, выступим. И с князем Юрием станем гонцами пересылаться, чтоб ко Владимиру вместе всем подойти. Левое крыло ты, князь Святополк, под своё начало возьми. На правом крыле ты, Коснятин, главным будешь воеводой, ну а ты, Тудор Елукович, в челе рати станешь. Тако и порешим.
...Опять спешили гонцы, собирались в Галиче ратники, грузили на обозы кольчуги, шишаки, оружие. Весельем, гамом наполнился княж двор. Будто не на войну собирались, а на праздник весёлый, на свадьбу княжескую или боярскую.
На Подоле кипела работа. Ковали кузнецы мечи, наконечники копий, изготовляли добрые щиты.
Воевать не хотелось. Не иначе, как с раздражением вспоминал Ярослав тестя. Впрочем, Мстислав тоже был хорош. Одно радовало галицкого князя: ограбив княгиню Любаву, лишился Мстислав расположения короля Гезы. И надо было теперь, не теряя времени, постараться добиться союза с венграми. О том толковал Ярослав вечером с Избигневом.
У молодого Ивачича недавно умер отец. Угас, как свеча, тихо и медленно, старый Иван Халдеевич, завещал сыну Свиноградские волости свои, посетовал перед кончиной, что не дождался сыновней свадьбы, да на том и почил. Избигнев ходил в чёрном платне, скорбел, видно, но Ярославовы слова выслушал со вниманием, отмолвил тотчас:
— Позволь, княже, сам я в угры отъеду. Побаю и с Гезой, и с королевой Фружиной, и с вельможами многими. Ведаю их ещё с той сечи на Сане. Ты прав, еже оторвём угров от Мстислава, польза будет земле Галицкой.
Уехал Избигнев, приспела пора и ратникам галицким выступать в поход. Тем паче что Долгорукий торопил, слал гонцов одного за другим.
...Войска встретились у Свинуша леса, простирающегося на Волынских холмах. Зеленели дубравы, на полях созревали колосья спелой пшеницы, рядом ячмень шуршал волнами под порывами ветра. Солнце нещадно палило. Здесь, на этих холмах, зарождалась Луга — узенькая, но многоводная речушка, на которой ниже по течению и стоял город Владимир. До него ещё немало надо было пройти вёрст, но дорога была ровной и гладкой. Не узкие и крутые Подольские каньоны, а пологие линии холмов простирались вокруг, да леса зелёные шумели листвой могучих исполинов — дубов, полные живности. Кое-где отливали синевой озёра с чистой ледяной водой.
Воздух был свеж и прозрачен. Даже не верилось, что скоро война начнётся, лошади заржут яростно, стрелы со смертоносным пением взовьются, разрежут этот чистый воздух, железо заскрежещет, и польётся кровь. А всё потому, что поделить не могут обильную урожаями плодородную землю князи русские.
Юрий принял Ярослава в походной веже. Как всегда, пил он просяное пиво, сильно потел, смахивал с чела непрошенную влагу.
— А, зятёк! Сыскался, значит! То добре! Ходишь в воле моей! Хвалю! Я тя... паче сына, любить буду... — говорил Долгорукий. — А то вон мой Андрюшка... Стервец! Сбежал из Вышгорода в Суздаль! Проучу я его, ох, проучу! Золото увёз, икону Богородицы утащил! И меня не спросил!.. Вот каковы дети! Неблагодарны суть!
Ярослав сидел молча, вспоминал давешний разговор с Андреем. Вырвался-таки, ушёл из отцовой воли! Вот бы и ему, Ярославу, так. Да не получается покуда! Близко Галич от Киева. А чтоб от Юрия откачнуть, надобны крепкие соузники. У него, Ярослава, таковых нет. Да ещё этот Берладник. С ним тоже решить надо.
— Изяслав Давидович, Святослав Ольгович тож в поход просятся! Как думать, взять их! Много добра на Волыни, всем хватит! — продолжал тем часом князь Юрий.
Ярославу представились обильные рольи, сёла с белыми хатами и плетнями, чистые реки. Если объявятся здесь черниговские разбойники, то будут они только гадить, жечь, разорять, как было в Ушице, когда получил он шальную рану под глазом. С той поры и глаз хуже видеть стал. А может, то и не от раны, а от ночей за книгами при тусклом свете свечи.
Он ответил Долгорукому спокойно и твёрдо:
— Не стоит, отец, звать их. Сами как-нибудь Мстислава одолеем.
— Ну, оно, может, и вправду! Ну к бесу Давидовича! Прогоним с Волыни Мстиславку! — Юрий громко захохотал, тряся толстым животом.
...Два ряда наполненных водой рвов преграждали путь к Владимирской крепости. Дубовые стены достигали трёх-четырёх сажен. Да ещё башни везде стояли, а на заборолах всюду видны были немецкие самострелы и шеломы лучников. Да ещё был посад, который окружала тоже стена, хоть и не столь высокая.
— Укрепился, гад! — выругался злобно Долгорукий, объехав крепость со всех сторон. — Тамо — река, тамо — болото, а здесь в лоб стену не прошибить.
— И врата медные, с решётками, — добавил Ярослав. "
Они сидели в гой же походной веже на кошмах, держали совет.
— Волынь тебе отдам, — говорил Долгорукий своему племяннику Владимиру Андреевичу, кустобородому молодому человеку явно половецкой наружности, с чёрными усами, расту в ш ми только по бокам от губ. — Отцу твому покойному Андрею обещал тако.
— Дозволь, стрый, я покуда по волости с дружиной пройдусь, — попросил Андреевич. — Нервен, иные грады приведу в покорность. Чую, не скоро владимирцы сдадутся.
— Что, невтерпёж?! — хохотал Долгорукий. — Ну, что ж. Так тому и быть, добр молодец! Ступай по волостям, громи ворогов, приводи грады к покорности. Всё окрест — твоё! Тобе дарую!
— Стоит ли силы нам распылять? — осторожно спросил Ярослав.
— Да пущай идёт! — махнул рукой Долгорукий. — Нам больше добычи достанется во Владимире. Так ить, зятёк! — Он подмигнул Ярославу и снова раскатисто захохотал.
«Что ж ты за владетель?! Какую заботу о земле имеешь?!» — С едва скрываемым отвращением смотрел Ярослав на как обычно изрядно подвыпившего тестя.
Долгорукий расположился перед главными, северными воротами Владимира, называемыми Гридшиными, галичанам же велено было разбить стан перед южными, Киевскими воротами, через которые шла дорога на Луцк.
Воины расставили возы с доспехами и оружием, выслали во все стороны сторожи, установили перед валами палатки-вежи. В воздухе реял стяг с золотистым львом на голубом поле — знамя галицких князей.
Вечером вместе с Семьюнком и Коснятином Ярослав объехал окрестности лагеря. Опасаясь внезапного нападения, натянул на плечи кольчугу, воздел на голову прилбицу и любимый мисюрский[198] шлем, велел спутникам своим также одеться и вооружиться. Ехали по опустевшему окольному городу, выжженному перед осадой Мстиславом. Всюду были одни головёшки да старые покосившиеся хаты, пустые, заброшенные.
— Такие даже палить не стали, — заметил Семьюико. — Всё одно, сараи старые. Никуда не годны.
Вокруг царила тишина, была она тревожна и обманчива. Где-то совсем близко прятался ворог. Почему-то Семьюнке вновь вспоминался свирепый Дорогил.
...Рыжий отрок проснулся посреди ночи в лагере от внезапного шума. Вскочив, он отдёрнул войлочный полог. Какие-то люди с факелами сновали по полю перед крепостью, лязгали мечи, ржали кони.
— Что стряслось?! — крикнул Семьюнко в темноту.
В лицо ему ударил яркий свет. И увидел он, к ужасу своему, Дорогила.
— Вот ты где, Лис Красный! Ага, попался! — возопил Мстиславов вуй, бросаясь на Семьюнку с мечом.
Резкая боль обожгла плечо. Что было сил рванул Семьюнко в сторону, прыгнул куда-то вниз, больно ударился щиколоткой о колесо телеги, помчался дальше. Резануло спину, так, что он не удержался и упал ничком, лицом в грязь. Кое-как поднялся, огляделся по сторонам. Вокруг была тьма, откуда-то сверху слышались крики, там шумел бой. Выдернув из спины скользом поразившую его сулицу, шатаясь от ран, отрок побрёл, сам не ведая, куда. Так достиг он какого-то большого шатра, не имея сил, упал на него, ввалился внутрь, увидел вдруг перед глазами походную печь, мерцающий огонь и ложе.
С визгом прянули от него две простоволосые совершенно голые девки. С кошм вскочил толстый мужик, на ходу напяливающий на плечи рубаху, схватился за меч, подскочил к Семьюнке, злой, растрёпанный, гаркнул:
— Кто таков?! Как посмел?!
— Княже Юрий! — узнал вдруг Семьюнко Долгорукого. — Владимирцы... из ворот киевских вышли. Напали на стан наш. Дорогил... Дорогил тамо... — Он повернулся, указывая перстом в темноту.
Силы окончательно оставили израненного отрока. Рухнул он без чувств посреди шатра на войлок. По кошме растеклось тёмное пятно крови.
...Ратники Долгорукого вовремя подоспели галичанам на подмогу. Осаждённые быстро отступили в крепость, успев перед тем поджечь несколько Ярославовых возов. Ярко полыхало в ночи дерево, высоко вздымался бешеный огонь, а на крепостной стене сыпал проклятия Дорогил:
— Ну, ворог, Лисица Рыжая! Ушёл, гад! Опять ушёл! Ух, доберусь до тя! Сгною, сволочь!
Тем временем Ярослав, бледный от пережитого, гневно выговаривал виновато опустившему голову Святополку:
— Почто сторожи не расставил?! Говорил же тебе! Половину людей наших без малого посекли волыняне! Думать надо было!
Он пожалел, что не поручил левое крыло воеводе Тудору. Теперь же приходилось переносить лагерь поближе к Долгорукому, прижиматься к нему, отступать от южных ворот.
Утром Долгорукий вызвал его к себе, указал на лежащего в беспамятстве Семьюнку.
— Его благодари, Ярославе. Упредил мя вовремя. Твой человек?
— Отрок мой, Семьюнко! Что с ним?! Жив ли?! — воскликнул встревоженный Ярослав.
— Да жив! Токмо крови много потерял. Плечо поранено, да спина. Ничё, оклемается! Ишь, рыжий экий! Яко лиса!
Одна из девушек, колдовавших над раненым, тихонько хихикнула.
— Девкам моим он приглянулся! Что, еже оженим парня?! А, Ярославе?! Холост, верно, отрок-то сей?!
— Холост. Ты, отец, его сам вопроси, — Ярослав хмурился, глядя на бледное лицо Семьюнки.
— А чё его вопрошать! Вон Параска, девка, что нать! И не холопка, отец ейный в Суздале лавку держал! Тако игь?! А?! — Долгорукий шутливо шлёпнул девушку по ягодице. — Ну, а опосля князя отрок, чай, не потребует! Еже что, сватом я буду!
— Пусть вылечится, в себя придёт, потом видно будет, — отмахивался Ярослав. — Скажи лучше, отец, что нам теперь делать?
— Тамо поглядим! — недовольно отрезал ему в ответ Долгорукий.
...Князь Владимир Андреевич был ранен шальной стрелой под Червеном в горло и едва остался жив. В отместку он велел жечь сёла и деревни в округе. Так и не добившись от жителей Червенской твердыни покорности, в ярости повернул он обратно и вскоре появился в лагере Долгорукого.
Рати стояли под Владимиром десять дней. Ничего не выходило с осадой, крепко засел Мстислав в городе, ночами совершал дерзкие вылазки, днями не давал подвести ко вратам пороки[199], засыпая нападавших тучами калёных стрел.
Быстро надоела, видно, киевскому владыке такая война. Созвал он князей и бояр на совет и объявил Владимиру Андреевичу:
— Хотел те, сыновец, Владимир дать, да не выходит тако. Потому даю те в удел Дорогобуж, Пересопницу и прочие города на Горыни. И да будь отныне в воле моей!
Андреевич кланялся грозному стрыю в пояс, коротко благодарил.
...Отступили кияне с галичанами от стен. Скрипели обозы, ржали лошади, гремело оружие. Ярослав был рад, что всё столь быстро закончилось. Тем более что и Семьюнко мало-помалу стал приходить в себя. Юная Прасковья поила его тёплыми отварами целебных трав. Миловидна была купецкая дщерь, глазки серые бусинками смотрелись, носик был невелик и слегка вздёрнут, как у многих суздальчанок, губки алы, стан тонок. Только вот не обращал на неё сперва отрок вовсе никоего вниманья. Говорил скупые слова благодарности, и всё.
Но подступил-таки к нему Долгорукий, вызвал к себе, едва начал Семьюнко ходить. Поставил перед ним Прасковью, хлопнул себя по коленкам, сказал не терпящим возражений голосом:
— Вот тебе невеста, парень. Добрая девка. Цветок сущий. Воротимся в Киев, свадьбу тотчас сыграем!
Ошарашено застыл посреди шатра рыжий отрок, ничего не отвечал.
Князь рассердился:
— Чё, требуешь али как?! Да опосля князя любому не зазорно таковую кралю поиметь!
— Княже! — упал Семьюнко на колени. — Подумать надобно.
— Неча тут думать! — рявкнул Долгорукий. — Воз злата те отсыплю за сей невестою!
При слове «злато» сверкнули вожделенно зелёные глаза отрока. Вздохнув, вспоминая Оксану, согласно склонил Семьюнко голову.
— В воле твоей аз, княже великий. Супротив не стану.
— То-то же, отроче, — рассмеялся довольный Долгорукий, взирая на счастливое лицо своей полюбовницы.
...Уже возле Свинуша леса, перед расставаньем Ярослав напомнил тестю:
— Обещал ты, отче, Ивана Берладника мне отдать.
— Писал же: как зима придёт, путь твёрдый наладится, привезу Ивана в Киев, — с досадой обронил Долгорукий.
На том расстались. Торопя коня, поскакал Ярослав во главе дружины в свой Галич.
ГЛАВА 33
Одинокий молодой путник в монашеской рясе и с сучковатой палкой в руке скорым шагом взбирался вверх к Галицкому детинцу. За спиной его мало-помалу стихал шум посада и окольного города. Широко раскинулся окольный град в низине, далеко перехлестнул через узенькую, с болотистыми берегами Дукву. Довольно долго плутал монах по кривым улочкам, мимо ограждённых плетнями дворов, прежде чем нашёл верный путь. Дорога, пропетляв замысловатым узором по пологому склону длинного увала, наконец-то вывела его к обитым листами позлащенной меди вратам детинца. Полукруглая буковая арка тяжело нависала над воротами, шаги гулко отдавались в полумраке, который внезапно вмиг окутал монаха и заставил его испуганно вздрогнуть.
Страж с копьём перегородил ему путь, подозрительно оглядел с головы до ног, спросил коротко грубым голосом:
— Кто таков?! Чего надобно?!
— Инок аз. С Киева. Тимофеем кличут. Князь за мной посылал.
Светло-карие глаза, ясные и лучистые, беззлобно уставились на сурового дружинника в булатной броне и шеломе с кольчужной бармицей.
— Микола! — окликнул страж. — Сопроводи божьего человека на княж двор.
Молодой воин легко сбежал по винтовой лестнице с заборола, приветливо улыбнулся монаху и, махнув рукой, позвал его следовать за собой.
— Ступай, брат. Тотчас мы тя ко князю отведём.
Велик был Галицкий детинец. Широким кольцом опоясывала его стена, скрывались в зелени яблоневых и грушевых садов боярские хоромы, выглядывали над верхушками дерев лишь богато украшенные киноварью крытые позолотой кровли да теремные башенки с затейливой резьбой. Высокие тыны из плотно пригнанных друг к другу кольев окружали дворы. Вообще, здесь было просторно и тихо.
Микола вывел Тимофея на широкую мощённую булыжником площадь, к которой примыкал выложенный из белого камня собор святого Иоанна — одноглавый, суровый, словно былинный воин-богатырь. Прямо из него в княжеский дворец вёл крытый переход.
Вскоре монах и воин, миновав отдельно стоящие приземистые домики-мазанки, в которых жила многочисленная княжеская челядь, а также конюшню и псарню, из коей доносился звонкий лай, оказались на нижнем ярусе хором. Здесь тоже жили и трудились дворовые люди — слышался ритмичный стук кросна[200], молодые холопки-ткачихи напевали какую-то печальную песнь. В другом крыле находилась поварня, ноздри проголодавшегося с дороги Тимофея щекотали ароматы готовящихся яств. Одолевая плотское искушение, монах глотнул слюну и положил крест.
Они поднялись на второй ярус хором.
У высоких сводчатых дверей их встретила охрана — два крепко сбитых ратника скрестили перед Тимофеем копья.
— Ко князю человек. Из Киева, — пояснил Микола.
Монаха пропустили, предварительно пристально оглядев. Долговязый челядин побежал куда-то наверх упредить князя.
Монах и дружинник оказались в длинном коридоре, освещаемом факелами. В конце коридора по левую руку от них блестело небольшое забранное решёткой слюдяное оконце.
— Здесь — гридница, далее — гульбища идут, — стал, указывая на широкую дверь перед собой, вполголоса объяснять Тимофею Микола. — Пиры тут учиняют. Далее по правую руку — дворского покои, а в самом углу — канцелярия. Печатник тамо княжой, боярин Гарбуз. Живёт он, правда, в тереме своём, но по делам почасту во дворце пропадает. Добрый муж, приветит тя, думаю. Слева от гридни — вишь, дверь, железом обитая. Там палаты, князь с боярами и ближниками своими совещается. Ещё далее — малая зала. Когда какие празднества семейные, княжья семья собирается. А последняя дверь пред окном — то покой старого Василька Ярополчича. Князю Ярославу он дедом двухродным приходится. Безудельный старик, брада бела, чуть не до колен, а сколь лет ему — никому не весть. Верно, под сотню уж. Лежит днями на нечи, греет кости.
— Много ли у князя Ярослава родичей? — спросил шёпотом Тимофей.
— Да не то чтоб. Тётка еговая, Марья Святополковна, на верхнем, третьем жиле живёт, с сыном Святославом. Отроку сему пятнадцать лет. Ещё муж её — боярин ляшский, Петрок Властич. Сей слеп и дряхл. Ослепили его в Польше вороги, вот и бежал он сюда век свой доживать. Ещё князь Святополк Юрьевич — из Турова он, безудельный тож. Служит Ярославу. Тот в отдельном дому живёт — рядом, в ограде, вишь вон в окне башню-вежу. Тамо. Ну, а ещё на верхнем жиле, в бабинце — сестра княжья двухродная, Елена Ростиславна, незамужняя покуда, светлицу занимает. В другом крыле, ближе к переходу, как в собор идти — опочивальня княжеская, рядом — княгини Ольги палаты, там же и детская. Двое детей у князя со княгиней — сын Владимир да дщерь Евфросиния. Малы оба. Дочь и вовсе грудная — лонись[201] родилась.
Так и стояли Тимофей с Миколой в коридоре, шептались, покуда не явился челядин и не велел монаху следовать за собой. Тимофей коротко распрощался с приветливым дружинником и поспешил за челядином. Через гридницу, посреди которой несколько молодцев играли в зернь[202], они вышли на гульбище. Отсюда открывался вид на город и окрестные дали, голубел зажатый меж крутых берегов Днестр, темнели заречные холмы, густо поросшие лесом.
Через массивную дубовую дверь они проследовали в узкую длинную камору.
Князь Ярослав сидел за столом, рассматривал пергаментные свитки. Увидев отвесившего ему земной поклон Тимофея, он быстро встал и подошёл к нему.
— Рад видеть тебя, брат. Тебя игумен Акиндин прислал? Имя своё скажи.
— Тимофей, светлый княже.
— Работы много будет у тебя, Тимофей. Списывать книги будешь. Такожде и летопись вести почнёшь вборзе. Событий немало. Чтоб описать их, память добрая да мысль ясная нужна. Игумен тебя нахваливал. Пойдём-ка.
Князь снял с пояса большой медный ключ и подвёл монаха к двери.
— Книгохранилище тут. Свезены свитки и пергаменты разноличные со всей Червонной Руси. В небреженьи сперва были. Собрал я, что сумел, разложил, да всё заняться ими недосуг. Дела, заботы княжьи.
Ярослав открыл ключом дверь. Они оказались в огромном помещении, сплошь заваленном книгами в тяжёлых окладах и свитками.
— Видишь, богатство какое. Разобрать бы, по полкам определить, что куда, а то, что в плохом состоянии, переписать. Скажем, сюда, — князь указал на одну из полок, — Евангелие, иные святые книги поместим, сюда — труды отцов церкви, а туда вон далее — греческих и римских авторов сочиненья. А в том углу — русские древности пускай будут. Языческих времён хроники, волхвов книги на дощечках. Оно, понятно, ересь, христианину, может, и читать кое-что негоже, а ведать князю всё одно надо. Любое знанье, Тимофей, лишним николи не бывает — так тебе скажу. А на эту вот полку — летописи наши сложишь. Сюда и свои труды помещать будешь. Ну, пойдём покуда. Вот, доверяю тебе ключ от хранилища. С ним отныне не расставайся и никому не давай. Сегодня отдохни, устал, верно, с дороги, а назавтра и приступай к делу. Начинается служба твоя Земле Галицкой, мних.
Князь запер дверь и протянул Тимофею ключ. После он позвал уже знакомого монаху долговязого челядина.
— Отведи брата Тимофея на нижнее жило. Под лестницей камора есть добрая. Там пусть живёт. Да, и на поварне скажи, накормили б божьего человека. С дороги проголодался, чай. Постная пища завсегда у поварихи сыщется.
...Молодая румяная Агафья смеялась, глядя, как Тимофей медленно жуёт горбушку чёрного хлеба и запивает её ключевой водой.
— Чего не ешь, постник? Рыбки бы хоть, что ли, попробовал.
Монах покачал головой, отмолвил глухо:
— Нельзя мне, добрая женщина. Мних, не мирянин. Сегодня — токмо хлеб да вода. Завтра немного рыбы возьму, а ныне — не надоть, не искушай.
— И отчего вы все такие упрямые? — Агафья вздохнула.
Она засмотрелась на строгое иконописное лицо молодого монаха. Узкая борода клином, желваки ходят по скулам, впалые ланиты, глаза большие, грустные. Вот сидит тут, чем, вроде, не мужик. Да с таким бы жить, ан нет...
Печально стало Агафье. Сама пятое лето, как овдовела. Муж ловчим был у покойного князя Владимирка, задрал медведь на охоте. Рыдала, убивалась, места себе не находила. Теперь прошло, схлынуло. Сын малый, Петруня, покуда при матери, на поварне отирается. Что из него выйдет, Бог весть. Тосковала Агафья, мечтала, что по нраву придётся она кому из гридней или отроков. Но у тех, верно, помыслы иные. Порой, правда, заходили к ней по ночам в светлицу молодые дружинники, проводили время, благо, пылка, охоча была Агафья на ласки. Но пролетали быстро те ночи, покидали её ложе молодцы, и возвращалась к стряпухе прежняя тоска. А тут этот монах... И что в нём такого? Агафья пожала плечами. Уже когда уходил он, улучила мгновение, ущипнула его за бок, хохотнула. Никак не ответил Тимофей, поклонился лишь, сухо поблагодарил за угощенье.
— А вот как ввечеру к тебе приду! — задорно, уперев руки в бока, крикнула ему вслед Агафья.
Монах остановился в дверях, обернулся, сухо промолвил:
— Грех творить с тобою не буду, добрая женщина. Не мирянин бо еси, но мних.
Агафья снова вздохнула, кивнув с сокрушением головой. Тимофей поспешил поскорее укрыться от неё в своей каморке под лестницей.
ГЛАВА 34
Под Рождество но заведённому в княжеской семье обычаю собирались в малой зале, сидели за длинным убранным дорогой лунской скатертью рытого бархата столом. Поверх скатерти набросали, как было принято, соломы и сена, вспоминая те ясли, в которых рождён был Христос.
Крепок старинный дубовый стол, сиживал за ним, наверное, ещё дед Ярослава, Володарь Ростиславич, когда бывал в Галиче по делам. После княжил в городе, тогда ещё маленьком и утлом, помещавшемся на одном взлобке, двоюродный Ярославов стрый, князь Игорь. Тоже, верно, пил за этим столом крепкий мёд с ближниками своими, подымал оправленную в серебро чару — рог, говорил здравицы. Стрый умер пятнадцать лет тому, и владеньем его завладел отец Ярослава, князь Владимирко. Полюбился ему утлый городок в самой середине своих владений, спокойней было здесь, чем в пограничном Перемышле с извечным звоном железа и беспрестанными стычками с ляхами и с соседями-родичами. Перенёс Владимирко сюда столицу своего княжества. С той поры расцвёл, разросся Галич, отстроен был заново детинец, склоны холмов и низины густо облепили хаты, мазанки, терема. Возводились церкви, шумел торг, пристань на берегу Днестра полнилась торговыми судами.
А стол в малой зале, крепкий, твёрдый, как воин-богатырь, всё стоял, переживая одного за другим своих хозяев, и всё так же собирались за ним в рождественские и святочные вечера князь и его родичи.
Зажгли свечи на ставниках[203] перед иконными ликами. Заискрилось в чашах дорогое заморское вино. На столах соседствовали печёная рыба, разноличные каши, овощеве[204], кутья, взвар из сушёных груш, яблок и вишен.
Все рассаживались по местам, взглядывали за окно, на темнеющее небо, сожидали первой звезды.
Ярослав, сидя во главе стола, молча всматривался в лица родичей. Рядом с ним на обитом синим бархатом коннике[205] расположилась Ольга, вся сверкающая парчой и золотом, с жуковиной на каждом персте. Переливались приделанные к высокой кике колты[206] с аравитскими благовониями, на шее в три ряда сверкало ожерелье из наборных шариков и пластинок. Долгий белый саян сажен жемчугами, на синих сафьяновых сапожках поблескивают самоцветы. Любила молодая дочь Долгорукого наряжаться, на всех празднествах слепила глаза, как сказочная жар-птица, золотом, бесстыдно обнажённым и перед близкими своими, и перед боярами, и перед простолюдинами.
По другую руку от Ярослава поместился Яким, поп придворной церкви Спаса, облачённый в чёрную рясу тонкого шёлка, с крестом на груди. С ним рядом — старый Василько Ярополчич. Видавший виды, но добротный кожушок покрывал плечи старца, мёрз всё время Василько, кутал руки в рукава, тряс седой бородой, узкой и длинной, доходящей едва не до пупа.
Строгая мамка привела к столу крохотную Фросю — дочь смотрела ясными глазами на отца, скупо улыбнувшегося ей, на надменную всю накрашенную и набеленную мать, на попа, и всё норовила сунуть пальцы в рот. Мамка цыкала на неё, тихонько ударяла по рукам, заставляла сесть прямо. Старший брат маленькой княжны, Владимир, малец шести лет от роду, одетый в суконный зелёный кафтанчик, перетянутый узорчатым пояском с раздвоенными концами, в сопровождении дядьки — боярина Стефана, подошёл под благословение священника, а затем проворно залез на лавку и с нетерпением стал смотреть в окно.
Между Фросей и Ольгой села двухродная сестра Ярослава, Елена. Она скромно потупила очи и уставилась на скатерть.
«Пора давно замуж ей. Всё не хочет, отвергает женихов одного за другим», — думал Ярослав, глядя на некрасивое длинное лицо сестры с густыми светлыми бровями и мясистым прямым носом.
«А может, в схимницы идти задумала. Кто ж её знает?» — Он вздохнул и покачал головой, обратив внимание на простое, без всякого узора и изыска, тёмное платье княжны.
В залу медленно вошёл опирающийся на тяжёлый посох, поддерживаемый женой и сыном, старый слепой Петрок Власт. Ярослав недолюбливал этого ныне калеку, а в недалёком прошлом гордого спесивого польского можновладца[207], помнил, что ещё покойному деду сотворил он немало зла.
— Многие лета тебе, княже Ярослав! — пробасил неожиданно громким голосом Власт.
«Эх, если б не тётка... Гнал бы я тебя взашей. Отослал бы прочь, и не поглядел, что слаб и слеп. Сидел бы ты не на княжьем пиру — в келье убогой».
Ярослав сухо ответил на приветствие старого пана:
— Здравствуй и ты.
Маленького роста, живая и бойкая Мария Святополковна устроилась на лавке рядом с мужем. Быстро оглядев всех собравшихся, она лёгкой насмешкой оценила богатое одеяние Ольги, сочувственно кивнула Елене, расцвела улыбкой при виде Фроси и Владимира. Души не чаяла дочь покойного киевского князя Святополка Изяславича в детях, и Ярослав, когда был мал, не раз получал от неё ласку и подарки.
Молодой князь вспоминал, как потчевала его с сёстрами Мария пряниками и пирожками. Да, что ни говори, а детство — золотая пора.
Последним явился Святополк Юрьевич. Видно, только из сторожи, едва кольчугу снял в гридне да облачился в пурпурное корзно поверх такого же цвета рубахи с расшитым воротом. Волосы тёмные разметались по плечам, усы вытянуты в тонкие стрелки, на поясе — меч в обитых сафьяном ножнах. Служивый князь, за хорошую плату выполняет разноличные поручения Ярослава, стойно добрый воевода.
Зажглась наконец на небесах первая звёздочка. Ярослав по обычаю трижды обошёл залу с кутьёй, затем взял в руку горсть кутьи и выбросил за окно. После благословил с кратким молебствием трапезу Яким, и все расселись по местам. Ели двоезубыми вилками, резали рыбу и мясо тонкими ножами ромейской работы. Всё было тихо, культурно, без лишней суеты и шума. Здравицы говорили короткие, виночерпии разливали вино в чары из широких ендов. Сытых детей вскоре увели, вслед за ними, благословив напоследок Ярослава, отправился в свои покои и Яким. Князь слышал, как стихали в переходе его тяжёлые шаги.
— Скоро в собор ехать, — промолвил Ярослав.
Собор Успения Богородицы на Подоле ещё не был окончен, но уже вознеслись к небесам крытые свинцом купола — луковицы, уже высились сурово белокаменные апсиды, уже отделаны были две наружные галереи с конусовидными башенками и витыми хрупкими на вид лесенками. Фрески украшали внутреннее убранство храма, а вверху, под самым куполом, Богородица в голубом мафории простёрла над прихожанами воздетые вверх руки, словно моля Сына Своего о спасении их, грешных людей. Ярослав не мог без слёз смотреть на Богородицу, искусно вырисованную художником Дионисием, монахом из Лелесова монастыря.
Именно такой видел он её на иконе у себя в опочивальне, именно так, к заступнице и защитнице, а ещё — к любящей всех их матери относился он к ней. И приходили на ум слова молитвы...
Пир будет продолжен завтра, сейчас же они забирались в возки и при свете факелов, окружённые гриднями и ближними боярами, ехали через ворота крепости вниз, на светящийся огоньками лучин Подол. Скрипели полозья, лаяли собаки, плыл над верхним городом, Галичьей горой и соседними увалами мерный колокольный звон. В соборе всё будет ярко и красочно, будет торжественно, в нём он, Ярослав, отвлечётся, наконец, от будничных хлопот, от державных забот и помыслов, какие почти никогда не бывают чисты.
— Грешен, грешен аз, — чуть слышно шептал он в темноту, вспоминая и гнев свой, и раздражение, и ковы прежние. И ещё он знал, что волшебная рождественская ночь закончится, а земные тёмные делишки продолжатся, и он опять будет каяться, опять будет лить слёзы, но иначе ведь нельзя — такова княжеская доля. Иначе всё пойдёт прахом, и ни семьи у него не будет, ни этих тихих вечеров, и земля эта, которую он, по сути, поставлен оберегать и боронить, исшает, пропадёт, обратится в ничто. Ради Земли он готов был идти на жертвы, ибо знал — нет для него иного. Пусть ковы, пусть порушение роты, но Русь Червонная должна жить и цвести.
Впереди, он знал, ждали его нелёгкие годы бурь и больших дел.
ГЛАВА 35
И снова была трапеза в кругу семьи, на сей раз более обильная. Уже не было вчерашней скованности и тишины. Молодые стольники наливали вина и меды, подавали кушанья. Лица собравшихся заметно оживились, что-то громко рассказывала старому Васильку Мария Святополковна, её сын Святослав хвалился перед князем Святополком своим новым кинжалом.
— Чистый харалуг! Из Персии. С таким и на медведя можно. — Ну, уж ты хватил! — Святополк невольно рассмеялся.
Он взял кинжал из рук юноши и долго и пристально рассматривал его.
— Булат добрый, — отметил он. — На Востоке мастера искусные. Но и наши оружейники тож хороши.
— А какие, как думать, лучшие на Руси? — допытывался юный Святослав.
— Добрые кузнецы и в Полотеске, у князя Рогволода, и в Суздале, и на Волыни есь. Да и у отца моего в Турове мастер был — что хошь содеет. Могутой его звали. Жаль, забросил своё ремесло, в монахи подался.
— Ну, а самые лучшие, где? — продолжал упрямо вопрошать Святослав.
«Мальчишка ещё вовсе. Ну как с таким о важных делах говорить», — с лёгкой досадой подумал о сыне Власта Ярослав.
Святополк пожал крутыми плечами, не зная, что ответить, и тогда галицкий князь вмешался в их беседу.
— А ты вот у наших оружейников на Подоле побывай, братец, — обратился он к Святославу. — Узришь, что, пожалуй, лучше тебе нигде не сделают ни меч, ни щит, ни кинжал.
— Лучше всех у нас, в Суздале, — недовольно протянула княгиня Ольга. — Вон у батюшки мово — меч, дак меч. Всем мечам меч. Кладенец. Ратибор сготовил, кузнец. Да и сей, — она упёрлась перстом с накрашенным длинным ногтем в ножны на боку у Святополка, — он же содеял, Ратибор. Али не помнишь? Сказал тогда батюшка: «Тобе, Святополк, отныне дщерь мою любезную охранять поручаю. Дарую те ради той заботы меч».
— Было тако, — согласно пробасил служивый князь.
— Новогородцы такожде мастера добрые, — заметил боярин Щепан. — И по железу, и по серебру работники есь.
— На Руси повсюду умельцев хватает, — вмешался, прерывая споры, Ярослав. — Иноземцам, думаю, в этом мы не уступим.
— Да уж, — пробормотал старый Василько Ярополчич.
— И в иных ремёслах мастерами умелыми Червонная Русь издревле славилась, — продолжал Ярослав. — Златокузнецы у нас в Галиче есть, и горшечники, и сапожники. Да кого только нету. А зодчие? Вон экую громаду — собор Успенский, почитай, за два лета возвели.
— Отец мой, великий князь Юрий, тебе в том помог немало. Мастеров присылал, — поджимая губки, тотчас заметила Ольга.
Ярослав с плохо скрываемым недовольством покосился в её сторону. Нет, не по душе были галицкому владетелю ни Юрий со своими разгульными пирами и наложницами без счёта, ни дочь его, капризная, мужиковатая, ворчливая. Она так и не забыла своей Суздальщины, всякий раз старалась подчеркнуть — вот мой отец не чета тебе. Князёк ты! Да ежели б не отец мой, не сидел бы ты на столе красном, златокованом, а мыкался б по весям да градам, помощи изыскивая. Вторым Берладником стал бы!
Праздника как будто и не было. Хмуря чело, сидел Ярослав, молча теребил перстами серебряную чару, недобро размышлял о тесте. Всё неймётся, опять воевать мыслит, хочет навсегда изгнать из Волыни Мстислава Изяславича. Другие князья ему в ноги кланяются. И не только князья — галицкие бояре, те тож. Вон Коснятин Серославич, как стелился тогда! А Щепан! А Зеремей Глебович!
«Ну а мне-то как?! Тоже, что ли, в поклонах стелиться? И своей воли не иметь? Бояре — да, они — сила! Большая сила, тут ничего не скажешь. Осторожно с ними надо. Но и своих людей верных держаться, вотчины им давать. Мелкие владельцы, мечники, отроки, детские — вот в них моя опора. Ну, и купцы, и люд градской. Они тоже. По не всегда. Всё-таки князь и простолюдин друг от друга далече. Заботы у каждого свои, что уж тут. Но чтоб бояр обуздать...»
Ярослав прервал эту мысль. Покуда не время. А Долгорукого держится он потому, что за ним сейчас — сила, и ещё обещал тесть выдать ему головой Ивана Берладника. Обещал, да что-то не спешит. Придётся слать к нему в Киев Святополка, уговариваться. А если будет у него, Ярослава, Берладник в руках, подумает он тогда, держаться ли Юрия впредь.
...Вечером, сам не зная зачем, спустился Ярослав на нижнее жило, постучался в камору, занимаемую под лестницей монахом Тимофеем. Схимник немало удивился. Низко кланяясь князю, он смущённо вымолвил:
— Извини, княже светлый, нехитр и скромен быт мой.
— То не беда, — ответил ему с улыбкой Ярослав, удобно устраиваясь на низкой кленовой скамеечке.
Они долго сидели при свете лучины за ветхим низеньким столиком, говорили, размышляли.
В углу топилась печь. Тимофей время от времени подбрасывал в неё дрова.
— Ты, Тимофей, из Киева сам. Ответь мне: киянам люб ли Юрий, тесть мой?
Схимник передёрнул плечами.
— Не мне, княже, судить о делах мирских. Да и не всё и не всегда узришь из-за ограды монастырской. Одно скажу: суздальцев не любят в стольном. Крепко не любят.
— А Изяслава покойного любили?
— Мыслю худым умишком своим — боле боялись его. Свиреп был. А тако... Обидеть никого не хощу, скажу, что думаю. Изяслав — князь-ратник. Неглуп он был, иногда вельми хитро деял. Но, по правде говоря, мало он на Киевских горах сиживал, почти всю жизнь в походах проводил. И великую силу взяли в стольном при нём бояре. Они, княже Ярослав, градом правили. А князь Юрий, когда пришёл, своим подручным стал волости, земли, холопов давать. Вот и недовольны многие.
— А бояре?
— Бояре тестя твоего не любят. Чужой он им.
Ярослав задумчиво кивал. Они с Тимофеем пили квас, ели пареную репу. Странно, простая грубая еда инока казалась Ярославу сегодня вкусней обильных яств малой залы. С Тимофеем ему почему-то было легко, он готов был делиться с монахом сокровенными мыслями, не боясь, без утайки. Знал твёрдо, чуял: Тимофей будет молчать. Он — едва не единственный человек, которому можно всецело доверять. Разве что на Избигнева мог он так же уверенно полагаться.
— Я бы не держался князя Юрия. Но у него — мой двухродный брат, Иван. Если я сейчас откачну от него, он вытащит Ивана из поруба и пойдёт ратью на Галич. Будет стараться посадить его на моё место, — откровенно признался Ярослав.
— Разумею, княже.
— Хочу добиться выдачи Ивана.
— И что ты сделаешь с ним йотом? Убьёшь, возьмёшь на душу тяжкий грех?
— Не знаю, Тимофей. Одно скажу: ради Земли Галицкой не остановлюсь и перед кровью!
— Грешные мысли твои!
— А что же, ждать, когда этот Берладник бездомный и иже[208] с ним наведут половцев али угров, разорят города и сёла, когда множество великое люду погинет под саблями и в огне пожарищ?! Пусть, пусть лучше он один... — Ярослав не договорил, закрыл ладонью лицо, промолвил с отчаянием. — Я не ведаю, что делать, монах!
— Ты говоришь верно. Ты — князь. Не мне и не прочим судить тебя. Как сказано: не судите, да не судимы будете. Иногда зло бывает во благо, — тихо, едва слышно прошелестели слова.
Словно и не Тимофею принадлежали они. Ярослав порывисто вскинул голову, в глазах его сверкнуло изумление.
Схимник замолчал, и воцарилась в каморе тягостная тишина. Разные были они, князь и монах, различны их судьбы, помыслы, дела, устремления. Но что-то, до конца не понятое покуда обоими, связывало, сплетало их в один тугой узел.
Оба это ощущали, чуяли сердцем. Но что сказать сейчас, как выразить словами свои чувства, не знали и потому молчали.
Наконец, Ярослав поднялся со скамеечки.
— Пойду я, Тимофей. Ты библиотекою займись. Много там дела.
— Тако, княже, — монах снова низко кланялся ему, согласно тряс жидкой бородкой.
ГЛАВА 36
По продуваемому студёными ветрами зимнику быстро катил маленький крытый возок. Скрипели полозья, в крохотной походной печке потрескивали дрова, над трубой струился чёрный дым. Внушительный конный отряд сопровождал возок в пути. В обозах везли оружие и доспехи, у некоторых воинов под меховыми кожухами[209] и тулупами поблескивали дощатые или чешуйчатые брони. У каждого на поясе либо за плечом на портупее висел меч.
Случайные встречные путники, завидев обширный поезд, старались поскорее поворотить в сторону — лучше с княжьими людьми не связываться, не попадаться им на глаза, не быть свидетелем дел, тайных и явных, кои всегда плетутся вокруг имущих власть.
Возок и охрана пробрались через дремучие вятичские дебри, достигли Десны, дальше поскакали быстрее — дорога становилась лучше, чаще попадались на пути сёла и укреплённые городки. Зато, как миновали глухие чащобы и поехали вдоль просторных полей, укутанных белым покрывалом, злее и яростнее завыл ветер. Вздымались в воздух снежные клубы, колючие хлопья летели в лицо, обжигая холодом, заставляя поднимать высокие вороты тулупов или опускать уши меховых шапок.
В возке, окованный по рукам и ногам булатными цепями, сидел несчастный Иван Берладник. Вытащили его средь зимы из поруба по веленью Долгорукого, сунули в утлый возок и, так и не расковав, повезли невесть куда. На все вопросы хмурые стражи, неотлучно пребывавшие при пленнике, отвечали коротко:
— Не велено сказывать! Князь приказал доставить! Куда? После сведаешь!
Так и сидел Берладник на скамье, смотрел в окно на заснеженные сосны и ели, вздыхал, тряс кудрявой головой. Тревога охватывала его. Ничего доброго от Долгорукого он не ждал. Уже смирился Иван, что будет доживать он недолгий свой век сидя в сырой темнице, в смраде и холоде, а тут вдруг вывели его на свет Божий. Вывели, верно, для того, чтоб или лишить в скором времени жизни, или поглумиться, как любил почасту делать Долгорукий, особо после обильно принятого на грудь крепкого мёда.
Хотя кони шли быстро, но медленной и тягучей казалась Ивану дорога. Впрочем, он не спешил. Куда теперь было ему торопиться? Всё, отбегал удатный молодец своё! Чуял, не к добру вёл его этот путь в оковах. Смерть стучалась в двери возка. Эта она ночами завывала в дверях, обдувала, охватывала холодом, смотрела в узкое оконце, украшая слюду ледяными узорами инея.
Смерти Иван сейчас ждал едва ли не как избавления от мук. Успокаивал он сам себя одной мыслью: хуже, чем в порубе, уже не будет. К чему ему тревожиться? Наоборот, радоваться надо, что скоро всё закончится.
С отрешённым видом устраивался Иван на лавке возле печурки, проваливался в сон, старался забыться, отвлечься. Снились ему быстрые кони, скачки бешеные по степи, короткие сабельные схватки. Звенело оружие в сильных руках. Он просыпался от этого звука, весь охваченный внезапным волнением, но это лишь лязгали, зло и уныло, опостылевшие цепи.
При пленнике постоянно находились двое из стражей. Они часто менялись, но все были одинаково безмолвны, суровы и подозрительны.
«Псы у Долгорукого верные. И слова доброго не скажут», — думал Иван, поглядывая на мрачные бородатые лица.
Он догадывался, что везут его далеко, везут на юг, в Киев или даже в Галич. И что ждёт его там? Лютая расправа? Казнь? Не всё ли равно.
Глушил Иван у себя в душе тревогу, старался хоть как-то, но отвлечься от мыслей о скором конце своего земного пути. Стискивал кулаки, одолевал отчаяние и боль, забывался снова чутким сном.
«Всё в руце Божией», — думал, тяжко вздыхая.
...Уже близ Чернигова окружил их поезд большой отряд вершников.
— Эй, кто такие?! Куда путь держите?! Что везёте?! — разорвал тишину зимнего леса властный раскатистый голос.
Возглавляющий поезд дружинник прокричал в ответ визгливо:
— По веленью князя стольнокиевского Юрия Владимировича путь держим из Суздаля! А везём супостата, преступника, ворога князя нашего!
— Что за преступника?! Ну-ка, пропустите, погляжу!
— Не положено!
Заскрежетали скрещённые копья.
— Да ведомо ли те, с кем говоришь! — достиг ушей Ивана всё тот же громкий незнакомый голос.
Тяжело и решительно проскрипели по снегу шаги. Распахнулась дверь возка. Высокий и полный человек в алом княжеском корзне, подбитом изнутри мехом, в тимовых сапогах и шапке с широкой опушкой меха соболя, с тёмной бородой лопатой и живым блеском глубоко посаженных чёрных глаз — буравчиков протиснулся внутрь возка. На Ивана повеяло свежим лесным духом.
— Ага! Вот кто тут у нас! Никак, Иван Ростиславич! Здорово, княже! Что, не признал?! Немудрено! — прогремел незнакомец.
Он присел на лавку напротив скованного Берладника, качнул сокрушённо головой, призадумался.
— Ну-ка, выведите его отсюда! — приказал старшему.
Нехотя принялись стражи исполнять приказание. Вскоре пленник очутился на снегу. Он хмуро озирался вокруг. На поляне лесной, где они остановились, толпились оружные люди, богато одетые. Тлели гаснущие костры.
Незнакомец, уперев руки в бока, пристально рассматривал Ивана.
— Стало быть, не признал. Изяслав я, Давидович, князь черниговской.
Один из стражей сзади грубо толкнул Ивана, заставив его опуститься на колени.
— Худо с тобой князь Юрий обходится, худо, — промолвил Давидович. — Эй! Поднимите его с колен! Да снег отряхните с кожушка! Раззявы! — гневно крикнул он стражам.
Прямо смотрел черниговский князь на пленника, вглядывался в его простодушное мужественное лицо, в бесхитростные голубые глаза. Эх, добр молодец! Тебе бы на конь да на рать! Безоглядчиво, в рубку сабельную! Приглянулся Давидовичу Берладник. Такого бы в дружине своей иметь. А что?! Помог бы Изяслав добыть добру молодцу какой-нибудь стол, и стал бы тот ему верным слугой и соузником! Человек с такими глазами не предаст. Благодарен будет и верен по гроб жизни!
Боярин Нажир Переславич, ближний советник, сунулся к князю, наклонился к уху, шепнул:
— Не связывайся с Долгоруким, княже. Себе хуже содеешь. Разумею, жаль молодца. Но что теперича, в огонь за его лезти?!
Прав был опытный боярин. Нечего было Изяславу возразить на эти слова. Гневно, из-под густых лохматых бровей глянул он на Нажира, но смолчал. Властно махнул десницей в зелёной сафьяновой рукавице старшему суздальскому стражу, бросил с досадой в голосе:
— Езжайте!
Берладника грубо втолкнули обратно в возок, закрыли двери. Помчался, вздымая снежную пыль, поезд дальше по шляху. А по другой дороге, через лес, медленно двинулись обременённые охотничьими трофеями черниговцы. Изяслав, на статном белом коне, ехал впереди. Могучий скакун выпускал в морозный воздух белые клубы пара.
Отчего-то запал в душу Давидовичу Иван. Да, жалко было молодца, вельми жалко! Но Нажир и другие его советники правы: с Долгоруким тягаться не время. Пока не время! Изяслав ещё поборется, побьётся за киевский стол! Как опытный охотник, он знал: не стоит раздражать и дразнить зверя, если нет у тебя сил нанести ему точный смертельный удар. Сегодня на охоте он проткнул копьём свирепого вепря. Ударил в самое сердце, молниеносно, так что не возмог зверь задеть его страшными своими клыками. И почудилось уже: зверь сей — Долгорукий! Вот так бы и того... мгновенно, без колебаний! Пока не получается. Надобны крепкие соузники, а в князьях разброд. Каждый на себя одеяло тянет. Мелкие людишки все эти Святославы да Владимиры! Не понять им его, Давидовича, высоких устремлений! А Берладник сей?! Он бы понял?! Да если б и не понимал, всё одно верен и предан был бы! Да, жаль парня! А может, оттого не может сейчас Изяслав позабыть этого случайно встреченного полоняника, что самому ему не дал Бог сына?! Супруга, красавица — половчанка, сестра хана Башкорда, родила дочь, которую, совсем ещё девочку, сватают сейчас за сына Долгорукого Глеба, а с сыном вот не получилось. Но на жену Изяслав не в обиде. Верная помощница ему Марфа в любом деле. Всюду они вместе — и на совете в палатах, и на ловах, и даже в поход брал князь с собой супругу. Вот и сейчас скачет она рядом, сразу и не поймёшь, что жёнка, не отличишь от воина. Плащ с фибулой у плеча поверх кольчатой брони, шелом с бармицей на голове, только глаза чёрные, под цвет южной ночи, большие, совсем не кипчакские, обрамлённые рядом долгих ресниц, смотрят, любуются мужем. Вот подъехала к нему, положила руку в багряной рукавице на запястье, сказала:
— Экий молодец красивый! Куда везут-то его, в цепях? Что сотворил он худого?! Ты б вопросил, сведал!
— У кого сведаю?! Стражи енти ничего не говорят. Им приказано, они и везут. А куда да зачем — не их забота.
— Заступись за него, Изяславе! — попросила с мольбой в голосе Марфа. — Ты ведь мог бы...
Она не договорила. Давидович неожиданно резко оборвал её, отмолвив:
— Сам жалею Ивана! Дак что топерича, голову за него класть?! Под меч лезть?! Подождём, поглядим!
Он стегнул плетью коня. Резвый белый скакун быстрым намётом помчал по дороге, далеко вперёд выбрасывая длинные ноги. Марфа задумчиво посмотрела ему вслед. Но вот глаза чёрные засветились лукавинкой. Хитро улыбнулась половчанка, почесала рукавицей точёный носик, тронула боднями своего низкорослого конька, понеслась за князем вверх по склону лесистого холма.
ГЛАВА 37
Митрополит и игумены столичных монастырей, все в шёлковых рясах, с крестами-энколпионами на груди, сидели в княжеской палате на крытых бархатом лавках, говорили один за другим Долгорукому, затаившемуся, словно хищник перед прыжком, на стольце:
— Худо деешь, княже!
— Мало, что оковы тяжкие на брата своего возложил, дак топерича и отдать его мыслишь на расправу, на убиение!
— Когда на службу брал, клялся ведь, крест целовал, что не обидишь его. А топерича роту рушишь?!
— Помысли: все мы перед престолом Всевышнего окажемся. И какой ответ дашь ты?! Чем искупишь преступленье своё?!
— В чём клялся, в том следует пребывать тебе верно.
— Не губи душу свою. И не губи доверившегося тебе.
— В чём вина князя Ивана? Служил худо? Дак гони его от себя, но зачем губишь его?!
Молчал Долгорукий, лишь желваки ходили по скулам. Смотрел на упрямого митрополита Константина, которого сам (сам ведь!) снаряжал в Царьград на поставление, на игуменов, дружно противившихся отдаче Берладника в руки галичан.
Возразить, в сущности, было нечего. Да, давал он роту Ивану семь лет назад, что не обидит его, что будет платить ему обещанные гривны за службу. Да, нет за Берладником иной вины, кроме того, что лазил на сеновал к Ольге. Да, виноват он, Долгорукий. Круто обошёлся с Галицким изгоем. Ну, дак ить на то он и князь, чтоб судить! А эти?! Учинили тут, в палатах, шум, безлепо обвиняют его!
Хотелось встать, грохнуть кулаком по столу, крикнуть:
«Заткнитесь, вороны чёрные! Полно, довольно каркать!»
Смолчал, сглотнул слюну. С церковью встревать в прю не хотелось. Но гаев закипал в Юрии, не сдержался-таки он, вскочил, рявкнул зло, бешено вращая налитыми кровью глазами:
— Будь по-вашему! Не отдам Берладника в Галич! Велю обратно в Суздаль его везти!
— Не договаривались мы тако, княже! — пробасил в ответ сидевший напротив митрополита Святополк. Его, а также боярина Коснятина Серославича послал галицкий Ярослав за Иваном в Киев. С ними вместе была добрая сотня вооружённых до зубов ратников.
«Не поскупился на воинов зятёк! Верно, слабость свою чует. Вот и спешит. Скор на расправу! Ну, да его заботы мне ни к чему! — соображал Долгорукий. — А ежели яд? — Он снова оглядел церковников. — Нет, шум подымут тотчас! Назад, в Суздаль, в оковах, в поруб! А тамо поглядим!»
— Сказал уже! — прорычал Юрий. — Правы святые отцы! Каюсь и в смирении пребываю!
Он подошёл под благословение митрополита, послушно склонив седую голову.
Не ведал киевский владетель, равно как не ведали его ближние бояре и игумены, что давеча прибыл из Чернигова на митрополичий двор тайный гонец. Епископ Онуфрий и княгиня Марфа просили Константина заступиться за несчастного пленника. Получил в дар митрополит золотой потир, парчу на ризы, а также великолепно сготовленное Евангелие в дорогом окладе, украшенном самоцветами. Вот потому столь рьяно защищал он Берладника перед Долгоруким. Теперь же, сразу после совещания в горнице дворца, коротко отписав о принятом решении в Чернигов, отпустил Константин давешнего гонца. События принимали новый, неожиданный поворот.
...Снова везли куда-то Ивана. Он немало удивлялся, озираясь по сторонам. Всего три дня успел провести он в киевском порубе, подышать сыростью, постучать зубами от холода, как опять выволокли его на свет, швырнули в тот же опостылевший возок и покатили назад, через Великий Днепровский мост. И те же стражи подозрительно глядели на него, и те же полозья скрипели, те же лошади фыркали и ржали. Всё повторялось, вертясь в каком-то бешеном запутанном круговороте.
Едва задремал Иван на лавке, как вдруг раздались невесть откуда яростный свист и крики. Зазвенели скрещённые клинки. И не сон был это — в самом деле, за окном возка закипел бой. И вот уже с грохотом распахивается дверь, врываются в возок ратники в кольчугах и шишаках, стражей безжалостно секут саблями, а Ивана осторожно выводят, ставят на снег, и давешний знакомец, Изяслав Давидович, ловкими и сильными ударами своего огромного двуручного меча разбивает на руках и ногах пленника цепи.
— Свободен отныне ты, Иван! — возглашает Изяслав своим громовым голосом.
Челядинцы набрасывают на плечи Берладника меховую медвежью полсть, его сажают в возок, совсем другой, просторный, тёплый, дают выпить чашу сбитня, резвые лошади несут его по льду Десны к воротам Чернигова. Он видит крытые свинцом купола соборов — Спаса, затем Борисоглебского, видит золочёные кровли теремов, крепостные башни, мощные городни. Только сейчас понимает Иван, что кончилась для него пора тягостного безнадёжного заточения, что возвращается прежняя наполненная лихим удальством вольная жизнь. Он дышал воздухом обретённой свободы и не мог надышаться. После, уже в хоромах княжеских, встретит его в окружении разодетых в аксамит и парчу боярынь моложавая лукаво улыбающаяся княгиня, он упадёт на колени перед Изяславом, своим нежданным благодетелем, промолвит скупо:
— Спасибо, княже! Выручил, спас от лютой беды!
И одинокая слезинка покатится по загрубелой грязной щеке, утонув в космах спутавшейся светлой бороды.
А на дороге посреди леса будет корчиться от боли единственный уцелевший страж. Держась за раненый бок, заберётся он в бывший Иванов возок и на время сокроется в нём от голодных волков, стаи которых уже шастали возле места сечи, чуя столь желанный запах свежей крови.
ГЛАВА 38
Хотелось выть от обиды, проклинать всё на свете, мчаться куда-нибудь, мстить. Таковы были первые чувства, когда Ярослав получил известие о неожиданном заступничестве митрополита и бегстве Берладника в Чернигов. Он едва не порвал прежние грамоты Долгорукого, писанные на красном пергамене. Сдержался, вышел на гульбище, остыл, глядя в синюю вечернюю даль. Подумалось: в конце концов, на всё Божья воля. Сам ведь не знал, что делать с этим Берладником, окажись тот в его руках. Что, приказал бы умертвить, придушить, накормить ядом? Или держал бы его в цепях, морил голодом? Ну, и достойно ли это князя, властителя? Брать на душу тяжкий грех? Он знал, ради чего творил бы это злодейство, но не одно ли? Получается, уподобился бы он Каину, убившему брата своего Авеля?! Святополку Окаянному, погубившему братьев единокровных? А так, выходит, Бог не допустил преступленья, не дал свершиться греху.
Стоя на коленях перед иконой Богородицы в своём покое, Ярослав внезапно испытал некое умиротворение. По всему телу его растеклась какая-то необычайная нежность. Он тихо разрыдался, упав ниц. И Давидовича, старого врага своего, он готов был в эти минуты даже благодарить! Ярослав знал, чуял, что будут ещё беды, будут грехи, будут рати. Но сейчас наступил на душе покой. Пусть идёт всё, как идёт. Пускай сидит Берладник в Чернигове, пускай служит Давидовичу, пусть получит из его рук какую волость — лишь бы Галичина цвела и крепла и не покушался бы лихой двоюродник на галицкий стол.
Не сиделось Ярославу в хоромах. Оделся он, вышел на мраморное крыльцо, велел седлать коня. Поехал вниз, к Подолу. По дороге заглянул в терем к Семьюнке.
Поправлялся рыжий отрок, отходил от ран. Принял он князя у себя радушно, хотя и вздыхал, как всегда, и жаловался:
— Малы, тесны хоромы мои. Уж не обессудь, Ярославе. Небогат еси.
Они сидели за накрытым бархатной скатертью столом, хлебали наваристые щи. Мать Семьюнки, полная смуглолицая тётка Харитина, сама прислуживала высокому гостю.
Ярослав рассказал о Берладнике, Семьюнко сокрушённо замотал кудлатой головой, промолвил со злой ухмылкой:
— Предал тя, княже, Долгорукий! Обещал — и слова не сдержал. Из-за сего Берладника все беды. Не он, дак и не ходили б мы у Долгорукого в подручниках столько времени, не ратились бы под Владимиром. И я бы раны свои топерича не зализывал, стойно собака. А тесть твой, вишь, ещё и полюбовницу свою мне суёт. Велит ожениться! Злато сулит. Токмо, мыслю, обманет. Как тебя обманул.
— В том деле ты волен. Не захочешь — никто тя силою не оженит. А Долгорукий — хватит, походил я в его воле. Отныне по-иному ся поведу. За хвост тестева коня держаться не стану.
Ярослав говорил словно и не Семьюнке. Смотрел в сторону, кусал уста, думал.
Потом вдруг вскинул голову, рассмеялся, сказал, подмигнув отроку:
— А давай, друже, сватом тебе буду. Поеду к Оксане в Коломыю. Не откажет, чай, князю. К чему тебе та Параска? Пусть у Долгорукого остаётся.
Семьюнко в ответ грустно заметил:
— Не такая она, Оксанка. Гордая. Может и тебе от ворот поворот показать. Сказала тогда: не пойду, мол, без любви.
— Ну, смотри сам, друже, — вздохнул Ярослав. — Я нынче к тебе по пути заехал. Мыслю до собора добраться, поглядеть.
— Стены в притворе расписывают. Вборзе, верно, содеют.
— И внутри уже мусию кладут. И под куполом роспись фресковую заканчивают. Доброе дело спроворили мыв Галиче. Вот как выстроим собор, пошлю в Киев к митрополиту. Пора нам в Галиче своего епископа иметь.
Слова князя прервал скрип полозьев подъезжающего возка.
— Кто ж то быть может?! — подскочила к окну встревоженная Харитина. — Час уж поздний.
— Погоди, мать. Гляну, выйду, — поднялся с лавки Семьюнко.
Он вышел в сени.
«Легка на помине!» — едва не воскликнул отрок, увидев, как по ступеням крыльца всходит, приподнимая долгие полы обшитой парчой шубки, троюродная сестра.
Он подхватил её на руки, расцеловал в румяные щёки. Оксана отбивалась, шептала: «Пусти», тихонько ударяла его в грудь кулачками в вязаных рукавичках.
Он опустил её уже в горнице, усадил, зардевшуюся при виде князя, на лавку, сам устроился рядом.
Оксана, подхватившись, отвесила Ярославу поясной поклон. Коротко промолвила:
— Здрав будь, княже.
— Здравствуй и ты! — тотчас отозвался Ярослав.
Вскоре они продолжили трапезу. Оксана стала расспрашивать Семьюнку:
— Слыхала, поранили тебя под Владимиром. Вот, проведать приехала. Ещё слыхала, жениться ты надумал. То дело доброе. Не век же бобылём сидеть да на вдовушек коситься! — Она тихонько засмеялась, но смех был наигранный, за ним слышалась грусть и даже почти отчаяние.
Семьюнко не ответил. Не стал продолжать тему и Ярослав. Заканчивали они ужин в напряжённом молчании. Князь быстро распрощался и ушёл.
Он объехал кругом строящийся собор. Задрав голову, полюбовался высокими апсидами, полукружьями закомар, куполами на украшенных резьбой мощных барабанах, боковыми галереями.
Смеркалось. Ярослав поехал обратно в хоромы. Медленно вышагивал, стуча копытами по твёрдому насту, соловый угорский иноходец. Со двора Семьюнки доносился негромкий перезвон яровчатых гуслей.
«Вот ведь и жёнка пригожая. Экая красавица! Может, наладится у них как-нибудь? — подумал Ярослав. — А у меня? — проскользнула вдруг шальная мысль. — У меня когда наладится?»
Он отбросил её, скользкую и неверную, поторопил иноходца и рысью поскакал к обитым медью вратам Детинца.
Были вопросы, и не было на них покуда никаких ответов.
ГЛАВА 39
На широком серебряном браслете жёнка в платье с длинными и широкими рукавами исполняла древний танец птицедевы. По соседству горели изумруды и сапфиры, Хорс-Солнце[210] разбрасывал в стороны языки огня в виде продолговатых лепестков.
Обручи с тихим щелчком охватили запястья. Ольга полюбовалась сиянием самоцветов, самодовольно улыбнулась, но тотчас недовольно свела смоляные брови. Этот Птеригионит, жалкий человечишко, не выполнил данного ему поручения. Валялся в ногах, говорил, что не смог добраться до Берладника, недобрым словом помянул Изяслава Давидовича.
Евнух ползал змеёй по горнице, извивался, и Ольге хотелось ударить его ногой, придавить, придушить мерзкую гадину. Плечи содрогались от омерзения. Морщила дочь Долгорукого нос, кривила уста, говорила, одолевая отвращение и возмущение:
— Поезжай в Чернигов, к Давидовичу. Подберись к Берладнику, стань ему псом верным. И весточку о себе пришли. А потом, как я тебе велела, содеешь.
— Трудное это дело, — осторожно заметил Птеригионит.
Лукавые масленые глазки его опасливо забегали.
— Ведаю, — мешочек с кунами полетел в его сторону. — Забирай и уходи.
— А супруг твой, князь, что подумает? — тихо спросил евнух.
— А ему ведать лишнее незачем! — коротко отрезала Ольга.
Скопец исчез, но казалось княгине, стоял с той поры в горнице его тяжёлый запах.
Приказала отворить волоковое окно, вымыть пол, по которому ползал Птеригионит, вышла. Немного успокоилась, отошла от неприятного разговора тогда только, когда надела на руки обручи, на голову — высокую кику с жемчужным очельем, на шею — ожерелье из витой золочёной проволоки. Сидела долго перед серебряным зеркалом, смотрела, как холопка привешивает к головному убору височные кольца, украшенные крупной зернью. Подарок из Моравии, от чешской королевы Адельгейды.
Самоцветы и золото сияли, а меж ними видна была в зеркале толстомордая баба, курносая, с продолговатыми половецкими глазами. Не нравилась Ольга сама себе, злилась от этого, холопке отвесила хлёсткую оплеуху, крикнула:
— Пошла вон!
Стала сама примерять звёздчатые серьги. Осторожно вдела их в уши, повернулась боком. А в профиль она вроде бы и ничего. Незаметны полные щёки, зато румяна наложенные блестят, и нос кажется не столь кривым, а серёжки в ушах так и пылают кровавыми лалами.
Довольная отошла княгиня от зеркала. Вышла через долгий переход на гульбище, глянула на Подол. Кипела там работа, возы гружёные вереницей двигались, леса строительные облепили высившуюся громаду собора. Что задумал Ярослав такой великий храм, что хочет сделать его главным во всей Западной Руси — это она понимала и поддерживала. Но зачем было возводить его на Подоле? Другое дело — в Детинце, в окружении крепостных стен. Так бы поступил её отец, или дед её, великий князь Владимир Мономах, который, говорят, любил свою маленькую внучку Оленьку, почасту гулял с нею возле валов Суздаля, сажал себе на плечи и обнимал старческими в голубоватых прожилках руками.
Ярослав же объяснил, что храм Божий — он для всех, и для князей, и для смердов, и лучше, чтобы располагался он на самом видном месте в самом главном городе земли. Так и сказал: «Земли».
Громада собора тонула в утренней туманной дымке, было влажно и сыро. Внизу, во дворе Ольга заметила Ярослава. Князь вёл под руку крохотную Фросю. Девочка только-только научилась ходить, ступала осторожно, держалась за отца. Она что-то лепетала, подымая головку в парчовой шапочке. Ольга умилилась, но тотчас лицо её исказила досада.
«Вот Владимира совсем не любит. Не замечает. Верно, знает, что не его ребёнок. Или сердцем чует. Но сын ить не виноват! Мой сын! Мой! Наследник стола галицкого! Медведицей в горло вгрызусь любому, кто супротив станет! И заставлю, заставлю!»
Краска гнева заливала лицо, представляла она, как пытаются за её спиной бояре плести интриги, как шлют тайные послания Берладнику. Становилось душно, невыносимо, хотелось крикнуть Ярославу: «Что же ты терпишь?! Вели рубить головы!»
Понимала, что глупо это, что лишь ожесточение такая мера вызовет в боярах. Нет, чтобы её Владимир занял галицкий стол, следует быть осторожной. Первый шаг она сделала — послала в Чернигов Птеригионита. Теперь надлежало помыслить, как поступить дальше.
Ольгу возмущал отец. Как мог он послушать этих ничтожных рясоносцев! Митрополит и прочие попы должны во всём подчиняться князю, иначе какой он властитель! Да хотя б подослал к Берладнику человека с кинжалом. Или с ядом. А так... Или вовсе пропил её отец свой ум! Ольга зло хмыкнула.
Стояла на гульбище мужиковатая рослая баба, щурила лукавые половецкие глаза, кривила ярко накрашенные губы.
ГЛАВА 40
Грамота короля Гезы лежала перед Ярославом на столе. Избигнев, усталый, осунувшийся в пути, грелся у жарко натопленной муравленой печи. Говорил простуженным хриплым голосом:
— Створили мир с уграми. Король Геза в дружбе с тобой клялся. Снем[211] был в Эстергоме. Поначалу бароны всё отца твоего недобрым словом поминали, лаялись, стойно собаки. Особо молодой тамо у их один есь, Фаркаш. Брата егового под Сапоговом наши посекли, вот он и озлился. Но потом о Мстиславе Изяславиче молвь пошла, и тотчас же король и королева Фружина посетовали, что ограбил Мстислав мать Фружинину. Возмущались вельми бароны, словами поносными князя Мстислава и волынян ругали. Не помнят-де добра великого, кое король Геза всем им оказал. Ну, и порешили в конце концов мир и соуз с тобою, княже, учинить. О городках же погорынских и речи никоей не было.
Подробно рассказал Избигнев об Угрии, о своей поездке. Умолчал о том только, что бились они с Фаркашем на саблях, и невесть чем окончился бы жаркий поединок на Вишеградской круче[212] над Дунаем, кабы не разняли их королевские слуги. Так распорядилась королева Фружина. Сама она, неведомо как прознав, примчалась к месту их схватки в крытом возке, решительно, не убоявшись сверкания смертоносных клинков, встала между сражающимися. Гневом пылали светлые очи. Сказала Фружина с раздражением Избигневу:
— Посол ты, князя свово здесь представляешь. К месту ли игрища молодецкие учинять?! Более важные дела имеются!
Упал перед государыней Избигнев на колени, повинился. На Фаркаша же король сильно разгневался и велел ему убираться из Угрии. По слухам, обретается сейчас спесивый молодой барон у Мстислава во Владимире.
— У короля и королевы трое сынов. Средний, Бела, в Далмации[213], в Сплите посадничает, а двое других, Иштван и Геза, при матери, — рассказывал Избигнев. — И намекнула крулева Фружина, что у тя, княже, дщерь растёт.
Ярослав нахмурился.
— Мала дочь моя! Какая из неё невеста?! — с заметным недовольством отрезал он. — От груди кормилицыной давеча оторвали.
— Оно понятно, — кивнул Избигнев. — То, мыслю, больше на будущее толковня. Соуз с тобою вельми для угров важен. Окромя того, мать твою помнят в Эстергоме, и деда твоего, короля Коломана. О том многие бароны баили. И Кукниш в первую голову. Хром, мол, горбат да крив был король Коломан, зато разумом всех прочих превосходил.
— Вот как, — Ярослав усмехнулся. — Верно, припомнили ещё, что сам я в Эстергоме на свет Божий появился. Отец с матерью тогда из Перемышля к уграм бежали. Что ж, разумею намёки эти. Не все Гезой довольны. Дед у меня, конечно, государь знаменитый был. Да только несоединимое, друже, не соединишь.
Вера у нас с уграми разная, свычаи — обычаи иные совсем. Потому пускай болтают бароны, что хотят. Меня угорский стол не прельщает. Свою землю беречь и укреплять — в том назначенье своё вижу.
Весь вечер они просидели вдвоём в палате на верхнем жиле. Говорили о Долгоруком, о Берладнике, о последней войне на Волыни. Ярослав понимал одно: предстоит ему в скором будущем делать выбор. Или держаться, как прежде, тестя, ходить в его воле, или... всё чаще мысленный взор его обращался в сторону Волыни...
Пока он ничего ещё не решил. Надо было выжидать, постепенно обрастая новыми связями, новыми союзами. Отправлялись послы в Краков — к Болеславу Кудрявому, в Прагу — к королю Владиславу Второму, в дальнее Поморье.
Плёл Ярослав запутанную тонкую паутину, вёл на западнорусских просторах сложную хитроумную шахматную игру. И главные ходы предстояло ему сделать в скором будущем.
ГЛАВА 41
Ещё издали заметил Семьюнко над Киевскими горами яркое зарево огня. Взметались в голубое весеннее небо ярко-оранжевые сполохи, над ними клубились густые клубы чёрного дыма.
— Пожар! Сего токмо не хватало! Что ж делать?! — соображал рыжий отрок, глядя, как другой столб пламени поднимался над Замковой Горой. Летели горящие головни.
От греха подальше Семьюнко свернул вправо и спустился по склону холма к самому Днепровскому берегу. Конь медленно затрусил по прибрежному песку. В стороне слева остались деревянные строения Выдубичского монастыря. Впереди завиднелись Печеры, за ними белела одноглавая церковь Спаса в княжеском селе Берестове[214].
Меж тем пожар разрастался, пламя вырывалось из-за белой церквушки, Семьюнке даже почудилось, что слышит он, как неистовствует, беснуется стихия, как шумит, раздувая огонь, яростный ветер.
...В Киев он отправился после беседы с Ярославом. Князь просил потихоньку разузнать, разведать, чем живёт, чем дышит стольный город. В калите Семьюнко вёз грамоту боярину Нестору Бориславичу. У него Ярослав советовал отроку остановиться в Киеве. Старый знакомец боярин Нестор, да и, кроме того, явный противник он суздальского засилья.
Другое дело было семейное. Решил Семьюнко ответить-таки согласием на предложение Долгорукого. Ходить вокруг да около сестры-вдовы ему порядком надоело. Мучила его, конечно, страсть, ночами снилась ему Оксана, знал, чуял, что любит и будет любить он только её одну, но ведь не станешь же всю жизнь обивать впустую пороги её хором в Коломые и слушать насмешливые холодные слова. Да и золото обещанное... От золота Семьюнко не отказывался никогда.
...В Киеве царила неразбериха, везде натыкался отрок на оборуженные топорами и колами толпы посадских. Горели дома приближённых Долгорукого, народ прорывал ряды суздальской дружины, опрокидывал комонных, бросался в дома. Мычала перепуганная скотина, отчаянно голосили жёнки, тяжело висела в напоённом гарью воздухе грубая ругань мужиков. Где-то на дворе уже выкатывали бочки с мёдом и вином. И всюду было пламя. Горели дома, стены, заборы. Вот хрупкая резная башенка над воротами богатого дома затрещала, накренилась и, объятая огнём, рухнула поперёк дороги. Посыпались искры. Огонь перекинулся на соседний забор. Вмиг вспыхнули тёсаные брёвна. А из-за ворот несколько мужиков уже волокли кого-то в богато расшитой свите. Отчаянно отбивался боярин, кричал что-то, но ударили его тяжёлым обухом по голове. Обмяк несчастный, бессильно повис на плечах супротивников, и тотчас стали с него срывать одежды. Во дворе слышались душераздирающие женские вопли.
«Девок насилуют!» — догадался Семьюнко.
К нему бежали уже несколько с дрекольями. Отрок круто поворотил коня, ринул вниз по Боричеву увозу. Пронёсся очертя голову мимо Туровой божницы, юркнул на одну из боковых улочек, вскоре очутился у Днепровских вымолов.
Там тоже шёл грабёж. С ладей вытаскивали товары, опять мелькали те же дреколья, топоры, те же крики раздавались. И опять нёсся Семьюнко сквозь пламя и дым, слыша, как следом за ним бегут разъярённые опьянённые безнаказанностью своей горожане.
Уже в вечерних сумерках пробрался он к воротам Печерского монастыря. С почерневшим от копоти лицом, сидел в келье игумена Акиндина, слушал скорбный рассказ, вкушал нехитрую простую еду.
— Не ко времени ты тут, отроче. Прогневали, видно, Господа русичи, — говорил старец и [умен, облизывая сухие измождённые губы. — За грехи наши скорби великие. Третьего дня преставился князь Юрий. Вроде во здравии пребывал, всё пиры учинял на подворье. А давеча пировал у Петрилы, осмянника. Много излиха мёда и пива выпито было. И сразу после того пира разболелся, слёг и на пятый день помре. Тако вот.
Семьюнко слушал, скорбно кивал головой. Вести воистину были ошеломляющие. Менялась жизнь на Руси, сталкивались в бешеном водовороте страстей людские судьбы, и не было сил выплыть, вынырнуть из этой затягивающей тебя неистово кружащей воронки. Или вот так, как Акиндин, облачиться в чёрную мантию и попрощаться с суетой мира сего? Ну нет, такая жизнь — не для него, Семьюнки.
Тем часом игумен продолжал:
— Как сведали о смерти князя Юрия, поднялись в городе посадские. Дома суздальцев поджигали. Загородный Красный двор спалили такожде. Хоромы сына Юрьева Василька пожгли тож. Много лиха створили.
Игумен вздохнул, перекрестился, заключил скорбно:
— Ох, грехи тяжкие!
— Мне бы, отче, как ни то в город пробраться. Князь Ярослав велел мне одного боярина повидать, — промолвил Семьюнко. — И девку одну сыскать надлежит.
— Бог даст, сыщешь. Дела свои створишь. И мой тебе совет — вборзе в Галич ворочайся. Не тихо тут.
...Два дня провёл Семьюнко в Печерах. Вкушал трапезу с братией, отстаивал на молитве службу, а душа рвалась отсюда, из монастырской ограды, в мир. Хотелось отыскать Параску. Как-никак, выходила его девка, излечила от тяжких ран под Владимиром. Одного было жаль: золота ему теперь никто из скотницы не отсыплет. Прахом пошло обещанное приданое.
На Красном дворе, куда он приехал, когда мало-помалу утихли бушевавшие страсти, царило запустение. Одни головешки вокруг дымились ещё, да тын был повален и разбит, да чернели остовы муравленых печей. И лежали трупы неубранные. Вот дружинник суздальский — не в чистом поле в схватке с врагом обрёл он свой конец — видно, задохнулся в дыму. А вот жёнка, лицо обгорело, и не признать.
Среди мёртвых обнаружил Семьюнко и невесту свою. Лежала Параска на спине, с удивлённым и полураскрытым ртом. Тело её тоже обгорело, от платья остались одни лохмотья, из разорванных окровавленных мочек ушей были выдраны серьги.
«Вот меня спасла, а сама не убереглась, голубушка, сгинула», — Семьюнко обронил скупую слезу.
Он послал за подводой в монастырь, отвёз её за город, вместе с монастырским служкой выкопал на круче над Днепром могилку и схоронил несчастную под высокими зеленеющими липами.
«Да, славная у меня вышла свадьба», — горестно вздыхал отрок, водружая над могильным холмиком простой деревянный крест.
...Тело Долгорукого положили в гроб в ограде церкви Спаса на Берестове, где ранее была упокоена его сестра Евфимия. Не хотели киевляне и после смерти даже видеть ненавистного всеми владетеля в своём граде.
А в день 21 мая 1157 года от Рождества Христова в Киев торжественно въехал на статном белоснежном коне новый князь — Изяслав Давидович. По левую руку от него в нарядной узорчатой свите багряного цвета держался недавний суздальский узник, Иван Ростиславич Берладник.
Семьюнко стоял в толпе у Золотых ворот. Он видел, как важно, высоко держа гордую голову, въезжал в Киев Давидович, как выносили ему горожане хлеб-соль, как шумела довольная теперь толпа и как снова выкатывали с подворья княжьего бочки с мёдом. Недавний пожар и смятение сменялись необузданным весельем. Родовитое боярство киевское, отодвинутое при Долгоруком в сторону, потирало руки. Давидович устраивал их куда больше, чем непредсказуемый, чужой, загадочный суздалец.
А Семьюнко в тот же день помчался обратно в Галич. В калите он вёз свиток боярина Нестора князю Ярославу.
Нёсся отрок по пыльному шляху, разметались по ветру рыжие длинные космы, а перед глазами стояла опять Оксана, смотрела на него с лукавинкой, улыбалась чуть заметно. Или это вила из северных лесов, красавица — колдунья старого славянского мира смеялась над его жалкими потугами избежать неизбежного! Он не знал, ведал он одно: Оксана — это была его судьба, это был его крест, его чаяние, его боль, его мечта.
ГЛАВА 42
Ольга горько плакала, уронив голову на цветастую подушку. Всё грузное тело её содрогалось в такт рыданиям, она всхлипывала, тёрла руками глаза и нос, причитала сквозь слёзы:
— Батюшка мой! Батюшка родный! На кого ты меня, сиротинушку, оставил!
Ярослав постоял рядом с женой в скорбном молчании, сочувственно вздохнул, огладил её по вздрагивающему плечу.
— Успокойся. Всё в руце Божьей.
Княгиня в ответ дёрнулась, повернула к нему красное зарёванное лицо, крикнула:
— Оставь меня! Ведаю: не любил ты его! С ворогами готов был сговариваться!
Ярослав обиженно отстранился. С едва скрываемым презрением смотрел он на эту зарёванную женщину, такую далёкую от его помыслов и стремлений. Господи, за что ж ему такое наказанье! Стоять тут, слушать эти нелепые вопли, говорить пустые неуместные слова утешения! Не было любви, не было скорби, была на душе одна какая-то пустота, до звона в ушах. Не хотелось думать о делах, о будничных разборах судебных тяжб, о скорой поездке по городам и весям Галичины.
Ответил сухо, коротко, немного резко:
— Ни с кем я не сговаривался! То ложь!
Что она понимает, баба, в больших державных делах! А тестя своего он, Ярослав, не предавал, то правда! Не любил его — да, но супротив ничего не замышлял! Напраслину возводит на него дочь Долгорукого.
Хмуря чело, Ярослав молчал. Смотрел отсутствующим взором, как убивалась Ольга, пропускал мимо ушей её визгливые причитания, кривил в презрении уста. Тесть не отдал ему в руки Берладника, не сделал того, что обещал. Может, и хорошо, что он умер. Давидович с Мстиславом Волынским уже сговаривались согнать его с киевского стола. Русь опять оказалась на пороге войны. Смерть Долгорукого предотвратила новое, очередное кровопролитие.
— Многие хоронят близких и родных. Это тяжело, — глухо проговорил князь, едва Ольга притихла. — Но ты держись, прошу тебя. Не теряй своего достоинства. Ведь ты княгиня. Скорби, но не устраивай здесь причитаний и воплей. Это тебе не к лицу. И вовсе не к месту. Каждый из нас несёт свой крест.
Ольга резко вскинула голову, глянула на него своими светлыми с раскосинкой глазами, в которых блеснуло едва сдерживаемое бешенство, прошипела, захлёбываясь от злобы:
— Ненавижу тебя! Молокосос! Перста батюшкиного не стоишь! Сидишь сиднем в своём Галиче и высунуться боисся! А другие тем часом Киев к рукам прибирают. Мелок ты!
Куда и слёзы подевались. Вскочила Ольга с постели, встала перед нелюбимым супругом, уперев руки в бока, сыпала на его голову оскорбления.
— Недоумок! Урод! Святоша жалкий!
— Уймись, — Ярослав выдержал её исполненный ярости мечущий молнии взгляд.
Выговорив всё разом, Ольга как-то вмиг, резко обмякла, повалилась обратно на кровать. Сидела молчаливая, смотрела на Ярослава, словно не понимая, зачем он здесь и что делает в её покое.
Князь сказал резко, не терпящим возражений голосом:
— Ещё услышу такое, постригу в монастырь. Будешь до скончания лет чёрный плат на голове носить.
Вышел прочь из постылого бабинца, напоённого ароматами благовоний, спустился на нижнее жило, остоялся в холодных сенях. Понемногу отошёл от неприятного разговора, мысли стали яснее, прозрачнее, пустота постепенно отступала.
С Ольгой следовало помириться. Погорячился он насчёт монастыря. Во-первых, у них дети. Ради детей стоит держаться друг за дружку. Во-вторых, у неё братья — сильные владетельные князья. Андрей — в Суздале, Глеб — в недалёком Переяславле. Не время враждовать с ними. Берладник — вот его главная забота. Не надо забывать также и о крамольных боярах — о Ляхе, об Иване Домажириче.
Кликнув старого Гарбуза, он велел собирать малый совет.
...Избигнев, ведающий теперь всеми посольскими делами, говорил веско, спокойным ровным голосом:
— Берладника сейчас Давидович не отдаст. Не для того освобождал он его. Вот если бы ты, княже, напугал его, тогда, может, и по-иному будет.
— Что посоветуешь? — супясь, спросил Ярослав.
— Союзы крепить. С уграми, с чехами, с ляхами.
— Ты прав. Но сего мало. Не с одними иноземцами надлежит сговариваться. Свои, русские князья в сем деле помочь должны, — задумчиво промолвил Ярослав. — Первым делом мыслю в Чернигов посла направить. Ко двум Святославам, Ольговичу и Всеволодовичу, стрыю и сыновцу. Поедешь ты, боярин Щепан. Муж ты опытный, в делах смыслен. Убедить надо обоих Святославов, что Берладник, вольно или невольно, нарушает на Руси мир и покой. Пусть на Давидовича давят. Ну а у меня иная ещё одна задумка имеется. Но о ней говорить рано. Придёт час...
Окончился короткий совет в палате. Смутно было на душе, словно сила тяжкая нависла над Ярославом, словно меч острый висел над его головой, готовый в любое мгновение внезапно обрушиться. С Изяславом Мстиславичем покойным он воевал, но по прежним, отцовым, доставшимся ему в наследство противостояниям и делам и готов был мириться, идти на уступки, с Долгоруким был в союзе, пусть и неравноправном. Но как быть с Давидовичем — человеком заносчивым, гордым, непредсказуемым, Ярослав не знал. Помнил горевшую Ушицу, саблю, оставившую на щеке шрам до скончания земных дней, проникался неприязнью к нынешнему владетелю Киева и думал, непрестанно думал о том, что против него надо сколачивать не союзы даже, а целую коалицию. И не только в Берладнике было дело. Жаждал Давидович быть на Руси первым, навязывать другим князьям свою волю, а на дворе был не прошлый век.
...Ночью, как ни в чём не бывало, явилась к нему Ольга. О покойном Долгоруком более не поминалось, снова страсть животная, похоть овладевала ими обоими, и снова после створённого охватывало Ярослава чувство гадливости. Забросив руки за голову, князь смотрел во тьму. Рядом, удовлетворив плоть, громко храпела Ольга.
Почему-то именно в эту ночь, тёмную, непроглядную, беззвёздную, мечталось ему о любви, сильной глубокой, яркой. Есть ли на свете такая женщина, с которой был бы он счастлив, которой мог бы доверять, с которой был бы близок не только ночью на ложе? Становилось одиноко, тоскливо, но вместе с тем неведомо отчего вспыхнула живой искоркой и росла в душе Ярослава надежда. Да, он непременно найдёт, встретит на земном пути своём высокую пламенную любовь, и тогда жизнь его расцветёт новыми красками, как весенний луг, покрытый одуванчиками и васильками. Тоска уходила, место её занимало ожидание чего-то светлого, неведомого доселе. Даже мысли о Давидовиче и Берладнике куда-то ушли, провалились на время, осталось только это ощущение лёгкости. Словно летел он в солнечные дали, скрываясь от низменных страстей мира сего.
ГЛАВА 43
Звенели доспехи. В солнечных лучах, пробивавшихся сквозь густую листву гигантов — дубов, переливалось харалужное оружие и шеломы. Медленно двигались возы с поклажей. Который день уже шли ловы, тешились богатырской забавой киевские и черниговские ратники. Впереди, на статных конях, оба князя — киевский Изяслав Давидович и безудельный Иван Берладник. Оба в золочёных бронях, с мечами в обшитых сафьяном ножнах. Всякого зверья полны деревские пущи. Давеча завалили огромного кабана — секача. Ловко пронзил его Изяслав Давидович своим копьём, достал до самого сердца. Хвалили ратники своего князя, славили и всегда бывшую рядом с мужем княгиню Марфу — метко стреляла она затаившихся в ветвях высоких сосен белок. Не хуже доброго охотника могла княгиня попасть рыжей летяге в глаз, не повредив ценного меха. Впрочем, лов для всех их был просто забавой. Не купцы, чай, чтоб подсчитывать грядущие барыши, не смерды, чтоб думать, как прокормиться шкурками и мясом.
Выехали дружинники на лесную поляну, решили учинить привал. Лошадей привязали к стволам деревьев, посреди поляны разводили костры, жарили на вертелах сочное кабанье мясо. Появилось вино, полился в походные оловянные чары крепкий пенистый мёд. Весельем, смехом, шутками наполнился прохладный осенний воздух.
Шумно пировал Давидович в окружении ближних своих бояр, раз за разом поднимал богатырскую чару, пил за свою сумасшедшую удачу, за успех как на ловах, так и в прочих предстоящих делах. Подвыпив изрядно, говорил, похлопывая по плечу Ивана Берладника:
— Добудем для тебя, брат, добрый стол. Токмо будь мне верен. Я тебя не брошу, не подведу.
Иван улыбался смущённо, благодарил за своё спасение. Голос у него был хриплый, не прошли даром годы сидения в суздальском порубе.
Уже поздно вечером, когда Иван прилёг отдохнуть возле вежи на кошмы, сел рядом старый друг и соратник — сотник Нечай. Как услыхал Нечай о нежданном спасении князя от лютой беды, тотчас примчал к нему с берегов голубого Дуная во главе небольшого отряда разноцветно наряженных кто во что берладников. Вольные люди на конях с саблями, в основном славяне, хотя встречались среди них и угры, и болгары, и даже печенеги, всюду теперь сопровождали Ивана — и в походах, и на ловах. Так образовалось у него под началом маленькое войско. Князь Изяслав смеялся, говорил шутливо Ивану:
— Ну вот, брат, топерича дружина у тебя своя есть.
...Нечай вёл речь тихо, едва слышно. В отблесках костра Иван видел его густо перерезанное шрамами и морщинами смуглое обветренное лицо.
— Остерёгся бы ты, княже. Княгиня Изяславова очей с тебя не сводит. Холопку присылала, да тебя тогда в тереме не было. Люб ты ей, видать. Али просто так...
— Что несёшь, Нечай?! Экую глупость городишь! — Иван поднялся на локтях. Хмеля в голове как не бывало, гневно, с прищуром смотрел он на старого приятеля.
— Эх, княже! Ты думаешь, почто тебя Давидович освободил и из-за того едва с Долгоруким покойным в прю не ввязался? Без княгини еговой тут не обошлось. Хочешь, княже, совета доброго? Брось ты Киев с его палатами золотыми. Айда на Дунай!
Тамо и воздух чище, и дышится вольней. Вот тамо и натешимся. А тут... Опасно тут, Иване. Боюсь, лихо нам будет.
Нечай тряхнул начинающими седеть густыми кудрями.
— Слушаю и дивлюсь, воевода. Когда то было, чтоб ты боялся! — недоумевающее воскликнул Иван. — Да и как мне уйти! Князь Изяслав Давидович меня, почитай, от смерти спас. Что ж я, неблагодарностью отвечу? И ко княгине его притронуться не посмею.
Нечай горестно усмехнулся.
— Гляжу, прям ты, княже. Открыта душа твоя. Вот и я ранее таким же был. Совестливым. Теперь жизнь научила. Вот тебе мой совет. Княгине Марфе не отказывай. Жёнка она хитрая, мужу найдёт что сказать. А откажешь — врага в ней лютого наживёшь. Но лучше — ушли б мы отсель.
— Хватит, один раз польстился на ласки бабьи. В поруб из-за того попал.
— Ты о княжне суздальской? То иной случай был. Оба молоды, пылки были. В том себя не кори. Ныне — инако.
— Как же я тогда князю Изяславу в глаза глядеть буду!
— А как он глядит на свою половчанку после ночи с очередной рабыней?! Оставь толковню сию, Иване!
Нечай устроился на кошмах неподалёку от Ивана. Князь-изгой промолвил, оканчивая разговор:
— Думаешь, легко мне тут, в Киеве, без удела? Да токмо ведаю: Галицкий Ярослав Берлад наш прибрать к рукам мыслит. Спит и видит вольницу нашу на корню сничтожить. Да боится он, покуда Давидович за меня стоит, рати не хочет, выжидает, змей лукавый. Вот почто я тут обретаюсь, Нечай. Буду просить, чтоб отпустил на удел какой или дал ратников. Тогда б и ушли мы с тобой в Берлад, а тамо... Да Бог весть, как оно сложится. Давай-ка спать, друже. Утро, как говорят, вечера мудренее.
...Наутро охота была продолжена. В глухой чащобе, в сосняке обнаружили ловчие матёрого бурого медведя. Как было условлено, громкими криками и шумом сорвали они лесного исполина с места, и бросился преследуемый изрыгающими неистовый лай собаками хозяин леса прямо навстречу князю Изяславу и его свите.
Хоть и ждали ярого гостя ратники, а наскочил он на них из-за дерева стремительно и внезапно. Накинулся на княжьего коня, сбил его с ног, с рёвом вцепился Давидовичу в тимовый сапог. Запутавшись в удилах, князь тщетно старался выбраться из-под крупа павшего скакуна. Гридни его обомлели от неожиданности. Не растерялся один Иван. Подхватив длинное остроконечное копьё — рогатину, встал он на пути свирепого медведя. Яростно бросился на нового противника могучий зверь, но остриё копья упёрлось ему в грудь. И чем сильнее рвался вперёд хищник, тем глубже входило оно в его плоть. Тут уже и гридни спохватились, и Давидович освободился от пут. Когда же подбежали они к Ивану, зверь уже издыхал, бился в судорогах.
— Твоя добыча, брат! — воскликнул восторженно Изяслав. — Выручил меня! Спас от когтей зверюги лютой! Туго б мне пришлось, еже б не ты!
Он обхватил за плечи и троекратно крепко расцеловал Берладника.
Вокруг собирались воины. Ивана расхваливали на все лады. У кого-то в руках уже оказалась братина с мёдом. Между усатыми лицами суровых ратников мелькнула любопытная миниатюрная мордочка княгини Марфы. Глаза, большие, как перезрелые сливы, глянули на Ивана с нескрываемым восхищением. Впрочем, Марфа тотчас скрылась за плечами Изяславовых гридней.
Иван молча, без тени улыбки смотрел на мёртвого медведя, на дымящуюся кровь. В памяти его всплывал давешний разговор с Нечаем.
«Воистину не век же мне тут сидеть и пользоваться добротой князя Изяслава. Может, упросить его, отпустил бы меня на Дунай, в самом деле? Дал бы ратников... Может, не откажет?»
Решительно отмёл Иван будоражащие ум мысли, тряхнул головой, расправил молодецкие плечи. И улыбнулся, наконец, широко и беззаботно, чем ещё сильней заставил застучать трепетное женское сердечко.
ГЛАВА 44
Тряслась на ухабах запряжённая широкогрудым белым тяжеловозом небольшая телега. Неприметный мужичонка в войлочной шапке, в вотоле[215] грубого валяного сукна, лениво развалившись на соломе, держал в руках поводья. То и дело озираясь по сторонам, он тихонько насвистывал скоморошью песенку. Долгая борода лопатой была всклокочена, торчала космами в разные стороны. Мужик, как мужик, ничего особенного. Немало таких ездит по дорогам Галичины. Может, мелкий купчишка возвращается домой, распродав товар в одном из соседних городков и получив кое-какой навар, или зажиточный людин[216], отвозивший на торг излишки зерна, колесит по пыльному шляху, надеясь на вырученные куны справить для жены или дочери новое платье.
Дорога взмывала на увалы, затем падала вниз, спускалась в густо поросший орешником овраг, телега громыхала по колдобинам, скрипела, переезжая очередной мост, переброшенный через очередную крохотную речку, снова тряслась, подымаясь наверх, петляя по каменистому склону. Вдали по левую руку серебрился быстрый Днестр.
Телегу в очередной раз сильно подбросило. Мужик смачно выругался, но тотчас снова с безмятежным видом вполголоса затянул срамную частушку. На развилке он решительно поворотил вправо. Шлях убегал от Днестра, становился прямоезжим, народу на пути попадалось всё больше. Вот и Луква проблеснула впереди. Галицкий посад широко раскинулся по прибрежным низинам. Мужик придержал тяжеловоза, отёр шапкой нот, повалился обратно на солому.
Не узнать в неказистом этом человеке волынского боярина Дорогила. Ехал он в Галич с тайным поручением князя Мстислава выведать, чем живёт город, каковы настроения среди бояр, много ли недовольных молодым Ярославом. Возможно ли учинить смуту, ослабить галицкого владетеля настолько, чтоб не смел он выступить более супротив воинственного северного соседа, не мешал ему в делах, больших и малых. А может, и вовсе удалось бы согнать Ярослава с княжьего стола. Тогда станет Дорогил в Галиче наместником. Будет в Червонной Руси он царь и бог. О таком мечталось боярину, когда полулежал он в телеге и взирал на окрестные поля. Богата Галичина. Земли пахотной завались. Народишку всякого: людинов, закупов, смердов — уйма! Пути речные ведут к Чермному морю, в земли греков и болгар, сухопутные — в Угрию и дальше, к чехам, к немцам. Не то что Волынь — болота да леса глухие, да язычники — ятвяги[217] по соседству.
Миновала телега ворота окольного города, выехала на площадь рыночную, протиснулась через густые ряды таких же телег, остановилась возле одного из домов, обнесённого высоким плетнём. Спрыгнул Дорогил наземь, огляделся по сторонам, взял за повод коня. Стукнул кулаком в ворота, ругнулся, не услыхав ответа. Долго стоял, стучал, злился. Наконец, лязгнул тяжёлый засов, выглянуло в узкий проём полное подозрительности лицо, обрамлённое реденькой бородкой.
— Открывай, Тверята. Гостем к тебе еду, — тихо промолвил Дорогил.
С трудом признав хорошо знакомого боярина, всесильного у себя во Владимире, небогатый купчик разинул в изумлении рот.
— Ну, чё встал! Сказано, пускай меня в дом! Ну, живо! — прохрипел начинающий гневаться Дорогил.
Вскоре он уже сидел в горнице. Хозяйка, одетая в долгий цветной сарафан с медными пуговицами, подавала на стол скромные кушанья. Гость не брезговал, ел быстро, только и ходили по скулам желваки.
Поев, развалился на лавке, выпятив живот, с хитроватым прищуром уставился на насторожённого Тверяту. Сказал, усмехнувшись:
— Я тебе, купец, во Владимире на торгу место доброе выхлопотал. Верно, немалый навар получил от сего тогда. Дак теперь вот и ты мне подсоби. Приспела пора. Заруби для начала себе на носу: купец я, из Бреста приехал. Расторговался, думаю, чем в Галиче поживиться. Товару купить для торга у себя. Зовусь Онуфрием. У тебя остановился. Тако вот. Поживу тут некоторое время.
— Ну, как угодно будет, светлый боярин, — Тверята развёл руками.
— А еже... — Дорогил цепкой рукой ухватил его за ворот рубахи и притянул к себе. — Еже выдать меня измыслишь, никто и ничто тя не спасёт. Не жить тебе, понял?!
Тверята угрюмо кивнул.
— Вот то ж! — Дорогил злобно рассмеялся.
В простом вотоле его, конечно, вряд ли кто в Галиче сможет узнать. Разве что тот Семьюнко, Лис Красный! При воспоминании о нём стискивал Дорогил пудовый кулак.
— Попадись ты мне, гад! — шептал он, зверея от ярости.
...Лишний раз боярин старался в людных местах не показываться. Иногда, правда, ходил по торг}', между рядами, примеривался, ощупывал ткани, пробовал на вкус сладкое овощеве.
Однажды очутился он возле нового, только что отстроенного, сверкающего свежей белизной собора Успения Богородицы. Подивился каменной громаде, присвистнул, покачав головой. Надо же, экую красу возвели. Вот это храмина! У них во Владимире князь Мстислав тоже мыслил выстроить новую церковь, только вряд ли своими размерами и мощью сравнится она с галицким собором.
Зависть душила Дорогила. Как хотелось ему стать здесь, в Галиче, посадником! Уж он бы тогда развернулся! Но покуда приходилось хорониться под личиной мелкого торговца.
В тот же день поздним вечером постучался он в дом к боярыне Млаве. Принимала его бывшая полюбовница покойного Владимирки в просторной горнице, украшенной майоликовыми щитами и охотничьими трофеями.
— Гляжу, живёшь тут, вдали от дел, — говорил боярин осторожно, вкрадчиво, осматриваясь вокруг, качая с сокрушением головой. — Отодвинули тебя от стола княжеского. Супруг вон твой вовсе в бега ударился. А ведь чада у тя растут. Им-то каково будет. Немало, чай, тягот ждёт.
Млава, хмурясь, решительно ударила ладонью по столу.
— Ты, боярин, вокруг да около не ходи! Я баба простая! Впрямую мне говори. Что задумал? Ворог ты покойному князю Владимирке был, немало лиха принёс всем нам. Вот и дивно, что явился сюда. Али думать, не выдам я тебя князю Ярославу?
— Не выдашь. Какая тебе в том корысть? — Дорогил злобно осклабился. — Времена, боярыня, меняются. Давеча вороги мы были, а ныне, может статься, друзьями станем.
— Нету тебе веры никоей! Змей лукавый!
— Зря, Млава, оскорбляешь меня. Думаешь, не ведаю, от кого сынок твой старшой, Володислав?
— Не твоё дело собачье, кто тамо чей сын! — вспыхнула Млава.
— Напрасно ты тако, — усмехнулся Дорогил.
Он старался держаться спокойно, хотя внутри всё клокотало от возмущения. Подался всем телом вперёд, навис тяжело над столом, молвил:
— Ты бы с боярами перетолковала. С теми, кто Ярославкой не шибко доволен. С Милятой Жириничем, с Домажиричами, со Стефаном Гюрятичем. Взбаламутили бы народ. Прогнали бы сына Владимиркова со стола. А твоего Володислава на княжение тогда посадим.
Видел Дорогил, как загорелись глаза дородной боярыни. Впрочем, сдержалась она, задумалась, ответила холодно:
— Ладно. Перетолкую с боярами.
Дорогил понял, что слова его упали на благодатную почву.
...На следующий день, едва сгустились над Галичем вечерние сумерки, явился Дорогил к старому Молибогу. Ветхий днями боярин немало удивился нежданному гостю, но виду не подал. Сидел на обитой рытым голубым бархатом лавке, привычно теребил долгими костлявыми перстами белую с желтизной бороду, изредка кивал.
Когда, наконец, кончил Дорогил свою сказанную ядовитым шёпотом речь, отмолвил после недолгого молчания:
— Зря затеял зло такое, боярин. Всё прошлое поминаешь. А ты окрест поглянь. Как люд живёт, что в мире творится. И уразумей: ни Владимирки, ни твоего Изяслава несть боле на свете. И князь Юрий такожде помре. А нынешние князи наши — Ярослав с Мстиславом, полагаю, прежними путями отцов своих не пойдут.
— Что, купил тя Ярославка?! — злобно осклабился Дорогил.
— Нет, Дорогил, не в том суть. Скажу так: не любы мне слова твои. Ради былой дружбы ни единой душе не поведаю о нашем разговоре. Токмо... ступай-ка отсель. И помни, что я тебе молвил.
Раздосадованный покинул Дорогил хоромы старого приятеля. Долго гневался, сидя у Тверяты в покоях, размышлял, как быть и много ли бояр думают, как Молибог. В конце концов, решил он дело своё продолжить.
Побывал Дорогил у некоторых набольших мужей, добрался до Коломыи, до Онута, до Бакоты, до Перемышля. И всюду вёл осторожные разговоры, всюду отыскивал тайных недоброжелателей галицкого князя, всюду сговаривал их строить козни, учинять встани. Казалось ему, дело продвигалось успешно. Был он, когда требовалось, осторожен, слова подбирал тщательно, и чуял: шатаются галичане. Многие ещё со времён Владимирки тайные вороги нынешней власти. Тут токмо искру зажечь в нужный час и в нужном месте.
Воротившись в Галич, снова поселился Дорогил у Тверяты. Седмицу просидел безвылазно в его доме, потихоньку готовясь к отъезду во Владимир. Коня-тяжеловоза щедро кормил овсом перед дорогой.
Скоро вспыхнет в Галиче бунт. И тогда только успевай хватать и делить. Власть, богатые рольи, ладьи с товарами. Пусть дурочка Млава думает, что для её выродка он, Дорогил, старается.
...Перед самым уже отъездом вдруг нагрянули на двор Тверяты оружные вершники. Настежь распахнулась дубовая дверь. Хлынули незваные гости в горницу. И возник перед Дорогилом усмехающийся презрительно, с густой копной рыжих волос, торчащих из-под войлочной шапки, Семьюнко Красная Лисица.
— Ну что, боярин. Попался ты, — молвил отрок. — Не ускользнул от рук наших.
— Ты!.. Ты!.. Ворог! Гад! — затмило разум Дорогила бешенство.
Бросился он на ненавистного противника, замахнулся зажатым в деснице острым кинжалом, но сразу трое в кольчугах повисли на нём. Вырвали кинжал, повалили на пол, скрутили руки за спиной ремнями. Дорогил хрипел, багровея от бессильной ярости.
— Помню, враже, как стопы ты мне жёг, — продолжал Семьюнко. — Ответа всё требовал. Так вот, — объявил он, — я не изувер, бить тебя плетьми, ноги жечь и на колесе пыточном катать не буду. А вот в поруб посажу. Остынешь, уймёшься малость. Всё нам про тебя ведомо. И как купцом прикидывался, и с кем видался, и какие речи крамольные вёл. Голову бы тебе снести, да с князем твоим ссориться неохота. Потому на порубе покуда и остановимся.
Он лукаво подмигнул исходящему злобой боярину.
— Ненавижу! Сволочь! Лисица красная! Обхитрил, стало быть?! — извивался на полу, тщетно пытаясь порвать путы, Дорогил. — Ведай: от меня ты так запросто не отделаешься! Поквитаюсь ещё с тобой!
— Видно, глуп ты еси, боярин! — Семьюнко наигранно тяжело вздохнул. — Не собираюсь я мстить тебе за обиды прежние. Чего ты на меня взъелся, никак не уразумею. Лисицею обозвал зачем-то, и пошла теперь молва во все стороны, яко волна речная. А что худого я те содеял? Была вражда, так, может, хватит уже её?
Дорогил молчал, дико вращал полными лютой ненависти глазами, дышал с присвистом, прерывисто. Дружинники подняли его на ноги, вывели во двор, посадили в крытый возок. И отправился незадачливый проведчик волынский отдыхать от суетных дел в тёмный сырой поруб.
ГЛАВА 45
Большое это село на берегу среброструйной Луги называлось Зимино. Сложенные из глины дома — мазанки утопали в зелени грушевых и вишнёвых садов, за околицей шумела листвой буковая роща, а на холме над селом широко раскинулся загородный княжеский двор. Рубленые из красноватого бука хоромы, просторные и нарядные, окружал тын из острых кольев. Горделиво тянулись к небу резные фигурные башенки, по соседству с ними возвышалась придворная церковь Успения с колокольней, строения отражались в прозрачной речной воде, чуть дёргались от ряби, и непонятно становилось, что краше — сами хоромы или их отраженья.
Шлях вёл из широких провозных ворот через село вниз, к реке, дальше одолевал дощатый мост и по холмам на том берегу выводил к видному вдали Владимиру. Вон и Смочь блестит в солнечных лучах, и ров с подъёмным мостом, и Киевские ворота города сверкают медью. Близко стольный город Волынской земли, есть в случае опасности где схорониться жителям Зим и но. Потому и не береглись особо, даже оградой из прутьев не было огорожено село. Да и кого бояться — далеко от сих мест пылают покуда пожары войн, а князь Мстислав, прославленный на всю Русь стратилат, крепко держит в могучей деснице узду власти на Волыни.
С некоторых пор облюбовала Зимино мать Мстислава, вдовая свейская королева Рикса. Разведясь с покойным Изяславом и проведя несколько лет в далёкой Швеции, после гибели второго мужа, короля Сверкера, воротилась она на Волынь и поселилась возле старших сыновей. Молодший, Ярополк, ещё подросток, оставался по сию пору при матери.
Медленно, спокойно текли дни. С утра привычно кричали петухи, гуси-шипуны важно строем шествовали к берегу Луги, пастухи выгоняли на пастбище тучных коров.
Жарко палило солнце. Жужжали мухи. В траве стрекотали кузнечики. Был самый разгар лета. Крестьяне косили сено, на больших телегах везли огромные скирды.
Старая служанка — угринка поутру прополоскала в речке бельё, развесила его на верёвки возле своей мазанки, притулившейся неподалёку от дворца. Давно жила она возле госпожи, умела угадывать её желания и намерения. Сегодня, в жару княгиня Рикса будет больше отдыхать. Возьмёт в руку опахало, сядет удобно в тенёк на лавку на гульбище у столпов, станет обмахиваться и подолгу смотреть на заречные дали. А ввечеру закипит в хоромах работа, примется Рикса пушить слуг, раздавать крепкой дланью подзатыльники, но быстро успокоится и велит, чтобы Ингреда, юная сирота — датчанка, с малых лет взятая Риксой на воспитание, читала ей вслух на латыни псалмы. Любила княгиня слушать тонкий певучий голос Ингреды, сухая латынь расцветала для неё в эти часы яркими сочными красками.
Ярополк ещё в сумерках убежал на Лугу ловить рыбу. Смышлёный отрок, да всё никак старшие братья не дадут ему удел. Понять Мстислава и Ярослава Луцкого можно — у них у каждого целая куча малолетних отпрысков. И всем им надо будет, как подрастут, определять города и веси во владения. Вот и не спешат оделять они младшего братишку. Из-за того Рикса со Мстиславом в последнее время непрестанно ругалась и ссорилась. На сноху свою, Агнессу Болеславну, и вовсе глядеть не могла княгиня-мать. Вдобавок сноха была красна собой, и Рикса, сама ещё недурно выглядевшая в сорок с лишком лет, с недовольством замечала, что ближние волынские мужи больше засматриваются на молодую Агнессу, чем на неё, пусть пригожую, но стареющую.
Отряд вершников — человек двадцать, приближался к Зимино с юго-востока. Угринка ещё издали заметила их добротные одежды и обратила внимание, что кони под седоками скачут резво и легко.
Рикса сверху окликнула её. Служанка, подбирая подол длинной понёвы, поспешила по винтовой лестнице на гульбище.
Приложив ладони к челу, женщины пристально разглядывали приближающихся всадников. К ним вскоре присоединилась встревоженная Ингреда.
— И кто ж то такие? — щурясь, недоумённо пожимала плечами Рикса. — Вовсе не ведаю. Вон тот, передний, в плаще, золотом отделанном. И рубаха у него, видно, дорогая.
— Одежда князя, — коротко промолвила Ингреда.
Уже можно было рассмотреть лица вершников. Вот они стали спешиваться у ворот, настежь открытых. Одинокий страж, дремавший под раскидистым дубом, вскочил было, схватил копьё, но передний, тот, что был в алом дорогом плаще, примирительным жестом успокоил его.
— Не враги, не воевать пришли, — донёсся до ушей женщин его ровный голос.
— Кто ж сие? Кого нелёгкая занесла? — продолжала удивляться Рикса.
Старая угринка вдруг отмолвила, прошамкала беззубым ртом:
— Ярослав Галицкий.
— С чего взяла? — хмыкнула Рикса. — Что ему у нас деять? Отец еговый первым ворогом нашим был!
— Мать его Софию знала я. И деда его, короля Коломана. На деда похож, разве волос посветлей.
— Тож ворог был, дид еговый! — проворчала, недовольно морщась, вдовая княгиня. — Хитрый, бают, коварный. Батюшка мой не раз с им ратоборствовал. А ещё, люди молвят, колченог он был, Коломан твой, крив да горбат. Сей же человек молодой вовсе не уродлив, но, напротив, довольно пригож собой. Выдумываешь, верно!
— Знаю, что говорю! — Угринка недовольно поджала уста.
Рикса удалилась в верхний покой и велела угринке одевать себя. Вскоре она появилась на крыльце в красивом багряном платье из плотного фландрского сукна, в убрусе, вышитом огненными жар-птицами, вся увешанная золотыми колтами, серьгами, монистами и браслетами.
Человек в отделанном золотом плаще тотчас поспешил ей навстречу.
— Здрава будь, светлая княгиня.
— Здравствуй и ты! Полагаю, предо мною Ярослав, владетель Галича?
— Он самый. А я, думаю, вижу славную на весь белый свет красотой и умом Риксу, мать князя Мстислава?
— Твоя догадка верна. Не пойму, что ищешь ты в наших краях. Имею надежду, не ворогом ко мне явился.
— Вестимо. Вороги без рати не ходят. Я же всего два десятка отроков с собой привёз. Нет, княгиня, нет. Да и кто осмелится воевать с такой красавицей, какой сумасшедший! Твоя красота, дорогая сестра, будто призывает мир творить.
— Говоришь «сестра»? — удивилась Рикса.
Она была сильно польщена словами Ярослава о своей красоте.
— Да, и полагаю, что отныне ты и будешь мне, стойно сестра. Евдоксия Познанская — молодшая моя сестра, ты же — старшая. Старшая не по летам — по разуму.
— Ну что ж, братец, — Рикса заулыбалась и едва подавила смешок. — Прошу в хоромы. Тотчас стол сготовим, попируем. А там и расскажешь, что у тебя ко мне за дело.
— То добре, хозяюшка. Но сперва... Хотел бы я о деле потолковать.
Они поднялись по крутой дощатой лесенке в одну из теремных башен и остались вдвоём в просторной светлой палате. В раскрытое окно задувал с Луги прохладный ветерок, было свежо, стоял тот час, когда ещё не припекало сильно солнце и не было той одуряющей жгучей жары, от которой трудно дышать.
Рикса сидела на скамье, подперев кулачком щёку. Лицо её светилось любопытством, и в тоже время проглядывало в нём некое затаённое лукавство. Хитра и опытна в делах была эта полька — вдова двух государей. Ярослав говорил медленно, не спеша, смотрел куда-то в сторону, старался держаться спокойно.
— Было время, и враждовали мы. Ратился покойный отец мой с супругом твоим первым, князем Изяславом. И сын твой Мстислав, помню, под Останковом немало лиха причинил земле Галицкой. До сих пор многим памятна та жестокая сеча. Но схлынули, как вешние воды, минули, полагаю, и не воротятся больше тяжкие те лета. Цветёт нынче Галичина, цветёт Волынь.
— А давно ли, дозволь спросить тебя, стоял ты с дружиной под Владимиром? А допрежь того под Луцком воевал с сынами моими? А, братец дорогой? — спросила с заметной издёвкой в голосе Рикса.
— Ходил в воле тестя своего, поэтому... — Ярослав не договорил. — Ныне, сама знаешь, умер князь Юрий. Нет его, нет смысла и в было]! вражде.
— Вовсе не уверена в том. Ведь ты так и не вернул Мстиславу погорынские городки. Хотя клялся.
— Ты бывала в этих городках? Знаешь, какие они? — Ярослав грустно усмехнулся. — Стоят ли они того, чтоб из-за них воевать?
— Неважно. В городках тех рати ты, верно, держишь. А людины окрестные дань тебе платят.
— Невелика та дань, сестра. Впрочем, немного не о том пошла у нас речь. О младшем сыне твоём, Ярополке, хочу я потолковать.
— С чего вдруг? — Рикса сразу насторожилась.
— Вижу, пятнадцатый год паробку идёт. Пора бы ему стол давать. Вот и предложенье у меня есть...
— Какое предложенье? Темнишь что-то, братец, — недоумённо сдвинула брови вдовая княгиня.
Как раз накануне говорила она со Мстиславом об уделе для Ярополка, но первенец её привычно отмахнулся, бросив через плечо матери неопределённое: «Тамо поглядим!»
— Городок есть один неплохой. Невеликий, но всё же лучше, чем ничего. Как раз из тех, о которых спор шёл меж Галичем и Волынью. Бужск, иначе Бужеск, прозывается. Так вот: отдам я твоему Ярополку этот городок. С одним условием: помиришь ты меня, любезная сестрица, с князем Мстиславом. И ещё так скажу: не только мир, но и союз я ему предлагаю.
Задумалась Рикса. Долго сидела, подперев румяную щёку ладонью, морщила свой тонкий прямой нос, глядела на собеседника, который вроде бесстрастно посматривал по сторонам.
Видя, что вдова немного растеряна и молчит, Ярослав добавил:
— Думаю, здесь, на западе Руси, следует нам создать крепкий кулак. Вот я с польскими князьями дружен, две сестры у меня там замужем. Хотя, княгиня, непостоянны вельми родичи и соплеменники твои. Часто друг с дружкой воюют. С уграми тоже я дружбу имею нынче. С чешским королём Владиславом грамотами обменялись, союз скрепили. Теперь хочу к этому союзу и сына твоего склонить. Младшие братья всяко за ним потянутся, а там и другие волынские владетели.
— Сладко поёшь, братко. Одного не разумею: супротив кого соуз сей ты сколачиваешь? — хитрая Рикса сразу чутко уловила самую суть разговора.
— Немало, сестрица, охотников найдётся на наши земли. Уж поверь, — уклончиво ответил Ярослав. — Об этом хотел бы с твоим Мстиславом поговорить.
— Мстислав — он прост. Знаю своего сына, — прямо заявила Рикса. — Боюсь, обмануть ты его сумеешь, обвести окрест перста. Потому со мною прежде обо всём побай.
— Мне скрывать нечего. Намерения мои добрые. Весь я тут, перед тобой, — Ярослав с улыбкой развёл руками. — Вопрошаешь, кто ворог наш? Отвечу: тот, кто нынче киевский стол занимает. Давидович Изяслав. Честолюбив он без меры, самохвален. Такой ни перед чем не остановится. Чтоб укрепить власть свою, половцев навести может, благо, в родстве состоит со многими ханами. И потом. Враг мой, Иван Берладник, у него. На галицкий стол метит. Пока в открытую о том речь не ведут, ну да я ведь не слепец. Спит и видит Давидович Берладника в Галиче посадить, а оттуда на твоих сынов давить, подчинять их воле своей злой. Подмять под себя мыслит Изяслав всю Южную Русь.
— Ты намерен с ним воевать?
— Пока нет. Если Бог совсем не лишил его разума, он не пойдёт на Галич и на Волынь, узнав о нашем союзе. Повода для войны я не вижу. Если он выдаст мне Берладника.
— А коли не выдаст? — Хитрым блеском светились серые глаза Риксы.
— И даже пусть не выдаст. Главное, не угрожал бы нашим владениям. Но он такой, что не остановится. Он, как охотник азартный. Всё мало ему, всё несётся по лесной пуще, отыскивая новую и новую добычу. Летят стрелы, копьё разит зверя, и сам вид крови пьянит ловца, и опять устремляется он на зверя, гонит его, бьёт. Таковы бывают люди, исполненные гордыни и честолюбия. И таким, как Давидович, нельзя давать власть.
— Ты почти убедил меня. Но, полагаю, Берладник — то твоя забота. Мои же заботы — мои сыновья.
Снова размышляла опытная Рикса, прикидывала, просчитывала, вспоминала прежние лихие времена. Она не верила до конца Ярославу, помня изворотливость и коварство покойного Владимирки и слыша рассказы старой угринки о лукавом короле Коломане.
«Яблоко от яблони недалеко падает», — приходила на ум вдовой княгине русская поговорка. Она опасалась подвоха, чуяла, что галицкий владетель — человек непростой, и потому держалась в разговоре с ним весьма насторожённо.
Ярослав старался рассеять её сомнения.
— Если не со мной, то с кем будет твой сын? Кто поможет ему в час беды? На чьё плечо сумеет он опереться? С венгерским королём он рассорился, обобрав до нитки его тёщу. Юрьевичи — тоже не друзья Мстислава. Греки — далеко, чешский король — на моей стороне, ляхи — те непостоянны и готовы лишь грабить и хватать то, что плохо лежит. Давидовичу же только и надо нас перессорить, а самому укрепиться в Киеве и с половцами вместе поодиночке нас разбить. И потом. Чего ради Давидович уселся в Киеве? Его отец, Давид Святославич, не был киевским князем.
— И твой отец николи Киевом не володел.
— При чём тут мой отец? Да и, любезная сестрица, скажу честно, мне не нужен Киев.
— Ой ли! — недоверчиво усмехнулась Рикса. — Любой русский князь мечтает о стольном граде. Разве не так?
— То было раньше. Такие, как Давидович, живут прошлым. Киев — давно не тот, что был сто или пятьдесят лет назад. Сейчас и Чернигов, и Новгород, и Галич, и Полоцк ни в чём не уступают ему. И все владетели этих городов меж собой равны. Погляди окрест, сестра. Владеть Киевом — почётно, но не более. И потом, ещё деды наши установили: володеет стольным градом старший в роду. А какой Давидович старший!
— Я должна потолковать со Мстиславом, посоветоваться с боярами, — оборвала речь Ярослава Рикса.
— Только не с такими, как Дорогил, сестра. Злобой исполнен, а чего злобится — сам не ведает. Знаешь, где теперь Дорогил?
Княгиня удивлённо передёрнула плечами.
— В порубе в Галиче сидит. Явился втайне. Стал вынюхивать всё, с боярами некоторыми супротив меня в сговор вошёл. Бунт порешил учинить. Вот и пришлось его... Так вот: полагаю, не без ведома твоего сына творил он делишки свои тёмные на Галичине.
«Вот дурак Мстиславка! — едва не сорвалось с уст Риксы. — Нашел, кого в Галич послать!»
Она сокрушённо качнула головой. Заблестели под лучами солнца золотые серьги в ушах.
— Не ведаю, что тебе ещё сказать, как тебя убедить, — признался Ярослав. — Вроде всё, что думал, молвил.
Рикса согласно закивала. Потом вдруг спросила:
— А не боишься, что пошлю я ко Мстиславу, а он с ратью в Зимино явится? И повяжет вас всех?
— Не боюсь, — теперь уже усмехнулся Ярослав. — Во-первых, думаю, Господь не обделил Мстислава разумом. А во-вторых, Дорогил у меня в порубе. Еже что...
Он не договорил.
Рикса, хмурясь, промолвила:
— Мы поняли друг друга. Я должна отъехать во Владимир, к сыну.
— Дам тебе в попутчики своего отрока. С мирной грамотой. Пусть князь Мстислав крепко поразмыслит над моим предложеньем.
...В тот же день возок княгини отправился во Владимир. Вместе с оружными ляхами из её охраны направил коня к Мстиславу и рыжий отрок Семьюнко — Красная Лисица людской молвы.
ГЛАВА 46
Мстислав резкими порывистыми движениями разворачивал свиток, читал быстро, бегло, грозно сводил густые лохматые брови, бросал суровые взгляды на Семьюнку, застывшего посреди горницы в почтительном ожидании.
Он не верил письму Ярослава, не верил словам матери, не верил этому рыжему хитрецу, неслучайно прозванному Красной Лисицей. Давно ли гремели битвы под Перемышлем и Останковом, давно ли лилась кровь у стен Луцка, давно ли галицкие полки ходили осаждать Владимир-на-Волыни в составе ратей Долгорукого?! Хитёр, по всему видно, сын покойного Владимирки. Верно, коварством пошёл в отца. Али в деда своего по матери, короля угров Коломана. Обольстить сумел лукавыми словесами даже искушённую в интригах мать его, княгиню Риксу. И гонец сей, Красная Лисица! Так и сквозит в чертах его, в осторожных движениях затаённое лукавство. Длани зудели, хотелось Мстиславу двинуть кулаком по масленой угодливой роже рыжего отрока. Неслучайно, верно, так его ненавидит Дорогил.
Человек прямой, презирающий всякие хитрости и недомолвки, грохнул Мстислав ладонью по столу, отбросил в сторону грамоту, поднялся с грозным видом со стольца, рявкнул свирепо Семьюнке:
— Ни единому слову твому и князя твово не верую! Лжа! Всё лжа еси!
С досадой отметил про себя Мстислав, что он намного ниже галицкого посла ростом и вынужден смотреть на него снизу вверх, задирая короткую ровно подстриженную бороду.
По рядам волынских бояр прокатился недовольный шумок. У многих обильные рольи на пограничье с Галичиной, многие жаждали мира с соседним княжеством. Не сговариваясь заранее, вставали один за другим, молвили веско, твёрдо:
— Князь галицкий прав. Довольно ратей.
— Живого места на земле не осталось.
— Сказано пророком: «Перекуём мечи на орала».
— Которое лето воюем безлепо.
— И про Давидовича правильно посол баил. Волк он.
— Киевский стол издревле за Мономашичами. Так повелось.
— Нечего, княже Мстислав, Дорогила свово слушать. У него волостей на Волыни немного, чужой он здесь, пришлый, служивый.
— А наши деды ещё землю сию отстояли — от угров, от ляхов, от обров!
Поддержал бояр владимирский епископ. В чёрной мантии, в клобуке с окрылиями на голове, громовым басом он изрёк:
— В худом доселе князь Ярослав замечен не был. Даже когда ходил в воле суздальского Юрия, старался кровопролитья избегать. Мир творить тебе надо, княже.
— Лучше под боком союзника иметь, чем с ненадёжным Давидовичем дружбу водить, — вставил один из бояр.
Мстислав опустился обратно на столец. Глядел исподлобья на думцев своих, на Семьюнку, которому небрежным взмахом десницы велел сесть на лавку, снова разворачивал грамоту, читал на сей раз внимательнее, медленнее, старался за словесами о мире угадать скрытый смысл.
«Зачем ему ентот соуз? Чего хочет? Чего добивается? Киев в руках Давидовича. Он думает принудить его выдать Берладника. В сем, что ли, дело? Нет, мелко. Ярослав — он крупнее, значительнее. Готов отдать Бужск, поделить погорынские городки. В чём здесь хитрость?»
После мучительных размышлений Мстислав объявил боярам:
— Еду в Зимино. Сам с галицким князем перетолкую. Тогда и порешу, как быти.
Он хлопнул ладонями по подлокотникам, коротко приказал собираться, снова вскочил и скорым шагом направился в сени. Не привык решительный и порывистый Мстислав откладывать и подолгу обдумывать важные дела. Тотчас велел седлать статного богатырского скакуна, на ходу набросил на плечи алое корзно. Холоп быстро и умело застегнул на правом плече серебряную фибулу. Другой подставил спину, помогая влезть на коня, третий заботливо вдел княжескую ногу в тимовом сапоге в стремя, четвёртый подал начищенный до блеска меч в обшитых красным сафьяном ножнах.
Во главе отряда старшей дружины вынесся Мстислав за ворота двора, проскакал по улице, по мосту через первый и второй ров; вздымая пыль, помчался галопом по шляху.
Вот уже и Зимино впереди. Спрыгнул Мстислав наземь, пошёл твёрдым воинским шагом к крыльцу, а навстречу ему уже спешил высокий долгобородый молодой человек в княжеской шапке с бобровой опушкой, в таком же корзне пурпурном. На устах его играла улыбка. Много людей толпилось вокруг — гридней, отроков, челядинцев, но смотрел Мстислав только на него одного, смотрел пристально, словно примериваясь, прикидывая, тот ли это владетель, с коим можно и нужно пребывать в союзе и дружбе.
Они долго спорили в палате, ходили из угла в угол, размахивали руками. Мстислав с гневом вспоминал прежние обиды, Ярослав призывал забыть прошлое, жить сегодняшним днём и думать о грядущем землеустройстве.
— Думаешь, я всё это затеял из-за Берладника? Да, и из-за него тоже. Но не только в нём дело. Я — князь, боронить и украшать землю поставлен я Господом. Киева не добиваюсь. Хочу одного: чтобы моя земля, Галичина, в мире и достатке жила. Тогда и власть настоящая будет, и влияние, и уважение соседей, — проникновенно говорил Ярослав.
Он прямо и без страха смотрел в светлые безжалостные глаза Мстислава — глаза воина, ратника, умевшего убивать, правильно строить полки в поле, глаза упрямого честолюбца, которому когда-то он уже переступил дорогу, глаза умные, но опалённые гневом былых обид.
— И люди прославят тогда и меня, и тебя, и наше время. Стань, княже Мстислав, выше мелких свар и ссор, подумай о земле своей — о Волыни. Негоже превращать этот благодатный край в поля бранные, в места раздоров и усобий гибельных. Протяни мне длань свою — сильную длань воина. Пусть длань эта будет не только меч держать, но и руку мою, руку друга!
— Красно баишь, — то ли укорил, то ли похвалил его Мстислав.
— Пойми ещё: Давидович — это угроза всем нам. Его упрямство — наша с тобой беда.
— С Давидовичем рать иметь не хочу, — отмолвил, решительно качнув головой, Мстислав.
— И я тоже не хочу. Но он сверх всякой меры самохвален и властолюбив. Говорил уже матушке твоей, сестрице моей Риксе. Полагаю, рано или поздно он устремит на наши с тобой земли хищный свой взор. И если мы будем воедино, в союзе...
Он не договорил.
— Я понял тебя, брат, — неожиданно спокойным голосом прервал его волынский владетель. — И я готов идти с тобой на мир. Ежели Ярополк сядет в Бужске, и отдашь ты мне Погорынье.
— Кроме Гнойницы и Шумска остальные городки — твои, — предложил Ярослав.
— Согласен, — кивнул как-то легко, по-простецки Мстислав. Словно давно он уже всё решил и ждал лишь случая объявить об этом своём согласии.
Впрочем, тотчас он спохватился и добавил:
— Да, едва не забыл. Вороти мне дядьку моего, Дорогила. Мыслю, никоего вреда отроки твои ему не причинили.
— Не причинили, — подтвердил князь галицкий. — Под стражу заключили, только и всего.
...Союз скрепили грамотами с серебряными вислыми печатями. После был пир во Владимире, были дружеские объятия и рукопожатия. Улыбалась довольная Рикса, смущённо кривил уста паробок Ярополк, шумно пировали волынские бояре. Среди них вдруг возник перед очами немало удивлённого Ярослава и его отроков Нестор Бориславич.
— Дозволь поздравить тебя, княже. Большой успех, — обронил он вполголоса.
— Ты не в Киеве, боярин? — развёл руками Ярослав. — Не ждал тебя тут узреть.
— Давно не в стольном, — Нестор вздохнул. — Не сложилось у меня с Давидовичем. Сей князь своих, черниговцев, на хлебные места ставить стал, волости раздавать принялся. Нас, старых киян, в сторону отодвинул. В общем, как при Долгоруком, опять то ж самое. Вот и ушёл. Служу топерича князю Мстиславу. Вот, с отроком твоим, Семьюнком, свидеться Бог дал. Славно побаили намедни, — Нестор лукаво подмигнул. — Ты, княже, еже что, обо мне не забывай.
Ярослав улыбнулся. Выходит, хитрец Семьюнко сумел через Нестора настроить в его пользу видных владимирских бояр, а те, по сути, принудили Мстислава к союзу.
«А добрым уговорителем, в посольских делах мужем смысленным становится приятель детских лет, — подумал с удовлетворением Ярослав. — Ещё один умный помощник. Правда, себя никогда не забывает».
Он бросил благодарный взгляд на скромно устроившегося в дальнем углу стола рыжего отрока.
Нестор вопросил об Избигневе.
— Давний мой знакомец, — сказал он.
— В Зимино остался. Не ведаю, по какой причине, но упросил меня не брать его с собой, — ответил ему князь.
По правде говоря, Ярослав знал о том, почему не захотел молодой Ивачич сопровождать его во Владимир, но решил смолчать.
Тем часом в княжьем дворце гремела музыка, говорились велеречивые здравицы, густой рекой лилось вино.
Мстислав и Ярослав оба пили мало, больше только чтоб поддержать веселье. Всё сегодня для галицкого князя складывалось, как он хотел. Он ловил полные искреннего уважения взгляды ближних Мстиславовых мужей, слышал шёпотом сказанное:
— Башковитый сей князь.
— Одно слово — Осмомысл.
Осмомысл. С лёгкой руки кого-то из волынян пристало к нему это лестное прозвище. Ярослав с некоторым удивлением подумал, что, в сущности, ничего такого он не сотворил, чтоб заслужить его. «Осмомысл» — то ли умён за восьмерых, то ли говорит на восьми языках (а разумел он мову польскую, болгарскую, угорскую, половецкую, греческую, латынь и, пусть плохо, но язык служивых торков. Коли добавить родную русскую речь, выйдет, в самом деле, восемь).
...Лёг он спать в одном из верхних покоев. Мстислав предложил наложницу, но Ярослав вежливо отказался. Он долго лежал на просторном ложе, забросив руки за голову, всматривался в тёмный потолок, слушал шум ветра за окнами. Верный гридень храпел под дверью. Рядом, в смежном покое расположился верный Семьюнко. Улучив мгновение, он тихо, потупив хитрые зелёные глаза, попросил Ярослава:
— Старался для тебя. Бояр многих сговорил. Дак, может, ты бы...
Ярослав рассмеялся в ответ.
— Не думай, не забуду тебя, Семьюнко. Как воротимся в Галич, десять гривен серебра из моих рук получишь.
Семьюнко засветился от удовольствия, словно медный ромейский обол на солнце.
...Утром Мстислав провёл гостя на гульбище, где ждала их княгиня Агнесса, окружённая сонмом маленьких княжичей.
— Вот, княже, сыны мои. Старшой, Роман, — указал Мстислав на черноволосого мальца лег четырёх, одетого в зелёный кафтанчик, перетянутый пояском с золотой нитью. — Второй — Святослав. А молодший — Ярополк.
Крохотный Ярополк, завёрнутый в пелёнки, шевелился на руках у матери. Широко раскрытыми глазками, прозрачными, с синевой, какие бывают у маленьких детей, смотрел он на окруживших его бородатых людей. В эти мгновения, конечно, Ярослав не знал, не догадывался, сколь много неприятностей доставит ему этот сейчас грудной Мстиславов отпрыск.
Княгиня Агнесса Болеславна, красивая чернобровая молодица, рослая и дородная, с живыми чёрными глазами и крупным носом с горбинкой, добродушно предложила Ярославу отобедать у неё в покоях. Она спрашивала об Ольге, о детях, Ярослав отвечал односложно и всё хвалил молодую княгиню за её красоту и ум, вспоминал, как она, совсем юная, самолично управляла стольным Киевом по поручению дяди Ростислава. В словах Ярослава была не лесть, а истинное восхищение, Агнесса это поняла и ответила ему приятной светлой улыбкой. В Мстиславовой княгине Ярослав обрёл друга, и это тоже в будущем окажется немаловажным.
В Галич он возвращался полный надежд. А прозвище «Осмомысл» опережало князя, летело, передавалось из уст в уста. И он радовался, искренне, без всяких задних мыслей, он чувствовал, понимал, знал, что разумная мирная политика его начинает приносить плоды. Меж западными русскими князьями учинён был крепкий союз на долгие лета.
ГЛАВА 47
Пока шли в Зимино трудные переговоры, Избигнев находился около Ярослава. Он провожал во Владимир Семьюнку, напутствовал, советовал, как вести себя с волынскими боярами, благо опыт посольских дел кое-какой да имел.
— Постарайся, друже, повстречаться с кем ни то из ближних мужей Мстиславовых. У княгини Риксы совета испроси. Умная она жёнка, Рикса, — наставлял товарища Избигнев. — Не все такие, как Дорогил. Есть бояре и дружинники разумные. Князь Мстислав, думаю, против воли ближников своих не пойдёт. Они — его опора. Ну, с Богом.
Они простились. Семьюнко выехал из ворот вместе с возком Риксы. Избигнев, приложив к челу ладонь, смотрел, как клубится вослед вершникам густая дорожная пыль.
Он вернулся в хоромы, стал неторопливо подниматься по ступеням крыльца в сени, когда вдруг услышал странное дивное пение. Тонкий женский голосок, звонкий и нежный, старательно выводил незнакомый напев. Избигнев прислушался. Не латынь, не греческий. Неведомо, на каком языке пела женщина.
Он заглянул наверх, осторожно просунул голову в дверь покоя, откуда доносились столь чарующие взволновавшие душу звуки. Взору его предстала юная девица в белом суконном платье, с украшенным самоцветами серебряным венцом в белокурых непокрытых платом волосах. Тонкий стан, перетянутый шёлковым пояском, белоснежная кожа лица, высокое чело, короткий немножко вздёрнутый носик, маленькие руки с тонкими перстами, уста алые, как ягодки рябины, — застыл восхищённый Ивачич на пороге. Смотрел зачарованно, слушал, забыв обо всём — о делах, о грядущих нелёгких переговорах, о том даже, что не следовало вот так стоять здесь недвижимо в дверях.
Девица, заметив его, вскрикнула и оборвала пение. Изумлённо уставились на Избигнева светлые серые глаза.
— Ты кто? Что здесь делаешь? — спросила она.
Говорила девушка по-русски с сильным акцентом, растягивая гласные.
Избигнев молча поклонился ей в пояс, приложив руку к груди.
— Кто еси? — потребовала ответа девица.
— Из Галича я, — вымолвил, наконец, восхищённый Избигнев. — Извини, услыхал твой голос, не удержался. Я... я уйду. Не смею мешать тебе.
— Нет. Не уходи, — решительно замотала головой девушка.
«Сирена она, что ли? Вот так заворожит, собьёт с толку, и сойду я с ума, — подумал Избигнев, вспомнив старинный греческий миф. — Да нет же! Экая глупость в голову лезет! Дева, как дева. Хороша собой. Какая там сирена!»
Он усмехнулся собственным нелепым мыслям.
Девушка удивлённо вскинула тонкие брови:
— Что, смешно?
— Нет, нет. Это я... разное думаю... Ты... ты, красна девица... Прости, обидеть тебя не хотел. А токмо... слов не нахожу... Не умею...
Щёки Избигнева покрыл густой румянец смущения.
— Как тебя звать-величать, добр молодец? — улыбаясь, спросила девица.
— Избигнев аз, Ивачич.
— А я — Ингреда, — как-то просто, по-будничному отозвалась девушка.
— Ты, верно, приехала сюда из земли свеев? Вместе с княгиней Риксой?
— Да, так. Но я — датчанка. Мои родители были бондами. У вас таких людей называют житьими, или... — она пощёлкала пальцами, вспоминая название. — Своеземцами, — с трудом выговорила, растягивая по слогам. — Они погибли во время войны. Королева Рикса взяла меня на воспитание. А потом мы перебрались во Владимир.
Видя, что Избигнев переминается с ноги на ногу и выглядит весьма стеснённым, она весело рассмеялась и спросила:
— Ты тоже из сво-е-зем?..
— Нет. Мой отец был воеводой, боярином. По-вашему, выходит, лендрман или что-то вроде того.
— Я заметила тебя. Сразу, как только вы приехали. Увидела сверху, из терема. Сначала мы испугались. Но потом... Твой князь... Он нас немного успокоил. Сказал, что прибыл с миром. Это правда? Ведь так? — В глазах Ингреды светилось недоверие, она требовала от Избигнева ответа, прямого и твёрдого. — У нас в Дании тоже часто говорят такие слова. А потом нарушают мир и коварно нападают со спины. Князь Ярицлейв...
— Он не держит за спиной ножа. Наоборот, хочет заключить союз с вашей королевой Риксой и её сынами. О том сговариваемся. Вот и Семьюнко во Владимир отъехал...
— Семьюнко — это тот рыжий? Говорят, он очень хитрый и скользкий человек. А мне он показался смешным и безобидным, — Ингреда снова заулыбалась, как-то очень трогательно кривя свой большой некрасивый рот.
— По крайней мере, он предан князю Ярославу. Службу правит верно. Толковый отрок.
Ингреда не ответила. Они оба враз умолкли, потупили очи, не зная, как быть и о чём теперь говорить. Избигнев чувствовал одно: что-то вспыхнуло, загорелось у него в душе при виде этой белокурой датчанки, что-то такое, чего и словами не объяснить. Он едва не бегом бросился обратно в сени, спустился с крыльца во двор и нарвал в саду букет цветов. После он, воровато озираясь, словно нашкодивший мальчишка, воротился на верхнее жило и с поклоном вручил цветы изумлённой девушке.
— Тебе... Красота твоя, как эти разноцветные лепестки. Васильки, ромашки.
— Спаси тебя Бог, Избигнев. Только... Не надо, не ухаживай за мной... У меня есть жених... Он должен приехать... Скоро приехать.
Вмиг рухнуло, исчезло, растворилось без остатка только что владевшее Избигневом светлое чувство. Ему казалось, что он пробуждается от некоего сладкого сна и окунается в суровую серую жизнь с её извечной большой и малой суетой. Ингреда, нюхавшая ароматы даренных цветов, была воистину призрачной сиреной, неким привидением из свейского или датского каменного замка, неведомо как принесённым сюда через тысячи вёрст и, может, через года и столетия. Избигнев отшатнулся, положил крест. Девушка не исчезла, она всё стояла посреди покоя с цветами в руках, с ласковой и смущённой улыбкой, с венцом в волосах.
— Прости, не ведал, — шепнул Избигнев и, пятясь, вышел в тёмный ставший вдруг холодным переход. На стене колыхнулся факел.
Он спустился в гридницу и сел за стол чуть в стороне от товарищей, которые вполголоса рассуждали о сегодняшней поездке.
— Дело верное, — говорил один дружинник, светлоусый верзила в малиновом кинтаре[218]. — Князь наш разумом не обижен. Знает, что деять.
— Всё одно — опасно. Мстислав — муж гневливый. Как бы лиха не сотворил нам, — возражал ему другой гридень.
Избигнев слушал эти разговоры, но как-то совсем не волновали они, не трогали его душу. В сердце его царила Ингреда — чужая невеста. Вот, верно, выйдет замуж, нарожает детишек, и забудет мимолётную встречу с неведомым галичанином. Избигнев горестно вздыхал.
Кто-то сзади грубо толкнул его в плечо. Ивачич резко обернулся.
Старый знакомец Фаркаш, в роскошном синем кафтане, в шапке с пером, с залихватски закрученными усами, возник перед ним. Злобно сверкали глаза угра, десница тянулась к сабле на боку.
— Вот ты где! Не ждал. Но оно и к лучшему, — процедил он сквозь зубы. — Не закончили мы в Эстергоме наш спор. Предлагаю разрешить его на саблях... Не откладывая, здесь, во дворе. А то у меня тут невеста. Вот убью тебя и женюсь! — Хвастливо заявил он и неожиданно громко захохотал.
Невеста... Избигнев сразу подумал об Ингреде. Почему-то ему самому захотелось драться. Да, конечно, Фаркаш прав! Тотчас, во дворе! А там видно будет, чья невеста!.. Опять глупость идёт на ум! Что за чепуха?! И при чём тут Ингреда?! Путались мысли в голове, одно знал Избигнев твёрдо: их спор молодецкий должен быть решён.
...Сверкали, разрезая воздух, скрещивались со скрежетом харалужные сабли. Избигнев нападал, потом оборонялся, хладнокровно отбивая косые стремительные удары угра. Фаркаш багровел от злобы, кричал по-угорски обидные слова, рубился с яростью, но одолеть противника покуда не мог.
В разгар поединка, когда окружившие их дружинники, подбадривая бойцов, уже начинали терять терпение, ожидая, чем же закончится эта их схватка, прорвалась и с отчаянным бесстрашием бросилась под смертоносные клинки Ингреда. Неожиданно сильно и цепко ухватила она сражающихся за запястья и с силой вывернула их, да так, что у обоих мужей сабли вывалились из рук.
— Петухи! — В глазах её полыхал гнев. — Что творите?! Надоело жить?! Прекратить!.. Немедленно прекратить!
— Во девка! — Восхищённо пробасил кто-то из собравшихся во дворе ратников.
— Такая и в полымя кинется!
— Вовсе страха нету!
— А длани экие крепкие! У обоих сабли пани!
Галичане и люди Риксы восхищались, качали головами.
Избигнев стоял молча, ошарашенно глядя то на Ингреду, то на Фаркаша, то на свою обронённую саблю. Боли в руке он не ощущал, хотя, надо сказать, не слабо ухватила его рассерженная девица. Неожиданно у самого лица его возник маленький кулачок.
— Ты чуть не убил моего жениха!
— Не ведат, что он — твой жених. У нас с ним давний спор. Всё никак не можем его завершить.
— И нечего! Не смейте! Стыдно, княжеские люди, а как... дети... Негодные мальчишки!
Прелестен был тонкий голосок с акцентом. Избигнев невольно улыбнулся, чем вызвал недоумение и гнев девушки.
Тем временем Фаркаш, буркнув недовольно:
— Встретимся ещё! — подобрал своё оружие и поспешил скрыться меж деревьями в саду.
— Не смейте! — в сердцах топнула Ингреда ножкой в кожаном выступке[219]. — Почему вы все такие?! Кровь льёте, убиваете, калечите друг дружку! А?! Вот ты! — обратилась она снова к Избигневу. — Подарил мне цветы, говорил добрые слова — и чуть не убил ближнего своего! Не знаю, что у вас за спор. И знать не хочу! — она брезгливо махнула хорошенькой белоснежной ручкой. — Но нельзя его решать оружием. Предоставьте Богу и времени решать.
— Ты права, милая девушка. Мы — плохие люди, грубые и жестокие. Не можем, чтоб не драться, — тихо промолвил Избигнев.
Толпа отроков и гридней вокруг них схлынула, рассосалась. Стояли они вдвоём на ровной вытоптанной площадке, окружённой высокими липами.
Ивачич встал на одно колено, склонил голову и поцеловал край платья Ингреды.
— Я виноват... Должен был догадаться... Да я и так догадался... Но у нас давняя неприязнь... Он первым начал... Я ответил... Не мог по-иному... Один раз тогда, под Перемышлем, не удалось оружье скрестить. Во второй раз угорская королева прекратила наш поединок. Как и ты, прибежала, велела вложить сабли в ножны. Теперь ты...
Ингреда молчала, стояла с гордо поднятой головой, слушала. Гнева в глазах её уже не было, любопытством светились хорошенькие глазки, разгладились морщинки на высоком челе.
Избигнев не выдержал. Сказал, неожиданно даже для самого себя:
— Ингреда, дева милая! Жалимая! Брось, не выходи за Фаркаша! Он грубый и жестокий человек. И хвастлив не в меру. Выходи за меня. Любить тебя до скончания дней буду. Красавица, умница моя! Несчастна будешь ты с ним!
Ответом были сверкнувшие вновь гневом прозрачные серые глаза.
— Как ты смеешь?! — ожгли его полные изумления и злости слова. — Явился тут! Чуть не убил!..
Рыдания оборвали речь Ингреды. Закрыв руками заплаканное лицо, бросилась она вглубь сада. Громко зашуршала потревоженная листва. Расступились на миг, пропуская её, ветви дерев.
Избигнев с отчаянием посмотрел ей вслед и метнулся к крыльцу.
...Вечером, когда лежал он в утлом покое, который выделила им на двоих с Семьюнком королева Рикса, вдруг нарушил его безрадостное тоскливое одиночество настойчивый громкий стук в дверь.
Ингреда, простоволосая, в тёмном дорожном плаще с капюшоном, решительно опустилась на лавку. Сколь быстро менялось её настроение! Улыбка уступала место гневу, гнев — радости. Сейчас же она выглядела какой-то умиротворённой, потишевшей. Сказала просто, без затей:
— Согласна на твоё предложение. Выйду за тебя.
Видя, что Избигнев молчит, ошарашенный, оглушённый, не верящий своему нежданно свалившемуся на голову счастью, она сочла нужным добавить:
— Я видела, как Фаркаш бил своего холопа. Плетью, со злобой. Ты говорил правильно. Я всё поняла. Прости, если можешь... Я... я...
Она не договорила. Жаркий поцелуй в уста прервал её слова.
— Сватов пришлю. Заутре же. А покуда...
— Ночь эта наша с тобой, — прошептала Ингреда, сбрасывая с плеч плащ.
Избигнев притянул её к себе, обнял за хрупкие плечи, снова впился в алые уста.
Была южная ночь, чёрная, непроглядная, было желание, и было ощущение безграничного счастья. И были шелковистые волосы, щекочущие ему лицо, и пальчики девичьи тонкие, ласково гладящие грудь, и уста пылающие, и неистовое возбуждение, и после блаженство, покой, истома, и сон предутренний, и тихое посапывание её рядом, и длань её, покоящаяся на его животе.
Впереди была свадьба, пир, была любовь, яркая, как огонь, светлая, как солнце. И была молодость. И была жизнь, в одночасье расцвеченная для Избигнева сочными красками.
ГЛАВА 48
— Ты ж её, почитай, не знаешь вовсе! Из какого рода, кто?! И уже свататься собрался! Один день, как и повстречались, — предостерёг Ярослав Избигнева. — Подожди. Вот мир створим, тогда.
Избигнев, потупив в пол взор, тянул своё:
— Люба она мне. Отродясь этакой красавицы не видывал. Сговорились уже.
Ярослав задумался, огладил долгую русую бороду.
— Оно, конечно, и неплохо б было, — наконец, сказал он. — Ингреда сия — воспитанница княгини Риксы, ты же — боярского рода, отец твой многими делами прославлен. Скрепить бы сей женитьбой наш союз. Да только не всё, друже, выгодою меряется, — князь грустно вздохнул. — Ты посмотри на иных. На меня, к примеру. До свадьбы с Ольгою вовсе не знались, а теперь мучаемся оба, и ничего больше. Никоей любви нет между нами. Хоть и дочь вот родили. Тоже... Совокупили нас отцы наши.
Он поджал тонкие уста.
— К чему говорю это, — продолжил, — чтоб помыслил ты, Избигнев, как в жизни бывает. И события не торопил. Молод ещё, спешить некуда.
— Я, княже, всё решил твёрдо. Поять[220] хочу Ингреду, — отмолвил Ивачич.
Ярослав ничего не сказал на эти слова. Они долго молча сидели в палате на нижнем жиле Зиминского дворца. Был вечерний час, жара спала. За Лугой вдалеке ходили по небу тучи, вспыхивали на краткие мгновения огненные зарницы.
На столе тихо потрескивали, оплывая, свечи. В муравленой печи весело играли языки пламени.
Наконец, князь нарушил молчание:
— Ты ведь мне друг, Ивачич. И разумом ты сверстен, трудные дела толково правил. Но сейчас, вижу, не до службы тебе. Мой совет: покуда побудь с Ингредою побольше, присмотрись к ней. Тебе жить. А там и решай. Со Мстиславом же как-нибудь без тебя дела уладим.
Избигнев встал со скамьи, низко поклонился Ярославу в пояс.
— Спасибо, княже, за совет добрый. Дозволь оставить тебя.
— К ней спешишь? — улыбнулся Ярослав. — Ну что ж. Ступай. И думай, прошу тебя, думай.
Избигнев скрылся за дверями покоя. Качая головой, молодой Ярослав устало вздохнул и уставился в окно.
По-прежнему полыхали у окоёма яркими вспышками зарницы. На душе было немного тревожно, немного печально. Вот Избигнев, возможно, отыскал на земле своё счастье. Увы, его, Ярослава, доля иная. Приходится жить с нелюбимой женой, слушать её ворчливые упрёки, ласкать её толстое похотливое тело. Хотелось крикнуть яростно, одолевая боль душевную: «Я тоже имею право на счастье, на любовь!»
Знал, пропадут слова сии впусте. Так устроен мир. В одночасье его не переделать.
Ярослав отвлёкся от неприятных будоражащих ум дум и сам не заметил, как задремал, сидя на мягкой обитой войлоком скамье возле печи.
ГЛАВА 49
Дорогил сидел перед Ярославом сгорбившийся, нахохлившийся, как хищная птица, смотрел косо, едва сдерживался, чтобы не нагрубить.
Князь говорил спокойно, без злости и раздражения:
— Позвал тебя, Дорогил, на беседу вот по какому поводу. Мир взял я с Мстиславом, воспитанником твоим, боярин. Поделили мы меж собой Погорынье. Князю же Ярополку, братцу Мстиславову, отдал я Бужск. Полагаю, обиды взаимные в прошлом останутся. И ты также прежней злобы не помянёшь. Хватит, навоевались досыта отцы наши. Нам же худым примерам следовать не пристало. Из поруба я тебя вывел, можешь теперь езжать, куда хочешь.
Дорогил молчал, презрительно усмехался. Он не верил словам Ярослава, старался угадать за ними козни и недомолвки, силился разобраться, отчего такая ему милость и в чём кроется хитрость сына его давнего недруга, но не мог.
Наконец, он не выдержал, резко вскинул седеющую с висков голову, сказал прямо:
— Нет тебе веры никоей, сын змиев! Коли тако, как ты речёшь, то обманул ты Мстислава мово! Ить обманул же!
— Никого я не обманывал. И тебе сейчас говорю, что думаю, — по челу молодого князя пробежала волна недовольства. — Повторю ещё раз: хватит былое вспоминать! Я князю Мстиславу не ворог! И тебе лиха никакого не желаю причинять. Потому и выпускаю из поруба.
Дорогил снова замолк, снова зыркал на него своими неприятными колючими глазами, снова кривил в злобной ухмылке уста.
Осмомысл, в конце концов, не сдержался. Повторил уже с гневом:
— Довольно нам враждовать! Ступай с миром! И помни: я зла никоего супротив тебя не творил! Забуду, как ты бояр сговаривал встань в Галиче учинить! Уходи!
Дорогил вдруг сорвался, вскочил с лавки, рявкнул ему в лицо с дикой яростью:
— Баишь, мир! Агнца из себя строишь! Да я... Ненавижу я таких вот, как ты! Всю жизнь поперёк горла этакие вот умники! Тако скажу! Я — проведчик, сакмагон[221]! Я каждую нору, каждый холмик здесь, на Червонной Руси, ведаю! Обо всех происках отца твово Многоглаголивого завсегда разведывал и до князя свово доводил! Никто от меня не уходил! Ни зверь, ни птица, ни человек! Я и степь знаю половецкую, яко персты свои! Вашего лазутчика тогда, под Перемышлем, выследил аз, хоть и нелегко было, словил! Он у меня на дыбе висел уже, пятки я ему огнём жёг! Всё бы он мне выложил, кабы не князь Святополк да не Кукниш! Змеи они! И нашим, и вашим! Пришлось мне тогда твоего Семьюнку отпустить! В первый раз такое было! Доселе ни единого ворога не отпускал! Извернулся он, гад, Лисица Красная, ушёл. И вдругорядь ушёл! Не ведаю, может, дьявол ему помогает! А потом, выходит, он в Галиче меня отыскал и в поруб привёл! Дак я его что, любить за то буду! Нет, Ярославе! Честь моя задета, и не успокоюсь аз, покуда его не споймаю да в цепях и на дыбе не увижу!
Вытаращенные белесые глаза метали молнии, длани сжимались в пудовые кулаки, растрёпанная длинная борода торчала жёсткими спутавшимися космами во все стороны. Страшен был Дорогил, страшен и жалок вместе с тем от бессилия своего.
— Значит, не хочешь былую вражду забывать? Что ж, дело твоё. — Князь вздохнул. — Одно скажу: со враждой сей не проживёшь. Гляди, как бы злоба твоя тебя не сгубила. И ещё... Ты ведь уже немолод. Назад-то оглянись, и подумай: что ты в сей жизни доброго содеял? Кого любил, кому чем когда помог? Лазутчик ты добрый, сакмагон. А кому от твоего умения великого польза? Что ещё умеешь? Ремественник искусными изделиями рук своих славен, купец — товарами многоценными, из-за моря привозимыми, боярин думский — разумом. Аты? Ответь... Молчишь. Верно, тем только отличен, что козни повсюду строил да братьев-князей меж собою ссорил. Вижу, нечего тебе ответить мне. Сидишь тут, гневом пылаешь попусту да на Семьюнку зуб точишь. На того, кто, получается, ловчее да хитрее тебя оказался. Не глупость ли?
И опять Дорогил не сдержался, опять вскочил на ноги, опять зашёлся в крике:
— Ты! Коромольник! Сын коромольника! Меня стыдить! Да я... Я тебя на три десятка годов без малого старше буду! Что с того, что ты — князь! Да какой тамо князь — так, князёк! Доберусь я до тя! Стонать будешь от боли, ворог!
— Сядь! — неожиданно резко и громко выпалил Ярослав, так, что Дорогил на мгновение опешил, а затем попятился и рухнул обратно на лавку.
— Довольно тут каркать тебе! — взяв себя в руки, продолжил князь. — Вот что! Тотчас велю тебе коня доброго дать. Отроки мои тебя до волынского рубежа проводят, чтоб по пути гадости какой на Галичине ты не сотворил. А там как знаешь. Обещал я князю Мстиславу выпустить тебя. Мир из-за твоего лая глупого рушить не стану, но слова твои и злобу твою запомню. Так и ведай. Всё! Ступай! Убирайся!
Ярослав вызвал двоих здоровяков гридней и велел проводить Дорогила во двор. Он отвернулся и не смотрел, как выходит исполненный ненависти боярин из палаты. На душе было гадко, противно.
«Вот какие среди них есть. Боярин волынский! Мстиславов вуй, правая рука! Вот из-за таких и все наши союзы ненадёжны и хрупки, как стекло. И у меня в Галиче таковых немало. Ума немного, зато гонору — хоть отбавляй! В них — всех бед корень. Хотят иметь власть над князем, обладать им, навязывать ему и всей Руси Червонной свою злую волю. Они — вороги пуще всякого Давидовича, пуще половца, пуще угрина лихого. В них — причина раздоров наших!»
От мыслей таких становилось тревожно, всё содеянное в последнее время представлялось зыбким, думалось с сокрушением: сколько же сил надо положить, сколько нота пролить, чтобы пригнуть таких, как Дорогил, к земле, чтобы подавить их, подмять, подчинить своей власти!
И хватит ли у него, молодого владетеля Галича, сил этих? Если даже сейчас порой охватывает его некая безнадёжная усталость, сковывающая волю, и хочется уйти, бежать от грязи и мерзостей этого мира. Была бы только рядом икона Богородицы, перед которой можно было упасть на колени и расплакаться. И отбросить в сторону все худые мысли, и очистить душу жаркой молитвой.
Но нет, так нельзя. Он — князь, он — Осмомысл, он должен суметь многое. Он добудет мир, он победит Давидовича и справится с Берладником. Иначе и быть не может.
На смену тревожным раздумьям пришло спокойствие, вернулась былая решимость, мысли становились яснее и светлее. Нет, он всё делает правильно. И он будет начатое продолжать. И сделает столько, сколько сможет.
ГЛАВА 50
Шумно на киевском княжеском подворье. Скачут туда-сюда скорые гонцы, ржут вздыбленные кони, скрипят подводы. Блестят в лучах осеннего солнца харалужные шеломы дружинников, кричит что-то, надрываясь, дворский, мельтешит проворная челядь. Убирают со двора столы после давешнего пира, бряцают чаши и подносы, уносятся на нижнее жило дорогие скатерти. Впереди — мытьё, стирка, чистка. И так всякий раз. Любит новый киевский князь шумные застолья, зовёт на них и бояр, и житьих, и купцов, и простой люд посадский. Всем старается угодить, всех на свою сторону склоняет. Знает: Киев покуда — не за него.
Изрядно оскудели в последнее время всегда обильные едой и питьём обширные погреба. Большой обоз готовит нынче ближний боярин Шварн Милятич в дальнюю землю вятичей. Следует пополнить запасы, привезти из старинных вотчин Давидовичей бочки с хмельным пивом и мёдом, мясо, овощи, крупы. Киевская-то земля оскудела после десятилетий нескончаемых ратей. Бежит народец, кто в Суздаль, кто в Новгород, кто в Галич.
Отдав распоряжения, поднялся грузный высокий Шварн в терем. Скрипели иод ногами половицы. В своём покое скинул боярин с плеч на руки челядинцу расшитую травяным узором ферязь[222], помыл у рукомоя руки, сел на лавку у слюдяного окна. Залпом опорожнил оловянную кружку ола, кряхтя, вытер усы.
В дверь просунулся гридень.
— Боярин, тамо из Владимира-на-Волыни гонец. Тебя зреть хочет.
— Покличь, — боярин насторожился.
Давно чуял он опасность. Родичи — князья недолюбливали Давидовича, считали, что не по праву занимает он киевский стол. Так оно, пожалуй, и есть, да только что такое право в нынешние лихие времена. Право — у сильного, а Изяслав Давидович был покуда силён. И сила его была — Черниговская Земля. Пусть сидит в самом Чернигове сейчас его молодший двоюродник, Ольгович Святослав, но всё одно, земля сия обильная, от брынских лесов до степного пограничья, от Курска и Мурома до Любеча на Днепре, вся в руках нынешнего киевского властителя. Но так ли уж он могуч? Имеет Давидович крепкий союз с шурином своим, половецким ханом Башкордом, сыновец Святослав Владимирович, княживший во Вщиже, всецело ходит в дядиной воле, Ольговичи тоже его покуда слушают, а остальные? Нутром чуял опытный Шварн — скоро ждать неприятностей.
Гонец с поклоном передал нацарапанную писалом на бересте грамотку от одного волынского доброхота. Писал волынянин о встрече Ярослава и Мстислава и об их союзе. Ещё писал, что примкнули к союзу тому угры, чешский Владислав и ляхи. И что мыслит Ярослав Галицкий снова требовать выдачи Берладника.
Крепко призадумался Милятич. По правде сказать, совсем не нравилось ему, что так привечает князь Изяслав этого изгоя. Спору нет — храбр Иван, благороден, честен, но... Из-за него не следовало бы начинать войну. Говорить с князем о том — что впустую воздух сотрясать. Не хочет Давидович слушать разумных доводов, что стоит отпустить Ивана на все четыре стороны. Получил свободу, избежал гибели — пусть бы убирался теперь из Киева подобру-поздорову, искал себе на земле место. Русь велика. Так ведь нет. Сидит сиднем в стольном, ест, пьёт с великокняжеского стола. С ним допрежь прочих советуется Давидович во всех делах. Тож, сыскал советчика!
Стиснул Шварн в десницу кулак, выругался зло. Спохватившись, отпустил гонца. Сызнова перечёл грамотку, повертел её в руках, вздохнул тяжко.
Что ж делать? Ведь не зря они сговариваются. Мстислав давно на Киев глядит, а галицкий князь хочет Берладника заполучить. Тут ещё угры, чехи, ляхи. И ещё Ростислав Смоленский о своих правах на стольный не преминёт вспомнить. А у них с Изяславом кто? Ольговичи не так уж и надёжны, половцы — тем паче, им лишь бы добыча была. Сыповец Вщижский тоже, давно ли требовал у Изяслава города и веси.
О чём бы ни начинал мыслить Шварн, одно приходило на ум — надо что-то с изгоем Берладником решать. Предан был Милятич князю своему, разделял многие его чаяния и честолюбивые надежды, но вместе с тем намного лучше Давидовича понимал он, какая каша заваривается в Южной Руси. Воевать не хотелось. Как-то надо было умирить Ярослава. Да, конечно, Ярослава! Он главный в этом союзе, его следует больше всего опасаться. Неслучайно Осмомыслом прозван, хоть и молод. Эх, Берладник, Берладник! Как же с ним быть?!
Так ничего и не придумав, пошёл Шварн ко князю. На пути в переходе попался ему какой-то черноризец с Библией в руках, и тут вдруг стукнуло, ударило боярину в голову: вот! Давно добивается Ярослав для Галича епископа. Надо идти к митрополиту Константину. Но сперва, конечно, перетолковать с князем.
...Давидович вкушал трапезу в большой зале с густо исписанными узорчатыми столпами. Рядом с ним были княгиня Марфа, Берладник и двое братьев Переславичей, Якун и Нажир. Увидев Шварна, Изяслав приветливо кивнул ему и пригласил сесть. Тотчас возникли перед боярином оловянная тарель с похлёбкой, ароматно пахнущий кус баранины и чара доброго вина.
Ели медленно, говорили мало. Наконец, улучив мгновение, стал Милятич рассказывать:
— Княже, слово к тебе имею. Гонец ко мне с Волыни прискакал. Доброхот один верный бересту прислал. Писано: сговорились промеж собой Ярослав Осмомысл Галицкий и Мстислав. Союз крепкий учинили. А окромя того, договор у них с угорским Гезой, богемским Владиславом и с ляхами.
Братья Переславичи сразу насторожились, переглянулись, Давидович же беспечно отмахнулся:
— Пущай союзятся. Мне-то какое дело?
— Мыслю, супротив тебя тот союз направлен, — отмолвил Шварн.
— С чего то видно? Всё мерещатся тебе, боярин, всякие беды. Да крепко я в Киеве на столе сижу, и все меня боятся. Все хвосты поприжали. И Мстиславка на Волыни, и стрый еговый Ростислав в Смоленске, и ентот... как его ты назвал... Осмомысл, во! Ведает, что не поздоровится ему, коли супротив меня какое лихо содеет! Да я тогда его с Галича тотчас сгоню! И вот Ивана посажу на стол златокованый! А?! Как тебе, Иванко, стол галицкий?! Подходит?!
Давидович подмигнул Берладнику и раскатисто расхохотался. Иван, слабо улыбнувшись, лишь пожал в ответ плечами.
В разговор вмешалась княгиня Марфа.
— Зря ты такое речёшь. Не хвалился бы попусту, супруг мой любезный. Чую, собираются в стаи вороны чёрные. Клёкот слышу зловещий по ночам, сплю плохо. Не к добру всё это. И имя сие — Осмомысл, слыхала где-то я уже. То ли во сне... Жутко как-то. Ты бы прислушался к тому, что бояре твои верные говорят.
— Страхи то бабьи! — оборвал её Изяслав. — Не посмеет сей мальчишка со мною тягаться! Кишка у его тонка! А помирился он со Мстиславкою, пото[223] как видит, что слаб. Поди, и отдал ему что из волостей? А, Шварн?
— В Бужске посадили Ярополка, Мстиславова брата молодшего. Ну и Погорынье разделили.
— Вот видишь! Испужался твой Осмомысл Мстиславку. Наслышан об его уменьи ратном, пото и поспешил мир сотворить. Своё же отдал! Тож, мудрец великий! — Он снова захохотал. — Наложил в порты, а мне бояться его! Да глупость!
— И всё же выслушай меня, княже! — Попросил Шварн. — Тако ли, инако, но с Галичем воевать тебе не след. Вспомни сечу под Останковом. Сильна рать галицкая. Надо бы тебе, думаю, мирные сношенья с Галичем наладить.
— Какие ещё сношенья! В воле моей пущай ходит, вот и все сношенья! — Давидович начал раздражаться. — Что он, государь заморский?! Харатьи ему слать с печатями прикажешь, али как?! Вот, нынче в поход иду на Туров. Юрья Ярославича, прихвостня Долгоруковского, сгоню оттудова, посажу на его место Владимира Мстиславича. Давно сей князь удел просит. Пошлю в Галич гонца, велю Ярославке, чтоб дал ратников в подмогу. Погляжу, что он ответит.
— Сын Юрия Ярославича Святополк в Галиче служит. Князь без княженья. Не пойдёт он на родного отца, и Осмомысла отговорит, — вмешался в разговор Нажир Переславич.
— Вот я и погляжу, даст Ярославка воев аль нет! — грозно пробасил, грохнув кулаком по столу, Давидович. — А коли нет, дак после Турова на его пойду!
— Княже! Не столь велики силы наши, чтоб и там, и тут воевать, — попытался увещевать расхорохорившегося Изяслава Милятич, но тотчас уразумел, что слова его бесполезны.
Заговорил об ином.
— Ещё одно. Давно Ярослав просил митрополита, чтоб послал в Галич епископа. Чтоб учредили в городе сем епархию. Надобно, верно, со владыкою Константином перетолковать. Уважить следует просьбу Ярославову.
— Вот и иди к митрополиту. Я поповские дела не решаю! — отрезал Изяслав.
— Зато, может, умиримся тогда. Правильно сказываешь, Шварн, — поддержала боярина княгиня Марфа. — Коли пастыря доброго подберёт митрополит, может, удержит он Ярослава от дел лихих. И помнить будет князь галицкий, кто ему сего пастыря прислал, кто помог епархию в Галиче утвердить. И благодарен будет вельми.
— Ну и ступай тогда к Константину, сама ему всё скажи. Я не пойду, — решительно заявил Давидович. — А вот гонца к Ярославке тотчас снаряжу. Пущай добрых воинов шлёт!
Шварн недобро покосился в сторону Берладника. Иван за время трапезы не промолвил ни слова.
«Лишний он тут, ох лишний!» — С едва скрываемой злостью подумал Милятич.
Трапеза кончилась, разошлись бояре каждый по своим делам. Давидович велел седлать коня.
— В Зверинец поеду. Охотой побалуюсь. Ты со мной? — Спросил он Берладника.
— Извини, княже, но... дела у меня в городе.
— Ну, что ж. Не неволю!
Давидович в сопровождении молодшей дружины вскоре выехал за ворота. Иван, проводив взглядом вереницу всадников, кликнул слугу, велел подать дорожный вотол. На Подоле через Нечая уговорился он о встрече с несколькими бежавшими из Червонной Руси людьми. Думал безудельный князь укрепить добрыми воинами свою берладницкую вольницу. Надеялось, мечталось, что добудет он в скором времени себе волость.
Тоска охватывала, хотелось побывать в Берладе, в Галиче, в Звенигороде, где княжил когда-то. Понимал, что невозможно покуда сие, вздыхал, тряс кудрявой головой.
В переходе, улучив мгновение, подобралась к нему Марфа.
— Пойдём со мной, Иване! — потянула она его за руку.
Вспомнил Иван совет Нечая: «Не отказывай ей, княже».
И вот послушно пошёл он за сгорающей от любовного пыла огнеокой женщиной, дал обнять себя, повалить на ложе. Смеялась озорно Марфа, расстёгивала пуговицы у него на кафтане, нетерпеливыми движениями срывала рубаху с молодецких плеч. Затем разделась сама, юркнула под беличье одеяло, вся трепетная, страстная. Она отдалась ему, и он позволил ей сделать с собой всё, что она хотела. Разметались по плечам распущенные Марфины волосы цвета воронова крыла. Иван гладил и целовал упругую смуглую грудь её, она постанывала от удовольствия, хватала его за естество горячими устами, теребила, возбуждала. Сотворили они грех, и один раз, и второй, и третий. Потом Иван признался, что устал. Марфа лишь рассмеялась в ответ. Ненасытна была сестра хана Башкорда, охоча до ласк, неистова во грехе. Когда, наконец, успокоенные, они оба задремали, тихо просунулась в дверь ложницы голова маленького человечка. Евнух Птеригионит с недавних пор был взят князем Изяславом прислуживать княгине и ближним боярыням в бабинце. Глянув на Ивана и Марфу, он зловеще ухмыльнулся, некрасиво выставив огромные жёлтые зубы. Теперь он знал, как погубить Берладника.
...Утром Марфа, плача навзрыд, долгий час простояла на коленях перед образом Спасителя в домовой церкви. Она молила простить ей свершённое. Она изменила мужу, изменила в первый раз с тех пор, как юной девочкой привели её под венец. Приглянулся, ох, приглянулся ей этот добр молодец! Да и как может такой не понравиться! Словно храбр из старины! Пришёл, околдовал,овладел ею!
Где-то в глубине души сидела предательская мыслишка: «Ну и что ж такого тут! Изяслав вон сколько холопок перепортил! Сколькие потом брюхатые ходили! Давно привыкла к его изменам. А сама, что ж, и изменить разок не могу?!»
Гнала от себя княгиня эту скользкую дьявольскую мыслишку, каялась, молила Господа о милости, о прощении. И снова плакала, утирая слёзы узорчатым платочком. А сзади неё стоял на коленях маленький евнух и, закрываясь рукавом хламиды, прятал от чужих взоров злорадную ухмылку. Мнилось ему, что дни изгоя Ивана сочтены.
ГЛАВА 51
Грозное требование Давидовича о присылке ратей для похода на Туров застало Ярослава в Галиче. Стоял ноябрь, срывался с небес первый снежок, дули холодные ветры. Бурлил заключённый в теснину всклокоченный мутный после дождей Днестр. Последний палый лист ещё вчера кружил в воздухе, шуршал под ногами, а сегодня недвижно лежал, гнил, прибитый к земле влагой.
Унылая пора — предзимье. Небо вечно серое, видны в вышине стаи птиц, летящих в тёплые края от стуж и метелей, деревья стоят без листвы, темнеют оголёнными стволами и ветками. Скорее бы уж зима настала, снег укутал землю. Всё веселее, светлее как-то даже.
А тут ещё этот неугомонный Давидович. Первым побуждением Ярослава было отказать ему, отослать киевского гонца ни с чем, велеть ответить:
«Отдай Берладника, тогда и рать пришлю!» Но, поразмыслив немного, собрал князь в думной палате бояр и старших дружинников.
Сидел на стольце, как обычно, спокойный, рассудительный, в кафтане лунского сукна, в вышитой крестами розовой парчовой шапке с меховой опушкой, в сапогах тимовых с каблуками, смотрел поверх рассевшихся по лавкам советников своих, говорил тихим, но твёрдым голосом:
— Прислал Изяслав Давидович из Киева человека. Велит собирать ратников, идти с ним вместе воевать Туров. Хочет изгнать из города князя Юрия Ярославича, посадить на его место Владимира, сына Мстислава, внука Мономахова. Что об этом думаете, бояре? Как поступить нам?
Зашевелились на лавках думцы, глухой ропот прошёл по рядам.
— Не пойдём. Отошли гонца киевского ни с чем, — предложил боярин Чагр.
— И верно, — согласились с ним Тудор Елукович и Щепан.
— Супротив отца не пойду! — буркнул Святополк. — Хоть и не ладим с ним.
— Ратники нам самим надобны, — заключил старый Молибог.
Ярослав с некоторой досадой оглядел исполненные недовольства упрямые бородатые лица бояр. Ничего путного никто из набольших и нарочитых мужей посоветовать ему не смог.
Князь оборвал взмахом руки начавшие было бурлить споры, стал спрашивать мнения молодых:
— Ты что думаешь, Коснятин?
Серославич ответил сдержанно:
— Ежели откажем, рать начнёт Давидович. Нам же воевать нынче супротив него никак не можно. Не столь крепок покуда союз наш со Мстиславом Волынским. Угры с ляхами такожде неведомо как ся поведут.
— Во Мстиславе уверен я. Думаю, на нашей стороне будет он, если что. А в другом прав ты, Коснятин, — сказал Ярослав. — Не время нам с Киевом мечами махать. Довольно-таки силён Давидович. Новой большой войны на Руси не хочу. Много крови людской пролито в недавние лихие лета. Хватит! Мириться с Киевом как-то надо. Ты что скажешь, Избигнев?
Медленно поднялся с лавки молодой Избигнев Ивачич, обернулся, окинул взглядом бояр, многие из которых с трудом топили в усах и бородах ядовитые усмешки.
Шептались набольшие мужи с презрением:
— Надо же, птенцу сему слово дал! И кто он таков! Ну, сын свиноградского воеводы, дак и что?! Вон у нас, почитай, у каждого сыны взрослые, многие и постарше, и поопытнее сего малолетки будут! И что он тамо молвит?! Так, глупость какую-нибудь!
Так рассуждали великие летами владетели обширных вотчин Галицкой земли. Избигнев же взял да и предложил:
— Ты, княже, Давидовичу не отказывай. Незачем его злить. Ты клич брось. Биричи1 на площадях в городах пускай глаголют: собирает, мол, князь киевский рать на Туров. Кто потешиться желает, показать себя в деле воинском — пусть ступает в Киев. Мыслю, немало охотников сыщется. Сидят молодцы удатные без дела, а отличиться хочется. Вон, при отце твоём, говорят, даже в крестовый поход идти в Палестину немало жаждущих было. Оборужи их да к Изяславу и отправь. И свою дружину в целости сохранишь, и всяким смутьянам и крикунам занятие сыщешь. Ещё объявить вели: кто, мол, в поход сей пойдёт, тому прежние прегрешения простятся. Тогда многие людишки лихие, в Горбах разбоем промышляющие, в поход сей ринутся. И закупы беглые такожде придут.
Не ждали думцы столь разумной речи от Ивачича. Многие одобрительно затрясли бородами. Но нашлись тотчас и такие, кто начал шуметь:
— Енточтож?! Беглых прощать?! Разбойников?!
— А коли долг за закупом, али холоп какой от меня сбежал, что, не отдадут мне его.топерича, что ли?!
Прервал снова крики Ярослав. Встал со стольца, сдвинул брови, молвил веско:
— Покуда так содеем, как Избигнев советует. А тамо поглядим. Коли с добычей воротится иной закуп, той добычей и откупится. А коли не сумеет, что ж. Тогда и порешим, как быть. В любом случае в накладе вы, мужи, не останетесь.
Он с благодарностью посмотрел на скромно устроившегося в углу Избигнева.
«Вот ведь какой молодец! Как верно придумал! И овцы целы, и волки сыты! Но сыты ли?»
Всматривался в лица бояр, такие разные, ловил насторожённые взгляды, слышал неодобрительный шепоток, понимал:
’ Бирич — глашатай.
много у него здесь, в Галиче, тайных недругов. Потому и доверять надобно тем только, в ком уверен, как в самом себе.
Сел князь обратно на столец, ещё раз обвёл пристальным взором собрание, приказал:
— Боярин Коснятин Серославич! Тебе поручаю рать собирать и вести. Ведаю, смыслён ты в воинском деле. А будешь у Давидовича, о Берладнике ему при случае напомни.
Коснятин кланялся ему до земли, благодарил за честь. Почтителен был молодой боярин, тих, вроде как и предан, все дела творил толково. Не догадывался Ярослав, что ненавидит его Серославич лютой ненавистью.
...Вечером явился Коснятин, как не раз бывало в последнее время, к Млаве. Сидел, злился, рассказывал о совете, о Давидовиче, о том, что поручено ему готовить и вести под Туров рати.
Женщина слушала, подперев кулачком пухлую румяную щёку. Выпирали под саяном, прямо чуть не на столе лежали большие груди. Сладка, ох сладка была Млава! Умела приголубить, умела когда разжечь, а когда, наоборот, успокоить. Как-то неприметно, постепенно, но оказался молодой Серославич целиком в воле бывшей Владимирковой полюбовницы. Во всём её слушал, каждый шаг свой делал, только с ней посовещавшись. Словно сетью паучьей опутала его ловкая жёнка. Начинал мало-помалу это понимать, тяготиться стал зависимостью своей, но поделать покуда ничего не мог. Пересиливала ненависть к Ярославу, запрятанная в глубинах души. Да и Млава знала, чем привязать к себе молодого боярина.
Выслушав его, проворковала она ласковым голоском:
— Ты, Коснятинушка, дей, как князь байт. Токмо когда у Давидовича будешь, шепни ему тихонечко: многие в Галиче не любят Ярослава. Большую власть взял он. Нам бы другого кого, более покладистого, чтоб в нашей воле ходил и не кознодействовал, как Ярославка, за спинами нашими. И чтоб добро наше защитить мог. На Берладника намекни. Разумеешь?
Коснятин долго молчал, потом вдруг спросил:
— Где ныне, Млава, супруг твой, боярин Лях? Слыхал я, в Силезии он укрылся.
Млава загадочно улыбнулась:
— Ближе он, много ближе. Так содеешь, как глаголю?
— Ладно, — кивнул Серославич.
Ночь он провёл в её объятиях, а когда утром, перед рассветом, невыспавшийся, хмурый, на скорую руку напялив на плечи кафтан, выехал на коне за ворота её двора и медленно затрусил по безлюдной кривой улочке, решил по-другому.
«Какая мне выгода от Берладника? На что он мне сдался? Равно как и Давидович сей? Что там Млава замышляет, Бог весть. Может, довольно за ней, как баран на верёвочке, хаживать?! Пора самому... Не надобен мне Берладник. А она, вишь, жёнка хитрая, муженька своего скрывает где-то, темнит. Ни о чём с Давидовичем говорить не стану. Млаве потом отбрехаюсь, недосуг, мол, не пришлось. Далеко князь, не подобраться к нему было».
Хлестнул Коснятин плетью скакуна, помчал лёгким намётом вверх на гору. Надо было спешить исполнять Ярославово поручение, рассылать по городам скорых биричей.
...Не один Коснятин не спал в ту ночь. Не до сна было и князю Ярославу. Позвав Избигнева и Семьюнку, спустился он под лестницу в каморку, занимаемую иноком Тимофеем.
Вчетвером сидели они за утлым дощатым столом, подбрасывали в печь хворост, думали, рассуждали.
— Дело многотрудное поручаю тебе, Тимофей, и тебе, Семьюнко. Поедете оба в Чернигов, к Святославу Ольговичу, — говорил вполголоса Осмомысл. — Грамоту дам тайную. Спрячешь её получше, Семьюнко. Мало ли что. И разумейте: послать какого боярина не могу — сразу все узнают. Да и не так надёжны многие. Дело же наше огласке предавать не след. И грамоте многое я не доверю. Напишу только, что посланы вы мною. Главное на словах Ольговичу скажете. Поначалу о союзе моём с Волынью, с ляхами, с королём чешским, с уграми молвите. И предложите черниговскому князю к союзу этому присоединиться. Что ему Давидовича держаться?! Многих волостей его Изяслав лишил, распоряжается в городах и весях на Северянщине, в лесах вятичских, словно у себя в доме. А потом о Берладнике речь надо будет повести. Он, изгой — боль головная наша общая. Бегает от князя ко князю, из волости в волость, подговаривает к ратям, сеет гибельные семена усобиц. Пора настала с ним решать.
— А верно ли то, про Берладника? — с беспокойством спросил Тимофей.
— А думаешь, чего он у Давидовича в Киеве столько времени сидит? — ответил ему с усмешкой Семьюнко. — Не так же просто, меды пьёт да охотится. Ищет тайком всюду себе сторонников, и средь бояр, и средь люда простого. Наверняка подумывает стол себе заполучить. И всё больше на наш Галич поглядывает.
— Дело, конечно, ждёт вас нелёгкое, — вздохнул Осмомысл. — Но более полагаться мне не на кого. Глядите у меня в оба. В Чернигове много таких, кто руку Давидовича держит. И не только в Чернигове. Повсюду они есть. На дорогах, в корчмах, на дворах постоялых настороже всегда будьте.
— Как же поедут они тайно? — засомневался Избигнев. — Человек ведь — не птица.
— Под видом купца Семьюнко в Чернигове объявится. Товара дам я ему. Тканей добрых, чтоб на княж двор явиться не стыдно было. А инока никто и вопрошать не станет. Вон сколько их по Руси ходит-бродит. Для отвода очей дадим Тимофею грамотку от настоятеля Иванова монастыря игумену обители на Болдиных горах. Настоятель — человек мне верный, напишет, коли велю.
До утренних сумерек просидели они вчетвером в каморе Тимофея. Вспоминали прошлое, думали о будущем, спорили о настоящем.
Перед расставаньем Ярослав перекрестил и горячо расцеловал обоих посланников. Семьюнко не преминул заметить:
— Ты ж разумеешь, небогаты мы. Ну, монах, оно понятно, тако и быть должно. А у меня ведь...
Осмомысл не выдержал и от души рассмеялся.
— Ох, Семьюнко, Семьюнко! Не переменишь тебя! На уж, держи!
Он сунул в руку отрока калиту с серебром.
— Вот про товар ты ещё молвил. Так если я в Чернигове расторгуюсь... — Семьюнко опять не договорил.
И снова князь его понял без лишних слов.
— Навар бери себе. Только с Тимофеем поделись, не обидь его. Ну, пора, — Ярослав выглянул в окно. — Сумерки уже. Сейчас в Иванов монастырь езжайте, — велел он. — Там остановитесь на несколько дней, чтоб на глаза лишний раз не попадаться. А мы с Избигневом тем часом обоз подготовим и грамотку. Монахи всё это вам доставят.
Простившись с князем и Ивачичем, Семьюнко и Тимофей поспешили покинуть княжеские хоромы.
Стоял тихий предрассветный час, небо на востоке слегка светлело, было пасмурно и сыро. Шли медленно, то и дело натыкаясь на лужи. Семьюнко промочил в одном месте ноги и чертыхнулся.
— Крест положи вборзе! — жарко шепнул ему в ухо Тимофей. — Не взывай к силе нечистой!
Семьюнко послушно перекрестился. Навстречу им в сумеречной мгле промчал всадник в дорогом кафтане, в поярковой шапке набекрень.
— Кто ж еси? — удивлённо спросил монах.
— Кажись, Костька Серославич, — быстроглазый Семьюнко узнал чёрного аргамака, которым намедни так хвалился перед ним молодой боярин. — Тож, верно, делишки какие проворит. А может, крамольничает тайком? Бог его знает.
«Сведаю, точно сведаю, непременно, чего он тут скачет в такой час», — решил Красная Лисица.
Как только очутились они с Тимофеем в монастыре и отведали по миске наваристых щей, послал Семьюнко одного послушника к верному своему соглядатаю из посадских. На куске бересты начертал он послание, в коем велел пристально следить за молодым Серославичем. Чуяло сердце хитроумного отрока: заваривается на Червонной Руси густая каша противостояний.
ГЛАВА 52
Торжественный звон плыл над Галичем, подымался от куполов огромного Успенского собора, устремлялся ввысь, растекался по холмам и оврагам. Подхватил его большой колокол главного храма Ивановского монастыря, следом зазвонили и у Спаса в верхней части города, и у Немецких ворот, и у надвратной церквушки Благовещения. И на болонье, там тоже не отставали, ударяли в било, раскачивали колокольные языки. И лился, лился перезвон над землёй, до гула в ушах, то протяжно и величественно, то весело и озорно.
По обе стороны шляха у моста через Днестр — толпа народа. Вот купцы в платьях иноземного покроя, вот знатные ремественники, а вот и беднота теснится. Все хотят увидеть въезд в город первого галицкого епископа, хотят получить от него благословение.
Исполнил митрополит Константин давнюю просьбу Ярослава — учредил-таки в Галиче епархию. Теперь, казалось, мог молодой князь торжествовать, мог слушать этот весёлый перезвон колоколов; радуясь, мог улыбаться так же легко и беззаботно, как вон тот юнота у дверей кузни; или с благоговейным трепетом шептать молитву, как молодой монашек, что с поклоном оседает в снег и первым принимает благословение иерарха. Но Ярослав, встречающий епископа у врат собора в окружении ближних бояр, сосредоточен и молчалив. Он понимает: за добротой Константина стоят Давидович и его ближние мужи. Отделяя Галич от Волынской епархии, куда он прежде входил, стараются вбить они клин между Осмомыслом и Мстиславом, мыслят разрушить только что заключённый союз, ввергнуть Червонную Русь в череду кровавых междоусобиц.
«Ничего у вас не выйдет!» — хочется крикнуть Ярославу, но он молчит, стоит недвижимо, стиснув руками наборный пояс, смотрит вперёд, видит, как служки помогают новоиспечённому епископу, греку Козьме, спуститься со ступенек возка.
Козьма мал ростом, немного смешон в своей долгой рясе и клобуке. Быстрый, юркий, спешит он ему навстречу, по пути осеняя собравшуюся толпу крестом.
Каким он окажется, этот Козьма? Благочестивым праведником или человеком себе на уме? Станет приспешником или окажется тайным противником? Будет заниматься делами церкви или станет мешаться в мирские события? Бог весть.
Задул ветер, снежные хлопья летели Ярославу в лицо, застили взор. На вопросы ответов покуда не было.
Он принял благословение епископа, приложился устами к наперсному кресту, затем отступил посторонь, давая дорогу иерарху и его свите.
После в недавно законченном строительством соборе состоялась торжественная служба. Оказалось, что, несмотря на малый рост и щуплость, обладал Козьма на редкость сильным бархатистым голосом, читал молитву нараспев так, что слезу вышибал из глаз.
В саккосе, с украшенным крестами омофором, в митре с сияющими цветными каменьями на голове, с жезлом в деснице, казался епископ выше, значительнее, степенней, чем там, у возка.
На хорах в кафизме[224] слушали молитву сам Ярослав и его приближённые. Напротив них, у противоположной стены собора, теснились знатные женщины. Рыдала и клала поклоны облачённая в чёрные одежды Елена Ростиславна. Рядом с ней маленькая Фрося тянула вверх любопытное личико. Строгая мамка велела ей стоять тихо и слушать, «как батюшка с амвона глаголет». Здесь же была в окружении боярынь и Ольга. Как обычно, надменная, стояла с каменным лицом, брезгливо кривила губы, красовалась, вся в сверкающей парче, в убрусе на голове, вышитом золотом.
«Кукла, ей-богу! — Противно было Ярославу даже и глядеть в её сторону. — Как же с нею жить?! Господи, научи!»
Он устремил взор ввысь и встретился с глазами Богоматери Оранты. Излучали они спокойный тёплый свет, отчего и на душе вдруг стало светло и тепло, хотелось просто жить, просто искать и находить повсюду маленькие радости. Ведь жизнь — это не одни только дела, не только высокоумные разговоры, не только извечные заботы, не только тайные заспинные игры. Э го и радость того, что вот ты живёшь, что солнце тебя согревает, что дышишь ты полной грудью и что можешь здесь, во храме этом, прикоснуться к великим таинствам Божьим.
... После он имел беседу с епископом с глазу на глаз. Они сидели в просторной палате примыкающих к собору хором иерарха. Ярославу хотелось узнать, что за человек перед ним, он повернул разговор сперва на богословские темы. Помянул старых схоластов, добрым словом отозвался об Иоанне Дамаскине, которого весьма высоко ценил.
Козьма ответил Ярославу так:
— Многие, княже, толкуют Священное Писание по-своему. Отыскивают всякого рода несообразности, не разумея, что ни единого случайного слова нету в Евангелии. И в Ветхом Завете такожде. Есть маркиониты, кои вовсе Ветхий Завет не приемлют. Есть несториане, умаляющие Божественную природу Спасителя. Ариане, кои извратили учение о Святой Троице, заменив единосущие подобесущием. А есть те, которые насмехаются над чудесами, сотворёнными Христом, не веруют в оные. Вот с такими надо быть беспощадными. Искоренять следует ересь, не давать ей силу набрать в умах человечьих.
— В этом ты прав, — согласился Ярослав. — Но не всё писанное в Библии надо понимать буквально. Ибо многие притчи, многие рассказы — суть иносказания, созданные для доказательства всемогущества и силы Господней.
— Не дерзай даже и мыслить о подобном! — неожиданно резко возразил князю епископ. — Начитались вы тут, на Руси, Дамаскина и последователей его, вот и глаголете неправо! Ищете смысл! Доказательств требуете! Маловер ты, князь, коли такое молвишь!
Он зло стукнул жезлом по мозаичному полу.
— Вот как, стало быть, владыко! — Ярослав усмехнулся. — Выходит, шаг влево, шаг вправо — ересь! Сиди, чти Святое Писание, верь и не думай! Не сомневайся ни в едином слове! Вера — да! Но для того и богословие, чтоб мыслить! Чтоб не тупо поклоны отбивать, но разуметь, что к чему. Ты скажешь: познать надо Бога. И прав будешь. Чувствовать надо Бога, промысел Его — да! Верить надо — тоже верно! Нельзя заменить познание Бога знанием о Нём. И это верно тоже! Одного такие, как ты, понимать не желаете. Не имея знания о Боге, не познаешь и Бога самого! Так ведь?
Страстная речь Ярослава действия, по всему видно, не возымела. Хмурил высокое чело Козьма, твердил упрямо одно:
— Не смей сомневаться в словах Писания! Верь и не домысливай!
Не по нраву была князю такая твердолобость. Хотя, пожалуй, и не ждал он многого от епископа. Почти все приезжающие на Русь греческие иерархи отличались нетерпимостью к росткам вольнодумства. В их понимании вера означала суровый аскетизм, строгое соблюдение канонических правил в быту, поклоны по счёту, епитимьи[225], молитвы. Ярослав многое из этого принимал, но считал, что излишняя строгость лишь вредит утверждению православия на Руси.
Он перевёл разговор с Козьмой на другое, стал убеждать, что надо открывать в Галиче школы, обучать грамоте как боярских чад, так и простолюдинов. При монастырях нужно готовить будущих священников, дьяконов, приглашать учёных людей из других стран — главным образом из Ромеи и Болгарии.
Здесь вроде бы они с Козьмой согласились. Воистину, следовало укреплять Червонную Русь духовно. А то в дальних сёлах иной раз и идола можно узреть, али священное дерево где в лесу отыскать с развешанными на нём лоскутьями. Стоит какой дуб могучий, мхом поросший, а иод ним требы правят, курей режут и в жертвы старым богам приносят. В ином месте кострище с золой свежей — тут празднество языческое справляли.
— Дик, владыко, народ наш, — вздыхал Ярослав. — Вроде и Христа приемлют, а идолов поганых не забывают.
Распрощался он с Козьмой уже вечером. Вернулся домой задумчивый, в ответ на Ольгины расспросы ответил резко, грубо даже:
— Не твоего ума дело! Епископ как епископ!
Добавил уже мягче, видя, что обиделась княгиня, отворотила от него лицо:
— Не крамольничал бы, с Давидовичем не сносился. Отроки мои последят за ним первое время. А так — пастырь как пастырь. Вроде неглуп.
— Баско службу он вёл, — отметила княгиня. — Глас звонкий имеет. Елена вон, вся изревелась!
— Елена! — повторил раздумчиво Ярослав. — Вот что. Ты с ней потолкуй. Замуж пора давно. Жениха доброго быстро подберём, если что. Только б сама захотела.
— Баила не раз. Не хочет, — Ольга презрительно скривила пунцовые губки. — И вообще. Впредь сам с родичами своими разбирайся. Опостылели они мне! Что Ярополчич, старая перхоть, всё кряхтит на печи, что тётка твоя надоедливая! Сына мне растить надо, коего ты замечать не хочешь. А вот ежели что с тобой случится? Хвороба какая? Кому стол передашь?
— А ты хотела, чтоб хворь меня одолела?
— Да нет, что ты?! — Ольга испуганно перекрестилась. — Просто всякое бывает. Сын опорой бы тебе стал.
— Мал он покуда, — отмахнулся Ярослав.
— Фроську-то любишь, — протянула недовольно Ольга. — А на Владимира и не глянешь николи.
— Сама ведаешь, почему так, — оборвал её Осмомысл.
Он сидел на лавке в ложнице и расстёгивал серебряные пуговицы на кафтане. Старый верный холоп бережно стащил с ног князя тимовые сапоги, снял шапку. Отстранив его, Ярослав сам снял с плеч кафтан и остался в одной нижней белой сорочке с узорами по вороту.
— Придёшь сегодня? — вопросила томным грудным голосом Ольга.
Князь молча кивнул. Ольгины слова о наследнике заставили его задуматься. Неужели этому капризному Владимиру, плоду греха, достанется галицкий стол?! А родит если Ольга ему сына? Как тогда? Ведь Владимир — старший! Нет, это не выход! Да и не хотел он от Ольги сына. Отогнал прочь нелепые мысли, положил крест, решил: будь что будет. На всё Господня воля! Верил, что обретёт он на земле сей большую, настоящую любовь. И княгиня у него будет другая, такая, чтоб жилось с ней душа в душу, спокойно и в радость. И сын будет, коему оставит он после себя золотой стол галицкий.
Долг свой супружеский исполнил он в эту ночь, как обычно, испытал то же чувство гадливости от сотворённого, после чего сразу ушёл к себе и долго молился, стоя на коленях перед образом Богородицы. И, глядя на неё, проникался верой в будущее своё счастье.
...С Козьмой отношения у Ярослава не сложились. Виной тому стал один случай. По просьбе Избигнева ездил Ярослав в Зимино, сватал за своего любимца Ингреду. Сговорились о скорой свадьбе, сама княгиня Рикса обещала прибыть в Галич на торжество. Юная датчанка вся светилась от радости. Доволен был Избигнев, рад был и сам Ярослав, хотя порой и грызли его душу неприятные мыслишки: «Вот Ивачич счастье своё обрёл. Экая девка пригожая! А я?! Что, до скончания лет терпеть эту Ольгу?! Не люба она мне, не люба!»
Пошёл Ярослав к Козьме, попросил, чтоб обвенчал тот молодых в Успенском соборе. Говорил, что заслужил такую честь Избигнев и верной службой своей, и тем, что отец его был знатным воеводой в Свинограде. Каково же было неприятное изумление Осмомысла, когда ответил ему епископ с презрением:
— Девка сия из простых еси! Негоже мне, владыке, венчать их!
Вспыхнула, окрасила ланиты Ярослава горькая обида. Сдержался, стиснул зубы. Ничего не ответил Козьме, не пошёл под благословение его, отвернулся, хлопнул дверью, выходя из покоя. С той поры с епископом почти не знался. Если что надо было, передавал через третьих лиц — либо боярина какого посылал, а то и челядина. И в дни, когда сам Козьма правил службу, в собор не ходил.
Медленно разрасталась, набухала, как дрожжевое тесто, между ними глухая неприязнь.
ГЛАВА 53
Десять недель стояло огромное союзное войско под стенами Турова, в междуречье Езды и Струмени. Вместе с киевской ратью Давидовича пришли выгонять Юрия Ярославича Ярополк Андреевич, младший брат Владимира Дорогобужского, Ярослав Изяславич Луцкий, Рюрик, сын Ростислава Смоленского и, само собой разумеется, Владимир Мстиславич, которому обещан был туровский стол. Каждый князь вёл с собой немалые силы. Горели пригородные сёла, дотла спалён был посад, давние друзья Давидовича — степняки-берендеи бесчинствовали под Пинском на Припяти. Вместе со всеми шли на штурм туровской твердыни и галичане, ведомые Коснятином Серославичем.
Были жаркие схватки, была долгая изнурительная осада, была отчаянная храбрость защитников, были размытые осенними ливнями дороги, болезни и смерть в воинских вежах и на поле брани. Вымотанные безуспешными стычками, все уже хотели мириться, даже Владимир Мстиславич. Осаждённый Юрий слал гонца за гонцом с предложениями. Один Давидович упрямо жаждал новых битв и, никого не слушая, приказывал продолжать осаду города. Только тогда сдался он, когда начался в союзном войске мор на коней. Без коня и дружинник — не дружинник, и тем паче князь — не князь. Не добившись ничего, уже в разгар зимы, когда ударили крепкие морозы, поворотили ратные вспять. В рядах воинов царил тихий ропот — невзлюбили Давидовича за его самохвальство и непомерную гордыню.
— Зря людей положил, — говорили о нём с укором бывалые ратники, сотские и тысяцкие.
Вот так, впустую ратились русские люди меж собой, проливали кровь. Сколько сирот, вдов останется теперь опять, сколько матерей зарыдают горько по сынам сгинувшим, а князь... что князь?! Волк он! О себе только помышляет, о чести, о славе, о власти! Жизней людских николи не щадит!
Коснятин Серославич воротился в Галич исхудавший, бледный, с рукой на перевязи. Рассказывал скупо, больше отмалчивался. Думал с раздражением о Ярославе:
«В самое дерьмо меня кинул, гад! Сам-то в тепле и холе отсиделся, не пошёл, чай, грязь припятскую месить! Укрылся за спинами добровольцев галицких!»
Недовольство и гнев глушил Коснятин заморским вином. Радовало немного хоть то, что не забыл его князь, отдал два села на Збруче.
Сёла были богатые, вокруг них простирались пахотные поля, на которых каждый год собирали обильные урожаи пшеницы, ячменя, выращивали также хмель. Вдоль берега Збруча раскинулись густые яблоневые и вишнёвые сады.
Первым делом решил Коснятин возвести в удобном месте на крутояре хоромы, обнести их высоченным тыном из дубовых и буковых кольев. Хоромы мыслил изукрасить узором резным, киноварью, кровли щедро позолотить. Хотелось, чтоб ничем не уступал терем его княжескому. Башенки пристроить по краям и посредине, а во дворе, рядом с хоромами, возвести храм в честь святого Константина[226], небесного своего покровителя — и будет тогда гордо возноситься над окрестностями его дворец.
Мотался Коснятин по городам, вместе с ближними слугами своими нанимал добрых древоделов, заботился о ладьях, на которых надо будет по весне везти речным путём камень и лес, потребный для строительства.
За делами совсем было позабыл Коснятин о прежних дружках своих, о Млаве и её ласках. Напомнила боярыня о себе, прислала грамотку на бересте, звала в гости. Ничего не ответил ей Серославич, с раздражением швырнул грамотицу в пылающую печь, подумал:
«Нет, Млавушка. Чую, расходятся дорожки наши. С Берладником твоим каши не сварить».
Впрочем, с Млавой следовало бы встретиться. Жизнь может по-разному повернуться. Но отложил Коснятин мысли о боярыне на потом. Успеется. Сперва — хоромы, добытки, дани с селян. Вначале — то, что имеешь, и уже после — что хочешь получить в грядущем. Расчётлив и терпелив стал сын воеводы Серослава.
В тереме княжом бывать ему приходилось теперь часто. Иногда Ярослав звал его на совет, а порой боярин и сам обращался к нему, просил что потребное. Единожды и довелось ему невзначай подслушать обрывок беседы Ярослава с княгиней Ольгой.
Сидел Коснятин в горнице на верхнем жиле княжьего терема, ждал князя. Дверь в переход была приоткрыта. Доносился из-за неё громкий ворчливый голос Ольги. Прислушался боярин. Жаловалась княгиня супругу:
— Фроську вот любишь. Владимира же вовсе не замечаешь. Почто тако?! В чём сын пред тобою провинился?!
— Будто не ведаешь! — В словах Осмомысла сквозило презрение.
— Думать, не твой робёнок?! Да твой он, твой! Сколько раз сказывала уж! Недоношенным родила я его! — вскричала Ольга. — А что тамо до тебя у меня было, то быльём давно поросло!
— Замолчи! Лаять перестань! — Ярослав говорил довольно тихо, но как-то зло, с присвистом. — Ещё разбирать я буду, чей он! Стоять вот и спорить с тобой в переходе! Ступай, оставь меня! Слышишь, оставь!
Княгиня, слышно было, всплакнула, завыла от обиды. С силой хлопнула дверь в бабинец.
Коснятин сидел на лавке, затаив дыхание.
«Вот, стало быть, как! Что ж, ворог! Получишь ты за батюшкину смерть! И за иных, коих под Теребовлем да под Туровом на вражьи мечи бросил!»
Он стиснул десницу в кулак и злорадно усмехнулся.
Млава и Берладник были теперь сыну Серослава вовсе ни к чему. Знал Коснятин, кто ему надобен и что делать.
ГЛАВА 54
Семьюнко и Тимофей вернулись из Чернигова в самые лютые зимние холода. Свирепо завывала метель, полупустые возы заносило снегом. Многотрудным выдался путь от Днепра до Межибожья и далее, после короткого отдыха, по каньонам Подолии.
Но вот стоит перед Ярославом улыбающийся всё той же своей хитроватой белозубой улыбкой товарищ детских лет, стряхивает с кожуха белые хлопья, а рядом с ним скромно тупит очи долу худощавый инок в болтающейся, стойно мешок, рясе.
Князь заключает обоих в объятия, наказывает дворскому тотчас истопить баню, готовить кушанья, накрывать стол в малой зале, а сам покуда ведёт их в камору на верхнем жиле.
— Ну, сказывайте обо всём подробно. Что, как?
— Да вроде сладили дело. Повеленье твоё исполнили, — Семьюнко скинул кожух, устало повалился на обитый бархатом широкий конник.
Тимофей скромно присел рядом.
— Сперва в Чернигове на постоялом дворе остановились. Ну, расторговались малость.
— Малость?! — Тимофей неодобрительно покачал головой. — Да, почитай, весь товар в седмицу распродали. Не с чем ко князю Святославу и идти-то было.
— Ну и как же вы вывернулись? — спросил с усмешкой Ярослав.
Семьюнко виновато опустил голову и вздохнул.
— Пришлось, княже, направить нам стопы в монастырь на Болдиных горах, — ответил князю Тимофей. — Вельми грамотка игумена обители Ивановской помогла. Устроил нам прямо в палатах монастырских настоятель встречу с князем черниговским.
— И что Ольгович?
— Ну, молвили мы, как ты велел, — отвечал Семьюнко, — что Берладник — источник бед всех и зол, что сговаривает он Давидовича ратиться. Еже б не он, так мир бы воцарился во всей Руси. Ну, и князь Святослав с нами, в конце концов, согласился.
— Что ж он вам сказал?
— Дозволь мне ответить, — попросил Тимофей. — Святослав Ольгович — человек ветхий летами, больной. Жаждет он токмо покоя единого. В молитвах во храме долгие часы проводит. Церкви строит, украшает Чернигов. Так вот, княже. С Изяславом Давидовичем ратиться он не станет. Хоть и не люб ему нынешний владетель стольнокиевский. Но требование твоё о выдаче князя Ивана он поддержит. Обещал ближнего мужа своего, Жирослава Ивановича, в Киев прислать, если что.
— Если что? — переспросил, прищурившись, Осмомысл. — О чём это ты?
— О том, что, мыслю, собраться надобно вместях посланцам от всех князей и объявить Изяславу Давидовичу, чтоб отдал Ивана. Испугается тогда князь Изяслав.
— Затрясётся, почует, что шатается под ним стол великий, — добавил Семьюнко.
— А ведь ты прав, Тимофей, — раздумчиво оглаживая бороду, похвалил монаха Ярослав.
Удивился Осмомысл, как такая простая и ясная мысль раньше не пришла ему на ум.
«Смекалист, оказывается, Тимофей, смыслён, проницателен. И для себя ничего не требует. Семьюнко — тот иной. Выполнит, что велю, но при том схитрит, облукавит и... многое важное не заметит».
Меж тем Тимофей продолжал:
— У князя Святослава сын старшой, Олег, на сестре твоей княгини женат. Так, может...
— Чтоб княгиня сестре отписала? Тоже верно.
— Про союз наш баили мы такожде Ольговичу, — встрял опять в разговор Семьюнко. — Ничего он толкового не ответил нам, смолчал. По всему видать, не желает с Давидовичем ссору иметь. Боится его.
— Ещё хотел аз, княже, о сыновце Святослава Ольговича молвить, — сказал Тимофей. — Святослав Всеволодович, князь новгород-северский, человек вельми криводушный. Такие, как он, роты рушат, не задумываясь. Нету бо у них в душе Страха Божьего. Так вот: как бы Всеволодович сей на стрыя своего не повлиял. Сведали мы: многие бояре хотели бы сего кознодея на черниговском столе зреть.
— Откуда вести имеешь, Тимофей? — недоверчиво качнул головой Осмомысл.
— В монастыре от братии, княже, многое почерпнуть можно, — Тимофей улыбнулся.
«И впредь ему дела посольские поручать буду. А за Семьюнком пригляд надобен. Ухватит, что лежит плохо, потом не сыщешь», — думал Осмомысл. Сказал так:
— Вижу, службу справили вы мне верно. Не обижу вас. Но довольно о делах. Друг наш Избигнев свадьбу играть собрался с Ингредою. Потому прошу завтра поутру к нему. И ты, Семьюнко, приходи, и тебе, монах, не грех чарку-другую опрокинуть.
Семьюнко, вспомнив об Оксане, тихо вздохнул.
ГЛАВА 55
Всю дорогу от собора и до свежесрубленных пахнущих древесиной хором на Подоле сопровождала новобрачных шумная толпа по-праздничному разноцветно наряженных горожан. Звенели бубны, бухал барабан, весело играли дудки и сопели. На высоком всходе с выложенными из мрамора ступенями отроки и челядь щедро осыпали Избигнева с Ингредой хмелем и серебряными монетами из княжеской скотницы. Хмель означал веселье, серебро — богатство.
— Чтоб радостно жили вы и в сребре не нуждались николи! — возгласил довольный Ярослав.
Ингреда и Избигнев кланялись ему в пояс, благодарили. Не пожалел Осмомысл для своего любимца звонких монет, не поскупился и сам Избигнев на угощения.
Прямо на дворе и на сенях своего дома поставил и накрыл он столы. И чего только на сих столах не было! И овощеве заморские, и вина греческие, и мясо, и птица, и рыба.
В горнице горели хоросы. Жарко топили печи. На мягких обитых бархатом конниках восседали старые и молодые бояре, пировали шумно, под крики «Горько!» в горячих поцелуях сливались уста влюблённых новобрачных. Гордая красавица Ингреда держалась на людях спокойно, лишь порой проступала на лице её едва приметная улыбка. Избигнев же ощущал себя так, словно его раздели донага и разглядывают. Он то и дело озирался по сторонам, благодарил за подарки, улыбался вымученно, втайне надеясь, что скоро шум и крики эти прекратятся и смогут они с Ингредой остаться одни.
Опустел очередной бочонок с олом, тотчас вскрыли следующий, пенистая янтарная струя ударила в чары, ендовы, братины. Отроки засеменили между гостями, наполняя сосуды и разнося кушанья.
Чем дальше, тем становилось веселее. Хмель кружил и дурманил головы.
И снова кричали «Горько!» гости, и снова впивался Избигнев в алые уста Ингреды.
Но вот, наконец, дождался Избигнев часа, когда и вино было выпито, и сил не осталось у особо горластых и буйных. Кто-то упал под стол и тут же захрапел, кто-то вежливо распрощался с хлебосольным хозяином и ушёл восвояси, кто-то ещё пировал на сенях или на улице. Вышли молодые на всход, встали у перил лестницы, смотрели, как темнеет небосвод и появляются на нём первые жёлтые точки далёких звёзд.
Ингреда уронила наброшенный на плечи узорчатый плат. Избигнев наклонился поднять его, и в то же мгновение внезапно просвистела в зимнем воздухе стрела. С глухим стуком воткнулась она в бревенчатую стену, запела, дребезжа, заиграла оперением. Вскрикнула, побледнела и упала в обморок Ингреда. Её тотчас подхватили холопки. Боярыня Оксана, трёхродная сестрица Семьюнки, стала растирать ей щёки и приводить в чувство.
Избигнев резко вскочил. Он видел, как из ворот вылетел вершник на вороном скакуне.
— Держи его! — раздался крик.
Сам не помня как, впрыгнул молодой Ивачич в седло, ринулся бешеным галопом вослед уходящему в сторону моста всаднику. Мчал, стиснув уста, дланью ощущая на боку холод сабельного эфеса.
Добрый был у Избигнева фарь. Возле невысокого тына, за коим начиналось окологородье, нагнал он ворога, ударил что было сил плашмя саблей по спине, толкнул резко ногой.
Вывалился противник из седла, Избигнев спрыгнул вслед за ним в сугроб, подбежал, бросился сверху.
В сторону отброшен башлык. Выбита в ярости из вражеской руки кривая сабля. Усатое искажённое дикой злобой лицо Фаркаша явилось взору изумлённого Ивачича.
— Убей меня! — прохрипели сухие уста. — Всего меня лишил! Невесту отобрал! Убей!
Сзади громко заржал остановленный скакун. К ним бежали княжеские гридни с факелами, лязгало железо.
Первым подскочил к Избигневу запыхавшийся Семьюнко. Следом показалось в переливчатом свете факела встревоженное строгое лицо Ярослава.
— Что, попался, ворог! — обрадованно возгласил Семьюнко. — Щас мы тя вон на том древе и вздёрнем!
— Подожди. Не трогай его! — остановил отрока Избигнев. — Давний у меня с ним спор. Дважды на саблях рубились. И никак не получалось поединок наш закончить.
— И что? Потому он тебя решил стрелой калёной угостить? Разом споры все и разрешить? — Семьюнко криво усмехнулся. — Хорош поединок ратный, коли в нём исподтишка в спину стреляют! Да повесить его, и дело с концом!
— Постой! — оборвал его Осмомысл. — Разобраться сперва надо, отроче, что к чему. Эй, ты! — обратился он к Фаркашу. — Зачем стрелу пустил? Отвечай! Обидел тебя чем боярин Избигнев, или что?
— Невесту он у меня отнял! — хмуро прохрипел Фаркаш.
— Ах, невесту? — Ярослав насупился. — Что ж, невеста, по-твоему, вещь, что ли? Взять её можно, яко шкатулку, унести, отнять?!
Фаркаш, злобно сопя, молчал.
— Вот что, — обратился Осмомысл к Ивачичу. — Убить этот ворог тебя хотел, Избигнев. А за смерть княжьего мужа положена вира[227] 80 гривен. Только вот промахнулся он. Верно, сам Господь стрелу от тебя отвёл. Потому... Суди его сам, друже! Вот как скажешь. Скажешь — тотчас же на суку его повесить велю! Не заслуживает ибо он пощады!
— Вешайте, кончайте! К чему мне жить?! — хрипел Фаркаш.
Гридни связали ему крепкими верёвками за спиной руки.
— Постойте! — словно от забытья очнувшись, вскричал Избигнев. — Не трогайте, отпустите его! Спор у меня с ним, мне его и решать! А кровопролитьем день свадьбы портить негоже!
Он решительно разрезал острым засапожным ножом верёвки, молвил твёрдо, протягивая утру его обронённое оружие.
— Вот, барон Фаркаш, сабля твоя. Езжай теперь, куда хочешь. Я зло твоё прощаю. Но на пути моём впредь не попадайся! Биться с тобой более не стану! Видно, Господу се не угодно. Уходи! Ступай с миром!
Ивачич отвернулся и, взяв за повод коня, поспешил выбраться из сугроба на протоптанную дорожку.
— Повезло тебе, ворог! — проворчал недовольный Семьюнко. — Моя б воля, я б тебя не отпустил!
Фаркаш лениво взобрался на своего вороного, тронул скакуна боднями. Взмыл могучий фарь в воздух, перескочил через тын, скрылся во тьме наступившей ночи. Лишь клубы снега летели вслед уходящему вершнику, метались по сторонам.
Завыла, засвистела в ушах вьюга.
— Поедем ко мне обратно. Как там Ингреда? — встрепенулся внезапно Избигнев, подумав с отчаянием, что, гоняясь за Фаркашем, о молодой жене своей не вспомнил вовсе.
— Ничего, пришла в себя, — улыбнулся ему Осмомысл. — Оксана, сестрица Семьюнкова, быстро её в чувство привела.
Спешили всадники, рысью неслись по кривым улочкам засыпающего Галича. Тусклым серебристым светом отливал в небе месяц, указывая им путь.
ГЛАВА 56
Птеригионит пал ниц перед Давидовичем, подполз к сидевшему на высоком кресле князю, облобызал ему алые тимовые сапоги. Молвил тонким писклявым голосом:
— Дозволь довести до ушей твоих, о всеблагий и всемилостивый архонт! Я, жалкий раб, смею беспокоить твой слух, ибо возмущает против себя тот, кто пользуется твоей несказанной добротой, но за широкой спиной твоей острит нож, готовясь вонзить его в твоё благородное сердце!
— Говори проще, яснее, быстрее! — рявкнул Давидович. — Не терплю я ваших ромейских околичностей! О ком донести порешил, пёс смердящий!
— Вот ты на ловы выехал, а Иван, рекомый Берладником, в тот час со княгиней твоей предавался утехам греховной любви.
— Что?! — Давидович побагровел от ярости и стиснул кулаки. — Да как ты смеешь?! Ты, урод?! На друга моего клевещешь! Княгиню измыслил позором покрыть!
Ударом ноги он заставил взвизгнувшего от боли евнуха отлететь к дверям горницы.
— Ты! Мразь! А ну, сказывай, каким ворогом ко мне подослан?! А?! Убирайся! Убирайся прочь! Прочь с очей моих! Гад! Мерзость!
Задыхался князь от бешенства. Резко рванул он ворот багряной рубахи. Медная пуговица покатилась по дощатому полу.
Перепуганный Птеригионит, подобрав подол долгой хламиды, стремглав выпорхнул в переход. В одночасье рухнул его тонкий тщательно разработанный вынашиваемый не одну неделю план. Дрожащий от ужаса, шмыгнул он на нижнее жило и спрятался в утлой каморке под лестницей возле поварни. Но и там его обнаружили гридни, выволокли на свет божий, отвели в покои княгини.
Марфа насмешливо улыбалась, глядя, как евнух трясётся от страха.
— Что, не удался твой навет, грек? — спросила злорадно, подбоченясь.
«Всё она знает. Везде у неё уши!» — с отчаянием подумал Птеригионит.
Надо было бежать, бежать немедля. Он стал озираться по сторонам. Юркнуть бы вон в ту дверцу боковую. За ней, он знает, крохотная каморка с подполом. Через потайной ход можно пробраться к оконцу, вырубленному почти на уровне земли. Но как скроешься, если вот она тут, проклятая ведьма княгиня! Кликнет стражу да велит бросить его в поруб. Или вовсе придушить прикажет. Что ей стоит?
Распростёрся Птеригионит ниц перед Марфой, завыл жалобно, заскулил, стойно собака побитая.
— Встань! — топнула Марфа ножкой в багряном выступке.
— Не смею! — пролепетал, размазывая по щекам слёзы, Птеригионит.
— А я тебе говорю: встань! Немедля! Ишь, разнылся! Ранее думать надо было! Гляжу, погубить измыслил ты нас с Иваном! Дак вот, враже, не выйдет у тебя ничего! Слышишь, не выйдет! Утри слёзы-то. Скажу тебе кое-что. Разгневался вельми на тя князь-от Изяслав. Велел пытать на дыбе. Пришлось мне вмешаться. Уговорила я князя оставить тя покуда в покое. Как уговорила — не твоего ума дело. А токмо отныне, — она задумчиво приставила палец с розовым ноготком к подбородку, — мне служить будешь верно. Псом станешь моим. Всё, что повелю, исполнять будешь. А еже бежать удумаешь, из-под земли тебя достану. И тогда даже дыба, и та раем тебе покажется, враже. Запомни. Еже лихое что о тебе сведаю — такожде берегись. — Она погрозила ему кулаком. — Ну а покуда... Приставлю я тебя ко князю Ивану. Приглядывай за каждым шагом его. И обо всём, что он деет, мне будешь доносить. Понял?!
— Понял, о премудрейшая госпожа!
— Но коли хитрить сызнова удумаешь, коли козни супротив нас с Иваном строить почнёшь, так ведай: погублю я тебя, евнух! — Она с презрением посмотрела на его испуганное уродливое лицо.
Птеригионит снова пал перед ней на колени.
«Посмотрим ещё, кто кого погубит», — подумал он злобно, удивляясь тому, что внезапное спасение пришло к нему оттуда, откуда он никак не ожидал.
ГЛАВА 57
На вырученные от торговли и полученные за княжью службу куны и ногаты поставил Семьюнко возле моста через Днестр, на крутом яру над рекой новый дом, частью из дерева, частью — из камня белого и зелёного. Брат Мина помогал, снаряжал подводы. Вознеслась в голубое небо горделивая башенка с зубцами наверху, по обе стороны от неё сложили бревенчатые палаты с резьбовыми узорами. Крышу покрыли черепицей, столбы у крыльца изукрасили киноварью. К хоромам пристроили с боков галереи с хрупкими на вид колонками. Крытые подвесные переходы соединили между собой отдельные части дома. Двор обвели тыном из остроконечных дубовых кольев, широкие провозные ворота привесили с двух сторон — у дорог, ведущих к Подолу и к мосту.
Всё было хорошо. Радовалась душа Семьюнки при виде просторных светлых покоев. Довольна была и старая Харитина, одно только говорила она сыну:
— Хозяйки, сын, в сем доме не хватает. Пуст без хозяйки доброй дом. Ожениться тебе надо. Поглядел бы окрест, сыскал бы девку какую пригожую, из дщерей купецких, али из житьих. А может, и боярышню какую присмотришь. Чай, не последний ты человек у князя. Вон дела сколь важные тебе поручает Ярослав наш.
Слушал Семьюнко материны наставления, а думал всё об Оксане. Одна она царила в сердце отрока.
Теперь почасту бывала трёхродная сестрица в Галиче, жила в палатах своих на склоне Горы, невдалеке от увоза. Иногда видел Семьюнко возок её на Подоле, порой приезжала она в старый его терем к Харитине за каким-нибудь делом или просто поболтать, но всё никак не решатся отрок завести с ней серьёзный разговор.
Наступило весёлое время святок. По улицам средь бела дня ходили ряженые, колядовати. Носились по городу вершники, мчались сани, запряжённые ретивыми тройками.
На площади перед Успенским собором и узрел Семьюнко единожды Оксану. Весело смеялась молодая вдовица, сидя на буланом коне в седле впереди статного Могуты, одного из старших дружинников, который смешил её своими остроумными шутками. Краска прихлынула к лицу Семьюнки, свернул он посторонь, поджал обиженно уста. Ринул к себе домой, ворвался в верхнюю палату, рухнул ничком на лавку. Лежал, думал, как быть. Понимал одно: дальше тянуть нечего. Настал решительный час. Сегодня же вечером явится он к Оксане и сделает ей предложение. А там будь что будет.
...Они столкнулись во дворе возле крыльца Оксаниного терема. У Семьюнки перехватило дыхание. Смотрел он в ярко-синие глаза её, как всегда, немного насмешливые, и не мог насмотреться.
— Что, так и будем стоять здесь? — Оксана, не выдержав, прыснула со смеху, прикрывая рот сафьяновой рукавицей. — В дом пройдём, может? Сыщем место, чтоб побаить.
Горели в закатных солнечных лучах сапфиры на даренных когда-то Семьюнком серьгах. Вообще, синий цвет был у сестры любимым — и дорогой убрус был расшит синими птицами — алконостами, и рукавички, и сапожки отливали такой же яркой небесной синевой. Ещё разглядел Семьюнко на шее Оксаны драгоценное ожерелье из опять-таки синих самоцветов. Не раздеваясь, сели они на конник в холодных сенях.
— Ты, Оксанушка, пришла бы когда, поглядела на хоромы мои новые. Вот, отстроил, последнее сребро угрохал, — Семьюнко вздохнул.
Оксана тихо рассмеялась.
— Ох, не переделать тебя, братец! Всё жалуешься. Тя послушать, так будто нищий ты вовсе!
— Да полно тебе хихикать над словесами моими! — Семьюнко наморщил чело, пригладил ладонью взъерошенные рыжие волосы. — По делу я к тебе.
— Что ж, слушаю тя.
— Говорил раньше, и сейчас сызнова повторю: люба ты мне, красавица! Выходи за меня замуж! Не последний, чай, отрок еси на службе княжеской! — Семьюнко выпалил всё, что сказать хотел, в одно мгновение.
Он резко вскочил, рывком поднял её па руки, расцеловал в румяные лани ты. Она ответила ему осторожным нежным поцелуем. Он усадил её обратно на лавку и снова целовал: в тонкие розовые уста, в гладкое высокое чело, в носик остренький, мило подрагивающий при разговоре.
Оксана игриво отбивалась, шептала «Пусти, довольно!». Ударяла тихонько в грудь рукой в сафьяновой рукавице, смеялась. Потом вдруг резко оборвала смех, перестала улыбаться, ответила серьёзно:
— Выйду я за тебя. Вдоволь навдовствовалась! Не теперь токмо. Давай осенью. И ты с домом закончишь, и мне кой-какие дела в Коломые уладить надобно.
Как просто и быстро решились столь долгое время мучившие Семьюнку сомнения! Забилось радостно сердце отрока. Что ж, осенью, так осенью. Согласен он был ждать, терпеть, зная точно, что любим.
Схлынули, ушли, провалились в небытие страсти. Мерцали на столе тонкие свечи. Они сидели в полумраке, шептали друг дружке ласковые слова любви, и становилось им обоим от этих слов на душе тепло и спокойно.
ГЛАВА 58
Посольский поезд быстро промчался мимо киевских пригородных слобод, взмыл ввысь, пропетлял по склону горы, миновал густо застроенный Копырёв конец, скользнул в арку Жидовских ворот. Скрипели полозья, снег искрился и слепил глаза. Избигнев смахнул слезу, отодвинулся от окна, набросил на плечи кожух.
Возок круто остановился у врат собора Софии. Чинно, с достоинством сошёл молодой боярин со ступенек, огляделся, ловя любопытные взгляды встречных горожан. Вон там, вдали, за высоким забором и деревьями виден терем Нестора Бориславича. Избигнев вздохнул. Теперь Нестора нет в Киеве, не от кого и новости последние узнать. Вокруг Давидовича — одни приспешники его. Кроме того, знал Избигнев, многие родовитые киевские бояре держат сторону нынешнего великого князя. Но каковы в городе настроения? Что думают торговцы, ремественники, клир[228]? Неплохо было бы проведать, узнать их мнение. Впрочем, цель ныне у галицкого посланца была совсем иная.
Следом за Избигневом спустился со ступенек возка облачённый в рясу, в скуфейке на голове инок Тимофей.
— Вот мы и в стольном, — коротко бросил ему через плечо Ивачич.
Они перекрестились и склонили головы перед величественным собором со свинцовыми куполами. Зашли в храм, пали на колени, молились, ставили свечи, а думали меж тем о делах мирских. После службы расстались. Тимофей поспешил в Выдубецкий монастырь, Избигнев же — на Подол, где размещалось гостевое подворье.
Здесь, в Киеве, уже должны были находиться послы от Мстислава и Ярослава Изяславичей, от Ростислава Смоленского, от обоих Святославов — Ольговича и Всеволодовича, а также люди венгерского короля и польских князей. С ними надо было связаться, тайно встретиться и решить, как говорить с Изяславом.
Избигнев обрадовался, заметив на гостевом подворье знакомую сутулую фигуру посла короля Гезы — старого Дьёрдя Або. Вислоусый воевода, по всему видно, тоже узнал Ивачича. Супя седые брови, он сухо промолвил:
— Ждём тебя, боярин. Обсудить нужно дела наши.
Они проследовали в палату с длинным столом, крытым скатертью из простой домотканины.
Холопы разносили кушанья. Вскоре в палату вошёл низкорослый худой бородач в кафтане малинового цвета, с резной тростью в руке.
— Боярин Онуфрий аз есмь, посланник князя луцкого, — представился он и протянул Избигневу свою маленькую ладошку.
Голос у Онуфрия оказался неожиданно раскатистым и басистым.
Або и Избигнев разослали тайных гонцов к польскому послу и одному киевлянину, который выполнял поручение Святослава Всеволодовича. Встревоженные, те не замедлили приехать на подворье.
Следом явились два волынских богатыря, братья Жирослав и Гавриил Васильковичи. Представляли они в Киеве сразу трёх князей — Ростислава Смоленского, Мстислава Изяславича и Владимира Андреевича. За ними подошёл Жирослав Иванович — ближний боярин черниговского князя. Когда, наконец, собрались все вместе, долго обсуждали, как быть. То ли всем идти к Давидовичу, то ли каждому отдельно.
— Если вместе придём, испугается Давидович. Поймёт, что все владетели сговорились и требуют выдачи Берладника. Иначе может он нас не послушать, — говорил Избигнев.
— Верно. Разом и явимся, — хором поддержали его братья Васильковичи.
— Оно так. Токмо... знаю хорошо я Давидовича. Упрям и норовист, яко тарпан дикий. Мыслю, упрётся, и не убедишь его, — пробасил, поглаживая свою длинную окладистую бороду, Онуфрий. — Намекнуть надобно, что готовы мы рать начать, еже не выдаст галичанам Ивана.
— Мне мой князь тако не наказывал, — мотнул седой головой Жирослав Иванович.
Ему вторил посол Святослава Всеволодовича. Молчали, многозначительно переглядываясь, лях и угр.
Избигнев мрачно кусал уста. Едва сколоченный союз грозил в одночасье развалиться. Вот сейчас погрязнут они в ссорах, переругаются и разъедутся ни с чем. А Давидович с Берладником только посмеются над жалкими их потугами.
Встав с лавки и подняв вверх десницу, он оборвал споры. Сказал так:
— О войне говорить не следует. Мой князь тоже рати не хочет. Потребуем покуда по-хорошему, чтоб выдал Берладника. Откажет, тогда и думать будем, как быть. Князей наших известим, а там и поглядим, что да как. Главное, показать мы должны Давидовичу, что все заедино стоим. И что от требований своих не отступим.
Бояре согласно кивали головами. Всех план галицкого посланца устраивал. Порешили утром съехаться на княжьем дворе и с грамотами владетелей идти к Давидовичу.
Была оттепель. Светило солнце, било в глаза, снег таял, образуя чёрные прогалы и лужи. Липы и дубы стояли тёмные, без листвы, какие-то обнажённые и жалкие. Воздух, чистый, прозрачный, напоён был свежестью. Чувствовалось дыхание скорой весны. Хотя февральские вьюги ещё, конечно же, напомнят о себе. Могучий богатырь Днепр скован покуда льдом, но пройдёт, минует неделя — другая, и с грохотом начнут ломаться огромные льдины, и хлынет вода, зашумит яростно проснувшийся после долгой зимней спячки удалец, станет сбрасывать с себя ненужный тяжёлый панцирь, заиграет мышцами. А что будет в это время твориться на Руси? Наступит мир и тишина или, как не раз случалось раньше, загремит обнажённое оружие? Избигнев не ведал грядущего, знал он одно: жалко будет, до жути, если миссия их провалится и этот упрямый Давидович опять не захочет никого слушать. Ладно, коли сам потеряет стол и сбежит в свои леса вятичские, так ведь ввергнет сызнова землю Русскую в дикий кровавый круговорот, имя которому — усобица.
...Собрались, как уговаривались, все вместе в одно время, сидели в горнице, говорили один за другим, требовали от Давидовича выдачи Ивана.
Первым слово взял Избигнев. Спокойно смотрел он в гневные чёрные глаза киевского властителя, исполненные угрозы и злобы, говорил твёрдо, как и наказывал ему Осмомысл:
— Мой князь Ярослав Владимирович такое слово велел передать тебе, княже. Если хочешь и впредь в мире и дружбе пребывать с нами, с боярами и с землёй Галицкой, выдай нам изгоя Берладника. Много зла причинил нам сей коромольник.
Поддержали дружно Избигнева другие послы.
— Он, он воду мутит! От него всё лихо идёт! — кричал, надрываясь, Онуфрий.
— Сколько вреда он принёс! — дружно кивали Васильковичи.
— Удел малый дать ему — дак сим не удовольствуется, новую войну развяжет, — молвил Жирослав Иванович.
— Не разумеем, почто изгоя сего при себе держишь, княже? Какая тебе от того польза? Какая корысть? — Вопрошал, недоумевая, польский посол.
Неожиданно Давидович вскочил со стольца. Что было силы треснул кулаком по подлокотнику, заорал, перекрывая голоса послов:
— Как смеете вы! Вы! Что, уговорились?! На дело лихое мя толкаете! Спас я князя Ивана от смерти лютой, от оков освободил — да! И честно он мне с той поры служит! Что же вы... Вы все! Под дудку галицкую поёте! Почто погубить безвинного мыслите?! Что худого содеял князь Иван?! В чём вина его?!
Молчали в ответ послы, переглядывались, хмурились.
Опять поднялся Избигнев.
— В чём вина Ивана? Вспомяни прошлое, княже. Был некогда у Ивана стол в Звенигороде, на Днестре, так мало ему стало, захватил крамолою Галич, а после, когда выбили его оттуда, бежал и разных князей к рати подговаривал супротив властителей законных, супротив покойного князя Владимирки Володаревича. Кому токмо не готов был меч свой отдать сей изгой! И Изяславу Мстиславичу служил, и брату его Ростиславу, и Ольговичам, и Юрию Суздальскому. А всё ради чего? Ради того, чтоб Галичем овладеть, чтоб побольше земли у родичей оттягать. Вот и теперь отирается он у тебя.
— Замолчи! — топнул в ярости ногой Давидович. — Лукавы словеса твои! Змий!
Немного успокоившись, он добавил:
— Ивана не отдам, не просите. Гость он здесь, при дворе моём. И лиха никоего за ним нет. Стыдно, послы, приходить сюда и упрашивать, чтоб я, князь стольнокиевский, на расправу лютую друга своего выдал! Не бывать сему!
Он снова грохнул кулаком по стольцу.
Резки и грубы были речи Изяслава. Даже черниговские приспешники его, сидящие на скамьях полукругом вдоль стен, были недовольны. Встал и попросил слова опытный искушённый в делах боярин Шварн Милятич.
— Спору нет, не должен ты, княже, Ивана на расправу выдавать, — молвил он веско. — Но держать его при себе в Киеве — не довольно ли? Полагаю, надобно всем князьям, коих послы ныне здесь, съехаться вместе и определить Ивану удел. Довольно мыкаться ему по земле Русской, довольно быть болью головною для всех нас.
— Верно Шварн глаголет, — прокатился по палате одобрительный гул.
Давидович хмуро сдвинул брови, недовольно наморщил чело. Понимал он: против своих бояр не пойдёшь. Послов можно выгнать, отправить восвояси ни с чем, но со своими ему жить, с ними придётся считаться.
Прохрипел князь, с трудом сдерживая раздражение:
— Добро. Съедемся летом во Владимире, у Мстислава. Тамо и порешим. А вы топерича, — ожёг он гневным взором Избигнева и его спутников, — вон ступайте! Недостойны еси словеса ваши!
Молча вставали один за другим посланники, кланялись ему в пояс, выходили один за другим в высокие двери, охраняемые гриднями с огромными бердышами[229] за плечами. Провожал их Давидович полной презрения усмешкой. Избигнев, в отличие от иных, не поклонился. Он видел, как лицо Изяслава аж передёрнулось от лютой ненависти. Если бы взгляд мог убивать, то пал бы молодой галичанин здесь, посреди горницы, бездыханный.
«Ну вот, ещё одного ворога нажил», — подумал Ивачич со вздохом.
Вышли послы, и погрузилась горница в тягостную полную скрытого напряжения тишину. Молчали Изяславовы ближники, мрачный сидел на скамье в первом ряду Шварн Милятич. Не но нраву была ему вся эта история с Берладником. Нельзя было так разговаривать с послами. Убеждал ведь Изяслава, говорил ему перед сим свещаньем: промолчи, выслушай, ответь, что подумаешь, как с изгоем сим быти. Берладника же тем часом сбагрить куда ни то. Пусть к половцам езжает в степи, или в свой Берлад убирается, или к ромеям! Да не всё ли равно, куда! Подалее от Киева лишь бы! Очи бы не мозолил тут! Не послушал князь, возгордился, заупрямился, молвил: я, мол, здесь господин! Кого хочу, того при себе и держу! Ни в чём меры не ведает! Ладно хоть, уговорились во Владимире съезд княжой учинить. Отсрочили ненадолго новые ратные нахожденья. Ибо, опять-таки, кто из владетелей захочет от себя кусок отрезать для Берладника сего?! Кто с ним городами и сёлами делиться пожелает?! Не дураки, чай, князья на Руси.
Чуял Шварн: не усидит долго Давидович в Киеве. А там опять, в который раз: бегство, запаленные лошади, маленькие затерянные в лесах и болотах городки и сёла, тучи комаров, потом степные просторы, жаркий ветер в лицо, рати, яростные стычки, скрежет оружия, свист стрел. Вовсе не хочется Шварну такой жизни. Но ещё хуже другое: все эти Стефаны и Переславичи, что сидят здесь сейчас с ним рядом, за Давидовича горой, каждое слово ловят. И не понимают, что потерять можно в единый миг всё добытое. Одна речь неразумная — и пошло-поехало. Что ж делать? Шварн, кажется, знал, что.
Вечером, облачившись в простой вотол из валяного сукна, нахлобучив на голову заячий треух, он пробрался на Подол, в корчму, где обычно собиралась берладницкая вольница. Никем не узнанный, попросил позвать сотника Нечая. Уединился с ним на верхнем жиле, смотрел в умное испещрённое шрамами и морщинами лицо бывалого ратника, говорил, убеждал:
— Лихое творится. Нависла над твоим Иваном, Нечай, беда. Ныне послы ото всех земель Русских были у князя на приёме. Такожде посол угорский, и от ляхов боярин. Требовали, чтоб выдал князь Изяслав Ивана в Галич на расправу. Ну, князь отказал.
Человек он благородный, на добро злом ответить не захотел. Да и не для того он Ивана освобождал. Я, Нечай, о другом. Понимаешь сам, какая сила против вас валит.
Он замолчал, опасливо огляделся но сторонам. В утлом покое было мрачно, одинокая свеча мерцала на столе.
Нечай оборвал безмолвие. Кашлянул, спросил, пожав плечами:
— Вот сижу и дивлюсь, боярин. Тебе-то какое дело до князя Ивана?
— Какое? Да ужель тебе разжёвывать всё надобно?! — всплеснул руками Милятич. — Ясно ведь, какое! Хочу, чтоб убедил ты Ивана уйти из Киева. Иначе война начнётся, и не усидеть Изяславу моему на великом столе.
— Вот ты о чём? — Нечай презрительно усмехнулся. — За свой покой, за своё богатство боишься. Уразумел тебя. Насквозь топерича тя вижу, волче! Что ж. Отвечу тако: давно князя Ивана убеждаю из Киева уйти. Да токмо не слушает он меня.
— Так ты ещё с ним потолкуй. Убеди, молви, мол, опасно здесь.
— Ладно. Разумею. Совпали нынче думы наши. — Нечай кивнул.
— Вот и лепо, Нечай. Уговорились. Что ж. Пойду я покуда. Не надобно, чтоб меня тут лишние глаза видели да лишние уши слышали.
Милятич быстро встал, облачился в вотол, опоясался кушаком.
— Ступай, ступай, боярин, — на устах Нечая застыла всё та же полная неприязни ухмылка.
...Уговаривать Берладника ему не пришлось. Утром князь-изгой сам пожаловал к нему. Расстегнул шитый узорочьем дорогой кафтан, отпил хмельного ола, сказал так:
— Собираются супротив нас, слетаются в стаи коршуны. Уходить мне надо из Киева. Не хочу, чтоб князь Изяслав из-за меня пострадал.
— Куда ж мы топерича? — хмуро вопросил Нечай.
— К половцам. Грамоту мне княгиня Изяславова дала. В Побужье, к хану Башкорду отъедем. Он — брат княгини Марфы. А жена его — вдова Владимира Давидовича, Верхуслава. Мыслю, наберём добрых ратников, пойдём на Днестр, на Дунай. И верну я, Нечай, вотчины свои, отберу у Ярославки своё, кровное. Чужого мне не надобно, но то, что моё по праву, возьму. Так что, друже, собирайся давай. И берладников всех оповести и приуготовь. Заутре же на рассвете и выступим. Тайно, тихо токмо чтоб. Князь Изяслав ить о нашем уходе не ведает ничего. Мне же тем часом тож кой-какие дела спроворить надо. Так что бывай. На Копырёвом конце свидимся.
Иван выскочил в сени. Прогрохотали по лестнице сапоги с боднями.
— Слава Христу! Дошло наконец-то. Давно б тако, — проворчал Нечай, закрывая за ним тяжёлую полукруглую дверь.
...Избигнев, сидя на гостевом подворье, переживал неудачу посольства. Понимал он, что цели своей они не достигли. Уговоры на упрямого Давидовича не подействовали, в успех же будущего съезда князей Ивачич не верил. Напрасно инок Тимофей утешал его, говорил, что иного от вздорного Изяслава ожидать было трудно.
В тяжких раздумьях проводил Избигнев время. Одни только воспоминания о возлюбленной юной жене отвлекали его и вызывали на лице улыбку. Перед расставаньем Ингреда шёпотом призналась, что ждёт ребёнка. И Избигнев уже решил было, что хватит ему сидеть в Киеве, приказал готовить возки, когда вдруг ночью постучался к нему некий маленький человечек.
Упал на колени, говорил визгливым голосом:
— Имя моё Птеригионит. Верный слуга я князю Ярославу Галицкому. Спешу сообщить тебе, о светлый боярин, следующую весть. Иван, рекомый Берладником, вчера утром уехал из Киева. По моим сведениям, он держит путь в половецкие кочевья на Гипанисе[230]. К хану Башкорду.
Сказал эти слова чёрный евнух, оскалил огромные зубы, ухватил щупальцами-перстами брошенную монету, скрылся тотчас в ночной тьме. То ли был, то ли не было его вовсе.
Нахмурил чело Избигнев. Ушли куда-то в сторону мысли о любимой жене и будущем ребёнке. Решился он на отчаянный дерзкий шаг. Послал за Дьёрдем Абой, вместе они долго сидели в палате, шептались, прикидывали.
Спустя пару дней из Золотых ворот Киева выехал большой конный отряд вооружённых до зубов ратников. Мало кто обратил на них внимание — часто такие отряды выезжали или въезжали в стольный.
По наезженному зимнику, ведущему через Белгород и Мунарев в половецкую степь, ринули вершники быстрым намётом, скрываясь в вое и свисте бешеной февральской метели.
ГЛАВА 59
Дымили, тихо потрескивая, кизячные костры. Кони разгребали копытами снег, хрупали сухой подножной травой. Связанные между собой крепкими верёвками телеги, накрытые бычьими шкурами, плотными рядами окружали становище. Из юрт доносился аромат мясного варева, перемешанный с кислым запахом навоза.
Иван и Нечай, скрестив под себя ноги, сидели на кошмах у медного котла, который лизали снизу голубоватые языки пламени.
— Говоришь, из Киева? — вопрошал, в который уже раз, кустобородый кривоногий солтан[231] в круглой лисьей шапке и засаленном кожаном кафтане.
Узкие рысьи глаза его светились хитростью и подозрительностью. Он качал головой, цокал языком, сомневался.
К хану Башкорду послан скорый гонец с вестью. Пусть хан сам решает, как быть. Но у этого каназа сильный отряд, много воинов, и он предлагает ему, Турундаю, весной идти в набег на Дунай и Галичину. Каназ хочет добыть стол, отнятый у него родичами. Это хорошо. Им, кипчакам, и ему, Турундаю, должно перепасть от такого похода немало.
Что больше всего ценится в степи? Узорочья, бабьи побрякушки, драгоценные каменья? Турундай презрительно выпячивает нижнюю губу. Нет! Добрый конь? Но ни у кого нет коня лучше, чем у степного воина! Тогда что? Полон — вот богатство! Будет полон, добытый во время стремительного набега, — будет и золото, и мониста, и серьги для молоденькой любимой хасеги, будет и шёлк серский, и паволоки, и парча, и дорогие сукна. Всё будет!
О полоне солтан до поры до времени молчит. Ждёт, что скажет главный хан союза побужских кипчаков. И вообще, Турундай не спешит. Пусть сидят урусы в вежах на крутом берегу зажатого в теснине Южного Буга, пусть ожидают хана. Верная стража следит за каждым их шагом.
За повозки, в своё становище Турундай урусов не пускает, только этих двоих пригласил к себе в гости. Хочет узнать побольше, что думают они предложить ему за участие в походе. Слово «полон» пока не звучит. Всему своё время.
Покуда варилось хлебово[232], пригласил Турундай урусов в свою юрту, усадил на кошмы, велел рабыням подать кумыс в глиняных пиалах.
Каназ пил с неохотой, явно брезгуя и только боясь обидеть хозяина. Второй, тот, что звался Нечаем, видно, смаковал кислый хмельной напиток, пил медленно, маленькими глотками.
Шрамы на лице сотника вызывали у Турундая уважение. Старый, бывалый воин. Не в одной сече бился, не одному ворогу снёс голову в яростной сабельной рубке. В степи добрых ратников всегда почитали. Да и говорил к тому же по-половецки Нечай хорошо, в отличие от Ивана.
— Говоришь, послание есть? От сестры хана Башкорда? — спрашивал опять солтан Берладника. — Хан приедет, покажешь.
Хан знает вашу грамоту. У хана жена — урусутка. Вьерхуслафа, — с трудом выговорил Турундай непривычное славянское имя.
— Я приехал к вам не врагом, — убеждал упрямого недоверчивого солтана Иван. — Хочу с вашей помощью вернуть себе стол на Галичине. Отец мой был князем в Перемышле, дед, прадед имели там уделы.
— Прадед — тот, которого отравили греки? В Таматархе[233]? Каназ Ростисляб? Слышал. — Турундай неожиданно обнаружил хорошее знание русской истории. — У тебя с каназом Ярицлейфом один прадед. У Вьерхуслафы — другой прадед. Его имя — Мономах. Матери кипчаков до сих пор пугают им своих маленьких детей. Он загнал наши восточные орды за Дон и Итиль. Он был — враг. А она теперь — ханша. Её первый муж был каназ, Владимир. Брат каназа Изьяслафа.
Солтан щерил редкие чёрные зубы. Видно было, что он не желает говорить о делах, ведёт отвлечённые разговоры, присматривается и примеривается.
«Ждёт Башкорда или гонца от него, — догадался Берладник, пристально всматриваясь в жёлтое кустобородое лицо Турундая. — И хитрит. Ухо с ним надобно востро держать. Лишнего не баить».
Иван с Нечаем просидели за трапезой в юрте до вечера. Когда же они собрались возвращаться в свой стан, то Турундай остановил их и стал упрашивать:
— Переночуйте у меня. Места много. Степь, буран. Ветер. Холодно. Пока доедете до своих веж, окоченеете, доблестные!
Тревожно переглянулись князь и сотник. Всё же решили они ехать. Но едва успели они пробраться на конях через раздвинутые повозки, как навстречу им из вечерней мглы тёмной массой вынырнули вершники. С каждым мгновением их становилось перед глазами всё больше и больше. Впереди держался необыкновенно рослый человек в дощатой броне, в шишаке на голове.
«Ишь, вырядился! На битву, что ль, собрался? А может, и впрямь? — решил Иван. — Бог весть, кто такие».
Сопровождавшие Берладника с Нечаем половцы дружно загалдели. Трое из них вынеслись вперёд, спрыгнули с коней, повалились перед великаном на колени.
— Хан Башкорд, — прошептал Ивану на ухо Нечай.
...И вот снова сидят они в шатре Турундая. Хан, совсем не похожий на половца, большеглазый богатырь с правильными чертами лица, с холёной ровно подстриженной бородой, говорил по-русски чисто, правильно, не коверкая слов. Посовещавшись со своими приближёнными, солтанами и беками[234], он сказал так:
— Я прочёл грамоту моей сестры. Она просит, чтобы я помог тебе. Ещё я узнал, что князь Изяслав, мой зять, вельми тебя любил. Что однажды ты спас его на охоте. Что ж, Иван. Князь Иван. Я не могу отказать в просьбе моей любимой сестре. Мы посовещались с солтанами и беками, ты слышал и видел это. Так вот. Весной, когда степь обогреет солнце, когда зазеленеют травы, когда зацветут ковыль и горицвет, когда наши кони станут сыты и быстры, как ветер, я пошлю наши орды на Днестр и на Дунай. И я помогу тебе добыть стол твоего деда и прадеда.
Могучий батыр Башкорд производил внушительное впечатление. Словно веяло от него тяжкой ничем непоколебимой силой, силой степной, яростной, стихийной, готовой смести всё на пути своём. Будто древний тюркют из далёкой эпохи явился перед ними, промчавшись из дальней восточной страны тысячи вёрст, сокрушив и подчинив себе сотни врагов. Что-то прямое, открытое, удаль какая-то так и сквозила в чертах половца. Да и половцем назвать-то его было сложно. Вот Турундай — тот, воистину, половчин и есть.
«Да, такого могла полюбить русская княгиня. И как она, Верхуслава?! Оставила, бросила всё ради него! Русь, веру, даже сына от первого мужа. Умчалась, убежала смело, безоглядчиво в степи, кинулась в крепкие объятия батыра, разделила с ним ложе, юрту. Променяла жизнь за городскими бревенчатыми стенами на вольный простор, на буйные набеги, кизячные костры, на терпкий аромат полыни, на жаркий ветер полей», — почему-то Ивану захотелось хоть одним глазком глянуть на эту бедовую огненную жёнку.
Меж тем в плавную речь Башкорда встрял Турундай.
— Помощь — это хорошо, — прохрипел он. — Но кипчакам нужна добыча, большая добыча. Золото, рабы. Полон, который можно продать на рынке в Сугдее и Каффе.
— Полон добывают в сече! — грозно оборвал его хан. Тонкие стрелки его красивых бровей сурово изогнулись.
— Ты — не торгаш, Турундай! Не барыши считай, а воинов! Добрых воинов! Приведёшь их весной нам с князем Иваном.
Солтан промолчал, скрипнув зубами и скорчив недовольную гримасу.
...Ехали по степи в стан Башкорда. Выла пурга, била в лицо. По скованному льдом Бугу кружили бешеные снежные вихри. Когда, наконец, вдали за курганами показались огороженные плетнём кибитки и глинобитные полуземлянки, половецкие вершники подхлестнули нагайками усталых коней.
Впереди был долгожданный отдых. В ушах у Ивана долго ещё будет стоять свист и завывание яростной пурги. Пока же он улыбнулся, стряхивая с усов и бороды снег. Он верил и не верил всё же до конца в успех будущего своего предприятия. Но пути назад не было, мосты в прошлое были сожжены.
ГЛАВА 60
Усталые ноги гудели от напряжения. Ломило от боли одеревеневшую спину. Три сотни вёрст быстрой скачки в седле сказывались. Шатаясь от усталости, Избигнев и Або приблизились к ханской юрте. За каждым шагом их неусыпно следили оборуженные копьями и щитами зоркие нукеры. Одно резкое неосторожное движение — и вонзится копьё в грудь, и поминай, как звали.
Посреди юрты горел очаг.
— Проходите, садитесь. Сегодня вы — гости в моём доме. Никто не посмеет причинить вам зла, — твёрдый голос Башкорда звучал ровно и бесстрастно.
Юлить, хитрить не хотелось. Да и не было никакого смысла что-то утаивать от этого степного батыра. Галицкий и угорский посол переглянулись, поняв друг друга без слов.
Они сели на кошмы, отведали сочной баранины. Башкорд не поскупился, велел угостить послов настоящей дыней, привезённой из земли огузов, сладкой, как медовый квас. Еду запивали отстоявшимся синеватым кумысом, кислым и хмельным. Чаши, в которых ханские слуги подали сей драгоценный для всякого степняка напиток, были изготовлены из китайского фарфора. Редкостью был такой материал на Руси и в сопредельных странах. Немало изумлён и смущён был Избигнев. Принимал их хан с почётом, держался спокойно, ровно, и когда сказал Ивачич о своём предложении выдать им беглого князя Ивана, ответил любезно, с тем же подчёркнутым спокойствием и достоинством правителя:
— Обычай нашего народа — уважать гостя, кем бы он ни был. Особа гостя неприкосновенна. И я, славный делами мирными и ратными хан Баш корд, не посмею нарушить закон гостеприимства и коварно обмануть доверившегося мне. Поэтому я не могу исполнить твою просьбу, боярин.
— Насколько нам ведомо, князь Иван уговаривает твоих батыров, хан, напасть на Галицкие земли. Мы готовы заплатить тебе...
Башкорд довольно резко оборвал речь Ивачича.
— Хан кипчаков — не торговец скотом и рабами! За что ты хочешь мне платить? Чтобы я выдал тебе доверившегося мне? Но я — не ромей, не франк, не урус. Это у вас всё продаётся и покупается!
Ответ был прост и ясен. Понял Избигнев, что ничего им от хана не добиться. Приходилось покидать половецкий стан ни с чем. Увы, тщетной оказалась долгая бешеная скачка по просторам зимней степи.
С пустыми руками возвратились Ивачич и Або в свой лагерь.
...Едва покинули шатёр Башкорда послы, резко распахнулась войлочная занавесь, отделяющая женскую половину жилища. Женщина лет тридцати пяти, дородная, с широкими, как у воина, плечами, с туго заплетёнными светло-русыми косами, переброшенными от затылка на грудь, голубоглазая, в ярком разноцветном платье, подступила к задумчиво сидящему на кошмах у очага Башкорду.
— Зачем ты держишь при себе этого изгоя? Зачем слушаешь свою сестру? Сколько раз я говорила тебе: отступись от Изяслава. Вспомни: токмо грозное сверкание сабель твоих батыров принесло ему Киев. Союз с ним — это не союз равных! Не принесёт он тебе удачи. Слабый, ничтожный властитель! Кроме пустого самохвальства нет ничего! Пусть с твоим Изяславом Турундай и Гза союзятся! Разбойники, что с них взять! Но ты! Ты честный, умный! Говорила ранее, скажу сызнова. Не мешайся в дела русских князей! Пускай сами они разбирают свои свары. Ничего нет гаже и страшней, чем их мелкие делишки. Мой дед и мой прадед — те были правители, большие, великие, сильные разумом и волей! Вся Русь была покорна им. А эти, нынешние... Токмо и слыхать: убили, ослепили, предали, разор учинили! Вот их жизнь!
Башкорд улыбнулся, строгие напряжённые черты его красивого лица смягчились, он с гордостью смотрел на свою супругу, дочь Всеволода Мстиславича, правнучку самого Мономаха. Подумал вдруг: а ведь она права! Да, права, но только правда её — женская, бабья! Многого она не понимает. Он, Башкорд, не пойдёт против воли своих солтанов, беков и беев[235]. А если пойдёт, то потеряет власть и уважение родичей, погубит и себя, и всю свою семью. Ибо главным в улусах становится тот хан, который подымает кипчаков в набег, откуда они возвращаются с богатой добычей. Но как сказать об этом женщине, чтоб не почуяла она в словах его тревогу и страх?
Ответил так:
— Я обещал оказать помощь князю Ивану. А слово своё привык держать. И не сокрушайся, прошу тебя, Верхуслава. Я делаю так, как лучше для моего племени.
Он встал перед ней. Оба высокие, примерно одного роста, сильные, крепкие, стояли они друг против дружки посреди вежи, молчали, смотрели, любовались один другим.
— Помнишь день, когда мы повстречались впервые? В Чернигове, на Третьяке? — спросила Верхуслава. — Ты гостил у моего мужа. Я сразу приметила тебя. Ты был первым на ристалище, всех выбил из седла. А потом ещё и в стрельбе из лука победил. Посрамил Ольговичей и их людей. И Мономашичей тоже.
— Это было давно, — Башкорд усмехнулся. — Что вспоминать? Да, был первым. Молодой был, горячий. Но у нас, кипчаков, хан и должен быть самым сильным и метким. Не таким, как Турундай.
— Когда-то так было и на Руси. Мой прадед один натягивал тетиву лука, который гридни втроём не могли согнуть. А сейчас... Что Галицкий Ярослав, что Ольгович или Всеволодович Черниговские — они и меч-то двуручный не поднимут, — Верхуслава презрительно наморщила свой прямой тонкий нос. — Но тем они и опасны, Башкорд. Не враждуют в открытую. Плетут нити заговоров, строят козни. И если Изяслав, брат моего покойного мужа, запутается в их сетях, не вздумай его спасать. А Изяслав, я чую, попадёт в вязкую сию паутину. Молю тебя, заклинаю: не враждуй с Осмомыслом и с обоими Святославами.
— И не собираюсь. Но Ивану помогу. Обещал, — упрямо стоял на своём Башкорд.
Верхуслава поняла, что его не переубедить. Со вздохом покинула ханша половину супруга. Села у тёплого очага на мягкие кошмы, приняла из рук старухи-служанки младенца, обнажила большую грудь, стала кормить малыша.
Улыбалась, глядя на крохотное личико с голубыми, такими же, как у ней самой, большими глазами.
Сын, будущий хан. Хотя и крестила его, и русской мове и грамоте непременно научит своё чадо Верхуслава. И ещё она, как и раньше, будет выкупать у половцев русских полоняников и помогать им возвращаться на родину. И хотелось, чтобы сын её, когда вырастет, поступал бы так же.
Покормив, она вернула дитя служанке. Тревоги не покидали молодую ханшу. Чуяло сердце-вещун, что с бедовым князем Иваном натерпится Башкорд немало лиха.
ГЛАВА 61
Сборы были недолгими. С рассветом ратники Избигнева и Абы готовились свернуть вежи и выступить берегом Южного Буга в сторону Межибожья. Грузился на возы нехитрый воинский скарб. Оружие и доспехи велел Избигнев покуда не снимать. Кто ведает, вдруг половцы учинят нападение на их лагерь. Во все стороны от веж рассыпались пешие лазутчики — сакмагоны.
По-прежнему выла за войлочной стенкой вежи свирепая степная пурга. Снегом заметало пути. Приходилось ждать и надеяться, что к утру ветер стихнет и можно будет ехать. Пока же Избигнев и Або сидели перед котлом с варевом, оба хмурые, расстроенные неудачей.
Внезапно Ивачич резко вскинул вверх голову, в глазах его полыхнули задорные живые огоньки, он осторожно спросил:
— Сколько у тебя людей, воевода? Верно, достаточно. Что, если...
Он не договорил, выразительно уставившись на старого угра. — Напасть на стан Башкорда, отбить Берладника, — то ли вопросил, то ли заранее уже согласился с ним Або. — У хана много воинов. Тяжело будет. Если только внезапно, ночью. Где искать Ивана, ты знаешь. Видел его вежу. Захватим его и уйдём. Уйти тоже надо быстро. Нужны поводные кони.
— Они есть. Правда, не хватает на всех. Но сейчас зима. Половецкие скакуны голодны, тощи, скачут медленно. Мы должны суметь уйти от погони. Только бы не пурга эта... Полагаю, рискнуть стоит, воевода. Не возвращаться же на Русь несолоно хлебавши. Упреди своих сотников, десятников. А я поговорю со своими. Вежи...
— Вежи придётся бросить. С ними мы далеко не уедем. Догонят, навяжут бой.
— Если случится так, то Берладника... — Избигнев выразительно провёл перстом по горлу.
Або укоризненно глянул на него, но ничего не сказал. Откровенно говоря, вся затея эта с ночным нападением опытному мадьярскому ратоборцу была не особо по нраву. Но он решил рискнуть.
...Налетели в чёрную беззвёздную ночь. Бесшумно сняли половецкую сторожу. Загорелись подожжённые юрты. Галичане прорвались сквозь ряд повозок, но далее в становище тотчас встретили их с дикими воплями готовые к бою половцы. Видно, они вовремя почуяли опасность. План Избигнева застать Башкорда врасплох рухнул.
Рубились яро, в отблесках пламени видел Ивачич, как вздымаются и опускаются сабли, слышал лязг железа, лошадиное ржание, стоны, ругательства. Он сам кого-то рубил, ударял что было силы по аварским лубяным шеломам, мчался вперёд, отбивал сыпавшиеся удары.
Вырвавшись из пекла схватки, Избигнев осмотрелся кругом. Понял: Берладника не взять, к шатру Башкорда не подобраться. Круто поворотив скакуна, он крикнул сотскому:
— Уходим! Вборзе! Угров упреди!
Резкая острая боль обожгла спину. Перед глазами мелькнул синеватый истоптанный копытами грязный снег. И больше Избигнев уже ничего не видел, не понимал, не помнил.
Его куда-то положили, куда-то везли, в ушах стояло всё то же ржание и ещё некий отдалённый стихающий шум. Словно летел он куда-то в бешеном порыве, падал, проваливался в снег, вскакивал, бежал. Мутная белесая пелена порой проступала перед очами, но исчезала тут же, он оказывался во мраке ночи, в непроглядной чёрной тьме. Что творится вокруг, не понимал, не чувствовал. Не было ни обиды, ни досады, ни боли — одна пустота, один мрак, одно тупое ледяное безмолвие окутывало его.
ГЛАВА 62
Ярослав, выслушав рассказ Дьёрдя Або, едва не схватился руками за голову. С трудом сдержав нахлынувшее в душу отчаяние и сохранив самообладание, он упрекнул угра:
— Понимаю, мыслили вы, как лучше. С пустыми руками возвращаться не хотели. Избигнев, он молод, неопытен ещё, порывист. Но ты-то, воевода! Почто не удержал его? С Башкордом, полагаю, можно б было попробовать позже как-нибудь уговориться. Ну, не выдал бы Берладника, так хоть в набег бы не пошёл на нас. А теперь озлится он, на меня в первую голову, и непременно на Галичину летом заявится. Натворили вы с Ивачичем дел лихих!
Або виновато тупился, вздыхал, крутил седой вислый ус.
— Как Избигнев-то? — спросил князь. — Здорово зацепило его?
— В спину стрела вонзилась. Навылет прошла. Много крови потерял, без памяти лежит. В Межибожье я его оставил, — прохрипел, всё так же не смея смотреть Ярославу в глаза, угорский воевода. — Мчали, везли его отроки твои через степь, сами помёрзли. Ветер, пурга.
— Ведомо. Вот что. Поезжай, не задерживаясь, в Эстергом. Королю Гезе о том, что было, всё подробно доложи. И пускай король рубежи свои крепит. Бог весть, на что Башкорд решиться может.
...Отпустив угра, Осмомысл поспешил собрать на совет бояр.
Сидели на лавках разодетые в шелка и аксамит владетели больших и малых вотчин, спорили, как обычно, думали все вместе, как оберечься им от надвигающейся опасности.
— Может, пошлём людей с дарами в зимовище? Попросим мира? — предложил Ярослав. — Сами, получается, рать начали по неразумию.
Поднялся воевода Тудор Елукович. Выходец из враждебного кипчакам печенежского племени, с гневом и презрением, коверкая слова, он зашумел:
— Нет!.. Не нада! Кипчак — плохой, коварный... Нет веры ему!.. Дары примет... А весной война пойдёт! Обманет! Уговор с ним — нет! Не нада в степь!
Вторил Тудору боярин Чагр, потомок служивых белых куманов[236]:
— Башкорд и Турундай — враги наши! Одним мечом булатным можно укоротить их злобу!
— Жизнь их — война, достаток их — от набегов на русские земли. Мирно они не живут. Им невыгоден мир, — считал боярин Молибог.
Ёмко и грубо выразил общее мнение Гаврила Бурчеевич, сын воеводы из Понизья, родственными узами связанный с одним из половецких колен:
— Говно он, Башкорд сей!
— Стало быть, воевать? — Ярослав ещё раз обвёл вопросительным взором палату и всех собравшихся в ней.
— Воевать! — пробасил Святополк Юрьевич. — Дружина готова! Хоть сейчас в сечу!
— В сечу, — задумчиво повторил Осмомысл. — Сечей одной не обойдёшься. Откуда знать, куда они придут, в какое место ударят? Городки надо крепить. Ты, Гаврила, поезжай в Ушицу, возьми с собой сотню ратников. Ты, Щепан, ступай в Коломыю. Тебе, Тудор, дорога в Теребовлю. Сам же я в Межибожье отъеду. Да, и волынских князей об угрозе половецкой упредить следует. Если что, подсобили бы.
Совет был окончен. Разошлись бояре, и тогда только, оставшись один, тяжко вздохнул Ярослав. Ничего не ладилось с Давидовичем и с Берладником. А тут ещё эти половцы. И как бояре многие себя поведут? А простой люд? Знает он, любят Ивана на Галичине, песни о нём слагают. Отца, князя Владимирка, токмо боялись. Страшен был, лют в гневе, жесток. Страхом и держал всех в повиновении. Богатое оставил ему, Ярославу, отец княжество, да вот души людские, как ни крутился, в свою сторону не обратил. И могут сейчас эхом откликнуться прежние отцовы казни в Галиче и в Свинограде. Пойдёт ли за ним, Осмомыслом, земля? Этого он не знал и сильнее всего боялся, что откачнёт она от него, что встанут на сторону Берладника галицкие низы.
Смута царила на душе. И чтоб хоть как-то приглушить её, приказал Ярослав седлать коня.
...До Межибожья было порядка ста пятидесяти вёрст. Неслись по зимнему шляху, по уже начинающему таять снегу. Скоро наступит распутица, и Ярослав спешил, торопил дружинников, с тревогой взглядывал на серое затянутое тучами небо. То вдруг начинал сыпать мокрый неприятный снег, а то солнечный луч, пробив дорогу сквозь пелену облаков, ударял резко, вышибал из глаза непрошенную слезу. Холодный ветер бил в лицо, свистел в ушах. Мимо проплывали дубовые и буковые рощи, по мосткам или по льду одолевали всадники маленькие речки, густой сетью изрезавшие подольские холмы и долины. С холма на холм, вверх — вниз, через броды, через хутора и городки сторожевые, обнесённые деревянными стенами с башнями, стрельницами, зубчатыми коронами наверху, с воротами из кованой меди, мчалась Ярославова дружина.
Вот Теребовля показалась, наконец, впереди. Величественная крепость раскинулась на высоком берегу Серета, у слияния его с речкой Гнезной. Здесь более полувека назад сидел на княжении несчастный Василько Ростиславич, двухродный дед Ярослава, злодейски ослеплённый врагами во время яростной борьбы за власть. А где-то далеко за окоёмом, близ Свинограда, на Рожни поле, сходились рати, кипела сеча, и слепец Василько, потрясая серебряным крестом, кричал клятвопреступнику Святополку Киевскому: «Сей крест целовал ты в Любече, клялся, говорил: каждый да держит вотчину свою! А топерича преступил целование крестное! Да будет Бог свидетелем правды моей!»
Тогда киевское войско было разбито и отступило на Волынь. Полвека минуло, и снова была рать в этих местах. Помнит Ярослав туманный мартовский день битвы под Теребовлей против Изяслава Мстиславича, помнит, как едва не уклюнула его лихая предательская стрела и как яро рубились галичане с киевской дружиной. Он той войны не хотел. Развязали её бояре, которые ныне или в бегах, или затаились в своих вотчинах. А многие и сложили голову в жаркой сече, о которой и вспоминать теперь не хочется. Четыре года прошло, вроде совсем немного времени, а сколько событий вместили в себя эти лета, и как всё поменялось! Новые враги ныне у Ярослава, новые союзники.
В Теребовле остановились на ночь, покормили коней, утром выехали уже на других конях, свежих и быстрых. И снова был долгий путь по зимнику, через холмы и броды.
...Избигнев уже пришёл в себя, понемногу ходил, хотя при каждом движении лицо молодого боярина искажала гримаса боли.
— Знахарь травами лечил. Быстро в себя пришёл, — коротко говорил он. — Уж думал, всё, на том свете. Ан нет. Жив покуда.
Осмомысл с жалостью смотрел на мертвенно-бледное, землисто-серое лицо друга, на повязки окровавленные у него на груди. Ругать посланника своего за рискованный поступок он не мог. Всё-таки старался Избигнев для него, да и не только. Для всей Галичины было б лучше, чтоб попал нынче Берладник к нему, Ярославу, в руки.
Молодой боярин, видно, всё понимал. Виновато улыбаясь, он тяжело, с придыханием, говорил:
— Разумею, горячность меня подвела. Приехал в стан половецкий, гляжу: вот он, Берладник, рядом. Рукой до него подать!
Один натиск, и в руках он у меня. Ну, и порешил... А оно вон как обернулось. Теперь Башкорд на нас нож острит.
— Оно так, — Осмомысл кусал уста, отводил взор в сторону. — Да только стоит ли сейчас былое вспоминать?! Ну, сотворили не так, как надо было, и что? Не вернуть, не исправить ошибок. Ты давай-ка, поправляйся скорей. Дел у нас с тобой много важных. Я часть ратников, с коими приехал, здесь оставлю. На случай, если поганые сюда кинутся. А то ведь Бог весть, с какой стороны их ждать! Крепость обойду заутре, погляжу, добры ли стены. А там и обратно в Галич возвращаться мне надо. Тоже дел хватает. Сам ведаешь. Суды творить приходится, по волостям ездить, тиунов строжить, за боярами приглядывать.
Избигнев, полулёжа на постели, пил из деревянной кружки тёплый отвар.
В палату тихо вплыла женщина в долгом белом одеянии. Плат такого же цвета покрывал её голову. Не сразу признал удивлённый Ярослав молодую Ингреду.
Женщина отвесила князю глубокий почтительный поклон.
— Здрав будь, князь, — промолвила она, как всегда, растягивая гласные.
— Вот, княже, и супруга моя со мной. Как сведала, что лежу я без памяти, примчалась в возке. Ребёнка ведь иод сердцем носит, поберечься б, а она... — посетовал Избигнев.
Впрочем, видно было, что рад боярин приезду любимой.
— Не сердись. Без тебя мне свет не мил, — качнула головкой в белом плате Ингреда. — Ты для меня — всё. Вся жизнь моя. Не могла я остаться.
Ярослав в порыве чувств расцеловал зардевшуюся молодую женщину в щёки.
— Ты знаешь, сколь Избигнев мне дорог, — промолвил он. — Рад я, что есть у него такая вот ты. Что жалеешь, любишь, ждать будешь. И ты, Ивачич, цени это. Цени, что любим, что ждут тебя дома, что думают о тебе, заботу имеют. В любой стороне дальней когда будешь, помни всегда о жене своей. О том, что радость, горе — всё вы пополам разделите.
Избигнев, улыбаясь, молчал. Он верил, что встанет с постели, что боль его пройдёт и что с Ингредой будет он жить долго и счастливо много лет.
А Ярослав меж тем думал об ином. Снова, в который раз сам себя вопрошал:
«А я? А у меня? Будет ли когда так? Ведь хочется порой выть, кричать от одиночества! Неужели крест мой такой — жена нелюбимая, равнодушная к чаяниям моим, сын — не сын! Нет, вот управлюсь с Берладником, Бог даст, тогда... И что тогда? Отыщу любовь? Найду ту, с которой буду жить душа в душу? А Ольгу прогоню, отправлю в монастырь? А о братьях её помнишь, Ярославе? Глеб Переяславский — зять Давидовича. Не суётся пока в дела нынешние, держится в стороне, а коли я так с сестрой его поступлю... Сей же час к Давидовичу примкнёт! А Андрей! Помнишь, как в Киеве баили с ним? За ним — вся Суздальщина! Он — не пьяница Долгорукий! Умён, набирает силу в Залесье. Скоро грозою для всех князей станет на Руси. И чтоб я из-за сей Ольги с ним рассорился? Нет, нельзя! О земле, о Галичине прежде думать надо, а остальное... Положи всё на Бога. Может, изменится что, по-другому будет».
Гнал от себя Ярослав будоражащие ум скользкие мысли. Не время было предаваться тоске и причитаниям.
Назревала на Червонной Руси ратная страда.
ГЛАВА 63
Теплы и солнечны майские дни. Плещут на ветру багряные паруса ладей. Купец Мина Изденьевич, старший брат Семьюнки, был доволен: умело прошли кормчие узкие места, извилины и пороги на Днестре. Теперь, при свежем попутном ветре, напоённом вешней прохладой, весело идут два снаряжённых купеческих судна к Чермному морю. Достигнут они вскорости Белгорода — города в Днестровском устье, и поплывут оттуда вдоль морского берега к Дунаю. Там, в гирле даст Мина своим людям пару дней отдыха и погонит суда дальше морем в самый Царьград — столицу империи ромеев. Никогда доселе не доводилось Мине бывать в этом овеянном легендами великом городе святого Константина. Везёт он с собой грамоту от одного бывалого купца. Просит тот своих царьградских знакомцев, тоже выходцев из Руси, помочь новичку расторговаться. А товару везёт Мина в Царьград немало: тут и ценный мех желтодущатой куницы, и медвежьи шкуры, и воск, и мёд, и соль. Взамен рассчитывает Изденьевич доставить в Галич дорогие ромейские ткани: паволоку, парчу, аксамит. Также не откажется он от диковинных фруктов, от вин, от многоценных благовоний. Чуял грядущий навар купец, длани чесались. Ночами снились ему звонкие серебряные монеты, сыпавшиеся в руки.
Брат, Семьюнко, снабдил деньгами, велел торопиться. Неровен час, нападут поганые, не до торга будет. Вот и плыл теперь Мина на полдень, и кричал гребцам в часы, когда стихал ветер:
— Скорей гребите, раззявы!
В ладейной избе вечерами зажигал лампады, клал крест, молился, просил святого Николая Угодника, чтоб даровал ему удачу в пути.
...Широко и привольно разлился Днестр по равнине, пологи и низменны стали его берега. Даже не верится, что это та самая речка, зажатая в верховьях в теснине меж крутых скал, быстрая, пенистая, с бешеными каскадами, с водоворотами, извивающаяся, стойно змея. Спокойно и величаво нёс Днестр свои воды, набухал притоками. Мелкая волна била в борт судна. Ладья слегка покачивалась, замедляя ход при приближении к очередному маленькому островку, густо поросшему камышом и осокой, а кое-где — хиленькими деревцами и кустарником.
Вдоль левого берега полосой тянулись плавни — место охоты на уток. Иной раз можно было встретить в плавнях и дикого кабана. Мина слышал рассказы бывалых людей о том, сколь захватывающие и опасные ловы учиняли здесь проезжие купцы или воины. Зато сколь вкусно мясо сего зверя, поджаренное на вертеле на ночном костре!
Как-то незаметно расширились берега, стали отступать, уходить назад и в стороны. Открылась перед Миной необъятная глазу синь Днестровского лимана. В лучах солнца подёрнутая лёгкой рябью вода искрилась, вспыхивала звёздочками.
Кормчий велел держать правее. Гребцы налегли на вёсла. Ладьи сошли со стреженя вливающегося в лиман Днестра, птицами полетели вперёд. Вёрст через двадцать замаячили впереди каменные крепостные башни Белгорода. Возле дощатых вымолов уже стояло несколько кораблей. Греческие хеландии, просторные, с высокими резными носами, с широкими площадками палуб величаво застыли, привязанные канатами к деревянным опорам.
Вот такой бы Мине корабль! Зачарованно взирал он на высокие борта хеландии. На такой можно было бороздить, не боясь штормов и бурь, морские просторы, плавать в солнечный Трапезунд, говорят, богатый город с восточными товарами, достигать берегов Кипра и самого Египта. Сыпалось бы ему в руки золото, на широкую ногу поставил бы он, Мина, торговлю. Еже что, и братец бы подмогнул. Сребришко вон как любит лукавец Семьюнко. Мина усмехнулся.
В Белгороде удостоил Мину встречей местный посадник. Седой старик с изрезанным шрамами сухим морщинистым лицом, посланный сюда ещё покойным Изяславом Мстиславичем, был к галичанину благосклонен.
Предостерёг купца:
— Ты уж, Мина Изденьич, как плыть будешь, по сторонам пуще гляди. Балуют в гирле Дунайском лихие людишки. Разбойнички, берладнички. Давеча греческого купца ограбили, весь товар отобрали, ещё и самого чуть ли не нагим оставили. Галицких ваших рыбаков такожде до нитки обобрали. Мало кто и ушёл. Подалее от Дуная держись.
...Увы, не послушал Мина доброго совета, решил не удаляться от берега, тем паче что над морем грозно ходили чёрные тучи, предвещая скорую бурю.
Решил Мина пристать к берегу, переждать начинающуюся непогодь. И словно ждали этого затаившиеся в плавнях лиходеи.
Резкий громкий свист заставил Мину испуганно шарахнуться в сторону. Тотчас посыпались откуда-то сверху, с прибрежных скальных холмов, повыскакивали из кустов, из зарослей камышовых одетые кто во что горазд, в разноцветных кафтанах, в бехтерцах, в юшманах[237], с саблями и мечами наперевес, берладники.
Посекли, обратили вспять немногочисленную стражу, ринулись к товарам, по дороге рубя или хватая пытающихся скрыться гребцов. Их ловили арканами, вязали, волокли в свои упрятанные в камышах струги.
С ужасом и отчаянием взирал Мина на своё безжалостно разграбляемое добро. К нему подлетели сразу трое, грубо толкнули, опрокинули ничком в песок, связали за спиной руки.
Сорвали дорогой кушак, стащили с ног сафьяновые сапоги, отобрали шапку с вышитым крестами верхом.
Бросили незадачливого купца на дно струга, повезли вверх по Дунаю. Видел с болью и досадой Мина, как вдали горят пламенем обе его ладьи, как взвивается клубами в серое неприветливое небо чёрный дым. Слёзы застили глаза. Так жалко было товара, за свои кровные купленного!
— Вот, Нечай, купчишка галицкий! — Один из разбойников, худой, костистый, с чёрной повязкой на глазу, ухватил Мину за шиворот, поднял его и швырнул к ногам рослого седоусого мужа, который, широко расставив ноги, стоял на корме струга. — Может, рубануть его, и дело с концом!
— А давай его на кол посадим! — предложил другой берладник. — Вот приплывём, добрый буковый кол настругаю. Поглядим, как он корчиться будет!
— Погодь! — оборвал его Нечай. — Покуда живой он князю Ивану надобен. После порешим, как быти!
Мина сидел ни жив ни мёртв. Крестился судорожно, с ужасом смотрел на Нечая и его буйных сотоварищей, шептал дрожащими устами: «Господи, помилуй!»
Тем часом струги неслись по Килийскому гирлу, только и мелькали вёсла в ловких и сильных руках да брызги летели.
Ближе к вечеру пристали судёнышки к берегу. Взору Мины открылся большой воинский стан. Пылали костры, вокруг них собирались такие же разноцветно наряженные люди, все при оружии. Чуть поодаль заметил купец половецкие юрты. Было много коней, отовсюду неслись ржание, смех, крики. Как всегда перед началом большой войны, люди веселились, словно праздник предстоял, а не кровавая бойня.
На вертелах жарилась баранина и конина, кое-где уже пировали, запивая пахнущее дымом костра мясо добрым вином и мёдом. Уж мёду хватало.
...Мину подвели к одному из костров, вокруг которого было особенно шумно и многолюдно. В высоком крутоплечем человеке лет сорока, бритоголовом, облачённом в белую полотняную свиту, с серьгой в ухе узнал купец князя — изгоя Ивана. На высокое чело его спускается лихо закрученный чуб — оселедец.
— Вот, княже Иван, взяли две ладьи галицкие у Лукоморья. Ентот вот купчишка товар вёз, — объявил одноглазый.
— Что с ладьями содеяли? — спросил Иван.
— А что? Запалили, да и весь сказ! — Одноглазый раскатисто захохотал.
Следом за ним засмеялись и остальные.
Иван, крикнув: «Довольно!», оборвал веселье. Сказал с досадой:
— Ладьи бы нам не помешали.
— Да куда их? — возразил Нечай. — Комонными пойдём, вскачь, никакая ладья не поспеет.
Иван смолчал, передёрнул плечами. Вроде всё покуда шло, как он и замышлял, но почему-то перестала нравиться ему вся эта затея. Глядел в лица берладников, соратников своих, многие из которых так рады были его возвращению в Подунавье, видел эту вольницу, все чаяния которой — пограбить, сходить «за зипунами», напасть и обчистить какой-нибудь городок, обобрав жителей до нитки, а потом завалиться в траву с очередной гулевой девкой. Многие из этих людей, гордые, независимые, смелые, когда-то бежали от боярской неволи, променяв постылое ярмо холопства на буйный степной ветер и каждодневный риск. Вся жизнь берладника — война, стычки с врагом, стремительные набеги на торговые караваны, на земли ромеев, болгар, угров. В Иване видели они своего вождя, человека, который подымет их, соберёт в кулак и поведёт... Куда? Да хоть на Галич, хоть на Теребовлю, хоть к самому чёрту в преисподнюю! Ну, а дальше? Дальше как Ивану быть? Ведь он — князь, его отец владел городами в Червонной Руси, он — не разбойник, не холоп беглый! Вот сядет он в Галиче, и на кого будет опираться? Раньше была у него надежда на Изяслава Давидовича. Он выручит, не забудет. Но вот ушёл Иван втайне от киевского князя в степь, супротив его воли, и теперь Изяслав был на него разгневан. Покуда сговорился Иван с половцами. Согласился идти вместе с ним на Русь солтан Турундай, хитрый скользкий кочевник. Башкорд — тот дал тысячу воинов в подмогу. Перед расставаньем сказал, чтоб Турундаю особо не доверял и на его орду сильно не полагался. Да только как тут не полагаться, если без малого половина его рати — Турундаевы чёрные куманы!
Всего собрал Иван под своё начало шесть тысяч человек. С ними решил он ударить по Днестровскому Понизью.
...Мина стоял перед Иваном на коленях, угрюмо молчал, сдерживал дрожь.
— Кто таков?! — грозно вопросил князь купца.
— М-Мина аз, — только и выдавил из себя Изденьевич.
— Я его знаю! — протолкался сквозь плотные ряды берладников невысокий молодец в кацавейке, в лихо заломленной набекрень бараньей шапке.
Мина признал в нём беглого холопа боярина Молибога, чьи богатые вотчины располагались неподалёку от Перемышля. Когда-то этот молодец был посадским ремественником, обжигал горшки, да вот после одной из войн, когда сгорела его мастерская, взял у Молибога купу. Видно, не сумел уплатить в срок, был отдан в холопы и бежал от неволи в Берлад.
— Се — Мина Изденьевич. Брат его, Семьюнко, у князя Ярослава в Галиче правая рука!
Зашумели, загалдели берладники.
— Убить сию вражину!
— Прихвостень боярский!
— Наших братьев кабалил, гад!
И снова Иван прервал сыпавшиеся со всех сторон крики.
— Убивать его покуда не к чему! Связать его да в обоз! Думаю, Семьюнко за своего братца немало серебра отсыплет! — молвил он громким голосом. — А кончить его, еже что, завсегда успеем!
Мину отвели в крытый рядном возок, скрутили руки и ноги крепкими ремнями, бросили на солому. Двое ратных остались его сторожить.
Что ж, смерть покуда прошла стороной. В эти мгновения Мина уже не вспоминал о потерянном товаре. Одно только хотелось — жить!
...Наутро шеститысячное войско Ивана выступило в поход. Галопом понеслись вершники по пыльному шляху. По левую руку извивался под палящими лучами солнца многоводный Прут. Впереди были жаркие сечи, были пожары и кровь, была неизвестность.
ГЛАВА 64
Лавиной обрушилась рать Берладника на Понизье, прошлась огнём по междуречью, месту, где ближе всего подходят друг к другу Прут и Днестр. Горели сёла, чёрный дым стлался над холмами и речными долинами.
Хоть и наказывал Иван не обижать крестьян, обходить стороной хутора и сёла, его не слушали. Половцы Турундая — те особенно свирепствовали, хватали смердов и людинов, связывали их арканами в цепи, стегали нагайками, гнали по дороге в степь. Многим, чтобы не могли убежать, подрезали на ногах сухожилия. Стоны и проклятия сопровождали Берладника по его пути.
Когда стал он укорять Турундая, солтан лишь презрительно осклабился.
— Для чего поход? Мы — твоя помогай, ты — наша не мешай! Добыча дай, добрый добыча! — бросил он Ивану на ходу и тотчас отъехал в сторону, давая понять, что разговор окончен.
Напрасно объяснял, убеждал князь-изгой, что щедро вознаградит каждого половецкого воина, что за одного только Мину потребует он такой выкуп, что хватит не одному беку или бею.
Нечай, тот больше угрюмо отмалчивался. Единожды на привале он не удержался, упрекнул-таки Ивана:
— Зря ты поганых на Русь привёл. Озоруют они излиха. Откачнёт народец, что набольшие люди, что простые, как княжить будешь?
Иван неожиданно вспылил:
— Все вы хороши советы давать! А что делать? Как мне стол воротить?!
Ответил ему сотник:
— Да нечего нам тут, в Понизье, делать! Брось, княже, затею сию! Давай уйдём в Берлад! Укрепишься, добрых удальцов наберёшь. А дальше видно будет.
— И тако до скончания дней корабли купецкие грабить да набеги на болгар и угров, яко тать, учинять?! Да за зипунами за сине море хаживать! — с отчаянием воскликнул Иван. — Нет, Нечай, не для меня то!
Сказал горькие эти слова князь-изгой, обхватил руками бритую наголо голову, вздохнул. Затем вдруг разом как-то подобрался, повеселел, подмигнул Нечаю. Молвил так:
— Ничего, друже! Начатое дело бросать негоже. Добуду стол княжой! А поганых не переделать.
Нечай хмуро кивнул.
...И всё-таки в Понизье Ивана помнили и любили. Когда отряд берладников во главе с самим князем подступил к расположенному на возвышенной равнине на речке Совице городку Кучельмину, крепостные ворота настежь распахнулись. Бородатые градские старцы подали Ивану ключи от города, красавицы девушки в нарядных сарафанах и кокошниках вынесли на рушниках хлеб-соль.
— Князь еси наш ты, Иване! — торжественно объявил старый посадник Творимир. — Я с твоим отцом ещё в походы хаживал.
Шумно приветствовала берладницкую вольницу толпа посадских. Отовсюду неслись возгласы одобрения.
Был пир на сенях посадничьих хором, после — мягкая постель, пуховые перины, от которых Иван давно отвык, и были объятия дочери Творимира, разбитной весёлой девицы.
Перед тем лукавый Творимир как бы невзначай осведомился:
— Слыхал я, супруга-то твоя в Смоленске опочила?
— Чего ты вдруг о ней? — сразу насупился Иван, вспоминая давно забытую, по сути, брошенную им во время долгих скитаний по Руси женщину. — Ну, почила, дак что?
— Не кручинься ты, княже. Мы тебе, еже что, вборзе добрую невесту подберём!
Подмигнул ему хитровато посадник, улыбнулся и тотчас отошёл, отодвинулся в сторону.
Теперь Иван, обнимая сочную, как ядрёное румяное яблоко, девицу, понимал, зачем вопрошал его Творимир об умершей жене. А что? Неплохой выбор — боярская дочь, да ещё столь пригожая!
Удовлетворив плоть, усталый с дороги Иван быстро заснул. Девица бесшумно соскользнула с ложа и скрылась в темноте. Наказ отца она исполнила, хотя, говоря честно, ждала от встречи с князем Иваном большего.
Впрочем, разве так уж это было и важно? Она станет княгиней, родит Ивану ребёнка, воссядет госпожой в галицком дворце — таком огромном, что аж дух захватывает. Мечты вызывали на миловидном лице дочери Творимира сладостную улыбку.
...Утром Иван, собрав десятников и сотников, учинил совет.
Берладники наперебой предлагали ему тотчас идти на Галич, благо, путь был недалёк.
— Всё Понизье за тебя! — басил грузный десятник Смолята. — Хотин сдался, Каменец, Черновицы!
Иван в ответ на такие слова лишь грустно усмехался. Один Нечай понимал, кажется, до конца их положение. Остальные, воодушевлённые лёгкими первыми успехами, рвались в бой.
Выслушав всех, Иван сам взял слово. Молвил твёрдо:
— На Галич нам рано идти. Сперва здесь, в Понизье укрепиться надобно. Пойдём на Ушицу. Коли сию крепость возьмём, и другие низовые города врата отворят. Ушица — главная в сих местах крепость. Запирает она путь Днестровский. А торговлей речной все сии городки живут.
— На Ушицу, дак на Ушицу! — прокричал Смолята. — Нам что! Куда ты, туда и мы!
После, когда стояли Иван с Нечаем вдвоём на забороле крепостной стены Кучельмина, вопросил князь-изгой мрачного во все последние дни сотника:
— Ты почто молчал?
Ответил ему бывалый ратник:
— Как я думаю, ты ведаешь. Не по нраву мне наш поход.
Вспылил, вспыхнул внезапно князь-изгой:
— Не по нраву, речёшь! Дак убирайся тогда, катись отсюдова! Беги в Берлад! Отсиживайся тамо! Заяц трусливый!
Понимал Иван, что в порыве гнева оскорбил, обидел тяжко старого своего товарища, но сдержаться не смог. Видел, как разом изменилось, словно бы окаменело лицо Нечая, как тяжёлым стал его взгляд, как сжались крепкие длани в кулаки.
Молча, не сказав больше ни слова Ивану, повернулся Нечай, сбежал быстро по крепостной лестнице во двор, вывел коня, забрался в седло и, стегнув скакуна нагайкой, галопом метнулся за ворота.
Иван его не остановил, смотрел только, насупившись, широко расставив ноги, как мчался Нечай вниз по склону холма, по петляющей змеёй узкой дороге.
К Ивану поспешал запыхавшийся Творимир.
— Извини, княже! Услыхал невзначай толковню вашу. Отметчик сей Нечай! Пошлю тотчас ему вослед холопов, переймут, воротят!
Иван встрепенулся, крикнул посаднику:
— Не смей! Не трогайте его! Пущай едет, куда хочет!
— Он волости мои на Сирете жёг! — проорал в ответ Творимир. Не слушая князя, приказал он двоим холопам догнать Нечая.
Оторопев от такого самовольства боярина, Иван с трудом удержал новую вспышку гнева. Встал на площадке заборола между зубцами стены, смотрел, как скачут холопы, оба в чешуйчатых ромейских бронях, с ног до головы облитые железом, как настигают они сотника.
«Экие они борзые! В латах все. А Нечай-то, в одном колонтаре из кожи под кафтаном! Выдюжит ли?» — думал с тревогой князь-изгой.
Вот один из холопов загородил Нечаю дорогу, что-то сказал, выхватил меч. А дальше... Не поняли ни Иван, ни громко дышащий за его спиной Творимир, как, в какое мгновение оказалась у Нечая в деснице его кривая печенежская сабля. Только прочертила она в воздухе крутую дугу, и пал холоп боярский под копыта. И в едином порыве, развернувшись, рубанул Нечай следом и второго, да так, что голова его скатилась с плеч.
— Гад! Сволочь! Сыщу! Сгною! Повешу на древе! — изрыгал ругательства Творимир, в бессильной ярости грозя скрывающемуся меж холмами за серебристой лентой Совицы вершнику.
Иван с презрительной усмешкой сказал ему:
— А ты что хотел? Чтоб мой сотник да с холопами не управился! Впредь его не трогать! Я так велю! Спор у меня с ним вышел, дак не твоего ума то дело, боярин!
Глянул Иван на искажённое ненавистью лицо посадника и понял, что, верно, дочки Творимировой ему теперь не видывать, а поддержки боярской верхушки Кучельмина может он, пожалуй, и лишиться. И удержаться в Понизье, среди таких вот Творимиров, будет ему крайне тяжело.
Но намерений своих менять князь-изгой не стал. Отправил гонца к Турундаю, стоявшему со своей ордой лагерем за Прутом, велел выступать к Ушице.
Следующим утром, на рассвете, двинулись туда же, на восход, и берладники. Иван ехал впереди, перед глазами его ярко розовела заря. В буковой роще, проснувшись, щебетали птицы. Лёгкий ветерок ласкал лица.
Снаряжение воинское везли в обозах. Иван ехал сперва медленно, шагом, поверх белой посконной рубахи был на нём пёстрый травчатый кафтан, на сапогах тимовых блестели серебряные бодни, в ухе болталась серьга с крупной жуковиной. Языческий оберег со сказочной птицедевой висел на шее рядом с крестом. Бритую голову покрывала папаха. Оселедец лихо вился над челом. Словно и не князь он был вовсе, а предводитель разбойной дунайской вольницы.
«Да так ведь оно и есть», — подумал он вдруг, но отогнал прочь эту мысль.
У переправы через Днестр берладники соединились с половецкой ордой. Воины Турундая спускали на воду сшитые между собой по десятку растянутые лошадиные шкуры, по краям обшитые одним ремнём, привязывали концы их к хвостам коней, садились на эти своего рода плоты сами и ставили на них свои повозки. Быстро и ловко перевозились они на левый берег Днестра, крутой, обрамлённый грядой песчаных холмов. Широкими террасами спускались эти холмы к реке.
После переправы сделан был короткий привал. Вслед за тем Иван велел поторопиться. Как можно скорее хотел он добраться до Ушицы. Нагрянуть на крепость мыслил неожиданно, втайне однако, надеясь, что и там ему откроют ворота без боя.
...Но в Ушице, к которой разношёрстное воинство Ивана подступило на следующий день, получилось совсем не так, как в Кучельмине. Обитые листами меди городские врата, ярко светящиеся на солнце, оказались на запоре. Мосты через глубокий наполненный грязной болотистой водой ров были подняты. Подойти к городку с любой стороны было сложно, омывали его воды Днестра и его притока, пенистой весело журчащей речки с тем же названием, что и крепость — Ушица.
На заборолах стен и в башенках-стрельницах заметил Иван множество шеломов и копий. Не стало появление его рати внезапным. Гарнизон крепости, видно было, сведал заранее о подходе берладников и половцев и изготовился к осаде. Иван от досады прикусил губу.
Впрочем, повода для отчаяния покуда не было. Шесть тысяч ратников вполне могли при правильном расположении осадных лестниц, при смелости и решительности действий взять такую крепостцу. Поначалу, правда, следовало Ивану объехать стены, поглядеть, отыскать в обороне Ушицы самое уязвимое место. А там можно и штурмовать.
В поле перед крепостным валом и рвом разбит был стан. Чёрные куманы Турундая, как обычно, расположились особняком, в стороне от берладников. Пересекались они друг с другом, по сути, только во время боя да на совете.
Повсюду Иван расставил сторожей. Особо тщательно приказал он следить за рекой — вдруг помощь городку придёт на ладьях. Да и на вылазку могут, чего доброго, сподобиться ушичане.
Пока устраивали стан, наступили вечерние сумерки. Мглой оделась Ушица, туман пал на землю, такой неожиданно густой, что почти не видно ничего стало за несколько шагов. Отдав последние распоряжения, Иван направился в свой шатёр. Прилёг на войлочные кошмы, чувствуя усталость в ногах и спине после утомительного перехода. Со вздохом подумал: сорок лет ему минуло. Не молодой, чтоб сутками скакать без передыха. А места себе так, выходит, и не нагрел нигде. Всё бегал, мотался от одного владетеля к другому. Один только Давидович и отнёсся к нему с сочувствием, проникся его бедами. Верно, потому что сам изрядно побегал по Руси. Ещё подумал Иван, что, возможно, Нечай был прав. Не стоило ввязываться ему в это дело. И союзиться с половцами тоже не надо было. Но тогда что ж выходит?! Нет, он делает всё верно. Вот займёт Понизье, станет на этой земле князем. А там и о Галиче можно будет подумать.
Утром стражи привели к нему целую толпу безоружных людинов, одетых весьма бедно, в посконные рубахи и истоптанные поршни[238]. Были некоторые даже в лаптях.
— Токмо стемнело, из Ушицы чрез стену они полезли. Яко тараканы, ей-богу! Сказывали, к тебе, — объяснил со смехом Смолята. — Поганые в полон их забрать хотят, шумят. Я покуда не отдал. К тебе, княже, привёл.
— Кто таковы? — уперев руки в бока, строго спросил Иван людинов. — Почто из города бежите?
За всех ответил один людин, рослый молодец с перетянутыми кожаным ремешком волосами:
— Бояре примучивают нас, княже. Кабалят свободных людей. Купы дают, а потом дерут по семь шкур. И некому пожаловаться. Князь Ярослав далече, а боярин и тиуны его — туточки!
— Все вы, стато быть, холопы?
— Холопством, княже, не попрекай нас. К тебе шли, свободными бо стать хощем. Отплатить боярам за притеснения.
— Ну, раз так... Смолята! Выдать каждому доспех да оружье! — велел князь-изгой.
— Не хватит на всех доспехов. Их, почитай, три сотни человек.
— Ну, тогда тех, кому не хватит, в обоз покуда. Позже искуём им кольчуги добрые.
Падали на колени перед Иваном беглецы, слёзно благодарили.
Вздымая пыль, принёсся на статном аргамаке Турундай. Сопровождали его беки и беи. Спрыгнул солтан наземь, засеменил кривыми ногами к Ивану, стал ругаться:
— Зачем холопы защищаешь, каназ?! Зачем твоя полон отбирать?! Они, — обвёл он кривым согнутым перстом ушицких людинов, — добыча наша!
Вторили ему беки, беи, то же самое говорили берладские сотники и десятники.
— Они сами ко мне пришли, по своей воле! Как могу я их полоняниками считать! — решительно заявил Иван. — Не вороги нам сии людины, и не добыча твоя, солтан! Сказал уже: заплачу всем по чести! А люд простой не обижайте! Кем я буду, коли сих несчастных выдавать в полон стану!
Крикнул в ответ, дико вращая налитыми кровью узкими глазами с изъеденными трахомой веками, разъярённый Турундай:
— Полон не даёшь — сам воюй! Мы, кипчаки, уходим от тебя! Моя пришёл — полон брать, добыча! Твоя — обижать, добыча не давать!
Взмыл солтан в отделанное серебром седло, крикнул что-то на своём языке бекам и беям, пустил в галоп ретивого аргамака, помчался в свой стан, только пыль стояла столбом ему вослед. Поднялась быстро орда, заходили со свистом нагайки по спинам пленных, заскрипели колёса повозок, заржали мохноногие кони. Получаса не прошло, а лишь смятая трава и догорающие костры говорили о том, что стояло здесь лихое степное воинство.
Ропот начался и среди берладников. Многие были недовольны тем, что Иван запретил им заниматься грабежами. Вдобавок ворвались внезапно в лагерь несколько посланных в дозор воинов.
— Ярослав рать прислал! Глядите, вон тамо, за речкой! Комонные, и оборужены добро! И много их! Воевода Гаврила Бурчеевич ведёт, людин один сказал! — кричали они наперебой, хором.
Глянул Иван за узенькую ленточку Ушицы-реки. В самом деле, блестели у окоёма шеломы и дощатые брони галицкой рати. Реяли в воздухе прапоры с жёлтым львом на голубом фоне. Понял в этот миг Иван, уяснил отчётливо, что дело его проиграно.
А берладники меж тем рассыпались розно, бежали кто куда, хватали каждый что мог. Напрасно пытался Иван удержать их, звал идти за собой. Не слушались его, шарахались прочь. Разбежались и ушицкие людины, лишь горстка самых верных осталась с Иваном.
— Отступаем! Уходим в Кучельмин! — потрясая мечом, звал Иван за собой оставшихся в стане берладников.
...Им удалось уйти от погони, запутать галичан на днестровских бродах. В Кучельмине, видно, ничего ещё не знали. Въехав во град, велел Иван запереть крепостные ворота. Что делать дальше, честно говоря, сам не ведал. Явился в хоромы Творимира, рассказал всё, как было. Понимая, что и Кучельмина ему не удержать, просил об одном: дать ему тайно уйти.
Творимир ничего толком не ответил, обещал, что подумает, как поступить. Дочь же его прошествовала мимо Ивана, даже не поклонившись. Высоко несла боярышня гордую голову, капризно складывала губки, отводила взор.
— Холопий князь! — прошелестели обидные, сказанные с нескрываемым презрением слова.
Отшатнулся Иван в сторону, словно от удара. Остоялся в холодных сенях, подумав вдруг: а ведь нрава она! Какой из него правитель?! С саблей наголо, на полном скаку, в битву, в рубку кровавую — тут он первый, самый искусный, самый храбрый. Рать водить привычен, ночевать у костра, седло конское под голову подкладывая, а чтоб судить да рядить, да с боярами в ладу жить, козни уметь распутывать, самому лукавить — нет, не его это. И что теперь ему делать, как быть? В Берлад путь заказан — не примет его из-за ссоры с Нечаем вольница разбойная! Половцы — вороги суть, довольно он с ними сносился, ведает, что кроме полона и грабежей ничего им не надо. В Киеве Изяслав Давидович тоже вряд ли его примет — осерчал, верно, когда уехал он втайне от него к Башкорду. Угры — те сразу выдадут Ивана Осмомыслу, чехи — такожде. Остаётся один путь — к болгарам задунайским, в земли, подвластные императору ромеев. Наймётся Иван на службу, будет жалованье получать, а там, может, смилостивится император и даст ему в держание городок-другой. Иного пути для себя Иван не видел.
Оборвал невесёлые мысли его Смолята.
— Княже, с ентим-то чё топерича деять? — указал он на телегу во дворе, в которой, скорчившись, сидел связанный Мина.
— Да что с ним! — махнул рукой Иван.
Он сбежал с крыльца, выхватил из голенища кривой засапожный нож и сам, своей рукой разрезал путы на ногах и руках пленника.
— Дарую тебе свободу! — объявил Иван Мине. — Бери на конюшне любого коня. Скачи, куда душе угодно. И гляди, вдругорядь не попадайся!
Обрадованный Мина поспешил на конюшню. Вскоре до ушей Ивана донёсся быстро стихающий топот копыт.
...Вечером постучался в утлый покой, в котором остановился на постоялом дворе князь-изгой, некий человек в свите из простого валяного сукна. Сопровождал его верный Смолята.
— Кто еси? — спросил удивлённый Иван.
Отбросил вошедший назад куколь. Тотчас признал Иван Глеба Рокошича, доверенного таинника[239] князя Изяслава Давидовича.
— Не ждал, — развёл он руками. — Какими судьбами ты здесь, Глеб?
— Князь Изяслав меня прислал. Следит он за всеми твоими делами. Ведает о твоих мытарствах. Велел передать, чтоб возвращался ты, княже Иван, в Киев. За то, что ушёл тогда, зла на тебя князь Изяслав не держит. Сказал: пусть всё, как прежде, будет.
— Вот как?! — Иван вскочил с дубовой скамьи.
В серых глазах его, доселе тусклых, зажглась, заиграла надежда.
Глеб Рокошич тем временем продолжал:
— Что голову ты обрил — то добре. Не признают тебя вороги. Выберемся из Галичины потайными тропами. А тамо и до Киева недалече. Вельми ждёт тебя князь Изяслав.
Ушли они из Кучельмина в ту же ночь, подкупив воротную стражу. А наутро Творимир, который решил выдать Ивана Ярославу, облазил со своими подручными весь городок, но так и не отыскал нигде следов князя-изгоя и его людей.
ГЛАВА 65
С того места стены Галицкого детинца, где стоял Ярослав, виден был вдали быстротекущий, зажатый между крутыми берегами, напоминающий чешуйчатый панцирь неведомого чудища Днестр. Шумел он на перекатах, ярился, пытаясь вырваться из цепких объятий обступивших его крутых холмов, набирал силы, чтобы много ниже, впитав в себя воды тьмочисленных притоков, выскользнуть наконец на вольный простор, унять быстрый свой бег и течь уже по раздольной равнине спокойно и тихо, плеща лёгкой волной.
Вот так бы и в жизни, думалось Ярославу. Прошло, минуло лихолетье, и настали б времена мирные. Но будет ли так? Пока о подобном мог он лишь мечтать.
События вокруг него мчались, жизнь кипела, вовлекала его в свой круговорот, то затихал немного, то вновь усиливался неистовый вихрь страстей. Были и скорбь, и гнев, и бряцанье железа, и лихие скачки, и тревога ожидания.
Год шёл по ромейскому летосчислению 6666-й. Страшным было апокалипсическое сочетание цифр. Люди боялись, ждали конца света, подолгу совершали молебствия в церквах. Вроде ничего покуда не предвещало катастрофы. Так же, как и всегда, светило солнце, зеленели, а затем жухли и желтели травы, наливались соком яблоки и груши в просторных садах. Рождались дети. В начале года, в марте Ингреда подарила Избигневу сына. Нарекли его Стефаном, в честь христианского первомученика. Ярослав стал крохотному младенчику крёстным отцом, невеста Семьюнки Оксана — крёстной матерью. И всё бы хорошо, на лад пошла бы жизнь, забываться стали понемногу бередящие душу тревоги, как вдруг сведал Ярослав о дерзком набеге Берладника и половцев на Понизье. Вот где появился неугомонный изгой! Воевода Гаврила Бурчеевич пошёл с ратью к Ушице, а спустя некоторое время примчался в Галич на загнанной, с хлопьями пены на шее и спине кобыле старший брат Семьюнки Мина. От него первого узнал князь о неудаче Ивановой затеи.
Он принял Семьюнку вместе с братом в палате на верхнем жиле, выслушал взволнованный рассказ Мины о разграблении его ладей, о полоне и о событиях в Кучельмине и под Ушицей, которым сам он оказался свидетелем.
Ярослав молчал. Подумалось ему вдруг, что, выходит, не столь и плох Берладник. Не разбойничать пришёл, а землёй править, раз не позволял поганым жечь сёла и брать в полон смердов. По сути, из-за тех трёх сотен беглецов ушицких и проиграл он войну. Не хотел поступиться честью, обидеть слабых. И был прав! Прав во многом! Он бесхитростный, Иван. Там, где надо было закрыть глаза, слукавить — не смог. А он, Ярослав? Смог бы? Наверное, да! Это прискорбно, но это так!
«С волками жить — по-волчьи выть!» — Приходила на ум меткая народная поговорка.
Раздумья князя прервал Семьюнко.
— Они, сволочи, товары наши пограбили! Всего добра нас с Миной лишили! — Неожиданно разбушевался он. — Нет, княже, ты погляди, какие дряни! Мы столько лет сие добро копили, товары добрые покупали, потратились вельми, себе во многом отказывали, а сии! Ни совести у людей, ни богочестия, ничего! Одно на уме: чужое хватай! Давай, княже, соберём рати да пойдём на Берлад. С землёй сровняем се гнездо разбойничье! А мне топерича и свадьбу сыграть не на что! Оксанка засмеёт, опозорит токмо, она такая!
— Больно ты скор, — оборвал Семьюнковы излияния Ярослав. — На Берлад мы, ясное дело, пойдём. Не теперь только. Сперва надо с Давидовичем дела уладить. Либо умириться и заставить его отойти от Берладника, либо прогнать взашей из Киева.
— Ну тогда, может, на поганых нам пойти, на Буг Южный! Отберём у Башкорда с Турундаем всё грабленое!
— И на половцев идти придётся. Чую, не оставят они Галичину в покое. Но опять-таки сперва — Давидович, — твёрдо стоял на своём Осмомысл.
Он видел, как от досады недовольно поджал губы и опустил голову Семьюнко. Стало от этого Ярославу как-то не по себе.
Слов нет, не по нраву было князю излишнее сребролюбие товарища его детских лет. Только ведь не переделаешь человека. К тому же Семьюнко был ему слуга верный. Не хотелось Осмомыслу огорчать лучшего друга.
Решение пришло быстро, само собой.
— Вот что, Семьюнко, дружок любезный, — сказал он. — Поезжай-ка ты в Кучельмин. Даю тебе в подмогу сто человек дружины. Сам выберешь, кого взять. Разберись с сим переветником[240], с Творимиром. Делай с ним и с имением его, что хочешь. Даю тебе в сем деле полную волю. С его волостей, думаю, и взыщешь убытки своему товару. А волости его на Сирете тебе даю в держание. Один наказ: остальных бояр, старцев градских, житьих людей — не трожь! Понял?
Лицо Семьюнки сразу засветилось масленой улыбкой. Он рассыпался в похвалах «доброму и многоумному» князю и тотчас едва не бегом побежал исполнять его наказ.
Отбыл Красная Лисица в Кучельмин. У Ярослава же иные дела были и заботы.
Пришла горестная весть из Кракова. В расцвете лет скончалась старшая сестра его,. Анастасия, жена князя Болеслава Кудрявого. Анастасия родила в браке двоих сыновей — Болеслава и Лешка. Вместе с ними Кудрявый спустя недолгое время заявился в Галич.
— Оставляю у тебя покуда, княже Ярослав, чад своих. Неспокойно ныне в Польше. Смуты, борьба идёт между братией, — говорил он.
Чёрные одежды никак не шли статному красавцу с окладистой каштановой бородой. Но он любил Анастасию и скорбел, плакал навзрыд, жаловался, что жизни без неё не мыслит. Сыновья его, совсем ещё маленькие дети, насторожённо и испуганно оглядывались по сторонам. Оказавшись в необычной для себя обстановке, в огромном галицком дворце, наполненном челядью и гриднями, они робели. Ярослав приласкал обоих племянников и поручил их заботам Елены Ростиславны, которая с радостью согласилась поселить мальцов у себя в покоях.
Ярослав заметил, что Болеслав Кудрявый и Елена часто проводили время вместе. Оба в тёмных одеяниях, подолгу стояли они на гульбище и беседовали.
«А ведь, может, и подошли бы друг дружке, — размышлял Ярослав. — Анастасия, правда, красавица была, а эта — рябая да нос велик. Рано о том решать, поглядим после».
Болеслав, погостив пару седмиц, отъехал обратно в Краков. Перед расставаньем Ярослав весьма прозрачно намекнул ему:
— Приглядись, княже, к сестрице моей двухродной. Хоть и не красна излиха, да нраву доброго.
Краковский князь словно ждал от Осмомысла таких слов. Ответил уклончиво:
— Траур отношу, тогда и порешим, брат. Мне с тобой союз крепить — прямая выгода.
На том простились. С Еленой после имел Ярослав долгую толковню.
— Он вон красавец экий! А я? Рябая да носатая! — сетовала Елена Ростиславна. — Холопки, и те смеются. И княгиня твоя токмо насмехается.
— Княгиня?! Холопки?! Скажи токмо, не позволю ни единой язык распустить! Тотчас окорот получит... в келье монашеской! — гневно промолвил Осмомысл.
— То холопки. Жену же свою куда денешь? — грустно усмехнулась Ростиславна.
— Вот и хочу тебя замуж выдать. А Болеслав — сосед мой, союз мне с ним надобен. И племянники мои, смотрю я, к тебе привязались сильно. А там, в Кракове, ты когда мне и поможешь, если что. Лишь бы ты, сестрица, меня, а не братца своего Ивана держалась.
— Обижаешь, Ярославе! Когда то было, чтоб с Иванкой я дело имела. Гад он! Бросил меня, в монастырь увёз, а потом и не вспомнил! Да кабы не ты, тамо и сидела бы я доныне, поклоны клала да слезами умывалась. Ты — благодетель мой!
Слёзы выступили на некрасивом лице. Порывисто встал Ярослав, обнял Елену, расцеловал в изрытые оспинами щёки. Сестра плакала у него на плече, а потом решительно вытерла слёзы и объявила твёрдо:
— Что ж, пойду за Кудрявого, раз все вы так хотите! И тебя, брат, николи не предам!
Дело, кажется, было спроворено. И радовался Ярослав, и печалился, вспоминая детство своё и покойную Анастасию. Намного старше была она их с Евдоксией. Всегда надменная, снисходительно-насмешливая в отношении к нему, острая на язык, вечно задевающая его своими издёвками, а как-то даже вместе с Евдоксией придумавшая колоть его маленького булавками, Анастасия всё-таки была ему родной сестрой, и смерть её вызывала в душе печаль, а на глазах слёзы.
Зато когда в тот же месяц почил давно болевший слепец Петрок Власт, ничего не испытал Ярослав. Равнодушно шёл за гробом, смотрел, как опускают его в могилу, вырытую в ограде католической ропаты[241] на Подоле, слушал, как читают над ним на сухой латыни молитвы.
После смерти супруга Мария Святополковна объявила, что принимает постриг в одном из женских монастырей в окрестностях Перемышля, сын же её Святослав намерен был вернуться в Польшу, благо, что гонитель его отца давно был лишён престола и тихо доживал свой век где-то в Силезии.
Потишел огромный княжеский дворец, отъехали вместе со своими господами слуги, из родичей теперь, кроме Елены Ростиславны, оставался здесь лишь старый Василько Ярополчич, который всё ещё упорно не хотел покидать сей мир и днями пролёживал у себя в палате на печи.
Скакали гонцы во все стороны, во все окрестные земли. Отовсюду слетались в Галич вести, добрые и недобрые. Узнал Ярослав, что Иван Берладник опять объявился у Давидовича в Киеве. Возвращалось всё на круги своя. Как будто не было ничего: ни посольства с требованием его выдачи, ни тяжкого ранения Избигнева, ни пакостей половцев и берладников в Понизье. И опять скакали гонцы — во Владимир-на-Волыни, в Луцк, в Дорогобуж.
...Заявился внезапно в Галич безудельный Владимир Мстиславич, младший сводный брат покойного Изяслава Киевского, родной брат королевы угров. Матерью его была вторая жена Мстислава Великого, новгородка Любава Дмитриевна, потому братья старшие прозвали его Мачешичем. Привёл сей Мачешич с собой довольно большой отряд вооружённой до зубов дружины, разбил стан за городом, на 6epeiy Днестра. Приехав к Ярославу во дворец, сидел за столом, вкушал хмельной ол, цедил сквозь зубы:
— Обещал мне Давидович отдать Туров, рати водил, дак не дал ни Турова, ни вообще ничего. Волк он! Всё байт, дам то, дам другое, а вижу от него одну дулю. Во как! Надо нам, братушка дорогой, идти на него, прогнать из Киева. Киев — деда моего и отца волость! Чего ради он там уселся!
Двадцати восьми лет от роду, младше Ярослава на пять лет, белокурый, весь в мать — новгородку, со светлыми белесыми глазами, которые всегда при разговоре прятал, отводил в сторону, Мачешич производил на Ярослава впечатление крайне неприятное. По прежним делишкам знал он, как тот метался то к одному, то к другому владетелю, рушил клятвы, выпрашивал для себя города и волости. Даже родная сестра, Фружина Угорская, не хочет с ним знаться. «Скользок, аки угорь», — говорил про Мачешича Мстислав Волынский.
Вот и к Осмомыслу явился он явно не просто так. Правда, покуда намерения его с Ярославовыми совпадали.
Галицкий князь согласился:
— Да, наказать надо Давидовича за неотдачу Ивана.
— Я уже в Дорогобуже, у Владимира Андреича побывал. Такожде рать на Киев поведёт. Коли вместях, втроём, дак мы сего ворога тотчас из Киева выбьем. Дружины у нас добрые, управимся, — убеждал Ярослава Мачешич.
На том сошлись, уговорились. Гонец с грамотой Осмомысла ускакал в Дорогобуж.
Поручил Ярослав старшим своим воеводам, Тудору Елуковичу и Святополку, готовить войско на Киев. Но, видно, проведали о том в стольном. Спустя всего две седмицы, в пору, когда задули холодные осенние ветры и закружил в воздухе палый лист, явилось в Галич от Давидовича пышное посольство. Во главе его ехал разодетый в меха боярин Нажир Переяславич. Возок его блистал серебром, раскрашен был яркими красками, несли его породистые статные арабские скакуны.
В той же горнице, где когда-то покойный Владимирко насмеялся над святым крестом и киевским посланцем Петром Бориславичем, принимал Ярослав послов от Давидовича. Присутствовали при сей встрече ближние галицкие бояре, а также и Мачешич, который всё стоял под Галичем лагерем.
Нажир первым делом объявил:
— Слово к тебе имею, княже Ярослав. Ныне съехались в Лутаве князья Изяслав Давидович, Святослав Ольгович с двумя сынами, с Олегом и Игорем, и Святослав Всеволодович. Веселились с великою любовью три дня, одаривали друг друга вещами изящными. И заключили меж собой крепкий союз. Отдал князь великий Изяслав Давидович Ольговичу во владение города Мозырь и Чичерск.
Ярослав в сердцах стиснул пальцами подлокотники кресла. Вот оно, выходит, как! Ольгович откачнул от их союза, пристал к Изяславу! Раздражение вызывала недальновидность старого Святослава. Неужели мало настрадался он от Давидовича? Вон как волости его разорял тот раньше! А теперь, вместо того, чтоб поддержать его с Мачешичем и Владимиром Доргобужским начинание, губит этот толстый старый пень на корню задуманное дело.
Ругнув про себя Ольговича, понял Ярослав: поход на Киев придётся отложить.
Тем временем Нажир Переяславич, принимая молчание Осмомысла и его бояр за слабость, весь надувшийся от самодовольства, стойно гусак, вопросил князя галицкого и Мачешича:
— За что хотите вы ратью на Киев идти? Что худого сотворил вам князь Изяслав?
Ярослав с ответом не замедлил.
— Передай князю своему, что ежели не будет он крамольнику Ивану, двухродиику моему, ни явно, ни тайно помогать, то повода к войне я не вижу. И никогда её не начну. Пока же по-иному дело идёт.
Поклонился Нажир ему до земли, покинул горницу. Следом за ним один за другим вышли бояре. Скрылся в дверях и Мачешич. Долго сидел в одиночестве на стольце Ярослав, думал невесёлую думу. Не верил он в мирные намерения Давидовича. Сказал он послу правду, не слукавил ни единым словом. Понимал: разгорается новый виток усобицы княжеской. И виной тому — добрый и глупый старик Ольгович.
А Мачешич в тот же день исчез из Галича, как будто и не было его здесь вовсе. Верно, к кому другому сунется теперь, разжигая и без того пылающие межкняжеские распри.
...Шумел, журчал Днестр на перекатах, и так же летело, шло вперёд время. Стоял Ярослав на забороле городской стены, глядел вдаль. Идёт жизнь, минуют месяцы, годы, а мира и покоя нет. И что делать, как изменить это положение вещей, он не знал.
...Поздней осенью из Киева пришло новое грозное известие. Изяслав Давидович готовится идти войной на Галич. Мыслит он посадить на стол Червонной Руси беглого Ивана Берладника.
Ярослав тотчас послал гонца во Владимир к Мстиславу, а сам помчался в Теребовлю собирать полки. Снова наступала для него пора тревожного ожидания.
ГЛАВА 66
Собирались бояре тайно, в загородном имении Млавы, обнесённом тыном из дубовых кольев. Широко раскинулся на косогоре над узенькой речкой просторный, словно орёл, разбросавший в стороны крылья, дворец, некогда подаренный князем Владимиркой своей полюбовнице. В последние лета Млава бывала здесь редко, пустел дом, высился молчаливой громадой над окрестностями как напоминание о прежних весёлых временах. Но притулилась скромно у ограды небольшая избёнка, светленькая, со слюдяными окнами, украшенная затейливой резьбой. Избёнку эту хорошо знал молодой боярин Коснятин Серославич. К ней-то и пробирались тихонько дождливым осенним вечерком недовольные нынешним галицким князем бояре. Набралось их в душной горенке с чадящей печкой восемь человек.
Коснятин с изумлением заметил рядом с Млавой, восседавшей во главе широкого букового стола, мужа её, боярина Ляха. Постарел, поседел бывший любимец Владимирков, лицо было изрыто морщинами, седая неухоженная борода торчала, как мочало. Рядом с ним сидел Иван Домажирич, тоже, видно, тайно приехавший в Галич. Остальные были владетели больших и не очень вотчин, по разным причинам недовольные Ярославом.
Коснятин пристальным взглядом окинул всех собравшихся. Не нравилась ему эта встреча и вся Млавина затея. Тем более что Млава изрекла, как только расселись они по скамьям, довольно неожиданно:
— Грамотка послана в Киев, ко князю Изяславу Давидовичу. Написали мы с боярином тако, — кивнула она в сторону Ивана Домажирича. — «Садись, господине, на конь! Иди на Галич. Токмо узрим под градом стяги твои, отопрём врата!»
— Не крутовато ли? — спросил, недовольно щурясь, один из бояр.
— И что будет, когда мы врата отопрём? — Коснятин исподлобья хмуро посмотрел на Млаву.
Разоделась вся, как на праздник! В кике высокой, в платье из голубой парчи! Золотыми колтами, серьгами, ожерельями, браслетами блистает! Прямь царица!
Млава всплеснула руками.
— Как что будет?! Погонит князь киевский прочь Ярославку с его семейством, посадит в Галиче Ивана Берладника. Ну, а при Иване мы своё возьмём! Вотчины все нам воротит, и будем мы, бояре, землёй Галицкой править!
«Мы, бояре! Ишь ты, подстилка Владимиркова! Возомнила ся чуть ли не княгиней!» — противно было Коснятину слушать эти слова. Равно как противно было сознавать, что вот он, сын воеводы Серослава, оказался падок на ласки этой разжиревшей вздорной жёнки. Вон у неё, и муж рядом! А он кто? Слово «полюбовник» резало и жгло слух. Хватит, хватит власти её над ним!
Он промолчал, ни слова больше не вымолвив до конца совета.
Говорили бояре о том, кому у каких ворот быть. После разошлись так же тайно. Каждому было поручено готовить людей.
Собрался уходить и Коснятин. Млава окликнула его, попросила задержаться. Сказала, когда остались они вдвоём:
— Что супруг мой тут, тем себя не заботь. Приехал, уедет. Нам с тобой он помехой не станет. Мыслю я так. Написала я Изяславу одно письмо, потом второе. Но не мало ли сего? Давай так поступим, Коснятин. Приходи ко мне заутре ввечеру. Ещё одну грамотку я сочиню для Изяслава. И поезжай-ка ты сам с нею в Киев. Уговори Давидовича поспешить.
Опять смолчал, лишь кивнул ей Коснятин. Стоял, раздумывал, сомневался. Млава проворковала ласковым голоском:
— А заутре не токмо делами мы с тобою займёмся.
Она подмигнула ему, рассмеялась.
Коснятин с трудом выдавил из себя:
— То добре, боярыня.
Выйдя со двора на улицу, он постоял немного, вдыхая холодный сырой воздух, потряс головой, приводя в порядок мысли. Понял одно: с Млавой ему не по пути. Давно уже это решил, а сегодня лишний раз убедился. И как ему теперь быть? Времени у него мало. Хотел исподволь, постепенно, а приходится спешить, идти на риск.
Решившись, наутро направил Коснятин стопы в княжеский терем, к Ольге.
...Изумлённо изогнув тонкие половецкие брови, слушала, сидя в мягком кресле, княгиня галицкая взволнованную речь боярина. Коснятина доселе она почти не знала. Так, иногда обменяется парой слов, как со всеми, но не более того.
Серославич говорил жарким шёпотом:
— Дозволь мне, верному слуге твоему, недобрую весть тебе молвить. Заговор, княгинюшка, назрел в Галиче. Собирались недовольные, послали в Киев к Изяславу. Зовут Берладника на стол. Немедля надобно крамолу сию пресечь!
— Почему верить тебе на слово я должна? — спросила Ольга. — И кто из бояр в сем заговоре? И ты откуда проведал о нём?
Вопросов этих ждал Коснятин и к ним подготовился. Отвечал уверенно, хотя сердце и заколотилось в груди учащённо.
— Самого меня на то свещание грамоткой позвали. Заговорщица первая — боярыня Млава. Ещё Иван Домажирич. Тайком он из Полоцка в город прибыл. Ещё муж Млавы, боярин Лях. Остальных не знаю, не могу сказать. Не видал боле никого. А верить мне — что ж, можешь и не верить. Но ты проверь.
— И как же проверю я?
— Нынче вечером собирается Млава у себя в доме загородном ещё грамотицу подмётную писать. Вот ты туда и приди. А лучше — вместе пойдём. Гридней возьми оружных. Я дорогу в тот дом знаю, проведу.
— Говоришь, дорогу знаешь? — усмехнулась Ольга. — Странно говоришь, боярин. Но я проверю. Всех вас проверю. И Млаву, и тебя, и прочих. Уговорились. Вечером проведёшь меня в вертеп ентот. А покуда ступай.
Поклонился Коснятин княгине до земли, коснувшись рукой дощатого пола, добавил напоследок:
— Ведай, княгинюшка, тебе и сыну твоему верен я.
Смутили сильно последние слова молодого боярина Ольгу.
Почему не упомянул он о Ярославе? Или знает что-то об их отношениях, чего не следовало бы?
Вызвала Ольга главу своей стражи, пожилого суздальского рубаку, велела следить за Коснятином и вечером доставить его во дворец.
С нетерпением дождалась она наступления сумерек. Долго стояла у окна, провожала садившееся на западе за холмами солнце. Как стемнело, стала одеваться. Облачилась в бобровую шубу, на голову повязала плат с узорочьем, обула сапожки с высокими каблуками, которые только начали входить в обиход у знатных женщин. Прошла, после недолгих раздумий, в оружейную палату. Пристально рассматривала при свете мерцающих лампад развешанные на стене ножи, сабли, кинжалы. Этот тяжёл, этот широк больно, этот кривой, верно, засапожник. На что он ей. Вон тот, острый и тонкий, стойно шило, подойдёт в самый раз.
Просунулся в оружейную гридень.
— Боярин Коснятин на дворе. Сожидаем тебя, — шёпотом сообщил он.
— Сей же час приду, — ответила Ольга.
Она сдёрнула кинжал со стены, вдела его в обитые сафьяном ножны, распахнув полы шубы, привесила оружие на пояс тёмного платья. Ещё раз подумав, всё ли учла, метнулась княгиня в темноту перехода. На ходу натянула на руки длинные, по локоть, чёрные кожаные перчатки. Такие иногда надевали воины, женщины носили их редко, но Ольга вот любила.
Коснятин стоял во дворе, выпуская в морозный воздух пар. Боярин заметно волновался, стискивал руки в кулаки. Гридни княгини окружили его по приказу госпожи.
— Ну, боярин, веди меня, — приказала княгиня. — И вы все со мной идите, — велела она гридням. — Охранять меня будете.
...В слюдяных окнах избёнки ярко горел свет.
«Похоже, не соврал Коснятин», — подумала Ольга. Она подозвала начальника стражи, тихо шепнула:
— Сама я в дом сей пойду. Вы здесь будьте. Тихо сидите. Ежели что услышите, шум какой, крики, тотчас врывайтесь в избу. И боярина Коснятина сторожите крепко.
Княгиня громко и настойчиво постучалась в дверь.
— Ну что ж ты так сильно. Слышу я, — раздался голос Млавы. Она быстро распахнула дверь. Ольга, толкнув её, стремглав влетела в горенку.
— Княгиня?! Ты?! — изумлённо попятилась к стене Млава.
— Да, я. И ведать хочу, чем ты тут втайне занимаешься?!
— Ну на что тебе знать?! Дружка вот милого сожидаю! — Млава, понимая, что, видимо, заговор их раскрыт, через силу рассмеялась.
— А это что? Послание любовное? — Ольга схватила лежащий на столе свиток дорогого пергамента, руками в перчатках стала разворачивать его, попыталась прочесть. Слово «Давидович» сразу бросилось в глаза. Она отшвырнула грамоту, презрительно скривила губу.
— Вот, стало быть, каковы полюбовники твои, подстилка грязная! — крикнула она. — Козни строишь, дрянь! С Давидовичем снюхалась!
Млава неожиданно выпалила:
— А ты кто такая, чтоб меня судить! Сына твоего я выкармливала грудью своею! Что, думать, не ведаю, что нагуляла ты его! Не Ярославкин то сын! Многие о том знают! Да молчат покудова! Верно, хощешь его на столе галицком зреть! Спишь и видишь, греховодница!
Слов таких стерпеть Ольга не смогла. Набросилась она на Млаву, влепила ей оплеуху, стала бить по лиду, по шее, ударяла в грудь. Млава сопротивлялась, пыталась навалиться на княгиню всем грузным своим телом, оторвала «с мясом» застёжку на шубе. Но разъярённая Ольга била сильнее, отталкивала её от себя. Обе женщины тяжело, хрипло дышали. И тут вспомнила Ольга про кинжал. Распахнула она шубу, вырвала сверкнувший в свете хороса стальной клинок из ножен.
— Ты чего?! — успела вскрикнуть Млава.
Одной рукой Ольга дёрнула боярыню за левую грудь, приподнимая её вверх, другой же что было силы вонзила ей кинжал меж рёбер.
Легко вошёл остро отточенный клинок в женское тело. Охнув, рухнула Млава на лавку, скатилась на пол.
Ольга стояла над ней, смотрела. Ужаса она не испытывала, было лишь какое-то хищное удовлетворение.
«Ну вот, одной вражиной меньше стало!» — подумала она.
Нагнувшись, княгиня медленно и осторожно вытащила кинжал из груди убитой. Всюду на полу, на лавке была кровь. Ольга брезгливо отшвырнула кинжал в угол, осмотрелась. На перчатках крови не было, разве на сапогах застыло несколько капель.
«Шубу попортила, дрянь!» — со злостью подумала Ольга, поднимая с пола застёжку.
В горенку, привлечённые шумом, вбежали ратники. Ольга крикнула, чтобы все, кроме старшего, вышли.
— Боярина Коснятина сюда! — приказала она громко.
Серославич отшатнулся, увидев мёртвую Млаву. Впрочем, для него так было лучше. Никто из бояр теперь не узнает о его перевете. И он, по сути, кроме Млавы, Ляха да Домажирича никого не выдал. Остальные заговорщики ещё пригодятся ему когда-нибудь в будущем.
И всё-таки было Коснятину не по себе. С Млавой провёл он не одну ночь. Вспомнились вмиг её ласки, её дышащее грехом и наслаждением похотливое тело. И вот это тело лежит здесь бездыханное. Княгиня, по всему видно, жёнка умная и опасная. Ловко она её... кинжалом точно в сердце.
— Добрый удар! — цокая языком, скупо похвалил Ольгу начальник стражи.
Коснятин, увидев на столе пергамент, незаметно за спиной у Ольги спрятал его за пазуху. Так будет ему спокойней. Вдруг в этой грамоте и его имя промелькнёт невзначай.
Ольга, видно, о грамотке забыла. Стояла она посреди горенки, дышала тяжело, нервно кривила пунцовые губы, тупо осматривала свою одежду.
«Что, не просто убивцей стать?» — уста Коснятина тронула злорадная ухмылка.
— Что делать с трупом? — спросил суздалец.
Ольга встрепенулась, насупила брови, задумалась. Велела, наконец:
— Выбросите её в Лукву! Да так, чтоб никто не сведал. И языки за зубами держите! И ты, боярин, молчи! Иначе...
Обтянутый перчаткой кулак оказался перед лицом Коснятина. Зловеще блестела в свете хороса чёрная кожа.
Коснятин положил крест, пробормотал хрипло:
— Никому не скажу! Наша с тобой сия тайна.
— Нет ли кого в доме? — забеспокоилась вдруг Ольга. — Зови гридней. Пусть весь дом обшарят. Кого найдут — взять в мечи. И быстро чтоб, до рассвета управились.
В избе не нашли никого, а в хоромах на сенях обнаружили холопку, которая, очевидно, сопровождала Млаву в поездке за город. Один из суздальских гридней хладнокровно вонзил меч ей в грудь.
...Начальник княгининой стражи подобрал брошенный Ольгой кинжал, тщательно вытер кровь и после повесил его вместе с ножнами в оружейной, на прежнем месте.
Тело Млавы выловили рыбаки возле самого устья Луквы спустя несколько дней. Сведав о гибели жены, Лях снова ударился в бега. С ним вместе исчезли из Галича и трое малолетних Млавиных отпрысков. А вот Ивану Домажиричу скрыться не удалось. По приказу княгини бросили его гнить в сырое подземелье. В Теребовлю, где в те дни находился Ярослав, Ольга направила одного из своих гридней, велев передать, что раскрыла в Галиче боярский заговор.
ГЛАВА 67
Старый Творимир ползал перед Семьюнком на коленях, дрожал от страха, то лепетал жалобно, молил о пощаде, то взрывался истошным криком.
— Бес попутал меня, отроче! Думал, Иван — человек! Князь! А он — холопище дрянное! Разбойников ентих привёл нам на голову! Я его, Семён Изденьевич, вот те крест, словить хотел, да не успел! Сбежал от меня Иван, сиганул с Понизья, яко заяц! Весь город обшарил, не сыскал его нигде! Сбёг в ночь, видно, неладное почуял! И дружок еговый, Нечай-сотник, такожде сбёг... Ранее ещё. Холопов посыла! расправиться с ним, дак не вышло. Искусен в деле воинском, ворог! Побил холопов моих... Неповинен аз! Прости!.. Я князю Ярославу верно службу нести буду!
Извивался кучельминский посадник у ног Семьюнки, словно змея, едва не вытер седой бородой пыльные постолы[242] княжьего отрока. Противно было смотреть на его кривляния, слушать его вопли и жалобные стоны.
— Встань ты! — не выдержав, прикрикнул Семьюнко. — Ведаем, как ты князю Ярославу служишь! Ворота Кучельмина настежь ворогу отворил!
— Бес попутал меня! — бил себя в грудь Творимир.
Семьюнко не выдержал, кликнул двоих дружинников, стоявших за дверями горницы.
— Рагуил! Ольша! Взять боярина сего! В поруб его! На хлеб и воду! После порешу, как с ним быти!
Творимир неожиданно успокоился.
— Погоди! — сказал, жестом останавливая суровых воинов. — У меня... У меня ведь и серебришко водится, и посуда многоценная, и чаши злащенные с самоцветами имеются! Сколько вам всем надобно, всё дам! Потом... — Он лукаво подмигнул Семьюнке. — Дщерь у меня есть. Еже что, пришлю её к тебе. Красовитая девка, и в утехах сладких умелая!
— До чего ж дошёл ты, боярин! — с сокрушением потряс копной рыжих волос Семьюнко. — Дочерью родной торгуешь! В блудницу, в бабу дорожную её превратил! Она у тебя с Берладником переспала, а теперь, выходит, мне её сунуть хочешь. А завтра, скажем, угры придут, так ты им её подложишь? Да, Творимир, не ведал я, что сволочь ты этакая! А богатство твоё мы и так возьмём. Верно ведь, други?!
— Знамо, тако, — пробасил рослый чернобородый Рагуйло.
— Да как же... Как же се! — Творимир затрясся от возмущения. — Да как вы... Я всю жизнь копил... Я — боярин! — выкрикнул он, чуя, что никакие уговоры не действуют и следует ему ожидать самого худшего. — Как ты, отрок простой, голь перекатная, меня судить можешь!
Откуда и взялось у посадника столько спеси! Вроде только что ползал по полу, молил о пощаде, а теперь говорит о своих правах и смотрит на Семьюнку с презрением, как тысячу лет назад родовитый римский патриций взирал на плебея.
— Вот что, други! — В зелёных глазах Семьюнки зажглась, заискрилась тяжкая, лютая ненависть. — Повесить немедля вон на том дубу у окошка переветника сего! Хватит с ним возиться, хватит гадости его слушать нам!
Выволокли яростно сопротивляющегося Творимира дружинники во двор, подготовили крепкую пеньковую верёвку, укрепили её на толстом суку. И вот уже болтается переметчик в петле. Из окна на нижних сенях видел Иван его ноги, обутые в украшенные золотым узорочьем зелёные сафьяновые сапоги.
«Сапоги взять бы! Пригодятся! Может, мне бы подошли как раз, — со вздохом глянул Семьюнко на свои порядком истоптанные дорожные постолы. — Господи, да что я — берладник лихой! С мертвеца стану стаскивать! Как токмо и мысли такие в голову лезут! И без того всё именье его заберу!»
Ещё раз глянул Семьюнко на висящего в петле Творимира. Синим сделалось лицо боярина, язык вывалился изо рта, каким-то нелепым казалось его грузное вытянувшееся тело. Почему-то жаль стало Семьюнке этой погубленной жизни. Качнул он головой, подумав, что, собственно, того ведь и добивался, чтоб Творимира сгубить, а именье его присвоить без помех. Тем паче что князь был не против. И всё-таки жалость к убитому охватывала душу. Думалось уже: может, пощадить следовало этого несчастного старика?! Сидел бы он себе под замком, доживал бы век свой, гнил потихоньку. Потом, глядишь, выпустил бы его Ярослав, простил бы.
Что опять за мысли глупые!
Отбросил прочь Семьюнко жалость. Вышел во двор, велел ратникам готовить коней.
«Поеду, сёла Творимировы погляжу», — решил он.
...Змейкой петляла между длинными пологими увалами дорога. Вот и Сирет проблеснул впереди, узкий, быстрый, как почти все стекающие с Карпатских гор реки. Вот и село видно. Крыты соломой крыши мазанок, плетнями огорожены дворы. Подъехав ближе, понял Семьюнко, что село пусто. Ни петухи не кричали, ни собака из подворотни не лаяла, ни корова не мычала в стойле.
Спрыгнув с коня, обошёл он все дома, и только в одном обнаружил ветхого белобородого старца, который с превеликим трудом передвигался по дому при помощи длинной и толстой сучковатой палки.
— Ты, дед, один тут живёшь, что ли? — вопросил неприятно изумлённый раздосадованный отрок.
— Один, мил-человек.
— Где ж остальные-то?
— Ушли они, человече. Боярин наш залютовал вовсе. По семь шкур драть стал. Ни тебе закона, ни покона — отдавай гобино[243], и всё тут. То на барщину народ заберёт, то резы[244] велит брать неслыханные. Тиуны у его больно ретивые — чуть что, плёткой по спинам нас отхаживали. Ну, и сорвался народец. Ушли, с семьями вместях да со скотиною, в леса да в горы, подалее от кабалы боярской. Один я тут остался. Стар, невмочь[245] мне.
...В другом селе история повторилась, третье вовсе лежало в руинах. Всюду виднелись следы недавнего пожара. Семьюнко кусал в негодовании губы. Ох, и дрянь же, оказывается, сей Творимир! Ну и душегуб! Ну и мздоимец! Не зря, выходит, велел он его повесить на суку. Вот что делают, когда далёк княжеский суд! Обнаглели совсем бояре!
«Мне бы столько земли! Я б тут и урожаи добрые собирал, и людей бы щадил. Когда надо, подтянул бы узду, где надо, ослабил. А эти... Им бы одно: хапать, да поболее! В грядущее не глядят вовсе!» — рассуждал, едва скрывая злость, отрок.
Он, Семьюнко, любил серебро, был охоч до богатства, но он прекрасно понимал, что одними ударами плёток его не добыть.
В одном из сёл, самом обширном, слава Христу, нашлось немало жителей. Среди них сыскались и староста волостной, и священник с дьяконом при утлой деревянной церковенке.
Собрав всех мужиков, Семьюнко объявил:
— Нет более на свете боярина вашего Творимира! Казнён он за перевет! За все слёзы ваши получил награду лиходей! Я теперь — ваш господин. Так вот: в нынешнее лето ничего с вас брать не стану. Вижу: вельми поборами вы замучены. Не изувер аз есмь. Но в следующее лето дадите, сколько чего положено. Приду, соберу. Резы брать буду не как прежний боярин, а по Уставу Мономахову. Обо всём этом скажите тем, которые в лесах да в Горбах укрываются. Передайте, чтоб возвращались в свои сёла. Никто их за уход корить не будет.
Уезжал сын Изденя в Галич со спокойным сердцем. Имел надежду, что жизнь в сиретских сёлах со временем возродится и наладится. Опасался одного: набегов лихих берладников.
...Одинокий всадник в плаще тонкого сукна, надетого поверх булатной кольчуги, в шапке с опушкой меха куницы поздним вечером выехал верхом на резвом гнедом скакуне из крепостных ворот Кучельмина. Никто из встречных не признал в мужском одеянии дочь повешенного посадника Творимира. Безжалостно обрезаны были золотистые косы, сокрыта под булатом доспеха округлая грудь, высокие сапоги с боднями ударяли по бокам скачущего галопом наперегонки с буйным ветром коня. Пройдёт лето — другое, и загремит по селениям Поднестровья и Подунавья имя бесстрашной девицы — ватаманши Марьи — разбойницы. Одно имя её будет наводить ужас на угорских, болгарских, славянских землепашцев. О недобрых деяниях её станут слагать легенды. Даже в половецких становищах с опаской вспомнят иной раз её главы орд и родов. Разнесётся, как ковыль по степи, злая слава безжалостной грабительницы и губительницы, во главе отряда берладников чинящей разор в Причерноморских пределах. А дальше... О том наш рассказ впереди.
ГЛАВА 68
По размытой осенними дождями дороге, весь вымокший, усталый и злой ворвался Ярослав в Киевские ворота Галича. Первым делом, бросив на руки холопу грязное корзно, заглянул он в собор Успения. Поднялся на хоры, встал на колени, помолился, поставил свечку святому Николаю Угоднику в благодарность за то, что оберёг его в пути от бед и напастей. Посреди иконных ликов и серебряных окладов, мерцающих свечей и аромата ладана ожесточение схлынуло, ушло, усталость осталась.
Не заезжая домой, сразу вместе с отрядом гридней князь поспешил к порубу. По скользкой сырой лестнице спустился он в тёмную земляную яму. Двое стражей с факелами шли впереди, освещали путь. Заскрипела тяжёлая обитая железом дверь.
В каморе стояло зловоние. Иван Домажирич в одной нижней сорочке сидел на соломе в полосе косо падающего из прорубленного высоко над головой крохотного оконца света. Тело его била мелкая дрожь. Ярослав даже услыхал, как стучат зубы узника. Чёрная борода боярина спуталась, торчала в стороны, в густых вьющихся тронутых сединой волосах шевелились вши, он тяжело, с присвистом дышал и при виде князя даже не поднял головы, не выказал удивления. С неким ленивым равнодушием небрежно глянул он в его сторону.
В смежной с каморой пыточной топилась печь. Возле деревянной дыбы возился смуглый великан кат[246] с засученными по локоть рукавами рубахи. Заметив Ярослава, заплечных дел мастер отвесил ему глубокий почтительный поклон.
— Пытки покуда прекратить! — приказал Осмомысл. — Домажирича доставить ко мне в терем. Тотчас же, целым и невредимым! Если что-нибудь с ним случится, головой ответите! Уразумели? — Он воззрился на стражей с факелами.
— Как велишь, светлый княже, — вздохнул кат.
Накануне вечером приходил к нему в жилище, затерянное в одном из кварталов Подола, боярин Коснятин Серославич. Сунул в руки увесистый мешочек с серебром, сказал так:
— Содей, чтоб до утра Иван не дожил.
Кабы не княжье вмешательство, исполнил бы кат тайное се порученье, отработал бы серебро боярское, как надо. Теперь же, видно, придётся серебро воротить Коснятину — ценил заплечных дел мастер свой труд и за невыполненный заказ деньги брать не хотел.
...В теремной башне, в тепле перестал Домажирич дрожать. Выпил горячего сбитня, окинул сидевшего напротив Осмомысла усталым измученным взглядом. Словно говорил: всё одно мне. Что хотите, то со мной и делайте теперь.
Ярослав, презрительно прищурившись, спросил:
— Что, тяжко? Нелегка доля крамольничья? Так ли, Иван?
Сын Домажира угрюмо кивнул.
— И что ж я тебе такого худого сделал, что ты с Ляхом и с отцом своим Святополка Мстиславича умыслил на моё место посадить? Меня же стрелой едва не угостили тогда под Теребовлей. Что, много власти я взял? А вы хотели за князя править, а его, как болванчика на верёвочке, держать? Не выйдет по-вашему!
Крамольник молчал. Не поминал ни про Шумск, посадничества в котором князь его лишил, ни про Молибога, старого врага, коего Ярослав приветил и отдал ему часть его, Ивановых, волостей. Не было сил, было лишь тупое безнадёжное ожидание скорой смерти.
Князь это понял. Сказал неожиданно:
— Я могу тебя освободить, Иван. Ведаю про всё то зло, которое ты мне причинил. Но отпущу, если назовёшь тех, кто вместе с тобой готовил в Галиче заговор и сносился с Давидовичем.
— Я их выдам, а ты велишь меня обратно в поруб швырнуть. Ведаю лукавства ваши! — Домажирич зло ухмыльнулся.
— Что, на кресте поклясться? Слову княжескому, стало быть, не веришь?
— Твой отец тоже королю Гезе клялся. Крест святой целовал. А как содеял? И сколько таких клятв он порушил?!
— Отца моего не трожь. Сам помнишь, как он умер. Божье наказанье принял за порушенье крестного целования. Так скажешь, выдашь сотоварищей своих?
— Да, выдам, — снова тронула сухие уста сына Домажира усмешка. — Что ж мне, одному за всех страдать? Восемь нас было. Собрались у Млавы в доме, за городом. Сама Млава с мужем своим, Ляхом, Вышата, Василий Волк с братом, Гремислав Ратшич, Коснятин Серославич да я, грешный.
— Восемь? Не маловато ли? Может, ещё кого припомнишь?
— Нет, княже. Более никого не было. Уговорились врата отпереть, когда Давидович с киянами к Галичу подступит. Не вышла затея. Выдал нас кто-то.
Опальный боярин горестно вздохнул.
— Да, волче, выдал тебя один из вас, — ответил ему Ярослав. — Потому как все вы свои имеете намерения дальние. Хитры, лукавы, и живёте так: вроде все вместе, но в то же время каждый сам за себя, свою выгоду ищет. Те, которые поумней, за князя держатся, милости от него получить надеются, а иные, коих захлёстывает честолюбие паче всякой меры, сами собою князя подменить хотят. Таков, к примеру, батюшка твой покойный был. Ну да ладно. Довольно нам здесь с тобою толковню вести. Свободен отныне ты. Одно условие: в Галиче чтоб ноги твоей более не было. Уезжай обратно в Полоцк или куда хочешь. Коней тебе добрых дам.
Князь вызвал гридней, отдал короткие распоряжения. А едва лишь Домажирич покинул княжеские хоромы, велел звать он в палату к себе княгиню и боярина Коснятина Серославича.
Ольга, как только показалась в дверях, набросилась на него с упрёками:
— Почто ворога отпустил?! Сгноил бы его в порубе! Сколько он топерича бед нам принесёт новых!
Ярослав отмахнулся от неё, грубо отмолвил:
— Не твоего ума дело!
Этими словами он только сильнее распалил её гнев. Уперев руки в бока, стояла Ольга над ним, возвышалась, крупная, большая, стойно медведица, неистовствовала, заходилась в крике:
— Как заговор раскрыть, так жена! Как ворогов ловить, так опять она же! А ты в стороне! А как протцать ложно кающегося, так не моего ума дело! Совесть-то у тебя есть ли?!
Качались, вспыхивая искорками в свете хоросов, звёздчатые колты, прикреплённые к высокому головному убору княгини.
— Он сообщников своих выдал. За то и свободу получил, — спокойно возразил ей Ярослав.
— Каких сообщников ещё?
— Тех, о коих Коснятин смолчал. Ты сядь, чего стоишь. — Подождав, пока Ольга погрузит своё немалое облитое парчой тело на мягкий бархат скамьи по левую руку от него, Осмомысл заключил: — Вот и послушаем, что он нам теперь скажет.
...Коснятин, сведав, что Иван Домажирич отпущен, понял, что эту партию он князю, кажется, проиграл. Недооценил он умного Ярослава, его тонкого чутья. Явившись по зову Осмомысла, сидел на лавке, ёрзал беспокойно, говорил, стараясь держаться уверенней:
— Ни о Вышате, ни о других ничего не ведаю. Не было их у Млавы.
— Иван Домажирич иное тут молвил, — заметил Ярослав.
— Да можно ли ему верить, княже! — Коснятин всплеснул руками. — Ворог он! Зря ты его отпустил!
— Вот и я о том же молвила, — обиженно поджала уста Ольга.
— А на что ему Вышату и прочих оговаривать? — спросил Осмомысл.
— Видно, не ладил он с сими боярами, вот и оболгал их. Мне же скрывать от тебя, княже, нечего. Отец мой твоему отцу верно служил, а за тебя голову положил. И я теперь вослед ему служить тебе стараюсь. Думаю, бояре сии ни при чём. Домажирич, может, того и ждёт, чтоб ты бояр покарал и тем самым недовольство в Галиче посеял, рознь, смуту. А тамо и Берладник опять на Червонной Руси объявится.
Говорил Коснятин вроде правильно, убедительно, защищал Вышату с Гремиславом. Думалось Ярославу, что, в самом деле, какой смысл Серославичу их выгораживать. Он почти согласился с Коснятином. Почти... Всё же оставались сомнения. Коснятину он не верил до конца. Видел, чуял, что перед ним не простой горластый вятший, какими были Домажир, или Лях, или многие иные бояре, а человек более значительных дел и замыслов.
«Следить за ним надобно, — пронеслось в голове. — И за Вышатой с иными тоже».
Ничего не ответив сыну Серослава, перевёл князь разговор на другое.
— Тёмные дела в Галиче творятся. Не уразумею, кто и зачем убил боярыню Млаву.
Он заметил, как лицо Ольги покрылось красными пятнами. С трудом скрывала княгиня волнение. Не хотела она, чтоб узнал князь правду.
Коснятин внезапно рухнул перед Ярославом на колени.
— Виновен аз, княже! Мои гридни её порешили. Случайно вышло. Послал я людей своих в загородный дом её, велел споймать лиходейку. Ну, а на дворе её подручники оказались. Сошлись, стали сабельками помахивать. Ну, а она ж баба бойкая, вмешалась, стала орать. Ратный мой в толчее её и... Потом со страху в Лукву её и кинули.
Убедительно рассказывал боярин. Ни к одному слову его не мог Ярослав придраться. Серые же с голубинкой раскосые глаза Ольги смотрели на Коснятина с благодарностью. Выгородил её боярин, взял вину на себя, не позволил, чтоб прослыла княгиня галицкая убивцей. Зачем он так поступил — об этом Ольга не думала.
Ярослав приказал Коснятину встать с колен. Промолвил глухо:
— Что было, то и было. Не нам об этой злой бабе сокрушаться. Осторожней только пускай в другой раз твои люди будут, боярин. Нечего оружьем размахивать. Ступай теперь. Да, вот что. Забыл вовсе. Погоди-ка, Серославич. И ты, Ольгушка, послушай. Готовит на нас рать Давидович. С часу на час вестника жду из стольного. Мстислав Волынский упреждён. Так вот. Поручаю тебе, Коснятин, дружину вести Галицкую. Воевода ты добрый, не в одной переделке бывал. Со Мстиславом и братьями его выступите заедино на Киев, опередите хищника черниговского. Я же в Галиче пока останусь. Сам видишь, не мирно здесь. Боюсь новой крамолы боярской. Ну, всё вроде сказал, что хотел. Оставьте меня теперь.
...В переходе Ольга тихо шепнула Коснятину:
— Спаси тебя Бог, боярин. Не выдал, не сказал правды. Ведай: умеет дочь великого князя Юрия ценить преданность. Равно как и карать за измену.
Улыбка играла на пурпурных устах Ольги. А Коснятин вспоминал бездыханное тело заколотой Млавы. Жутковато стало ему после слов княгини. Приложив руку к сердцу, он поклонился ей и быстро простился.
...Вечером вызвал к себе Ярослав Семьюнку. Отрок только недавно вернулся из Кучельмина. Готовился он сыграть в скором времени свадьбу, но, слушая Осмомысла, понимал с горечью, что венчание придётся отложить.
— Ведаешь, Семьюнко, каков Давидович. Надоел он всем своим самохвальством да упрямством. Но, покуда союз княжой порушен из-за глупости Ольговича, грозит он нам из Киева. Опять Берладника к себе привёл, привечает его, спит и видит в Галиче на стол посадить. Иными словами, рать грядёт. Посылаю дружину Мстиславу Волынскому в помощь. Дружину ту Коснятин Серославич поведёт.
— Костька?! — удивился Семьюнко.
— Он самый. Воевода он знатный, да только... Не верю я ему до конца. Вижу, непрост Серославов сын, хитёр, умён. А, стало быть, опасен. Потому поедешь вместе с ним ты. Людей верных неприметно к нему приставь. Чтоб за каждым шагом его следили. С кем говорит, о чём. Ну, понимаешь ведь...
— Ясно дело. Прослежу. Мне-то он тож не шибко доверие внушает. Млаве покойной полюбовником он был, имею сведения. А потом, выходит, её же и выдал с потрохами. Прав ты, княже. Опасный он человек.
— Свадьбу твою отложим на время. Чует сердце, друже: должны мы с ворогами на сей раз управиться...
В декабре, как только установился твёрдый зимний путь, галицкая дружина выступила на соединение с волынянами. Дорога воинства лежала к стольному Киеву. Впереди была война, была кровь, были яростные сшибки.
ГЛАВА 69
Древний Белгород[247] — сторожевой город на правом берегу закованного в ледяной панцирь Ирпеня, прикрывал Киев с юго-западной стороны. Не один раз о его крепкие бревенчатые стены и городни, заполненные внутри сырцовым кирпичом, разбивались волны шедших из Польши и Венгрии, с Волыни и из Галича вражьих ратей. Огромные башни с зубчатыми верхами, над которыми гордо реял стяг с Михаилом-архангелом, крутой земляной вал на высоченном холме — поражал город своей мощью и неприступностью. При виде его Коснятин с Семьюнком хмуро переглянулись.
— Может, зря по сей дороге пошли? — осторожно выказал сомнения Серославич. — Встретили бы Давидовича возле Мунарева, загородили ему путь на Галич. Простоим тут топерича, под стенами.
Князь Мстислав, к которому, собственно, и обращался боярин, облачённый в дощатую панцирную броню, в золочёном шишаке с наносником, в алом плаще — корзно поверх лат, в ответ махнул рукой в кольчужной боевой рукавице:
— То ничего! И не такие твердыни брали. Подойдём, поглядим.
Третьи сутки прошли, как получили они известие о том, что Изяслав с дружиной выступил из Киева по южной дороге, сперва в Василёв на Стугне, а оттуда двинулся к Мунареву. Рать у Давидовича была невелика — старик Ольгович отказал-таки ему в помощи и, мало того, призывал мириться с опасным Осмомыслом. Но, как всегда, презрел спесивый и гневный Изяслав советы родичей. Видно, полагал, что он на Руси — главный хозяин, и крепко рассчитывал на своего племянника Святослава Владимировича, которого послал к хану Башкорду, и на половецкую помощь. Как докладывали Мстиславу с Коснятином сакмагоны, идут на подмогу киевскому князю также и торки с берендеями. Выслушав все вести, Мстислав решил обойти противника с севера и выйти ему в тыл, подступить к самому Киеву. Так вот и оказались галицко-волынские рати под стенами Белгорода. Отсюда до стольного оставалось чуть менее двух десятков вёрст.
Звонко ударили в Белгороде колокола. Странным было то, что был это не тревожный зовущий к обороне набат, а праздничный весёлый трезвон.
Коснятин с Семьюнком снова переглянулись. На этот раз во взглядах их скользило недоумение. Красная Лисица первым догадался, в чём дело, и хитро улыбнулся, стряхивая пальцами с усов иней.
— Никак, открыть врата хотят, — тихо пробормотал он, пряча руки в долгие рукава кожуха.
— Может, ты и прав, — задумчиво промолвил Мстислав.
Хлестнув коня, он понёсся вперёд, к своим волынянам. Предстояло держать совет, как быть дальше. К городским воротам помчал, вздымая снег, скорый бирич.
Догадка Семьюнки оказалась верной. Открылись настежь широкие провозные ворота, опустился через ров подъёмный мост на цепях. По нему с хлебом-солью выехали передние городские мужи во главе с посадником Прокопием. Давний сторонник Мономашичей, один из ближайших сподвижников покойного Мстиславова отца, сдал посадник Белгород галицко-Волынскому воинству без боя.
Теперь открывалась Мстиславу прямая дорога в стольный град. Но Давидович был где-то недалеко, и война, по сути, ещё только начиналась.
Рати разместились внутри и около крепостных стен. Семьюнко ночевал в гриднице, находящейся прямо внутри крепостной стены. Помещение было большое и тёплое, топилась по-чёрному печь, отчего было дымно. На полатях, а кто и прямо на полу, разместились ратники-галичане. Семьюнко расположился внизу. Подложил под себя кожух, устроился кое-как, вытянул ноги поближе к печи. В гридне стоял терпкий спёртый запах мужского пота. Не спалось, хотя и устал отрок после долгой скачки и мороза. Лежал с закрытыми глазами, слушал храп спящих ратников, а видел перед собой лукаво улыбающуюся Оксану. Колдунья она, что ли? Приворожила его к себе, не иначе. Вот так подумать, баба как баба. Ну, богата, так и что. Ну, красна собой. Но ведь и старше его, вон морщинки тонкие окрест глаз. Зато глаза какие?! Синие, как море. В детстве побывал Семьюнко с отцом и братом на Чермном море, в Херсонесе — греческой колонии в Тавриде. Отец правил какие-то купецкие дела, а их взял поглядеть на тёплый южный город. И вот как наяву видит Семьюнко море, бескрайние просторы под безоблачными небесами, и цвет воды такой же синий и яркий, как два Оксаниных озера.
Он долго ворочался, но всё же в конце концов забылся чутким беспокойным сном.
Утром ратник от Мстислава передал Семьюнке повеление быть у князя на совете.
Собрались в покоях посадника Прокопия, Мстислав нервно вышагивал из угла в угол, говорил резко, отрывисто:
— Давидович идёт от Василёва по дороге Киевской. С ним половцы — двадцать тысяч воинов. Такожде — берендеи с торками. Говорите, что мыслите? Как нам быть?
Поднялся дорогобужский князь Владимир Андреевич.
— Биться надо. Заступим им путь.
С ним заспорили. Старый знакомец Семьюнки, боярин Нестор Бориславич, так покуда и не вернувшийся в Киев из Владимира, посоветовал иное:
— Надо в Белгороде остаться. Поганые — они к осаде непривычны. А своих у Давидовича немного.
— А берендеи нетвёрды суть, — добавил вынырнувший откуда-то из дальних рядов невесть как тут очутившийся Дорогил. — Перекупить их можно.
При виде старого недруга по спине Семьюнки пробежали мурашки. Вспомнил он, как жёг ему Дорогил пятки в лагере под Перемышлем. Видно, заметил его тоже и узнал Мстиславов вуй. С неприятным изумлением уставился он на сидящего среди галичан Красную Лисицу. Скривилось от злости лицо Дорогила, показалось Семьюнке даже, что слышит он скрежет его зубов.
— Перекупить? — Мстислав остановился, круто повернулся на каблуках. — Ну а вы что скажете? — обратился он к галичанам.
За всех ответил Коснятин Серославич.
— Мы полагаем, прав боярин Нестор. Половцы хороши в чистом поле, в сшибке конной. На приступ города, столь добро укреплённого, средь них идти мало охотников сыщется. И о берендеях верно сказано. Сторону отца твоего всегда они держали.
— Твоё слово, брат, — выслушав галичан, обратился Мстислав к младшему брату, Ярославу Луцкому.
Луцкий князь, очень похожий лицом на старшего брата, только более тонкий в плечах и светловолосый, видно, ходил целиком в Мстиславовой воле. Только и ответил он:
— Я, как ты порешишь. Рядом с тобою завсегда буду.
— Что ж, — Мстислав опёрся руками о крытый цветастой скатертью стол. — Полагаю, выходить из Белгорода покуда нам неполезно. Подойдут вороги, ответим. С берендеями и торками порешим, как быти.
Опытный полководец, Мстислав принял разумные советы бояр и воевод. Понимал он, что воинское счастье зыбко и переменчиво, тем паче когда русские люди воюют с такими же русскими. Позже он вызвал к себе на беседу Нестора Бориславича и наказал ему выехать тайно в Киев. Крепко рассчитывал волынский князь на то, что откачнёт от Давидовича киевское боярство.
...Отряд степняков выскочил из ближайшего леса, вихрем пролетел по заснеженному полю перед городом, обрушил ливень стрел на заборол. Семьюнко едва успел пригнуться и укрыться за зубцом. Рядом с глухим стоном, широко раскинув руки, упал вниз со стены молодой белгородский ратник. Калёная стрела поразила его в грудь, насквозь пробив кольчугу. В другие места стены, видно было, тоже стреляли. Были первые убитые и раненые. Затем всё стихло. Семьюнко выглянул из-за зубца. Внизу, под холмом собирались рати. Вот реют в воздухе бунчуки Башкордовых половцев, вон берендеи разбили стан на берегу Ирпеня, а вон знамёна Изяслава видны, вон вдали, у леса раскинули его дружинники шатры и вежи. Вскоре запела в лагере осаждавших труба, зашевелились они, пошли на штурм. Появились приставные лестницы, пороки, камнемёты. И снова запели стрелы.
Защитники крепости лили сверху на врагов пахучий смоляной вар[248], который готовили во дворе крепости в огромных чанах, разливали в вёдра и подавали на стену. Длинными баграми они отталкивали вниз лестницы, которые вместе с нападавшими падали в ров и на земляной вал, ломаясь, убивая и калеча находящихся внизу воинов. Плотной стеной, со щитами в руках, все в булатных доспехах, стояли на забороле плечом к плечу галичане и владимирцы, лучане и белгородцы.
Первый натиск был отражён. Рассыпались вокруг крепости Изяславовы ратники, крепко обложили Белгород со всех сторон, стали жечь на равнине перед крепостью костры.
Ночь Семьюнко провёл в дозоре. Смотрел, как проезжают за валом сторожа из берендеев, слышал, как степняки что-то громко кричат, переругиваются па своём языке.
«Ведь ненавидят они друг дружку, берендеи и половцы. А идут вместе на нас. Расколоть бы их, одних на свою сторону привлечь, чтоб вторых же и побили», — размышлял Семьюнко.
Под утро он едва не задремал. Кто-то сзади вдруг резко ударил его в плечо. В свете факела увидел перед собой отрок Дорогила.
— Вот ты где, Лисица Красная?! В дозоре, стало быть, стоишь! — прохрипел Мстиславов вуй.
— Ну, стою. Тебе-то что? Чай, не ворогами мы друг другу сюда пришли.
— Не ворогами... покуда тако, — нехотя согласился Дорогил. — Вот что. Мне чрез стену перебраться надоть. Князь посылает к берендеям. Помнишь, на совете баили. До рассвета нать туда-сюда слазить. Подмогни. Вот верёвка, обвяжем её окрест зубца, я и спущусь по ней. Вон, поглянь. Внизу, под нами огни горят. То князья берендейские. Сожидают уже от князя Мстислава вестника.
Вроде убедительно говорил Дорогил. Семьюнко подозвал нескольких дозорных галичан, вместе они помогли Дорогилу привязать к зубцу стены толстую и длинную верёвку, по которой опытный сакмагон быстро и ловко спустился вниз. Семьюнко видел, как он осторожно прополз вдоль земляного вала и скрылся в темноте.
Прошло, может, час или два, и Дорогил опять объявился на забороле. Он тяжело дышал, попросил воды, с трудом удержал в дрожащих дланях оловянную кружку.
— Ну, кажись, стронулось дело. Коли тако пойдёт, скакнёт Давидович с Киева зайцем!
Дорогил злобно осклабился и по крутой лестнице поспешил во двор крепости.
...Переговоры с берендеями шли без малого две седмицы. И всё это время длилась осада Белгорода. Протекала она довольно вяло, заметно было, что осаждающие не горят особо желанием идти на штурм и класть головы за упрямство Давидовича. Торки и берендеи — те совершали стремительные наезды, подбирались к стенам чаще других, выпускали в воздух по стреле и тотчас мчались обратно, с гиканьем понукая низкорослых мохноногих коней.
Дружина Изяслава, основную массу которой составляли черниговцы, в одиночку не решалась на какие-либо действия. Князь нередко появлялся вдали от стен в алом корзне, высоком шишаке с наносником и золочёных доспехах, объезжал лагерь, подолгу пребывал в вежах у половцев и берендеев. Почти всегда сопровождали его племянник, Святослав Владимирович Вщижский, высокий худощавый юноша, и Мачешич, тот самый, что давеча сидел у Ярослава в хоромах и собирался вместе с галичанами идти на Киев. Видя, что Осмомысл и Мстислав Волынский не спешат наделить его волостями, быстро переметнулся он на сторону Давидовича. Изяслав и его союзники уговаривали степняков идти на приступ, обещали богатую добычу, но ничего не менялось. Редкие перестрелки, перебранки, взаимные угрозы — и ничего больше. Меж тем в стане берендеев кипела тайная бойкая жизнь.
Во время одного из своих налётов на крепость схватили берендеи одного Мстиславова ближника, некоего Козьму Сновидовича. Привели его в стан к себе вместе с челядином на арканах. И той же ночью челядин Козьмы послан был назад в крепость с наказом передать князю Мстиславу такие слова: «В нас есть много худа и добра. Но если дашь ты каждому из нас троих по городку в держание, перейдём мы на твою сторону. Ибо и отцу, и деду, и прадеду твоему мы служили, а Давидовичу служить не хотим. Он — половцам друг. А друг нашего врага — наш враг!»
Трое берендейских князей — Тудор Сатмозович, Караско Миязович и Кораско Книн — готовы были предать Изяслава. Мстислав послал к ним служивого торчина Ольбира, дав клятву, что городки берендейские князьки из его рук получат. Так втайне от Давидовича и половцев заключён был направленный против них договор.
Семьюнко обо всех этих пересылках ничего не знал, хотя и догадывался кое о чём после слов Дорогила.
Нудная вялотекущая осада надоела, в городе было достаточно запасов — хоть год сиди. Дни сменялись ночами, дозоры — отдыхом в пропахшей потом гридне. Тосковал Семьюнко о Галиче, хотелось поскорее вернуться домой и увидеть снова Оксану. Она снилась ему ночами, лукаво улыбалась, подсмеивалась над ним, щурила живые синие глаза с долгими бархатистыми ресницами. Послать бы ко всем чертям этого неугомонного Давидовича с его войной! Пусть бы убирался подобру-поздорову куда подалее!
Однажды ночью разбудили Семьюнку шум и крики. Натянув на плечи кожух, выскочил он на заборол. Внизу ярко пылали подожжённые кибитки берендеев и торков.
Тёмная масса всадников прихлынула к городским воротам. С тяжёлым скрипом опустился через ров мост. По нему вынеслась из крепости Мстиславова дружина.
Торки и берендеи кричали:
— Кто хочет к Белгороду, тот иди с нами!
В суматохе трудно было разобрать, что творится. Все куда-то спешили, бежали, скакали. Рядом с Семьюнком оказался Коснятин Серославич.
— Живей, отрок! — прикрикнул он. — Кольчугу, шелом — и к воротам! Даст Бог, отгоним ворогов!
И вот уже, припав к шее быстроногого мышастого жеребца, мчится Семьюнко в заснеженную сумеречную даль. Вот налетает на него половец в юшмане, в аварском лубяном шеломе. Скрещиваются сабли, скрежещет оружие, сыпятся искры. Отбивает Семьюнко удар половчина, отталкивает его в сторону, размахнувшись, рубит сплеча, несётся дальше, а вокруг него растекается по равнине победный клич галичан и волынян и гортанные вопли берендеев.
Гнали Изяслава долго, уже рассвет забрезжил, а всё мчались ратные, мчались и рубили наотмашь саблями попадавших под руку черниговцев и воинов Башкорда. Так достигли они Днепра. Бросились отступающие половцы на лёд речной. Да оказался он некрепок, пошёл весь трещинами. Тёплой выдалась нынешняя зима, хоть и ветреной.
Видел Семьюнко, как с душераздирающими криками, перемешанными с отчаянным конским ржанием, проваливались вражеские воины в тёмные трещины, в расширяющееся бурлящее водное пространство.
Коснятин велел галичанам остановиться на крутом берегу Днепра. Стрельцы обрушили на уходящих врагов тучи стрел. Стрелу утопающие принимали как избавление — спасения в водах днепровских не было. Немногим удалось выбраться и скрыться в плавнях на Левобережье.
Семьюнко сидел на коне возле Коснятина, когда подъехал к ним на взмыленном скакуне в окружении гридней князь Мстислав.
— Давидович к Вышгороду ушёл! Киев бросил! — хрипло прокричал он. — Ушёл со своими ближниками, с Берладником, со Шварном! И Мачешич с ним удрал! Не пустили бояре Изяслава в стольный! Нестор добро с ними потолковал! Молодец он! Ступаем топерича к Киеву! Наш он отныне!
...В стольный град они вступили около полудня 22 декабря. Слабо светило неяркое зимнее солнышко, плыли по небу бледносерые тучи. Шли плотными рядами, конные и пешие, через Золотые ворота, дивились розовой красоте Софии, куполам Михайловского Златоверхого собора, нарядности Десятинной церкви, узорочью боярских теремов. Всё в этом городе дышало стариной, величаво раскинулся он над Днепром, огромный, многолюдный, притягивающий к себе. И толпы посадских были повсюду, облепляли по бокам дорогу, стоял шум, гуд, от него звенело в ушах. Раздавались слова похвалы и приветствий. А Семьюнко вспоминал, как такие же толпы всего полтора года назад врывались в боярские и княжеские дома, убивали, разоряли, жгли, и те же лица исходили злобой, те же голоса изрыгали хулу. Делалось страшно, стихия толпы, вовлекающая в себя всё новых и новых людей, казалось, готова была смести всё на пути своём, как в гневе, так и в радости. Ещё на намять отроку пришла купецкая дочь, та самая Параска, его неудавшаяся невеста. Лежит под деревянным крестом, и так и не вкусил он ни ласк её, ни любви. Смахнул Семьюнко со щеки одинокую непрошенную слезу. Слава Христу, на сей раз, кажется, всё обошлось. Живой и здоровый воротится он в Галич.
...В тереме княжом, таком же огромном, как и весь город, царила суматоха. Галичане и волыняне уже хозяйничали здесь вовсю. Хватали добро, валили на сенях дворовых девок, задирая им подолы, выводили из конюшни добрых коней.
Коснятин с Семьюнкой поднялись на верхнее жило. Заплутав в круговерти нескончаемых переходов и лесенок, оказались они внезапно в бабинце, в какой-то большой зале со слюдяными окнами и фресковой росписью на стенах.
Моложавая очень красивая женщина в платье зелёной парчи и коротком богато отделанном мехом кожухе стояла посреди палаты. Головной убор её — парчовая шапочка с собольей опушкой, сверкал драгоценными каменьями.
«Вот бы Оксане такую привезти!» — Семьюнко едва не облизнулся от вожделения.
— Кто вы еси?! Почто ко княгине великой в покои врываетесь?! — грозно вопросила жёнка, зло сверкнув чёрными, как перезрелые сливы, очами.
Семьюнко понял, что перед ними княгиня Марфа.
Коснятин в ответ нагло ухмыльнулся.
— Была великой, да ныне невелика, — заметил он ехидно.
— Как смеешь так разговаривать! Холопище еси! — Княгиня гордо вскинула голову и смерила их обоих полным презрения взглядом. Слегка приплюснутый половецкий носик её брезгливо наморщился.
— Вот сейчас возьмём тебя в аманаты[249]. Так в вашей степи заложников зовут, — объявил Серославич. — Будешь ведать, как с воеводой галицким баить надлежит. Пошлём к Давидовичу грамоту, обменяем тебя на Ивана Берладника.
Он неожиданно злобно расхохотался. За спиной Семьюнки одобрительно зашумели вошедшие за ними следом в залу галицкие гридни. Семьюнко видел, как лицо Марфы передёрнулось от негодования.
— Нет, волне, не будет так! — отмолвила она решительно.
Из длинного рукава платья достала княгиня маленький кинжальчик с драгоценной рукоятью.
— Себя заколю, а не дамся вам! Не позволю, чтоб из-за моей нерасторопности князь Изяслав пострадал. Руки на себя наложу, но не будет николи по-вашему!
Коснятин сделал шаг вперёд. Марфа распахнула кожух, приставила лезвие кинжала к своей груди.
Серославич, грязно ругнувшись, круто остановился.
— Рука у меня не дрогнет! — предупредила Марфа. — Во степи вскормлена я! Не забывай о том, волк боярский. И князю своему передай: не будет никоего обмена!
Семьюнко решил вмешаться.
— Ты оружье спрячь, светлая княгиня. Уколешься ненароком.
— Ратников своих отсюда убери, — повелительным тоном потребовала у Коснятина Марфа. — Тогда токмо говорить с вами обоими стану.
Как только гридни вышли за дверь, велела Марфа Коснятину и Семьюнке сесть за стол.
— Ты, выходит, воевода галицкой рати. А тебя, верно, Лисицей Красной кличут? — обратилась княгиня с насмешкой к Семьюнке.
«Господи, и здесь меня ославили! Ну, Дорогил, ну, ворог!» — С отчаянием подумал рыжий отрок.
— Прозвали тако люди лихие! — пробурчал он недовольно.
— Что делать со мною будете, вам решать, — сказала властно Марфа. — В поруб, дак в поруб. В полон, дак в полон берите. Но обмена не потерплю я. А коли силой... Коли до такой наглости кто из вас али людей ваших дойдёт, того кинжалом угощу и сама зарежусь! Уменья хватит! Стыд будет всей Галичине тогда!
— Ты нас не стыди! — рявкнул на неё Коснятин. — В полон? Да, в полон пойдёшь!
— Погоди! — оборвал Серославича Семьюнко.
Он сам не знал, не понимал до конца, зачем хочет это сказать и сделать. Некое подспудное чувство подсказывало ему, что только так и надо сейчас поступить.
— Негоже тако, Коснятин, деять. Князь наш тебя не похвалит. Отпустить следует княгиню с честью. Дать ей возок добрый и сопроводить иод охраной до Переяславля. Поезжай, княгиня, к зятю своему Глебу. Князь Ярослав шурина своего уважает и зла ни ему, ни родне его причинить не мыслит. Не звери ж мы суть.
— А выкуп какой возьмём тогда? — спросил, хитровато щурясь, Коснятин.
Он начинал понимать, что, в сущности, Семьюнко прав. Не дай Господь, наложит глупая баба на себя руки, и что тогда? До скончания дней воевать с Изяславом, с половцами, со всем черниговским домом? Отпустишь же её — прослывёшь человеком честным, благородным и справедливым. Умён Красная Лисица, ничего не скажешь.
— Князь Мстислав выделит нам долю, не обидит, думаю, — ответил ему рыжий отрок.
— Не узнаю тебя, Симеон. Вроде всегда ты на богатство чужое зарился, — Коснятин лукаво усмехнулся.
— Не в богатстве тут дело.
Ещё раз глянув на затканную самоцветами шапочку княгини, Семьюнко тяжело вздохнул.
Марфа изумлённо переводила взгляд с одного галичанина на другого. Готовилась она уже отведать унижение плена, а теперь, выходит, её отпускают даже без выкупа...
Князь Мстислав, когда узнал о решении галичан, не разгневался, а наоборот, похвалил их:
— Верно измыслили вы. Мы, князья волынские и галицкие, с бабами не воюем.
Мстислав не хотел ссоры и войны с Глебом Переяславским. Да и киевлян ему ещё предстояло окончательно перетянуть на свою сторону.
...Семьюнко с отрядом дружины сопроводил возок Марфы до ворот Переяславля. Дул свирепый ветер, мела метель, в близлежащих к дороге дубравах и балках выли голодные волки. Но вот кони проскакали по ледяной глади Трубежа. Показался впереди в снежной дымке Переяславль, видны стати его каменные стены, соборы и пристани. Весь лежит город перед глазами, как на ладони. Вокруг степь перемежается с густой порослью перелесков. Вот устье Льтеца, вот виден вдали Борисоглебский монастырь, вот кладбище с крестами у дороги.
Княгиня на прощанье высунулась из возка, сказала:
— Не ожидала от тебя, Лисица Красная, доброты и разуменья, какие выказал ты. Изумлена приятно. Потому ворогом ни тебе, отроче, ни князю Ярославу николи не стану. Постараюсь, если смогу, с мужем моим его помирить. Токмо Берладника не требуйте. Лучше пускай забудет Ярослав о нём вовсе.
— Берладник прошлым летом брата моего Мину отпустил с миром. Попал брат мой в полон. Мог убить его князь Иван... Но отпустил. Почему так сделал, не знаю, — тихо промолвил Семьюнко. — Не желаю я ему никоего зла. Увидишь его, передай, прошу тебя: пусть на стол галицкий не зарится. Другую ищет волость. Русь велика.
Марфа задумчиво выслушала его, улыбнулась, кивнула головой.
— На вот, возьми себе на память!
Она стянула с руки алую сафьяновую рукавицу и положила в ладонь Семьюнки золотой перстень с синим самоцветом.
Вспыхнули глаза Семьюнки радостью, низко поклонился он Марфе, вымолвил с благодарностью:
— Спаси тебя Господь, княгинюшка. Словно ведала ты, что у невесты моей очи, яко камень сей.
Рассмеялась в ответ Марфа, велела вознице трогать. Прогромыхал возок через мост, скрылся в арке ворот. Перед тем, выглянув из окошка, махнула Семьюнке на прощанье Марфа алой рукавицей.
...Изяслав с остатками воинства ушёл через Днепр в Гомь. Туда же спустя некоторое время прибыла и княгиня Марфа. Берладник, раненный в плечо во время сечи, находился в обозе Давидовича. Там же, трясясь от непривычного зимнего холода, пребывал неприметный маленький скопец Птеригионит. Терпеливо ждал он своего часа.
ГЛАВА 70
Крепкий ячменный ол немного дурманил голову. Тихо потрескивали пудовые свечи. Чадил подвешенный на цепях к потолку хорос. Вечерело. За забранным богемским стеклом окном сгущалась мгла. Сидели втроём в заваленном свитками и книгами покое — Ярослав, Семьюнко и Избигнев. Ивачич всё ещё не отошёл от ранения, ходил хромая, опираясь на резной посох, испытывал боли в спине. И как-то враз высох он, осунулся, постарел, хотя был моложе и Осмомысла, и Семьюнки.
— Одно дело сдвинули мы, с Божьей помощью. Унырнул Давидович в чащобы черниговские, забился в глушь, запутал следы в лесах брынских. Волк, он волк и есть, — Ярослав откинулся на спинку обитого мягким бархатом кресла, устало потянулся. — Кто теперь в Киеве сядет, сведать нам надо.
— Баил с Нестором Бориславичем, — стал рассказывать Семьюнко. — Поведал мне Нестор, что собирались набольшие мужи киевские на свещанье. Порешили звать из Смоленска Ростислава Мстиславича. Покойному Изяславу брат он родной. К тому же старший среди Мономашичей.
— Старший? Да, старший. А Мстислав как, согласится на то? — А куда он денется? — Семьюнко пожал плечами. — Коли и ряд дедов, и бояре за Ростислава.
— Ряд не раз порушен был, — вступил в разговор Избигнев. — Вспомни хотя бы, как вокняжился в Киеве тот же Изяслав покойный. Или тот же Давидович. Его отец Киевом вовсе не владел никогда.
— О помыслах Мстислава ведать нам, конечно, будет полезно. После святок сам в Киев поеду. Перетолкуем, — решил Осмомысл. — Не хочу, чтоб меж собою переругались Мономашичи и воевать стали. Давидович ведь жив, не помер. Сидит где-то в лесах своих, затаился и ждёт часа удобного. Лелеет надежду вернуть себе стол великий.
— Княгиня Марфа обещала его с тобой помирить, — напомнил Семьюнко.
— Марфа, может, жёнка и умная, да только такие, как Давидович, ничьих советов добрых не послушают. Уж поверь мне. Знаю их породу волчью. У них, друже, одно на уме — власть. И всё. И ничего больше. Пусть власть эта будет хоть над кучей дерьма, им всё равно. И мир долгий и крепкий с Давидовичем невозможен. Все прежние события о том говорят. Ну да что мы опять всё о нём да о нём! — Ярослав недовольно хлопнул себя по коленке. — Иные заботы есть. Первая из них — поганые. Ожидаю нынешним летом на Галичину набега Башкордовых орд. Мстить станет хан за разгром под Белгородом, за гибель воинов своих. И надо нам с волынскими князьями совокупиться, дружины готовить. Подрубить бы корень набегов половецких, дать им по зубам как следует. Чтоб забыли раз и навсегда дорогу в Подолию и на Волынь.
А вторая боль головная моя — Берлад. Тут сложнее. Всё-таки свои, русские люди там. Помнишь, Избигнев, Нечая-сотника? Рубился он, не щадя живота своего, под Теребовлей, за Русь Червонную. Вот его бы склонить на нашу сторону. Надо, непременно надо вольницу эту себе подчинить. Чтоб ходили в воле князя галицкого и чтоб торговые караваны грабить неповадно было.
Примолкли, переглядываясь между собой, Избигнев с Семьюнкою. Понимали они, что большие замыслы у князя. До берегов Чермного моря хочет он расширить владения свои. Мечтает держать в руках ключи от дунайской торговли, воплотить в жизнь сказанное без малого двести лет назад воинственным пращуром его, Святославом, сыном Игоря и Равноапостольной княгини Ольги: «Из Чехии поступает ко мне серебро, из Венгрии — кони, от греков — паволоки, овощеве и вина».
Торговля принесёт богатство, деньги помогут усилить добрыми ратниками дружину, придадут уверенности. И тогда никакой Давидович, никакой Берладник не будут страшны.
— Верно говоришь, княже, — нарушил довольно продолжительную тишину Избигнев. — Мы за тебя всегда стоим. Кому, как не нам, с тобою рядом идти. Всем, почитай, тебе обязаны.
— Вот и я вам лишь одним мысли свои сокровенные открываю, не таясь. Прочим никогда того не скажу, — Ярослав вздохнул. — Знаю, немало сыщется недоброжелателей среди бояр галицких. И не только. Даже в семье своей — и то покоя нету. Скажу, как на духу — не люба мне Ольга. Не такая надобна мне жена. И если бы не братья её — Андрей и особенно Глеб, зять Давидовичев, давно бы постриг её в монахини.
— А дети? — осторожно спросил Избигнев.
Он хмурил чело. Не нравились ему слова князя. Словно тиран какой, деспот сидел сейчас перед ними, а не умный и тонкий Осмомысл. Бывало, и не раз, что постригали князья нелюбимых жён своих, ещё чаще случалось такое в странах западных — в Польше, у немцев, но чтобы Ярослав...
Князь, впрочем, не промедлил с ответом. Видно, размышлял об этом не единожды.
— Не изувер я, чтоб детей без матери оставить. Будет с ними видеться. Да и я заботу о них иметь буду. Фросе, как подрастёт, жениха доброго присмотрю. Владимиру, если в воле моей ходить станет, волость какую дам в управление. Чтоб учился делу державному. Впрочем, не ко времени толковня сия, — оборвал он разговор. Пожалуй, лишнее сказал он. Ни к чему даже и ближним товарищам его знать так много. Но слов сказанных, увы, не воротишь.
...Избигнев и Семьюнко расстались на княжьем дворе. Красная Лисица с состраданием и печалью смотрел, как медленно, поддерживаемый слугами, взбирается Ивачич в возок, как плавно вышагивают по заснеженному зимнику соловые угорские иноходцы. Сам он, легко вскочив в седло, быстро поехал вниз с горы, мимо собора Успения к новому своему жилью около моста.
Но словно сама собой, вне его воли, придержала рука ретивого жеребца, натянув удила, у дома красавицы Оксаны. Спрыгнул он в снег, взял коня под уздцы, стукнул тихонько кулаком в широкие сложенные из бука ворота.
...Перстень источал ярко-синее сияние в свете паникадила. Топилась муравленая печь. Оксана, едва скрывая восхищение от подарка, во всех подробностях расспрашивала рыжего отрока о белгородском сидении, о сече, о княгине Марфе.
— Ведь и убить тебя могли, — качала она сокрушённо головой. — Немало, верно, ратников полегло в чистом поле.
— У наших потерь, почитай, почти и нет вовсе. Грянули разом, смяли их, опрокинули, погнали. Более всего половчины потеряли людей, на льду Днепровском. Говорят, аж до Роси их берендеи гнали, так и на Роси тоже лёд треснул.
— В следующий поход я тебя не пущу. Не хочу сызнова вдовствовать, — решительно заявила синеглазая краса. — Еже придётся, ко князю пойду, умолю его.
— Да уж так-то не надо. Не позорь меня.
— Ничё! — Оксана махнула изящной белой ручкой. — Пусть ведает Ярослав ваш, что невеста у тя есь, и что люб ты ей.
Она вдруг спохватилась, сорвалась со скамьи, промолвила:
— У меня тож подарок для тя имеется.
Костяной гребень с затейливой резьбой работы свиноградских мастеров очутился вскоре во взъерошенных рыжих волосах Семьюнки.
— И не расчесать космы твои, — хохотала Оксана. — Висят, стойно мочало. И рыжие-то экие, Господи!
Кое-как она пригладила гребнем густую шевелюру отрока.
— Вот, держи, — протянула она ему свой подарок. — И кажен день не забывай про власы свои. А то торчат во все стороны. Словно и не отрок княжой, а разбойник из Берлада!
Перстенёк галицкая красавица надела себе на палец. Она долго любовалась переливами сапфировой синевы, улыбалась, шептала, уже не таясь:
— Прелесть экая!
В белом платье с перехваченными серебряными обручами на запястьях рукавами, с венцом в светло-русых волосах, заплетённых в две тонкие косички, вся нарумяненная и набелённая, ввергала Оксана Семьюнку своей красотой в тихий восторг.
— Свадьбу сыграем летом или осенью. Вот сребра немного подкоплю, тогда, — говорил Семьюнко, любуясь невестой. — Нечего более откладывать. Епископа Козьму я уговорю. Избигнева не захотел венчать, но нас с тобой, думаю, станет. Не безродная ты. А мне гривну боярскую князь дать обещает. Волости отдал на Сирете.
— Нетто столь важно, чтоб сей надутый боров нас венчал? — передёрнув плечами, весьма нелестно отозвалась Оксана о епископе.
Она весело захихикала, представив себе важное надменное лицо Козьмы.
— А пускай глядят, пускай завидуют! — выпалил в ответ Красная Лисица. — Пускай ведают о великой земной любви моей! Пускай красу твою зрят, славят тебя по всем странам. Певцов-гусляров позову, чтоб песни в твою честь слагали!
Он внезапно порывисто обхватил Оксану и поднял её на руки. Женщина отбивалась, ударяла его кулачками в грудь, беспомощно болтала в воздухе ногами в сапожках с высокими каблучками.
— Пусти! — Она, наконец, вырвалась из его объятий, поправила венец на волосах, присела на край лавки.
Сказала просто:
— Оставайся у меня нынче. Далеко тебе ехать, да к тому же ночь на дворе. Постелю тебе наверху. Об одном токмо уговоримся: до свадьбы нашей меня не трогай. Хочу, чтоб всё у меня как будто впервой было.
Слегка подрагивал при разговоре остренький Оксанин носик. Семьюнко сидел и улыбался, счастливый и спокойный. Он любил её всем сердцем и без неё уже не представлял будущей своей жизни.
«И за что мне радость такая, Господи!» — думал он, готовый сидеть часами в этой палате и любоваться её незабвенной красотой.
...В этот час в одной из теремных башен княжеского дворца ещё мерцали свечи. Ярослав снова вернулся к своей работе над переводом греческих хроник. В Киеве он снова хотел встретиться с настоятелем Печерского монастыря. Радовался и гордился князь, что его перевод Амартола был одобрен монахами. Как-то будет на сей раз? Игумен Печерский — критик строгий.
Одно беспокоило Ярослава. От долгих вечерних чтений и письма при свечах заметно ухудшилось в последние лета его зрение. Немного спасало зелёное стекло — новинка, присланная из Царьграда. Приставишь его ко глазу — и видишь сразу лучше. Стекло прозрачное, чистое, камень, видно, тщательно шлифовали.
Но это хорошо при чтении, в обиходе. На войну с таким стеклом не пойдёшь — засмеют. Вот и не ходит теперь Ярослав на рати, посылает воевод.
«А на поганых идти придётся, — подумал вдруг. — Такие сечи без князя не обходятся. Это не Туров осаждать и не Берладника отбивать».
В дверь просунулась голова Ольги.
— Сегодня с тобой хочу лечь, — капризным тоном высказала княгиня своё пожелание.
Что ж, долг супружеский исполнял покуда Ярослав исправно, хоть и без особой охоты. Правда, в последнее время ночи совместные стали намного реже. Больше врозь проводили они время и чувствовали оба, что всё сильнее отдаляются друг от друга.
Этой ночью после совокупления стал Осмомысл рассказывать жене о своих намерениях, о половцах и берладниках. Спросил:
— Ты как думаешь, удастся мне на Дунай выйти?
Ответом был неожиданно громкий храп. Князь зло сплюнул и, вздохнув, присел на постели. Спала Ольга, храпела, приоткрыв пунцовый рот, чужая, ненужная ему в жизни женщина. Становилось горько, обидно, постыло.
Отбросив в сторону одеяло, задул Ярослав на столе свечу и перебрался в свою ложницу.
ГЛАВА 71
Хоть и ехал Ярослав в Киев не особенно торопясь, останавливаясь и отдыхая по пути в Теребовле, в Межибожье, в Ярополче, а всё одно накапливалась усталость. В широком возке топилась походная печь, было просторно, уютно, но долгая дорожная тряска утомляла. Как-никак от Галича до стольного добрых четыреста пятьдесят вёрст. Перед самым Киевом пересел Осмомысл на любимого своего солового угорского иноходца — скакуна спокойного, послушного хозяину, поехал верхом. Важно вышагивал иноходец по твёрдому истоптанному копытами и возами шляху, прошествовал через арку Золотых ворот с нарядной церковью Благовещения над ними, миновал многоглавую Софию, палаты митрополита, подступил к огромному великокняжескому дворцу. Народу на площадях и улицах было немного. Жизнь кипела в основном внизу, на Подоле, на склонах Замковой горы и в урочищах, где располагались кузницы, скудельницы, мастерские кожемяк.
Велик был город, заметно превосходил он величиной и Галич, и Владимир, и Перемышль. Но ощущение возникало такое, будто что-то в нём надломилось, что-то ушло важное, то самое, что возвеличивало и возвышало Киев над остальными и делало его «матерью городов русских». В Галиче при виде поезда княжьего непременно собралась бы толпа любопытных, люди обсуждали бы одеяния князя, его гридней и слуг, судили — рядили, зачем он здесь, для чего проделал столь дальний путь по зимней дороге. В Киеве же ловил Ярослав взоры безразличные, усталые какие-то. Словно надоело всё это киянам — выезды богатые, пёстрые ферязи и опашни, секиры и копья в руках гридней, возки с колокольчиками, могучие долгогривые кони, брони дощатые, чешуйчатые, кольчатые, шишаки, мисюрки, ерихонки. Чем можно удивить уставшего от жизни старика? Всё он уже это видел когда-то и знал. Так и город этот казался Ярославу старым, городом былой славы, уже угасающим, передавшим силы свои другим, молодым. Будто доживал он век свой, ещё облекаясь в прежние праздничные одежды, но утративший былое значение и мощь.
«Почему они так стремятся сюда? Изяслав и Долгорукий покойные бились за Киев десятилетия, пролили море крови! Или тот же Давидович? Не замечали они, что ли, в слепоте своей от сияния вековой славы стольного града ветхости этой, не улавливали эту странную тишину? Не понимали того, что поняли мой отец и князь Андрей? Нет больше единой столицы. Есть княжества, в каждом из которых кипит своя собственная жизнь. Сперва отошёл Полоцк, затем откачнули Новый город, Галичина... Так, наверное, и должно быть. Таковы законы бытия. Взять Запад. Была империя франков — и где она? Взять Восток. Был султанат Сельджуков[250] — и расчленён он ныне на отдельные части, распался, как разбитая чашка хрупкая. Не собрать осколков. Так, выходит, и на Руси. Не объять необъятное, не поворотить ход времени вспять. А время заставляет мыслить и поступать по-иному, по-новому. Уходит в прошлое век лихих скачек, сшибок, век высоких мечтаний. Давидович был последним, кто пытался заставить реку жизни течь назад. И он проиграл, потому как не проиграть не мог!»
...С Мстиславом разговор долго не клеился. Мрачный ходил волынский владетель по палате дворца, бросал отрывисто:
— Бояре, говоришь... Да, бояре... Разумею... Хотят по старинке, по ряду прадедовскому жить... Старший в роду... Приходили ко мне... Поминали добрым словом отца... Мол, уважат дядю своего старейшего, Вячеслава, возвёл его на стол княжой, и правили они Киевом вместе... Было такое, было. Умно поступил тогда отец... Вот и сказывают бояре: тако и ты дей... Ростислав, мол, князем киевским будет токмо для виду... Не разумеют главного... Покойный Вячеслав был бездетен... Отца моего, яко сына, любил... А у Ростислава Смоленского пятеро сынов! Кичливы да драчливы. Роман, Святослав, что в Новом городе сидит, да ещё Давид, Рюрик, Мстислав. Вон их сколь! И каждый мечтает о волости доброй, у каждого, почитай, двор свой. Трое старших уже сами отцы... И потом... Стрый Ростислав, он некрепок... Какой из него киевский князь!.. Всю жизнь в тени отца моего пребывал, отцовым мечом и держался в Смоленске. А теперь, выходит, я его своим мечом поддерживать буду... Не по нраву мне сие, Ярославе, прямо скажу тебе... Вот мать, братья, родня волынская, все бают одно: отдай стол великий да ворочайся на Волынь. Не воюй из-за Киева... Али правы они, может?
Осмомысл вздохнул. Ответил после недолгого раздумья так:
— Непросто тут всё, брате. Понимаю, не хочется тебе в руки слабого дяди Киев отдавать. Боишься также притязаний в будущем сыновей его. Всё так. Но... ты посмотри вокруг. По улицам поезди киевским, на площадях постой. И пойми: нет у города этого прежней славы. Не стоит стол киевский того, чтоб за него драться и жизни класть. Галич мой и твой Владимир ни в чём ему, поверь, не уступят. А во многом и превзойдут. Так что мой тебе совет: отдай Киев Ростиславу. Только не забудь напомнить ему, чьи руки его на стол возвели. Чтоб знал: без князя галицкого и князя волынского — никто он здесь. И помни ещё другое, брат: Давидович-то, враг наш, жив. Зализывает раны в лесах брынских где-то и ждёт, надеется, что перессоримся мы между собой. Давай же не дадим ему повода для радости. Заедин стоять будем, и Ростислава, и Ольговича к союзу с нами склоним.
— Верно сказываешь, — только и выдавил из себя с явной неохотой Мстислав.
Конечно, он сам мечтал занять Киевский стол, но прекрасно сознавал, что волю родичей-князей и бояр ему не превозмочь.
— Пошлём в Смоленск гонцов с грамотами. Пусть идёт стрый твой в Киев, — предложил Ярослав.
Мстислав Волынский хмуро кивнул.
— Ещё одно, — продолжил он после недолгого молчания, сев наконец на лавку перед Ярославом. — Митрополита Константина в Чернигов я отослал. Пусть катится отсюдова ко всем чертям! Он, гад, с амвона отца моего анафеме предал! Прихвостень Долгоруков!
— И как теперь быть? Слать за новым митрополитом в Константинополь?
— Да почто?! Климента сызнова посадим. Муж учёный, богослов. Помнишь, верно, как собор епископов русских его на кафедру утвердил при отце моём. И сего довольно!
— Ромеи обидятся, брат. Повелось издавна, что ставит пастыря на Русь патриарх константинопольский.
— Да плевать на ромеев! Далёко они, чай!
— Не все, брат, иерархи наши были за Климентово избрание. Далеко не все. Да и как стрый твой на это дело посмотрит, Бог весть, — Ярослав качал с сомнением головой, задумчиво оглаживал долгую бороду. — Мой тебе совет: посылай к патриарху послов. Объясни, что да как. Недостойно, мол, повёл себя Константин. Дадут тогда Руси нового митрополита. А Климент — он, ведаю, муж многомудрый. Читал его труды. Верно написано. Я-то ведь, грешный, тоже на Иоанне Дамаскине вырос. Увлекался им смолоду. Потому близки и понятны мне Климентовы мысли. Но книжная премудрость — то одно, кафедра митрополичья — другое. Подумай об этом, Мстислав. Прошу, не руби сплеча. Со стрыем совет держи.
Ничего не ответил на это волынский князь.
Вечером учинён был в гриднице дворца весёлый пир. Пенилось в чашах пиво, звучали здравицы, потешали собравшихся на пир бояр и дружинников весёлые скоморохи, звенели яровчатые гусли. А рано поутру скорые гонцы от обоих князей с грамотами ускакали в Смоленск. Вослед им долго кружили снежные вихри. Ярослав стоял на гульбище, глядел, как скрылись всадники на ретивых конях на Боричевом увозе. На душе скребли кошки. Не нравились ему резкость и порывистость многих Мстиславовых начинаний.
«С митрополитом надо было обождать, не торопиться. Так державные дела не делаются, — думал он. — И ведь не мальчишка же Мстислав сей. Сколько ему лет? Около тридцати где-то, может, чуть меньше. А мне вот уже тридцать три стукнуло. Возраст Христа. И сколько ещё всего хочется сделать!»
Князь вдыхал в рот свежий морозный воздух. Чувствовал он в себе силы, проникался верой, что впереди ждут его долгие годы больших свершений.
Валил густой снег, наметал сугробы. Ожидал Ярослава обратный путь в Галич, ожидали большие и малые дела. И где-то в недалёком грядущем, верил он и надеялся, ждала его большая светлая любовь.
ГЛАВА 72
Просторны палаты галицкого епископа Козьмы. Благочинная тишина царит в широких горницах с иконами греческого письма на поставцах, мерцают тонкие лампады, свечи в драгоценных изузоренных подсвечниках источают свет неяркий, ровный и спокойный. За свечами следит юный монашек — свечегас, удаляет вовремя нагар, тушит, заменяет оплывшие свечи на новые.
Его, малорослого худощавого служку, епископ и иереи[251] чаще всего не замечают. Ведут при нём многомудрые беседы, в коих частенько говорится о том, о чём посторонним ушам слышать совсем бы ни к чему. А меж тем юный Марк, послушник обители святого Иоанна Лествичника, внимал речам сильных мира сего со вниманием, впитывая в себя сказанное тихими приглушёнными голосами. Затем в своей утлой келье подолгу размышляя над услышанным, старался поставить он себя на место епископа или даже митрополита. Как бы он поступил? Наложил бы епитимью на священника, погрязшего в грехе пьянства? Осудил бы боярина за блуд? Отлучил бы от церкви разбойника?
В школе при монастыре слыл Марк одним из самых прилежных учеников. Потому, верно, и приставили его следить за свечами в палатах епископа. Там постепенно набирался юнец опыта жизненного. Сын приезжего греческого купца и русинки, сирота, росший без матери, из милости взятый игуменом монастыря к себе в обитель, теперь подолгу пропадал он в хоромах Козьмы и в соборе Успения. Оказался он в горнице и в тот час, когда к епископу пришёл князь Ярослав, давеча воротившийся из Киева.
Скинул князь бобровый опашень[252] на руки служке, принял благословение святого отца, присел на лавку напротив Козьмы. Сказал сухо:
— Разговор есть, отче. В Киеве нестроенья церковные. Сведал уже, верно.
— Князь Мстислав поступает незаконно. Митрополит Константин рукоположен святым патриархом, главой Церкви Православной! — твёрдо, непререкаемым тоном пробасил Козьма.
— Князя Мстислава можно понять. Митрополит Константин проклинал в Киевской Софии его отца.
— Деяния церкви не следует путать с делами земных правителей. Бог — судия митрополиту, но не князь Мстислав! — наставительно заметил епископ.
— Это в мечтах учёных книжников так быть должно, — уверенно возразил ему Осмомысл. — В жизни инако. Вспомни о том, что в Ромее патриарх всецело подчинён воле базилевса. Так и на Руси. Вот ты речёшь: отделять следует дела мирские от духовных. И прав, тысячу раз прав! Не должен был Константин в межкняжеские распри мешаться и анафеме предавать Изяслава! В том его ошибка.
— Поп Климент был поставлен на кафедру покойным Изяславом Мстиславичем без благословения патриарха! Без хиротонии[253]! Он — самозванец! — крикнул гневно Козьма.
— Его выбрал собор русских епископов, — напомнил Ярослав.
— Многие иерархи не признали это решение! Напрасно князь Мстислав так упрямо держится Климента! Истинный митрополит на Руси — Константин! Не было никогда такого закона, чтобы ставили епископы митрополита без патриарха и без благословения святой Софии Константинопольской!
Говорил епископ раздражённо, порой постукивал по полу резным посохом.
Ярослав, уразумев, что большого толку от встречи с Козьмой не будет, поспешил закончить бесполезный разговор. Сказал мягко, спокойно, но с едва различимым презрением в голосе:
— Я надеюсь, у епископа Галича хватит разума и воли не вмешиваться в киевские церковные распри. Время рассудит спорящих. Я предложил князьям Ростиславу и Мстиславу послать в Константинополь людей с грамотами. Пусть патриарх даст Руси нового пастыря.
Резко поднялся князь галицкий с лавки. Не поклонившись епископу и даже не посмотрев более в его сторону, стал надевать опашень. Скользом глянул на Марка, меняющего свечи в огромном семисвечнике на полу. Понял, что слышал Марк всю их беседу, приметил, что взгляд любопытных чёрных глаз у молодого послушника умный и внимательный.
Марк спохватился, опустил очи долу, прикрыл их бархатистыми ресницами, отвесил князю земной поклон.
— Как тебя звать? Что здесь делаешь? — спросил его Осмомысл.
— Марк аз, светлый княже! — пробормотал смущённо послушник. — С монастыря Иоанна я. Свечи гашу.
— Слышал, верно, о чём речь тут шла?
Зарделся совсем паробок, не зная, как и ответить, кивнул лишь с виноватым видом.
— Вот и мотай на ус, — Ярослав вдруг улыбнулся. — В жизни всякое пригодиться может.
Князь ушёл. Марк, меняя свечи, осторожно глянул на Козьму.
Но, занятый своими высокоумными мыслями, епископ не обращал на него никакого внимания. Сидел на бархате лавки, положив сухие костистые длани на ручку посоха, смотрел вдаль отсутствующим взором, шептал что-то едва слышно.
Сделав своё дело, бесшумно выскользнул послушник за дверь.
ГЛАВА 73
Зима на Червонной Руси выдалась тёплой и малоснежной. Только в феврале, под Сретенье поплыли с отрогов Горбов, с колдовской Черногоры, с Грофы и Сывули, с перевалов и ущелий снеговые тучи. Белые хлопья посыпались на землю, вмиг укутывая поля и холмы толстым пуховым одеялом.
На подворьях в детинце мальцы играли в снежки. Среди иных — Петруня, сын стряпухи Агафьи. Ловкий паробок так и норовил из-за угла избы сбить снежком треух с головы то одного, то другого из товарищей. Порой, правда, доставалось и ему, весь кожушок был в мокром снегу.
Когда, наконец, наскучила мальцу эта весёлая забава, через боковые сени вбежал Петруня на поварню, сбросил кожушок, в одной рубахе посконной сунулся к чанам, благо, никого в тот час рядом не оказалось. Попил медового кваску, затем взгромоздился на только что опорожнённый чан из-под жаркого, куском хлеба стал оттирать шкварки и соус. Вкусно было, чуть ли не урчал от удовольствия.
Распахнулась дверь, влетела на поварню одиннадцатилетняя Настя, дочь боярина Чагра. Коса золотистая свалилась на плечо, повой слетел и болтался на шее, хитроватые серенькие глазки с раскосинкой так и рыщут, чем бы поживиться. В конце концов, схватила Настя краюшку хлеба и присоединилась к Петруне.
Трапезу прервал громкий голос и смех одной из сенных боярынь.
— Ой, глядите, что творят! — воскликнула она, увидев, что дети уже едва не забрались в чан.
Петруня и Настя испуганно отпрянули в сторону. Они не заметили сразу, что на поварню зашла в сопровождении двух подруг — боярынь сама галицкая княгиня, Ольга Юрьевна. Соболиная шуба мягко струилась с плеч жены Ярослава, парчовая шапочка была заткана розовым новгородским жемчугом, на багряных востроносых сапожках переливались самоцветы.
— Кто еси? — наигранно строго хмуря смоляные брови, вопросила она. — Почто тут отираетесь?
— Се — Петрунька, Агафьи-поварихи сын, — сказала одна из боярынь, жена сотского. — А девка — Чагра, половчина, дочь.
— Белая куманка. Так её в Галиче прозывают, — добавила вторая боярыня.
— И что ж, не кормят тебя в тереме твоём, али как? — уста княгини тронула презрительная усмешка. — Почто, боярска дочь, в чужом доме чаны облизываешь? Али обычаи у вас, у белых куманов, таковы? Всё, что плохо лежит, забираете.
Настя сконфуженно молчала. Румянец стыда заливал ей щёки, она потупила взор и, казалось, готова была вот-вот расплакаться.
Боярыни тихонько смеялись, подшучивали над ней, а княгиня смотрела недовольно, насупившись, словно чуяла в этой маленькой девочке что-то для себя недоброе, лихое. Петруня тоже стоял растерянный, косил по сторонам, как пойманный с добром тать. Он и не заметил, что долгая рубаха его, зацепившись за край чана, порвалась спереди. Такой, оборванный, жалкий, он вызывал у молодых боярынь смех. Княгиня, посмотрев на него, вдруг не выдержала, прыснула, расхохоталась. Пальцем с острым крашеным ногтем она больно ткнула мальца в голый живот. Петруня ойкнул от неожиданности. Ольга, хохоча, ещё дважды уколола его ногтем.
— Смешной экий! — проверещала жена сотского.
— Матери своей скажи, зашила чтоб. И на поварне у баков не отирайтесь более! Коли голодны, просите старших, — строго заметила Ольга.
Она погрозила детям и снова не выдержала, рассмеялась, глядя на их смущённые виноватые лица.
— Умора с вами! Ну, пойдём! — окликнула княгиня своих спутниц.
Ещё раз легонько ткнув Петруню в живот, она быстро пошла к двери во двор. Боярыни, шурша тяжёлыми ромейскими одеждами, последовали за ней, при этом жена сотского по дороге дёрнула Петруню за рваный конец рубахи.
Спустя несколько мгновений молодые женщины, оживлённо переговариваясь по пути, оказались около стоящего посреди двора большого возка, запряжённого тройкой резвых скакунов. О насмешивших их детях они, видно, тотчас забыли.
Настя и Петруня видели через косящатое окно, как они сели в возок и галопом вынеслись со двора. Только снег клубился вослед лихим коням.
— Кататься поехали, забавы ради. Что им? — пробормотал Петруня.
— Вишь, разодета-то эко, — промолвила Настя. — Шуба соболья, колты златые, сапоги сафьяновые с узорочьем. И что в ней такого? Баба, как баба. Не видная вовсе. Толстая, курносая.
— Княгиня, дак.
— Подумаешь, княгиня! — Дочь Чагра скривила губку. — Тебя-то она как, больно? Истыкала всего.
— Да нет. Она ить в шутку.
— А жуковину с бирюзой у ней видал? На персте надета. Со змейкой серебристой. Мне б такую, — Настя вздохнула.
— И у тебя будет. Подрастёшь, отца упросишь. Он тебе подарит.
— Да что отец?! Мне б самой княгинею стать.
— Эко хватила! — Петруня изумлённо уставился на маленькую белую куманку, всё вздыхавшую и уныло смотревшую вслед умчавшемуся в снежную даль возку.
ГЛАВА 74
С некоторых пор боярин Константин Серославич стал частым гостем в княжеском дворце. То постучится в бабинец, осведомится о здоровье у княгини Ольги, расспросит о детях, заведёт пристойную случаю беседу. Упомянет о вотчинах своих на Збруче, о том, как мыслит возвести он в усадьбе своей новую церковь и хочет нанять знатных мастеров в дальнем Залесье, увлекательно расскажет о последних походах и битве с половцами. То в детской поиграет с семилетним Владимиром, позовёт его глянуть на ловы, кои учиняет ныне боярин под Тисменицей, на перевесище. Привык постепенно Владимир к Коснятину, ждал с нетерпением каждой новой встречи с ним. Не лежала душа княжича к учению, капризничал он, весьма неохотно слушая наставления учителей. Ни Закон Божий, ни письмо, ни счёт не увлекали избалованного сына Ольги, розог же мать, горячо привязанная к единственному сыну, не допускала. Наоборот, холопку могла ударить, если только пожалуется на неё Владимир. Потому никто из дворовых мальчику ни в чём не перечил и все желания его, в том числе и вздорные, старался исполнить. Ну, а более других преуспел в том боярин Коснятин. Подсаживал княжича на даренного им коня, породистого вороного аргамака, вывозил за город, на ловы, показывал своих борзых псов, ловчих соколов, скакунов мохноногих половецких, быстрых, как ветер.
Статен, молод и знаменит уже был в Галиче Коснятин. Не одна из дочерей ближних княгининых боярынь засматривалась на белозубого крепкого красавца. Такого бы заполучить в мужья, да вот беда: давно женат Серославич на сестре боярина Зеремея.
В браке Коснятин счастлив не был. Жена, Гликерия Глебовна, оказалась излишне набожной и суеверной. Ходила, скромно тупясь, одевалась в одни простые чёрные одежды, да и собой была непригожа, костлява, как высохшая чахлая осина. На людях, во дворце княжом появлялась она крайне редко, из терема своего почти не выходила, окружала себя лишь монахинями, с коими часами нараспев читала псалмы да вышивала воздухи[254]. В покоях Гликерии всегда стоял запах ладана, курился фимиам, мерцали лампады. Чад у Коснятина, кроме одной-единственной дочери — тронутой умом Пелагеи, от неё не было. Жил он покуда с женой под одной крышей, не желая ссориться с её богатым влиятельным в боярской среде братом, даже прикрыл Зеремея во время недавнего Млавиного заговора, умолчал, что частенько бывал шурин у Млавы в гостях и заводил крамольные речи.
Большие были у Коснятина намерения. Высоко улетал он в своих мечтах. Мыслил так: бояре — главная сила Галицкой земли. Они должны землёй сей володеть, князь же — послушный исполнитель их воли, их желаний, и не более. За примерами такого порядка ходить далеко не надо. Взять хотя бы Новгород или Полоцк. В Новом городе князь — всего лишь пришлый воевода, власть коего жёстко определена рамками законов. Все дела в городе и в обширных новгородских пятинах вершат бояре, опоясанные золотыми поясами, которые надевают они, когда собираются на совет на Ярославово дворище. Бояре — сила. И знал, чуял в себе Коснятин эту силу, хотел стать меж боярами Руси Червонной первым. А князем чтоб править можно было, как конём послушным, как куклой на верёвочке.
Ярославом, знал, управлять не удастся. Умён, догадлив, скрытен. Заменить бы его кем иным. Но кем? Ответ сам собой напрашивался. Владимир — законный наследник галицкого золотого стола. Вот и потакал потому Коснятин во всём мальцу. Повелось вскоре так, что ни одно дело, ни одна забава юного княжича не обходилась без Серославича. Стал он ему даже заместо дядьки, отодвинув в сторону старого беззлобного вуя — суздальчанина.
Ярослав, мало времени проводивший с женой и сыном, ничего этого сперва не замечал. Но нашлись люди, которые донесли князю о близости Коснятина с Владимиром. Нашептал один челядин, приставленный накрывать в детской на стол.
Сказать, что безразличен остался Осмомысл к его словам, было нельзя, но и сильной обеспокоенности он не обнаружил. Для начала приказал Семьюнке послать людей следить за Коснятином. После во время одной из редких проводимых вместе ночей заговорил о Коснятине с Ольгой.
— Не слишком ли близко подпускаешь ты Серославича к сыну? — осторожно спросил он, когда после очередного совокупления лежали они в опочивальне под беличьими одеялами.
— Коли родной отец вниманьем не жалует, как быть? — уколола его тотчас Ольга. — Вот и тянется робёнок к тому, кто с ним добр и ласков.
— И потакает забавам, и слова строгого не скажет, не приструнит, не отругает за шалости, — добавил Ярослав. — Остереглась бы ты. Пригляделась бы пристальней к боярину. Непрост он.
— Чё на его глядеть! У мя муж покуда имеется! — Ольга расхохоталась.
— Тьфу, дура! — Ярослав зло сплюнул. — Всё к одному сводишь! Говорю, чтоб посматривала, не попортил бы лестью своей Коснятин тебе сына. Вот так вскарабкается на плечах Владимира поближе к власти и все дела на Галичине вершить за него станет. Думаешь, для чего он ко княжичу столь привязался?
Но Ольга не хотела этой ночью вести столь серьёзные разговоры. Ответила со смешком:
— Верно, влюбился твой боярин в меня. А чего? Жёнка статная, телом не обделена. И то сказать: поживи с такой Гликерией, дак заскучаешь вборзе.
Ярослав, к удивлению и возмущению княгини, не разозлился, а неожиданно поддержал её шутливый тон.
— Влюбился? В тебя?! Да ты на себя в зеркало когда в последний раз смотрела? — съязвил он. — Скоро в дверь влезать не сможешь.
Княгиня обиделась, отвернулась, промолвила зло:
— Как смеешь оскорблять меня!
Ушли в сторону, отодвинулись мысли о Коснятине. С трудом Ярослав помирился с рассерженной женой.
— Довольно тебе дуться. Прости. Не хватало ещё нам с гобой тут свары устраивать. Ник чему это. Должны мы друг за дружку держаться, — убеждал он, гладя Ольгу по чёрным распущенным волосам.
Мало-помалу лад в опочивальне был восстановлен. Ольга заснула, уткнувшись лицом в пуховую подушку. Мерно вздымались в такт ровному дыханию её покатые плечи. Ярослав смотрел на неё со слабой усмешкой. Не было любви, не было привязанности, была одна необходимость. И была тревога за будущее земли.
Князь поднялся, вышел в тёмный переход, выглянул в слюдяное оконце. Ярко светил ущербный идущий на убыль серебристый месяц. Заканчивался год 6666 от сотворения мира. Великой беды он не принёс, хотя и выдался беспокойным. Один набег Берладника чего стоил! А сеча под Белгородом! А заговор боярский в Галиче!
Хотелось, чтобы год грядущий оказался не столь бурным. И предпосылки к тому вроде бы имелись.
Ярослав воротился в опочивальню, задул на столе свечу, нырнул под беличье одеяло рядом с постылой нелюбимой женой, провалился в долгий глубокий сон. Приснился ему зелёный луг с жёлтыми цветками одуванчиков и низкорослые половецкие кони, жующие траву. Сон предвещал будущее столкновение с кочевниками. Так оно вскоре и случилось.
ГЛАВА 75
Хоть и ждали по весне набегов со стороны Половецкого поля, но налетели орды Башкорда внезапно. Вырвались из зелёной плодородной Кодымской степи к Днестру тысячи бешеных всадников на свежих напитавшихся сочной травой низкорослых конях, вихрем пронеслись по Днестровскому левобережью. Горели сёла, огненные столбы пожаров далеко видны были с Подольских холмов. Пограбили и пожгли половцы окрестности Микулина, разметали галицкие пограничные отряды, под Ушицей повергли вспять рать воеводы Гаврила Бурчеевича. Сам храбрый воевода пал в сече, изрубленный саблями, исколотый копьями. Смертельно раненного, принесли его дружинники в Ушицу. Там он и опочил, страдая от боли и горечи неудачи.
Городки Червонной Руси, хорошо укреплённые, Башкордовы орды в осаду покуда не брали, долго нигде не задерживались. Быстрота, внезапность, огонь пожарищ, связанные арканами пленники, и снова скачка неистовая — вот была их стихия.
От Микулина Башкорд рванул на север, к границам Галицкой и Волынской земель. Оставив берега Днестра, вышел хан на Горынь. Здесь простирались земли Луцкого княжества, было много больших и малых городов. Целью своей выбрали половцы на сей раз Острог, расположенный у впадении в Горынь речки Вилии. Был яростный штурм городских стен, мощные обитые железом пороки проломили дощатую городню, и хлынула орда, как бешеный водный поток, внутрь города. Рубили, кололи, хватали, гнали полон. И ещё догорали постройки Острога, ещё тлели на месте домов и церквей обугленные головни, а орда уже была далеко, уже мчалась она на восход, в сторону Ярополча. Вот так, неожиданно меняя направление своего движения, мыслили Башкорд с Турундаем запутать возможную русскую погоню.
...В Галиче была быстро собрана и посажена на коней дружина. На сей раз Ярослав решил сам идти в поход. Чешуйчатая бронь была приготовлена и лежала в походном обозе, там же находился и позолоченный шелом с бармицей, и прилбица волчьего меха. Малиновое корзно, застёгнутое впереди у плеча фибулой, колыхалось на ветру. Узкие рукава кафтана перехватили обручи, на сапогах сверкали бодни, руки вцепились в поводья. За спиной на портупее — меч в обшитых зелёным сафьяном ножнах, с бронзовой рукоятью, изузоренной травами.
Наскоро простился Ярослав с семьёй и домочадцами. Впервые в жизни увидел Ольгу перепуганную, всю исполненную тревоги. Прижимала она к груди маленькую дочь, крепко держала за руку восьмилетнего сына, говорила перед расставаньем тихо:
— Обереги себя! Ради нас! Живой ты нам нужен!
Ратники прощались с жёнами и чадами. Впереди была яростная многочасовая скачка по пыльному шляху, мимо лесов и полей, по холмам и речным долинам. Был пот, катившийся градом, были иссушённые спёкшиеся уста, была белая пыль клубами, и были попадавшиеся на пути сожжённые дотла сёла. И были крестьяне с красными от слёз или застывшими от горя глазами, и слова, одни и те же, произносимые из раза в раз:
— Убили! Пожгли! Увели!
И были тела безжизненные, пронзённые стрелами, исколотые копьями. И возникала ненависть, ярость, сильнее хлестали ратные коней.
За Острогом соединились галичане с дружинами Ярослава Изяславича Луцкого и Владимира Андреевича Дорогобужского.
Гордо реяли на ветру стяги. Алый вершник на жёлтом поле — герб волынских князей, соседствовал с Ярославовым жёлтым львом и красным крестом на белом фоне — гербом города Галича.
Князья и воеводы собрались на скорый совет в шатре у Ярослава. Сидели на кошмах, пили холодную ключевую воду, говорили коротко, быстро, под стать положению.
Владимир Андреевич, давний знакомец Осмомысла, ещё по походам Долгорукого, худой, высокий, кустобородый, наполовину половец, с глубоким багровым шрамом от стрелы на шее, выбранный старшим из-за своего богатого боевого опыта, говорил так:
— Надо нам поспешить. Вборзе скакать. Имею вести, недалеко покуда ушёл Башкорд. Где-то меж Ярополчем и Мунаревом он. Ежели поторопимся, догоним их. Кони поводные есть, дружины у нас добрые. Отнимем полон, посечём.
Осмомысл глянул на своих воевод. Святополк Юрьевич, потрясая богатырским кулаком, поддержал Владимира:
— Верно баишь. Налетим, опрокинем сию сволочь поганую!
— Вперёд сторожу надо послать, — предложил князь луцкий.
— И то верно, — согласился Святополк. — Княже, — обратился он к Ярославу, — дозволь мне в сторожу пойти. Длани чешутся, сечь поганых хочу!
— В сторожу не для того ходят, чтоб рубиться, — строго пресёк его желание Осмомысл. — Тут, брате, не такие, как ты, надобны люди. Тебя с твоей статью за версту[255] половцы углядят. А посечь их ты успеешь. Не за горами, думаю, битва злая.
— Кого же послать наперёд? — вопросил Владимир Андреевич.
— Дозвольте, князи, мне пойти.
Поднялся внезапно с кошм ещё бледный едва оправившийся от прошлогодней раны Избигнев Ивачич. Не хотел Ярослав брать его с собой в поход, но настоял молодой боярин, сказал, мол, моё то дело. Из-за меня Башкорд ворогом нам стал. Не смог Осмомысл ему отказать тогда, в Галиче, не отказал и теперь, видя, какой решимостью пылают чёрные глаза Избигнева.
Не выдержал, обнял галицкий князь любимца своего, расцеловал в обе щеки, промолвил:
— Что ж, с Богом, Ивачич.
Владимир Андреевич дал ему в подмогу искусных сакмагонов, Ярослав Луцкий тоже выделил добрых дружинников. Во главе отряда сторожи ускакал Избигнев в ночную тьму киевской дороги.
Ночь была безлунная, хоть глаз выколи. Горели на холмах разведённые костры, вокруг лагеря коротко перекликались сторожа. Полти[256] мяса жарились на огне, ароматный запах их щекотал ноздри. После короткой трапезы у себя в шатре прилёг Ярослав на кошмы, попытался заснуть. Но сна не было, была тревога. Как там Избигнев? И как сложится дальше их поход? Принесёт ли удачу неистовая погоня?
Усталость растекалась по всему телу. Ноги гудели от долгой скачки. Но заснуть до утра Осмомысл так и не сумел.
Утром зычный звук, боевой трубы поднял воинов. Быстро собравшись, двинулись дружины в дальнейший путь. Резво скакали по влажной от росы утренней траве отдохнувшие кони.
Гонец от Избигнева примчал часа через два. Половцы жгли сёла у истоков Ирпеня, невдалеке от Ярополча. Они были совсем близко и, по всему видно, не ожидали столь скорой погони.
Воеводы тотчас распорядились облачиться всем воинам в боевые доспехи. Чешуйчатые, пластинчатые, кольчатые брони были извлечены из телег и одеты на тела, головы покрыли шеломы, миндалевидные щиты с умбонами были привешены на руки, стрельцы надевали на левые запястья деревянные дощечки — наручи, вооружились тулами[257] со стрелами и налучьями с тугими луками. Чтобы натянуть такой лук, требовалась немалая сила. Иной два-три здоровых мужа — гридня натянуть не могли. Стрелу же пускали прицельно умелые воины чуть ли не на сто сажень.
В прилбице, шеломе и панцире было жарко. К тому же руки с непривычки покрылись волдырями и мозолями от поводьев, а путевых рукавиц Осмомысл не жаловал. На бёдрах между ногами от пота тоже появилось раздражение. Но не обращал на такое князь внимания — потом, после будет он разбираться со своими болячками. Впереди был жаркий бой. Почему-то вспомнился ему Семьюнко, коего оставил он насей раз в Галиче. Видно было, что не особо хотелось отроку идти в поход, совсем приворожила, видать, его красавица Оксана. Да и Галич без догляда оставлять было нельзя — бояре могли учинить в любой день новую смуту. А кто, как не Семьюнко, сумеет вовремя проведать о кознях тайных врагов. Уже не первый год приставляет он к видным галицким боярам тайных соглядатаев, которые только его и знают.
...Подъехал на статном жеребце Владимир Андреевич. С ним рядом восседали князь луцкий и Святополк. Первый нервно кусал длинные пшеничные усы и нетерпеливо сжимал поводья, второй казался каменным истуканом, былинным Святогором в дощатом панцире и шишаке с красным яловцем. Руки в кольчужных рукавицах сжимали огромный, длиной в чуть ли не в полтора аршина, меч.
— Как увидим поганых, ты, брат, обходи их справа, — предложил Ярославу князь Владимир. — Мои дорогобужцы с левой стороны пойдут, а лучане в чело ударят. Так на них с трёх сторон и наскочим. Не уйдут. Никуда не денутся.
...С холмов за Ирненем хорошо был виден городок Ярополч и сёла на другом, правом берегу реки. Столбы яркого пламени вырывались над деревянными строениями. Горели дома, гумна, овины.
— Там они! — укатывал подскакавший к Осмомыслу разгорячённый Избигнев. — Поутру мы их увидали. В сечу не ввязывались, как вы и наказали, хоть и немалых трудов стоило ратников удержать. Рвутся все вперёд.
— То добре! — промолвил в ответ Владимир Андреевич. — Ну, братия! Топерича, как наказывал! И да поможет нам Бог и Божья Матерь!
Он вырвал из ножен меч и прямой рукой дат знак к битве.
Тотчас облачённая в железо, сверкающая на солнце доспехами людская масса пришла в движение. С яростным боевым кличем понеслись дружины с холмов в долину. Ярослав, как было условлено, стал заходить справа, велел Святополку и Избигневу идти в челе рати, а сам отъехал чуть в сторону и скакал во втором или третьем ряду. Ничем старался он не отличаться сейчас от простого воина. Эх, если б глаза ещё зрели получше!
Вот впереди половцы, враги, вот стрелы засвистели. Крепкий обитый бычьей кожей щит принял на себя удар. Запела оперенная, задрожала от ярости, так и не пробив крепкую кожу, застряв в щите остриём. А конь летел и летел, и нёс Ярослава навстречу вражьим всадникам. Те потрясали копьями, что-то выкрикивали бешено, кривя рты. Вот впереди Святополк, размахнувшись, метнул короткую сулицу. Рослый толстый половец с визгом упал с седла. Сулица пробила ему кольчужный юшман и вошла в грудь. А Святополк уже орудует своим страшным мечом, разит им направо-налево, только и сыпятся вокруг окровавленные тела. А он рубит от души, так что головы половецкие с отвалом — правой рукой, падают под копыта. За ним следом устремляются остальные галичане, враг бьётся яро, но отступает, боятся поганые страшного вершника — богатыря, рассыпаются перед ним розно.
Ярослава угостили по шелому саблей, аж в ушах зазвенело. Князь ответил: приподнявшись на стременах, что было силы треснул мечом половца по голове. Аварский шелом, лубяной, скреплённый стальными полосами, треснул, разломился, а Осмомысл, не останавливаясь, не давая супротивнику очухаться, тотчас ударил его вновь. Обмяк враг, запрокинулся набок, стал вываливаться из седла. Но некогда было Ярославу следить за ним — уже следующий половец скрестил с ним оружие. Сзади верный гридень копьём ударил вражьего коня, на котором ещё один половчин норовил напасть на князя сбоку. Другой гридень мечом отрубил длань с арканом, пытавшуюся бросить тугую петлю на бьющегося в переднем ряду Избигнева.
Ярослав со «своим» половцем довольно долго кружили по полю, то набрасывались друг на друга, то отскакивали в стороны. Вдруг прервал их схватку чей-то зычный голос. Противник Ярославов метнулся куда-то назад, скрылся за спинами других воинов. На мгновение застыло всё на поле брани. Из рядов половцев выехал вперёд могучий батыр в золочёной броне, в шлеме с личиной. Рукой в боевой рукавице указал он на Святополка.
— Вызываю тебя на поединок! — сказал он по-русски чисто, без акцента.
— Хан Башкорд! — прокатился по рядам сражающихся ропот.
— На мечах биться будем? — спросил Святополк.
— На мечах! — подтвердил Башкорд.
— Погоди! — выехал вперёд Ярослав. — Каковы условия поединка? Я, князь галицкий, вопрошаю тебя, хан Башкорд.
Он расстегнул завязки на шее и снял шелом и прилбицу, чтобы все признали в нём князя. Башкорд же и не подумал снять личины. Ответил громким басом, чётко и непререкаемо:
— Я побеждаю — мы уходим и уводим полон. Ты побеждаешь, — указал он на Святополка, — возвращаешь своих крестьян и меня берёшь в полон.
— Идёт! — крикнул с азартом Святополк.
Они сошлись конные посреди широкой освобождённой для поединка ровной площадки. Лязгнула сталь о стали. Посыпались искры. Только и ходили в руках бойцов мечи, удары сыпались молниеносные, едва успевали оба уворачиваться и прикрываться щитами. Ярославу сперва казалось, что половец бьёт сильнее и что победа останется за ним. Да, Башкорд был единоборец знатный. И так и не понял Ярослав, как удался Свягополку неожиданный скользящий удар сбоку. Вроде и не таил он в себе ничего опасного, но вдруг Башкорд как-то судорожно взмахнул руками и сильно завалился влево. Повторный удар меча, уже в грудь, прямой и сильный, заставил его упасть с коня навзничь.
Святополк прыгнул на него сверху, выхватил засапожник, перерезал завязки, сдёрнул личину.
— Жив! — коротко промолвил он. — Берите его! В обоз!
Гридни подхватили бессильно поникшего головой Башкорда за плечи, оттащили в тыл, к запряжённым грудастыми тяжеловозами телегам.
Потеряв вождя, половцы почти не оказывали сопротивления и сдавались в полон. Где-то на другом крыле, однако, кипел ещё бой. Но и там вскоре всё было кончено. Владимир Андреевич, в покорёженном шишаке, с окровавленным клинком в деснице подскакал к Ярославу.
— Наша перемога! — хрипло выкрикнул он на ходу. — Лучане, правда, чуть всё не испортили. Князь-то луцкий в бег ринул! Но ничё, вернули мы его, остановили у самого Ярополча! А твои Галицкие ратники — молодцы! Крепко бьются! Да и ты сам, брат!
Он в порыве чувств одобрительно хлопнул Осмомысла по плечу.
...Бросив весь полон, с остатками рати Турундай ушёл в сторону Мунарева, но там попал в устроенную союзными Киеву берендеями засаду и, потеряв почти всех своих людей, растворился в степях к югу от Роси.
Разгром, учинённый побужским половцам на Ирпени, меж Мунаревом и Ярополчем, надолго отбил охоту у степных хищников совершать набеги на владения сильного галицкого князя. Тем более что и сам глава их племенного союза, неустрашимый батыр Башкорд, оказался в русском плену.
В Галич, в Луцк, во Владимир, в Киев помчались скорые гонцы с вестью о славной победе. Возвращались к своим домам полоняники, слёзы радости катились из их глаз. Везде по пути дружины встречены были хлебом-солью, отовсюду неслись весёлые песни. Звенели яровчатые гусли, и слышал удивлённый Ярослав рассказы о том, как он, оказывается, рассёк поганого половчина от плеча до седла. Нет, не водилось за ним таких подвигов, и вообще воин он был весьма посредственный. Просто сложилось всё удачно для него в этот раз.
Он смотрел в улыбающиеся исполненные благодарности лица, и тоже улыбался в ответ людям, простым пахарям и ремественникам, понимая, что в празднике, который гремел сейчас на просторах Червонной Руси, была и его заслуга.
Впереди был Галич, были пиры на сенях, и были новые большие дела.
ГЛАВА 76
В глазах пестрело от разноцветья саянов, повоев, кафтанов, летников. Ратники, вытянувшись в длинную цепь, торжественно въезжали в ворота Галицкого посада. Позади остался мост через бурлящий Днестр, вишнёвые сады, богато украшенный дом Семьюнки, широкие приземистые хоромы боярина Молибога, по обе стороны дороги тянулись хаты ремественников и торговцев. За плетнями видны были огороды, конюшни, хлева, амбары.
— Зажиточно у тя народец живёт, — то ли хваля, то ли в укор сказал Ярославу ехавший с ним рядом на вороном актазе[258] Владимир Андреевич. Князь луцкий скакал чуть позади, за ним следом ехал Святополк, горой возвышающийся над всеми, а уже за Святополком, как будто в тени его богатырской силы и стати, держались галицкие и волынские воеводы. Среди них находился и Избигнев. Умело руководил молодой боярин сторожей, явил немало храбрости во время боя и потому заслужил ныне славу и уважение не только галичан, но и луцких и дорогобужских дружинников.
Позади везли телеги с пленниками. На передней сидел страдающий от полученных ран мрачный Башкорд. Красивое бледное лицо половца выражало досаду, но ненависти и ярости в нём не было — обычное дело, битва, воинская удача оказалась на стороне противника. Не раз и прежде попадали ханы и солтаны половецкие в русский плен, и почти всегда откупались и возвращались назад в степи. Правда, был один случай, когда грозный Владимир Мономах, дед Ярославовой княгини, приказал изрубить в куски хана Бельдюза. Но то было давно, тогда было другое время.
Первым делом князья прошли на молитву в собор Успения Богородицы. Стояли на коленях, благодарили Господа за то, что ниспослал им победу над хитрым, сильным и коварным врагом.
Затем они, уже без большинства разошедшихся по домам и по харчевням воинов, отправились к воротам Детинца. Ярослав выехал немного вперёд. Медленно нёс его любимый соловый иноходец. Давно, сразу после битвы пересел на него князь с белого боевого коня. Шёл фарь по знакомой дороге, чуял торжественность момента, держался гордо, величаво изгибал шею. Сам Ярослав, в шапке из розовой парчи, в алом корзне, в кафтане синего шёлка, с мечом в сафьяновых ножнах на поясе, с бородой, которую накануне немного подровнял и подстриг цирюльник, выглядел нарядно, празднично. Поднимая вверх голову, смотрел на заборол, где в ожидании стояли княгини с ближними боярынями. Все они приехали сюда из Луцка и Пересопницы, сведав о победе над погаными.
Вот впереди всех — княгиня Рикса, старая знакомая, названная сестра. Стоит в малиновом летнике поверх тёмного нижнего платья, грудь в серебряных монистах, в высоком головном уборе — жемчуг и то же серебро. Строгая, но вот на лице её промелькнула улыбка, вот помахала платком ему унизанная перстнями рука, вот обернулась она и что-то говорит снохе своей, жене Ярослава Луцкого, полненькой низкорослой дочери Владислава Чешского. Вокруг луцкой княгини — сонм детишек мал-мала-меньше. Молода луцкая чета, тридцати обоим нету, а чад успели нарожать.
Жена Владимира Андреевича, высокая и сухая Святославна, в светло-голубом парчовом платье, в повое с кокошником на голове держалась чуть позади Риксы. В руках у неё тоже был платочек, видно было, как она что-то весело говорит стоящей справа от ворот Ольге. А Ольга... О, Господи! Ярослав едва не зажмурился. Надо ж так разодеться! Словно зима на дворе, а не начало июня, не сады цветут, а снег хлопьями срывается. Тяжёлая шуба бобрового меха струилась с плеч галицкой княгини. Большая, грузная, широкоплечая, напоминала Ольга Ярославу медведицу. На голове — шапочка с собольей опушкой, в ушах — золотые серьги, поверх шубы — ожерелье в три ряда. Шапка сверкает самоцветами, на пальцах — кольца с изумрудами и сапфирами, уста пунцовые кривятся от смеха. Маленькая Фрося тут же, выглядывает осторожно из-за зубцов стены, смотрит с любопытством на отца своего, во главе войска вступающего в Галич победителем.
Княжич Владимир — тот встречает отца в воротах, сидя на коне, рядом с ним заметил Ярослав Коснятина Серославича. Не случайно, верно, отирается хитрый боярин возле наследника галицкого стола. Здесь же и Семьюнко. При виде его Ярослав хитровато улыбнулся. Приготовил он для друга детских лет подарок.
За воротами Ярослав спешился, бросил поводья челядину, обнял Владимира, лёгким кивком головы ответил на приветствия бояр. Стремглав, словно юноша, взлетел на заборол. Тотчас обступили его княгини и боярыни с детьми, спрашивали, говорили что-то наперебой. Рядом счастливая Святославна положила голову в убрусе на плечо мужа.
— Стратилат мой славный! — услышал Осмомысл её ласковые слова.
Ярослав расцеловал в изрытые морщинами щёки Риксу, затем Елену Ростиславну, которая по столь значительному поводу сменила чёрные одежды на ромейский багрянец. Стойно царица выступала двоюродная сестра, улыбкой озарено было её некрасивое, всё в оспинах лицо. Впрочем, радовалась Елена не одной лишь победе над погаными. Из Кракова от Болеслава Кудрявого прибыл в Галич сватом молодой пан Николай. Просил краковский владетель у Ярослава её руки. Выходит, и ей, некрасивой и ущербной, светит солнце, и к ней поворачивается порой ветреная удача.
Оставив довольную сестру, Ярослав подхватил на руки крохотную Фросю и посадил её себе на плечо. Детские ручонки крепко обхватили отца за шею. Дочь смотрела с любопытством и некоторой опаской сверху вниз на князей, княгинь и боярынь. Не выдержав, показала язык белобрысому Ингварю, младшему отпрыску луцкого князя. Давеча играли они во дворе и забрасывали друг дружку песком, да так, что потом мамки долго их отмывали и чистили рубахи.
Осторожно опустив дочь на площадку заборола, Осмомысл повернулся, наконец, к стоящей немного в стороне от всех Ольге. С усмешкой глянул на её вычурный наряд, качнул головой, промолвил тихо, вполголоса:
— Ну и вырядилась ты!
— Мужа встречаю, в лучшее облачилась! — Ольга, кажется, совсем не обиделась на его слова.
Ярославу почему-то захотелось сейчас отойти подальше от этого всеобщего гама, укрыться от неумеренной похвальбы, от льстивых улыбок бояр и челяди, от родичей своих. Он знал, понимал: нынешняя победа — прежде всего его заслуга. Это он собрал дружины братьев-князей, он без устали рассылал гонцов с грамотами, призывая, быть наготове, он вёл воинов Галича, Перемышля, Луцка, Дорогобужа, Пересопницы на сечу. Хотя, конечно, Владимир Андреевич молодец! Стратилат! Верно сказала Святославна. И Святополк! Если б не он, не было б и победы нынешней!
Но от всей этой шумихи Ярослав устал. И потому, улучив мгновение, прошёл он вдоль заборола, мимо гридней с копьями, мимо дозорных на стрельницах, и поднялся по короткой лестнице в смотровую башенку. Отсюда открывался вид на нижний город, весь Галич лежал как на ладони. Вот сверкают крытые свинцом купола Успенского собора, вот мост через Днестр, вот частокол, окружающий посад, вот болонье за городом меж холмами, поблескивает под солнцем вода в болотистых низинах.
Ольга проследовала за ним, облапила, как медведица, прильнула щекой к груди.
— Сожидала, молилась о перемоге нашей, — призналась она. — Слава Христу, оберёг волости галицкие от разору. Что с Башкордом делать будешь?
— Святополк его полонил, у него и спрашивай.
— Святополк! — Ольга с задумчивым видом облокотилась о подоконник. — Выкупи его у Святополка! И казнить вели! Дед мой, князь Владимир Всеволодович Мономах, тако с ханом Бельдюзом содеял.
— Башкорд — не Бельдюз, не бросал в пламя детей малых! Давидович и Берладник — они толкнули хана на набег. Да и, как-никак, родич нам Башкорд. Верхуслава тебе — племянница.
Ольга недовольно фыркнула.
— Тоже мне, родич. Волк степной ему родич! И Верхуславе сей, поганинке нечестивой, такожде! Позором покрыла род наш славный, ускакала, променяла хоромы на юрту вонючую! Дура! Фу!
— Ладно, хватит о них! — Ярослав нахмурил чело. — Не стоят они того! Подумаем потом, как с Башкордом быть. Одно скажу: надолго отбили мы охоту у половцев Галичину грабить. Наголову их разбили под Ярополчем.
Они постояли некоторое время у оконца башни, смотрели вниз, Ольга прижималась к Ярославу, смеялась весело, радовалась, и радость у них обоих была общая. Много лет спустя Ярослав, силясь вспомнить немногое хорошее, что было у него с первой женой, почему-то всегда представлял себе эту узкую башенку, оконце, в которое задувал слабый ветерок, и Ольгу, ласково воркующую у его груди. Бывают минуты какого-то общего умиротворения, когда на душе становится тихо и светло, и именно это переживали теперь они оба, глядя вниз на город.
Ольга вдруг встрепенулась.
— Пойду во двор. Распоряженья отдам боярину Гарбузу. Пора столы накрывать. Гулять дак гулять!
Она поспешила вниз, а Ярослав, оставшись один, ещё немного постоял у оконца. С заборола доносился до его ушей весёлый гам, гости торопились на празднество, громко стучали по ступенькам крутой лестницы шаги.
Князь, наконец, оторвался от своих дум. Впереди ждал его пир, ждало шумное веселье с реками вина, с обилием яств, с долгими славословиями.
...Празднества в Галиче длились целую седмицу. Столы поставили прямо во дворе перед княжеским дворцом. Пировали, как всегда и везде повелось на Руси, по полной! Только и успевали стольники с чашниками подавать кушанья, наливать хмельные напитки в ендовы и братины, а челядинцы уносить пустые бочонки из-под вина, мёда и ола.
Меры люди ни в чём не знали. Быстро надоели Ярославу хохот и шум вокруг. Видел он, едва скрывая презрение, как гридни и отроки бачуются с дворовыми девками и как не отстают от них многие знатные бояре. Приходилось сидеть во главе стола с деланной улыбкой, слушать славословия, здравицы, глядеть на скоморошьи кривлянья. Улучив мгновение, подозвал к себе Ярослав необычно мрачного Семьюнку.
— Что, друже, невесел? Печаль какая душу точит?
— Да что о том баить, княже! — досадливо махнул рукой рыжий отрок.
— А всё же ответь. С малых лет ведь мы друг дружку знаем.
— Да невеста моя… Уехала куда-то. Велела передать, в Коломыю. И чего её туда понесло? Вроде о свадьбе сговаривались. Я уже и с епископом Козьмой толковал. Обвенчал бы нас. А тут...
Ярослав хитровато улыбнулся.
— Ты, Семьюнко, не горюй давай. Пей, веселись. У меня для тебя, кстати сказать, подарок есть. Трофей.
— Какой ещё подарок? Что за трофей? — удивился отрок. Понял он, что затевает что-то князь, но что, догадаться никак не мог.
— Ну, какой, какой! Службу ты мне правил верно, вот и решил я тебя вознаградить. Эй, отроки! — Князь подозвал двоих молодших дружинников и подал им рукой условный знак. Затем встал со стольца и поднял чару с красным вином.
— Вот друг мой, Семьюнко, отрок. С детских лет мы с ним вместе. Не довелось нынче ему в сече побывать, другие важные дела он вершил. Имею желание наградить его!
За столами зашумели враз, захлопали в ладоши. Лукаво потупили очи Рикса и Ингреда, сидевшая за столом рядом с Избигневом. Ведали сии жёнки, что за подарок приготовил Ярослав для Семьюнки.
Отроки привели во двор всадника, всего закованного в булатную броню. Панцирь чешуйчатый серебрился на солнце, к островерхому шишаку приделана была торчинская маска — личина с прорезями для глаз, рта и ноздрей, на ногах были бутурлыки, на руках — рукавицы кольчужного плетения.
— Ну вот тебе, Семьюнко, трофей! — возгласил Ярослав. — Смотри, береги его, никому не отдавай!
Семьюнко недоумённо пробормотал:
— Спасибо, княже! Токмо что мне с сим трофеем делать?
Пожав плечами, уставился он на неведомого вершника. Что за прихоть, что за причуда такая у князя? Кто этот всадник неведомый? Вроде статью не вышел, и росту невеликого. И почему вдруг, не выдержав, прыснула со смеху, стыдливо прикрыв рот, обычно такая серьёзная холодная Ингреда?
Несмело подошёл Семьюнко к всаднику, спросил угрюмо:
— Ты кто такой?
Вершник резким движением сорвал с лица личину. Смеющаяся Оксана стреляла отрока васильковыми глазами, хохотала от души, запрокинув немного назад голову. Шишак и прилбица полетели в траву. Коса золотистая упала на спину. Семьюнко, вспыхнув от неожиданной радости, схватил невесту за руки и чуть ли не вырвал её из седла. Опустил Оксану наземь, обнял, расцеловал. Вокруг царило оживление, отовсюду неслись шутки и прибаутки, а Семьюнко, словно зачарованный, заворожённый Оксаниной красотой, не замечал ничего, кроме этих озорных васильковых очей, кроме озарённых смехом алых уст, кроме румяных ланит и носика остренького, слегка подрагивающего в такт словам:
— Спешила к тебе. Ждала встречи с тобой.
— Жалимая! — только и смог шёпотом вымолвить в ответ Красная Лисица.
Взявшись за руки, они подошли к Ярославу и поклонились ему в пояс. Кто-то из пирующих уже крикнул громко пьяным голосом:
— Горько!
В сладостном медовом поцелуе слились нежные губы.
— Ну вот! — промолвил довольный Ярослав. — По случаю победы над половцами сыграем сразу две свадьбы. Сестрица моя, княжна Елена Ростиславна нынче выходит за краковского князя Болеслава Кудрявого. Прислал Кудрявый к нам мужа своего, пана Николая. И Семьюнко, друг мой, женится. А чтоб сподручней было тебе, отроче, невесту к алтарю вести, вот тебе от меня ещё один дар.
Серебряная боярская гривна заструилась на шее Красной Лисицы. Смутившийся Семьюнко растрогался и обронил скупую слезинку. Оксана, сбросив, наконец, с рук кольчужные рукавицы, захлопала в ладоши. И тотчас дружно ударили в пляс скоморохи, заиграли сопели и дудки. Продолжился на княжеском подворье весёлый праздник.
ГЛАВА 77
В соборе царила торжественность. Из слюдяных окон под главным куполом струился неяркий ласковый свет. Сверху, с хоров лилось сладкоголосое песнопение, курился фимиам. Епископ Козьма, облачённый в праздничный саккос, сам правил службу с протоиереями и протодиаконами. Горели лампады и паникадила. Богоматерь Оранта простирала длани и словно заключала в объятия всех собравшихся под сводами храма.
Елена Ростиславна и Оксана, обе в нарядных подвенечных платьях — белых с широкими багряными полосами, набелённые, нарумяненные, смотрелись по-праздничному ярко. Скрыли белила оспины на лице Елены, улыбалась она немного смущённо, когда юный пан Николай, представляющий в Галиче особу жениха, бывший как бы его второй ипостасью, надевал ей на палец золотое кольцо.
Женщины-простолюдинки шептались:
— Вот и наша дева старая замуж пошла. Уж не думал никто, не гадал.
— А вдовушка-то, боярыня Оксана! Вона какой павой выступает.
— Хоть и перестарки обе, а красны невесты-то.
— Тебе б столько румян да белил наложили, тож красовалась бы!
— Да нет, правду молвят: на Руси что ни баба, то цветок. Вот и сии расцвели.
...Накануне в княжеских хоромах по старому славянскому обычаю совершён был обряд подкладин невесты. Елену и Николая положили в лучших одеждах на крытую парчой постель. Между ними поместили огромный обнажённый меч, тем самым запрещая до венчания телесную близость. Лежала новобрачная, положив голову на высокую подушку, и думала о том, что надолго, а может статься, и навсегда покидала она родной Галич и двухродного брата, который воистину стал для неё благодетелем. Жила бы в монастыре, ходила в чёрном платье, сохла тихо в келье, всеми забытая. А так... Краковская княгиня! Муж, дети, каменный Вавельский замок, романские базилики, чужая латинская вера. А может, монастырь был бы лучше? Засомневалась вдруг Елена, но поздно было теперь, лёжа на этой постели рядом с обнажённым мечом, что-то менять. Выбор был сделан.
...В один день с княжеской сестрой обвенчан был и бывший отрок, а ныне боярин Семьюнко Изденьевич. Сбылась, наконец, давняя мечта Красной Лисицы, с обожанием смотрел он на красавицу — невесту свою и ждал с нетерпением того момента, когда наденут ей на голову венец и проведёт их епископ вокруг аналоя. В окружении сверкающего золота и роскошных одеяний галицкой знати, фимиама кадильниц, ликов святых стояли они оба, Оксана и Семьюнко, чуть растерянные, оглушённые громовым басом Козьмы, пением хора и всей этой яркой праздничной торжественностью. Оглушённые, но радостные.
Потом был пир в новом доме у моста, были здравицы, подарки, поцелуи. Был Мина, едва державшийся на ногах от выпитого сверх всякой меры вина, был князь Ярослав, сердечно обнимавший их, была улыбающаяся Рикса, оставшаяся покуда погостить у любезного «братца» в Галиче, были Избигнев с Ингредой, Коснятин со своей затворницей Гликерией, воевода Тудор, боярин Чагр. Даже старец Молибог, и тот явился на пир к Семьюнке. С трудом, при помощи двух челядинцев, ходил белобородый боярин по терему, кивал одобрительно головой, шамкал беззубым ртом:
— Лепо, лепо...
Наконец, настала ночь. Разошлись по домам высокие гости. Храпел на полатях Мина; старая Харитина, с укоризной глядя на упившегося первенца, распоряжалась в горницах. Семьюнко с Оксаной остались наконец одни.
— Ну вот, твоя я, — шепнула новобрачная.
Сброшено платье, в тусклом свете свеч проступает её упругая грудь, стройный стан, она лукаво улыбается, а затем решительно хватает немного оробевшего Семьюнку за руку, сажает его на лавку и по обычаю стаскивает с него сапоги.
Они лежат в просторном покое, обнявшись, нежные пальчики щекочут волосатую грудь сына Изденя, спускаются ниже, и он, уже готовый, наконец, с неким буйным диким восторгом совершает то, что и должен был сейчас совершить. Много позже, когда утомлённая ласками Оксана заснула, умильно приоткрыв алый рот, Семьюнко, сев на постели, с обожанием и нежностью долго смотрел на неё. На лице его проступила слабая улыбка. Впереди их обоих ждало счастье, ждала жизнь, ждала любовь.
ГЛАВА 78
В ветвях буков щебетали птицы. Утренний луч солнца пробивался сквозь густую листву, падал на влажную землю, капельки росы переливались всеми цветами радуги, вспыхивали искорками брызги воды в горном ручье.
На многие вёрсты простирались вокруг густые рощи из бука, отчего и край этот звали Буковиной. На холмах рассыпались укреплённые городки, к стенам и валам которых тесно лепились мазанки окрестных сёл и ремественных слобод. Кое-где вдоль берегов рек полосами пересекали лесные массивы возделанные пашни. Зверя в лесах водилось столько, что хоть целый год лови его — не переловишь. Ярые огромные туры, зубры, светло-бурый медведь карпатский, дикий кабан, желтодущатая куница, благородный олень, косуля, рысь — кого только не повстречаешь в здешних лиственных пущах. Буки порой перемежались с длинноствольными прямыми грабами, с пихтами в предгорьях Горбов, с раскидистыми дубами, такими, что троим не обхватить. Дубовые леса тянулись севернее, уходили к самым верховьям Днестра и дальше в Малую Польшу. Говорят, в ветвях одного такого разлапистого дуба был построен целый замок. А ещё по преданию рос где-то у подошвы Бескид, на самой кон-границе Червонной Руси дуб, от корней которого брали свои истоки три великих реки — Днестр, Сан и Тиса. То была красивая легенда, но почему-то в неё хотелось верить, особенно когда находишься здесь и вдыхаешь этот чистый прозрачный воздух.
Ловы учинил и пригласил сюда князя Ярослава, его ближних бояр и отроков Чагр. Сам родом половец, ведущий род свой от белых куманов, боярин старался тем самым выказать Ярославу свою преданность, подчеркнуть лишний раз, что к Башкорду и иже с ним не имеет он ни малейшего отношения.
Ловы выдались удачными, завалили дружинники в роще свирепого вепря, а на скальном гребне выследили и взяли на рогатину матёрого громадного медведя. Многоценную шкуру сего зверя Чагр торжественно преподнёс в дар князю. Кланялся Ярославу до земли, говорил о том, что Русь давно стала для него и его семьи родным кровом, а степные обычаи ещё отец и дед его, служившие отцу и деду Осмомысла, отринули как чужое и враждебное.
Всё правильно говорил боярин, щеря в улыбке мелкие, как у кошки, зубы, да слишком уж старался, больно уж льстивы были его речи. Чего-то добивался от князя хитрый белый куман, что-то хотел выгадать для себя. Но что, Ярослав покуда не понимал. Не мог он раскусить Чагра, а потому держался настороже. Пожалел, что проведчик Семьюнко остался в Галиче — тот бы, глядишь, чего и вызнал.
Не верил Ярослав боярам, помнил былые заговоры их и козни, помнил, как упорно боролся с их властью долгие годы покойный отец. Нет-нет, да приходили на память отцовы слова: «Расколоть их надобно, сыне, не дать набрать силу».
Расколоть... Легко сказать... Затаились ныне многие, сидят тихо, ждут часа удобного...
Утро выдалось солнечное и тёплое. Дышалось легко, свободно, и не хотелось Ярославу думать о кознях и интригах. Сладко улыбающееся круглое лицо Чагра было смешным и в то же время неприятным.
«Господи, чего он так пресмыкается! Если что надо, говорил бы уж!» — думал с недовольством, тщательно упрятанным за деланной ответной улыбкой, Осмомысл.
Он тронул боднями белого фаря, поскакал вперёд, по проложенной вдоль ручья просеке. Густые тени дерев падали на тропу. Рысью мчался князь, взмывая с холма на холм. Сзади скакали отроки, везли в обозе богатые охотничьи трофеи.
Сам Ярослав ловы не особенно жаловал. Не был он охотником, не любил рисковать собой, бросаясь с рогатиной на медведя или уворачиваясь от клыков дикого кабана и рогов ярого тура. Другое дело, что ловы немного отвлекали от тяжких державных дум, от забот об устройстве своей земли и потому были важны и даже необходимы ему.
Расступился лес, широкое поле открылось впереди, ветер засвистел в ушах Соловьём-разбойником. Дорога круто пошла вниз, пересекая песчаные террасы и выводя к берегу среброструйного Днестра.
Кони дружинные с довольным фырканьем устремлялись в воду. Брызги летели во все стороны. Ярослав спешился, поднялся по реке чуть выше, набрал в ладони воды, жадно попил, ополоснул лицо.
Всё вроде шло хорошо. Он выгнал из Киева вздорного Давидовича, победил в жаркой сече половцев, раскрыл боярский заговор, отбил нападение берладников. Заключил, в конце концов, союзные договоры со всеми ближними соседями. Но чего-то душе и сердцу не хватало. Чего, и сам сразу понять не мог.
Ярко светило на голубом небе солнце. Близил полдень. С реки дул лёгкий ветерок, ласкал разгорячённое скачкой чело. По телу растекалась благодать. Всё-таки Чагр — молодец! Ублажил, вовремя учинил эти ловы, отвлёк от дел. И князь, обернувшись, едва ли не впервые улыбнулся ему широко и добродушно, а не через силу. Проницательный боярин, видно, приметил перемену княжьего настроения. Подъехал поближе, ловко спрыгнул с седла, предложил:
— В Галич воротимся, прошу в гости, светлый княже! На пир!
Ярослав милостиво дал на это своё согласие.
...Пировали на широкую ногу, весь цвет галицкого боярства собрался под крышей Чагрова терема. Светлы и просторны хоромы боярина, хоть и не столь велики вроде бы. Но всех, кого надо, вместили, и тесно не было. Во время трапезы улучил хлебосольный хозяин мгновение, привёл в горницу и представил Ярославу двоих дюжих хлопцев — сынов.
— Чада мои, Лука и Матфей. Хочу просить тебя, взял бы ты их, светлый княже, к себе на службу. Пользу тебе принесут. Гонцы, биричи, послы...
Вслед за Лукой и Матфеем подвёл Чагр к Осмомыслу черноволосого кустобородого юношу, внешне сильно смахивающего на половца.
— Племянник, Акиндин. Сестры покойной сын. Силу в дланях имеет неимоверную. Просится в дружину. Примешь?
— Отчего не принять? Всех приму, коли желание имеют.
Акиндин упал на колени, стукнулся лбом о пол. Промолвил громким хриплым голосом:
— Спасибо, князь!
Пировали с утра до глубокой ночи. Стольники разносили яства. Среди прочих обратил внимание Ярослав на невысокую девочку-подростка в цветастом саяне с узорочьем по вороту и рукавам. Вроде девочка как девочка, много таких вокруг. Ну, личико смазливенькое, глазки серенькие чуть с раскосинкой, носик прямой и тонкий, светленькая косичка за спиной, а что-то было в ней завораживающее, отчего-то заходило толчками в груди сердце.
Чагр уловил направление княжеского взгляда, сказал вполголоса:
— Дочь. Настасья. Рада всегда угодить тебе, светлый княже.
— Сколько ей? — спросил, с трудом оторвавшись от созерцания отроковицы, Ярослав.
— Двунадесять.
— Малая.
— Ничего. Лето — другое, и невеста, — Чагр рассмеялся.
Он жестом подозвал дочь к себе.
— Поклонись князю! — велел с неизменной широкой улыбкой.
Настасья покорно, потупив взор, отвесила Ярославу глубокий поклон, коснувшись ладонью пола. Затем она поднесла ему чару с вином, молвила тонким звонким голоском:
— Выпей, княже! Да придёт к тебе счастья свет!
Юная совсем отроковица, а как светятся серые глазки! Какое лицо у неё прекрасное! И уже проступают под саяном округлости грудей. Или кажется ему, Ярославу, всё это?! И нет никакой Настасьи вовсе, а это всего лишь блажь, морок? Или подсыпали ему боярские слуги в вино какого зелья?
Он вышел на гульбище, вдохнул в лёгкие свежий вечерний воздух. Глянул на звёзды, отыскал Стожары[259], ковш Большой Медведицы, Прикол-звезду[260]. Отодвинул прочь от себя суетные мысли, коротко распорядился седлать коня. Распрощался с хлебосольным хозяином, выехал за ворота, медленно поехал по спящей улице к своему дворцу. Девочка Настасья почему-то упрямо не выходила из головы. Что-то колдовское чудилось в её глазах, во всём её лице, в тонкой фигурке. Что, понять было невозможно. Только почувствовал Ярослав вдруг, в единый миг, что жизнь его вот-вот сделает крутой поворот. Как вот эта дорога, змеёй петляющая по склону горы. И никуда не уйти, не деться, не убежать ему от этого поворота, от извилистой петли, от судьбы.
ГЛАВА 79
За пятьдесят гривен серебра Ярослав выкупил у Святополка пленного хана Башкорда. Половца поместили в одну из узких теремных башен княжеского дворца и приставили к нему крепкую охрану из оборуженных копьями гридней. Хана хорошо кормили с княжого стола, иногда выпускали в сопровождении стражей подышать свежим воздухом на гульбище, но следили за ним крепко. Всюду, куда ни бросал взгляд хмурый Башкорд, видел он острые наконечники копий и кольчатые доспехи. Прошла седмица, месяц. Казалось, позабыли все о знатном пленнике, занятые своими каждодневными делами.
Но вот единожды в камору, где заключён был Башкорд, пришёл сам князь Ярослав. Пришёл в обычной домашней сорочке с узорчатой прошвой по вороту, рукавам и подолу, в штанах посконных, в постолах. Будто и не князь вовсе, и не к пленному хану явился, а к одному из домочадцев своих.
— Здрав будь, хан, — сказал он по-русски и затем повторил приветствие на половецком наречии.
— Не трудись, князь, говори на русской мови, — усмехнулся в ответ Башкорд. — Она мне хорошо известна.
— Пусть так. — Ярослав кивнул. — Вот, дошли и до тебя ноги мои. Извини, ранее недосуг было.
Князь устроился на лавке напротив пленника, жестом руки приказал гридню с копьём выйти за дверь и продолжил разговор:
— Всё вот думаю и никак решить не могу, что с тобой делать? Может, потолкуем вместе с тобой, да и определим, как тебе теперь быть.
— О чём говорить нам? — Башкорд пожал плечами. — Ты — мой враг. Ты оказался сильнее. Твои люди взяли меня в полон. Иссекли мою орду. Взяли моих рабов. Угнали моих коней и верблюдов. Делай со мной, что хочешь. Хочешь — убей. Хочешь — отпусти, я заплачу тебе большой выкуп. Намного больше пятидесяти гривен.
— Ошибаешься, хан. Нам есть о чём потолковать. Оба мы — владетели больших земель. Я — князь Галицкой земли, ты — глава побужских орд, главный в Кодымской степи. От устья Дуная и до Днепра простираются твои владения. И вот жили мы до поры до времени, друг друга не тревожа. Ходили через твои земли караваны галицких купцов, пригоняли на торг в мои города твои люди добрых коней, вскормленных на сочных степных травах. Но вот явился к тебе один недобрый человек и разрушил мир. Звали его Иван Берладник. Так ведь? — спросил Ярослав, строго глядя на хана.
Башкорд ответил не сразу. Погладил перстами узкую бородку, сощурился, качнул головой. Сказал, наконец:
— Да, было так. Но были у меня и твои люди. Избигнев и Або, угорец. Я отказался им выдать князя Ивана. Иван был моим гостем. Особа гостя неприкосновенна. Это у вас его могут отравить, убить, ослепить. У нас, у кипчаков, другие обычаи. И твои люди ночью напали на мой стан. Была сеча, и мы прогнали твоих людей в степь, как прогоняют ядовитых собак! И не стало между нами мира, князь.
С гордым презрением смотрел хан на Осмомысла.
— Что было, то было, — как-то просто, буднично прозвучали ответные слова Ярослава. — Да, Избигнев погорячился. Но ведь и без той сшибки ты бы пришёл в Подолию, подверг бы разорению городки и сёла на Днестре. Сначала ты посылал к Ивану Турундая, а нынче сам пришёл со всей ордой. И я знаю, почему ты пришёл. Князь Изяслав — ты за него, за шурина своего решил отомстить, за неудачу его и свою под Белгородом прошлой зимой. Мой тебе совет: брось с ним союзиться. Этот князь погубит и себя, и друзей, и союзников своих. У него одно на уме — власть вышняя. Всю Русь хочет под себя сгрести. Для него великий стол, что вода для путника, страждущего от жажды в степи.
— Ты говоришь так, потому что ты — урус. У нас, кипчаков, всё не так, как у вас, — возразил Башкорд. — В наших кочевьях всё решает курултай. На нём главы племён, орд и родов избирают главного хана. Куда и когда нам идти в поход, решает курултай.
— Понимаю: набеги, угнанный скот, полон — это ваша жизнь. Но доселе вы не нападали на Галичину. Выступали на стороне одного русского князя против другого — это да, было, и много раз. Но теперь, хан, времена изменились. Ты и твой шурин этого не поняли, не учли. Не постигли, что я и Мстислав Волынский заключили тесный союз, что мы помогаем друг другу, а с силами Волыни и Галича тебе, хан, не справиться. Ни одного набега тебе не попущу! Если сейчас здесь не умиримся, пойду на Кодыму, разметаю твои кочевья, сожгу юрты, уведу в плен ваших женщин, детей и рабов. Оставлю степь пустой. У меня хватит сил. Не забывай, что у меня союз также с уграми, с чехами и с ляхами. И поверь, я всех соберу под свои знамёна. И пойдут ратники, как рыцари западные в поход крестовый.
— Не будет такого! — Башкорд вдруг рассмеялся. — Вы передерётесь между собой, как голодные волки! Нет, князь, наш мир тебе не переделать. Лучше скажи, сколько тебе надо за меня. Заплачу.
— Если бы о том только шла речь, не сидел бы я здесь, не тратил на тебя время! — с досадой резко выпалил Ярослав. — Надо мне от тебя не так и много. Но и немало. Первое: отстань от союза и дружбы с Давидовичем! Брось его! Из-за него бесславно пали лучшие твои батыры под белгородскими стенами! Второе: дай клятву не трогать набегами Галичину! И третье: не союзься с берладниками. Кстати, ведома ли тебе некая Марья-разбойница? Недобрая ходит о ней слава. Две ладьи греческие на Дунае захватила сия жёнка, пограбила купцов дочиста. И на селения мои близ Ушицы людишки её нападение нынче учинили.
— Кто такая, не знаю, князь. С берладниками я не сношусь. Хану племени кипчаков с изгоями не по пути! — решительно заявил Башкорд.
— А Ивану зачем тогда помогал?
— Иван — князь! Марья — разбойница!
— Выходит, берладников поддерживать не станешь? И мне не будешь мешать с ними разбираться?
— Нет. Они — сами по себе. Вольные люди.
— Отрадно слышать. А от Давидовича — отступишься? И мои земли тревожить перестанешь? Если так, отпущу тебя за выкуп.
— Этого обещать тебе не могу, — прямо и честно ответил Башкорд.
— Ну, что ж. Посиди тогда здесь пока, подумай. Не тороплю. Зови, если что решишь.
Князь встал и, не глядя более на Башкорда, вышел в переход. Снова заняли место у дверей каморы двое гридней с длинными копьями. Продолжилось для хана унылое сидение в теремной башне. В узкое оконце видел он осколок синего неба и стаи воркующих голубей. Мог сейчас Башкорд, конечно, поклясться, лукаво пообещать, что исполнит все требования Ярослава, но он был честен, и за это его ценили и в Половецких степях, и на Руси, и в далёком Херсонесе. Знали: на слово хана всегда можно положиться. Для него смерть была лучше, чем клятвопреступление. Вот и сидел Башкорд в утлой каморе, взирал в оконце и терпеливо ждал своей участи.
ГЛАВА 80
Ярослава позвала к себе в горницы взволнованная Ольга. Прислала сперва холопку, но затем сама, не выдержав, поспешила ему навстречу.
— Ярослав, жена Башкордова ко мне явилась. Сребро за хана предлагает! — выпалила она на ходу, не скрывая возмущения. — Прискакала, бесстыжая, как сведала, что муженёк её поганый у нас в полоне! В поклонах стелится: тётечка, мол, милая, родная, помоги! А как в степь сбежала за любезным своим, род наш позором покрыв, дак то уж и позабыла! Хотела я её тотчас вон прогнать, да порешила тебя сперва известить.
— И верно сделала, — похвалил супругу Ярослав. — Никогда без меня в такие дела не ввязывайся. Пойдём, послушаю, что она скажет.
Ольга недовольно фыркала, как рассерженная кошка.
...Статная крупная женщина, лет примерно равных с Ярославом, синеглазая, с загорелым лицом, в шапочке с меховой опушкой, какие носят половцы, в шёлковом платье и шароварах, встала со скамьи и отвесила ему поклон.
— Полагаю, ты Верхуслава Всеволодовна, двухродная племянница моей супруги? — осведомился Осмомысл.
— Она самая, — ответила жёнка певучим грудным голосом.
— Что ж, будь у меня в доме гостьей.
— Гостьей?! — вспыхнула вошедшая вслед за мужем в горницу Ольга. — Да таких гостей и на порог бы не пускать! Поганинка! Родину свою предала, от веры православной отвратилась, дрянь! Отца и деда свово опозорила! Мужа покойного, Владимира Давидовича, смертью храбрых в сече павшего, память оскорбила! За кустобородым сим ускакала! Верно, и мову русскую позабудешь вборзе, блеять, как овца, начнёшь!
Лицо Верхуславы покрыл багрянец гнева.
— Довольно! — прикрикнул на жену Ярослав. — Негоже так.
— Веру я не предавала! — вытянувшись в струнку, вскочила с лавки возмущённая Верхуслава. — И память Владимира не оскорбила ничем! Относила платье вдовье, как положено! Да токмо жизнь-то ить дальше течёт. Не век горевать! А что до поганых, дак ты сама, тётка, наполовину половчанка! Матушка твоя дочерью хана Аепы была. Не думала я, князь, — обратилась она к Ярославу, — что в доме твоём такие о себе слова услышу! Впрочем, Бог вам судья. Выкуп я привезла за хана Башкорда. Отпусти его.
— Выкуп? — Осмомысл обернулся к Ольге. — Прошу тебя, выйди покуда. Наедине мне с племянницей твоей потолковать надо.
Ольга, презрительно передёрнув плечами, покорно вышла.
— Ну вот, одни мы теперь тут, Верхуслава. Родичи мы с тобою весьма дальние. А глаза у тебя, верно, от матери. Помню княгиню Веру. Новгородка она была, тысяцкого дочь. Малой я был, когда приезжала она в Перемышль. Волости у ней какие-то на Волыни были, вот по пути и... Красивая была, и глаза, как твои. Синие, что васильки на лугу. Со мною и сестрой Евдоксией играла, пряники нам дарила. Ласкова была. На всю жизнь её запомнил.
— Давно уж матери на белом свете нету, — Верхуслава вздохнула, обронила скупую слезу, вопросительно посмотрела на Ярослава. — Что ты о ней вдруг?
— А то, что русичи мы оба, и ты, и я. Зачем нам с тобой во вражде жить? Намедни долго толковали с твоим супругом. Хочу я от хана добиться, чтоб дал он клятву не нападать более на мои земли. И ещё, чтоб от союза с Давидовичем он отстал. При таких условиях выпущу я его. Если бы ты помогла убедить хана... — Ярослав не договорил.
Верхуслава остановила его, обхватив белой пухлой рукой запястье.
— Вели крест принести. Поклянусь, что, покуда жива, ни единого набега хан Башкорд на Червонную Русь не совершит! — заявила она твёрдо. — А про Давидовича ничего обещать не могу. Но, думаю, мой муж сам поймёт, что нечего его держаться. Роту даю, что помогать буду тебе, брат Ярослав, и новой рати меж вами не допущу. Жили мирно, жить и будем. И муж мой — не злодей, не разбойник! Изяслав с Берладником его смутили. Ну, и наши солтаны тож хороши. Им бы пограбить токмо. Вот и лежат топерича все почти в поле.
Ярослав осторожно провёл ладонью по пальцам Верхуславы. Сказал со вздохом:
— Понимаю, не всё столь просто. Твой сын, Святослав, племянник Давидовича, держит его руку. Сидит далеко от тебя, во Вщиже. Не ведаешь ты его мысли. Но всё ведь кровь родная. Вот если бы ещё и его от союза с Изяславом отговорить...
— То трудно. Изяслав — старший князь среди черниговских. Мой сын — в его воле. Пока...
— Пока... — повторил Осмомысл. — Ну, а клятву на кресте требовать от тебя я не буду. Верю тебе, Верхуслава Всеволодовна.
За выкуп отпущу я Башкорда твоего в степи, так и быть. Пусть только помнит всё, о чём я с ним говорил.
...Хан и ханша, сопровождаемые небольшим отрядом половцев, уехали в Дикую Степь. Оружные галицкие дружинники в бронях провожали их до самой Кодымы. Перед тем Башкорд дал клятву держать с Ярославом мир. Видно, добилась от мужа Верхуслава того, о чём не смог уговориться с ним Осмомысл.
Высоко в небе над степью кружил хищный ястреб. Вот ринулся он резко в высокую траву, подхватил когтями какую-то мелкую птицу и круто взмыл ввысь, скрываясь в синем просторе неба. Так же быстро скрылся за окоёмом посреди высохшего под жарким солнцем разнотравья и маленький отряд половцев. Скрылся, чтобы никогда больше не возвращаться сюда, на берега стремительного Днестра.
...Весь выкуп за Башкорда Ярослав отдал Ольге. Княгиня хотела выстроить для себя отдельные хоромы и послала в далёкий Суздаль гонцов брату Андрею с просьбой прислать добрых зиждителей. Уже в начале осени в Галицком Детинце закипело строительство.
Стучали топоры, жужжали пилы. Это были звуки мирные, Ярослава они только успокаивали и заставляли думать о том, что одержал он ещё одну победу — не на бранном поле, а за столом долгих переговоров. От очередных напастей, от будущих лютых бед уберёг он родную землю — Золотую Червонную Русь.
На очереди был Берлад.
ГЛАВА 81
Пока на Днепровском правобережье, в Червонной Руси и на Волыни устанавливался порядок, пока галицкие ратники гнали в степь орды Башкорда и Турундая, к востоку от Днепра, на Черниговщине бушевал разъярённый Давидович. Дважды приводил он в Посемье и на берега Десны донских и донецких половцев, вместе с ханами жёг сёла и деревни, подступал в дыму пожарищ к самому Чернигову, но оба раза был отогнан от города объединёнными дружинами Ростислава Киевского и Ольговичей.
Отбились от неудачливого князя и жители Путивля, ушёл Изяслав за Сейм, на половецкую сторону, договариваться со своими союзниками о новом нападении на Русь. С ним вместе в бескрайние просторы Дикого Поля поспешили с добытым полоном ханы из племени Догостаничей. Будет на что купить дорогие наряды и доброе заморское оружие, чтобы снова и снова налетать со свистом ветра в ушах на левобережное пограничье.
Казну свою и княгиню Марфу поручил Давидович заботам Ивана Берладника. Иван остался в Выри, небольшой крепости на берегу реки Вир, одного из левых притоков Сейма. Крепки были дубовые стены, высоки надвратные башни Выри, широкий ров облегал крепость, крутой земляной вал затруднял осаду. Вокруг тянулись цепочками пологие густо поросшие лесом холмы, меж ними темнели глубокие балки.
Золотая осень царила на Черниговщине. В жёлтый наряд оделись дубы, липы, осины. Удивительной красоты вид открывался с заборолов и башен Выри, на многие вёрсты вплоть до устья Вира перемежалась изумрудная темень сосновых боров с яркой охрой лиственных рощ.
В Выри Иван мыслил отсидеться до возвращения Изяслава с половцами. Утрами обходил он стены, пристально осматривал каждый зубец, каждое прясло. Понимал прекрасно: каша на Северянщине заваривалась густая. Столь яростное межкняжеское противостояние было разве что в годы, когда бились за киевский стол покойные Долгорукий с Изяславом Мстиславичем.
Везде и всегда рядом с Иваном была теперь Марфа. После отъезда Давидовича предавались они греху, по-прежнему таясь от всех. Почти каждую ночь проводили вместе, на широкой постели в доме местного тысяцкого, и удивлялся Ростиславич, насколько горяча и пылка была половчанка, сколь много было в ней страсти и желания. Иной раз и ночи не хватало, не хотела отпускать его Марфа с рассветом, обнимала, целовала с прежним неуемным огнём, постанывала от наслаждения, от желания ненасытного, порывистая, резкая, яркая.
Много женщин было у Ивана в жизни, и робкие полонянки встречались, и бабы дорожные, привычные к любовным утехам, отдававшиеся ему с ленивым равнодушием, и боярские жёны и дочери, дарующие любовь как благо или как милостыню безудельному князю-изгою. Марфа не походила ни на одну. Находясь с ней рядом, Иван едва ли не впервые за лихую свою жизнь чувствовал, что любим по-настоящему.
Марфа целовала и щекотала языком его бесчисленные заработанные в бешеных сшибках шрамы, пальцем закручивала оселедец, игриво улыбалась, острыми ноготками проводя вокруг заросших густыми волосами сосков, со смехом раз за разом сжимала в ладони и вращала, возбуждая, его набухший могучий фаллос.
— Неутомимая ты, — говорил Иван, ласково оглаживая каскад её волнами падающих на плечи иссиня-чёрных волос.
«Вот ить молода ещё, Башкордова сестра. Жаждет любви, — думал после, охолонясь в сенях. — Мужу, князю Изяславу, выходит, изменяет. Но что поделать, еже любит, любит меня без памяти! Грешница нераскаянная! А я? Князь Изяслав меня, почитай, от смерти в яме вонючей спас! И чем ответил я? Жену его соблазнил! Мало что там болтал Нечай про наложниц!»
Что же остаётся ему? Каяться, стоять на коленях, взывать к Господу о прощении?! А ночью опять идти к ней, к ласкам и неистовому огню любви?!
Вражьи рати появились с полуночной стороны, оттуда, где узенький Вир вливается в вялотекущий спокойный Сейм. Подступили к валам Выри черниговцы Святослава Ольговича, союзные ему берендеи и скаявичи, с ними вместе шли Владимир Андреевич со своей дружиной и галичане с воеводой Тудором Елуковичем.
Обложили вороги Вырь, стиснули со всех сторон. Сотни стрел калёных запели в воздухе. Взмыли ратники в кольчатых бронях на вал, перебросили через ров длинные брёвна, по ним стали подбираться к крепостным стенам.
Кусал Иван с тревогой усы. Мало у него под рукой воинов, чтоб противустать этому булатному потоку.
Велел стрелять из луков и самострелов, тушить зачинающееся на забороле пламя. Берендеи и скаявичи залпом пускали в стену и в башни — стрельницы горящие пропитанные серой и смолой стрелы. Пожар тушили все жители городка: носили вёдра, передавали друг дружке по цепочке. Старый, малый, больной — все спешили к городскому детинцу.
Пламя удалось сбить, погасить, но пока боролись с языками огня, осаждавшие подступили к самым стенам. По дощатым приставным лестницам полезли черниговцы, галичане, берендеи на заборол.
Иван, размахивая мечом, призывал своих держать оборону.
— Не пущайте их на заборол! — кричал, срывая голос. — Офим! Слева! Ядрейко! На заходнюю сторону беги! Сбивай, сбрасывай лестницы!
Неожиданно оказалась на площадке заборола Марфа. Дощатая бронь облегала стан женщины, голову покрывал шишак с наносником. В руках она держала длинную саблю.
— Ты куда, княгиня?! Оберегись! Укройся! — схватив смелую женщину в охапку, Иван спрятался с ней вместе за зубчатым выступом.
— Ты чего?! — хрипел он. — Вниз вборзе ступай! А еже стрела вражья!
Марфа решительно замотала головой.
— Не хуже я воинов твоих бьюсь. Не забывай: во степи выросла, с конца копья вскормлена.
Махнув досадливо рукой, бросился Иван назад, в место на забороле, где кипела отчаянная схватка.
Скрещивались мечи. Рубил с яростью Иван обнаглевших лезших на заборол врагов. Отброшены черниговцы и иже с ними вниз, разбиты осадные лестницы, жители Выри льют на них сверху из котлов пахучий смоляной вар.
Вражеский ратник бросился на Ивана откуда-то сбоку, столь внезапно, что Берладник не успел повернуться и изготовиться отразить удар меча. Но вдруг нападавший обмяк, выронил оружие и со стоном завалился набок.
— Вот тебе! — Марфа занесла длань и повторно ударила его саблей в плечо.
— А говорил: укройся! — молвила она с усмешкой, указывая на сражённого неприятеля. — Он бы тебя убил!
...Иван стоял, не зная, что ей и ответить. Приложив руку к сердцу, молча поклонился княгине в пояс, наскоро поцеловал её в нежную щёку и побежал вдоль стены, к месту, где ещё кипел бой.
Натиск осаждавших был отбит. Ближе к вечеру союзная рать отступила за вал и расположилась лагерем вокруг крепости.
Иван вызвал сотников и тысяцкого и приказал наладить сторожу на стенах.
— Следить надобно, чтоб нощью нападение не учинили, — велел он коротко.
Отдав распоряжения, спустился Берладник во двор крепости, прошёл к себе в покой, предался короткому отдыху.
Откуда-то из тёмного угла высунулся и легонько потряс его за плечо маленький евнух Птеригионит, в последнее время всюду сопровождавший их с Марфой.
— Архонт! — зашептал он. — Архонт! Давай бросим всё это, архонт! Заберём княгиню, казну и уйдём отсюда! Уедем на мою родину, в Ромею. У меня есть связи, архонт! Ты будешь представлен самому базилевсу! Будешь служить ему, автократору[261] империи! Ты храбр и доблестен. Такие, как ты, непременно добывают себе славу на полях сражений. А базилевс любит и ценит храбрость! Даст тебе в управление область или город. Тогда больше не придётся тебе метаться по земле в поисках сюзерена. Архонтисса Марфа будет с тобой, если ты того захочешь. Не держись за сына Давида. Он проиграл и озлобился. Его война бесполезна! Против него все!
Скопец говорил с жаром, убеждал, сулил золотые горы.
Иван приподнялся на локтях на жёстком ложе, гневно глянул на евнуха. Десница невольно потянулась за мечом.
Отмолвил твёрдо:
— Не искушай меня, грек! Князь Изяслав спас мне жизнь! И я его не предам!
— Напрасно, архонт, ты не слушаешь моих советов, — евнух вздохнул. — Да, он спас тебя. Но что стоит услуга, которая уже оказана?! Не губи себя! Оставь своё наигранное прямодушие! Подумай, что ждёт тебя в Константинополе!
— Изыди прочь, сатана! — прикрикнул на Птеригионита Иван. — А то не ручаюсь за ся! Зарублю, яко собаку!
Блеснул обнажённый булат. Евнух шарахнулся в сторону. На сморщенном кукольном лице его застыло брезгливо-презрительное выражение.
...Наутро штурм Выри возобновился с новой силой. Опять дождём сыпались стрелы и сулицы, мостились брёвна через ров, приставлялись к стенам лестницы. Но опять ничего не вышло у нападавших. Были они отброшены за городские валы с немалыми потерями. И опять бок о бок с Иваном рубилась Марфа, только и ходила со свистом её лёгкая сабелька, ловко орудовала ею бедовая жёнка, побивая одного противника за другим.
— Смелая ты у меня! — восхищался своей возлюбленной Иван.
Схватка уже заканчивалась, когда невесть откуда вылетела сулица и вонзилась женщине меж лопаток. Ударила в спину, коварно, как будто кем-то из своих пущенная. Вскрикнула Марфа, взмахнула беспомощно руками, упала бессильно Ивану на грудь.
— Что с тобой?! — воскликнул в отчаянии Берладник.
Он осторожно вынул у неё из спины сулицу, осмотрел рану. Почти насквозь пробила тело Марфы лихая пришелица. Понял Иван, что спасения нет, что умирает его жалимая.
...Слёзы застилали ему глаза. Поп соборовал умирающую княгиню. Марфа лежала с восково-бледным лицом на той самой постели, на которой ещё накануне предавались они сладкому греху.
Она что-то зашептала, Иван прильнул к её устам, услышал сказанное слабым шёпотом:
— Прощай!.. Поберегись... Ведаю, кто меня... Берегись его...
Голова княгини бессильно поникла. Впала она в беспамятство.
Иван, серый от горя, обхватив руками свою обритую наголо голову, безмолвно сидел у её ложа. Поздним вечером, когда багряный закат окрасил западную сторону неба, в час, когда стихла за окном дневная суета, Марфа издала последний вздох. Иван сам закрыл ей глаза и поцеловал на прощание холодеющие губы.
Он горько проплакал всю ночь до рассвета, а рано поутру, с красными воспалёнными глазами, стискивая зубы, снова стоял на забороле. В этот день бился он особенно отчаянно, не жалея себя, бросался в самую гущу сражения. Он рубил, колол, бил по шеломам с удвоенной яростью, такой, что, завидев его, противники испуганно шарахались в сторону.
В разгар схватки на стенах Выри вдруг раздалось за валом громовое гудение боевых труб. Это Давидович с нанятыми половцами спешил на помощь осаждённой крепости. Черниговцы и их союзники наскоро отхлынули от стен и скрылись посреди лесов и балок в устье Вира.
...Изяслав, в траурном чёрном плаще, долго недвижимо стоял в городском соборе перед мраморной ракой с телом супруги. Слёз не было, десница стискивала узорчатую рукоять меча. Владела сыном Давида одна лишь злоба. Всему белому свету готов он был сейчас мстить за смерть Марфы и свои неудачи.
А убитого горем Ивана в тот час опять соблазнял маленький чёрный евнух.
— Что тебя держит здесь, архонт?! Ты довольно послужил сыну Давида. Ты спас его казну. Рисковал жизнью ради него. Но пойми, архонт Иоанн: Изьяслаб ничего тебе не даст. Не сможет дать. Умоляю тебя, уйдём в землю ромеев! У тебя... у нас с тобой будет всё!
— Уйди, оставь меня! — раздражённо прикрикнул на Птеригионита Иван. — Не до тебя покуда!
— Не отвергай моё предложение! Прошу тебя, архонт! Не проходи мимо своего счастья! Подумай, хорошо подумай.
— Я подумаю, скопец. Но не теперь, — смягчился, наконец, Берладник.
Почему-то ему вспомнилось, как хотел он бежать к ромеям после неудачи под Ушицей.
— Понимаю, архонт. И удаляюсь, — евнух распростёрся перед ним в раболепном поклоне и поспешил скрыться.
Ни Иван, ни Давидович, ни кто другой не догадывались, что это Птеригионит пустил сулицу в спину княгине Марфе. В удар вложил евнух всю злобу, всю ненависть и всю боль от осознания своего уродства. А ещё помнил он про мешочки с серебряными гривнами — награду, которую обещала ему за смерть Ивана галицкая княгиня Ольга.
...В отместку за поражения под Черниговом и гибель жены Изяслав Давидович зимой вместе с половцами напал на Смоленскую землю, родовую волость нынешнего владетеля Киева. Десять тысяч полоняников угнали в свои становища степные всадники. Горела Северянщина, пылала огнём пожарищ Смоленщина, в руинах лежали сёла и городки под Черниговом — не утихали ратные грозы на Руси! И всему виной, всему причиной был погрязший в мести и честолюбивых мечтаниях свирепый князь Изяслав. Без устали носился он по земле, налетал с пугающей гибельной внезапностью, как матёрый волк на добычу, снова уходил, скрывался посреди зимней пурги и чёрных лесных чащоб, метался из одного конца Руси в другой и нигде не обретал покоя. Киев был от него далеко, а Вырь и земля вятичей — этого для почуявшего запах крови хищника было слишком мало.
ГЛАВА 82
В утлой избе у околицы глухого вятичского села, расположенного на высоком крутяке над Жиздрой, чадили развешенные на стенах светильники. По-чёрному топилась печь, по горнице медленно растекался, подымаясь кверху, дым.
За столом сидел мрачнее тучи князь Изяслав Давидович. Рядом с ним — ближние его мужи, первые советники. Загнала Давидовича судьба-злодейка в самый угол Руси, в дебри дремучие, в языческий, почти не тронутый светом православной веры край. Рушились его мечты, угасали надежды, одно тупое упрямство двигало им, заставляло не опускать руки, а идти до конца и не сдаваться на милость ворогам. Для него сейчас оставалось одно — или киевский «злат стол», или погибель среди этих необозримых диких лесов.
...Повоевав Смоленщину, направился Давидович сперва во Вщиж, к сыновцу своему, Святославу Владимировичу. Понимал он, что все князья Южной Руси ополчились против него, и чтобы перемочь их силу, надобны были союзники, намного более могучие, чем разрозненные половецкие орды. Таким союзником виделся суздальский Андрей, сын Долгорукого. Укреплял Андрей власть свою в Залесье, строил новые города, украшал нарядными храмами Владимир-на-Клязьме, но в дела Киева и прочих земель покуда не вмешивался. Как заставить его встать на свою сторону, Давидович поначалу не ведал. Выручил умница боярин Шварн Милятич.
— Дочка у князя Андрея, Ростислава. В самый раз бы твоему сыновцу подошла, — предложил он, лукаво подмигивая.
В тот же день, не мешкая, поскакали из Вщижа в Суздаль скорые гонцы с грамотами. О свадьбе уговорились без задержек. Зятю своему Андрей обещал помочь и вскоре послал к Изяславу закованную в железо комонную рать во главе с одним из своих сынов, тоже Изяславом по имени.
Как только сведали о том в стольном Киеве, поспешили Ольговичи и Ростислав створить с Давидовичем и с Андреем мир. Урядились войну прекратить и оставить всё, как есть. Понимал, однако, Давидович, что хрупок сей мир. Да и что он сам, в сущности, выиграл? Что ему, земли вятичей или Выри хватит?!
Вскоре, собравшись, помчался он в Залесье, на Волок, где в то время Андрей возводил очередной городок. Мыслилось утвердить свой союз с суздальским князем.
Тем часом Ольговичи и их сторонники гоже не дремали. Совокупив ратные силы, подступили они ко Вщижу, в котором укрылся Святослав Владимирович. Огромное войско привели к городку на Десне Ольговичи. Были тут и галичане с воеводой Тудором, и полоцкие князья Вячеслав и Константин с дружинами, и сыновья Ростислава — Роман и Рюрик, и оба Всеволодовича — Святослав и Ярослав, и сын черниговского владетеля Олег.
Опять на скорую руку сооружались осадные башни — туры, опять лестницы приставлялись к стенам, стрелы калёные разили воинов с обеих сторон, смоляной вар лился с заборола, пороки стучали в ворота. Пять седмиц длилась осада Вщижа. Изнемог в конце концов Святослав Владимирович. Вынужден был дать он клятву, что отступит от Давидовича и будет ходить в воле Ольговича, почитая владетеля Чернигова, яко отца. Скрепя сердце, поцеловал пятнадцатилетний Святослав серебряный крест.
Вот так потерял Давидович последнего союзника, ибо Андрей, хоть и принял его с подобающим почётом, но помощи не дал. Когда же воротился Изяслав с пустыми руками из Волока, развёл беспомощно руками сыновей, молвил виновато:
— Прости, стрый. Крест преступить не могу. Потому вот — Бог, а вот — порог.
Вторила ему юная Ростислава Андреевна, совсем ещё девочка, смуглолицая, чернявая, раскосая, прямо как половчанка.
В сердцах хлопнул Давидович дверью, ринул прочь из Вщижа — только его и видели. Теперь, говоря честно, не знал, как быть. Хотелось порой броситься на меч и кончить всё разом. Безнадёгу усиливали нескончаемые унылые дожди. Ехал Давидович невесть куда, рыскал серым волком по вятичским сёлам, забирался в самую глушь. Когда понял, что пути дальше нет, велел остановиться. Созвал в курной избе ближников своих, решил выслушать их советы.
Сидели за ветхим грубо сколоченным столом, на длинных скамьях. Дым ел глаза. Щурясь, смотрел Изяслав на лица собравшихся. Вот Иван Берладник, верный из верных. Служит за совесть. Как хотел Давидович посадить его на стол в Галиче! А теперь какой там Галич — вообще хоть что найти б!
Вот Якун и Нажир Переяславичи, оба Стефана, Глеб Рокошич, ловкий уговоритель, евнух Птеригионит — этому вовсе неведомо что надобно. Может, подослан кем, как знать? Вспомнился донос евнуха на покойную Марфу. Прогнать его взашей?! Да ладно уж, пущай сидит. Вдруг когда пригодится.
— Как нам быти? Что делать ныне? Жду совета вашего, — прохрипел князь, недобро сверля бояр своими чёрными глазами-буравчиками.
Грозно выглядел он, с густой бородой, насупленными бровями, высокий, сильный.
Поднялся, как часто бывало, опытный Шварн Милятич. Сказал твёрдым голосом:
— Дело наше трудное, но можно с твоими, княже, родичами сладить. Тут главное, не рубить сплеча, ни от чего не отказываться.
— Молви яснее! — прикрикнул, недовольно морщась, Давидович.
— Нужно рассорить Ольговича с Ростиславом.
— Легко сказать. А как?! Как?! — взвился Изяслав.
Он резко вскочил, уцепился руками за край стола и уже не говорил — орал яростно:
— Много тут вас, советчиков! Рассорить! А как?! Как я их поссорю?!
Шварн ответил спокойно, выдержав исполненный дикого бешенства княжеский взгляд.
— У тебя много доброхотов в Чернигове и в Киеве. Дозволь, я с ними снесусь. Ольговичу скажут, будто Ростислав мыслит тебе Чернигов отдать, а Ростиславу — что ты с Ольговичами сговариваешься и что уступает тебе старик Святослав черниговский стол. Посеять надо меж ними недоверие, а дальше... Всеволодовичей и Ольговича на свою сторону перетянешь, княже. Нетвёрды суть. А тамо и о Киеве помыслить можно будет.
Задумался Давидович, потрепал бороду, хмуро исподлобья глянул в затянутое бычьим пузырём косящатое оконце. Промолвил, наконец:
— Прав ты, Шварн. Тако и содеем.
Совет на этом закончили. Порешил Изяслав возвращаться в Вырь. Оттуда сподручней будет ему следить за тем, что творится в Киеве и в Чернигове.
После подступил к нему Иван Берладник. Виновато тупясь, попросил:
— Отпусти мя, княже. Разумею, тяжко тебе. Но всё ж. Довольно, навоевался аз. Устал. Уехать хочу.
— Что с тобой, брате? Не узнаю я тебя, Иван! Откуда мысли такие? Что ходишь, стойно в воду опущенный?
— Из-за меня все беды твои, княже. Не стою я того. Без меня тебе легче, проще будет.
— Винишь себя в Марфиной гибели? Да неповинен ты вовсе. Сама она, баба неразумная, на стену сунулась. Оно тяжко, разумею. Но позабудь ты о ней. Былого не воротишь. Вот в Киев войдём, новую княгиню я себе возьму. Чад народит мне. И ты тож оженишься. В Киеве средь дщерей боярских столь баские есть — дух захватывает! Дам я тебе стол княжой, станешь жить-поживать да добра наживать.
По устам Ивана скользнула мечтательная улыбка. Но в успех Давидовича он не верил. Чуяло сердце, что не будет им удачи.
— Нет, княже Изяслав! Не надо мне из рук твоих ничего. Извини! Спасибо тебе за всё, что для меня содеял, да токмо... Пора, как говорят, и честь мне знать.
— И ты, стало быть, бросить мя хочешь?! — Давидович внезапно разгневался и треснул что было силы кулаком по столу. Столешница, к ужасу хозяина избы — местного попика, с хрустом разломилась пополам.
— Обузой я тебе буду. Из-за меня князи на тебя ополчатся опять. Ярослав и прочие.
— Ярославку сотр-ру! И Ростислава Смоленского, прихвостня егового, такожде! Гады! Получат у мя! — продолжал бушевать Давидович.
— Охолонь, княже! — спокойно промолвил Берладник.
Изяслав, недовольно сопя, рухнул обратно на скамью. Сидел, размышлял, чесал кудлатую голову. Предложил:
— Я тебя, Иван, отпущу, когда в Киев войду. Боле держать возле ся не стану. Ведаю: вольная ты птица. Гляди токмо, крылья себе не опали, как тогда, под Ушицею.
Иван согласился, покорно склонив голову.
«А может, у него и было что с Марфой? — промелькнуло вдруг в голове Изяслава. — Верно, евнух-то и не врал! Ну и что с того? Забыть Марфу пора!»
Он велел истопить баню. Две гулевые девки, приставшие дорогой к обозу, ублажали его тело сначала веничками, а потом продолжили своё дело на мягкой постели. Испытывая неземное блаженство, переставал Давидович думать о незавидном своём положении и вспоминать погибшую супругу. Жизнь продолжалась, и в душе его теплилась надежда.
А Иван Берладник провёл ночь без сна. Лежал на сеновале, накрытый сверху тёплым кожухом, выпускал в холодный воздух клубы пара, слушал, как где-то вдали, в лесной чаще выли голодные волки.
Рядом с ним громко храпел во сне евнух Птеригионит.
ГЛАВА 83
Долго ли, коротко ли, а полтора года минуло после жаркого сражения под Ярополчем. Для Ярослава время летело быстро. Всё куда-то спешил он, вечно торопился, ездил по своей земле, старался побывать всюду, посмотреть каждый уголок.
Земля воистину велика была и обильна. Вдоль Днестра простирались лесостепи, холмы чередовались с глубоко изрезанными песчаными каньонами. По долинам струились бесчисленные реки, вдоль которых тянулись нескончаемыми цепочками богатые сёла и пашни. И городков укреплённых здесь, в Подолии, было немеряно. Тут и Василёв, и Онут, и Звенигород-Галицкий на левом берегу Днестра, между устьями Серета и Збруча. За Збручем на другом, правом днестровском берегу грозно возвышался неприступный Хотин, на Смотриче на крутом холме расположился Каменец-Подольский, ещё были здесь Бакота, Ушица, печально известный Кучельмин, Черновицы на Пруте, Микулин.
К западу от Днестра раскинулись равнины Покутья и Ополья. Сперва пологие, ближе к Горбам они сменялись рядами высоких увалов, постепенно переходящих в низкие покрытые густым лесом горы.
Горные хребты, отделённые один от другого поперечными и продольными долинами, по которым струились стремительные бурлящие на камнях речки, носили названия Бескиды, Покутские горы, Горганы. В Горганах взору открывались обширные каменные россыпи. Покрыты были горы лесами из бука и пушистой пихты, выше по склонам чернели непроходимые ельники, ещё выше сменяло их сосновое криволесье, а самые вершины покрывали луга-полонины. В здешних местах народу селилось мало, горные русины жили отдельными родами, и Ярославу довелось повстречаться с седобородыми старейшинами, помнившими в лицо ещё его деда Володаря.
В стороне от прочих величаво возвышалась колдовская Черногора с вершиной в форме огромного купола. Продирался князь с дружиной сквозь пихтовые и еловые чащи, одолевал крутые скальные склоны, взбирался на самую кручь. С высоты открывался дивный вид. Внизу белели строения монастыря, обрамлённые частоколом, серебрилась на дне ущелья, пенилась, ярилась буйная речка, кривые чахлые сосны обступали Ярослава. Порою лес расступался, обнажая каменистые проплешины, иногда взору открывалось небольшое селение. Русины, в овечьих кацавейках, срывая лохматые шапки, кланялись ему, выносили дары. На горные пастбища они выгоняли скот. За поясом у каждого висел на тонком кию топорик — чугань и длинная верёвка, на ногах вместо обуви носили они чулки из кожи. В них нога чуяла каждый камешек, каждую выбоину в скале, каждый уступ.
Ночами ухали в ельнике совы, завывал волк, заставляя лошадей испуганно всхрапывать. У русинов лошадки были маленькие, но с крепкими ногами и выносливые. Одну такую подарил Осмомыслу старейшина села на Черногоре. Ездить на такой лошадке по узким горным тропам было удобно, не боялась она крутых спусков и подъёмов, шла уверенно и быстро, только держись крепче в седле.
...Побывал Ярослав и на польском пограничье, заглянул на короткое время в Перемышль — город своего детства. Походил по берегу Сана, поглядел на соляные амбары, с лёгкой грустью поднялся в некогда родной терем. Вот здесь, на ярко зеленеющей лужайке посреди поросшего могучими дубами сада его, ещё совсем малого, посадили в первый раз на коня, совершая обряд подстяги. Дядька Гарбуз, взяв под уздцы угорского жеребца, провёл его вокруг двора под одобрительный гул собравшихся бояр, отроков и гридней. Вцепившись руками в поводья, со страхом взирал крохотный Ярослав, как где-то внизу вдруг оказались взрослые, такие большие люди. Насмешница Евдоксия строила рожицы, показывала ему язык. Рядом с ней надменно вздёргивала вверх голову старшая сестра Анастасия. Отец в праздничном багряном кафтане, расписанном львами и пардусами, крутил перстом вислый ус и едва заметно улыбался. Все надежды свои Владимирко возлагал на него, единственного сына, ему передаст он после себя сильное собранное воедино из лоскутных уделов княжество. И надежды отцовы старался теперь Ярослав оправдать.
А вот по этому широкому шляху, как и прежде, следуют торговые караваны. Двугорбые верблюды степенно шествуют посреди пыли, навьюченные разноличными диковинными товарами. Едут купцы из далёкого Хорезма[262], из земли Шахарменов[263], из Саксина[264], в другую сторону спешат торговые люди из Германии, из туманной страны англов, из Праги, Кракова, Эстергома. Везут ипрское и лунское сукно, вина, изделия из меди и серебра, добрых коней.
Жизнь кипела в Перемышле, как и раньше, был этот город вторым по величине и значению в княжестве после стольного Галича. Рядом была граница с Польшей и Венгрией, рядом были охраняющие Перемышль с двух сторон, словно сторожа, крепости Санок и Ярослав.
Жили здесь потомки белых хорват, племени, в незапамятные времена поселившегося на холмистых берегах Сана и в предгорьях Карпат. Севернее раскинулась земля дулебов, потомки которых реклись волынянами, южнее, по течениям Днестра, Прута и Сирета селились тиверцы. Их земли некогда достигали устья Дуная. Там теперь кочуют редкие половецкие орды и сидят, затаившись, берладники. Никак не доходили у Ярослава до них руки. Но надо, надо будет непременно с этой разбойной вольницей разобраться. А то уже и купец греческий боится плавать по Днестру.
Белые хорваты, те потому и звались белыми, что были в основном светловолосы и светлоглазы. Тиверцы, напротив, имели в большинстве своём черноватые волосы. Уличи в целом походили на киян, про них говорили, что переселенцы они с берегов Днепра, а прозванье своё получили от того, что обитали в углу.
Теперь, правда, мешались племена, особенно в городах. Тут уже и не разберёшь, кто чей потомок. Да и не прозывались давно тиверцами, волынянами или хорватами жители Червонной Руси, все именовали себя русичами. И речь звучала всюду одна, всем понятная, и дома стояли схожие, и крепости, и храмы белели везде. Если где и поклонялись тайком идолам да вспоминали старые времена буйного язычества, так только в глухомани, в упрятанных в Горбах маленьких деревеньках.
...Объездил дважды Ярослав княжество своё из конца в конец. Неизменно сопровождали его верные Избигнев и Семьюнко, частым спутником сделался и Тимофей, которому поручал князь вести путевые записи. В сёлах и городках приходилось творить суды, разбирать запутанные тяжбы, устанавливать размеры ежегодной дани.
Так, в делах и заботах летело время. Где-то далеко бегал из волости в волость неугомонный Давидович, лилась кровь, полыхали пожары усобиц. На Галичине же царили мир и благоденствие. Так, по крайней мере, представлялось Ярославу.
...Дробный стук копыт нарушил тишину морозного январского утра. Одинокий вершник круто осадил скакуна на княжеском подворье, устало сполз с седла, пошатнувшись, ухватился рукой за столп у крыльца.
— Кто таков? Что случилось? — Встревоженный Ярослав приказал гридням спешно доставить его в горницу.
Князь пристально всматривался в черты лица вконец утомившегося шатающегося из стороны в сторону гонца.
— Боярин Нестор Бориславич! — Крепкая память сослужила Осмомыслу добрую службу. — Давненько не видались. Откуда ты и что у тебя стряслось? Садись, кваску испей, сказывай.
Нестор едва пригубил медового квасу, промочил горло, вытер усы. Промолвил с волнением в голосе:
— Давидович в Киеве. Ольговичи, оба Святослава, его сторону приняли. Напали внезапу, у Подола на столпии сеча была ярая. Ратников без числа пало. И одолел Давидович, вошёл в Киев. Князь Ростислав в Белгороде укрылся, с Ярославом Изяславичем и Ярополком Андреичем вместях! Послал к тебе князь Ростислав, просит о помощи. На Волынь тоже гонцы скорые помчали! — Переведя дух, Нестор добавил: — Дом мой пожгли, ироды! Жену с дочерью едва успел укрыть в лесу на Желани. Иными словами, лихо в стольном!
— Понятно. Что же. Дружина у меня наготове. Созову сегодня же воевод, бояр, решим, когда выступать, — успокоил киевского посланца Ярослав.
Он принял из рук Нестора грамоту Ростислава, развернул её, прочёл, отложил свиток в сторону. Кликнул гридня, велел немедля звать Семьюнку.
...Сидели втроём в малом покое. В изразцовой муравленой печи играли языки пламени. Откинувшись глубоко в кресле, Ярослав говорил:
— Давидович — что зуб больной. То стихает, то снова ноет. И пока его не вырвешь, так и будет болеть, ныть, нарушать покой.
— Что предлагаешь, князь? — нахмурился Нестор.
— С торками и берендеями тебе, боярин, приходилось ли доселе дело иметь? Знаешь кого из них, кто мог бы... нам всем помочь?
— Помочь избавиться... — добавил, не договаривая, Семьюнко.
— Дак вы что ж! — Нестор заёрзал на скамье, быстро переводя взор с Осмомысла на Красную Лисицу. — То ж убивство... Грех.
— А кровь лить беспрестанно, сёла жечь, поганым дорогу на Русь указывать — не грех?! — взвился неожиданно Ярослав. — Ведь никакие уговоры не помогли нам, никакие угрозы. Я понимаю, бывает всякое. И враждуют между собой князи, и ратятся. Как вот мне с Изяславом Мстиславичем покойным биться довелось под Теребовлей. Но змеюку ядовитую, боярин, давить надо, и не думать о жалости! Ибо если ты её не убьёшь, так она тебя ужалит! А укус её смертелен!
Нестор тяжко вздохнул, кивнул седеющей головой, тихо произнёс:
— Есть торчин. Выйбор Негочевич. Из поросских. За сребро хоть мать родную укокошит.
— Вот как к Белгороду подойдёте, его сыщите. Скажите, серебра галицкий князь не пожалеет. А там как пойдёт. Или во время сечи, или... Заранее всего не предусмотришь. Но... Довольно Давидовичу ковать крамолы. Не хлеб — стрелы он по земле сеет! Не снопы жнёт — головы человечьи!
— А Берладник? С ним как? — осторожно спросил Семьюнко.
— Без Давидовича, без его покровительства Берладник — никто. Ни одному князю ни в одной волости на Руси не нужен он.
Да что там князья — в своём Берладе, и там его видеть не хотят, — Осмомысл презрительно усмехнулся.
А Семьюнко вдруг вспомнил княгиню Марфу. Жаль, что погибла она. Славная была жёнка. Может, в самом деле, отговорила бы Давидовича от новых ратей. Эх, если бы!..
...В лютую февральскую метель ушли галицкие полки и дружина на помощь зажатому в Белгороде Ростиславу. Осмомысл, стоя на площадке заборола, ухватился руками за зубец стены и долго задумчиво смотрел, как скрываются воины в снежной дымке. Он чувствовал, что наступает решающий час схватки с врагом, с которым не было и не могло быть мира.
Накануне всю ночь простоял он на коленях перед иконой Богородицы. Он просил прощения за творимый грех, молил Её заступиться за него перед Господом, лил слёзы, понимая со скорбью, что по-иному поступить не мог.
ГЛАВА 84
Опять всё повторялось: метель, свист ветра в ушах, ночи у костров, обозы с доспехами и оружием, путь по заснеженному шляху. И Белгород был тот же, обведённый кольцом городен, и Ирпень так же скован был льдом, и те же волыняне скакали с галицкой дружиной бок о бок, и Мстислав Изяславич, в том же шишаке с наносником и бармицей, чётко, громовым голосом отдавал приказы. И опять невесть откуда возникла перед Семьюнком красная рожа Дорогила, скалился недобро Мстиславов вуй, говорил с угрозой:
— Снова ты! Гляди, доберусь до тя когда, Лисица Красная! Как будто не было двух лет, те же страсти кипели, те же ратники летели навстречу друг другу с копьями наперевес, те же торки и берендеи уходили в сторожу. Только сейчас Семьюнко начинал понимать, насколько прав был Ярослав, когда говорил им с Нестором о том, что змею ядовитую надо безжалостно давить. Иначе так это и будет из раза в раз: кровь, смерть на каждом шагу, разорения, пожары.
Выйбора они отыскали на привале уже перед самым Белгородом. Торчин, плечистый воин в дощатой броне, смуглый, чернобородый, выслушал со вниманием намёки Семьюнки и прямые, как удары меча, слова Нестора.
— Убить надобно Давидовича! Заплатят тебе, гривен отсыплют полной мерой! — шептал киевский боярин.
У Нестора была своя маленькая радость — отыскал он в одном из окрестных сёл жену, степенную боярыню, чем-то напоминавшую Семьюнке княгиню Ольгу. Такая же была рослая, плечистая, полная, при ходьбе переваливалась, стойно медведица. С воинским обозом Нестор отправил супругу и маленькую дочь в Луцк, пережидать лихолетье иод надёжной защитой крепких крепостных стен. Он потирал руки и уже не тяготил себя мыслями о грехе, о тёмном деле, не сомневался в правильности творимого.
Рано поутру в шатре у Мстислава собрались бояре и воеводы на совет. Выйбор предложил торкам и берендеям пойти вперёд, в сторожу, проведать, где основные силы Давидовича. Мстиславовы бояре стали возражать: неполезно, мол, это. Проведают токмо черниговцы и иже с ними раньше времени, в каком месте обретаются волыняне и галичане, и изготовятся к битве.
Князь Мстислав неожиданно поддержал Выйбора:
— Пущай идут! Нечего нам ворогов сих бояться! Они нас пугаться должны! Пущай ведают: рати волынские и галицкие рядом стоят!
...Умчались торчины вперёд, скрылись меж голубеющими увалами. Резво летели конники, взлетали с холма на холм, миновали широкое поле, промчались через хвойный перелесок, метнулись в сторону Белгорода.
Семьюнко и Нестор многозначительно переглянулись. Начиналось дело, как они и хотели...
...Грамота от Ольговича лежала перед князем Изяславом на раздвижном походном столике. Долгий свиток, испещрённый полууставными буквицами, гласил, что воевать старый князь Святослав с родичами своими более не намерен и советует Давидовичу такожде решить дело миром.
Ближние советники Изяславовы сидели в шатре полукругом, поджав под себя ноги. Князь не выдержал, схватил грамоту, потряс ею, злобно крикнул:
— Вот что он пишет, Ольгович! Да я его!.. Уползёт он у меня из Чернигова в Моравийск али в Мозырь! Письмишко еговое — что нож в спину пред сечей!
Молчали бояре, боялись они вспышек княжеского гнева. Один Шварн не стал отмалчиваться, сказал прямо:
— Ольгович прав! Нам не выдюжить, у Ростислава много войска. Надо искать мира.
Взвился Давидович, вскочил как ужаленный, отшвырнул в сторону грамоту, заорал:
— Что за глупость несёшь, Милятич! Мириться! Дак что мне тоиерича, Киев оставить и опять в Вырь уйти! С голода тамо помирать! Да по мне лучше в сече пасть, чем сидеть в Выри али по вятичским дебрям рыскать!
Изяслав велел позвать гонца от Ольговича, сказал хмуро:
— Передай, посол, князю свому, что не отступлю я! И ежели пошлёт мне Бог удачу, то пущай убирается он из Чернигова! Другого тамо посажу!
Гонец поклонился и, раздосадованный, умчался восвояси. Едва он покинул шатёр, как снова возразил Давидовичу Шварн Милятич:
— Что ж ты, княже, с родичами ближними ссоришься?! Почто все труды наши гробишь?! Сколько мы все уговаривали Ольговича, сколько сил приложили, чтоб рассорить его с Ростиславом и волынянами! Топерича, воистину, и не останется нам ничего, кроме как в Вырь бежать!
— Я бой дам нынче ворогам! — рявкнул Давидович.
— Белгородские стены крепки, а к Ростиславу галичане с волынянами спешат. И торчины с берендеями.
— Дак что?! Отступать мне, выходит, по-твоему?! Киев отдать?! Не будет того! — продолжал бесноваться Давидович.
Шварн пытался что-то сказать, но князь в ярости ударил его кулаком по лицу. Боярин упал на кошмы, поднялся медленно, выплюнул сломанный зуб, вытер окровавленный рот, промолвил с достоинством:
— Ни Киева, ни Выри, ничего тебе не видать, княже. Попомни слова мои.
Он резко отдёрнул полог шатра и вышел прочь. Велел челядину седлать коня. Но даже вдеть ногу в стремя Шварн не успел. Встречь ему бешено неслись отряды половцев, слышались перепуганные гортанные крики:
— Каназ Мстисляб идёт! Галич, Волынь идёт!
У окоёма показались комонные в чешуйчатых бронях. С дружным боевым кличем, взмахивая саблями, летели широкой лавой вослед отступающим половцам торчины и берендеи, развевались на зимнем ветру бунчуки, серебрились маски — личины.
Изяслав и его бояре повыскакивали из шатра. Посыпались отрывистые и твёрдые слова приказов. Вознёсся Давидович в седло, на ходу надел на голову волчью прилбицу и остроконечный золочёный шишак, бросился наперерез бегущим половцам. За ним следом поскакали Переяславичи, Стефаны, Глеб Рокошич. Шварн остался стоять у шатра. Понимал он с горечью: всё, кончилась служба его этому вздорному честолюбивому князю. Как быть дальше, что теперь делать, он не знал. Пошёл навстречу мчащимся во весь опор торчинам, воздел вверх длани, весь осыпанный летевшим из-под копыт снегом. Двое вершников осадили перед ним коней.
— Сдаюсь, — объявил боярин.
— Шубу снимай, сапоги! — велел ему худой высокий торчин.
Взвился в воздухе аркан, тугая петля стянула Шварну шею.
Боярин рухнул в снег, уцепился руками в верёвку, хрипел, извивался. Его раздели, разули, затем за руки привязали к коню. Босого, оставшегося в одной рубахе, на аркане поволокли Шварна к обозу.
...Рать Давидовича рассыпалась розно. Многие ближние его сподвижники были захвачены торками и берендеями при отступлении около Желани. Здесь же, у бора, возле села с названием Будилицы нагнали торки и самого князя. Ещё издали приметил его Выйбор Негочевич, распознал по золочёным доспехам и шлему с белым султаном. Пробился, ловко орудуя саблей, торчин сквозь ряды гридней, налету с яростью рубанул Изяслава саблей по плечу. Следом другой торчин ударил его копьём в бедро. Давидович, накренившись, вылетел из седла наземь. Он рухнул навзничь в сугроб на берегу озера, а Выйбор, круто развернув скакуна, ещё раз с размаху рубанул его наискось. Порвались на груди князя кожаные ремни, скрепляющие золочёные булатные пластины панциря, хлынула из раны кровь. Снова занёс клинок над ним Выйбор, но кто-то властно крикнул ему, осаживая:
— Довольно!
С перекошенным от злости лицом понёсся торок дальше, а к телу распростёртого на снегу Изяслава подбежали волынские дружинники. Появился вскоре князь Ростислав. Поднял он богатырский Изяславов меч, передал стоящему рядом гридню. Смотрел внук Мономаха с нескрываемой скорбью и ужасом на израненного противника своего.
Изяслав, открыв глаза и узнав его, хрипло прошептал:
— Пить!
Тотчас Ростиславов челядин поднёс к его устам чару с вином. Сделав несколько глотков, Давидович бессильно ионик головой.
— Помираю! — прохрипел он, глянув потухающим взором на растерянного Ростислава. — Твоя перемога! Ты в Киеве сядешь!
Он дёрнулся в предсмертной судороге, с клокотанием в горле вдохнул в лёгкие воздух, вытянулся и затих.
Ростислав и бывшие с ним ратники стаскивали шеломы, хмуро тупились.
Тело убитого погрузили на телегу, запряжённую парой волов, и повезли по дороге на Киев. Случилось событие это в день 13 марта в лето 6669 от Сотворения мира.
Семьюнко с Нестором узнали о гибели Давидовича уже ближе к вечеру. В бой их отряд так и не вступил, напрасно прождав неприятеля. Ринули вспять половцы под напором торков и берендеев да вовремя распахнулись ворота Белгорода, откуда стремглав бросились добивать растерянного противника смоляне с лучанами.
В сумерках в вежу, в которой находились Нестор и Семьюнко, пробрался тайком Выйбор.
— Я исполнил, что вы просили, — заявил он. — Каназ Изьяслаб мёртв. Где серебро?
Семьюнко высыпал ему в руки серебряные гривны. Их было намного меньше, чем давал Осмомысл, но торчин, кажется, остался доволен. Он кивал головой и повторял:
— Хорошо, хорошо, боярин!
В Галич в ту же ночь помчался скорый гонец с последними новостями.
...Князя Изяслава Давидовича похоронили в монастыре святого Симеона на Копырёвом конце. Никто не плакал по нему, кроме Ростислава с Мстиславом, обронивших положенную слезу, да единственной дочери, супруги Глеба Юрьевича Переяславского, именем Забава. Вызнала молодая княгиня, что убил её родителя некий торчин Выйбор. Послала она к диким половцам в степь отрока с серебром, просила отомстить убийце за гибель князя Изяслава. В отца, не в мать пошла Забава, не умела она прощать, честолюбива была сверх меры и мужа своего, человека спокойного и рассудительного, тщетно пыталась уговорить ввязаться в борьбу за великий стол. Глеб покуда не поддавался, не слушал её, а вот серебро княгини своё дело сделало. Годом спустя, во время очередного набега половцев на Поросье, Выйбор был убит. Посчитала Забава Изяславна, что отомстила она за отца. Невдомёк ей было, что за спиной Выйбора стояли другие, более высокие и сильные люди.
О гибели же Изяслава скажем словами историка:
«Сия была мзда неутолимой злобе и властолюбию, сие есть воздаяние [...] от Бога: много неправо собрав, всё вдруг погубил; никому не ведомо, какой суд примет он в будущем».
...В сече на Желани яростно рубился с торчинами и берендеями князь-изгой Иван Берладник. Хотел он было после взятия Давидовичем Киева отъехать в Ромею, как собирался, но Изяслав отговорил, попросил остаться и помочь ему победить укрывшегося в Белгороде Ростислава. Не смог Иван отказать другу и покровителю, вот и рисковал опять головой, с отчаянием отражая удары кривых сабель. С наступлением вечера ему удалось прорваться к броду через Днепр. Под покровом темноты умчал князь-изгой на левобережье, упрятался в густых плавнях, посреди обледенелого камыша. К нему стекались остатки порубленной дружины Давидовича. Узнал от воинов Иван о гибели князя Изяслава, понял, что пути в Киев и на Черниговщину теперь у него нет.
Невесть откуда, словно из самой преисподней явился внезапно перед очами Ивана евнух Птеригионит.
— Надо уходить, архонт Иоанн! Твой покровитель, сын Давида, мёртв. Умоляю, уедем! Сначала к хану Башкорду, он нас примет. А от него уйдём в землю ромеев. Благословенна эта земля. И тебя ждут на ней великие дела, о храбрый архонт!
Утром, с первыми лучами солнца два всадника помчались галопом вдоль берега Днепра на юг. У каждого к седлу был привязан второй, поводной конь. Начиналась весна, пригревало ласковое солнышко, таял снег. Скакуны шли легко и быстро, и всадники вскоре растворились посреди безбрежного, как море, дикого половецкого поля.
ГЛАВА 85
Боярин Шварн сидел перед Ярославом тощий, высохший, с багровым рубцом через щеку, пил жадными глотками пшеничный ол. Долгая с проседью борода его торчала жёсткими спутавшимися прядями, редкие над челом волосы на затылке вились плавной волной, в них, как и в бороде, проглядывала та же желтоватая седина. От боярина кисло пахло овчиной, мочой, конским навозом, одет он был в жалкие лохмотья.
Шварна отыскал в торчинском плену, выкупил и привёз в Галич Избигнев. Осмомыслу он сказал так:
— Если, княже, кого и выкупать из ближников Изяславовых, дак токмо его. Один он у Давидовича слово твёрдое имел, один мог с ним спорить. Остальные — подхалимы, трусы.
Вопрос у Ярослава к Милятичу был, собственно, один, но поначалу позволил он голодному и слабому после тяжкого бремени полона боярину вкусить обильную трапезу.
Лето стояло в разгаре, над Галичем ярко сияло солнце, небо было чистым, ни единого облачка не виднелось на голубой глади. Через раскрытое настежь окно в горницу косо падал луч, освещая широкий стол и иконы на ставнике.
Они сидели вдвоём, взглядывали друг на друга. Шварн не решался заговорить первым, Ярослав же думал, как начать толковню с этим доныне совсем незнакомым ему человеком.
Наконец, князь спросил:
— Ведаю, боярин, что муж ты разумный. Был у покойного Изяслава первым советчиком, многие дела правил. Одного не пойму. Почему ты столько лет ему служил? Или не видел, не замечал, какой он, Давидович? Не понимал, что, кроме тупого самохвальства, ничего в нём нет? Он, как волк голодный, готов со всеми за кость мозговую драться, и скорее умереть, чем бросить её! Почему не ушёл ты от него раньше? До того, как он тебе зуб выбил в веже под Белгородом? Ведь вы, бояре, вольны во князьях.
Шварн усмехнулся.
— И про зуб ведаешь, стало быть. Да, князь, было. А чтоб уйти... Отец мой Милята родом из Смоленска. Дед мой ещё Ярославу Мудрому служил, прадеду твоему, посадничал в Смоленске. Тамо и погиб от стрелы, когда Мономах, дед княгини твоей, город в осаду взял. Ну, волости дедовы другим боярам отошли. Отец мой мал вельми тогда был. А как подрос, отроком простым на службу поступил. В те лета сидел на смоленском княжении Давид Святославич. С ним вместях отец мой после в Чернигов и ушёл. Служил верно, да волостей не приобрёл, так что и мне отроком начинать пришлось. Сперва у Давида я был, а как помер он, сыновьям еговым службу правил. Владимиру, а потом вот Изяславу. Нынче как вспомню: спокойные были норовом и Давид, и Владимир. А Изяслав-от совсем иным оказался. Ты говоришь: уйти! Да куда я от него уйду! Кому я нужен? Вот еже б волости, сребро было... Служивый я боярин, княже Ярослав, а служивым быть — не мёд пить.
— У тебя семья, жена, чада хоть есть?
— Была семья. Суздальцы всех побили, когда рать была с Долгоруким, — Шварн тяжело вздохнул и насупился. — С той поры один обретаюсь.
— Прости, Шварн Милятич. Не знал я, — Ярослав скорбно потупил взор. — Ну, что было, то было, — добавил он и предложил: — А мне служить будешь? Я тебе волость добрую с холопами дам.
— Подумать надобно, княже. Дай сперва отдышаться, от полона отойти. Дозволь, поживу покудова у Избигнева твоего. Вельми добр ко мне сей боярин, — ответил Шварн. — Понимаешь, стар я, велик летами. Ты, я ведаю, владетель разумный. Но надо мне очухаться маленько.
— Понимаю. Что ж, отдыхай. А потом приходи. Запомни уж дорогу к моему дому, — Ярослав впервые за время их беседы улыбнулся.
Шварн ответил ему такой же доброй улыбкой.
Цель у Ярослава была дальняя. Недавно умер старый посадник в Перемышле. На его место пока никого князь не поставил, только послал в сей город отряд оружной дружины — держать порядок. Трудно было с местными боярами — владельцы обширных вотчин, вечно шушукались они за спиной, строили тайные козни, сильная власть княжеская была им ни к чему. Иное дело такой, как Шварн — пришлый, служилый, небогатый. Такой будет верен, будет зависеть от него, князя, будет кормиться его милостями. Пусть потом сидят завистники по углам, пусть кусают локти. А то много желающих посадничать, даже старый Молибог, и тот намекал, мол, готов князю помочь. Да, от них помощь великая! Себе бы урвать поболее — вот что им только и надо!
Закончил Ярослав разговор, сам проводил Шварна до ворот, выказав старому боярину великий почёт.
Возвращаясь назад, ловил недобрые взгляды собравшихся в гриднице на нижнем жиле молодых боярских отпрысков. Отыскал среди них Филиппа Молибогича, давеча воротившегося из Познани, знаком велел ему следовать за собой.
Спросил, когда остались они вдвоём в палате:
— О Берладнике ничего не слыхать?
— У ляхов его не было, у чехов тоже. Слух ходит, в Солуни его видели, у греков. С ним ещё скопец один... Ох ты, имя какое-то птичье! Не выговорить враз.
— Птеригионит?! — спросил, мгновенно посуровев лицом, Ярослав.
— Ага, точно, княже! Он самый!
«Неспроста он там обретается. Кто-то его к Берладнику подослал. Из бояр галицких, верно. Или...»
Вспомнилась Ярославу хищная полная злорадства улыбка княгини Ольги, когда сведала она о гибели Давидовича. Она могла... Помнится, выспрашивала тогда его о Птеригионите. Знает она о нём многое. Она могла... К тому же после их разговора вскоре исчез Птеригионит из Галича.
— Проведай побольше о Берладнике. Купцов расспроси, — приказал Ярослав Филиппу и жестом отпустил его.
Отчего-то после разговора и мыслей о Птеригионите ему стало не по себе.
ГЛАВА 86
Гавань Фессалоник, наполненная судами, открывалась сверху, с каменной крепостной башни. На берегу кишели толпы народа, шумело многолюдное торжище. По глади морского залива Термаикос скользили рыбачьи лодки. От гавани тянулись узкие кривые улочки, тесно прижимались один к другому дома. В церквах шла служба. Обычный греческий город — эти Фессалоники, хоть и крупный, второй в империи после столицы. Но всё одно — провинция. Иван с Птеригионитом поселились на окраине, неподалёку от порта.
— Вначале, доблестный архонт, нужно узнать, чем живёт город. Потолкаться на торгу, расспросить купцов. Потом идти к стратигу[265] и объявить, кто ты и зачем приехал. Ещё надо найти человека, который смог бы устроить тебе встречу с самим базилевсом или с лицами из его ближайшего окружения. Не всё сразу, архонт. У нас, у ромеев, такие дела требуют выдержки и холодной головы, — наставлял князя-изгоя скопец.
Говорил Птеригионит вроде правильно, убеждал Ивана, что неверный шаг может привести к тому, что их схватят и выдадут Ярославу.
— Пойду искать, с кем бы мы могли отправиться в Константинополь, — объявил евнух спустя седмицу после того, как они с немалыми трудностями достигли Фессалоник.
Он поспешил скрыться из дому. Но совсем не за тем направил Птеригионит стопы в одну из портовых таверн. Искал он одного знакомого старика, который знал толк в ядах.
В таверне Птеригионит вначале с удовольствием отведал тушёного тунца, а затем, выложив перед хозяином крупную серебряную монету, сказал:
— Мне нужно найти Стратоника из Мегары. Такой старик, часто бывает в порту, продаёт украшения.
— Сегодня в два часа пополудни. Будь у входа. Тебя встретят, — тихо промолвил хозяин, принимая монету и пряча её в подвешенный на поясе холщовый мешочек.
В той же таверне попался евнуху на глаза один довольно молодой человек с бледным явно усталым после ночного бдения лицом. Одетый в плащ тонкого сукна, в войлочной шапке, с саблей на поясе, незнакомец подрёмывал за соседним столом. Перед ним стояла оловянная чарка с вином.
Птеригионит подсел к нему, стал осторожно расспрашивать.
— Судя по одежде, ты служишь здесь. Или я неправ?
— Да, состою на службе у местного стратига. Нынче ночью я охранял стены крепости.
Человек медленно, маленькими глотками пил молодое вино. Говорил он по-гречески с сильным акцентом.
— А я приехал издалека, из страны руссов, — счёл нужным сообщить о себе Птеригионит. — Много лет провёл на чужбине. И вот, наконец, мне удалось возвратиться на родную землю.
— Из страны руссов? — Лицо незнакомца вытянулось от неприятного изумления. — Я тоже там бывал. Ничего хорошего у руссов нет. Варвары! Даже невесту, и ту потерял!
— Позволь полюбопытствовать, как твоё имя, о доблестный? Хотелось бы мне помочь тебе в беде. Понимаю, лишиться невесты — большое горе.
— Да что ты в этом можешь понимать? Ты, скопец! — Незнакомец досадливо махнул рукой.
— Как твоё имя? — осведомился Птеригионит.
— Зовут меня Фаркаш.
— Выходит, ты угорец?
— Да, так.
— Угорский король сейчас воюет с базилевсом. Но мать базилевса Мануила Пирисса была угринкой. Среди его приближённых есть твои соотечественники. Вот и воспользуйся этим. Кстати, говорят, сын короля Гезы Бела сейчас находится в Константинополе. Не попробовать ли тебе устроиться к нему в свиту?
— Ну, пусть так. Я попробую это сделать, — Фаркаш подозрительно прищурился. — Но тебе какая от того выгода?
— Ну, ты меня не забывай. Я тебе пригожусь. Вспомни мой совет. И если мне понадобится помощь... Иными словами, не забывай евнуха Птеригионита.
Скопец рассмеялся тонким визгливым голосом.
— Мне пора, — шепнул он и поспешил, набросив на голову куколь, скрыться из таверны.
Разговор, может статься, пустой, а может, и нет. В будущем всякое может произойти. В этой жизни Птеригионит умел изворачиваться и находить нужных людей. И почти никогда он не ошибался.
Вечером он привёл Ивану, зная его женолюбие, весёлую портовую гетеру[266]. Принёс он и вино, подымал чарку, чокался с Берладником, скалил в улыбке некрасивые зубы. Гетера хохотала над ним, брезгливо толкала ногой, а Ивана обнимала, обхватывала смуглой ладонью за мускулистую шею.
Незаметно Птеригионит подложил в Иванову чару из-под ногтя маленькую горошину. С тайным удовлетворением видел он, как князь-изгой залпом осушил чару и продолжил наслаждаться обществом красивой гречанки. Глубокой ночью Птеригионит незаметно выскользнул за дверь. Дело было сделано. Теперь евнуху предстоял путь в Галич.
Утром он купил на торгу маленького прядущего ушами ослика, погрузил на него свой нехитрый скарб и не спеша тронулся по хорошо знакомой каменистой дороге через горный перевал.
ГЛАВА 87
Жаркое марево повисло над Галичем. Пыль стояла столбом в раскалённом воздухе. Строители везли на подводах камень для будущего храма. Князь Ярослав велел воздвигнуть его на Горе и посвятить своему небесному покровителю — святому целителю Пантелеймону. Вообще, стольный город Червонной Руси в последние годы вырос, расцвёл. Многолюдней и обширней стал посад, обнесённый по линии валов крепкой дубовой стеной, в Детинце и внизу одни за другими вырастали, как грибы после дождя, храмы и терема. Камень всюду соседствовал с деревом, высокие окна в боярских и княжеских домах забраны были слюдой или многоценным богемским стеклом. По случаю закладки нового храма в Галиче намечались торжества, город наполняли посланники из соседних княжеств и иноземные гости. Из земли угров пожаловал в гости к Ярославу родич короля бан Белуш, почтила своим присутствием Галицкого властителя чешская королева, прибыл во главе отряда дружины вместе с семьёй волынский князь Мстислав. Были бояре из Киева, Новгорода, Турова, Чернигова, послы польских князей преподносили Ярославу и его ближним людям дорогие дары. В городе царил шум, повсюду раздавалась громкая разноязыкая речь.
На маленького евнуха в чёрном куколе, медленно семенящего по Подолу на таком же невеликом сером ослике, никто и внимания не обратил. Разве мальчишки посадские, потешаясь, забросали его камешками. Ослик недовольно заржал, побежал быстрее, ловко протиснулся сквозь толпу на торгу, поскакал, взметая пыль, вверх по склону Горы.
...В новых хоромах княгини Ольги — отдельном огромном строении в ограде княжеского дворца — стоял запах свежей древесины. Всё здесь было сотворено по образу и подобию суздальскому — крыша двускатная, брёвна, баня во дворе, высокий и широкий всход, сени. Будто в другой стране оказался Птеригионит, когда окунулся в прохладу горниц и переходов. Свет канделябров в двадцать пять свечей каждый ослепил его, заставил прикрыться рукавом хламиды. Суздалец — начальник дворцовой стражи поспешил шепнуть на ухо княгине о приходе вельми странного человека. Страж толкнул евнуха в спину тупым концом копья. Птеригионит недовольно обернулся, злобно оскалил зубы, прошипел недовольно:
— Как смеешь? Я принёс важную весть.
Ольга сидела в горнице в окружении придворных боярынь. Выслушав начальника стражи, она тотчас поднялась, извинилась перед боярынями и последовала в малый покой, где и намеревалась побеседовать с греком с глазу на глаз.
Птеригионит протиснулся в полузакрытую дверь, распростёрся на полу, заговорил:
— О, прекрасноликая архонтисса! Я, жалкий твой раб, исполнил веленное тобой! Архонт Иоанн мёртв!
Ольга вздрогнула, вскрикнула от неожиданной вести. Растерявшись, она с некоторым страхом смотрела на евнуха, который, подобрав полы хламиды, устроился на коленях посреди палаты и вопросительно уставился на неё.
— Поручение твоё оказалось весьма трудным. Много препятствий пришлось мне одолеть. Не одного Иоанна надо было устранить, — продолжил Птеригионит. — Но я всё сделал, как ты велела. Я накормил архонта ядом.
— Ты пришёл за серебром? — спросила, недовольно морщась, Ольга.
— Ты угадала, мудрейшая. Я сильно издержался.
— Подожди здесь.
Княгиня вышла, прошуршав шёлковым платьем. Птеригионит стал испуганно озираться по сторонам.
«А если она пришлёт убийц! Мне не выбраться из этой западни!» — холодок ужаса пробежал змейкой по спине скопца.
Но всё для него на сей раз обошлось. Княгиня воротилась с тугим мешочком в руках.
— Впредь столь же добросовестно исполняй мои поручения, Птери... Извини, не могу никак запомнить твоё имя. Покуда ты должен исчезнуть. Но из Галича не выезжай. Пригодишься нам с князем.
Евнух поспешил скрыться за дверями. Ольга долго сидела в задумчивости. Она всё не могла решить, рассказать ли о табели Берладника Ярославу. Может, ничего от него не скрывать, молвить всё, как есть? К чему здесь хитрить?
Она вышла в сени, затем вернулась в горницу к боярыням.
— Чегой-то долго ты так, княгинюшка? Что за человек приходил? — вопросила, лукаво прищурившись, Оксана, жена Семьюнки.
«Эта первая догадается, что к чему. Под стать муженьку своему, Красной Лисице!» — с неудовольствием подумала о ней Ольга.
— Так, тиун один из села отчёт давал, — отмахнулась она.
— Тиун? Не рано ли? — удивилась Оксана. — Лето ить на дворе, не осень ещё.
Белокурая Ингреда тихонько толкнула её в бок. Оксана тотчас примолкла, а свейка перевела разговор на другое.
— Столько народу в Галиче никогда не видела. Большой грядёт праздник, — сказала она.
— Да уж, — согласилась жена боярина Щепана.
Ольга молча кивнула головой. Снова думала она о том, что же сказать мужу. Сама не зная для чего, приказала закладывать возок. Выехав за ворота, крикнула возничему:
— К боярину Коснятину меня вези!
Зачем она едет именно к нему? Она верит, да, верит, что только он, Коснятин Серославич, даст ей верный совет. Он — единственный из галицких бояр, кому она сейчас готова была довериться всецело.
...Они сидели в палате боярского терема, Коснятин был явно взволнован, но не подавал виду, Ольга волновалась ещё сильней. Она нервно теребила в руках путевую рукавицу, то снимала, то снова натягивала её, и рассказывала сбивчиво о Птеригионите, о своём поручении, о гибели Ивана в Солуни.
Со вниманием выслушав её, Коснятин Серославич сказал:
— Верно ты содеяла, княгиня, мне открывшись. Князю ничего не говори. Он сам узнает о смерти Берладника. А об остальном... ни к чему се. Пускай между нами оно останется. Ни едина душа, клянусь тебе, о том более не сведает. Моё слово крепко. В том гы уже убедилась раз. И в будущем, прошу тебя, доверяй мне. Не прогадаешь.
Успокоенная, уехала княгиня домой. Коснятин, проводив её, долго стоял на крыльце, смотрел вслед удаляющемуся возку и потирал руки.
— Топерича ты моя, — шептали словно сами собой уста.
Говорить Ольга Ярославу ничего не стала. Но в тот же вечер прискакал в Галич из Константинополя скорый гонец. В грамоте на красном пергаменте сообщалось, что в городе Фессалоники скончался по неведомой причине двухродный брат Ярослава, князь-изгой Иван Ростиславич. Тело его положили в гроб и поместили в ограде одного из местных соборов.
Получив э го известие, Осмомысл заперся в покое на верхнем жиле и велел никого к себе не пускать. На душе у него было тягостно. Вот вроде и добрая весть, погиб его соперник, самый непримиримый враг, а не испытывал он никакой радости. Жесток сей земной мир, раз им двоим не нашлось в нём места. Кто-то должен был отступить, уйти, умереть. Ушёл Иван, более, может быть, честный, прямой, открытый, доверчивый, чем он, Ярослав. Об умершем вдали от родных мест «князе Иванке» станут слагать в народе песни, не те льстивые оды на пирах, какие поют слепцы-гусляры в честь хлебосольного хозяина или могучего властелина, а такие, которые льются от души и полны искренней любви и обожания. Иван, его приукрашенный образ войдёт в былины, а о нём, Ярославе, будут вспоминать, наверное, совсем не так.
— Ну, вот и всё, — тихо промолвил князь. — Прощай, беспокойный Ростиславич. Не судьба тебе занять моё место. Жаль тебя, жаль, что были мы ворогами, что не было меж нами мира, что тесно стало нам вместе жить на белом свете. Прощай и не поминай меня лихом. Не я в смерти твоей повинен.
Он расправил плечи, встал, подошёл к окну. На ночном небе яркими огоньками светили звёзды. Небо было, словно затканный драгоценными самоцветами ковёр. Серебрился месяц, июльская ночь была тепла и тиха.
Спать не хотелось. Ярослав зажёг свечи, стал читать. Мысли об умершем Берладнике отошли в прошлое. Вспомнился вдруг старый, ещё отцу покойному присланный базилевсом Мануилом хрисовул на багряном пергаменте. Не настала ли пора порвать его и покончить с этим позорным словом hypospondos!
Утром он вызвал к себе ромейского посланника и в присутствии бояр и иноземных гостей объявил ему:
— Передай базилевсу Мануилу Комнину: я, князь Галича Ярослав, сын Владимира, более ему не вассал и именовать себя так не позволю. Что было при отце моём, то быльём поросло.
Зашумели в горнице гости. Улыбнулся в усы, не скрывая удовлетворения, угорский бан Белуш. Угрия сейчас воевала с империей, на Дунае шли бои, и отказ галицкого князя от союза с ромеями был на руку державе мадьяр. Захлопала в ладоши чешская королева, давняя сторонница и близкая родственница короля угров, поддержал Ярослава Мстислав Волынский, одобрительно загалдели бояре.
Обведя взором собравшихся в горнице, Осмомысл понял, что принял решение правильное и своевременное. Он был сегодня на самой вершине, в зените своей славы. В тот день в княжеских хоромах до поздней ночи гремел весёлый пир, говорились здравицы, пелись песни, а после, когда уже разошлись шумные гости по теремам и палатам, спустился Ярослав в утлую камору под лестницей.
С Тимофеем они сидели почти до рассвета. Пили квас и воду, говорили о Берладнике, о его кончине.
— Не от мира сего был он. Лихой рубака, удалец. Нет, Тимофей, ужиться нам с ним всяко не суждено было. Ну да Бог ему судия, — говорил со скорбью Ярослав.
— На всё воля Божья, — вздыхал, истово крестясь, монашек.
...В летописи о событии в далёком греческом городе поместят короткую запись: «В то же лето преставился князь Иван Ростиславич, рекомый Берладник, в Селуни, и иные тако молвят, что с отравы ему смерть».
Примечания
1
Угры — венгры.
(обратно)2
Половцы — союз тюркоязычных племён, занявших в середине XI века причерноморские степи. Совершали набеги на русские земли, участвовали в междоусобных войнах русских князей. В XIII веке покорены монголо-татарами.
(обратно)3
Обры — славянское летописное название авар. Вархониты — то же, что авары. Союз кочевых племён, главным образом тюркоязычных.
(обратно)4
Дулебы — восточнославянское племя, прародиной является Волынь. (Примеч. ред.)
(обратно)5
Тиверцы — восточнославянское племя. Зона расселения — от Днестра до Дуная. (Примеч. ред.)
(обратно)6
Белые хорваты — восточнославянское племя, обитало в Закарпатье.
(обратно)7
Мадьяры — самоназвание венгров.
(обратно)8
Рольи — пашни.
(обратно)9
Лов — охота.
(обратно)10
Стол (др.-рус.) — престол.
(обратно)11
Галиция — историческая область на западе совр. Украины и на юго-востоке и востоке Полыни. Иначе — Галичина, или Червонная Русь.
(обратно)12
Соловый конь — желтоватый, со светлым хвостом и гривой.
(обратно)13
Фарь — верховой конь.
(обратно)14
Фибула — застёжка.
(обратно)15
Тим — мягкая кожа, род сафьяна.
(обратно)16
Бодни — шпоры.
(обратно)17
Десница — правая рука. Одесную — справа.
(обратно)18
Ромейский — то же, что византийский. Ромея — Византия.
(обратно)19
Шишак — остроконечный шлем с гребнем или хвостом.
(обратно)20
Вершник — всадник, верховой.
(обратно)21
Свита — длинная верхняя одежда на Руси.
(обратно)22
Такожде (др.-рус.) — также.
(обратно)23
Жило — этаж, ярус.
(обратно)24
Саян — разновидность сарафана.
(обратно)25
Повой, повойник — платок замужней женщины.
(обратно)26
Гульбище — открытая галерея со столпами и колоннами в княжеских или боярских хоромах; балкон, терраса для прогулок и пиров.
(обратно)27
Шелом — обычно конической формы и остроконечный.
(обратно)28
Вборзе — быстро, скоро.
(обратно)29
Баить, баять — говорить.
(обратно)30
Гривна — денежная и весовая единица Киевской Руси. Название происходит от золотого или серебряного обруча, который носили на шее (на «загривке»). Первоначально (до 12 века) 1 гривна серебра равнялась примерно 410 граммам серебра. Денежная единица 1 гривна кун =20 ногатам=25 кунам=50 резанам =150 веверицам.
(обратно)31
Потир — Чаша для причастия в церкви.
(обратно)32
Ослаба — слабость.
(обратно)33
Николи (др.-рус.) — никогда.
(обратно)34
Мочно (др.-рус.) — можно.
(обратно)35
Базилевс — титул византийского императора.
(обратно)36
Стрый — дядя по отцу.
(обратно)37
Отрок — категория младших дружинников. Отроки выполняли различные поручения, использовались в качестве гонцов, посыльных. Считались выше гридней (о гриднях — см. далее в примечаниях).
(обратно)38
Ве́верица — самая мелкая денежная единица в Древней Руси, составляла 1/150 часть гривны.
(обратно)39
Киноварь — краска из одноимённого минерала. Красного цвета.
(обратно)40
Кияне — киевляне.
(обратно)41
Холоп — категория населения на Руси. Обельные (полные) холопы — рабы, основным источником их происхождения был плен. Необельные холопы, или закупы — феодально зависимые крестьяне, попавшие в кабалу за долги и юридически могущие освободиться от зависимости, выплатив купу, то есть долг.
(обратно)42
Двоюродный брат. (Примеч. ред.)
(обратно)43
Скотница — казна.
(обратно)44
Мафорий — короткое женское покрывало.
(обратно)45
Хламида — длинный плащ.
(обратно)46
Тя (др.-рус.) — тебя.
(обратно)47
Бо (др.-рус.) — ибо, так как.
(обратно)48
Днесь (др.-рус.) — сегодня.
(обратно)49
Встань (др.-рус.) — бунт, восстание.
(обратно)50
Било — доска из «звонких» пород древесины с теми же функциями, что и колокол. По ней били молоточком (иногда двумя молоточками) или палкой. Также бывает из меди.
(обратно)51
Зиждитель (др.-рус.) — зодчий.
(обратно)52
Мусия — мозаика.
(обратно)53
Энколпион — крест внутри которого, как в ковчежце, помещалась частица святых мощей.
(обратно)54
Допрежь (др.-рус.) — прежде.
(обратно)55
Кунтуш — польский верхний кафтан, со шнурами, с откидными рукавами.
(обратно)56
Седмица — неделя.
(обратно)57
Спальне. (Примеч. ред.)
(обратно)58
Стойно (др.-рус.) — словно, будто.
(обратно)59
Хорос — люстра.
(обратно)60
Сени — отдельная постройка на столбах или подклете, связанная с теремом висячими переходами.
(обратно)61
Двоюродные. (Примеч. ред.)
(обратно)62
Поруб — место заключения провинившихся: яма, чьи стенки укреплены срубом, либо изба.
(обратно)63
Вежа — отдельно стоящая башня внутри Детинца.
(обратно)64
Старцы градские — крупные землевладельцы, составляли городскую верхушку.
(обратно)65
Удачливый. (Примеч. ред.)
(обратно)66
Башня в хоромах, в которой были помещения для пиров. (Примеч. ред.)
(обратно)67
Сулица — короткое метательное копьё.
(обратно)68
Вымол — пристань.
(обратно)69
Окоём — горизонт.
(обратно)70
Бискуп (др,-рус.) — епископ.
(обратно)71
Рухлядь — вещи, не обязательно старые.
(обратно)72
Катафракта — тяжёлый металлический доспех, происходит из Византии.
(обратно)73
Младшего брата. (Примеч. ред.)
(обратно)74
Еже (др.-рус.) — если.
(обратно)75
То есть жители города Берестье. Берестье — ныне город Брест в Белоруссии.
(обратно)76
Торки — кочевые тюркоязычные племена, впервые упоминаются в русских летописях в 985 году как союзники киевского князя Владимира Святославича. С XI века жили в причерноморских степях, совершали опустошительные набеги на русские земли. В XII веке эти племена известны в летописях под названием ковуев или чёрных клобуков.
(обратно)77
Берендеи — кочевые племена в южнорусских степях, вблизи Киевского и Переяславского княжеств. В летописях часто упоминаются как торки.
(обратно)78
Хоругвь — воинское знамя, стяг.
(обратно)79
Братина — большая чаша для питья. Применялась на дружинных пирах.
(обратно)80
Ендова — широкая посуда с «рыльцем», т.е. с носиком. Применялась на дружинных пирах.
(обратно)81
Ол — пиво.
(обратно)82
Харалужный — булатный, стальной.
(обратно)83
Находник — то же, что набежчик. (Примеч. ред.)
(обратно)84
Ряд (др.-рус.) — порядок, договор.
(обратно)85
Переяславль (Южный) — город на реке Трубеж, ныне в Киевской области, в XI—XIII веках — столица Переяславского княжества.
(обратно)86
Вдругорядь (др.-рус.) — в другой раз.
(обратно)87
Эвксинский Понт — греческое название Чёрного моря.
(обратно)88
Бан — наместник венгерского короля, в частности в Хорватии.
(обратно)89
Безлепый — нелепый, глупый.
(обратно)90
Обезы — предки совр. абхазов. (Примеч. ред.)
(обратно)91
Отметчик, отметник (др.-рус.) — предатель.
(обратно)92
Харатья — пергамент.
(обратно)93
Комонный (др.-рус.) — конный.
(обратно)94
Вуй (устар.) — дядя по матери.
(обратно)95
Аксамит (или гексамит) — дорогая узорная византийская ткань сложного плетения с золотой нитью, род бархата. Обычно синего или фиолетового цвета, с круглыми медальонами, изображающими львов и грифонов.
(обратно)96
Лунское — английское.
(обратно)97
Ипрское — из города Ипр. Ипр в то время являлся одним из главных центров сукноделия во Фландрии (в северо-западной Европе).
(обратно)98
Обрудь — сбруя.
(обратно)99
Аргамак — старинное название породистых верховых лошадей.
(обратно)100
Тысяцкий — в Древней Руси должностное лицо в городской администрации. В обязанности тысяцкого входило формирование городского ополчения во время войны.
(обратно)101
Бармица — кольчужная сетка, защищающая затылок и шею воина. Бармицей также называлась дорогая накидка у знатных женщин, закрывающая плечи.
(обратно)102
Дощатая бронь — вид защитного вооружения, панцирь из гладких металлических пластин.
(обратно)103
Столец — княжеское кресло.
(обратно)104
Заборол — здесь: земляная насыпь как часть оборонительных укреплений, бруствер. (Примеч. ред.)
(обратно)105
Гридни — категория младших дружинников в Древней Руси. Часто выполняли функции телохранителей при князе.
(обратно)106
Червлёные щиты — щиты воинов, багряного или ярко-малинового цвета.
(обратно)107
Гридница — помещение в княжеском дворце для младшей княжеской дружины. В гриднице часто устраивались пиры, проходили торжественные приёмы.
(обратно)108
Вой — воин. Боями называли не профессиональных дружинников, а набранных на время войны ратников из крестьян и горожан (ополчение).
(обратно)109
Оружный — вооружённый.
(обратно)110
Заборол — здесь: площадка наверху крепостной стены, где защитники крепости находились во время осады.
(обратно)111
Тать (др.-рус.) — вор.
(обратно)112
Вместях — вместе.
(обратно)113
Рота — клятва.
(обратно)114
Горынь — река на Украине, правый приток Припяти.
(обратно)115
Бутурлык — доспех на ноги воина.
(обратно)116
Мисюрка — воинская шапка с железной маковкой или теменем и сеткой.
(обратно)117
Прилбица — здесь: меховой или кожаный подшлемник.
(обратно)118
Пясты — династия польских князей и королей (IX—XIV вв.).
(обратно)119
Ол — вид хмельного напитка. Брага, пиво или мёд. (Примеч. ред.)
(обратно)120
Толковня — разговор.
(обратно)121
Здесь — блестящий камень или стекло как украшение перстня. (Примеч.ред.)
(обратно)122
Словно. (Примеч. ред.)
(обратно)123
Хазары — кочевой тюркоязычный народ, появился на равнинах Восточной Европы в IV веке. В середине VII века хазары образовали на Волге и Северном Кавказе государство — Хазарский каганат. Около 800 года каган Обадия принял иудаизм, ставший государственной религией каганата. Около 965 года каганат был разгромлен войсками киевского князя Святослава. Впоследствии хазары смешались с другими народами Причерноморья и Предкавказья.
(обратно)124
Конец — район в древнерусских городах.
(обратно)125
Звонкие. (Примеч. ред.)
(обратно)126
Храбр — богатырь, храбрый и сильный воин.
(обратно)127
Скурат — обрезок кожи. Маска из кожи изображала морду зверя. (Примеч. ред.)
(обратно)128
Убрус — женский головной платок.
(обратно)129
Кика — головной убор замужней женщины, кокошнике «рогами» или высоким передом.
(обратно)130
Лор — в Византии одежда знатных лиц в виде длинной и узкой пелены.
(обратно)131
Варяжское море — Балтийское море.
(обратно)132
Ить (др.-рус.) — ведь.
(обратно)133
Дворский — управитель, вёл хозяйство князя или боярина.
(обратно)134
Майолика — изделия из обожжённой глины, покрытые глазурью и красками.
(обратно)135
Рытый бархат — бархат с тиснёным узором.
(обратно)136
Вятичи — восточнославянское племя, жило по верхнему и среднему течению Оки. Дольше остальных племён сохраняло независимость и языческие традиции и обряды.
(обратно)137
Бадана, байдана (вост.) — кольчуга, состоящая из плоских колец.
(обратно)138
Зерцало — вид лат со сплошным металлическим нагрудником.
(обратно)139
Корзно — княжеский плащ, богато украшенный, был распространён на Руси до монголо-татарского нашествия, во 2-й половине XIII века вышел из употребления. Существовали лёгкие и тёплые корзна, подбитые мехом.
(обратно)140
Котора — междоусобица, распря.
(обратно)141
Бретьяница — кладовая.
(обратно)142
Скора — необделанная шкура. Слово часто употребляется в собирательном значении.
(обратно)143
Хеландия — византийское военное или торговое судно, размерами меньше дромона.
(обратно)144
Ветрило — парус.
(обратно)145
Перемога — победа.
(обратно)146
Сторожа — отряд воинов, выделяемый для охраны лагеря или посылаемый в разведку.
(обратно)147
Бабинец (др.-рус.) — женская часть дома.
(обратно)148
Намедни — накануне.
(обратно)149
Морморяный — мраморный.
(обратно)150
Эстергом — столица королевства венгров в X—XIII веках, город на правом берегу Дуная к северу от современного Будапешта, близ венгеро-словацкой границы.
(обратно)151
Горлатная шапка — высокая, расширяющаяся кверху меховая боярская шапка. Шилась из дущатого меха, т.е. меха, взятого с шеи пушного зверя.
(обратно)152
Сряда — одежда.
(обратно)153
Серский — китайский.
(обратно)154
Посконный — домотканый.
(обратно)155
Смерды — категория феодально-зависимого населения в Древней Руси. О смердах мало что известно. Видимо, это узкая социальная группа, тесно связанная непосредственно с князем.
(обратно)156
Тарпан — дикий степной конь.
(обратно)157
Хрисовул — в Византии грамота с золотой вислой императорской печатью.
(обратно)158
Богемские — чешские.
(обратно)159
Живот — здесь: жизнь.
(обратно)160
Подол (или посад) — торгово-ремесленный район в древнерусских городах, как правило, слабо укреплённый или совсем незащищённый.
(обратно)161
Дорогобужское княжество — удельное княжество с центром в Дорогобуже, древнерусском городе на Волыни, к востоку от Луцка.
(обратно)162
Аварский шелом — тип защитного шлема. Имел лубяную основу, скреплённую металлическими пластинами.
(обратно)163
Военачальник. (Примеч. ред.)
(обратно)164
Архонт (греч.) — князь, правитель области, наместник.
(обратно)165
Гинекея (греч.) — женская часть дома.
(обратно)166
Регенсбург — в то время являлся самым богатым городом германских земель.
(обратно)167
Пожонь — современная Братислава, в Словакии.
(обратно)168
Волохи (валахи, влахи) — народность в Нижнем Подунавье, позднее вошедшая в состав румынской нации.
(обратно)169
Городни — срубы, заполненные землёй.
(обратно)170
Детинец — укреплённая часть древнерусского города, то же, что Кремль или Кром.
(обратно)171
Давеча — недавно.
(обратно)172
Свейский — шведский (свей — шведы).
(обратно)173
Коц — плащ.
(обратно)174
Аще (др.-рус.) — если.
(обратно)175
Апсида — в церковной архитектуре алтарный выступ полукруглой или прямоугольной формы, имеющий собственное перекрытие.
(обратно)176
Рядовичи — крестьяне, служившие землевладельцам по договору (ряду), согласно которому трабатывали долг (деньги, стоимость семян либо стоимость пользования орудиями труда, взятых у землевладельца). В отличие от закупов тратили на отработку долга лишь часть своего времени.
(обратно)177
Закупы — феодально зависимые крестьяне, попавшие в кабалу за долги, но могущие получить свободу после выплаты долга.
(обратно)178
Всход — крыльцо.
(обратно)179
Муравлёный — покрытый узорами в виде трав.
(обратно)180
Понёва — юбка.
(обратно)181
Здесь — серебряное или золотое украшение. (Примеч. ред.)
(обратно)182
Митрополит — глава русской церкви в X—XVI веках. До XV века обычно назначался или утверждался константинопольским патриархом. В домонгольское время митрополитами были преимущественно греки.
(обратно)183
Житьи люди — мелкие землевладельцы или люди, живущие доходами от состояния в деньгах, не столь именитые и богатые, как бояре.
(обратно)184
Вено — плата от жениха за невесту.
(обратно)185
Царьград — русское название города Константинополя, столицы Византийской империи.
(обратно)186
Камиза — в Средние века на Западе так называлась рубаха с длинными рукавами.
(обратно)187
Сто́ла — верхнее женское платье с широкими рукавами.
(обратно)188
Сарафане. (Примеч. ред.)
(обратно)189
Словно указы. Хрисовул — грамота, содержащая указ по особо важному делу, касающемуся всего государства. (Примеч. ред.)
(обратно)190
Вышгород — город на Днепре, к северу от Киева. В середине X века — резиденция княгини Ольги.
(обратно)191
Корсунь (Херсонес) — греческая колония в Крыму близ совр. Севастополя, в описываемую эпоху принадлежал Византии.
(обратно)192
Перун — бог грома и молнии у древних славян. Очевидно, культ Перуна пришёл на Русь из Прибалтики. Аналог — Перкунас у древних литовцев.
(обратно)193
Сварог — бог огня в западно- и восточнославянской мифологии.
(обратно)194
Барабан (в архитектуре) — опирающаяся на своды цилиндрическая или многогранная верхняя часть здания, служащая основанием купола. Барабан характерен для купольных церквей.
(обратно)195
Куколь — монашеский капюшон.
(обратно)196
Рядно — грубый холст, полотно.
(обратно)197
Сыновей — племянник со стороны брата.
(обратно)198
Мисюрка — небольшой шлем, прикрывающий макушку. Остальную часть головы прикрывает прикреплённая к такому шлему кольчужная сетка, то есть бармица. (Примеч. ред.)
(обратно)199
По́рок — стенобитное орудие, окованное железом бревно.
(обратно)200
Кросно — ткацкий стан.
(обратно)201
Лонись — в прошлом году.
(обратно)202
Игра в зернь — игра в кости.
(обратно)203
Ставник — столик или шкафчик для помещения образов.
(обратно)204
Овощеве — фрукты.
(обратно)205
Конник — здесь: лавка.
(обратно)206
Колты — женские височные украшения в виде полумесяца со сложным узором, иногда служили как сосуд с благовониями, прикреплялись к головному убору.
(обратно)207
Можновладцы — в Польше крупные землевладельцы.
(обратно)208
Иже (др.-рус.) — который.
(обратно)209
Кожух — здесь: опашень на меху, шуба, тулуп.
(обратно)210
Хорс — бог солнца у древних славян.
(обратно)211
Снем — княжеский съезд.
(обратно)212
Вишеградские Горы — возвышенность в Венгрии, на правом берегу Дуная.
(обратно)213
Далмация — приморская область в Хорватии.
(обратно)214
Берестово — княжеское село под Киевом.
(обратно)215
Вотол — верхняя дорожная одежда, грубая, из валяного сукна. Встречались и дорогие, княжеские вотолы, саженые жемчугами.
(обратно)216
Людины — основная часть населения Киевской Руси в IX—XII веках, свободные общинники. Их зависимость от феодалов заключалась в уплате дани.
(обратно)217
Ятвяги — литовское племя, жило на реке Неман, в совр. Гродненской области. Платило дань киевским князьям.
(обратно)218
Кинтарь — овчинная безрукавка с металлическими бляшками.
(обратно)219
Выступки — женская обувь, без каблука.
(обратно)220
Поять — взять в жёны.
(обратно)221
Сакмагон — пеший лазутчик.
(обратно)222
Ферязь — кафтан без воротника.
(обратно)223
Пото (др.-рус.) — потому.
(обратно)224
Кафизма — в Византии императорская ложа. На Руси кафизмой называлось помещение, где слушали службу князья.
(обратно)225
Епитимья — церковное наказание (посты, длительные молитвы и т.п.).
(обратно)226
Константин I Великий — римский император в 306—337 гг. Основатель Константинополя. Причислен к лику святых и считается равноапостольным.
(обратно)227
Вира — штраф по приговору суда. Размеры вир за различные проступки и преступления оговорены в «Русской Правде» — первом дошедшем до нас своде древнерусских законов.
(обратно)228
Клир — здесь: совокупность священников и церковнослужителей.
(обратно)229
Бердыш — широкий длинный топор с лезвием в виде полумесяца на длинном древке.
(обратно)230
Гипанис — греческое название двух рек: Южного Буга и Кубани.
(обратно)231
Солтан — глава орды у половцев.
(обратно)232
Хлебово — похлёбка.
(обратно)233
Таматарха — хазарское название средневекового города Тмутаракань. Таматарха находилась на Таманском полуострове. До 60-х гг. X века принадлежала хазарам, в конце X — начале XII века являлась столицей русского Тмутараканского княжества, включавшего в себя также восточный берег Крыма с городом Корчевом (совр. Керчь).
(обратно)234
Бек — у половцев это глава рода.
(обратно)235
Бей — у половцев это глава семьи.
(обратно)236
Куманы — половцы. В зависимости от территории проживания делились на «белых» и «чёрных». Отсюда топонимы: Белая Кумания и Чёрная Кумания. (Примеч. ред.)
(обратно)237
Юшман — панцирь с кольчужными рукавами.
(обратно)238
Поршни (постолы, калиги) — обувь, гнутая из сырой кожи, либо из шкуры с шерстью.
(обратно)239
Таинник — человек, выполняющий чьё-либо тайное поручение.
(обратно)240
Переветник — изменник, предатель.
(обратно)241
Ропата — католический костёл.
(обратно)242
Постолы (поршни, калиги) — обувь, гнутая из сырой кожи, либо из шкуры с шерстью.
(обратно)243
Гобино (др.-рус.) — урожай.
(обратно)244
Рез — процент. Третный рез составлял 1/2 от выданной суммы и выплачивался 3 раза в течение года.
(обратно)245
Невмочь (др.-рус.) — невозможно.
(обратно)246
Кат — палач.
(обратно)247
Белгород (Белгород-Киевский) — древнерусский город на реке Ирпень, к юго-западу от Киева.
(обратно)248
Вар — горячая жидкость. Во время штурма крепости осаждённые выплескивали его на врагов.
(обратно)249
Аманаты (вост.) — заложники.
(обратно)250
Сельджуки — ветвь племён турок-огузов. В 40—80-х гг. XI века захватили большую часть Средней Азии, Иран, Азербайджан, Грузию, Малую Азию. Государство сельджуков распалось в XII веке.
(обратно)251
Иерей — священник.
(обратно)252
Опашень — верхняя одежда с короткими рукавами.
(обратно)253
Хиротония — рукоположение, посвящение в сан.
(обратно)254
Воздухи (в церкви) — покровы на сосуды со Святыми Дарами.
(обратно)255
Верста — русская мера длины, равная 500 саженям (1,0668 км).
(обратно)256
Полть — половина мясной туши.
(обратно)257
Тул — колчан.
(обратно)258
Актаз — порода коней; в Средние века известны актазы, разводимые в Болгарии Волжско-Камской.
(обратно)259
Стожары — Плеяды (звёздное скопление).
(обратно)260
Прикол-звезда — Полярная звезда. Называлась Прикол, т.к. неподвижна. (Примеч. ред.)
(обратно)261
Автократор (греч.) — самодержец; так называли византийского императора.
(обратно)262
Хорезм — историческая область и древнее государство в Средней Азии, в низовьях р. Амударьи.
(обратно)263
Шахармены — династия, правившая с начала XII века по 1207 г. государством в Юж. Армении с центром в городе Хлат. Их владения охватывали бассейн озера Ван.
(обратно)264
Саксин — город в низовьях Волги, существовал в X—XIII веках.
(обратно)265
Стратиг — в Византии управитель фемы, мелкой административно-военной единицы.
(обратно)266
Гетера — здесь: проститутка.
(обратно)



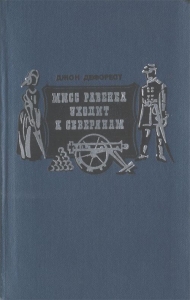
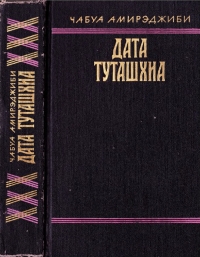
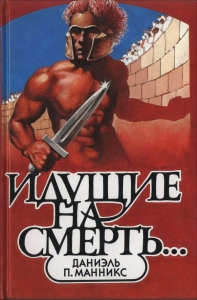

Комментарии к книге «На златом престоле», Олег Игоревич Яковлев
Всего 0 комментариев