«Райкин шоколад»
Глава 1
Райка была блядью. И не забивала себе голову всякой ерундой. Она не стеснялась своего статуса и пыталась получить от жизни все, что могла, с помощью своих пряных женских прелестей. Мужикам нравился ее запах, ее упругое, крепкое тело, и не стеснительность во время секса. Она кричала, корчилась и извивалась, как кошка. Помойная. Но, приятная во многих отношениях.
Райка понимала, что можно выйти замуж и с помощью замужества поднять своей статус, и даже добиться кое-какого положения в городе, но когда она, только из интереса, смотрела на жен своих любовников, все желание выйти замуж улетучивалось вместе с папиросным дымом. Придется стать такой же чопорной и унылой, напялить на себя унылые шмотки и культурно выражаться. Ее от этого тошнило.
Правда один раз, после особенно гнусного дня на работе и вечернего нытья матери о том, что пора подумать о себе и о Петьке, который растет беспризорником при живой-то матери, и после скандала от одной из этих унылых жен, Райка села и задумалась. А не выйти ли замуж, вот за этого самого мужика, за которого так билась в истерике снулая жена. Просто из принципа. Решаться сразу многие проблемы. Бытовые. Появится квартира. Возможно, даже помощница по хозяйству. На этом Райкино воображением спасовало. Что она делать-то будет с этой помощницей? Будь Райка на месте помощницы, она непременно б перемеряла всю одежду хозяйки. И украшения. Да еще, может быть и прихватила бы себе чего то, особенно понравившееся. Нет, никакой помощницы. Что бы какая-то прошмандовка копалась в ее вещах и трусах! Это и решило вопрос с замужеством.
– Да, ну, нахер, – ответила Райка на материны приставания.
Да и в постели он так себе. Раз в неделю еще пережить можно, но что бы все время… да, ну, нахер. Решила Райка, и отказала кандидату от тела. Он, ходил с подарками, и ныл еще целую неделю, добиваясь неземных райкиных ласк. Но Райка была непреклонна. Подарки, правда, брала, не пропадать же добру. И потом мужиков, хоть и мало их после войны осталось, Райке хватало. Даже с избытком.
Райка с матерью Верой и сыном жили в десятиметровой комнатушке в деревянном домике на улице Красноармейской. И когда Райка принимала у себя очередного любовника, мать с Петькой уходили спать на пол, к соседке.
Вера хоть и ворчала и называла Райку блядью, произнося это похабное слово с французским прононсом, но деликатесы из Райконого блядского пайка – ела, хоть и кривилась.
А когда злилась на Райку, кричала ей, что надо было вытравить это блядское семя, то есть Райку, ещё в утробе.
Райка отца не знала. Мать не могла даже вспомнить лиц тех красноармейцев, которые сначильничали её, юную барышню с бисерной сумочкой и в меховой пелеринке, возвращавшуюся с репетиции рождественского спектакля от Побединских. Её сопровождал Коленька Побединский, студент университета.
Власть в городе менялась чуть ли не каждый день, но университет держался незыблемо. Преподаватели и студенты служили науке, а не властям.
Ещё утром в университете перед новогодними праздниками развесили приказ "Об усилении борьбы с контрреволюций", в котором объявили в Перми военное положение и расстрел за все, в том числе за слухи, панику и пьянство. За пьянство – расстрел на месте, без суда.
Красноармеец Дурнев, робея университетских стен, стесняясь своих снятых с убитого буржуя ботинок, которые для тепла и чтобы не сваливались, были дополнены портянками, перемотанными бечевкой, принёс пачку приказов, расклеил их по коридорам и согнал профессоров и студентов в самую большую и холодную аудиторию для разъяснительной работы. Лицо у Дурнева было странное, плоское и скуластое одновременно. Невыразительное лицо. Такого лица не бывает у революционных героев. Красноармеец Дурнев страдал от этого и брал другим. Презрительно глядя исподлобья, он по слогам прочитал приказ и, отложив бумажку, пояснил:
– За пьянство будем расстреливать на месте, – стараясь чеканить каждое слово, произнёс он и выдохнул в морозный воздух тяжелое, ртутное облачко вчерашнего перегара.
Кто-то из самых смелых студентов выкрикнул с задних рядов:
– А вдову Клико можно?
Дурнев вздохнул, не понявши вопроса, но пояснил ещё раз:
– Всех. Расстреливать будем всех. Кликуш, сплетников и пьяниц. Это есть товарищи… кхм… – он запнулся, не зная, как правильно обращаться к этой вяло-враждебной толпе, – это будет непримиримая борьба с контрреволюцией! Мы уничтожим всех врагов революции! Всех! Бывших благородных господ, сынков буржуазии и вас, – он дёрнул щекой, – студентов и гимназистов. Всех, кто против рабочих и крестьян, – он произнёс последние слова, кривя узкие, потрескавшиеся губы, показывая максимальное презрение к ним, не воспринимавших его всерьёз. – Даже за глоток вина! – выкрикнул он зло в молчаливую аудиторию, пытаясь добиться от них хоть какой-то реакции. – Лично. Я лично буду расстреливать!
Для того, чтобы эти, эти, он никак не мог подобрать слова, чтобы они поняли всю серьезность своего положения, он положил руку на кобуру, подкрепляя жестом, свои намерения.
На задних рядах стали шушукаться, не обращая на него внимание. Профессора делали вид, что не слышат и не видят неповиновения власти. Студенты пересмеивались и приглашали друг друга громким шёпотом в гости к какой-то вдове.
Это дико злило Дурнева, им плевать на него, на приказы и на революционную власть и расстрелы. На выходе из аудитории он сорвался, наорав на молоденького красноармейца. Разозлился на себя за слабость и ударил его в скулу. Почувствовав боль в костяшках и увидев кровь на руке, он снова дёрнул щекой и, стараясь не бежать, покинул университет.
Коленька Побединский провожал Веру домой. Всем было давно уже ясно, что они влюблены друг в друга.
И Верочка перед сном, в мечтах, примеряла на себя фамилию Побединская. Это звучало красиво. Вера Побединская. Звучало почти как у какой-нибудь известной актрисы немого кино.
Она репетировала перед зеркалом трагический, не достижимый для обычных простушек, взгляд и шептала "Вера Побединская".
Утаскивала с кухни малюсенький кусочек свеклы, если матери удавалось выменять или купить на рынке, делала кровавые губы и трагический взгляд. Понимающий, прощающий и недостижимо трагичный одновременно. Вера поддерживала сползающий с плеча шелковый халатик, ещё не проданный на рынке, чтобы выручить хоть какие-то деньги и купить на них плебейской картошки или уже спитого, вновь высушенного чая. Она прощала добродушно и высокомерно, прощала всех своих мучителей.
Представления о мучителях были туманны, и не понятно было, чем они мучили тонкую и нежную натуру Веры. Хотелось трагической судьбы и высоких чувств. Любви. Разбивания сердец и счастья.
Все это витало в воздухе, трагизм и перемены судеб. Когда жизнь человека менялась просто одним щелчком. Но все это пока еще шло мимо Верочки.
У неё все было просто и предсказуемо. После праздников, Коленька, наверняка уже решиться сделать предложение. Она, чтобы подтолкнуть его к этому шагу, изучила некоторые уловки, безобидные, но действенные, как заверила её более опытная подруга. Верочка особенно спрашивала, действительно ли уловки безобидны, она хотела не принуждения к браку, а лишь единения сердец и свободной воли каждого.
Они обвенчаются к весне, после поста. Обвенчаются и будут жить. Николай и Вера Побединские. Друзья будут говорить про них "а поедемте сегодня к Побединским, они принимают". Коленька доучиться, и будет ходить на службу.
Дальнейшее Вера представить не могла. Особенно её смущала часть семейной жизни, относящаяся к появлению детей и самим детям. С ними надо будет что-то делать. Водиться, воспитывать и учить. На этом в воображении возникала маменька, только со сморщившимся лицом самой Верочки, и начинала её учить, как быть с младенцами без прислуги. И взгляд у Верочки тут же становился трагическим и понимающим, но лицо было морщинистое. Но кто же полюбит такое уродище? Верочка мотала головой, отгоняя страшное.
Коленька, поддерживая Веру под руку и наклоняясь к ней, рассказывал пресмешной случай, который случился в университете.
Он видел розовую от мороза маленькую и трогательную мочку Верочкиного ушка. Мочка была беззащитная и дырочкой, сережки давно проданы, понял Коля. Проданы сережки, конечно, на рынке, спекулянтам, и давно уже проедены. Русый локон выбился из-под потертой беличьей шапочки. И вся эта картина вызывала у Коленьки щекотание в носу и нежность. Он поклялся, глядя на розовое ушко Верочки, что непременно в подарок на свадьбу достанет красивые сережки для Веры, и ни за что не позволит сменять их на еду. Он будет служить, как закончит университет. Инженеры нужны всегда – и при новой власти, и при старой. Коленька вздохнул, подумав о новой власти, с ее лозунгами и обещаниями расстрелять всех их, студентов и гимназистов, не важно, на кого они учатся, на инженеров, докторов или учителей, и продолжил:
– Представители новой власти, – он снисходительно хмыкнул, и облачко пара, вырвавшись изо рта, на секунду скрыло розовую мочку Верочки.
Где-то внизу живота все сжалось от любви и нежности.
– Собрали нас, представь, и профессоров и студентов. Выбрали, как нарочно, самую большую и холодную аудиторию. И представитель, – Коленька поморщился, вспомнив грязные портянки, торчащие из господских, бывших, как говорят эти представители, ботинок. Он отогнал это видение, чтобы не думать о том, с кого сняты эти ботинки, и жив ли этот бывший, – представитель этот, с совершенно дурацкой фамилией то ли Дураков, то ли Дуралеев, нет, не помню! Представь, по слогам читал нам приказ! Нам! Словно мы не смышленые дети и букв не разумеем!
– Что ждать от этой власти! – Верочка дернула плечиком, – коли они даже начатую при старой власти канализацию достроить не могут! Живем в грязи, как темные века! Канализация важней для города всех этих лозунгов и приказов!
– Без инженеров, Верочка, все равно не обойтись! – сказал Коленька. – А приказ, как обычно, всех и за все расстрелять.
– За что ж на этот раз? – улыбнулась Вера, быстро и смело взглянув в глаза Коленьке, как учила подруга, потом, будто опомнившись, опустила длинные ресницы и засмущалась.
– На этот раз? – реакция Коленьки была как по нотам.
Он сбился с мысли и покраснел.
– Расстрелять? – помогла ему Верочка и решила проверить еще один трюк.
Такой же быстрый взгляд, в самые зрачки, в глубину, в душу посмотреть, опять опустить ресницы, словно испугавшись своей смелости, улыбнуться, извиняясь, и прикоснуться случайно к открытой коже. Но прикасаться было не к чему, открытой кожи на морозе только лицо, остальное все упрятано в пальто и грубые рукавицы. Но Верочка, рассмеявшись глупости этих советов, просто смахнула снежинки с воротника Коленьки.
Коля разволновался, снял свои грубые варежки и поймал Верочкину руку, прижал к себе и жарко зашептал:
– Верочка, я понимаю, все не так, – он постарался отогнать видение локона и ушка, – все не так должно происходить. Но Верочка, окажешь ли ты мне честь…
Вера заворожено смотрела на заикающегося Коленьку, и про себя шептала "ну, ну же!". Вот сейчас, сейчас сбудется то, о чем мечталось! И она от волнения, не замечая, сильно сжимала руку Коленьки.
– Ага, голубы!
Признание Коленьки перебил грубый прокуренный голос. Из-за поворота вышло трое красноармейцев.
– Милуются, – презрительно посмотрел на Коленьку один, видимо старший, и сплюнул себе под ноги желтую табачную слюну.
– Дурнев! – вспомнил, наконец, Коленька дурацкую фамилию.
Красноармеец дернулся и внимательно посмотрел на Колю.
– Вспомнил фамилию вашу! – улыбнулся Коленька. – Вы приходили давеча к нам в университет.
– Университет, – повторил эхом красноармеец, цыкнул слюной в дырку от переднего зуба, и снова плюнул уже под ноги Верочке. – Студент значит, – прищурился Дурнев. – Утром только я этим контрам объяснял, что будет за нарушение военного положения, – он обвел тяжелым взглядом своих товарищей.
Один, совсем молоденький красноармеец, «видимо тоже, давешний, с разбитой скулой» – подумал Коленька, отвел взгляд. А второй, чувствуя, что назревает веселье, улыбнулся выжидающе.
– Вы, Дурнев, – начал Коленька, чувствуя, как сохнет во рту от волнения, и колени начинают подгибаться под тяжелым взглядом красноармейца, – обижаете таким своим поведением барышню. Не хорошо плевать людям под ноги.
Вера, не переставая сжимать руку Коленьки, стала шептать ему:
– Молчи, молчи, ради Бога!
– Правильно, говорит, молчи, контра! – Дурнев снова сплюнул, попав Верочке на юбку.
Коля выпустил руки Верочки, и развернулся лицом к Дурневу.
– Вы, Дурнев, представляете сейчас власть в нашем городе, – изо всех сил старался говорить Коленька спокойно, – а ведете себя недостойно. Извольте принести даме извинения!
Верочка схватила Колю за холодную руку и стала тянуть. «Бежать, надо бежать» – крутилось у нее в голове, – «как можно дальше от этих страшных людей».
Дурнев нехорошо улыбнулся, расстегнул кобуру и положил руку на рукоять нагана.
Коля, понимая, что он обречен уже на этот самый расстрел всех и за все, сжал кулаки и продолжил:
– Дурнев, я настаиваю, что бы вы, – понимая, как бесит он этим «вы» Дурнева, повторил еще раз, – ВЫ принесли извинения даме.
Дурнев не отвечая, подошел вплотную к Коленьке, и дыша перегаром ему в лицо, вынул наган и, не отрывая взгляда от глаз Коленьки, выстрелил ему в грудь. Он, не мигая, продолжал смотреть в глаза Коле, и в тот момент, когда Коленька почувствовал, как Дурнев ткнул его наганом в грудь, и в глазах Коли колыхнулся страх, и как он загнал этот страх внутрь, Коля тоже сузил глаза и стал зло и вызывающе смотреть на Дурнева. Дурнев с интересом наблюдал за Колей, и когда пуля, разрывая пальто, кожу и мышцы, и когда в глазах Коли появилось удивление и обида маленького ребенка, что его так подло обманули, и жизнь, которая только началась, уже рвется на части. Смотрел, когда он падал, уже в изнеможении от боли, закрыв глаза.
Молоденький красноармеец, с разбитой скулой, отводил глаза и плакал, кусая губы.
Второй, с жадным любопытством смотрел на Колю, Веру и кровь. Кровь брызгами разлетелась на снег, на Верину беличью шапочку, на лицо и на розовую мочку.
Вера от дикого испуга, что все это происходит с ней, сейчас, весь этот ужас, кричала на одной высокой ноте. Не то, не то должно быть! «А, поедемте сегодня к Подебинским», – проносилось у нее в голове, как испорченная граммофонная пластинка. Почему вместо того, чтобы дать свое согласие на предложение Коленьки, она видит, как он умирает?
Коля упал на снег, а Вера стояла, не выпуская его руки из своей. И не понимала, как ей теперь жить дальше, она кричала уже сорванным до хрипоты голосом.
– Заткнись, сука, – спокойно сказал ей Дурнев и не сильно ударил Веру в лицо. И пошел дальше по своим делам, словно и не останавливался, и не убивал Колю, и не ударил только что Веру.
Вера выпустила руку Коленьки, и ударила проходящего мимо Дурнева. Просто хлопнула его по лицу, не в силах сдерживать свою боль и ужас.
Дурнев развернулся и ударил Веру в живот. Она упала на спину, неуклюже вывернув одну ногу. Юбки задрались, и она ни как не могла встать. Барахталась в снегу и выла от бессилия. Дурнев посмотрел на нее, хмыкнул, подошел и поднял как куклу, за воротник пальто.
– Вали отсюда! – грубо приказал.
Верочка посмотрела в глаза Дурнева и вновь увидела умирающего Коленьку, взвыла и вцепилась ногтями ему в лицо. Она рвала его плоское и скуластое лицо, лицо которое теперь ненавидела больше всего на свете. Визжала и рвала до крови.
Товарищи Дурнева пытались оттащить Веру, но она вертелась, извивалась и вырывалась и вновь рвала Дурнева, до тех пор, пока он не вывернулся и не ударил ее, не жалея в под дых. Она задохнулась, хватая ртом воздух, и упала вновь на снег. Дурнев навалился на нее и стал рвать одежду, беззвучно крича:
– Убью сука! Убью.
Больше Вера ничего не помнила. Иногда, потом возникало лицо Дурнева, искаженное в сладострастной ненависти, потом второго красноармейца. От него пахло чесноком и чем-то мерзко кислым. А молоденький, со сбитой скулой, выл у забора и блевал от ужаса.
Год после этого Вера жила, раздираемая двумя желаниями – выскоблить из себя эту грязь, а потом покончить с собой. Она продумывала разные способы смерти. Долго и придирчиво рассматривала ножи на кухне, где ее ловила мать. Отбирала ножи, и прятала их. Пропускала сквозь пальцы шелковые шнуры, выбирая скользкость и нежность удавки. Потом, вдруг очнувшись, валялась под иконами и вымаливала прощения за страшные и греховные мысли. Истово молилась за Коленьку. Потом мечтала встретить Дурнева и убить, и смотреть неотрывно в глаза, пока он корчиться в страшных предсмертных муках. И снова истово молилась.
Она не заметила, как умерла ее мать. От тифа. Просто увидела ее утром уже холодную. И легла рядом. Чтобы тоже умереть. Ее нашла соседка через два дня. И отвела к себе, рожать.
И когда Вера смотрела на Райку и злилась на нее, она видела в ее чертах эту скуластость. Кричала и отворачивалась.
А Райка, не понимала этого, не знала, почему мать себя так ведет. И тоже злилась:
– Сгульнула, а на меня орешь! – она щурила глаза и вызывающе смотрела на Веру. – Хоть бы красивого выбирала! Сама, вон и старая красавица, а я? – и она придирчиво рассматривала себя в зеркало, пытаясь найти тонкие материны черты.
– Хоть бы на квартиру наблядовала, – вздыхала иногда мать. – Нам бы с Петенькой отдельную комнату.
Не такое это удовольствие жит в трущобах, пусть даже на Красноармейкой, в центре города. "Провал социализма", ворчала райкина мать. Райка шикала на неё, но про себя соглашалась. Улица действительно словно проваливалась в овраг с мелкой речкой Егошихой. Куда жители из деревянных домов с Красноармейской улицы скидывали мусор, а в реку сливали говно. Самый центр Перми, вокруг все уже застроили большими и светлыми сталинскими домами. Райка потянулась и подумала, что лучше всего жить в Доме Чекистов. Большущий дом, построенный перед самой войной, чуть ниже Красноармейской, на улице Карла Маркса. Планировали построить целый комплекс таких домов, чтобы пролетая над городом, можно было прочитать слово «Сталин». Первый дом выстроили в соответствии с планом – это была громадная буква «с». В дом заселили партийную элиту и работников УВД, работавших в Башне Смерти. Высоченные потолки, комнат минимум три, и ещё каморки для прислуги. Да, хорошо бы.
Но Райка, вытаскивала из чемодана новую меховую горжетку, которую подарил ей недавно овдовевший любовник, уже старый, но щедрый; водружала ее на атласное, цветастое платье и шла гулять.
Это был ритуал. Выйти красивой, разодетой и пройти по коротенькой Красноармейской улице, мимо всех соседок, которые ее ненавидят.
Глава 2
Семья Нюси, по послевоенным меркам, была счастливая. У нее имелся муж. Он вернулся с войны. Даже с двух войн. Раненный, но не калека. Вдовые соседки смотрели на Нюськиного мужа, и шептались «точно, заговоренный». И рассказывали друг другу, что мать у него ведьма. Или святая. Вымолила сына с двух войн.
Он смог вернуться с финской. Его после боя, раненого, нашли только через сутки, вмерзшего в лед, с простреленным легким. И выкорчевывали изо льда колунами, не надеясь, что выживет, отправили домой умирать. Выжил. А в сорок третьем его комиссовали уже окончательно, после ранения. Одного – в ключицу – пуля перебила кость и вышла со спины. Рука перестала действовать. И в скулу. Разворотило так, что смотреть было больно. После все манипуляций в госпитале выписали домой, гнойного, не заживающего. Почти умирать. Он выжил. И рука заработала.
Пока он то бился с врагом, то за свою жизнь, Нюся билась одна с тремя детьми, которых муж успел ей заделать в перерывах между своими битвами.
Нюся работала медсестрой в госпитале, а по ночам стирала чужое белье, чтобы заработать и прокормить троих нахлебников.
После войны жизнь семьи постепенно наладилась, но Нюся все равно ходила с красными, словно обваренными кипятком, руками. Стирала по ночам. Детей воспитывала в строгости. Сашка, средний, в десять хорошо знал свои обязанности. Школа, потом к матери в госпиталь с неподъемной флягой, за объедками. Домашка. Потом – вычистить и вывезти все из свинарника. Потом, если останется время – натаскать матери воды с колонки.
Сашка, грузил мятую алюминиевую сорокалитровую флягу – зимой на старые санки, а летом на грубо сколоченную тележку – и тащился в госпиталь. Пацаны играли в бабки и свистели Сашке в след. Сашка матерился про себя, но с матерью не поспоришь. Маленькая Нюся, едва доставала своему мужу до плеча, но держала всю семью в кулаке.
Дойдя до госпиталя, Сашка привычно поворачивал налево и шел на запах, к кухне. Манька, молодая деваха, щипала Сашку, иногда совала ему кусок сахара за щеку руками, пахнувшими едой и помоями одновременно. Потом хватала флягу и уносила на кухню. Там наливала и скидывала все объедки, которые остались после ее тщательной сортировки. То, что еще было пригодно, на взгляд Маньки, она складывала себе, кормить мать и братиков, а то, что уже совсем не напоминало еду, сваливала во флягу Сашке. Распахивая дверь ногой, она, почти не напрягаясь, выносила полную флягу и бухала ее на тележку. Еще раз щипала Сашку за щеку, где топорщился кусок рафинада, и давала легкий подзатыльник на прощание. Особенно тяжело было зимой. Тропинка напрямик от госпиталя к дому – узкая, скользкая. Фляга тяжеленная, вытягивает все жилы из Сашки. Он, сжав зубы, волочет ее, проклиная все на свете, стараясь удержать, чтобы не перевернулась.
Райка и Нюся были соседями. Жили в соседних домах на Красноармейской. На этой маленькой улице в самом центре Перми стояло всего несколько деревянных домишек – коммунальных, набитых под завязку семьями. А вокруг уже возвышались дома, понастроенные перед войной, с высокими потолками. И строились такие же дома – пленными немцами. А рядом была – в старом, красного кирпича, здании – школа. Уже почти элитная, языковая. Там учились дети из близлежащих сталинок. И из Дома чекистов. И с Красноармейской.
Дети из сталинок на красноармейских смотрели свысока. Оборванцы. Петька, правда, выглядел чуть лучше. И одет был в подаренные матери обноски от детей из сталинок, и питался, не в пример лучше Сашки. Но все равно был оборванцем. И все знали, кем была его мать. Поэтому красноармейские держались вместе. Учительница пыталась было установить в классе равенство, но не получилось. Сдалась. Следила только, чтобы сильно красноармейских не донимали. Оставляла после уроков и долго и нудно вещала о том, что в советском государстве все люди равны. Не для того была Революция, чтобы продолжалось унижение человека человеком. Но кто ее слушал, она тоже ходила в школу, как оборванка.
– Лучшее украшение девочки – чистые волосы, – уговаривала она девочек из сталинок. – Выглядеть надо опрятно.
И сама она выглядела опрятно. В мастерски заштопанном и уже не раз перелицованном платье.
Петька и Сашка сидели вместе. Их в классе было только двое, оборванцев. Не то, что бы дружили, но приходилось держаться вместе.
На большой перемене, доставали в салфетках завернутый обед. У Сашки и Пети это был хлеб и маргарин. У остальных, по-разному. Бывала и курица, и колбаса. И конфеты. Те, из сталинок, угощали друг друга.
К обеду приходила мать Юры Газетова, красивая и молодая Елена Ивановна, приносила чай. Готовила его дома, заматывала громадный эмалированный чайник в старую мужнину куртку и торопилась, пока горячий, напоить ребят. И всегда выдавала к чаю ложку сахара. Хочешь в чай, а хочешь, на хлеб с маргарином насыплет аккуратным тонким слоем. Сашка любил на бутерброд. Чтоб хрустело. Маргарин смешивался во рту с сахаром, и это было время счастья. Горячий чай и сладкий хлеб. Мать рассказывала, что так делали до войны торт. Пекли сладкое тесто и мазали его маслом, взбитым с сахаром. И так много слоев. И украшали. Такое было представить почти невозможно. А хлеб с маргарином и сахаром – запросто.
Училке наливали большую кружку, та всегда отказывалась, а потом краснела и принимала кружку чая и ложку сахара. Она пила чай без ничего. Стараясь не смотреть на детей.
Вовка Шапцев недолюбливал Петьку. И бил его то в туалете, то за школой. Но при Сашке побаивался и старался изводить по-другому.
– Видишь, – он водил у Сашки и Петьки перед носом большущей шоколадкой. – Мне отец подарил! Бабаевский! – с придыханием прошептал Вовка показывал этим остолопам, что они такого сроду не пробовали.
Он медленно провел шоколадкой прямо под носами у Петьки и Сашки. Даже через обертку пробирался запах шоколада. Сашка сжал зубы, но не удержался и втянул дивный запах. Запах защекотал ноздри. Сразу представился торт, большие куски белого хлеба, маргарин, сахар и сверху наломанный кусками шоколад. Какой он на вкус, Сашка не мог представить. Но вкусный, знал точно. Сашка поморгал, вздохнул, пытаясь взять себя в руки, и посмотрел на Петьку.
Петька, на удивление, носом не водил, запахи не вдыхал и стоял, даже немного сморщившись. И немного презрительно поглядывая на Вовку.
– И чо?
– И то, – обиделся Вовка, что шоколад не произвел нужного впечатления. – Ты такого и не пробовал! – припечатал он презрительно Петьку.
– Да у нас дома такого навалом! – Петька дернул слюной через выбитый зуб, хотел было плюнуть, но вспомнил, что опять влетит от училки. – Вовка, как пить дать нажалуется.
– Брешешь! – не сдержался Сашка.
Петька оскорблено посмотрел на Сашку. Не ожидал он такого от своего соседа.
– Я? – Петька сжал кулаки, изо всех сил стараясь не стукнуть Сашку. – Я брешу? Пошли. Покажу.
Он подхватил свой портфель и решительно зашагал на выход. Всю дорогу они не разговаривали. Сашка ждал, что когда они отойдут на приличное расстояние от школы, Петька сознается в обмане, они плюнут на руки и пожмут, как взрослые мужики, и договорятся не сдавать друг друга. А на завтра распишут, как съели шоколад напополам. Нет, по целой шоколадине на нос!
Петька шел и молчал. Он знал, где мать хранит шоколад. Даже несколько плиток. Но она ему их не дает. Они лежат у нее на дело. Так она говорит. Чтобы подмазать кого-нибудь. Достать что-то нужное и расплатиться шоколадом. Он понимал, что просто показать Сашке шоколадку и спрятать обратно будет подло. А съесть ее – мать убьет. За все время, как у них появился шоколад, мать дала попробовать только один раз. Достала, выложила на бабкину скатерть и разделила ровно на три части.
– Ешь, – она грозно посмотрела на Петьку. – Больше не получишь. А возьмешь без спроса – убью.
Он знал, что мать слово сдержит. Но сказать Сашке, что он соврал, не мог. Так и не решив до конца, что делать, он понадеялся, что дома кто-нибудь окажется, или бабка или мать, и все сорвется по естественным причинам.
Они дошли до дома Петьки. Сашка помялся, потому что никогда не был в этом доме, и потому что мать ему запретила под угрозой страшной порки бывать в этом доме. И вообще водиться с сыном этой, мать многозначительно поднимала брови и поджимала губы. А Сашка давно уже знал это слово.
Дома, как на грех, никого не оказалось. Петька насупился, но решил не отступать. Бросил портфель на их с бабкой кровать. И полез под все эти бабкины вышитые подзоры, свешивающиеся с кровати, за чемоданом. Открыл, не вытаскивая его из-под кровати, нащупал шуршащую плитку. Задержался, подумав, что еще можно сознаться Сашке, что шоколада-то нет на самом деле, вздохнул и вытащил плитку.
– Вот! – Петька с превосходством, но сидя еще на полу, посмотрел на Сашку.
Сашка взял шоколад из рук Петьки, понюхал, удостоверившись, что пахнет точно также, и вернул обратно.
– Хочешь? – как можно небрежнее спросил Петька, немного подсыкая, что Сашка все же согласиться.
– Ну, – неопределенно протянул Сашка.
– Да чо, – не утерпел и рисанулся Петька, – мать еще принесет.
– А влетит?
– Ешь, – по-барски разрешил Петька.
Разорвал обертку и разломил шоколадку на две половины.
Ночью Сашке снился торт. Сплошь усыпанный шоколадом.
А вечером, в воскресенье, пришла Райка – в меховой горжетке на перекатывающемся, словно ртуть атласное платье. Поговорить с Нюсей.
Брезгливо морщась, она прошла на кухоньку, где Нюся кипятила белье и полоскала в расставленных на табуретках тазиках.
– Знаешь, – она наморщила нос, от тяжелого запаха, – приходил тут Сашка твой в гости, к моему, – она выжидательно уставилась на Нюсю.
Нюся, вытерла пот со лба распаренной красной рукой с сорванной мозолью от постоянного выжимания белья и села, тяжело вздохнув. Райка, не дождавшись ответа, продолжила:
– Он украл шоколад, – она внимательно смотрела на реакцию Нюси, – и съел.
Сашка, втащил в кухню два ведра воды с колонки. И увидел Райку. Посмотрел на мать и понял, что Петька все свалил на него.
Нюся встала, взяла мокрое полотенце и огрела им Сашку. Сашка, расплескивая воду из ведер, стукнулся об косяк.
– Я не крал! – заорал Сашка.
Нюся, сжала зубы так, что заходили желваки, и ударила еще раз, и еще. Сашка вырвался с кухни и попытался спрятаться в комнате. Было не так больно, сколько обидно. Обидно до слез, что Петька сам, сам предложил свой поганый шоколад, а испугавшись, свалил на него.
Нюся, не отставая от сына, поскользнувшись на разлитой воде, вбежала в комнату и продолжала лупить Сашку мокрым полотенцем.
Райка, занервничала. Она не так представляла себе разговор с Нюсей. Ей, хотелось слегка унизить Нюську, не любила она ее за то, что слишком правильная. За то, что не разрешала сыну дружить с Петькой. И все. Но увидев, как достается, эта правильность, Райка расстроилась. Даже пожалела Нюсю.
– Стой, – Райка попыталась поймать мокрое полотенце, – Петька соврал. Наверняка соврал!
Нюся, не слыша Райку, била полотенцем сына. Райка пыталась схватить и остановить Нюсю, но вместо этого попала под удар. Мокрое и холодное полотенце со всего размаху шлепнулось в лицо Райке, сломав прическу и размазав красную помаду по лицу. Нюся, краем глаза увидев красноту на полотенце, остановилась. Ей почудилось, что это кровь. Она повернулась к Райке и смотрела на нее, не отрываясь. Райка, растрепанная, с размазанной кроваво-красной помадой по одной щеке, с мокрой, съехавшей горжеткой, стояла напротив, сдувала мокрую прядь волос с носа, и тоже смотрела на Нюсю.
Сашка тихо слинял из комнаты – звать отца. Сейчас будет драка. Райка точно убьет мать. Он не сомневался в этом. Райка выше, дороднее и сильнее. За расквашенный нос и сломанную прическу она убьет мать.
Пока он в истерике бегал по соседним домам, разыскивая отца, в голове стучала одна мысль «только бы не опоздать». Пробегав и так и не найдя отца, он со страхом шел домой, ругая себя, что не додумался до самого простого – постучать к соседям и попросить помочь их растащить.
Дойдя до дома на трясущихся ногах, Сашка осторожно прислушался, надеясь, что не услышит, как хрипит мать, избитая и брошенная Райкой. Вместо этого, он услышал, как мать смеется:
– Да все они, Райка, кобели!
Сашка услышал звон рюмок.
– Ну, вот и выпьем за это! – рассмеялась Райка. – Кобели они, а страдаем мы.
Сашка сидел у закрытой двери и слушал, как мать и Райка, жалуются друг другу на жизнь, на мужиков и на безденежье. Иногда брякает стекло. Пьют бабы за беспросветную свою жизнь. Им нельзя мешать. Сашка это понимал. Он сидел у закрытой двери и охранял. А сестер отправил спать к соседке.
Две морковинки
Чем ближе к Богу – тем прозрачнее старики. Они уже рядом, совсем рядом с вечностью. И видят одновременно наш суетный и беспощадный мир и тот – еще не четко, словно сквозь прорехи на льняном полотне. Тоненькие, истертые ниточки держат их еще здесь. Еще чуть-чуть, ткань порвется под напором, и все.
Они прозрачны, эти старики. Истончаясь под солнечным светом, они постепенно тают. И не важно, какого цвета у них глаза, со старостью они становятся прозрачными. Сквозь их глаза на нас глядит небытие.
Такие же глаза у младенцев. Они еще не совсем пришли в наш мир из вечности. С каждым днем из глаз младенцев уходит вечность, проступая в глазах стариков.
Не все старики прозрачны. Только те, кто пережил все страсти этого мира. Отпустил все горести и простил все предательства. Они становятся безмятежны в своей любви и любовании миром. В тихом наслаждении новым днем, дождливым или снежным; скрипом половицы; улетающей в небо божьей коровкой. Помните, «божья коровка, улети на небко…».
Уходят так же тихо, во сне, словно совсем растворяясь. Божьи одуванчики.
Дунул, и нет одуванчика, осталось только щемящее чувство потери и одиночества.
Петр Иваныч сидел у постели своей старенькой учительницы, Веры Соломоновны, держал ее за прохладную, сухую и легкую руку. И чувствовал себя беспомощным.
Это раздражало. Чувство беспомощности.
Она действительно стала похожа на божий одуванчик. Мелким бесом кудрявые волосы всегда вызывающе топорщились в стороны и вылезали непослушными прядями из приличной култышки. Вера Соломоновна останавливалась на секунду и заправляла непокорную черную прядь в прическу. И продолжала рассказывать о поэзии. Она преподавала литературу в школе.
* * *
Петька не любил стихи. Экая глупость, рифмованные строчки! Поэты ему представлялись бездельниками в шелковых блузах с бантами. Разве так должен выглядеть мужчина?
Мужчина должен походить на его отца: суровый, воевавший в революцию с самим Буденным! А сейчас работает на заводе, стахановец! Он любимой стране помогает. Станки делает. И еще что-то, о чем не может говорить, потому что работает в закрытом цехе. Вот какой у него отец!
А ты сиди, нуди на этих глупых уроках про всякие глупости! Ладно, если еще стихи попадаются революционные! А то про любовь! Фу! Девчонки дуры, понятно, им бы только про любовь! Хихикают, краснеют, теребят атласные бантики свои, когда вслух читают. Не уроки, а каторга!
И Вера Соломоновна зануда редкая. Хоть и говорят, что в гражданскую тоже сражалась. Чем? Стихами своими беляков била? То-то бы испугались они ее.
На любую тему у нее – стихи. Даже на классном часе провинившегося Петьку она стихами отчитывает, к месту вспомнившимися. Из всех уроков литература – самый бесполезный урок. Так рассуждал Петька по дороге домой.
Вот для чего она, в сущности, нужна? Петька пнул обломок кирпича и оторвал подметку у ботинка. Попадет от отца, вздохнул Петька. Опять уши надерет. Придет Петька завтра в школу, а Вера Соломоновна уж найдет, что сказать про его уши…
Петька снова вздохнул и принялся размышлять. Вот математика – «царица наук», так говорит отец. Хоть Петьке и не нравится слово «царица», старорежимное слово, не может быть в рабочем государстве «цариц», пусть даже и в науках.
Петька остановился и посмотрел на просящий кашу ботинок. Из дыры высовывался голый и чумазый палец. Он пошевелил пальцем, рассмеялся и пошел дальше, рассуждая. Нравилось Петьке рассуждать. Как взрослый.
Да, математика важная наука. Самая, наверное, наиглавнейшая! Только вот сложная. Варька хорошо соображает. Петька нахмурился. Варька… косички смешные и конопушки… улыбается…
А ну эту Варьку, она стихи любит!
Но в математике не в пример Петьке лучше разбирается. Хотя и форсит из-за этого. Но Петьке помогает.
Варька, Варька, рассердился он, дура она, эта Варька!
Баба, одним словом, солидно закончил про себя Петька разбор женской сущности Варьки. Зачем она так ему улыбается, когда Вера Соломоновна стихи про любовь читает? Дура и есть.
Петька опять пошевелил пальцем в разорванном ботинке. И продолжил рассуждать.
Вот математика – наиглавнейшая наука. С этим Петька очень даже согласен. И отец говорит, надо математику выучить и идти в инженеры. Стране инженеров не хватает. Ну, для инженера надо еще и физику, и химию, наверное, тоже учить.
Наука!
Петька остановился и нахмурился. Его пронзила неприятная догадка. Наука – это вам не просто так! Внезапно он осознал, что наука – она женского рода! И царица наук математика – как ни неприятно было Петьке признать, – тоже женского рода.
Петька от негодования сплюнул в пыль, смачно цыркнув сквозь обломок переднего зуба. Не ранение, как у отца, но тоже показатель, что Петька не трус. Это он за Варьку заступился. Подрался со Злобиным. Пакостный мальчишка. И фамилия под стать. Не всех еще перевоспитали в стране. Есть такие элементы, как бы сказать – не очень…
Опять отвлекся. Петька мотнул головой, отгоняя в мыслях Варькино конопатое лицо, словно надоедливую муху.
Почему вот математика – женского рода? Все строгие и правильные науки должны быть мужского рода. А литературы там, Петька махнул рукой, разрешая несерьезным наукам быть кем угодно, да хоть и женским родом!
Но математика!
Он разочарованно пошагал дальше. Не могла душа Петьки принять такого предательства со стороны строгих мужских наук. Надо бы с отцом поговорить.
Завтра вот опять литература. Зачем им, рабоче-крестьянским детям, надо изучать так много этой болтовни? Хорошо еще, что они Маяковского изучать будут. Революционный поэт. Он-то уж наверняка не ходил в шелковой блузе! Жалко, что умер.
Таких поэтов надо изучать – решил про себя Петька и зашагал домой.
* * *
В школе он, конечно, получил насмешку от Веры Соломоновны за красные уши. Надергал-таки отец за порванные ботинки. И мать еще слезы лила. Пришлось идти в школу в теплых носках и сандалиях. Благо сухо. Но натерпелся Петька насмешек от товарищей по горло.
Глупые обыватели, обозвал про себя их Петька и успокоился.
Разве ж это сейчас главное! Петька фыркнул. Вот, например, установили наши, красные революционные звезды на Кремле! Скинули, наконец, старорежимных орлов! В Москве звезды показывали всем трудящимся – установили в парке Горького.
Повезло москвичам, горько подумал Петька. Но тут же себя одернул. Они не просто москвичи, а трудящиеся! Это и хорошо, что повезло! Но, конечно, посмотреть хотелось хоть одним глазком на кумачовый постамент и звезду в два человеческих роста!
Эскизы утвердил сам товарищ Сталин! И сказал не жалеть золота и драгоценных камней для украшения рабоче-крестьянских звезд!
Накануне с отцом они целый вечер проговорили о звездах. Сначала отец читал статью в газете, сколько тонн золота и серебра и драгоценных камней ушло на украшение кремлевских звезд.
Соседская баба Нюра забрела, как всегда, послушать передовицу из «Правды», долго охала, что этакое богатство и просто так будет сверкать на улице, пропадать просто!
– Дура вы, баба Нюра! – сказал тогда солидно Петька.
Баба Нюра, конечно, обиделась на дуру. А Петька схлопотал подзатыльник. Но Петька видел, что внутренне отец был с ним согласен. Он объяснил этой темной личности, что богатство народа должно принадлежать народу. И пусть камни и золото сверкают на башнях Кремля, освещая путь всем угнетенным во всем мире!
А потом они до ночи обсуждали, как механически устроено крепление звезд и поворотный механизм, чтобы ветром звезды не сбило, и они могли, этакие махины, свободно поворачиваться. Инженеры придумали и изготовили гигантские подшипники, чтобы звезда легко вращалась.
А еще изобрели и построили для каждой звезды подъемный кран, каких еще не было в мире, чтобы поднять многотонную звезду на башню Кремля!
И что советские инженеры самые лучшие! Это Петька и так знал, но от рассказов отца разволновался и понял, что непременно станет инженером! Для них, советских инженеров, не существует слова «нет», есть слово «надо»!
И, засыпая, Петька представлял, как тоже будет проектировать разные нужные и непременно гигантские штуки! И корабли, которые дойдут до Северного полюса, и самолеты, и поезда… все самое большое и необходимое нашей стране. А Варька в этих представлениях непременно сидела рядом, со счетами. Щелкала довольно костяшками и морщила свой конопатый нос.
Петька хотел было выгнать Варьку из своего героического сна, но потом подумал, что это будет не по-товарищески, и благодушно махнул рукой, и, уже совсем заснув, разрешил Варьке сделать необходимые расчеты для кораблей. Жалко, что ли? Пусть щелкает себе на счетах.
А нелюбимый урок литературы опять начался с любовных стихов! Девчонки оживились, заохали, глупые! А Петька расстроился – неужели и он, Маяковский, тоже про эту любовь писал?
Вера Соломоновна стояла у окна, что-то очень внимательно разглядывала на улице и тихо рассказывала стихи:
И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая — большая или крошечная?Петька не слушал этакие глупости, но привстал и посмотрел тоже в окно – чего такого интересного Вера Соломоновна там нашла? За окном никого не было. Пустой школьный двор.
Петька разочарованно сел за парту и громко вздохнул. Вера Соломоновна словно очнулась от этого вздоха и посмотрела на Петьку.
– Что вздыхаешь, Петя? Стихи не нравятся?
– Нет, – насупился Петька. – Глупости это, а не стихи!
– Почему? – спросила Вера Соломоновна. – Тише, девочки, – сказала она разволновавшимся девчонкам.
– Старорежимные стихи, – Петька смотрел на Веру Соломоновну исподлобья. – У него лучше есть – «Ваше слово, товарищ маузер»! – Петька с большим выражением прокричал строчку.
– Знаешь, Петя, это, конечно, очень хорошее стихотворение. Я его люблю. Только читаешь ты его неправильно.
– Почему это? – рассердился Петька. – Не про любовь ведь, чтоб мямлить!
– Ты его кричишь. Если прочесть негромко, оно будет наполнено силой. Послушай:
Там за горами го́ря солнечный край непочатый. За голод, за мора море шаг миллионный печатай! Пусть бандой окружат на́нятой, стальной изливаются ле́евой, — России не быть под Антантой. Левой! Левой! Левой!– Вот! – восторженно вскрикнул Петька. – Вот это стихи! Понимаете! Левой! Левой! – он для убедительности потряс кулаком. – Левой! Только вот непонятно про стальную лееву, – уже тихо закончил он.
– Молодец, Петя, – улыбнулась Вера Соломоновна, – не побоялся спросить. Знаешь, Маяковский часто изобретал новые слова. И слово «леевой», это творительный падеж от «леева», – не упустила случая напомнить правила русского языка Вера Соломоновна, – это переиначенное слово «лить». – Она внимательно посмотрела на класс. – Стальная леева – это пули и снаряды, которые интервенты обрушили на молодую Советскую республику. Они пытались залить пожар революции – сталью.
– Не тут-то было! – воскликнул Петька еще под впечатлением от стиха.
Вера Соломоновна улыбнулась.
– Но сегодня, Петя, я вам расскажу о любви. Послушайте это стихотворение Маяковского:
Не домой, не на суп, а к любимой в гости две морковинки несу за зеленый хвостик. Я много дарил конфет да букетов, но больше всех дорогих даров я помню морковь драгоценную эту и пол- полена березовых дров.Читая тихо, почти шепотом, Вера Соломоновна смотрела в окно, словно там было что-то очень интересное. Но Петька даже привставать не стал – пусто во дворе, не перемена.
– Тоже мне подарок! – хмыкнул с последней парты Злобин.
Петька зло посмотрел на Злобина. В морду бы ему дать. Любовь, конечно, это все глупости, но видно же, переживает человек!
– Да! – не рассердилась почему-то Вера Соломоновна. – Подарок, – она покачала головой и вздохнула, снова посмотрев в окно.
Да что же там такого интересного она нашла? Петька привстал и выглянул во двор. Пусто. Странные эти взрослые.
– Когда я приехала в Москву, – тихо сказала Вера Соломоновна, – в 1920 году две морковинки и вправду были лучшим подарком.
– Почему? – пискнула Варька. – Вы голодали? – Она испуганно посмотрела на Веру Соломоновну.
– Все голодали, Варя. Очень трудно жилось тогда. Страна боролась с врагами. Не было дров, лекарств. Почти у всех были вши, – Вера Соломоновна грустно улыбнулась. – Я помню, мы с подругами жили в общежитии университета и выгребали вшей горстями из своих шуб. И все время хотелось есть…
– Ужас! – пискнула Варька и завороженно посмотрела на Веру Соломоновну.
Петька попытался представить Веру Соломоновну молодой студенткой, но у него не получилось. Она стояла перед ним в лохматой шубе, с которой сыпались на пол вши, но лицо было сейчашное, взрослое, улыбаясь самой счастливой улыбкой, прижимала к себе охапку дров и фунтик из газеты, откуда торчали морковные хвостики.
Петька потряс головой.
– Но это не страшно, Варя! – ласково улыбнулась Вера Соломоновна. – Мы радовалась, что, наконец, страна стала свободной! И мечтали, как мы будем хорошо жить. Как сейчас.
– Что, и Маяковский голодовал? – недоверчиво спросил Злобин.
– Да, – Вера Соломоновна покачала головой. – Он же рабоче-крестьянский поэт! Он жил, как и весь народ. Работал на благо страны. Учил рабфаковцев. И часто выступал. Знаете, – Вера Соломоновна посмотрела на притихших ребят, – я была на одном выступлении Маяковского, в Политехническом музее!
– Какой он? – пискнули в один голос девчонки.
– Он… – Вера Соломоновна задумалась, – он… громадина! Я многих слышала поэтов, но Маяковский – это поэт-гора! Все слушали его затаив дыхание! Он никогда не кричал свои стихи, как Петя сегодня. Он читал тихо, но сколько было силы и огня в его словах!
Вера Соломоновна весь урок рассказывала, как она слушала Маяковского. Как его старались освистать и унизить. Люди с трудом принимают новое.
Петька подумал, что, пожалуй, не все стихи плохие. И поэты тоже не все бездельники.
* * *
Петька третьи сутки не спал. И едва передвигал ноги. Честно говоря, он нормально не спал с 41-го. Сразу после выпускного, отвальсировав на главной площади Перми и в ужасе замерев на рассвете перед черной тарелкой радио, все мальчишки, не заходя домой, явились добровольцами на призывной пункт. Даже Злобин.
Их отправили в учебки, а потом сразу на фронт.
Девочки тоже воевали. Кто медсестрами, кто связистами.
От Вари приходили редкие письма. Она моталась в военно-санитарном поезде, и письма приходили нерегулярно. Непрочитанное письмо в кармане гимнастерки прожигало Петькину грудь, только нетерпение держало его на ногах в этом марш-броске. Их перебросили под Ленинград. Петька мерно шагал и, чтобы не проваливаться в сон, прямо на ходу твердил: «России не быть под Антантой! Левой! Левой! Левой!» Иногда, правда, он все же проваливался в сон, и забывал какое-нибудь слово из строчки, и не мог вспомнить следующее. Тогда начинал снова.
«Левой» – выдох, и дыхание сбивается от морозного воздуха.
«Левой» – выдох, письмо Вари пылает на груди.
«Левой» – выдох, главное, она жива.
Главное – дойти и выбить, наконец, фашистов из-под Ленинграда.
«Левой» – выдох, без передышки часть попадает на передовую.
«Левой» – выдох, снаряд разорвался рядом.
«Левой»…
Петька открыл глаза. Белый потолок. Оконные стекла, крест-накрест заклеенные белыми бумажными лентами. Голубое небо. Живой.
То, что он живой, подтверждала совершенно невыносимая боль в груди. Дышать получалось легкими, неглубокими вздохами. Петька чуть приподнял голову, чтобы посмотреть, что с ним. Простыня натянута до подбородка. Попробовал пошевелить руками и ногами. С трудом, но удалось. Не калека!
Когда его отправили на фронт, Петька решил, что, если он станет калекой, то не вернется в родной город. И Варе не скажет. Пусть думает, что он геройски погиб. Он не будет ломать Варе жизнь. Она, конечно, не бросит, не такая его Варя. Но он не вправе заставлять ее жить с калекой. В Петькином доме жил красноармеец, лишившийся обеих ног на войне. Тетя Маня, его жена, не бросила убогого, но разве это жизнь? И Варя не бросит…
Письмо! – вспомнил Петька. Письмо-то он не прочитал! Он даже не знает, что ему писала Варя. Где оно сейчас? Петька завозился, завертел головой. У кого узнать?
– Очнулся, паря? – весело спросили с соседней койки. – Месяц провалялся без сознания. Сестренки уж не чаяли, что ты…
– Письмо!
– Письмо-письмо… все время твердил о письме, – проворчал сосед. – Нету письма. Все кровушкой своей залил. Сестренки только самое начало спасли.
Петька от обиды заворочался, пытаясь посмотреть, кто с ним разговаривает и где этот маленький кусочек Вариного письма. Боль вспыхнула в груди и ослепила его.
Когда он снова открыл глаза, уже вечерело.
– Эй… – тихонько позвал он.
– Очнулся? Напугал ты всех. Ты только не дергайся, паря, так. Письмо тут, на тумбочке.
Петька успокоенно вздохнул.
– Только, паря, я не ходячий, подойти, если чо, не смогу, – сообщил невидимый сосед, – ног нет. Сестренки письмо мне дали, чтоб прочитал тебе сразу.
– Читай! – сдавленным голосом попросил Петька.
Сосед откашлялся и начал:
– Петя! Пообещай мне, поклянись моей жизнью, что ты останешься жив…
Сосед замолчал.
– Ну! – Петька не вынес этого молчания.
– Баранки гну, – рассердился сосед. – Все. Прочитал. Остальное размокло от крови, часть осколками в рану тебе вдавило, только и осталось, что это.
– А где мы? – спросил Петька, чтобы отвлечься от потерянного письма.
– В Ленинграде!
– Значит, выбили гадов! – обрадовался Петька. – Правда, я и повоевать не успел…
– Окончательно!
Через неделю Петька смог поворачивать голову и видеть соседа. Пахом, деревенский мужик, оставшийся без ног. Председатель колхоза. Его готовили к отправке в тыл, в госпиталь поближе к дому.
Он смеялся и шутил, что сейчас даже такой обрубок будет на вес золота! Поизвелись мужики-то в деревнях. Но в голосе слышалась страшная тоска.
– Пахом, – как-то перед сном спросил его Петька. Свет в палате уже потушили, было темно, и не видно лица Пахома, поэтому Петька и решился спросить, – Пахом, а ты жене-то написал?
– Зачем? – тихо спросил Пахом. – Зачем ей обрубок-то? Ей мужик нужен.
– А дети у вас есть?
– Есть. Пятеро, – просипел Пахом.
– А им отец не нужен?
– Зачем?
– Затем. Как без отца-то? Ты ведь не лежачий. Управлять колхозом и без ног можно. И детей поднимать. И жену любить. Она ведь ждет.
– А сам? – зло прошипел Пахом. – Сам-то вернулся бы такой?
– Нет. Но мы и не женаты. Она еще сможет найти другого.
Через два дня Пахома отправили домой. Он на прощание обнял Петьку, осторожно потрепал по плечу.
– Ты, паря, молодец, вправил мозги-то мне. Написал я, что еду. Ноги не голова! Управлять колхозом и без ног справлюсь. Кто ж теперь поднимать страну будет? – он помолчал и добавил. – И детей моих.
Петька, когда точно убедился после многочисленных расспросов врачей, что инвалидом не будет, написал Варе. Точнее, надиктовал письмо молоденькой сестричке. Приукрасил правду, скрыл некоторые медицинские подробности и закончил тем, что жив и, говорят, будет даже воевать. Когда подлечится.
В апреле его выписали и отправили в тыл долечиваться. Он вышел из госпиталя, втянул весенний воздух и оглянулся на здание, где провел три месяца. К воротам шла женщина в застиранном сестринском халатике, но очень-очень знакомая. Она удивленно смотрела на Петьку и качала головой:
– Петя! Петя! Это ты!
– Вера Соломоновна! – Петька бросил вещи и обнял свою учительницу. – Вы? Вы как… – он растерял все слова от неожиданности. – Как вы здесь?
– Петенька… с начала войны! Всю блокаду.
– Зачем? – Петька растерялся. – Чего вам в Перми-то не сиделось? – грубовато спросил он.
– Сестра у меня здесь с дочкой. Одни. Я и поехала выручать. И застряла. Да, – она горестно вздохнула, – не уберегла я их.
– Нет, не плачьте! Только не плачьте! Мы отомстим за каждого! – Петька сжал учительницу так, что она ойкнула.
– Петенька, а ты? У тебя все хорошо? – она тревожно заглядывала ему в глаза.
– Да. И с Варей хорошо, письмо пришло. Она в санитарном поезде медсестрой. Теперь все хорошо будет, Вера Соломоновна! Вы знаете, – он посмотрел на такую маленькую и худую до прозрачности учительницу, – мне ваши стихи всю войну жизнь спасали! Я все время твердил себе: «Левой! Левой! Левой!», даже когда сил не было.
– Теперь ты понял, что поэзия – это не глупости! – улыбнулась Вера Соломоновна.
Расставшись с Верой Соломоновной и пообещав зайти еще перед отъездом, Петька помчался на рынок. Выменял на отцовские часы несколько морковинок, засунул в газетный фунтик и вернулся в госпиталь. Разыскал Веру Соломоновну и вручил:
– Не домой, не на суп, а к учительнице в гости две морковинки несу за зеленый хвостик.* * *
Петр Иваныч сидел у постели своей старенькой учительницы, Веры Соломоновны, держал ее за прохладную, сухую и легкую руку. И чувствовал себя беспомощным.
Это раздражало. Чувство беспомощности. Он понимал, что сделать он ничего не может. Старость не лечится. Но это было несправедливо. Он держал ее за руку, словно это могло замедлить ее уход.
– Пойдем, Петя, – Варя подошла неслышно и положила руку на плечо мужа. – Люся уже пришла, она посидит до вечера. А на ночь останутся Люба и Оля. И доктор еще зайдет.
– Да, да, – Петр Иваныч сглотнул, чтобы скрыть осипший голос и не расплакаться перед женой. – Она заснула. Сон – лучшее лекарство.
Кармен
Каждое утро она придирчиво рассматривала себя в треснутое и уже мутное от старости зеркало. Оно сиротливо висело на толстом и ржавом гвозде покореженном жизнью и ударом обуха. Отец тогда напился и гонялся за матерью с топором в руке, требуя объяснений, о какой-то давней, и скорее всего придуманной им самим в пьяном угаре интрижке матери. Может быть, интрижка и не была придумана, а случилась – только не с матерью, а с ее сестрой, сгинувшей после войны в лагерях, за какую-то малую провинность.
Когда умерла мать, Оля вынесла зеркало из комнаты и временно повесила его в проходе, между чуланом и комнатой. Сверху накинула тряпку. После похорон тряпку сняла, а зеркало так и осталось висеть на временном месте.
Умывшись под рукомойником, Ольга смотрелась в зеркало, высматривая среди пятен лопнувшей как короста амальгамы сначала прыщи, а потом морщины. И никак не могла понять, если каждый день смотреть на себя и видеть практически одну и ту же картину, за исключением изредка вспыхивающих фурункулов или фингалов, то как происходит, что через двадцать или тридцать лет ты неузнаваемо меняешься? И только твои одноклассники, кто еще жив, могут опознать тебя на выцветшей школьной карточке?
Но в последнее время ее мало занимали такие сложные философские вопросы, как время и быстротечность красоты и жизни. Ольга влюбилась.
Вообще-то, что ее зовут Ольга, помнит, наверное, только она одна да собес, когда приносит пенсию по старости. В деревне все ее зовут Кармен, противно и даже слегка блеющее-издевательски тянут «е» в конце имени, из-за чего, имя гордой испанки звучит как кличка козы. Хотя, наверное, и не издевательски, просто все привыкли так ее звать.
Это когда-то давно, когда она училась в Кыласово на доярку, их всей группой повезли в Пермь. Новенькая училка только, что закончившая пединститут и еще горевшая нести знания в массы, решила их окультуривать. Не поленилась, съездила в город, купила билеты на всю группу на спектакль. То, что это была опера, она сказала только в вагоне. Потому что на оперу никто в своем уме не сдал бы по полтора рубля стипендии. Была охота слушать этакое занудство! Этим деньгам нашлось бы куда более приземленное применение. Сложив с остальной скудной степухой, справили б пальто или сапоги к зиме. Или б отдали матери, на хозяйство. И эти полтора рубля стали бы гвоздями для починки крыши или толем на ту же крышу или еще, мало ли в хозяйстве дыр, которые надо срочно заткнуть.
Привезя билеты, училка просто светилась от радости. Она шепталась с девочками на переменках о нарядах, которые они наденут на спектакль. В сотый раз говорила им, что в театре обязательно нужна вторая обувь – нарядные туфли. И если им разрешат родители, то можно сделать прическу – накрутить кудри и даже, раз они уже почти взрослые девушки, губы тронуть помадой.
Тронуть губы помадой, – так зацепило Ольгу, что она потратила еще столько же и купила в сельпо ядовито-рыжий помаду. За этакие траты она получила от матери тряпкой по лицу. А от отца за завтраком такую затрещину, что ударилась носом об стол. Нос распух, и кровь шла, пока она пёхом добиралась из своей деревни Мартыново до Кыласово. А это восемь километров. В кармане она сжимала злополучный тюбик помады и проговаривала про себя «можно тронуть губы помадой». От этого веяло чем-то таким, от чего сосало под ложечкой, перехватывало дыхание и потели ладони.
Дойдя до училища и испачкав весь платок кровью, Ольга опоздала на урок машинной дойки и наткнулась на молоденькую училку. Та переполошилась, схватила ее за руку и поволокла к директору – выяснять, кто мог избить девушку по дороге в училище.
– Я давно говорю вам, Зинаида Павловна, – училка, округляя глаза, срывающимся голосом кричала на директора, – это недопустимо, что девушки, одни идут до учебного заведения пешком, в темноте! И зимой, и в холод! Училищу нужен автобус! Посмотрите на Ботову все лицо в крови! Кто ее мог обидеть?
Зинаида Павловна грузная привыкшая больше к ватнику и сапогам, чем к сидению в кабинете, бывшая доярка, вдруг ставшая наставником, а потом и директором встала, подошла к Ольге и посмотрела пристально в глаза:
– Говори, Ботова, кто тебя?
– А правда, можно будет на спектакль тронуть губы помадой? – тихо спросила Ольга, еще крепче сжимая футлярчик в кармане.
– Иди Ботова, – поджала губы Зинаида Павловна, и вытолкала Ольгу из кабинета.
Ольга стояла у закрытой двери директорского кабинета и слушала, как Зинаида Павловна, не стесняясь в выражениях, разносила в пух и прах молоденькую училку, за то, что она забивает головы девчонок всякой городской дурью. И ни театры им не нужны, ни кудри, ни тем более помада. Они должны хорошо учиться, выдавать план по надоям и выйти замуж, безо всяких фортелей. А если они будут красить губы, – то они будут думать не о надоях, а о романах, и станут, – простихоспидя, кем. И что в следующий раз все походы в театр согласовывать только с профсоюзом и с ней, Зинаидой Павловной лично!
Она еще для острастки хряснула кулаком по столу, что бы до молодой городской профурсетки точно дошло – чему можно учить девок, а о чем и говорить нельзя. Но сразу же пожалела об этом. Руки ломило с самого утра. Это сейчас уроки по машинной дойке, а в войну об этом и не мечтали! Все руками да по двенадцать часов, а еще перетаскать сено да удои эти, будь они не ладны. Но тут же себя осадила, – для страны старались. Всем тяжело было. Но даже не больные руки так подействовали, а помада. Она так и не смогла простить мужа, бросившего ее и детей и не вернувшегося с войны. Говорят, потом, видели его с молодухой в городе. При каракулевом воротнике и яркой помаде. Медсестрой была в полку. Зинаида Павловна судорожно вздохнула, загоняя давнюю обиду, и уже спокойней сказала:
– Ты иди. И проведи работу перед спектаклем, объясни дурам нашим обо всем с правильной точки зрения. Главное, чтобы голову себе не забивали ерундой.
Ольга, услышав это, оттолкнулась от стены, шмыгнула распухшим носом и решила прогулять занятия.
Училка, красная, со слезами на глазах выбежала из кабинета, пометалась по коридору, не зная куда спрятаться. Плакать на глазах у всех было совершенно невозможно. Туалет не закрывался, сколько тоже говорила об этом, в учительской полно мастеров и учителей. В перемену народ из кабинетов повалит. Метнулась вниз, в раздевалку, сделав вид, что забыла, что-то в кармане худенького пальтишки, и спряталась среди вешалок. Старенькая гардеробщица Васильевна даже и не заметила заплаканной училки. Уткнувшись носом в свое пальто, училка, старалась не слишком громко шмыгать сопливым носом, промакивала слезы батистовым платочком с вышитой монограммой и незабудками. Если тереть глаза как Ботова, точно будут красными целый день. Вздыхая, пыталась унять слезы, вспоминала все обиды, которые перенесла за последний год в этой дыре, куда попала после распределения. Посчитала, что осталось еще почти два года вытерпеть, а потом – сразу, сразу вернется в город! И там, там начнется нормальная жизнь, с театрами, кино и мороженным. Поэтому надо подкопить денег, чтобы приехать не колхозницей, а прилично одетой. Прилично одетым молодым специалистом. Уже с опытом работы. Устроиться нормально, куда-нибудь в школу преподавать для начала, хоть к черту на кулички, но в городе! И какая она была дурра-идеалистка, почему, ну почему, она отказала аспиранту Боречке? Ну и что, что он ее лапал, и руки у него влажные и холодные. Вышла бы замуж и тоже в аспирантуру поступила, и никто бы на нее сейчас кулаком не стучал – за культуру! Она еще раз вздохнула, решила с зарплаты купить туфли и случайно встретить Боречку. Пусть противный и лапает, но только сбежать отсюда!
Накануне, перед театром, училка начала проводить воспитательную работу, как и наказала ей Зинаида Павловна. Сначала бубнила об империалистической Испании и распущенных нравах, потом стала рассказывать, как опера провались на премьере и какие ужасные отзывы писали на нее газеты. Но главная героиня – работница фабрики, а значит, она близка по духу всем советским женщинам! Потом, забывшись, стала рассказывать о прекрасной и независимой Кармен, о любви, о музыке и еще раз о всепоглощающей любви и неземной красоте Кармен! К концу урока, посвященному правильному толкованию спектакля, у училки пылали щеки и горели глаза. Она, комкая батистовый платочек, рассказывала о сценах признания в любви, о гордом характере и о трагической и прекрасной смерти.
Доярки слушали и представляли себя на месте Кармен. Как они снисходительно принимают пылкие признания в любви, как отказывают одному и другому… но прозвенел звонок, училка вздохнула и сказала, что поедут они завтра сразу после уроков, одежда должна быть опрятная и скромная. И, виновато взглянув на девочек, вышла из класса.
Театр раздавил их роскошью. Бархатные кресла, хрусталь, свет и дамы такой красоты, что Кармен из рассказов училки потускнела и облезла, как несвежий лак на ногтях деревенских модниц. Но Ольга не заметила ничего из этого. Она, до потности ладоней сжимала тюбик помады и искала глазами место, где, наконец, сможет ей воспользоваться.
Училка, посмотрев на испуганные лица учениц, и сама почувствовав себя такой же неуверенной, не модной и деревенской простушкой, тихо пискнула:
– Думаю, перед спектаклем вам надо посетить уборную.
Уборная была так же прекрасна как театр. Ольга, остановившись у дверей, не могла себе представить, как в такой нечеловеческой роскоши можно сделать то, что она делает в дощатом, продуваемом нужнике.
Ее грубовато толкнула в спину женщина с недовольно поджатыми, ярко-красными губами:
– Ну, что встала! – и деловито вошла в кабинку и зажурчала.
Перед зеркалами необъятной величины дамы прихорашивались, пудрили носы и вальяжно рассуждали о чем-то совершенно непостижимом.
– Невыносимо, – одна, полненькая, со сползшей с плеча облезшей горжеткой, закатывала глаза и обмахивалась пуховкой, как веером, рассыпая пудру вокруг – на платье, раковину и свою сумочку, – на сегодняшний спектакль опять поставили этого безголосого тенора на роль Хосе! Невыносимо! – она поискала сочувствия у своей подруги, но внезапно наткнулась взглядом на Ольгу и деловито спросила. – Чего тебе, милая? – поджала губы и оглядела ее с ног до головы. – Потерялась? Унитазы там! – она ткнула пуховкой в сторону ряда дверей.
Ольга сглотнула, мотнула головой, и пошла в указанном направлении. Зашла в кабинку, постояла за закрытой дверью, прислушиваясь. Когда, наконец, опустела уборная после второго звонка, Ольга осторожно вышла, встала перед зеркалом и достала из кармана тюбик с помадой. Открыла крышечку, выдвинула ядовито-рыжий столбик и со страхом посмотрела на себя в зеркало.
«Можно тронуть губы помадой», пронеслось у нее в голове, словно неоновая вывеска. Яркими вывесками сверкает весь город. Пока ехали от вокзала до театра, все слилось в одну бесконечную зелено-желтую полосу. Ольга наклонилась к зеркалу и поднесла помаду к губам.
– Оля! – в уборную вбежала запыхавшаяся училка. – Я тебя ищу по всему театру!
Ольга дернулась, ткнула себя в верхнюю губу острым кончиком помады. Тонкий карандашик помады сломался и упал в раковину.
Оля подняла испуганные глаза на училку не зная, что теперь делать.
– Только не реви! – училка аккуратно подцепила огненно-рыжую палочку помады из белой фаянсовой раковины, взяла из рук Ольги тюбик, вставила обломок на место и закрыла колпачком. – Потом чуть-чуть нагреешь и прилепишь, будет как новая, – вдруг спохватилась, что это ее ученица и добавила, – только никому не говори! И в училище не пользуйся.
Она схватила замороженную Ольгу за руку и поволокла на третий этаж, на самый дешевый верхний ярус. Все ученицы уже сидели там, беспрестанно возясь в бархатных креслах, шушукаясь и пихая друг друга локтями в бок. В это время погасили свет, училка усадила Ольгу рядом собой и шикнула на девочек. Все примолкли, занавес поднялся. Внизу, в партере раздались жидкие аплодисменты, и постепенно их подхватил весь театр.
Когда на сцене появилась толстая тетка, размалеванная как кукла, со странной прической, и игриво стала приставить к плюгавенькому мужичонке, подбоченясь, прохаживаться перед ним, девочки поняли, что это и есть Кармен. С этого момента театр и история Кармен перестали для них существовать. Невозможно было, что бы такая толстая и старая тетка испытывала такие чувства, как рассказывала им училка, а тем более уж – такую Кармен, не могли любить. Да и кому тут было любить? Такие мужики живут у них в деревне, и они говорят не о любви. Такие мужики говорят о тракторе, о том, что надо выпить. А когда выпьют, они говорят такое, от чего не стойкие, как Ольга краснеют. Но понимают, что это и есть любовь.
Ольга, сжимая сломанную помаду, слушала с закрытыми глазами. Она наполнялась пылью табачной фабрики, тоской работниц и куражом Кармен. Она чувствовала, как Кармен любила и дразнила. Ольга и была Кармен. Она умирала, и пела.
Когда раздались аплодисменты, ученицы вскочили с мест и стали толкать Ольгу еще не очнувшуюся от переживаний.
Она молчала всю дорогу, неся в себе оперу. Девочки в вагоне поезда обсуждали наряды женщин, город, и то, как было бы хорошо переехать из деревни, но Ольга не слышала их. Училка тоже молчала. Она смотрела на Ольгу и думала, что нужны новые туфли, и нужно ехать искать Боречку.
Ольга брела со станции до дома, в полной темноте постоянно спотыкаясь. Так было даже лучше, что темно, в душе у нее продолжала петь Кармен, то громко и надменно, то тихо – умирая. Дома, отец посмотрел на невменяемую дочь и сказал:
– Больше не пущу.
Мать вздохнула, но про себя согласилась. Не дело девке жизнь портить городскими впечатлениями. Надо замуж и детей.
Ольга не спала всю ночь. Точнее она проваливалась на какие-то краткие мгновения и с криком просыпалась от того, что ее убивают. Утром встала хмурая, разбитая и с синяками под глазами.
Месяц она говорила только об этой опере или молчала, уставившись в одну точку. После этого ее стали звать Кармееен, противно растягивая гордое «э», в блеющее, долгое «е».
Училка на выходные стала ездить в город и перестала вести дополнительные занятия с ученицами, ссылаясь на страшную занятость. А через полгода вышла замуж и уехала из деревни.
После смерти матери, когда работала уже лет десять дояркой, Ольга разбирала барахло на чердаке. Надо повыкинуть старое, убрать мамины вещи, да и отцово тоже все лишнее убрать. Что можно, уже давно раздали. Отец умер еще пять лет назад. Хороших-то вещей особо не нажил. Но выкинуть рука не поднималась.
Ольга сидела среди пыльных коробок, в дранный тапок набилась иссохшая земля, которой был засыпан потолок избы на чердаке – для тепла. И думала.
Мать прожила без любви, и она Олька, так и не встретила любви, как ждала. Ну, бегала по воскресеньям встречать малайку[1], на которой из города приезжал Петр. Два месяца бегала. Он кылосовский, после училища поступил в городе в техникум и на выходной приезжал к матери. Но выходил на остановку раньше, в Мартыново. Тут его ждала Олька. Одевалась нарядно, помадой красилась. Они шли по дороге до Кыласово – исхоженные уже много раз восемь километров – и держались за руки. А потом она шла обратно. Одна.
Это было такое тихое счастье. Но была ли это любовь, как у Кармен, Олька не знала. Петр был красивый. И ухаживал красиво. Изредка привозил из города всякие женские мелочи в подарок. И помаду. Нравилось ему, когда у девушки губы яркие. Они шли по пыльной дороге, целовались и держались за руки. Она все ждала, когда Петр познакомит ее с матерью.
Точнее, Ольга хорошо знала его мать, она тоже работала дояркой, и практику Ольга проходила у нее в бригаде. Но официальное знакомство с матерью, переводило отношения Ольги и Петра совсем в другой статус. Но это все никак не случалось, а разговаривать Ольга стеснялась.
Мать, видя страдания Ольги, собралась уже, было сама поговорить с будущей сватьей о молодых. Но Ольга перед решающим разговором вернулась домой в слезах. Ничего не объясняла и строго запретила матери какие бы то ни было разговоры с матерью Петра.
И только после смерти отца, на тихой године, когда они с матерью первый раз вдвоем выпили водки, Ольга созналась. Что решилась поговорить с Петром о свадьбе, что годы, мол, идут, и деток пора. Но Петр усмехнулся на такие разговоры, и сказал:
– Дашь прямо сейчас, поговорим о свадьбе.
Ольга не ожидала, растерялась. Прислушиваясь к себе, пыталась понять, такая ли это любовь? Что можно дать до свадьбы?
Пока она решала для себя этот вопрос, Петр толкнул ее в кусты и взял силой. Довольно улыбаясь, он застегнул ширинку и потрепал Ольгу по плечу:
– Ну вот, Кармееен и ты отведала любви, – развернулся и пошел не оглядываясь.
Ольга после этих воспоминаний со злости пнула коробку из-под тушенки и размазала слезы. Захотелось нестерпимо выпить – от своей никчемности и сиротства. Коробка развалилась, и из нее выпали письма. Старые письма. Прочитав на конверте получателя, Ольга поняла, что это письма предназначались Ольгиной тетке, сестре матери.
До темноты Ольга сидела на пыльном чердаке, не замечая земли в тапках, и читала. Когда стало совсем темно, Ольга стащила трухлявую коробку с письмами вниз и читала всю ночь. Это были письма о любви. О такой любви, о какой мечтала Ольга, и уже думала, что ее не бывает. Письма были аккуратно разложены и перевязаны веревочками. Тетка сохранила все письма, и пронесла их через всю войну. В последней пачке, в самом конце, было письмо, написанное чужим почерком. Открывая его, Ольга уже поняла, о чем оно. Он погиб, тетке написал однополчанин.
На рассвете Ольга дочитала последнее письмо, сложила их обратно в коробку из-под тушенки и вынесла во двор. Облила коробку керосином и подожгла. А потом – впервые в жизни – напилась. Она сидела во дворе, перед полыхающей коробкой с письмами, на бревне, и пила из горла водку. Не закусывая. Потом, пошатываясь, зашла в избу, упала в кровать и перестала быть ударником социалистического труда.
С прошлой пенсии Кармееен купила себе веселого ситчику. И пошила платье ко дню рождения на старенькой ручной машинке. Потом вручную обработала швы, как учила мама. Прикупила в сельпо бутылку водки и поставила в холодник. Холодильника у нее не было, точнее, был, но давно сломался, а починить не кому. Да и хранить там особо нечего. Много ли надо одной? Там хранилась крупа, спрятанная от мышей.
На день рождения обещался прийти Колька. Трезвый Колька был добрый, он стеснительно улыбался, стараясь не показывать беззубого рта. И помогал Кармен по хозяйству. И если еще не успел пропить пенсию, приносил мятные пряники из сельпо. Они пили чай из мяты с мятными же пряниками и стеснялись друг друга. Но к вечеру напивались и забывали о глупостях.
По случаю дня рождения Колька пришел в галстуке старинного фасона – широком, с дикой расцветкой, годов из 70-х. Принес бутылку вина и гордо поставил ее на стол. Кармен засуетилась, настрогала огурчиков, кинула пучок зеленого лука и села в ожидании, чинно сложив черные от огорода, с обломанными ногтями руки на колени. На веселом ситчике, руки смотрелись еще страшнее. Кармен застеснялась и засунула их под себя.
– Ну, именинница, – Колька неловко присел рядом, – вздрогнем за ради праздничка? – улыбнулся, пряча свой единственный зуб, и подал Кармен грязноватый стакан с дешевым вином.
Они чокнулись и выпили. Помолчали. Допили.
– Ты красивая, – вздохнул Колька, уже затуманено глядя на Кармен. – Платье вон новое пошила.
Кармен заулыбалась и неожиданно предложила:
– Пойдем, погуляем?
Они, стесняясь, вышли из дома и пошли, без цели, по пыльной дороге, когда-то бывшей Сибирским трактом. Деревня вытянулась вдоль дороги, глядя на пыль подслеповатыми окнами старых изб, некоторые из которых еще помнили каторжан, бредущих в Сибирь. В деревне мало новых домов, только у дачников, но они строились ближе к лесу, не желая глотать дорожную пыль. Из окон изб на них выглядывали любопытные старухи, поджимали губы, жевали беззубыми ртами, осуждали странную, вот опять новый ухажер, простихоспидя, это ж Кармееен, а не баба!
Кармен знала об этих пересудах, да и привыкла к ним, что делать, судьба такая. Она взяла Кольку под руку и доверчиво прижалась к нему. Он разволновался, сглотнул и посмотрел на Ольгу:
– Ты, вот чего, Кар… Оля, постой тут я сейчас! – он осторожно снял ее руку и побежал в кусты.
Кармен стояла посредине пыльной дороги и чувствовала себя непонятно. Ей хотелось плакать. И улыбаться. Она теребила поясок из веселого ситчика и думала.
– Эй, красотка! – из-за поворота выехал на чудовищно тарахтящем мотоблоке Петр, поднимая за собой тучу пыли. Резко затормозил и подмигнул Кармен. – Чего вырядилась?
Петька, уже давно перестал быть Петром, кто ж будет так уважительно называть спившегося механика. Он щипнул Кармен за худую ягодицу.
Она отстранилась, но улыбнулась ему по-доброму:
– День рождения у меня, Петя.
– Ха, а у меня желание выпить! – Петька осклабился, перегнулся и вытащил из кузова мотоблока чекушку. – Надо отметить!
– Я не одна, – с достоинством сказала Кармен.
– Да, ладно, – барским жестом Петька откинул полог с кузова, – у меня еще есть.
– Оля! – из кустов вылез Колька, прижимая что-то к впалой груди. – Это тебе.
Он, слегка краснея, протянул Кармен чахлый букетик из сурепки. Мелконькие желтые цветочки, были почти в тон к платью из веселого ситчика. Она взяла, прижала букетик и заплакала.
– Будя, Кармен, сырость разводить! – хмыкнул Петька. – Грузитесь чё ли в кузов, поехали на реку – скупнемся и выпьем, по-человечески. А то гуляете за ручку как малохольные!
Они уселись в кузов, болтая ногами над пыльной дорогой, и поехали на реку. Пили водку без закуси и купались. Мужики, прикрывая хозяйство рукой, прыгали солдатиком в воду, а Кармен, гордо ступая по камням, немного стесняясь старого застиранного белья, заходила осторожно, окунаясь, ахала, и смеялась, прикрывая рот ладонью.
Рецептура жизни
Часть 1. Вера
Ненавижу рецепты, в которых написано: «возьмите 275 грамм того и 15 грамм этого». Скажите на милость, где на советской кухне можно измерить того и этого? Нет, конечно, есть всякие сравнительные таблицы, вырезанные мной из женских журналов и наклеенные в неврастеническом порыве исправить этот мир с помощью уравновешенной точности на внутреннюю часть дверцы моего кухонного шкафа. Но со временем они желтеют, покрываются пятнами от вездесущих тараканов, которых, говорят, не выведет даже атомная война! И обдираются мной же в порыве исправить этот чертов мир с помощью чистоты.
Ни тот ни другой метод исправления мира не работает. В этом я убеждаюсь каждый раз, когда со скрежетом выдираю эти меры того и этого в граммах и стаканах с дверцы шкафа. Или, наоборот, чуть высунув язык от усердия, наклеиваю их клейстером на дверцу. Уже в этот самый миг я понимаю, что проиграла. Проиграла битву с этим чертовым миром за чистоту, упорядоченность и простоту.
Не может женщина быть женщиной, и работать по восемь часов в поле агрономом, изображая сельскую интеллигенцию, и месить грязь, говно и стерню. А потом, надевши нарядный фартучек, сделав укладку и маникюр, встречать мужа-тракториста с пышными пирогами из русской печи, отмеряя 275 грамм того и 15 грамм этого! Не может. Потому что, намесив говно на полях родного колхоза, она идет месить говно в своем личном, подсобном хозяйстве, доить корову, полоть огород, варить тюрю из мелкой картошки и очисток в громадной неподъемной корчаге поросям и прочей живности. А потом возьмет трясущимися от напряжения и усталости руками отмерять эти 275 грамм? Невозможно, это просто невозможно!
Можно взять стакан одного и два стакана другого и заместить тесто, это если день легкий. А если как обычно – то отсыпать мелкой картохи, сваренной поросям, из дымящейся корчаги, плюхнуть на стол в жестяной миске, дать подзатыльник скривившемуся младшему, сказать «жрите» и упасть спать. А еще останутся силы, чтобы послать мужа куда подальше с его требованиями исполнить свой долг. Ну, вы понимаете, какой. Правда, иногда я все ж не посылаю, потому что, если посылать все время, он и уйдет к другой бабе, не такой неженке, как я, привыкшей пахать, рожать и трахаться без перерыва на обед. Тогда я закрываю глаза, ложусь на спину, раздвигаю ноги и пытаюсь не захрапеть. Но все равно получаю свое «дубина». Но в тот момент мне все равно. Долг выполнила – и спать.
Никогда не ведитесь на лозунги и красивых мужиков. И лозунги, и мужики обещают, в принципе, одно и то же – счастье при жизни. Но они врут. Как же они врут! А когда добиваются своего, сразу линяют. И лозунги, и мужики.
Я до сих пор не понимаю, зачем я поехала на целину и пошла учиться в этот сельхозинститут? Все поехали. И я. Лозунги были призывные. Картинки красивые. Оказалось все не так, как в лозунгах.
Нас было много, в теплушках, на сене приехавших на целину. Нас высадили посреди поля, где единственным строением была кухня. Точнее, это был дощатый стол, лавки, а сверху очень просвечивающая крыша. Ночью через нее было видно нереально-звездное небо, у нас на Урале такого не бывает. Рядом стояла железная печка, которая топилась соляркой. И сарай, где хранилось продовольствие.
Девочек было мало. И только я умела готовить. Меня оставили помогать на кухне. Кухаркой была казашка с непроизносимым именем. Посмотрев на мои мучения, она вздохнула и сказала:
– Зови меня Валя.
Мы жили в землянке, выкопанной нами в первый же день. Ну, не под открытым же небом ночевать? Землянка была одна на всех. Справа мальчики, слева девочки. Посередине проход – Комсомольский проспект. На Компросе спал Женька-баянист и по совместительству тракторист. Женька был веселый и наглый. Когда начинались дожди, редкие, Компрос топило, и Женька шел спать сначала налево, но его оттуда прогоняли с визгами, потом направо.
Воду привозили раз в неделю. И я была ответственная за ее распределение. На все. На еду. На мытье посуды и овощей. На питье и мытье. На мытье оставалось две кружки в неделю на человека. Кружка намылиться и кружка смыть. И еще белье постирать. Если считаешь это необходимым. Вода воняла тухлым и была условно прозрачна. Сначала я не могла себе представить, как такой водой можно помыть там… внизу. Но если я ее пью внутрь и еще не сдохла, то, наверное, и там не повредит.
Чтобы не наловить вшей, было два варианта – побриться наголо, что и сделали мальчики, или мазать голову керосином, что сделали девочки. Воняло немилосердно. Но либо красота, либо вонь.
Валя посмотрела, как я распределяю воду, и сказала:
– Ти умный. Будешь считать еду.
Я сначала не поняла, что значит считать еду. Оказалось все просто. Продовольствие привозили на грузовичке, как и воду – раз в неделю. Крупу, картошку и солонину. Мясо через день бы кишело червями на такой жаре. А солонина была соленой до такой степени, что черви дохли еще на подлете мухами. Мне, изучавшей высшую математику, доверили рассчитать, сколько в день можно израсходовать картофелин и крупы. И соленого мяса. И потом, сколько поварешек этого варева можно положить на единицу рабочей силы. И оставить на добавку особенно проголодавшимся.
Я мерила крупу стаканами. В день столько-то стаканов крупы на завтрак, столько-то на обед и столько-то картофелин на ужин. Чистила овощи, мыла посуду.
И еще я топила печь. Соляркой. Сначала при виде того, как Валя растапливает утром печь, меня каждый раз хватал инфаркт. А потом привыкла. И даже научилась сама. Целина – это степь. Деревья там не водятся. На растопку, по счету, было несколько прутиков от метлы. Сложила шалашиком, подожгла с одной спички и плеснула кружку солярки. Все – печь работает. Можно ставить чайники, кастрюли. Главное, плеснуть и очень быстро закрыть дверцу. Иначе останешься без бровей и ресниц, в лучшем случае. Обычно я такой и ходила. Почти без бровей и вся черная от солярки. Она не смывалась тем количеством воды, которое выдавалось на помывку. Поэтому я спрятала зеркало подальше в рюкзак и больше не смотрела на себя.
Валя была очень разговорчивой женщиной. Только я ее почти не понимала. Она болтала сама с собой. Иногда пела. Но в основном разговаривала. Иногда она мне напоминала колдунью из какой-нибудь страшной сказки. Маленькая, черная, лохматая. Она сидела перед печкой и лопотала на своем о своем. Может, молилась, а может, ругалась. Кто ее знает? Однажды Валя, посидев так перед печкой, встала и приказала мне:
– Неси дрова.
Я усмехнулась. Тоже мне, мачеха, послала в лес за подснежниками. Откуда в степи дрова?
Валя, посмотрела на меня, сказала несколько слов на своем языке и ткнула кривым грязным пальцем в сарай:
– Неси дрова. Инспектор едет.
Я послушно открыла сарай, перетягав все мешки с продовольствием, нашла, только то, что очень отдаленно напоминало мне дрова – три трупика чахлых березок, умерших от рахита. Мне, девушке с Урала, и в голову бы не пришло назвать эти прутики дровами. Но больше ничего не было.
Валя вырвала у меня из рук стволики, живописно расположила их перед печкой и села на корточках рядом.
– Скоро будут, – сообщила она мне и похлопала по земле рядом с собой.
Я села. Скоро, действительно, приехал пожарный инспектор. Долго ходил вокруг печки, считал мысленно прутики, проверял трубу.
– Чем топите? – строго спросил в пространство между мной и Валей.
– Дровами, – хором ответили мы.
Инспектор покивал головой, вроде как соглашаясь. Валя встала, открыла кастрюлю и набросала ему всю запланированную добавку для отличников социалистического труда. Инспектор удовлетворенно потер руки и сел за стол. Валя походила вокруг, подумала и принесла из сарая стакан. Поставила перед инспектором и села напротив, уставившись на него, не мигая, как кошка.
Инспектор крякнул, выпил жидкость из стакана, занюхал рукавом и съел всю нашу добавку. И уехал. Валя забрала тарелку, сказала:
– Шайтан, – и ушла в сарай.
Тут начался обед. Валя не появилась. И мне пришлось орудовать той самой поварешкой, которой я рассчитывала нормы выдачи еды. Когда я доскребала со дна последнюю порцию, приехал запоздавший тракторист. Я трясущимися руками наскребла с алюминиевым скрежетом со дна остатки – ровно половину – и трясущимися руками поставила перед ним. Он посмотрел на тарелку, встал, сошвырнул ее со стола:
– Зажрались, суки кухонные! – вышел с кухни, продолжая материть меня. – Жрут, жрут, скоро лопнут! А работяги – голодай!
Я села и заплакала. Я всегда ела последняя и без добавки. А сегодня еще и не завтракала. И вся одежда, в которой я приехала из дома, на мне давно держится только за счет поясков-веревочек.
Дядя Вася, самый старший тракторист, похлопал меня по плечу и отдал свой чай:
– Не плачь, милая, не со зла он.
– Меня никто не материл! – рыдала я во весь голос. – Никто! Я и слов таких не знаю! Я же всегда последняя ем, что осталось! Се-се-сегодня инспектор был! – завыла я.
Вместо того чтобы продолжать жалеть меня, все мужики заржали. Слезы высохли, я встала, гордая и неприступная, как Зоя Космодемьянская. Правда, так я себя и чувствовала в тот момент. Я маленькая и слабая, морда вся в разводах от соляры, есть хочу до обморока, а они сытые, сильные и ржут. Фашисты.
Дядя Вася, утирая слезы, силком усадил меня за стол, пододвинул чай, мужики хлеба дали, сколько осталось.
– Ешь, милая, ешь! – а сам трясется и ржет. Слезы вытирает, размазывая пыль по лицу. – Как слов-то не знаешь? – и опять ржет, трясется. – А Валя! Валя-то только матом с тобой и разговаривает! – стучит ладонью по столу дядя Вася, не в силах справиться со смехом, стакан мой с чаем подпрыгивает и опрокидывается на хлипких досках. Хлеб вымок в чае и расползся в серую кашу.
Я подбираю осклизлые остатки мокрого хлеба, запихиваю за щеку:
– Нет! – возмущаюсь. – Это она по-своему, по-казахски говорит. Я бы поняла, что она матерится. Я бы сказала, чтобы она не материлась!
До возвращения домой мужики, заходя в столовую, кричали Вале:
– Валя, не матерись!
Валя говорит «шайтан» и продолжает говорить о своем на своем.
Перед отъездом нам привезли дополнительную воду. Председатель райкома, критически обозрев меня, сказал всем нам хорошенько отмыться. Нас будут встречать корреспонденты у поезда, брать у нас интервью и фотографировать. Он объяснил нам, что мы передовики, что наши достижения гремят по всему району, и продолжал скептически смотреть на меня.
Мальчики скинулись для девочек по дополнительной кружке воды, и мы смогли вымыть волосы и постирать белье. Я впервые вымыла волосы.
Когда мы вышли из-за занавески за сараем, которая изображала баню, мужики уставились на меня.
– Да ты красавица, кухарка! И волосы светлые, и лицо, оказывается, белое! А мы-то думали, ты как Валя, черная.
Дома мама, посмотрев на мое выстиранное белье, молча сложила его в пакетик и вынесла на помойку.
После института меня отправили работать агрономом в деревню. На меня засматривались все деревенские мужики. А я смотрела только на Сергея. Красавец. Через год мы поженились. Оказалось, что быть мужем агрономши – хорошо. А любить ее не обязательно. Но я об этом узнала только после второго ребенка. Агроном в колхозе – это уважаемый человек. Городская фря, и вообще, всем утереть нос.
Но для городской поблажек в ведении домашнего хозяйства нет. А претензии, что городская, должна в туфлях на каблуках по пашне порхать – есть. Потом он стал изменять. А через десять лет просто ушел и не вернулся. В соседнюю деревню. К деревенской. Молодой. У которой после коровника, огорода, дров остаются силы на исполнение долга. С энтузиазмом.
Это только у Мухиной рабочий и колхозница стоят в едином радостном порыве. А на самом деле для нас даже журналы разные выпускают – «Крестьянка» и «Работница». Я из принципа «Крестьянку» не выписывала. Хотя ненавидела рецепты «Работницы» всей душой.
Часть 2. Маша
Сегодня утром включила телевизор перед работой, пока пью кофе, чтобы пожужжал чего-нибудь непритязательное. И завелась. Сидит там курица и учит готовить. Положите 15 грамм того и 275 грамм этого! Ненавижу такие рецепты. Скажите на милость, где на кухне можно измерить того и этого? Нет, конечно, есть всякие сравнительные таблицы, вырезанные мной из женских журналов и наклеенные в неврастеническом порыве исправить этот мир с помощью уравновешенной точности на внутреннюю часть дверцы моего кухонного шкафа. Но со временем они желтеют, покрываются пятнами. И обдираются мной же в порыве исправить этот чертов мир с помощью чистоты. В конце концов, можно купить электронные весы, но кто будет пользоваться ими в этой вечной запаре?
Ни тот ни другой метод исправления мира не работает. В этом я убеждаюсь каждый раз, когда со скрежетом выдираю эти меры того и этого в граммах и стаканах с дверцы шкафа. Или, наоборот, чуть высунув язык от усердия, приклеиваю их скотчем на дверцу. Уже в этот самый миг я понимаю, что проиграла. Проиграла битву с этим чертовым миром за чистоту, упорядоченность и простоту.
* * *
«Как ты похожа на свою бабку», – все время твердит мне мать, особенно когда не в духе. Не любит она свекровку, не любит. А все потому, что когда сын привез ее после армии знакомить с матерью, как уже молодую жену, она решила удивить деревенскую женщину. И накупила ей в подарок для стряпни весы для измерения всяких грамм и миллиграмм, всякие блестящие ковшички для отмерки муки, соды и прочих сыпучих продуктов. А также большую с цветными картинками книгу о здоровой и правильной пище. Где все рецепты были, как любит мама, с четким указанием, сколько нужно вешать граммов.
Бабка начала учить ее стряпать. То, что любит сыночка. А мать, записывая рецепты свекровки, все пыталась у нее уточнить, а сколько же точно надо сыпать грамм муки? А сколько соды? Как можно готовить, сыпля все ингредиенты на глаз? И в этом же рецепте, в вашей же тетрадке записано налить молока, а вы льете простоквашу. И когда бабка поняла, что молодая все пытается записывать и отмерять в граммах, как в рецептах из модной городской книжки, поджала губы.
А на следующее утро выставила чемоданы молодых за дверь, сверху положила книжку с рецептами, весы и блестящие ковшички и сказала:
Погостили, гости дорогие, и будя.
А в деревне все знают, как только старуха начинает прикидываться малограмотной кошелкой – добра не жди.
Сегодня вечером сын ко мне в гости ведет свою девушку. Они живут уже полгода. Надеюсь, она не любит стряпать.
Сания
Сания возвращалась с работы, уставшая и продрогшая. По дороге забрала из школы сына, взвалила на плечо его неподъемный портфель, ругаясь на школу, на учебники и на своего первоклашку, который засматривался то на птиц, то на собак и болтал без умолку про пацанов из класса. Все это вылетало у Сании из головы тут же. Она думала, чем его накормить, напился ли опять Вовка и донес ли зарплату до дома. И свекровка наверняка начнет бубнить, что Сания, кошка приблудная, мало зарабатывает, дармоедка. Да и не свекровка, по сути, она Сании, она мать ее сожителя.
Целый день проработав лопатой на морозе в Ледовом городке, Сания опухшими, негнущимися пальцами пыталась выгрести из кармана мелочь и купить хлеба в ларьке. Монетки выскальзывали из красных, обмороженных пальцев и падали на снег. Сания наклонялась за ними, шапка сползала на глаза, портфель падал и больно стукал ее по ноге. Она сдерживала слезы, чтобы не расплакаться перед продавщицей-узбечкой и сыном. Сын не переставая болтал, смеялся и рассказывал что-то смешное. Сания со злостью бросила портфель сына, встала на колени, выковыряла из снега все монетки и шлепнула их узбечке:
– Булку дай.
Узбечка брезгливо поджала губы и осторожно, по монетке, вытянула деньги из блюдца чумазым пальцем с облупившимся красным лаком на широком и коротко обстриженном ногте. Сания с ненавистью посмотрела на нее, подумала, что косоглазая, а туда же, брезгует ей, русской.
Продавщица-узбечка плюхнула булку хлеба и, как только Сания забрала ее, захлопнула окошко ларька, поставила табличку «закрыто» и отвернулась.
Когда добрались до дома, стало совсем темно. У подъезда снова вывернули лампочку, и Сания на ощупь тыкала в кодовый разбитый замок. Кнопки опять заедало. Она разозлилась, слезы горячими обжигающими струйками потекли по щекам. Сания ожесточенно ткнула в двойку и сорвала ноготь. Замок противно пиликнул, и подъезд дыхнул душным теплом.
– Да пошли уже! – она не утерпела и дернула сына за воротник.
Поднялась на третий этаж, ткнула ключом в скважину, пробормотав про себя «даже не думай сломаться», пнула дверь. В квартире темно и тихо. Свекровка то ли спит, то ли притаилась за дверью, дожидаясь Сании, чтобы высказать за оставленную немытую посуду. Дверь в комнату, где она живет с Вовкой и сыном, закрыта. И из-под двери не видно света. Видимо, дома нет. Пропивает зарплату, сволочь.
Сания сжала зубы и, не снимая разбитых и покрытых белой солевой коркой сапог, подошла к двери комнаты. Прислушалась. А сын все говорил, говорил. Хоть бы заткнулся!
Она толкнула дверь и нащупала выключатель.
Вовка висел на крюке от люстры, вывалив синий язык. Почему-то в мокрых штанах. Она не испугалась и ничего не почувствовала, подошла к нему, встала в лужу. На столе, рядом с болтающимися ногами Вовки лежала нацарапанная записка: «Ни кого не винить. Я сам».
– Мама! – в комнату вошел сын и схватил Санию за руку. – Зачем он?
– Вон! – Сания завизжала. – Иди вон! Не смотри!
– Чего разоралась, падла? – жмурясь с темноты, зашла свекровка и увидела сына. – Ой, сыночка! – завыла без перехода. – Ой, родненький! Это все падла эта! Она тебя уморила! Привел ее, с нагулянным! А она тебя-а-а-а…
Сания не слышала свекровку. Словно пузырь на голове, видно, как свекровь разевает рот, кричит, вся красная и в слезах, а звука нет. Пошла на кухню, по пути за воротник выволокла сына из комнаты и втолкнула его в спальню свекрови, взяла большой разделочный нож и вернулась в комнату. Отодвинула свекровь так, как двигают стул, залезла в грязных сапогах на стол и стала пилить веревку. Про себя ругая Вовку, что опять давно не точил ножи. Но потом подумала, зачем их точить, мяса-то давно не ели, так, чтобы куском большим, всё кости покупали на бульон и дешевые сардельки, нож этот и не нужен вовсе.
Сознание раздвоилось. Сания наблюдала за собой со стороны, вот она стоит на столе в грязных сапогах и пилит веревку. Вот нож срывается и пилит уже по ее пальцу. Ей не больно, но рука дергается от ножа, и начинает капать кровь Вовке на воротник.
Странно, почему она ничего не чувствует?
Вовка кулем упал на пол. Весь воротник в каплях крови Сании. Теперь-то что надо делать? Она стояла на столе, у болтающегося рядом обрезка веревки с ножом в руке и смотрела на Вовку и свекровь, содрогавшуюся в плаче. Смотрела сверху и не хотела спускаться.
Вовка лежал в луже собственной мочи, и сейчас до Сании, наконец, дошел запах, мертвенно-холодный и резкий. Заболел порезанный палец. Она стояла и никак не решалась спуститься вниз. Смотришь сверху – и как бы это к тебе не относится. Там, внизу, смерть и слезы свекрови. И с этим надо что-то делать, а сил нет.
Свекровь перестала завывать и ухватила Санию за штанину:
– Слазь, падла! Надо милицию вызывать.
Сания подчинилась, спустилась со стола на пол, к грязному сапогу прилипла записка Вовки. Сания села на стул, осторожно отлепила записку и прочитала еще раз.
«Ни кого не винить. Я сам».
Ничего не изменилось. Только записка была вся в следах сапог Сании.
«Я сам», еще раз прочитала она. Сам. Зачем?
Сам залез в петлю. Зачем?
Что плохо-то было? Ну, пил помаленьку. Работа была. И Сания его любила. Любила ведь?
Сания сидела и тупо смотрела на записку. Свекровь выла и тыкала в нее старой облезлой «Нокией».
Любила. Не сразу, правда, любовь эта пришла.
Жить-то начали сразу после школы. Сания после восьмилетки пошла в ПТУ. А Вовка работал грузчиком. Но Сании все было тесно с ним. Чувств хотелось. Любви какой-то сильной, как в кино. А любви не было. Секс был. А любви…
Потом встретила Игоря и влюбилась. Без памяти. Все бросила. И Вовку, и ПТУ. Бегала за Игорем как собачка, в глаза заглядывала, все одобрения ждала. А как забеременела, он бросил.
А через неделю увидела его с новой бабой. Красивой, блондинкой. Она все смеялась, смеялась. В ярком цветастом платье. Волосами встряхивала, губки яркие то сжимала кокетливо, то облизывала розовым языком. Игорь смотрел как завороженный на губы и язык. Ходил за ней как привязанный и искал одобрения. Руку ей подавал. Пиджак на плечи накидывал, а она его сбрасывала в пыль.
Сания не выдержала и бросилась на нее. Хотелось разбить ей лицо. Разодрать в кровь, чтобы не смеялась больше. Убить ей хотелось. Никогда не думала, что способна на такое. Еле оттащили. Не помнила она себя тогда. А Игорь даже разнимать не бросился. Стоял и кричал, что Сания дура истеричная.
После того как сын родился и подрос немного, Вовка ее уговорил опять вместе жить. Любил он ее. Сания это только потом поняла. Разве ж мужик возьмет бабу с чужим ребенком, да еще бросившую его ради другого? Точно любил.
А сейчас он лежит в луже мочи, и все, что от него осталось, – записка «Я сам». Зачем?
– Да звони ты! – свекровь трясла Санию за плечи.
Сания послушно взяла телефон и набрала номер.
– Полиция, – устало ответили.
– Умер… – больно выговаривать это слово. – Вовка умер, – Сания посмотрела на свекровь. – Лежит в моче весь.
В трубке помолчали немного и сказали:
– Скорую надо вызывать сначала.
– Чего ее вызывать-то. Повесился он, – Сания удивилась. – Не дышит. Синий весь.
– Адрес, – сказали сухо. – Ничего не трогайте до приезда полиции.
Потом приехали три человека. Им было наплевать и на Санию, и на Вовку. Писали, спрашивали, фотографировали. А Сания все сидела с запиской, пока ее не отобрали. Сказали, в дело надо подшить. Дело-то уголовное, раз самоубился. И на завтра вызвали в двенадцатый кабинет.
Потом увезли Вовку в морг. Приказали из комнаты выйти, повозились и вынесли большой черный пакет. Сания зашла в комнату. Пусто и страшно. Весь пол в мокрых следах. То ли от снега с улицы, то ли лужу мочи растащили.
Сания вымыла всю квартиру с хлоркой, потом подъезд. Потом посуду. Потом сына.
Сын засыпал уже в ванной, стоя под душем. И все разговаривал. Голенький и смешной. Похоже, так и не понял, что папы Вовы больше нет.
Свекровь все время ходила за ней и бубнила:
– Жерножопая, уморила сыночку моего.
– Русская я, сколько тебе говорить, – вяло отбивалась Сания. – Бабка моя, да, азербайджанкой была. Все остальные русские. И я русская.
– Жерножопая падла.
Сания все делала автоматически, главное, быть занятой и не думать.
Не думать, где они теперь с сыном жить будут. С Вовкой не женаты. В квартире она не прописана. Своего жилья нет. Свекровка, как пить дать, выставит прямо завтра на улицу.
Не думать, на какие деньги Вовку хоронить. Денег нет. Перед Новым годом все получила на праздник. А Вовка, Вовка… где теперь его зарплату искать?
«Горе, какое горе», – подумала Сания. Слово-то смешное какое-то, как два камня-голыша во рту перекатывается, стукаясь друг об друга.
Горе.
Горе ломает человека. Обрушивается, накрывает тяжелым ватным одеялом, не пропуская ни радости, ни солнца. Человек мечется, задыхаясь под этой свинцовой ватой, не веря, что в жизни может быть по-другому.
Когда сын уснул, на Санию накатили все чувства разом. Она тихонечко завыла, кусая губы, чтобы не разбудить сына.
Утром побежала в контору клянчить денег. Мастер Оксана, строгая хохлушка, сказала:
– У тебя часов мало отработано, Саня. Я поговорю, конечно, но обещать не могу.
Потом посмотрела жалостливо на нее – за ночь и без того худая Сания вся заострилась, ломаные линии лица еще больше выступили, и проявилось бабкино – азербайджанское, жесткое и угловатое.
– Держись, Саня, – похлопала Оксана по руке и через полчаса уехала к директору просить за Санию. – Завтра выходи на работу, слышишь? Тебе ребенка кормить надо.
Потом Сания поехала в двенадцатый кабинет. Молоденький следователь, которому еще все интересно, смотрел на Санию изучающе.
– Ну, гражданка Соболева, рассказывайте, что случилось.
Сания покорно рассказала следователю. Все подробно. Ответила на все вопросы. Но следователь не верил, видно было. Знал про грешок Сании.
– Вы же, гражданка Соболева, не так давно освободились. И сидели по статье 115 в части 2. Два года.
– Да, гражданин начальник, – Сания сгорбилась. – Нанесение телесных повреждений с обстоятельствами. Освобождена досрочно. За хорошее поведение.
– Опять, наверное, приревновали сожителя своего? – усмехнулся следователь. – С чего бы он в петлю полез? Если, как вы говорите, все у вас хорошо было?
– Не знаю. Пришла, он висит. Я его любила, гражданин следователь.
Тут на Санию опять накатило. Придавило свинцом. Она завыла тоненько от бессилия.
– Любила я его! Любила! – она захлебывалась, комкая в руках белую в катышках акриловую шапочку. – Любила! Он же все знал про меня и замуж звал! И любил меня! И сына моего! А я, дура, все не верила ему…
– Ну, ну, Соболева! – следователь испугался, побежал к чайнику и, расплескивая воду, наполнил чашку. – Выпейте. Все утрясется. Вас же никто не обвиняет!
Сания пила, чашка била фаянсовым боком по зубам, вода выливалась на шапку и джинсы Сании.
После этого все прошло как в тумане: беганье по инстанциям, справки, договориться, решить, морг, похороны, поминки.
Свекровка не помогала, смотрела исподлобья с ненавистью и шипела «падла» и «жерножопая». Но из дома не гнала. Сания ходила на цыпочках, старалась не злить ее, лишь бы не выгнала.
После девятого дня Сания сдалась. Собрала в мятый чемодан пожитки и приготовилась уйти. Села у стола, дожидаясь сына из школы, руки на коленях – красные, натруженные. А перед глазами так и стоит записка: «Я сам». Дело следователь закрыл, сказал, не волнуйтесь, гражданка Соболева, нет состава преступления.
Сания провела рукой по облупленной клеенке. А на полу до сих пор видно пятно от мочи, чуть более светлое, чем краска вокруг. Что за жизнь такая… непутевая. Она полюбила – в тюрьму попала. Ее полюбил – умер. Только после его смерти она поняла, что всю жизнь одного Вовку и любила.
– Собралась? – в комнату вошла свекровка.
– Все одно выгонишь, – вздохнула Сания. – Ненавидишь ведь меня.
– И куда с пацаненком подашься?
Сания провела еще раз по клеенке, когда-то они покупали ее вместе с Вовкой.
– Оксана разрешила в бытовке пожить.
– Зимой? – свекровь хмыкнула. – Ну, ну… не жалко сына?
– Жалко, не жалко, жить негде, – Сания все смотрела на клеенку. Цветы поблекли, а были когда-то яркие и радостные.
– Вот чего, Сания, – свекровка первый раз назвала ее по имени, – оставайся. Вовка любил тебя. И сына твоего, – она вздохнула. – Мечтал все, что ты ему родишь. Не случилось.
Сания молчала и слушала. И плакала. Не стесняясь.
– У меня нет никого, – продолжила свекровь. – Что ж мы будем одно горе по разным углам мыкать. Расписаны, не расписаны вы были – не важно. Жили как муж с женой. Все одно семья. Вот и будем семьей жить.
Анька Бэмби
Добрая я и нежная.
И мужчин люблю.
И замуж хочу.
Периодически.
Когда ноготь там сломаю при починке карбюратора своей машины или перфоратором стену пробить не получается.
Да шучу.
Не только из-за этого замуж хочу. Нежности хочу и ласки.
И перфоратор тяжелый, мне его не удержать.
Хочу нежности и ласки. И готовить своему единственному и неповторимому. И кормить его. И сидеть, подперев щеку, и смотреть на него большими оленьими глазами. Глаза-то у меня, как у Бэмби. Любого до печенок продерут. Поэтому за очками обычно прячу. А то поймут не так…
Родители меня начали этим замужеством еще со школы прессовать. Замуж надо, замуж надо. Мальчика надо хорошего и из семьи хорошей. Ты, мол, сама не сильно умненькая, поэтому мальчика надо умного, чтобы детки нормальные получились. Мама особенно переживала:
– Эх, Анечка, всего-то богатства у тебя есть – это глаза. Красивые. Пользуйся.
Я ходила к зеркалу и смотрела на свои красивые глаза. Ну, в седьмом-то классе глаза как глаза, серые, обычные, ресницы только длинные и темные. Что совсем с моими блеклыми русыми волосами не сочеталось, по-моему.
Пыталась я было пользоваться богатством своим, глазами, значит, только вот как – не знала. Моргала усиленно мальчикам. А они не понимали, думали, что соринка в глаз попала, советовали к врачу сходить.
Потом-то, после школы, в техникуме, я подсмотрела, как другие девчонки глазами своими пользуются – стреляют. По мальчишкам, прицельно. И самые нестойкие быстро попадаются на это. А у меня не получалось. Стеснялась я.
Так замуж и не вышла, когда все выскакивали. Стеснялась. Замуж-то надо выходить рано, пока дурочка. А потом сложно уже. Подрастешь, разберешься, посмотришь, как подруги уже через год-два разводиться начинают и с детками оставаться, так и точно замуж не захочешь. Мужья их бывшие снова на дурочках женятся. А этих, поумневших, замуж не берут.
Вот и маются девки-разведенки. И еще и меня жалеют. Ты-то, мол, замужем не была и ничего в жизни не понимаешь.
А чего понимать? Все ведь просто. Я хочу, чтоб меня любили и я любила. Уважали меня. Не только как женщину, но и как человека.
Вот откуда это у меня взялось? Не знаю. Но только как чувствую, что меня не уважают как человека или пренебрежительно высказываются обо мне и моих умственных способностях, – зверею просто.
– Ах, – обычно говорят, – Анечка, какие у тебя глазки красивые, с такими глазками и мозги не нужны!
Они-то думают, что комплимент мне отвесили, а на самом деле – оскорбили.
Почему, не знаю. Просто чувствую. Прямо так и говорю мужчине об этом.
– Обидел ты меня, – и строго смотрю своими оленьими глазами прямо в душу человеку, – сильно обидел. Я, конечно, может, и не Эйнштейн, но не дура. Нельзя так с женщиной.
Обычно мужчина пугается моих высоких требований к уважению и пропадает.
Так и дожила я одна до сорокалетия. Ну и ничего, неплохо дожила. Осталась и стройная, и красивая. И глаза хуже не стали. Не выгляжу на свои сорок. Застыла где-то в районе тридцати с хвостиком.
– Это, – подруги мне говорят, – ты, Анька, такая, потому что детей нет и мужа! – И сердито на меня глядят, словно это я виновата, что они замуж вышли и в боях семейной жизни всю красоту порастеряли.
Ну ладно, не сержусь я на них. Тяжело им, действительно. Бьются, бьются всю жизнь: то дети болеют, то мужик гуляет, а то и бьет. Не до красоты тут.
И все чаще слышу от мужчин теперь пренебрежительное, что, мол, в сорок лет – уже и не баба даже, а бабушка. Ну, бабушка это ласково, а бывает и хуже. Бывает и так:
– Замуж, – говорят, – поздно, а сдохнуть еще рано!
И вот ровно на этом месте просыпается во мне неукротимый дух моей прабабки Пелагеи Ивановны. Это я недавно выяснила, в кого я такая уважительная к себе женщина. В прабабку!
Читала я исторический роман и задумалась, что о своих предках не знаю ничего. Вот и стала выяснять. Выяснила.
Пелагея Ивановна неудачно родилась при царском режиме. Ну, точнее, удачно, так как родилась она в семье обеспеченной. Купеческой. А неудачно, потому как настала революция. И вся обеспеченность закончилась.
Прабабка осталась одна с детьми. Мужа убили как врага. Детей сиротами оставили. И все заботы о детях легли на плечи Пелагеи Ивановны. Собрала она все свои украшения и поехала в город менять на продукты. Наменяла, удачно. Мешков несколько. Недаром купчиха была.
Сговорилась, что мешки поможет за мзду продуктами же привезти на телеге сосед мельник. Большущий мужик, на медведя похож. Сильный. Думала Пелагея Ивановна, что с таким безопасно будет в такое неспокойное время. Ехали не шибко быстро, но тряско. Видимо, от тряски мозги, а может, другие части тела соседу и растрясло. И он решил мзду за доставку продуктов не мукой взять, а натурально телом моей прабабки. Или, говорит, убью тебя и продукты все себе заберу, или ноги раздвигай и радуйся мне, такому мужику знатному! И нож к горлу приставил.
Пелагея представила, как ее четверо деток с голода пухнут и умирают один за другим, зубы сжала и ноги раздвинула. Перетерпела, значит, насилие, за ради деток своих.
Домой приехала, продукты разгрузила. Детей накормила. Уложила. Взяла нож и к соседу пришла.
– А, Пелагея, – говорит сосед, – понравилось тебе, раз снова пришла. Только не обессудь, старуха ты. Уже тридцать тебе. Уходи.
Пелагея Ивановна и сама себя немолодой считала. Но унижение не стерпела. Ткнула его припасенным ножом и убила. И за насилие над собой, и за унижение.
Я, конечно, на такое не способна. Не то время, чтоб ножами размахивать. Слабы мы душевно – обидчикам кровь пускать. Но простить не могу. Уважительная я к себе женщина.
Не случилось
Он нервничал. Нервничал с самого утра. Под правым глазом дергалась жилка, и это тоже раздражало. Чтобы успокоиться, он прижимал жилку пальцем, и она на какой-то момент останавливалась. Вспоминал про правильное дыхание, пытался вздохнуть пару раз, но тут же сбивался и от этого начинал злиться. Это, конечно, деловая встреча, но… возможно и нет. Возможно, все повернется иначе, и жизнь измениться.
Накануне он купил краску. Долго и придирчиво выбирал цвет, доведя до нервного срыва молоденькую продавщицу. Все никак не решаясь купить и бесконечно сравнивая разных производителей и оттенки. Иногда просто замирая и смотря на разноцветные коробочки, не видя ни цвета, ни текста на них. Продавщице было отчаянно скучно, и она этого не скрывала. Вздыхала, и выразительно закатывала глаза, когда мимо проходили ее товарки. Переминалась с ноги на ногу и осуждающе смотрела на него с одним вопросом в глазах «Ну?».
Раз в год он покупал один тюбик краски, и ее хватало на три раза. На три важных события. На выставку. Поход в гости к родителям жены, где тесть все время поджимал губы, глядя на зятя, который старше его на несколько лет. И ресторан, в свой день рождения. Он всегда покупал один и тот же тон, уже много лет.
Встреча. Он долго репетировал речь, нервничая и ругая свое косноязычие. Встреча, деловая, но…
Да почему бы и нет! Он еще молод! Все сверстницы уже давно стали бабушками. Смешно вспомнить эту старушку, которая пятнадцать лет назад клеилась к нему, когда он только развелся. Старушка была счетоводом в дачном кооперативе, где он когда-то покупал дачу. Счетовод – слово-то какое древнее! Как и она сама.
Месяц назад, уйдя от третьей жены, он решил снова купить дачу в том же кооперативе. И зашел к ней. Она все еще трудилась на том же месте. Сидела на дощатой, продуваемой веранде, пила чай из треснутой кружки. Клеенка с загибающимися краями и ярким когда-то рисунком. Хлам, распиханный по углам, ведра, резиновые сапоги, грязные коврики. Детские линялые игрушки, рассаженные чинно по окнам. И она – вся сморщенная, растрепанная. И руки – артритные и плохо отмытые. Грязь под обломанными ногтями.
Обрадовалась. Зажевала губами, вспоминая его, и себя. Странно – вся сморщенная, а губы пухлые, молодые, совсем девичьи. Он уже пожалел, что пришел.
– Снова к нам? – обрадовалась она. – Опять развелись?
– Да, – хмыкнул он, заметя, что она посмотрела на него игриво, и опять пожевала губами. – Есть на продажу домики?
– Есть, – она с кряхтением достала с полки журналы.
Журналы были чистые, аккуратно расчерченные. Она, слюнявя пальцы, перелистывала страницы, где округлым почерком было расписано – фамилии, взносы, даты и долги. Перелистывание доставляло ей удовольствие. Она погрузилась в это занятие, знакомое, много раз проделанное и приносящее ощущение важности и нужности.
Он смотрел, как шевелятся ее пухлые губы, читающие про себя фамилии, и отчаянно жалел, что зашел. Когда через полчаса, когда он вырвался от предложенного спитого чая, грязноватой кружки и вздохов, что мол, моложе-то мы не становимся, он точно решил, что дача ему не нужна.
Всю дорогу домой, он не мог избавиться от запаха нафталина. Казалось, все пахнет этой старомодной гадостью, ни кондиционер, ни проветривание не спасало. Вся машина воняла нафталином. Бог мой, и они ровесники!
После этого он пошел покупать не запланированную краску для волос. Для встречи…
* * *
Ей было интересно с ним. Разбирается в искусстве, общительный и открытый. И ненавязчивый. Хотя иногда слишком многословный. Стараясь донести какую-то мысль, он повторялся, начинал объяснять с другой стороны, сбивался и снова объяснял. Но это не страшно.
На самой первой встрече для обсуждения нового проекта, в маленьком кафе, он вдруг свернул в ту область, какую бы ей не хотелось затрагивать. Вопрос прозвучал участливо, и действительно по-доброму, даже по-родственному, ей так показалось. Почему она не замужем?
Дурацкий вопрос. Все считают своим долгом спросить об этом при знакомстве. Обычно он звучит с едва сдерживаемым любопытством. И она отвечала или резко или какой-нибудь банальной фразой, стараясь отбить все последующие поползновения в это область.
Но ему доверилась, и ответила честно – страшно. Слишком много предательства было в ее жизни.
И после последнее… Она вздохнула, нет, нет, до сих пор тяжело вспоминать. Тогда она позволила себе, наконец, полюбить. И если не получиться, закрыть этот вопрос для себя навсегда. В конце концов, есть много прекрасных дел, кроме этой любви, черт возьми. Не сошелся мир клином на этом обожествляемом занятии. Она закрыла глаза и прыгнула в эту последнюю любовь, как в холодную воду.
Так в детстве, летом, страшно хочется купаться, но холод со дна Камы поднимается по ногам мурашками, ты съеживаешься и никак не можешь окунуться. Стоишь, по щиколотки в воде, смотришь на песок, свои ноги, шевелишь пальцами, чувствуя песок и мелкие камушки на дне. Все уже визжат и плещутся, а ты не можешь решиться на этот шаг. И чувствуешь себя одиноким, среди этой радостной возни.
– Ну же! – кричит подруга и, зачерпывая полные ладони воды, обливает тебя.
Ты пятишься и с ужасом смотришь, как маленькие переливающиеся ледяные шарики воды летят к тебе как в замедленной съемке и впиваются в разжаренное тело как расплавленный свинец. Надо решаться! Для этого придумана считалка «Баба сеяла горох», где на каждый слог надо чуть-чуть приседать на обжигающе холодную воду:
– Ба-ба се-я-ла, – сначала приседаешь по миллиметру, внутри от каждого приседания, перехватывает дыхание, но каждый миллиметр кожи, окунувшись, второй раз, уже вопит от радости и полученной долгожданной прохлады, – и ска-за-ла ба-ба, – и тут самое страшное, – ОХ!
В этот момент надо окунуться полностью. И этот протяжный «ОХ» утробно вырывается из тебя и летит над всем гомоном. Ужас, восторг, блаженство. Всего миг, и ты присоединяешься к остальным. Через мгновение забываешь о всех переживаниях, и плещешься до синих губ и стучащих от холода зубов.
– Он был женатым? – жестко даже не спросил, а уточнил.
– Да, – она закусила губу и призналась в этом, словно в преступлении и сразу пожалела о рассказанном.
Тон его разговора сменился и стал снисходительно-покровительственным. Она это заметила не сразу, просто что-то стало цеплять, царапать, отвлекая от приятного общения. А вечером, вспоминая разговор, она поняла, что допустив откровение, с малознакомым, в общем-то, человеком, опять нарушила свое правило – не рассказывать о себе. Не подставляться.
От него стали приходить электронные письма, немного слишком вежливые, с полным докладом о прошедшем дне, с планами и переживаниями. Длинные, не на одну страницу, размышления о жизни и стихи. Свои он присылал, стесняясь, но сравнивая их со стихами известных поэтов. Она читала, хвалила. Но стихи не любила. В длинных размышлениях рассказывал о женщинах своей жизни, женах, возлюбленных. Это тоже царапало. Зачем? У них общий проект, – возможно. У них дружеские отношения, – возможно. Зачем ей знать обо всех этих женщинах? Обо всех посвященных им стихах? Для нее это просто тени. Целая вереница теней, вдруг наводнивших ее жизнь. Чужие, не интересные ей, и как бы за ней подглядывающие.
* * *
Он давно никому не писал. А тут, вдруг накрыло. Хотелось описать весь свой день в мелочах. Что скверно себя чувствует, что температура никак не снижается. Что купил ингалятор и приходится пить антибиотики. Про сырую и холодную весну. Про ее таинственные глаза и улыбку. Про любовь. Это будоражило его. И заставляло рисковать. Изменился стиль вождения машины. Резкие повороты и быстрые перестроения из ряда в ряд на дороге. Возмущенные взгляды водителей приносили ему яркую пузырящуюся радость. Появилась пружинистая походка, и снисходительный взгляд на молодых, слишком самоуверенных, но, в сущности, еще ничего не понимающих в жизни и в любви.
Он составил план, что надо сделать в ближайшее время – развестись с женой и разделить имущество. Да, придется повозиться, у нее остается ребенок, но надо бороться. Поработал над проектом, тщательно разработал план действий. Что надо сделать ему, а что… думая об этом он улыбался.
Там была любовь? Плевать. Не беда. Любовь проходит, и уходит и бывает больно. Любовь – беда только для неудачников. Придет новая любовь, еще более светлая и чистая. Еще более содержательная и яркая. Кто-то из великих сказал: кто не любит, тот болен!
Да, и надо позвонить врачу, кашель не проходит уже вечность.
В воспоминаниях стали появляться все те, с кем он был счастлив. Они улыбались, радуясь его новой, будущей любви. Он вспоминал ошибки, которые совершил с ними, и клялся, что исправит их. Что не будет заставлять ревновать, как вторую жену. Что будет внимателен, и не пропустит, как у первой, тот страшный момент, когда он станет ей безразличен. Он будет внимательным и галантным. И он писал ей, писал письма, делясь своими воспоминаниями. И посылал стихи, которые он когда-то сочинял для тех, с кем был счастлив. И писал ей, уже новые стихи. Он мудр и опытен, это многое значит.
В одном из писем, он рассказал ей и о своей прошлой работе. Которую сейчас, скорее осуждают, чем понимают ее настоящую ценность. Она, конечно, тоже. Еще слишком молода, для понимания этого. Но… но если правильно объяснить, то можно быть в ее глазах героем.
Он долго думал, и все же написал, скрупулезно перечисляя все свои доходы, – пенсия, зарплата за председательство в кооперативном доме, и еще разовые работы, но тоже приносящие ощутимый доход. По нынешним меркам, он вполне обеспеченный человек. Правда, он сильно потеряет при разделе жилплощади с бывшей женой. И еще алименты. Есть о чем поразмыслить на досуге. Но он еще молод и полон сил! Заработает.
По ночам стал вскакивать, к нему приходили стихи, как в юности. Будоражили и не давали заснуть. В итоге поставил рядом с кроватью табурет, чтобы перестать мотаться от кровати к столу. Это смешило и раздражало одновременно. Писать стихи – это, конечно, молодость, задор, но не высыпаться уже сложно в этом возрасте. Под глазами от бессонных ночей мешки, и это не добавляет привлекательности.
* * *
С утра, он встал и критически посмотрел на себя.
– Мешки под глазами – верный спутник поэта! – громко объявил зеркалу.
Вздохнул и пошел к морозилке за льдом. Контрастное умывание решило проблемы. Щеки порозовели, мешки почти сгладились. Тщательно выбрился и почистил зубы. Повертелся перед зеркалом. Внимательно осмотрел себя. И достал краску.
Решено. Сегодня незапланированное окрашивание. Еще раз перечитал инструкцию, хотя и так знал, что с чем смешивать и в каких пропорциях. Смешал в пластиковой мисочке, специальной парикмахерской щеткой. И старательно разделяя жидкие волосы на пряди расческой стал наносить краску. Главное, не забыть, что держать ее надо меньше, чем указано в инструкции, что бы цвет был естественный. С голубой шуршащей шапочкой для душа он смотрелся смешно.
Но, возможно, любящей женщине, это показалось бы милым. Он вздохнул и открыл шкаф. Надо подобрать, в чем же он пойдет на встречу. Конечно же, он уже выбрал накануне, но вдруг, на сегодняшний взгляд, не подойдет? Приложил выбранную вчера рубашку к себе, критически посмотрел на себя в зеркало. Даже с купальной шапочкой на голове неплохо. Даже с шапочкой. Посмотрел на часы. Приложил еще одну рубашку и раздраженно отбросил.
Смыл краску, напевая про себя, высушил волосы полотенцем. Еще раз посмотрел на себя. Прополоскал рот с мятным ополаскивателем. Поводил языком по зубам, проверяя чистоту. Один зуб ощутимо шатался. Надо идти к протезисту. Опять расходы. Выбрился еще раз, и протерся лосьоном. Удовлетворенно похлопал себя по выскобленным щекам и вздохнул. Как все же это утомительно, – в его-то возрасте такие ухищрения.
Посмотрел на часы и понял, что опаздывает. Как некстати! Позвонил предупредить.
Она посмотрела на звонящий телефон с раздражением. Звонил он. Господи, хоть бы перенес встречу! И зачем она так старательно подбирает наряд? Это дико злит. Джинсы и рубашка – привычный и комфортный вариант. А тут затеялась с платьем! Она откинула платье, юбку и брюки, осталась в одних трусах и ответила на звонок.
– Я опаздываю, минут на пять! Не сердитесь на меня! – он виновато басил, срываясь на шепот.
Ей, представилось, что он стоит в цветочном магазине и выбирает цветы для встречи. Хотелось, сказать, – давайте перенесем, я не в настроении. Но она поджала губы, критически посмотрела на себя в зеркало, вздохнула. Представила, как берет ее за руку и невольно дернулась.
– Не волнуйтесь, – любезно ответила она в телефон, – я тоже чуть-чуть задержусь. До встречи! – зачем-то добавила она и раздраженно швырнула телефон на диван.
В голову полезли дурацкие мысли про возраст, про то, что он, в принципе, неплохой человек, и может быть… может быть это вариант. Но она тут же одернула себя, что встреча рабочая и он старше ее на двадцать с лишним лет. Перед глазами возникла сцена знакомства с папой, его ровесником.
– Господи, о чем я думаю! – она приложила к себе платье и его бросила на диван. – Брюки, это максимум. Никаких платьев. Это по работе. Какая разница, как я выгляжу, не замуж собралась!
Посмотрела на часы. Еще пять минут можно быть дома! Подкрасила глаза. Взяла ключи, крикнула в пустую квартиру «Я скоро!» и захлопнула дверь.
Посмотрела на часы. Опаздываю. Это разозлило еще больше. Зачем мне все это?
Встретиться договорились в парке, у фонтана. Она торопливо шла между гуляющими. Высматривала его фигуру рядом в условленном месте. Его не было. Она растеряно остановилась, еще раз осмотрелась. Рядом стояла парочка, тесно прижавшись друг к другу. В такую-то жару, с досадой подумала она. И две молодые мамаши с колясками, увлеченно обсуждающие детское питание.
– Фу, – выдохнула, – его нет, можно сбежать.
Он сидел в тени, на лавочке, рядом с фонтаном. Она шла, щурилась, высматривая его. Красивая. Наверное, надо было купить цветы, запоздало подумал. Но неудобно, цветы это сразу намек на свидание. Хотел встать, но резко закололо в боку. Помахал рукой.
Увидела. Улыбнулась, растеряно и слабо.
Она уже хотела развернуться и сбежать, но тут увидела его. Вздохнула. Попыталась улыбнуться. Он сидел на скамейке, вокруг бегали чужие дети. Он был похож на дедушку, гуляющего с внуком. Она осторожно присела рядом. Он смотрел на нее, широко и вопросительно улыбался. Молча снял свою квадратную не модную фуражку. И вопросительно посмотрел на нее. Идеально выбритые щеки блестели на солнце. Он чего-то ждал. Она никак не могла понять – чего.
– Я покрасился! – он преподнес это, как подарок.
– Зачем? – оторопело спросила она, спохватилась и добавила. – Благородная седина украшает.
– Я крашусь три раза в год, – он пояснил, не слыша ее ответ. – Только по очень важным случаям, – он опять вопросительно посмотрел на нее. – И…
Она испугалась и сказала:
– Не надо было. Седина это красиво, – стараясь не смотреть на него, сказала она.
– Прежде чем мы перейдем к обсуждению, мне надо решить один вопрос. В процессе размышления о возможном сотрудничестве у меня возникли сомнения.
– В чем? – она быстро взглянула на него.
– Вам надо решить, как будут строиться наши отношения в дальнейшем, – от ее нерешительности у него добавилось уверенности, голос вернул свою силу. – Как у мужчины и женщины? Или как у партнеров?
Она немного судорожно вздохнула, подавив желание сбежать прямо сейчас, не объясняя ничего. Он требовательно смотрел на нее, ожидая ответа.
– Я не готова вам ответить, – промямлила она, сжимая сумку. – Мы же хотели обсудить проект.
Он быстро посмотрел на часы.
– В таком случае, – он недовольно перебил ее, – я хотел бы узнать ваше отчество. Партнерам неприлично общаться просто по имени. И мы опаздываем на открытие выставки.
– Отчество? – удивилась она. – Владимировна. Знаете, – она решительно встала, больше не в силах находится рядом с ним, – к сожалению, мне надо идти, у меня возникли проблемы с… бабушкой.
Он посмотрел на нее, удивившись. Все было хорошо, какие проблемы?
– Проблемы? А как же выставка, мы же собирались! Нас ждут.
– Нет, нет, мне пора. Извините.
Он остался сидеть на скамейке, не понимая, почему она сбежала. Недоумевая, он гулял по выставке, рассеяно кивая знакомым, не видя картин. И никак не мог понять, что пошло не так. Чувствовал себя разбитым, опустошенным. Вечером решительно сел к компьютеру и написал письмо. Нейтральное. Про выставку, что ее можно посмотреть на сайте, но вживую интереснее. Что чувствует себя одиноким и брошенным. Что надо заняться зубами.
Она, доехав до дома, постояла перед ним, развернулась и пошла бродить в куда глаза глядят. Ходила часа два, пытаясь справиться с дикой тоской, накатившей на нее. Чувствовала себя морально раздавленной. Вздыхала и теребила ручку сумки. Придя домой, прочитала его письмо. Заставила написать ответное. Неужели он не понимает? Разве можно об этом спрашивать? Она что – доступная женщина?
Если женщина нравиться, за ней ухаживают. А не просят «принять решение о форме общения» на второй встрече! Сначала он заваливает ее рассказами о своих женах и любовницах, а потом, что – ждет, что она броситься к нему на шею с криком «Я ваша на веки?». Посидела, ломая пальцы, глядя на клавиатуру, стерла письмо и написала другое. Нейтральное.
Он прочитал ее письмо. Очень вежливое, с тщательно подобранными словами. И не ответил. Злился. За то, что был отвергнут, как мужчина. Злился, несколько дней. Но через неделю, проснулся утром, с чувством холодного равнодушия. Любовь – беда только для неудачников
Американские горки
Ее отношения с Лузиным напоминали американские горки. Они могли не общаться и месяц, и два, потом, вдруг соскучившись, звонили, говорили, писали и думали друг о друге. Но стоило им встретиться, начинались проблемы.
А начиналось, все как обычно. Они встретились, Лузин был очарован ее красотой и умом, он любил умных женщин, которые не бравировали этим, а были просты в общении. Он был готов кричать на весь мир, что нашел ее, ту, которую искал всю жизнь. А она – она просто влюбилась. Все как всегда и, может быть как у всех. Она начала строить планы и представлять себе, как они будут жить вместе, как обиходить его и его дом.
Но, как у всех, даже в момент самых прекрасных отношений бывают ссоры, и в первую ссору она поняла, что сильнее его. И открытие ей это не понравилось. Ведь она мечтала быть рядом с сильным мужчиной, скрыться за его спиной от житейских бурь, быть рядом, быть слабой. Он это тоже понял. И стал мстить. Точнее, он не отдавал себе отчета, что мстит, он просто стал ее ломать, доказывая себе, что он мужик. Лузин стал груб в постели и постоянно стал сравнивать ее с другой. Так в их отношениях появилась третья. Точнее, ее тень. Бороться с тенью было бессмысленно, и она сама отошла в тень. Она просто ушла из отношений. Пока Лузин боролся со своими страхами и тенями, она просто была рядом. Но уже как сестра. Заботилась, прибиралась, звонила, но перестала быть его женщиной. Когда он вспоминал о ней, он злился, звонил и требовал:
– Или ты выходишь за меня замуж, или проваливай. Все. Знать тебя не желаю!
– Не надо так. Я тебе не нужна, ты меня…
Гудки. Лузин бросал трубку, не дослушав. Это бесило ее, и в тоже время она его жалела. Странные отношения. Что ее держало рядом с ним? Она не понимала.
Через какое-то время Лузин успокоился, покаялся, и снова забрезжила надежда, что может все наладиться. То и дело стала появляться мысль, что, может быть, стоит выйти замуж, ведь он хороший и добрый. Хотя разум насмешливо говорил ей: «Конечно, конечно. Он точно изменился. Истерик больше не будет. Он стал сильным, он будет твоей опорой, он сможет защитить тебя. Веришь?»
Она старалась не слушать, ехала к нему, летела на крыльях, веря, что все изменилось. Они проводили чудный вечер, а на следующий день он говорил ей нечто такое, что выбивало из ее головы всю дурь по поводу возможности отношений. Все. Нет. Никаких отношений с ним, зачем ей это? Зачем мужчина, который хамит, унижает и мстит ей за свою слабость? Потом злость проходила. Она успокаивалась и начинала жить своей жизнью. И тут звонил Лузин, рассказывал, как ему плохо, как он одинок, как болит сердце, и они снова начинали общаться. Через какое-то время начинала появляться мысль, что может…
Так повторилось уже раза три или четыре, она сбилась со счета. В душе все выгорело дотла. Осталось только сожаление о несбывшемся и какое то странное чувство к Лузину как к неразумному ребенку, который не знает, что творит. Она продолжала заботиться о нем, договаривалась с врачами, ездила с ним в госпиталь.
– Ты, именно та женщина, которая мне нужна. И ты будешь моей. Ты выйдешь за меня замуж, – сказал Лузин, когда они сидели в парке госпиталя. Он сказал это очень уверенно и властно.
– Я не сошла с ума, что бы выходить за тебя замуж. Нет. И не надейся. Все, пошли, завтра нам к кардиологу.
Так прошло еще полгода. Они встречались, ругались, мирились, опять ругались и опять мирились, пока он не написал «Приезжай». Она приехала, они болтали, пили чай. И он поцеловал ее.
Она ехала домой и улыбалась, ощущая себя любимой и счастливой женщиной. Приехав, написала ему письмо по электронке, а вспомнив еще что-то, написала еще одно. Продолжая внутренне улыбаться, посидела у компьютера, ожидая ответа. А в голове всплыл, когда-то прочитанный кодекс самураев – «Настоящий самурай, после свидания, обязательно напишет письмо возлюбленной и отошлет со слугой, он знает, что она ждет». И она ждала. На следующий день она позвонила, чтобы просто услышать его голос.
– Абонент вне зоны обслуживания, – сообщил приятный женский голос. Она звонила еще, и еще, уговаривая себя, что он спит, у него выходной. Потом она стала просто ждать. Через двое суток, пришла смс «Данный абонент в сети». Она прочла, и отложила телефон.
Через неделю позвонил Лузин.
– Я был не прав, прости меня. Я не был готов, что все вернулось.
Она молчала.
– Ты слышишь меня? У меня болит все, я не знаю уже, какие таблетки пить, мне плохо. Давление скачет и сердце, сердце все время давит.
– Знаешь, Лузин, – медленно начала она, очень тщательно подбирая слова. Как передать, что она чувствует, что она пережила за эти четыре года, за эту неделю, как это рассказать? – Знаешь, Лузин, иди на хуй. – и повесила трубку.
Лузин все понял. Он стал звонить ей каждый день, встречать у работы и, не смотря на ее молчаливую забастовку, продолжал быть рядом каждый день. Через месяц таких ухаживаний она сдалась, начала с ним разговаривать, и даже согласилась сходить в кафе. Лузин в кафе блистал эрудицией, смеялся, сыпал шутками, был в таком настроение, что она не устояла перед его обаянием. И улыбнулась, сначала не смело, а потом начала смеяться. В этот вечер как будто растаяла ее обида, и она поняла, что все равно его любит. Давно они так не смеялись, давно не было такого ощущения друг друга как одного целого. И сердце невольно сжималось в предвкушении чего-то большего, лучшего и замечательного, что скоро будет.
Когда Лузин, в конце вечера, помогал одевать ей пальто, он уткнулся в ее волосы, поцеловал в ухо, и прошептал: «Ты выйдешь за меня замуж?». По ее счастливому лицу, было все понятно – да она выйдет за него замуж.
Она стала готовиться к свадьбе. Но что-то все равно грызло внутри, маленький червяк сомнения, четыре года его безразличия не давали покоя. Выбирая приглашения на свадьбу, она подумала, что зайдет сегодня к Ленке, отнесет приглашение, и поговорит с ней.
Ленка, как всегда, очень быстро оценила ситуацию:
– Ты, подруга, идиотка, если все-таки собираешься за него замуж. Можешь мне это приглашение не оставлять. И свидетельницей я у тебя не буду, и на свадьбу не пойду. Точнее, не на свадьбу, а на твои похороны. Смотреть, как ты хоронишь сама себя, извини, не хочу.
С Ленкой и спорить бесполезно, и слушать ее не хотелось.
– Как, хочешь, я все равно за него выйду.
– Жаловаться только потом не приходи, дорогая. Ровно через год, он высосет из тебя все силы, и выкинет. Будешь ему варить, стирать, – что от тебя, умной и красивой останется? Нет, не выкинет тебя, будешь ему просто законная прислуга.
Ленка на свадьбу не пришла. Свадьба была скромная, он настоял. Друзей и родни почти не было, платья тоже. Точнее, не было ни кого. Они просто расписались, и она переехала к нему жить. Хотя ей было это очень неудобно. Приходилось далеко мотаться на работу, на дорогу уходило почти все свободное время, оставалось только приехать прибрать, приготовить, вымыть посуду и упасть спать.
Спали они в отдельных комнатах, он сказал, что так будет удобнее, ты устаешь, тебе надо высыпаться. Все выходные проходили в уборке, потому что он просто не замечал, как создавал вокруг себя полный развал. Все было в сигаретном пепле, везде валялись пивные бутылки, грязные носки, кружки с недопитым чаем, сахар хрустел на полу. Она боролась с этим, стараясь придать уют этой квартире, готовила, убирала, стирала, убирала, стирала, но ни чего не менялось. Они жили в разных комнатах, почти не замечая друг друга, он все время за компьютером, она на работе или в уборке. Секса не было. Совсем. «Я устал, не сегодня», – обычно он говорил так. В последнее время, просто убирал ее руку и отворачивался.
– Ну, что подруга, – позвонила Ленка, – сегодня год, как ты продала себя в рабство. Ты счастлива? Поздравлять я тебя не буду, не с чем. Разве что с твоим упертым идиотизмом. Он хоть поздравил?
– Нет. Вечером наверно.
– Дура. Приезжай лучше ко мне, посидим, поболтаем. Ты хоть заметила, что ты у меня не была больше года?
– Нет, я сегодня сразу домой, он ждет. Все-таки, праздник.
– Дура непроходимая.
Дома Лузина не было. Был пепел и сахар под ногами. Лузина – нет. Она не утерпела и позвонила ему:
– Ты скоро будешь?
– Нет, а чего надо? Мы с друзьями пиво пьем.
– С друзьями? Лузин, у тебя нет друзей. О чем ты говоришь? – и бросила трубку.
Все это все было невозможно терпеть, она разрыдалась «Я не хочу… я не хочу замуж, я не хочу замуж» – она рыдала уже во весь голос. И проснулась.
Господи, это сон… это только сон. Она долго не могла прийти в себя, походила по своей квартире, трогая все рукой, проверяя, что это действительно был только сон. Нет, все родное и знакомое, ее квартира. Это сон. Она заварила чай и посмотрела на будильник, пять утра. Спать ложиться бесполезно, скоро вставать.
Через неделю позвонил Лузин.
– Я был не прав, прости меня. Я не был готов, что все вернулось.
Она молчала.
Малахольная
Люська с самого рождения была малахольной. В детстве она могла по несколько дней не разговаривать. Просто сидела, смотрела и все. Думала о чем-то.
Хотя о чем может думать маленький ребенок? В пять-то лет? О куклах? О бантиках? В этом возрасте ребенок должен жить лихорадочно-познавательной жизнью. Ссориться, дружить, в куклы играть, божьих коровок ловить и венки плести.
Ах да, еще секретики закапывать. Это такое детское развлечение, оно четко делит на своих и чужих. На тех, кому можно доверить большие тайны, и тех, кому нет.
С ранней весны начиналось делание секретиков. Искались подходящие стеклышки, места и богатства. По дороге в садик девчонки висли на руках у матерей, становились невменяемыми поисковыми приспособлениями. Обшаривали воспаленными от напряжения глазами затоптанные газоны и заплеванный асфальт в поисках чего-то, чем можно с гордостью утереть нос подругам.
Технология секретиков была отработана веками садиковской жизни. Сначала надо было насобирать все красивое и желательно блестящее: стеклышки, фантики, беспечные ярко-желтые головки одуванчиков. И если повезет – монетки. А если уж совсем повезет, то и настоящее богатство – потерянную какой-то растеряхой бижутерию. Потом надо выкопать маленькую ямку в секретном месте, о котором нельзя говорить. Красиво разложить в ямке добытые богатства: цветочек, фантик, монетку или сломанную сережку, накрыть все цветным стеклышком и присыпать. Протереть послюнявленным пальцем стекло от грязи и насыпавшейся земли. Если мать не забыла положить в кармашек платья, то еще и батистовым платочком с кружевами навести окончательный блеск на стеклышко и запихнуть измазанный и смятый платок в карман.
Девчонки в садике бегали, делились на группы по дружественности и, позвякивая в кармашках платьев богатствами, с загадочными лицами ходили в запрещенные места.
Ольга Васильевна, воспитательница, ловила мелких партизан в кустах у забора, ругала, отбирала богатства и ставила в угол. Пока она отлавливала одних, другие пользовались оказией и закапывали свои секретики.
Потом водили подружек по одной и показывали. Не всех. А только самых-самых.
Люську не водили.
Она все время была одна. Сидела, отвернувшись от всей группы, и смотрела в окно. И думала. Вообще-то, думать ей не полагалось, потому что Люську все считали дурой.
Мать Люську не любила за молчание. А отец жалел. И иногда подозревал, что Люська очень похожа на его малахольного брата – поэта. Но жене не говорил. Жена его брата не любила. Женщина она была простая, ей всегда было что сказать и чем поделиться с ближним. А молчание – настораживает. Черт знает, о чем думает эта Люська, глядя на тебя. Уж точно ни о чем хорошем. Хорошее-то всегда можно сказать матери.
Старший Люськин брат, Вовка, получился лучше. Мать так считала. Потому что был похож на нее, простой и понятный. И всю любовь свою материнскую она дарила Вовке. Он понимал, что его любят больше, и пользовался этим без зазрения совести. Пакостил и ябедничал на Люську. А мать била Люську с полным ощущением исполненного материнского долга.
Люська не жаловалась. Понимала, что она какая-то неправильная. Не такая, как все остальные дети. И замолкала на недели.
В школе училась трудно. Не могла отвечать у доски. Но блестяще писала все письменные работы. Классная, выбрав подходящий техникум для Люськи, с чистой душой выпихнула ее из школы после восьмого класса.
В техникуме Люське понравилось. Она приехала в Моршанск и легко поступила в библиотечный. Дали комнату в общежитии, четыре койки. Девочки подобрались тихие, Люську не обижали. И она даже научилась улыбаться.
Книги заняли все ее время. Она пристрастилась читать. Была б ее воля, она бы и поселилась в библиотеке. Жила б среди книг, не разговаривая ни с кем. С книгами общаться было легче. Они понимали. И молчали. Люська ходила между полок, гладила любимые корешки тонкими бледными пальчиками и была счастлива.
Даже смерть брата в Афганистане не задела ее. Она написала матери сочувственное отстраненное письмо и почти сразу забыла об этом.
Мать прочитала Люськино письмо, порвала его на мелкие клочки. Долго молчала, а потом прокляла ее, тихо и буднично:
– Ноги ее в доме не будет, пока я жива, – сказала посеревшими губами.
А потом всю ночь тихо выла, поминая Вовку.
Отец писал Люське коротенькие письма и просил ответы слать на рабочий адрес. Люська не удивилась. Писала, тоже коротко, что все хорошо. Учиться нравится и девочки хорошие.
Распределили Люську в родной город. Отец писал, что обязательно что-нибудь придумает, мать все повторяет, что в дом ее не пустит, придушит прямо на пороге. Люську это не трогало. Было бы где жить и мать не видеть. Только быть среди книг, это все, что Люське было надо.
Отец встретил ее на вокзале после выпускных экзаменов и повез в захудалый НИИ.
– Будешь подрабатывать ночным сторожем. За это тебе комнату дадут. А там придумаем. С матерью я поговорю, – виновато пообещал отец Люське.
В НИИ было хорошо. Такие же тихие, как Люська, сотрудники что-то исследовали и не мешали Люське жить. По вечерам, после работы в районной библиотеке, Люська приходила в НИИ, готовила из полуфабрикатов ужин и садилась читать. Когда жизнь в НИИ замирала, она выходила на обход, но обычно дальше библиотеки не ходила. Приводила в порядок истрепанные книги по тематике НИИ. Художественной литературы в библиотеке почти не было. Но Люську это не смущало. Она ко всем книгам относилась трепетно. Гладила корешки и разговаривала. Книги ей отвечали. Каждая книга имела свой голос. Прикладная математика прокуренно басила. Стихи для детей немного фальшиво писклявили, словно взрослый пытался разговаривать ребенком. Но книги были честными с Люськой.
Хоть до работы и было далековато, Люська старалась ходить пешком. Ездить в автобусе, среди горластых и пахучих людей, было невыносимо. Но в этот раз не получилось пройтись пешком. К вечеру на работе поднялась температура, ноги стали ватными, и в глазах круги. Люська стояла в переполненном автобусе и дышала ртом, как рыба, чтобы не чувствовать запахи потных тел. Звуки от недомогания усилились и звучали в пустой голове набатом. Люська морщилась от всех этих «не толкайтесь, вы мне на ногу наступили, передайте на билетик» и стояла с закрытыми глазами, уцепившись за поручень.
– Девушка, вам плохо? – вопрос также прозвучал набатом в голове, не имея никакого отношения к Люське.
– Девушка? Плохо? – ее настойчиво потрясли за рукав.
И Люська приоткрыла глаз. На нее смотрел молодой парень, похожий на студента. Лохматый, из-под куртки торчал воротник клетчатой рубашки. К груди парень прижимал авоську с книгами. Корешки книг выпирали сквозь ячейки авоськи разлохмаченными краями. Люська посмотрела на страдальцев и погладила корешки пальчиком.
– Плохо, – слабо улыбнулась она, – книгам так плохо. Душно.
Люська посмотрела на хозяина книг и упала в обморок. Не картинно, как обычно описывали в книгах, а тихо. Просто все потемнело в глазах, и ноги перестали держать.
Открыв глаза, она почувствовала свежесть, выдуло, наконец, спертый потный воздух автобуса из Люськиной головы. Она сидела на остановке, уткнувшись в клетчатый воротник рубашки носом.
– Очнулись, барышня?
Люська дернулась и села. Никогда еще она так близко не чувствовала мужского тела. Это неприятно, а может быть, и приятно, Люська с разбегу не разобралась, но это точно ее взволновало. Она глубоко вздохнула, и под мышками мгновенно вспотело.
– Да, – пискнула она. – Я пошла. Спасибо.
Она вскочила. Но не устояла и схватилась за плечо парня.
– Извините.
– Да чего уж там, – парень махнул рукой, – не стоит благодарности. Я вас провожу. На ногах-то вы плоховато стоите.
Люська попыталась отказаться, но парень не слушал, по-хозяйски взял ее руку и сунул себе в карман.
– Холодно, а вы без перчаток. Меня Рома зовут. Куда идем? – он посмотрел на онемевшую от такой близости Люську.
– Люся, – машинально ответила Люська. – Домой. Ну, то есть не домой, а в НИИ, я там сторожу.
– Кого сторожишь? Мышей? – хмыкнул Рома. – Пошли в твой НИИ. Значит, ты учишься и подрабатываешь, – он сделал вывод. – На кого учишься? И не местная поди? Голодом сидишь, вот в обмороки и валишься.
– Нет, – неизвестно с чем не согласилась Люська.
– Пошли, купим еды, – он, не слушая ее возражений, затащил ее в продуктовый.
В магазине купил хлеба, килек в томате, молока и, тщательно подсчитав мелочь, взял Люське сладкую булочку. Все закинул в авоську, поверх книг. Люська хотела возмутиться таким непочтением, но промолчала, только снова погладила корешки пальчиком.
В Люськиной комнатушке он осмотрелся, поставил чайник и накрыл на стол. Люське строго сказал:
– Сиди, я сам.
Приготовил бутерброды с килькой. Сел рядом и жадно вцепился зубами в красное рыбье месиво. Слизал с губ томатный соус и снова впился в бутерброд. Люська смотрела как завороженная на то, как он ест, как красный соус мажет его губы, как он жадно слизывает его языком и снова набрасывается на еду.
Рома отхлебнул чай и посмотрел на Люську.
– Ты чего не ешь? Стесняешься?
Люська смотрела на Рому и молчала. Потом достала из кармана платья платок и вытерла осторожно его губы. Он внимательно посмотрел на нее, потянулся и поцеловал.
В голове у Люськи квохтало материнским голосом, что приличные женщины так себя не ведут, но тело почему-то не слушалось, а отвечало на поцелуй. И эта раздвоенность головы и тела Люську пугала и возбуждала. Словно она впервые сделала что-то наперекор матери и сделала так, как хотела она. Постепенно квохтанье вытеснилось на край сознания, Люська закрыла глаза и просто слушала телом все новые ощущения. Стыда не было. Была неловкость. Непривычность тел друг к другу, которая проходит со временем и возникает согласованность действий: рука сюда, колено туда, поцелуй, движение, вздох, шепот и вырвавшийся судорожный стон, закушенная губа и слабость.
Рома был костлявым, неумелым, но нежным. Нежность искупала все. Люська с этого дня стала жить телом. Она ходила и проверяла любимые книги, но постоянно прислушивалась к тому, что происходит внутри нее, как сжимается все в легкой судороге внизу живота только от одной мысли о Роме. Она улыбалась, как мадонна с картины, словно только она, Люська, знает теперь секрет мироздания и знает секрет вечной жизни и счастья. Но это знание настолько потрясающе и прекрасно, что ей остается только загадочно улыбаться. Нет, даже не улыбаться, а ходить с просветленными глазами и легкой полуулыбкой.
В библиотеке на нее озабоченно поглядывали, и спрашивали, не больна ли. Невыносимо видеть рядом столь счастливого и просветленного человека. Сразу начинаешь сравнивать и видеть все ямы и зияющие провалы своей жизни, и нет возможности это исправить такой же сияющей любовью к себе и миру. И это бесит, бесит до бесконечности.
Люська только улыбалась раздражающе-загадочно и шла в хранилище к книгам. Только им, любимым и понимающим, она, смеясь, рассказывала, какой Рома. Как он смотрит на нее, как дергается у него кадык, когда он жадно ест, как он в изнеможении валится на нее после любви, и как она, Люська, принимает его всего, всего без остатка. Его пот, запах, слюни и храп, и грязные носки, и взлохмаченную после ночи голову, и то, что у него все время нет денег, потому что он студент. Сладкая булка, купленная на последние копейки для Люськи, и его нежность перевешивали все грехи мира.
* * *
В оформлении обложки использована фотография автора Валерия Невмержицкого.
* * *
Эта книга – участник литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква – 2019». Если вам понравилось произведение, вы можете проголосовать за него на сайте LiveLib.ru до 15 ноября 2019 года.
Примечания
1
Маленький паровозик с несколькими вагонами.
(обратно)



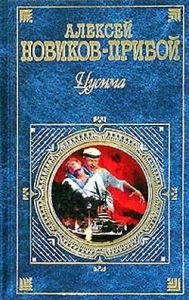
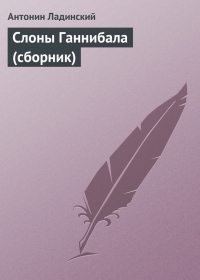
Комментарии к книге «Малахольная», Галина Шестакова
Всего 0 комментариев