Шэрон Кей Пенман Королевский выкуп. Капкан для крестоносца
A KING’S RANSOM
(Part I)
© 2014 by Sharon Kay Penman
Авторские права защищены, включая право на переиздание текста как полностью, так и по частям в любой форме.
Настоящее издание публикуется с разрешения G.P. Putnam’s Sons, an imprint of Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC
© Sharon Kay Penman, 2014
© Яковлев А.Л., перевод на русский язык, 2019
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства
Об авторе
Шэрон Кей Пенман
Средневековье неизменно привлекает к себе внимание как ученых, так и авторов художественной литературы. Есть в этом историческом периоде нечто, что завораживает нас, влечет погрузиться в глубь веков. Это время окутано легендами о доблестных рыцарях, справедливых королях и прекрасных королевах. История Средних веков изобилует интереснейшими событиями, личностями, поэтому книги о нем неизменно привлекают внимание читателей. И очень важно, чтобы автор литературного произведения изображал историю достоверно, подходил к ней бережно. Всем этим требованиям полностью соответствует Шэрон Кей Пенман. Писательница не жалеет сил и времени на глубокую проработку темы, знакомится как с источниками, так и с монографиями маститых ученых, и каждый ее роман, являясь по форме увлекательным художественным произведением, выступает, по существу, еще и убедительным историческим исследованием. При написании книг Пенман посещает не только библиотеки – она стремится лично побывать в тех местах, где развивается действие романов, увидеть мир глазами своих героев.
Поначалу едва ли кто, в том числе и сама писательница, мог представить, к чему приведет ее увлечение историей Средних веков. Шэрон Кей Пенман родилась в 1945 году в Нью-Йорке. Она получила историческое образование, окончив Техасский университет в Остине, но по профессии стала юристом и до полного перехода к писательской деятельности работала в сфере налогового права. Первая ее попытка заняться литературой относится к студенческим годам. Путь оказался тернист: когда рукопись первой ее книги «Солнце во славе», посвященной смутным временам Войны Алой и Белой розы в Англии, была почти уже закончена, ее украли из автомобиля Пенман вместе с сумочкой. Едва ли похитителей интересовало сочинение никому не известной студентки, но рукопись пропала безвозвратно. Впавшая в отчаяние писательница не бралась за перо в течение пяти лет.
Но притяжение творчества преодолело трудности, и в 1982 году роман был воссоздан заново и переработан, увеличившись в объеме почти в два раза. Книга была тепло встречена как читателями, так и критиками, сразу заявив о Пенман как о восходящем светиле художественной исторической литературы. Она начинает работу над романом «Земля, где обитают драконы», ставшим первой частью так называемой «Валлийской трилогии». Действие книг этой серии развивается на протяжении XIII в. в Уэльсе, в период наивысшего расцвета королевства Гвинед и его борьбы с могучим английским соседом. Эта овеянная мифами земля настолько очаровала писательницу, что она приобрела там дом и с тех пор живет как в Америке, так и в Великобритании.
Поверив в свои силы, Пенман берется за эпоху, давно привлекавшую ее, – историю Англии времен Плантагенетов. Она обращается к истокам династии, основателями которой выступают такие противоречивые фигуры, как Генрих II и его жена, легендарная красавица Алиенора Аквитанская. Сложные отношения между супругами, переплетение любви и ненависти, создание самой могущественной державы своего времени, так называемой Анжуйской империи, становятся главной темой нового цикла писательницы. В 1995 году выходит первая ее большая книга «Пока Спаситель спал» («Украденная корона», «По праву меча»). Со всей присущей ей обстоятельностью Шэрон Кей Пенман начинает рассказ с предыстории героев, обращаясь к насыщенной событиями теме междоусобной войны между королем Стефаном и императрицей Мод (Матильдой) за обладание английской короной. Продолжением становится новая книга «Время и случай» («Высокий трон», «По краю бездны»), вошедшая в список бестселлеров «Нью-Йорк таймс». История Генриха и Алиеноры развивается, а их держава, объединяющая английские и французские земли, становится могущественнее с каждым днем. Но раздор короля с его близким другом и советником, архиепископом Кентерберийским Томасом Бекетом, уже сулит времена испытаний. Третья часть цикла, «Семена раздора» («Один против всех», «Осень льва»), посвящена трагической развязке этой величественной истории.
Помимо полноформатных романов Шэрон Кей Пенман внесла свой вклад в развитие такого популярного жанра, как исторический детектив. Как она призналась сама, для нее это было чем-то вроде развлечения, возможностью отдохнуть от серьезных тем. Но это вовсе не означает, что в работе над серией писательница отошла от незыблемых принципов глубокой проработки исторического материала и достоверного изображения действительности. Главным героем серии из четырех книг выступает Джастин де Квинси, ставший волей случая доверенным лицом королевы Алиеноры и раскрывающий по ее поручению самые запутанные преступления. Первая книга серии, «Человек королевы», была номинирована на престижную детективную премию «Эдгар».
Но главным делом для автора по сей день остается история династии Плантагенетов. Пенман приступила к работе над серией, непосредственно продолжающей трилогию о Генрихе и Алиеноре. Она посвящена их преемнику, королю Ричарду Львиное Сердце. Среди средневековых монархов Ричард, как никто, овеян романтическим ореолом короля-воина, крестоносца, истинного воплощения рыцаря. Не отрицая этих действительно присущих Львиному Сердцу черт, Пенман позволяет нам беспристрастно взглянуть на своего героя, оценить его достоинства и недостатки. На данный момент в новой серии вышли два больших тома – «Львиное Сердце» и «Королевский выкуп», охватывающие участие Ричарда в Третьем крестовом походе и его пребывание в плену у коварного герцога Австрийского.
Пенман по праву снискала любовь читателей, признание критиков и уважение коллег по писательскому цеху. Джордж Мартин, автор знаменитой «Игры престолов», выразился так: «Шэрон Кей Пенман – на сегодняшний день сильнейший из романистов, пишущих о Средневековье… История буквально оживает под ее пером».
Александр Яковлев
Избранная библиография Шэрон Кей Пенман
«Солнце во славе» (The Sunne in Splendour, 1982)
«Валлийская трилогия»:
«Земля, где обитают драконы» (Here Be Dragons, 1985)
«Когда сгущаются тени» (Falls the Shadow, 1988)
«Подводя черту» (The Reckoning, 1991)
Цикл «Плантагенеты»:
«Пока Спаситель спал» (When Christ and His Saints Slept, 1994)
1. «Украденная корона»
2. «По праву меча»
«Время и случай» (Time and Chance, 2002)
1. «Высокий трон»
2. «По краю бездны»
«Семена раздора» (Devil's Brood, 2008)
1. «Один против всех»
2. «Осень льва»
«Львиное Сердце» (Lion Heart, 2011)
1. «Дорога на Утремер»
2. «Под стенами Акры
«Королевский выкуп» (A King's Ransom, 2014)
1. Капкан для крестоносца
2. Последний рубеж
Серия о Джастине де Квинси:
«Человек королевы» (The Queen's Man, 1996)
«Жестокий, как могила» (Cruel as the Grave, 1998)
«Логово дракона» (Dragon's Lair, 2003)
«Князь тьмы» (Prince of Darkness, 2005)
Капкан для крестоносца
Посвящается доктору Джону Филлипсу
ДЕЙСТВУЮЩИЕ И УПОМИНАЕМЫЕ ЛИЦА
По состоянию на 1192 год
АНГЛИЙСКИЙ КОРОЛЕВСКИЙ ДОМ
Ричард (род. в сентябре 1157 г.) – король Англии, герцог Нормандии и Аквитании, граф Пуату и Анжу.
Алиенора (род. в 1124 г.) – его мать, королева Английская, вдова короля Генриха II, герцогиня Аквитанская по собственному наследственному праву.
Беренгария (род. ок. 1170 г.) – королева, супруга Ричарда (поженились в 1191 г. на Кипре), дочь Санчо VI, короля Наварры.
Джон (род. в декабре 1166 г.) – младший брат Ричарда, граф Мортенский.
Джоанна (род. в октябре 1165 г.) – младшая сестра Ричарда, вдовствующая королева Сицилии.
Леонора (род. в 1161 г.) – младшая сестра Ричарда, королева Кастилии.
Генрих (Хэл) (1155–1183 гг.) – покойный старший брат Ричарда.
Жоффруа (1158–1186 гг.) – покойный младший брат Ричарда, герцог Бретонский по браку с Констанцией Бретонской.
Матильда (Тильда) (1156–1189) – покойная старшая сестра Ричарда, герцогиня Саксонская и Баварская по браку с Генрихом Львом. Мать Рихенцы, Генрика, Отто и Вильгельма.
Рихенца (род. в 1171 г.) – племянница Ричарда, супруга Жофре, графа Першского.
Отто (род. в 1177 г.) – племянник Ричарда.
Вильгельм (род. в 1184 г.) – племянник Ричарда.
Филипп (род. в 1181 г.) – незаконнорожденный сын Ричарда.
АНГЛИЯ, НОРМАНДИЯ, ПУАТУ
Жоффруа (Жофф) – старший сводный брат Ричарда, незаконнорожденный сын Генриха, архиепископ Йоркский.
Вильгельм Маршал – один из юстициаров Ричарда, женат на Изабелле де Клари, графине Пемброкской.
Губерт Вальтер – епископ Солсберийский, сопровождавший Ричарда в крестовом походе.
Гийом де Лоншан – епископ Илийский, канцлер Ричарда.
Готье де Кутанс – архиепископ Руанский.
Роберт Бомон – граф Лестерский, сопровождавший Ричарда в крестовом походе.
Рэндольф де Бландевиль – граф Честерский, второй муж Констанции, герцогини Бретонской.
Андре де Шовиньи, владетель Шатору, кузен Ричарда, сопровождавший его в крестовом походе. Женат на богатой наследнице Денизе де Деоль.
Меркадье – знаменитый предводитель наемников Ричарда.
БРЕТАНЬ
Констанция – герцогиня Бретонская, вдова Жоффруа, замужем за графом Честерским.
Ее дети от Жоффруа:
Артур и Алиенора (Энора).
КОРОЛЕВСКИЙ ДОМ ФРАНЦИИ
Филипп Капет (род. в 1165 г.) – король Франции.
Людовик Капет – отец Филиппа, первый муж Алиеноры. Умер.
Маргарита Капет, сводная сестра Филиппа, вдова Хэла, брата Ричарда. Замужем за Белой, королем венгерским.
Мария – графиня Шампанская, сводная сестра Филиппа и Ричарда, дочь Алиеноры от Людовика Капета, мать Генриха Шампанского.
Генрих – граф Шампанский, сын Марии, племянник Ричарда. Женился на Изабелле, королеве Иерусалимской.
Алиса Капет – сводная сестра Филиппа, с младенчества просватанная за Ричарда.
Филипп де Дре – епископ Бове, кузен Филиппа.
ПРАВЯЩИЙ ДОМ СВЯЩЕННОЙ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ
Генрих фон Гогенштауфен (род. в 1165), император Священной Римской империи.
Констанция д’Отвиль – его супруга, дочь короля Сицилии.
Конрад фон Гогенштауфен – граф Рейнского палатината, дядя Генриха.
Конрад – герцог Швабский, младший брат Генриха.
Отто – граф Бургундский, младший брат Генриха.
Филипп – непродолжительное время епископ Вюрцбургский, позднее герцог Тосканский, самый младший из братьев Генриха.
ГЕРМАНИЯ
Генрих Лев («der Löwe») – в прошлом герцог Саксонии и Баварии, был женат на Матильде, ныне покойной сестре Ричарда.
Генрик – его старший сын.
Отто, Рихенца и Вильгельм – другие его дети, выросшие в Англии.
Бонифаций – маркиз Монферратский, брат убитого Конрада Монферратского.
Марквард фон Аннвейлер – сенешаль Генриха.
Граф Дитрих фон Хохштаден – вассал Генриха.
Людвиг – нынешний герцог Баварский.
Альберт – епископ Льежский, убитый в ноябре того года.
Лица, затеявшие мятеж против Генриха вскоре после убийства Альберта:
Бруно – архиепископ Кельнский.
Адольф фон Альтена – его племянник, пробст Кельского кафедрального собора.
Конрад фон Виттельсбах – архиепископ Майнцский.
Генрих – герцог Брабантский.
Генрих – герцог Лимбургский.
Оттокар – герцог Богемский.
АВСТРИЯ
Леопольд фон Бабенберг – герцог Австрийский.
Елена – его супруга.
Фридрих – его старший сын.
Леопольд – его младший сын.
Хадмар фон Кюнринг – министериал Леопольда, кастелян замка Дюрнштейн.
Глава I Близ берегов Сицилии
Ноябрь 1192 г.
Мореплаватели оказались в опасной близости от северо-африканского побережья, поэтому шкипер отдал команде приказ следить в оба, не появятся ли пираты. Когда примостившийся на снастях впередсмотрящий издал крик, рука каждого инстинктивно опустилась на эфес меча, потому как это были закаленные в боях воины, возвращавшиеся из Утремера после заключенного на три года перемирия с султаном Египта Салах-ад-Дином, известным крестоносцам под именем Саладин. Все облепили борта, но на горизонте не было видно парусов, только свинцово-серое море да небо с крапинами зимних облаков.
Не обнаружив признаков пиратов, рыцари обратили взгляды на человека, стоящего на носу корабля. Ему всегда доставалось внимания больше обычного, потому как ростом он был выше многих и выделялся красными как золото волосами и бородой. Однако его шевелюре не помешало бы вмешательство цирюльника, а накинутый на плечи тонкой работы шерстяной плащ обтрепался по краям и был в пятнах от пота и морской соли. Долгие недели плавания сказались, конечно, на путнике, но впалые щеки и бледность были следствием тяжкой борьбы с четырехдневной лихорадкой. Этот гигант был практически неодолим в рукопашном бою, но и ему не под силу оказалось противостоять смертельным хворям и миазмам Святой земли. В Утремере он дважды едва не умер от болезни, и в те дни судьба крестового похода колебалась, как на весах, с каждым его хриплым вздохом, ибо все знали, что без него предприятие обречено. Это осознавали даже французские бароны, ненависть которых к Саладину меркла в сравнении с той злобой, которую питали они к Ричарду Львиное Сердце, королю английскому.
Костер раздора между королями Англии и Франции пылал жарче, чем пламя вражды к сарацинам. Неспособный состязаться с Ричардом в качестве полководца и бесстрашного бойца, Филипп Капет нарушил данную Богу клятву и после взятия Акры покинул крестовый поход и вернулся во Францию, увозя с собой поруганную честь и сердце, полное желчи. Вскоре он заодно с Джоном, младшим братом Ричарда, начал плести интриги в расчете воспользоваться отсутствием английского государя и завладеть его доменами в Нормандии. Узнав об их коварных умыслах, Ричард отчаянно рвался домой, чтобы спасти свое королевство, пока не поздно, но вынужден был оставаться в Утремере, ибо священный обет сковывал его крепче любой цепи. И лишь когда ему удалось вернуть крестоносцам Яффу, вырвав ее у значительно превосходящей числом армии сарацин, Саладин согласился заключить перемирие.
Ричард заставил султана пойти на значительные уступки. Когда Львиное Сердце прибыл в Утремер, все королевство Иерусалимское состояло из города Тир да осадного лагеря в Акре. Когда шестнадцать месяцев спустя он покидал Святую землю, королевство уже протянулось по побережью от Тира до Яффы, Саладин лишился мощной крепости Аскалон, а христианские паломники вновь получили право посещать Священный город. Однако вырвать Иерусалим из лап неверных не удалось. Над самым почитаемым во всем христианском мире местом по-прежнему реяли желто-оранжевые знамена Саладина, и потому еще до того как Ричард покинул Утремер, его враги раструбили о провале крестового похода.
О чем они не догадывались, так это о том, что король и сам считал, что не справился. Он был одним из немногих, кто отказался посетить Иерусалим и поклониться Гробнице Господней. Своей супруге Ричард признался, что не считает себя достойным. Новому правителю Иерусалимского королевства, своему племяннику Генриху Шампанскому, он обещал, что вернется как только сведет счеты с беспринципным французским королем и вероломным братцем. И в тот октябрьский вечер, когда его корабль взял курс в открытое море и Акра растаяла вдали, Львиное Сердце пылко молил Господа сохранить Утремер в целости и сохранности до его возвращения.
Шкипер перекрикивался с сидящим на снастях дозорным, из учтивости переводя содержание разговора английскому государю. Повернувшись к своим рыцарям, Ричард немногословно сообщил, что приближается шторм. Глухой ропот отчаяния прокатился по толпе, потому что многим из этих людей потребовалось гораздо больше мужества, чтобы ступить на мокрую и раскачивающуюся палубу «Святого Креста», чем сотню раз сразиться с врагом. До поры им везло, и они не встретились ни с одной из свирепых бурь, превращающих зимнее плавание в столь рискованное предприятие. Но у всех сохранились живые воспоминания о жестоких штормах, разметавших королевский флот на пути в Утремер, и поэтому многие поспешили осенить себя крестным знамением.
Молва утверждает, что моряки нутром чуют грядущее ухудшение погоды, вот и на этот раз исполнение предсказания не заставило себя ждать. Ветер стал крепчать, он надул корабельные паруса и испещрил темную поверхность моря белопенными барашками. Горизонт затянули черные тучи, свет дня вскоре померк. Матросы карабкались по снастям, исполняя приказы шкипера, рулевой склонился над румпелем как священник перед алтарем, стараясь удержать корабль носом к волне. Епископ Солсберийский и еще некоторые пытались найти сомнительное убежище под парусиновым навесом. Ричард оставался на палубе, потому что всегда предпочитал встречаться с врагом лицом к лицу. Его валлийский кузен Морган ап Ранульф и фламандский лорд Балдуин де Бетюн преданно держались рядом. Они цеплялись за планширь, чтобы не свалиться с ног, когда судно ныряло в провал между валами, а затем с трудом всходило на очередной вал. Шкипер сказал, что, по словам местного лоцмана, близ Шакки расположена безопасная гавань. Пока корабль пробивался к ней через шторм, все больше пассажиров старалось разыскать на борту клириков, чтобы получить отпущение грехов, пока это еще возможно.
Ветер завывал, как рыщущая в поисках добычи волчья стая. Моряки взяли паруса на рифы, но «Святой Крест» продолжал опасно крениться. Когда они попытались совсем убрать паруса, одна из растягивающих нижний угол полотнища снастей отвязалась. С отвагой, которая поразила даже Ричарда, двое матросов ринулись наверх и как-то ухитрились снова закрепить конец. Даже с обеими пустыми мачтами корабль мчался под напором бьющего в рангоут и корпус ветра, но теперь хотя бы не прыгал по волнам, как готовящаяся взлететь птица.
Пошел дождь, капли которого врезались в кожу как иглы; всего за пару минут палуба стала мокрой. Перекрикивая рев ветра, шкипер сообщил Ричарду, что до Шакки им не дойти, поэтому они идут в бухточку в паре лиг от этого города. Собравшимся на борту «Святого Креста» много раз приходилось смотреть в лицо смерти. Большинство считало себя покойниками еще тогда, когда в Яффе их обложила семикратно превосходящая числом армия сарацин. Тогда Ричард спас их, вырвав казавшуюся невероятной победу. Много радости доставило то чудесное избавление, но они ощутили еще большее облегчение теперь, когда корабль бросил наконец якорь в маленьком заливчике, укрывшем их от шторма, ибо риск утонуть страшил этих людей гораздо сильнее гибели от вражеского клинка.
Поутру путников разбудил сицилийский восход, окрасивший небо в цвет белого золота, на фоне которого редкие облачка отливали медью и бронзой. Предвидя благоприятный для плавания день, они воспрянули духом, а телесные силы подкрепили хлебом, сыром и фигами. Но тут с мачты раздался тревожный оклик, и вскоре крестоносцы заметили латинские паруса двух крупных галер, направляющихся к бухточке. Шкипер, седой пизанец, большую часть жизни проведший на корабельной палубе, сыпал вполголоса проклятиями. Произойди встреча с пиратами в открытом море, был бы хороший шанс оторваться от них. Но паруса «Святого Креста» были спущены, превращая судно в легкую добычу для морских бродяг, корабли которых разворачивались так, чтобы перекрыть выход из гавани.
Ричард подошел к стоявшему у борта пожилому капитану и стал напряженно вглядываться в развевающиеся на мачтах незнакомцев флаги. Затем его лицо озарилось улыбкой.
– Не пираты, – заявил король, обращаясь к своим воинам. – Это галеры короля Танкреда.
Повернувшись к шкиперу, он велел поднять стяг английского королевского дома. Галеры находились достаточно близко, чтобы можно было рассмотреть людей на их палубах. Те заметно обрадовались, поняв, что «Святой Крест» не представляет собой угрозы. Самый большой из кораблей вскоре подошел на расстояние оклика. Получив подтверждение, что среди пассажиров действительно находится английский король, сицилийцы пригласили Ричарда к себе на встречу с их господином графом де Конверсано. Сгорая от нетерпения узнать новости о своем королевстве и о врагах, государь охотно согласился. Захватив с собой епископа Солсберийского и двух рыцарей-тамплиеров, он прыгнул в лодку, которая на веслах поспешила к галере.
Люди на палубе «Святого Креста» с облегчением выдохнули – ни один из тех, кто брал на абордаж огромный сарацинский корабль близ Тира, не горел желанием пережить новую схватку на море. Угощаясь изрядным ломтем сдобренного медом хлеба, Морган ап Ранульф наблюдал, как его царственный кузен поднимается на борт галеры, где его ожидал почтительный прием. Вскоре к валлийцу подошел соратник-крестоносец и друг Варин Фиц-Джеральд. Разделив угощение, приятели начали обмениваться остротами насчет того, кто выглядит более несуразно: рыцарь на палубе корабля или моряк в седле. Склонный к язвительному юмору Варин вскоре пустился в рассуждения о том, кому приходится хуже: девственнице в доме терпимости или шлюхе в монастыре. Морган двинул ему локтем под ребра, напомнив о шутливой договоренности не заговаривать про женщин, пока им приходится томиться на корабле, когда свербит, но не почешешься.
Этот поворот беседы навел мысли Моргана на любимую женщину, леди Мариам. Та отплыла из Акры на Михайлов день в обществе сестры короля Джоанны, овдовевшей королевы Сицилии, и супруги государя Беренгарии Наваррской. Наверняка дамы уже достигли Сицилии, откуда намеревались продолжить путешествие по суше, поскольку Джоанна очень уязвима к морской болезни. Когда в возрасте десяти лет ее повезли на свадьбу с Вильгельмом д’Отвилем, ее укачивало настолько, что посольство вынуждено было пристать к ближайшему берегу и проделать остаток пути на лошадях. Эта умиравшая от тоски по дому маленькая девочка превратилась ныне в красавицу двадцати семи лет, и Морган, очень любивший кузину, гадал, какая судьба ее ждет по возвращении во владения Ричарда. Она представляет собой ценный брачный приз, и валлиец надеялся, что английский король подберет для сестры достойного жениха.
Династические браки были, разумеется, делом государственным, и совместимость молодых не принималась в расчет, когда на кону стоял дипломатический альянс. Но если повезет, высокородные супруги могли обрести совместное счастье. Морган полагал, что Ричард вполне доволен своей королевой. Та приехала из маленького испанского королевства в обществе вызывающей оторопь матушки Ричарда, знаменитой – многие предпочли бы слово «пресловутой» – Алиеноры Аквитанской, и присоединилась к Ричарду на Сицилии. Они поженились по пути в Святую землю, на острове Кипр. Однако Морган подозревал, что Беренгария никогда не сможет завладеть сердцем короля до такой степени, как Мариам покорила его собственное. Ричард боготворил свою матушку, не уступавшую мудростью ни одному из государей христианского мира, но валлиец сомневался, что женщины много значат для Львиного Сердца, предпочитавшего военный лагерь покоям самого роскошного из своих дворцов.
Друзья обернулись, когда появился Арн, оруженосец Варина, осторожно несущий два кубка с вином. Передав напитки, он стоял, пока Морган, симпатизировавший парню, не бросил на него ободряющий взгляд.
– Можно задать вопрос, милорды? – спросил юноша. Будучи оптимистом по натуре, он счел их согласие само собой разумеющимся и присел рядом. – Мне вот непонятно. Этот Танкред – король Сицилии. Он ведь занял престол после смерти супруга королевы Джоанны? А затем отобрал у нее вдовью долю и заточил в Палермо? Тогда почему наш государь Ричард дружит с этим человеком?
Варин закатил глаза: способность Арна придавать своим суждениями вид вопроса одновременно забавляла и раздражала его господина. Морган был более снисходителен, поскольку по-французски сквайр начал говорить только после прибытия в Святую землю. Он принимал участие в осаде Акры в числе воинов герцога Леопольда фон Бабенберга, а точнее был оруженосцем у одного из рыцарей австрийского министериала Хадмара фон Кюнринга. Герцог был истовым крестоносцем, дважды принимал крест. Но его подвела гордыня. Когда в результате ссоры с Ричардом ему пришлось претерпеть сильное унижение, Леопольд отказался от дальнейшего участия в походе и, жутко разобиженный, вернулся в Австрию. Но рыцарь Арна не последовал за другими австрийцами на родину, потому что его удержала «арнальдия» – хворь, едва не прикончившая Ричарда.
Обретавшиеся при войске лекари не видели никакой надежды на излечение, и товарищи звали Арна плыть домой вместе с соотечественниками и разгневанным герцогом. Однако юноша отказался покинуть господина и преданно ухаживал за ним до самой его смерти. Такая верность тронула сердца крестоносцев, и фламандский барон Жак д’Авен принял Арна в свою дружину. После гибели Жака в сражении при Арсуфе Варин взял парня к себе оруженосцем. Мальчишка оказался добросовестным и жизнерадостным, и Варин с Морганом собирались попросить у Ричарда денег для Арна, чтобы он мог вернуться в Австрию, если захочет. Ричард был щедр, как и полагается великому правителю, и поскольку тоже симпатизировал юноше, рыцари надеялись получить согласие.
Моргану пришлось взять на себя заботу разъяснить Арну хитросплетения сицилийской политики.
– Ты все сказал правильно, парень, – начал он. – Король Танкред действительно держал королеву Джоанну в заточении и отобрал у нее вдовью долю, поскольку эти земли примыкают к альпийским перевалам, а именно через них германский император повел бы войска в Италию.
Валлиец принялся было рассказывать про то, что после кончины мужа Джоанны император Генрих заявил о своем праве на сицилийский престол, поскольку единственный сын Вильгельма умер и наследницей стала тетка короля Констанция д’Отвиль, супруга Генриха. Но вовремя вспомнил, что Арну это наверняка известно, ведь австрийский герцог принадлежал к числу вассалов императора. Отхлебнув еще глоток, Морган передал кубок Арну, который с благодарностью его принял.
– Танкред не желал зла леди Джоанне и позаботился, чтобы с ней в заточении обращались хорошо, держал ее в одном из ее собственных дворцов. Он опасался отпускать ее по причине близкой дружбы между королевой и императрицей Констанцией, но когда Ричард обрушился на Сицилию подобно местному жаркому ветру сирокко и потребовал немедленно освободить сестру и вернуть ей вдовью долю, у Танкреда не осталось выбора. Ему пришлось отправить Джоанну к брату в Мессину и предложить ей золото в обмен на отнятые земли.
Арн заинтересованно слушал, повернув набок голову.
– Спасибо, сэр Морган. Но с чего Танкред и наш король так подружились?
Морган заметил, что мальчишка употребил выражение «наш король», и подумал, что Арн едва ли захочет возвратиться в родную Австрию. Те, кому довелось сражаться бок о бок с Львиным Сердцем в Святой земле, подпадали под очарование его славных подвигов, ведь в их мире ничто не вызывало восхищения большего, чем доблесть на поле боя. Вот и этот австрийский юноша пал жертвой этих чар.
– Танкред и король Ричард обнаружили, что между ними есть много общего, – пояснил валлиец. – Оба они воины, оба склонны говорить, что думают, и оба питают глубокое презрение к французскому королю.
– Да кто ж его не питает? – хмыкнул Арн.
Все, кто слышал, расхохотались. Дезертировав во время крестового похода, Филипп Капет нанес своей репутации непоправимый ущерб. Даже иные из его французских вассалов отказались ехать с ним во Францию, поставив обет паладина выше феодальной верности государю. Оглядываясь назад, Морган жалел, что они не все уехали, потому что оставшиеся во главе французов герцог Бургундский и епископ Бовезский оказались для Ричарда не менее опасны, нежели сарацины Саладина. Бургундец понес кару за свое предательство, скончавшись в Акре незадолго перед заключением мира, но Бове отправился в сентябре на родину, рассеивая по пути ложь о Ричарде. Прелат обвинял его во всех грехах, кроме убийства святого мученика Томаса Бекета в его собственном кафедральном соборе. Не будь Ричарду всего тринадцать лет в ту пору, когда неосторожные слова его отца стали приговором архиепископу, Морган не сомневался, что и это злодеяние Бове тоже приписал бы английскому королю.
Пока они ожидали возращения государя, появился Гийен де Л’Этанг, предложивший скоротать время за игрой в кости. Поначалу многим рыцарям Гийен не понравился, потому как был настолько мочалив, что люди малознакомые часто принимали его за немого. Еще он обладал внушительными размерами: ростом выше самого Ричарда, с плечами столь широкими, что, если верить шутникам, в двери ему приходилось протискиваться боком, а его могучим мускулистым рукам мог позавидовать любой молотобоец. Великан держался сам по себе, и потому казался заносчивым и даже высокомерным. Но он обратил на себя внимание Ричарда, когда во время уличной схватки в Аматусе поднял над головой киприота и с силой швырнул в поилку для лошадей. Заметив, что Гийен в фаворе у короля, другие рыцари начали проявлять к нему большее дружелюбие и выяснили, что он вовсе не гордец, а просто человек застенчивый, с миролюбивым, мягким характером и весьма едким юмором. Словоохотливость в нем так и не развилась, и он молча наблюдал за выходками Варина, который во время игры громогласно проклинал свое невезение и оскорбил капеллана Ричарда, попросив его благословить кости.
Рыцари начинали следующий кон, когда один из моряков подал сигнал, что король возвращается. Вскочив, Морган отряхнул плащ, потом посмотрел на пассажиров в длинной гребной лодке и похолодел: лица у Ричарда и епископа были неподвижны, как у каменных изваяний, и не выражали никаких эмоций. А уж если король укрылся за официозной маской, это означало, что хороших новостей ждать не приходится.
* * *
Ричарду подали кубок, но он отставил его, даже не пригубив. Приближенные толпой набились в шатер.
– В Марселе нам высаживаться нельзя, – бросил он, поскольку не нашел иного способа высказать новость, иначе как напрямик.
Его слова вызвали некоторое волнение, тревожное и недоуменное, ведь Марсель находился на территории союзника. Рыцари обменялись озадаченными взглядами.
– Почему нет, монсеньор? – осведомился Варин Фиц-Джеральд. – Мне казалось, вы с королем арагонским друзья?
– Мне тоже так казалось, – сказал Ричард, и его тонкие губы сложились в невеселую улыбку. – В нашу бытность в Святой земле кое-кто из вас мог слышать сарацинскую пословицу: «Враг моего врага – мой друг». Только она справедлива и в противоположном смысле: «Враг моего друга – мой враг». Похоже, Альфонсо нашел общий язык с графом Тулузским.
Одного упоминания титула хватило, поскольку все знали, что Раймон де Сен-Жиль был непримиримым врагом английского королевского дома. Герцоги Аквитанские издавна заявляли права на Тулузу, а ведь Ричард был не только английским королем, но и герцогом Аквитании и Нормандии, а также графом Пуату и Анжу. Крестоносцы до сих пор не понимали, с какой стати король Альфонсо предпочел заключить сделку с дьяволом, и ждали, когда Ричард ответит на этот невысказанный вопрос.
– Сен-Жиль – злобный, пакостный хорек, – рыкнул Львиное Сердце с запалом, который обычно приберегал для французского короля и епископа Бовезского. – Когда этот подлый сукин сын отказался принимать крест, я понял, что он собирается воспользоваться моим отсутствием, чтобы грабить земли в Аквитании. Именно этим он и промышлял. И еще подбил недовольных в лице графа Перигорского и виконта де Броссе на мятеж, стоило моему сенешалю заболеть. По счастью, тесть пришел ко мне на помощь и послал своего сына Санчо подавить бунт. Санчо преуспел настолько, что Сен-Жиль решил убрать Наварру с шахматной доски, и потому подкатил к королю арагонскому, соперничество которого с королем наваррским пересилило дружеские чувства ко мне. Альфонсо принял предложение Сен-Жиля объединиться против Наварры, а это означает, что весь южный берег Франции для меня закрыт, равно как Барселона и прочие порты Арагона.
– Тогда где же нам пристать? – осведомился адмирал короля Роберт де Тернхем – человек, которого не так-то просто было испугать, но даже в его голосе прозвучало отчаяние. Он был более других сведущ в картах, и потому быстрее осознал, что лежащий перед ними выбор катастрофически сужается.
– Очень хороший вопрос, Роб, – сказал Ричард с очередной безрадостной улыбкой. – Граф Конверсано говорит, что я не смогу пристать ни в одном итальянском порту, потому что сидящий на германском троне выродок послал генуэзский флот патрулировать побережье в поисках нашего корабля. Более того, Генрих заключил пакт с моими прежними союзниками в Пизе, готовясь к вторжению на Сицилию. Так что и здесь нам дороги нет. Ну и нет нужды говорить, что мы не сможем доплыть без остановки до Англии, Нормандии или любой аквитанской гавани.
Люди закивали в знак согласия, поскольку любой, кто мало-мальски понимал в географии, знал это. Попытка выйти через Геркулесовы Столпы[1] в Атлантический океан будет сущим безумием. Течение в проливе устремляется на восток, причем с такой силой, какую ни один корабль преодолеть не в состоянии, а за Столпами путешественников ждут зимние штормы невероятной мощи, вздымающие похожие на горы валы в шестьдесят футов высотой.
Когда рыцари осознали всю полноту постигшего их несчастья, в шатре воцарилась мертвая тишина. Затем трое братьев де Пре зашептались между собой. Наконец Жан прочистил горло.
– Сир, – начал он. – Не лучше ли будет перезимовать на Сицилии, при дворе короля Танкреда? Тебя там радушно примут, а весной мы разыщем другой путь домой.
Кое-кто скривился, видя зияющую брешь в плане Жана де Пре и зная про вспыхивающий как сухая солома темперамент государя. К их удивлению, Ричард не выказал и тени гнева.
– Если я так поступлю, Жан, то возвратившись домой, не обнаружу своего королевства. Стоит мне дать моему брату и французскому королю такой шанс, они заморят себя постом, благодаря Господа за удачу. Меня объявят покойником, а Джона провозгласят законным наследником английского престола.
Морган понимал, почему Ричард проявил столь удивительное терпение. Верно было то, что Львиное Сердце никогда не забывал причиненного зла, но и добро он тоже помнил, а Гийом де Пре спас ему жизнь в Святой земле. Ричард затянул с отплытием из Палестины дольше, чем это было безопасно, исключительно ради того, чтобы выкупить Гийома у Саладина, и Морган не сомневался, что до последнего вздоха английского короля семейство де Пре будет греться в лучах фавора. Валлиец глянул на братьев де Пре, потом снова посмотрел на своего венценосного кузена.
– Что же намерен ты предпринять, монсеньор? – спросил он, уверенный, что у Ричарда уже созрел план, ибо не знал никого другого, кто соображал бы так быстро и был так хладнокровен в миг кризиса. В этом крылась одна из причин его выдающихся успехов на поле боя.
По взгляду, брошенному Ричардом на епископа Солсберийского, Морган догадался, что они обсуждали этот вопрос между собой: либо во время визита на галеру графа де Конверсано, либо возвращаясь с нее на «Святой Крест».
– Выбор у нас невелик, – мрачно изрек Ричард. – Поскольку пристать к берегу во Франции, Испании или Италии мы не можем. Изучив карту графа, мы совершенно ясно поняли, что нам следует повернуть назад. Мы направимся в Адриатику, зайдем в порт, название которого мне не хотелось бы пока озвучивать, затем попытаемся добраться до владений моего племянника или зятя в Саксонии.
После немногочисленных возгласов удивления повисла неестественная тишина – это люди свыкались с условиями новой реальности. Смириться было не просто, поскольку от Марселя их отделяли всего три дня пути, а теперь им предстоял морской вояж, способный растянуться на недели, причем в сезон, когда даже опытные генуэзские и пизанские мореходы носа не высовывают из порта. А затем их ждало зимнее путешествие по территориям, враждебным их государю.
Один из тамплиеров, сэр Ральф Сен-Леже, спросил, нет ли карты. Клерк Ричарда достал одну и развернул пергаментный свиток, на котором были лишь грубые очертания земель, окружающих Греческое, Ионическое и Адриатическое моря.
– Я согласен, что Саксония станет для нас безопасным приютом, – медленно промолвил храмовник. – Муж твоей сестры и его сын снова затеяли мятеж против императора Генриха. Вот только как нам туда попасть?
Ричард извлек кинжал и склонился над картой, используя клинок как указку.
– Через Венгрию, король которой мой родственник по жене, затем через Богемию, герцог которой ни за что не окажет любезности Генриху.
Король помолчал, внимательный взгляд его дымчато-серых глаз скользил по лицам собравшихся. Он видел то, что и ожидал – на лицах читались не только озабоченность, но и решимость. Ричард знал, что они не подведут, ведь их братство закалилось на полях сражений при Арсуфе, Ибн-Ибраке и под Яффой; они дрались и проливали кровь за него, и если понадобится, отдадут жизнь. Проглотив ком в горле, он заставил себя улыбнуться и сказал:
– Но если у вас есть идея получше, то Бога ради, выкладывайте.
Других идей не было, да и откуда им взяться?
Когда все собрались уходить, Ричард попросил епископа Солсберийского и своего валлийского кузена задержаться. Когда они остались втроем, он молча смотрел некоторое время на Губерта Вальтера, сознавая, что прелату не понравится то, что ему предстоит услышать.
– Губерт, я хочу, чтобы ты отбыл с графом де Конверсано ко двору Танкреда. Он под охраной препроводит тебя в Рим.
Захваченный врасплох епископ решительно затряс головой.
– Я хочу ехать с тобой, милорд!
– Знаю. Но в Риме ты принесешь мне больше пользы. Я хочу, чтобы ты пообщался с папой, вдохнул в него немного твердости. Теперь, когда понтифик обещал признать Танкреда, нельзя дать ему пойти на попятный из страха перед Генрихом. А оттуда отправляйся как можно скорее в Англию. Моя госпожа матушка сделает все возможное, чтобы обуздать моего братца, но это нелегкая задача, особенно раз Джонни так глубоко и решительно впутался в сплетенную Филиппом паутину. Путешествуя с благословения папы, ты должен быть в безопасности, а защита, которую обеспечивает святая церковь принявшему крест паладину, оградит тебя. – Белые зубы короля блеснули, но открылись они не в улыбке. – Она должна покрывать и меня, но мне как-то не хочется подвергать ее проверке.
Губерт поник, но возражать не стал, осознавая бессмысленность споров. Ричард уже обратился к кузену.
– Должен сказать, что дав Джоанне слово оберегать меня на пути домой, ты взвалил на свои плечи непосильную ношу.
Морган не подозревал, что Ричарду известно о просьбе Джоанны плыть именно на «Святом Кресте». Прежде всего ею двигала, разумеется, забота о здоровье брата, который еще не оправился от четырехдневной лихорадки, но валлиец понимал, что молодая женщина переживает насчет отсутствия рядом с Ричардом их кузена Андре де Шовиньи, который один умел удерживать короля от самых бесшабашных порывов.
– Согласен, сир, – эта обязанность превосходит мои способности.
Ричард понимал, что двоюродный брат шутит, но тот при этом говорил чистую правду, так как для родичей и друзей короля оставалось загадкой, как человек, столь пекущийся о жизнях солдат, может так беспечно обращаться со своей собственной.
– Среди вороха плохих новостей у графа нашлась и одна хорошая, – продолжил Ричард и вдруг улыбнулся: – Мои сестра и жена благополучно приплыли в Бриндизи, где их с нарочитым гостеприимством встретили Танкред с супругой, явно пытающиеся загладить свою вину перед Джоанной. И правильно делают. Выяснилось, что Конверсано, он же Гуго Лапен, выполнял в Палермо роль тюремщика Джоан. Но обращался граф с ней хорошо и сказал со вздохом облегчения, что когда он прибыл сопровождать ее с Беренгарией из Бриндизи ко двору Танкреда, она встретила его весьма любезно.
Ричард помедлил, ибо Морган буквально расцвел, и королю подумалось, что это, может быть, последняя искренняя улыбка, которую им доведется увидеть на многие месяцы вперед. Отпустив епископа и кузена, Ричард опустился на койку, радуясь случаю побыть одному. Перед соратниками он храбрился, но в глубине души тоже был потрясен неудачным поворотом фортуны. Сколько еще недель предстоит им болтаться в море? Ужас, испытанный за время штормового перехода в Святую землю, был настолько свеж в памяти, что король велел не использовать моряков как свидетелей, потому что эти люди определенно должны быть чокнутыми. Экипаж «Святого Креста» зашелся от хохота, сочтя эту шутку за большой комплимент. Но рыцари Ричарда рассматривали эти слова как шутку только отчасти, поскольку ни один из них не мог уразуметь, как кто-то мог по доброй воле согласиться проводить на палубе корабля больше времени, чем заставляет жестокая необходимость.
Улегшись на постель, Львиное Сердце мрачно рассуждал о предстоящем зимнем плавании. Допустим, оно закончится благополучным прибытием в один из портов Адриатики. Ричард был далеко не так уверен в дружеском расположении венгерского короля, как старался показать. Действительно, супруга Белы была вдовой его старшего брата. Но Маргарита приходится также сестрой леди Алисе, французской принцессе, которую во младенчестве просватали за Ричарда и которую он отверг ради женитьбы на Беренгарии Наваррской. Маргарита вполне может придерживаться мнения, что с Алисой обошлись бесчестно. Повлияют ли ее чувства на мужа? Кто знает. По меньшей мере, Бела славится своей непримиримой враждой к герцогу Австрийскому и не питает симпатий к германскому императору. Череду мрачных мыслей государя нарушил приход Фулька из Пуатье, клерка казначейства. Король торопливо сел.
При виде свалившейся на палубу карты Фульк нахмурился. Он поднял пергамент, бросил на Ричарда пытливый взгляд, но ничего не сказал; аккуратно положил документ в сундук, а затем стал разбирать содержимое последнего. Король с улыбкой наблюдал за ним, потому как хорошо знал своего помощника – Фульк поступил к нему на службу еще до его восхождения на английский трон.
– Можешь даже ничего не говорить, я и так знаю, что ты тщательно взвешиваешь все те возможности, которые могут привести нас к печальному концу, – поддел он клерка. – Что ты предвидишь? Что «Святой Крест» пойдет ко дну во время бури? Будет захвачен пиратами? Представляешь меня погребенным под снежной лавиной на перевале в германских горах? Или гниющим в одной из темниц Генриха?
Клерка этот сарказм не задел.
– Все это вполне вероятно, – ответил он. – Хотя некоторые опасности вы упустили. Мы можем столкнуться с разбойниками на горной дороге. Можем угодить не только в немецкую, но и в венскую тюрьму – если пойдем через австрийские владения, хозяин которых питает к тебе лютую ненависть.
Ричард был об этом наслышан и немало удивлялся, поскольку его ссора с герцогом Леопольдом была вызвана ничтожными причинами и не стоила вендетты.
– Скажи-ка, Фульк: ты никогда не допускал, что самое худшее не обязательно должно случиться? Ну хотя бы ради разнообразия?
– Мы уравновешиваем друг друга, государь – ты ведь никогда не принимаешь во внимание возможность поражения.
Возразить Ричарду было нечего.
– Ну, тебе ведь известна римская поговорка: «Удача благоволит отважному». И везучему. Ты ведь не станешь отрицать, что я везунчик, Фульк?
Пожилой клерк оторвал взгляд от сундука.
– Да, тебе всегда везло, государь, – согласился он. А потом добавил: – Покуда.
Король тряхнул головой, разрываясь между желанием рассмеяться и выругаться. Но оба знали, что он ценит в пуатусце именно то, что делает его столь несносным, – откровенность. Фульк приносил Ричарду в дар то, что не по карману большинству правителей – не знающую компромисса честность.
* * *
Одиннадцатого ноября «Святой Крест» подошел к острову Корфу. Вид его гор и густой зелени берегов вселял одновременно радость и отчаяние. Путешественники ликовали, что пересекли полосу открытого моря между Сицилией и Грецией, но не могли не вспоминать, что приставали на Корфу всего несколько недель назад и даже не представляли, что так скоро увидят остров снова. В предыдущий визит они бросили якорь в гавани Керкиры, маленького городка, выросшего вокруг замка. В этот раз крестоносцы решили избегать пролива Корфу и взяли курс на западное побережье. Корфу, известный как гнездо пиратов, просто кишел лазутчиками, а было совсем ни к чему, чтобы пошел слух о том, что корабль английского короля был замечен в Ионическом море.
Следовало перестать жаться к берегу прежде, чем покажется замок Ангелокастро, и шкипер приказал зайти в укромную бухточку и пополнить запасы пресной воды. Якоря упали в воду, баркас пошел на веслах к земле, а пассажиры решили воспользоваться короткой передышкой от качки и ветра, чтобы поразвлечься. В их родных землях Михайлов день бывал обычно холодным и дождливым, предвещая скорое наступление зимы, поэтому путники наслаждались ласковым солнцем и теплым воздухом. Наблюдая за тем как Гийен де Л’Этанг затевает очередное состязание, многие сбросили плащи. На палубе установили стол на козлах, на котором нормандец мерился силой рук с Гуго де Невиллем, английским рыцарем. Ставок, впрочем, не было, потому что Гийен уже побил двух тамплиеров и дюжего матроса, и теперь никто не рисковал ставить против него. Гуго сопротивлялся доблестно, но вскоре его рука стала неумолимо склоняться к столу. Схватка закончилась быстро, как и другие перед ней, и де Невилл изобразил на лице неубедительную улыбку человека, делающего вид, что не расстроен поражением.
Оглядываясь в поисках нового поединщика, Варин Фиц-Джеральд ухмыльнулся, когда его взгляд остановился на опирающемся на планширь гиганте.
– А как же ты, государь? Не хочешь преподать Гийену урок скромности? Нельзя же допустить, чтобы он слишком задавался, а?
Искушение было сильным. Но для него не было секретом, что редко кто отважится побить короля: в шахматы, в борьбе на руках или в поединке на копьях. А сильнее чем проигрывать он не любил одну только вещь – когда ему поддавались. Поразмыслив и решив, что Гийен слишком честен и благороден, чтобы ему пришло в голову выкладываться не на полную, Львиное Сердце уже потянулся к застежке плаща, когда услышал крик впередсмотрящего:
– Парус!
Мигом позабыв про игру, люди вглядывались в горизонт, прикрывая глаза от солнца ладонью, до тех пор пока не различили идущие галеры. Шкипер выругался себе под нос, потому как ни один торговец не стал бы использовать галеру для перевозки товаров – этот тип корабля служил исключительно орудием морской войны. Их было три: низко сидящие обтекаемые корпуса, треугольные паруса цвета крови, бронзовые тараны, выдававшие себя блеском всякий раз, когда рассекали гребень волны. На мачтах не было флагов, а когда суда подошли достаточно близко, со «Святого Креста» стали видны толпящиеся на их палубах воины с арбалетами, мечами, секирами и абордажными крючьями. К этому времени Ричард уже успел отдать команду «К оружию!», поскольку с первого взгляда распознал враждебные намерения незнакомцев.
Юные оруженосцы Джехан и Саер ждали Ричарда в шатре и торопливо облачили его в броню, одев поверх хауберка стеганую накидку. Прочие рыцари хлынули в шатер, чтобы достать собственные доспехи, предусмотрительно убранные в сундуки, дабы избежать соприкосновения с морским воздухом. Препоясавшись мечом и закрепив ремешок на шлеме, Ричард схватил арбалет и поспешил на палубу.
Якоря подняли, матросы развернули паруса; оставшиеся на берегу члены экипажа вытаскивали баркас на пляж, явно надеясь спрятаться, если пираты захватят или потопят «Святой Крест». Арбалетчики Ричарда, взведя тетивы и наложив болты, ждали приказа. Некоторые рыцари не успели натянуть кольчужные штаны, прикрывающие ноги, но все успели облачиться в хауберки и шлемы. Это были закаленные в боях ветераны, но в отличие от матросов, не имели опыта схваток на море. Обведя взглядом их напряженные лица, король возвысил голос, чтобы его могли услышать все.
– Защищать корабль – почти то же самое, что защищать замок, парни… Если не считать шанса утонуть, конечно.
Как он и надеялся, это немного разрядило атмосферу: висельный юмор неизменно находит понимание у солдат.
Морган пробился к королю. Он все еще возился с забралом, пытаясь приладить его так, чтобы оно прикрывало горло. Обычно он чувствовал себя спокойнее, облачившись в броню, но тут не мог прогнать мысль, что достаточно поскользнуться на мокрой палубе, и доспехи утянут его на дно как якорь. Ричард вглядывался в пиратские корабли так, словно изучал поле боя, и Морган надеялся, что в мозгу у него уже зреет план новой невероятной победы. Что будет очень кстати, ведь расклад сил был явно не в их пользу.
Валлиец подошел к кузену как раз в тот миг, когда тот подозвал шкипера и сказал, что ему нужен человек, говорящий по-гречески. Пизанец кивнул: среди семидесяти пяти членов экипажа имелось с полдюжины тех, для кого этот язык был родным. Но прежде чем капитан успел позвать кого-нибудь из них, Гуго де Невилл предложил другого кандидата.
– Как насчет Петроса, сир? Ну, того моряка из Мессины, помнишь? Когда твои дамы потерпели крушение на Кипре, он выступал в качестве толмача и оказался весьма полезным. Не исключено, парень знает кого-нибудь их этих головорезов: мне приходилось слышать его похвальбу про двоюродного брата, который плавает на пиратском судне близ Кассиопи.
– Приведите его.
Едва эти слова успели сорваться с губ государя, как молодой моряк возник рядом, словно по волшебству. Черные глаза Петроса сияли – ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем оказаться в центре внимания.
– Ты звал меня, господин король? По-гречески я говорю с пеленок, а вот мой французский… не очень хорош. Когда мы были на Кипре…
– Мне нужны сведения об этих пиратах. Им известно про Саладина? Про войну в Святой земле?
– Еще бы, лорд! Их тоже волнует возвращение Иерусалима. Да что там говорить, иные из них даже приняли крест. Можно быть пиратом и одновременно добрым христианином.
– А обо мне они слышали?
Петрос ухмыльнулся.
– Осмелюсь предположить, лорд, что про тебя и в Катае наслышаны. После твоих деяний под Яффой…
Ричарду обычно льстили дифирамбы его военным подвигам, но на этот раз он вскинул руку, обрывая поток красноречия моряка.
– Надеюсь, что ты прав, Петрос. Сообщи им, что «Святой Крест» идет из Акры под командой английского короля.
Петрос недоуменно заморгал. Но подчинился без колебаний и окликнул ближайшую из пиратских галер. Вскоре над волнами эхом прокатился ответ.
– Они спрашивают, с какой стати обязаны тебе верить, лорд?
Ричард ожидал подобного. Обернувшись к шкиперу, он велел поднять свой стяг, и через минуту на верхушке мачты гордо реял королевский лев Англии. Рыцари перешептывались между собой, явно встревоженные решением государя раскрыть свою истинную личность.
– А теперь передай им, Петрос, что английского короля прозвали Львиным Сердцем, ибо ему неведомо, что значит сдаваться в плен. Он никогда не покорится. Чтобы завладеть кораблем, им придется драться насмерть.
Впервые Петрос замялся.
– Они гордые люди, лорд. Не думаю, что им…
– Передай мои слова.
Моряк подчинился. Его послание явно вызвало оживленные споры среди морских разбойников. Ричард выждал некоторое время, затем кивнул Петросу:
– А теперь скажи им, что драться не обязательно. Есть способ и поживиться, и избежать кровопролития. Сообщи их вожаку, что я желаю потолковать с ним.
Как король и ожидал, перед таким вызовом пираты не устояли, и вскоре Петрос уже обсуждал детали встречи. Рыцари тем временем обступили государя. Самые храбрые выражали свое несогласие, опасаясь, что Ричард согласится встретиться с предводителем пиратов на его галере. Им ли было не знать, что монарх вполне способен на такой опрометчивый шаг. От их протестов король отмахнулся. В итоге было решено, что он и пират встретятся на полпути между двумя судами. С берега вызвали баркас, и к огорчению крестоносцев, Ричард и Петрос вскоре уже гребли навстречу лодке пирата.
Морган и Балдуин де Бетюн стояли у борта, не отрывая глаз от высокой фигуры на носу баркаса. Оба они были верны старому королю, отцу Ричарда, и оставались с Генрихом, пока тот не испустил в муках дух в замке Шинон. И хотя прагматизм заставил их признать Ричарда законным королем, поначалу эти двое весьма настороженно относились к этому человеку, известному им только по репутации. С тех пор им пришлось бок о бок с ним сражаться в Мессине, на Кипре и в Святой земле. Теперь они с тревогой наблюдали, как он беседует с пиратом в досягаемости арбалетчиков последнего. То, что вожак морских разбойников подвергается аналогичной опасности, их утешало слабо. Разговор шел оживленный, и Петрос без отдыха переводил с французского на греческий и обратно. Но не прошло много времени, как ветер донес до слушателей обнадеживающий звук: раскаты хохота. Морган и Балдуин переглянулись, пораженные тем, что Ричарду снова удалось выхватить победу из самой пасти поражения.
* * *
Взобравшись по трапу, Ричард рывком перелез через планширь и широко улыбнулся толпившимся на палубе людям:
– Все улажено. За двести марок я нанял две их галеры с командами.
Тут же послышались возгласы, выражавшие удивление, возмущение и тревогу. Вскинув руку, призывая к тишине, король пояснил причины своего поступка. Врагам известно, что он плывет на «Святом Кресте», и те высматривают судно. Пересев на галеры, он собьет их со следа. Рыцари вняли доводу, но им не так-то легко было проникнуться к вожаку пиратов тем доверием, которое явно питал к нему Ричард. Но возражать никто не осмелился, потому как ставить под вопрос решение государя не рекомендуется.
Ричард пошел в шатер, Балдуин и Морган следовали за ним. Остальные просто смотрели, в надежде, что знатный лорд и родич осмелятся на то, на что им самим не хватало духу: выскажут свои возражения против союза с морскими бродягами. Джехан и Саер сразу принялись снимать с короля хауберк. Государь пребывал в прекрасном настроении и охотно ответил на вопрос Балдуина о том, как можно доверяться этим пиратам.
– Петрос был прав, – сказал он. – Этим ребятам есть дело до того, что происходит в Святой земле. В минувшие несколько месяцев возвращающиеся домой солдаты не раз заглядывали на Корфу, и каждый нес весть про подлость французского короля и битвы, в которых мы дрались с Саладином. Боюсь показаться нескромным, – продолжил Ричард с ухмылкой, – но я в этих рассказах представал с лучшей стороны, и капитану Георгиосу и его парням не терпелось услышать мой собственный отчет о событиях. Пираты, уверяю вас, вовсе не прочь получить двести марок, но одновременно им хочется помочь мне ускользнуть от врагов. Услышав о моих бедах, Георгиос впал в непритворную ярость, говоря о том, что принявшие крест находятся под защитой церкви. Не правда ли, есть ирония в том, что у пирата более твердые понятия о чести, чем у королей или императоров?
Беспокойство Балдуина слегка улеглось, поскольку он доверял умению Ричарда разбираться в людях – навыку, совершенно необходимому для тех, кто носит корону или предводительствует армией. Моргана по-прежнему трясло – он целый час пребывал в страхе за безопасность монарха и не знал, как сказать Джоанне, что ему пришлось просто стоять и смотреть, как ее брат с глазу на глаз ведет переговоры с пиратами.
– Но откуда ты мог знать, что этот Георгиос окажется человеком честным, когда только спускался в баркас? – выпалил валлиец. – Неужели тебе никогда не бывает страшно за свою жизнь?
Брови Ричарда удивленно приподнялись.
– Ты ведь не забыл про тот шторм в страстную пятницу, который разметал наш флот по выходу из Сицилии? Или мне освежить тебе память, Морган? Ветер ревел тогда, как души проклятых, волны катились высотой с церковный шпиль. Все мы тогда не сомневались, что дышим последние минуты. А была еще буря в заливе Саталея, где наши корабли погнало ветром назад. Если ты укажешь на человека, который не знал в те минуты страха, я назову тебя лжецом.
Морган спрашивал не об этом – он знал, что не будучи сумасшедшим, Ричард должен был испугаться во время штормов. Но молодой человек зашел слишком далеко, чтобы отступать.
– Но как на поле боя? – осведомился он. – Мне приходилось наблюдать, как ты испытывал судьбу, когда… – Морган помолчал, потом выпалил напрямик: – Неужели тебе не было страшно за себя?
Львиное Сердце поразмыслил немного, решая, тот ли это вопрос, на какой ему хочется отвечать. Он подозревал, что ответ на него волнует многих, но единственной особой, осмелившейся его задать, была его жена. Промолчать было бы проще всего. Но Ричард симпатизировал валлийскому кузену и понимал, что его беспокойство искренне.
– Ну, – промолвил он наконец, – когда кровь быстро струится по жилам, а сердце колотится, трудно отличить возбуждение от страха.
На минуту повисла тишина.
– Странно, быть может, – сухо процедил Балдуин, – но мне никогда не составляло труда отделить одно от другого.
Ричард рассмеялся, снял и передал одному из сквайров стеганую куртку, затем предпринял еще одну попытку объяснить то, что для него казалось вполне очевидным.
– На самом деле все просто. Во время шторма мы совершенно бессильны и пребываем во власти ветра и волн. А вот на поле боя моя судьба находится в моих руках. Происходящее зависит от меня.
Морган признал, что невозможность контролировать ситуацию пугает любого, особенно короля. Только он был убежден, что Ричард – единственный на всем Божьем свете человек, который чувствует себя на поле боя господином судьбы. Сообразив, что не получит удобоваримого ответа на вопрос, который ему, по правде говоря, и задавать-то не следовало, молодой человек переменил тему и осведомился, когда состоится обмен «Святого Креста» на пиратские галеры.
– Завтра. Мне нужно снабдить наших людей деньгами на дорогу до дома. «Святой Крест» доставит их в Бриндизи, а там они могут выбрать: ехать дальше по суше, провести зиму на Сицилии или даже сесть на корабль, отплывающий в один из портов, закрытых для меня. В конечном счете, охота-то ведется не на них.
Заметив недоумение Балдуина и Моргана, Ричард пояснил, что берет с собой только двадцать человек, и отмел в сторону все возражения.
– Воинов у нас сейчас слишком мало, чтобы дать врагу отпор, но слишком много, чтобы привлечь к себе нежелательное внимание. Единственный шанс добраться до Саксонии – идти налегке и как можно неприметнее.
Первым порывом рыцарей было возразить – их пугала сама мысль о том, что их король поедет через враждебные земли, имея при себе всего два десятка спутников. Поразмыслив еще раз, они вынуждены были признать правоту Ричарда. Ну и наконец, Балдуин и Морган принялись настаивать, чтобы их включили в число этой двадцатки. Король притворился, что разгневан их дерзостью, но на самом деле был растроган готовностью этих парней следовать за ним в дальние пределы ледяного ада – в Германскую империю Генриха Гогенштауфена.
* * *
Шкипер и команда «Святого Креста» не скрывали облегчения, избавившись от необходимости совершать утомительное плавание вдоль побережья Адриатики. Зато рыцари, арбалетчики и солдаты все до единого повели себя, как Морган и Балдуин: просили разрешить им сопровождать короля.
– Болваны вы все, – окоротил их Ричард. – Никто, у кого есть голова на плечах, не предпочтет метели и скверное немецкое пиво пальмам и борделям Палермо.
К отбору двадцатки он приступил, отбросив сантименты и укрепив сердце против душераздирающих просьб собственных оруженосцев, и взял только тех, кого считал самыми умелыми в бою и хладнокровными в минуту кризиса. Исключение было сделано лишь для его духовника Ансельма, клерка казначейства Фулька из Пуатье и – к невероятной радости парня – юного Арна, в пользу которого говорило владение немецким языком. В число прочих избранных вошли Морган, Балдуин, Гуго де Невилл, Варин Фиц-Джеральд, адмирал Роберт де Тернхем, Робер д’Аркур, Гийен де л’Этанг, Валькелин де Феррер, четыре тамплиера и пять лучших арбалетчиков. Этим людям предстояло столкнуться с опасностями, трудностями, лишениями и, не исключено, со смертью, и тем не менее, они рассматривали это доверие как великую честь, а их гордость обуздывала любые проявления страха.
Из всех, кто не был избран, никто не страдал сильнее Гийома де Пре. Пока все облепили борт корабля, махая уплывающему на пиратской галере Ричарду, Гийом в гневе удалился в шатер, где и расхаживал, попеременно разражаясь слезами и ругательствами.
– Как он мог оставить меня? – жаловался он братьям Пьеру и Жану, последовавшим за ним. – Как мог усомниться в моей преданности?
– Вовсе он не усомнился, идиот, – буркнул Пьер и, предоставив Жану утешать Гийома, вышел, потому как Ричард препоручил его заботам своих сквайров, а тем тоже требовалось утешение.
Когда полог шатра опустился за Пьером, предоставив братьям малую толику уединения, Жан порылся в вещах, нашел флягу и бросил ее родичу.
– Пьер прав. У государя и в мыслях нет сомневаться в твоей преданности или отваге. Ты ведь и сам знаешь.
– Тогда почему он не взял меня с собой?
– А ты как думаешь? Твоя преданность обошлась тебе почти в год жизни, и хотя ты об этом даже не заикнулся, нам ли не знать, как тяжело пришлось тебе в плену. Мы все обязаны блюсти долг верности Ричарду, нашему сюзерену. Просто он не пожелал дважды взыскивать с тебя плату.
Гийом пристально вглядывался несколько секунд в лицо брата, потом хорошо приложился к фляге.
– Я бы охотно уплатил ее.
Жан похлопал его по плечу.
– Знаю, парень, – сказал он вполголоса. – Знаю. И король тоже знает.
– Он так прямо и сказал? – Услышав эти неожиданное утверждение, Гийом вскинул голову.
– Да. Препоручая нашим заботам своих оруженосцев, он выразился так: «Гийому уже довелось побывать в гостях у сарацин». А потом мрачно пошутил на тот счет, что Генрих окажется менее снисходительным тюремщиком, чем Саладин.
Для Гийома несносна была мысль, что король счел его недостойным. Но даже знакомство с истинной подоплекой принесло ему мало облегчения. Никогда еще государю не грозила более серьезная опасность, а он-то, Гийом, окажется за сотни миль от него, не в силах помочь. Когда рыцарь тяжело опустился на крышку сундука, Жан положил руку ему на плечо, крепко стиснул, затем вышел, давая брату время побыть одному.
Гийом недолго пробыл в шатре. Осушив флягу, он последовал за братом на палубу, где протолкался к борту. И стоял там, не говоря ни слова и не шевелясь, пока пиратская галера не скрылась из виду.
Глава II На борту пиратской галеры «Морской волк». Адриатическое море
Ноябрь 1192 г.
Ричард привык общаться со смертью на «ты», но никогда та не вела себя так назойливо и дерзко. После того как галера неожиданно накренилась и его с силой ударило о доски палубы, все тело болело, как будто по нему молотили сарацинские палицы, во рту до сих пор ощущался привкус крови. Шатер не защищал от пронизывающих струй дождя, потому что его парусиновую ткань изодрало ветром. Путешественники сбились в кучу, стараясь согреться, и крепко цеплялись друг за друга, чтобы не смыло за борт. Один из пиратов оступился и полетел бы в воду, если бы не сила Гийена де л’Этанга – великан ухватил бедолагу за щиколотку и держал до тех пор, пока прочие члены команды не подоспели на помощь и не втащили его на палубу. С началом шторма у всех, даже у матросов, открылась страшная морская болезнь, и в шатре ощущался резкий запах рвоты, пота и страха.
Когда «Морской волк» взбирался на гребень очередной волны, путешественники сжимались. Предводитель пиратов Георгиос сказал, что у них есть шанс до тех пор, пока рулевой Спиро сможет удерживать корабль от разворота бортом к волне. Однако соскальзывать в промежуток между валами, промокая от пролетающих над галерой ледяных брызг, было жутко. Всякий раз, когда это происходило, пассажиры на один леденящий миг испытывали ощущение, что это падение никогда не остановится. Однако корабль продолжал сражаться с морем и снова взбирался на волну, и тогда эти люди издавали вздох облегчения, думая о Боге, о своих женах, о родной земле.
А вот Ричард думал о проведенной в бреду ночи в Яффе, когда умирал от четырехдневной лихорадки. Он тогда грезил и видел перед собой покойного брата Жоффруа. Тот смеялся, стоя в тени близ его постели. Смежив веки, король и сейчас слышал отзвук насмешливого, с ленцой, голоса: «Взгляни правде в лицо, Ричард: тебе не дожить до седых волос. Другие мужчины пылают страстью к женщинам. Ты же пылаешь страстью к Смерти, и только к ней. Ты преследуешь ее, как ополоумевший от любви юнец, и рано или поздно эта дама сжалится над тобой и позволит себя поймать».
– Нет, – отрезал вдруг Ричард. – Не бывать тому!
Он не гнался за Смертью, не стремился нырнуть за ней в темные глубины этого холодного, прожорливого моря. Стоявшие рядом повернулись на звук голоса, и глаза их вспыхнули надеждой, поскольку эти люди внимали каждому его звуку, как будто он один обладал силой спасти их. Люди уповали на него с тех самых пор, когда в двадцать один год Ричард взял неприступный замок Тайбур, гордо доказав миру и отцу, что разбирается в тайнах войны так, как епископ разбирается в тайнах священного писания. Но на поле боя он знал, где искать ответ, знал, что делать. А вот на раскачивающейся палубе «Морского волка» был также беспомощен, как юный Арн.
– Господин король! – В шатер нетвердой походкой вошел Петрос, а следом за ним пожаловал предводитель пиратов. Он присел на корточки рядом с моряком из Мессины, выступавшим в качестве толмача. Георгиос еще не утратил лихой вид, но как-то полинял, а темные глаза выдавали озабоченность, пусть даже манеры говорили об обратном.
– Он просит меня передать вам, что рулевой не может определиться с курсом, – начал переводить Петрос. – Пока темнота и шторм не позволяют разглядеть берег, ему не определить наше местонахождение.
Хотя весть была неприятной, никто не вздумал возражать моряку, поскольку днем справа по борту были замечены обрывистые утесы – стоит галере приблизиться к земле, и она будет разбита в щепы, если только не удастся обнаружить притаившуюся во тьме бухточку или гавань. Георгиос снова заговорил, и Петрос навострил уши.
– Капитану никогда не доводилось видеть такого свирепого шторма, господин. Любой матрос знает, говорит он, что женщины и мертвецы на корабле предвещают несчастье. Но вот о приносящих несчастье королей слышит впервые.
– Ну и чудеса, – отозвался Ричард. – Мне как раз пришла такая же мысль, но насчет пиратов.
Когда его шутку перевели Георгиосу, тот улыбнулся, но то была лишь бледная тень обычной бодрой ухмылки. Прежде, чем он успел ответить, с палубы донесся крик. Все в шатре напряглись, ибо хоть и не разумели греческого, значение тревожного предупреждения поняли – приближается еще одна чудовищная волна.
Корабль вздрогнул как умирающий зверь. Вал был таким крутым, что нос галеры устремился к небу, а люди держались изо всех сил, зная, что худшее впереди. Корабль погрузился в белую пену, вода залила палубу. А затем началось падение в бездну, и в мире не осталось ничего, кроме кипящего моря. Ричард слышал перепуганные вопли «Иисусе!» и «Пресвятая Матерь!». Стоявший рядом Арн причитал по-немецки. Штевень совершенно зарылся в воду, и король не сомневался, что «Морской волк» обречен навеки упокоиться на дне Адриатического моря.
– Господи Боже, молю тебя, спаси нас, рабов твоих! – Голос Ричарда, привычный отдавать приказы на поле боя, перекрыл шум бури. – Дай нам достичь безопасной гавани, и я пожертвую сто тысяч дукатов на постройку твоего храма в том месте, где мы сойдем на берег! Не позволь тем, кто принял крест, сгинуть в море без христианского погребения!
Море продолжало обрушиваться на палубу, обдавая брызгами и мешая дышать. Но затем нос галеры стал всплывать, выбираясь на поверхность, и путешественники поняли, что пока еще не тонут. Они сгрудились, прижимаясь друг к другу, утирая пот и жадно хватая воздух. Петрос потянул Георгиоса за рукав, указал на Ричарда и зашептал что-то по-гречески. Глаза у пирата расширились, потом он рассмеялся.
– Он говорит, – сообщил Петрос, – что это ты спас нас, господин, так как разве мог Всевышний устоять перед такой огромной суммой – настоящим королевским выкупом.
Ричарду хватало ума не праздновать победу, пока битва еще не выиграна. Но ему было не до того, чтобы указывать на это Георгиосу, потому что снова накатила тошнота. Желудок уже давно вывернулся наизнанку и был пуст, но король чувствовал во рту горечь и, нашарив на поясе флягу с вином, отпил глоток, затем передал сосуд Арну – вид парня явно говорил, что ему укрепительное не помешает.
Клерк короля строго взирал на Георгиоса, поджав губы.
– Этот человек богохульник! – изрек он ледяным тоном.
Это обвинение заставило Ричарда мрачно усмехнуться.
– Фульк, он же пират. Эти ребята никогда не славились благочестием.
Клерк ничего смешного не увидел.
– Они прокляты, все до единого, – настаивал Фульк, и никто из присутствующих не имел желания или сил спорить с ним. Дождь несколько ослабел, но море продолжало яриться, подкидывая галеру. Через прорехи в шатре путешественники видели, что небо начинает светлеть, превращаясь из черного как смоль в темно-свинцовое. Когда Петрос вернулся с палубы, его загорелое лицо не было больше бледным, а на щеках играл румянец.
– Спиро узнал примету на берегу – это гора Срдж! – объявил он. – Рулевой говорит, что нам рукой подать до гавани Рагузы!
* * *
Выйдя на палубу, Ричард с облегчением обнаружил, что вторая пиратская галера следует за ними на некотором отдалении. Налетевший шторм разделил корабли, и король опасался, что «Морской змей» погиб вместе со всей командой. Когда ночь отступила, стал хорошо виден берег. Перед ними лежал густо поросший лесом остров – Петрос сообщил, что он называется Ла Крома, – а за ним располагался город Рагуза. Море оставалось бурным, и волны тяжело бились о белые скалы Ла Кромы, взметая в воздух фонтаны брызг. Рыцари подошли к стоящему у планширя Ричарду и с нетерпением следили за приближением к спасительной гавани. Но тут один из моряков Георгиоса, явно встревоженный, отвел вожака в сторону. Когда остальные пираты обступили своего капитана, Ричард забеспокоился:
– Петрос, что стряслось?
Молодой матрос поспешил на зов, уверенно ступая по палубе, хотя та была мокрой и плясала, как необъезженный конь.
– Вода поступает в трюм, лорд. Рулевой говорит, что до Рагузы нам не дойти, поэтому он попытается пристать к берегу Ла Кромы.
Ричард с шумом втянул воздух, потому как остров напоминал крепость, известковые утесы которой готовы были отразить любой натиск. И чем ближе подходила галера к ним, тем более неприступными они казались. Однако пираты не выказывали страха. С кормчим на руле они сели за весла. Когда суденышко обогнуло мыс, Ричард заметил под обрывом полосу пологого берега. Она была усеяна камнями, некоторые из них представляли собой настоящие валуны, но ничего лучшего под рукой не имелось.
Прибой был таким сильным, что море напоминало кипящий котел, и пока команды налегали на весла, галеры швыряло из стороны в сторону. Рулевой держал корабль на курсе, и едва они достигли отмели, моряки попрыгали за борт и принялись вытягивать судно на берег. Ричард и его рыцари тоже зашлепали по воде, спеша на помощь. Работа оказалась не из легких, и к моменту, когда «Морской волк» безопасно расположился на пляже, все выбились из сил. Пока они вповалку лежали на каменистом грунте, подошла вторая галера. Люди на ней кричали и указывали в сторону Рагузы, давая понять, что направляются в лежавшую в полумиле отсюда гавань. Убедившись, что «Морской змей» ушел, сошедшие на берег Ла Кромы люди неохотно поднялись на ноги, так как вымокли до нитки и отчаянно нуждались в укрытии.
– Нужно развести костер, – сказал Ричард, бросив взгляд в сторону густой рощи из сосен и лавров, тянувшейся вдоль кромки берега. – Петрос, а население на этом острове есть?
Не успел вопрос сорваться с его языка, как пришел ответ. В лесных дебрях мелькнул огонек. Он перемещался так хаотично, что мог являться только фонарем или факелом. Ричард и рыцари положили ладони на эфесы мечей, наблюдая за приближением света. Между деревьев показались фигуры, закутанные в черные плащи с капюшонами. На первый взгляд они производили впечатление несколько сверхъестественное, даже зловещее. Но стоило им выбраться на открытое пространство, как лица потерпевших кораблекрушение озарились смущенными улыбками, потому как эти пришельцы из иного мира оказались на самом деле бенедиктинскими монахами.
Ричард двинулся им навстречу. Не имея представления, на каком языке говорят в Рагузе, он надеялся, что хотя бы кто-то из монахов должен разуметь латынь.
– Мы пилигримы, возвращающиеся из Святой земли, – сказал король. – Можете вы приютить нас?
Его удивило, что ответ был дан на латыни, не уступающей его собственной. Несколько монахов хором заверили короля, что его с людьми ждет радушный прием их аббата. Государь вежливо поблагодарил клириков, а потом вдруг расхохотался. Монахи не в первый раз помогали потерпевшим крушение и знали, что пережившие такую близость к смерти люди склонны к всплескам эмоций. Поэтому вспышка безрадостного веселья со стороны Ричарда их не удивила. Откуда им было знать истинную причину его смеха, крывшуюся в том, что этой маленькой общине бенедиктинцев предстояло получить выгоду от данного королем щедрого обета. Став обладателем суммы в сто тысяч дукатов, монастырь на маленьком уединенном острове сможет построить храм, способный посоперничать с соборами Рима, Палермо и Константинополя.
* * *
Ричард проснулся резко, очнувшись от не самого приятного сновидения. На полу, рядом с набитым соломой матрасом, на котором спал король, сидел Арн, скрестив под собой ноги. Поднявшись, государь огляделся вокруг, но гостевой зал аббатства был пуст. Куда делись его рыцари?
– Сколько времени, Арн?
– Государь, ты проснулся! – Улыбка юноши была такой лучезарной, что могла рассеять царившую в зале мглу. – Я слышал, как недавно колокола звонили к вечерне, так что выходит, теперь девять часов.
Ричард нахмурился. Три часа дня?[2] А он ведь намеревался слегка прикорнуть. Как он ухитрился проспать шесть с лишним часов?
– Почему ты меня не разбудил?
От выволочки Арн смешался.
– Ты… Ты не сказал, что… – Он запнулся. – И разве тебе не нужен был сон?
В этом-то и заключалась проблема – сон был ему необходим. Для Ричарда это служило болезненным доказательством того, что силы еще не совсем вернулись к нему, что спустя более чем два месяца после приступа четырехдневной лихорадки тело еще слабо.
– Забудь, парень, – оборвал он извинения Арна. – Могу я переодеться во что-нибудь сухое?
Юноша энергично кивнул, сказал, что сундуки с «Морского волка» уже перетащили, и опрометью кинулся выискивать брэ, шоссы[3], рубашку и тунику. Все они были сырыми и мятыми и отдавали плесенью после долгого путешествия в море, но все были лучше по сравнению с промокшими насквозь вещами, в которых Ричард упал на постель. Королю редко хватало терпения одеваться при помощи сквайров, поскольку у него самого получалось быстрее. Вот и теперь он отмахнулся от Арна, сам натянул штаны и просунул голову в рубаху. Пока он подпоясывал тунику, а оруженосец суетился вокруг, стараясь чем-нибудь подсобить, дверь распахнулась и в зал влетели Балдуин и Морган.
– Монсеньор, граф Рагузский и здешний архиепископ находятся в главном зале аббатства и просят встречи с тобой!
Ричард известию не обрадовался, сочтя, что это слишком почетная встреча для обычных пилигримов. Джоанна рассказывала, что ее покойный супруг нередко лично принимал участие в спасении потерпевших крушение на Сицилии, и ему хотелось верить, что и этот визит является подобным актом христианского милосердия. Но в хорошем солдате всегда сильно развит инстинкт выживания, и теперь он дал о себе знать.
– Они меня спрашивали? – уточнил он, пытаясь вспомнить каким именем представился аббату.
Морган обладал выразительным лицом, не созданным для секретов, и его озабоченность скрыть было трудно. Балдуин, флегматик по темпераменту, редко выдавал собственные мысли. Однако в эту минуту его лицо было таким же тревожным, как у валлийца.
– Они спрашивали короля английского, – мрачно заявил он.
Ричард набрал в грудь воздуха и выругался, заклеймив пиратов выражениями, существенно пополнившими составляемый Арном список французских бранных слов. Обернувшись, чтобы потребовать свой меч, король обнаружил, что парень уже протягивает ему ножны.
– Что ты будешь делать, господин?
Арн не удивился, когда Ричард не ответил на вопрос. Ибо какой у них был выбор? Они пойманы на острове. Бежать некуда да и защищаться, имея при себе всего десять рыцарей, король тоже не мог. Нет, даже девять с половиной, уныло поправился он, поскольку от него самого помощь в бою была бы невелика. Поспешив за Ричардом к выходу из гостевого зала, он нагнал его как раз вовремя, чтобы услышать вопрос Моргана, является ли Рагуза союзницей Священной Римской империи. И поежился, понимая, что от ответа на этот вопрос может зависеть их судьба.
Ричард задумался, вспоминая все то немногое, что ему было известно о Рагузе.
– Это город-государство вроде Венеции или Генуи, – сказал он. – Мне говорили, будто оно признает себя вассалом Константинополя, но греки не вмешиваются в дела управления. Не думаю, что его связывают какие-то узы с Гогенштауфенами, по крайней мере, формальные. Однако здешний граф, если не ошибаюсь, доводится Генриху кузеном.
Тут Ричарду припомнилось удивление, когда герцог Австрийский заявил о своем родстве с Исааком Комнином и выразил ему недовольство смещением кипрского деспота.
К этому моменту они уже подошли к большому залу аббатства. Это был один из редких моментов, когда у Ричарда не имелось плана действий. Можно отрицать, что он английский король, или взывать к церковному покровительству в отношении принявших крест, но ни одна из этих тактик не гарантировала успеха. Нечасто доводилось ему испытывать подобную неуверенность, и он искал опору, положив ладонь на эфес меча. Пальцы сомкнулись вокруг рукояти, привычное ощущение было успокаивающим. Ему вспомнилась прочитанная где-то история, что язычники-норманны верили в невозможность для умирающего попасть в Валгаллу, если он не сжимает меч в руке. Государь расправил плечи, вскинул подбородок, распахнул дверь и решительным шагом переступил через порог.
Зал был набит до отказа. Тут собрались все монахи, они перешептывались между собой. Аббат стоял рядом с двумя гостями, которые не могли быть ни кем иным, кроме как графом и архиепископом. Странную пару представляли эти двое: первый был высоким и худым, даже тощим, второй – низеньким и толстым. Оба, однако, были богато одеты, а на пальцах сверкали перстни. Когда Ричард вошел, на миг повисла тишина, сменившаяся возбужденным гулом. Аббат Стефанус поспешил навстречу королю, двигаясь с проворством, удивительным для столь немолодого человека.
– Милорд король! – воскликнул он на безупречной латыни и поклонился. – Я даже понятия не имел, какой высокопоставленный гость нашел приют под моей кровлей. Позволь представить тебе графа Рафаэля де Гоца и архиепископа Бернарда.
Оба названных учтиво поклонились. Граф открыл было рот, но архиепископ его опередил:
– Мы почитаем за честь приветствовать в нашем городе прославленного и неустрашимого короля английского. Твоя борьба с безбожными сарацинами сделала тебя героем для всех, кто исповедует истинную веру. Вот уж не думал, что смогу услышать рассказ о битвах из собственных уст победителя при Яффе!
Пока прелат набирал в грудь воздуха, граф Рафаэль воспользовался моментом. Бросив на архиепископа взгляд, явно говоривший о существующем между ними соперничестве, граф произнес с укором:
– Победа при Яффе воистину велика. Но не будет нам прощения, господин архиепископ, если мы не упомянем о величайшем из достижений государя в Святой земле. Благодаря его стараниям христианские паломники вновь могут посещать священный город Иерусалим. – Расплывшись в улыбке, де Гоц поманил к себе стоявшую рядом женщину. – Могу я представить тебе мою супругу, графиню Маруссу? Мы хотим предложить тебе быть нашим почетным гостем во время пребывания в Рагузе.
– Госпожа, – промолвил Ричард.
Он поцеловал ей ручку, и дама вспыхнула румянцем и захихикала, потому как король умел проявить галантность, когда хотел – не даром ведь он вырос при дворе своей матери в Аквитании. При виде графини все его опасения рассеялись – граф не взял бы с собой жену, если замышлял какую-нибудь пакость. Удача в очередной раз оказалась на его стороне: надо же было потерпеть крушение в единственном, наверное, на всем побережье Адриатики месте, где легенда о Львином Сердце перевешивала враждебность немецкого императора или французского короля.
* * *
Рагуза рыцарям Ричарда пришлась по сердцу. Они даже в шутку жалели, что он не согласился остаться и сделаться местным королем. Для ноября климат тут был куда мягче, чем в их родных краях, да и приятно было ходить по твердой земле, а не по норовящей уйти из-под ног палубе. Сам город был богатым, а улицы его были чище, чем в любом другом, какой им доводилось видеть. Имелись тут общественные бани, где путники смыли грязь, накопившуюся за минувшие семь недель. У них появилась возможность постирать и починить одежду, приобрести все необходимое на оживленных рынках Рагузы, которая вела бойкую торговлю с соседями по Адриатике. А самое приятное, население было очень гостеприимное и встречало их как героев.
Даже общение оказалось не таким затруднительным, как они опасались. Хотя официальным языком Рагузы являлась латынь, горожане разговаривали также на различных итальянских и славянских наречиях, а еще на диалекте, известном как «старый рагузский». Ричард, его капеллан Ансельм, Фульк и Балдуин де Бетюн латынью владели свободно. Прочие знали лишь крохи этого языка или не знали его вовсе, но Рагуза некоторое время находилась под властью Сицилии, и часть ее жителей усвоила французский, бывший в ходу при сицилийском дворе. Петрос купался во внимании, потому как понимал звучавший на улицах города итальянский, и на его услуги толмача был огромный спрос. Большую часть дня моряк проводил в легком алкогольном дурмане, потому как рыцарям нравилось коротать время в местных тавернах, а тамошние посетители охотно угощали их выпивкой, чтобы послушать истории о крестовом походе. Жизнь в Рагузе была намного приятнее корабельных будней, и путешественники наделись, что пиратам нескоро удастся отремонтировать «Морского волка», а Ричарду потребуется время, чтобы занять денег и исполнить данный им обет.
Однако в этом адриатическом раю таился змий. Ричард строго велел своим людям держаться подальше от местных женщин. Умом они правильность этого приказа понимали, но некоторые из рагузанок были уж очень красивы и обольстительны. Поэтому рыцари весьма обрадовались, когда Петрос обнаружил, что портовые таверны предлагают не только выпивку. Ричард и Балдуин были приглашены на обед к архиепископу Бернарду, тамплиеры соблюдали воздержанность, согласно уставу ордена, зато Варин и Гуго де Невилл собрали вокруг себя такую компанию, что пошли шуточки насчет оптовых скидок на услуги.
Морган поначалу колебался, но потом успокоил совесть мыслью о том, что леди Мариам поняла бы его, учитывая сложившиеся обстоятельства. Варин вовлек и юного Арна, смутив парня громогласным заявлением, что ему давно пора узнать, куда полагается вкладывать меч. В портах вроде Рагузы Георгиос держал своих людей в узде, чтобы пираты могли заглядывать сюда и в будущем. Но кое-кому из его парней удалось ускользнуть и присоединиться к рыцарям, поэтому в расположенную у гавани таверну «Полумесяц» ввалилась многочисленная и шумная толпа.
И с изумлением обнаружила, что сводничество в Рагузе – ремесло женское. Разбитная рыжеволосая красотка лет сорока с улыбчивыми губами и холодными глазами приказала подручным выставить из заведения всех сторонних посетителей: по ее прикидкам мужчины, столь долго болтавшиеся в море и лишенные дамского общества, щедро заплатят за предоставленную им привилегию. Начался торг, но когда владелица позвала самую молодую и смазливую из своих шлюх, парни сочли заломленную цену вполне разумной. И тут Морган узнал нечто, что охладило его пыл не хуже ведра воды. Пока он восхищался синеокой и русоволосой девчонкой – ему хотелось найти кого-то совершенно на смуглую с раскосыми глазами Мариам, бывшую наполовину сарацинкой, – сводня обмолвилась, что Людмила тут новенькая, куплена у работорговцев не далее как прошлым летом.
Невольничьи рынки на Сицилии, Кипре и в Святой земле ввели Моргана в оторопь, потому как во владениях анжуйской династии про них давно позабыли. Но в качестве рабов там продавали сарацин, язычников. А эта девушка выглядела бы своей в любом европейском городе. Озадаченная его вопросом, сводня рассказала, что Людмила родом из Далмации, как и большинство прибывающих в Рагузу рабов, и признала, что она христианка. Но тут же добавила пренебрежительно, что далматинцы придерживаются греческой православной, а не римской веры, поэтому ее христианство выглядит сомнительным. Но только не для Моргана, который пришел в ужас от обычая рагузцев порабощать собратьев по Христу. Он вежливо отказался от услуг Людмилы, решив про себя, что в противном случае окажется до некоторой степени причастен к рабству девушки.
Сводню это удивило, а затем и оскорбило, но она старательно скрыла обиду. Изумление спутников валлийца перешло вскоре в веселье, и Морган знал, что еще много недель будет страдать от их насмешек. Но под его миролюбивыми манерами крылась стальная воля, и он остался непоколебим. Пока друзья будут развлекаться наверху, он подождет их в таверне, сообщил валлиец, и парировал их остроты своей, выразив уверенность, что не успеет даже соскучиться. Парни хохотали и сыпали грубоватыми шуточками, затем начали выбирать себе подружек из предложенных им женщин. Тут настал черед Арна удивлять всех: оруженосец заявил, что не считает правильным совокупляться с рабыней, а поэтому подождет вместе с Морганом.
Даже Морган поначалу удивился, но обрадовался союзнику и отбивал наскоки на Арна до тех пор, пока их товарищи не удалились со шлюхами на второй этаж.
В общем зале таверны Морган заказал вина и выбрал столик в углу. Оба молча выпили, но валлиец чувствовал, что у Арна кроется что-то за душой, и после нескольких кубков неожиданно хорошего вина парень набрался храбрости и разговорился:
– Сэр Морган, если я доверюсь тебе, ты пообещаешь ничего не рассказывать остальным?
– Если хочешь, Арн. Этот твой секрет имеет что-то общее с отказом пойти наверх с одной из потаскух?
Арн посмотрел на него как на провидца, но валлиец догадывался, что за нежеланием парня кроется нечто большее, чем отвращение к рабству, – Морган и сам был достаточно молод и помнил, как силен зов плоти в столь юном возрасте.
Арн кивнул, затем опустил голову, уткнувшись взглядом в свой кубок.
– Я солгал, сэр Морган. Солгал королю и всем вам, – признался он, покраснев так сильно, что даже уши сделались пунцовыми. – Я сказал, что мне исполнилось шестнадцать, но это не так. Я родился на Михайлов день лета Господня одна тысяча сто семьдесят восьмого.
– Так тебе всего четырнадцать?
Арн снова кивнул:
– Когда я поступал на службу к своему австрийскому господину, мой дядя сказал ему, что мне четырнадцать. На самом деле мне тогда было двенадцать, но я был крупным для своего возраста, да и без меня дяде пришлось кормить на один рот меньше…
Теперь воздержанность Арна обрела для Моргана смысл – зеленые юнцы четырнадцати лет от роду сильнее тушуются во время первого раза, да и боятся, что совершают смертный грех. Сквайр подтвердил его догадку, промямлив слышанную им историю про какого-то мальчишку, которого братья затащили в бордель, и который опозорился, ничего не сумев.
– Когда шлюха рассказала его братьям, что парень расплескал семя, не успев даже лечь в постель, он сделался посмешищем для всей деревни. Но и это не все: тамошний священник узнал про тот случай и предупредил его, что мысль о грехе так же губительна, как и сам грех. Так что ему все равно гореть в аду! Это так и есть, сэр Морган?
Валлиец проворно поднес к губам кубок, чтобы скрыть улыбку. Вот уж чего он совсем не ожидал от этого вечера, так это что ему придется наставлять неоперенного птенца в премудростях плотской похоти. Заказав еще вина, он как мог объяснил Арну, что нет никакой нужды спешить приобщиться к греху. Плоть сама подскажет, когда придет срок, и хотя для мужчины свойственно переживать в свой первый раз, обнаженное женское тело творит просто чудеса, отгоняя прочь тревоги и сомнения. Да, церковь действительно считает блуд смертным грехом, но многие, и в их числе король Ричард, придерживаются мнения, что это грех простительный, и уж точно не такой серьезный, как прелюбодеяние или нарушение обета целомудрия. Услышав про снисходительное отношение Ричарда к блуду, Арн просветлел – для него даже брошенное мимоходом замечание английского короля не уступало авторитетом цитате из Евангелия. Он приободрился еще сильнее, когда Морган напомнил про то, что исповедь затем и существует, чтобы очищать душу.
– Большинство из всех воинов, которых мне приходилось встречать, признает себя грешниками, – продолжал рыцарь. – Прежде чем идти в бой или ступить на палубу корабля вроде «Морского змея», они стараются найти исповедника, чтобы тот назначил им легкую епитимью, а также причаститься. Почему бы тебе не взять с них пример, Арн? – Он ухмыльнулся. – И если Варин и прочие станут донимать тебя сегодня, просто скажи им, что слышал молву, будто все рагузские шлюхи заразные. Это заткнет им рот!
Арн рассмеялся, и вскоре уже весело болтал, пока они приканчивали второй кувшин. Морган пил, слушал и удивлялся превратностям судьбы: вот сидят себе валлийский рыцарь и австрийский парнишка за кубком вина и разговаривают по душам в этой забытой богом портовой таверне, далеко от дома и всего, что им дорого. Воистину пути Всевышнего неисповедимы для простых смертных. Как много крестоносцев покинуло дома и семьи ради Господа и славы, только чтобы обрести могилу в чужих краях. Молодой человек горячо уповал, что Бог неспроста выделил их среди тысяч павших от болезней или сраженных сарацинскими клинками. Он был убежден, что с Ричардом пребывает благословение. Если кто-то и способен доставить их домой, так это Львиное Сердце. Но когда Морган вскинул руку, затребовав еще кувшин вина, Уэльс никогда не казался ему таким далеким, как в тот декабрьский день, когда ранние сумерки опустились на Рагузу.
* * *
Соперничество между графом Рагузы и ее архиепископом сделалось еще более острым, когда у них появилась настоящая ценность, за которую стоило состязаться, – расположение короля. Ричард проникся симпатией к архиепископу Бернарду, с восторгом внимавшему его историям про войну с Саладином. Дородный прелат обладал развитым чувством юмора и от души смеялся, когда король в шутку укорял его в неподобающей для служителя Божьего кровожадности. Общество графа Рафаэля оказалось куда менее приятным, потому как его сиятельство отличали напыщенность и словоохотливость. Однако политические соображения требовали поддерживать с ним хорошие отношения, и государь изо всех сил старался поровну делить между этими двумя свое внимание, хотя лишь наполовину в шутку жаловался приятелям, что начинает чувствовать себя костью, которую рвут друг у друга два голодных пса. Страсти вполне могли вырваться наружу во время роскошного пира, устроенного в честь последнего дня пребывания Ричарда в Рагузе. Но когда этот момент наступил, архиепископ Бернард и граф Рафаэль вопреки своему обычаю стали союзниками, объединившись против общего врага в лице настоятеля бенедиктинской обители на острове Ла Крома.
Ричард восседал на помосте вместе с графом, архиепископом, членами большого городского совета и женами оных. По его настоянию аббата Стефануса тоже усадили за высокий стол, тогда как английские рыцари устроились внизу и наслаждались угощением, выгодно отличавшимся от скудных рационов, ждавших их по возвращении на море. Дело дошло до последней смены блюд, жареных лебедей, когда внимание обедающих привлекли громкие голоса. Вскочив на ноги и раскрасневшись, архиепископ гневно указывал на облаченного в черную рясу аббата. Тот тоже отодвинул кресло и встал, явно не намеренный уступать. Морган и Варин не настолько понимали латынь, чтобы уловить суть спора, но с интересом наблюдали, как приор и монахи покинули места внизу и сплотились вокруг аббата, как воины вокруг командира. Вид у них был как у людей, понимающих, что им противостоят намного превосходящие силы, но, тем не менее, готовых сражаться до конца.
Спор достиг стадии, когда все орут, но никто не слушает. Ричард сидел, откинувшись на спинку кресла и сложив руки. Вид у него был скучающий, из чего Морган и Варин сделали вывод, что терпение короля на исходе. Когда он наконец встал и зычно призвал к тишине, друзья с ухмылкой толкнули друг друга локтем. Убедившись, что зал смолк и он находится в центре внимания, Львиное Сердце начал говорить, оборвав графа, попытавшегося его перебить. Когда он закончил, люди стали переглядываться и против воли закивали. Архиепископ выступил в качестве миротворца, шагнув вперед и протянув аббату руку. За это он удостоился осуждающего взгляда со стороны графа Рафаэля, но когда его супруга шепнула ему на ухо пару слов, граф присоединился к этим двоим, и весь зал издал вздох облегчения.
Рыцари Ричарда могли только догадываться о причинах этой стычки, но им пришлось придержать свое любопытство до тех пор, пока пир не закончился. Когда установленные на козлах столы разобрали и в зал вошли музыканты, король спустился и разъяснил спутникам смысл того, что они видели, но не поняли.
– Высокородных граждан Рагузы не обрадовало, что аббат Стефанус и его бенедиктинцы получили такой куш. По их мнению, такую большую сумму разумнее было бы потратить на перестройку городского собора, а не выбрасывать на ветер, возводя церковь, которую не сможет видеть никто, кроме монахов. Аббат возражал, настаивая, что Господь явно выразил свою волю, чтобы возвести храм на Ла Кроме, раз именно там мы ступили на сушу.
– Тебе, государь, вроде как удалось разрешить спор, – заметил Морган. – Обмен оскорблениями прекратился. Но как ты этого достиг?
– Я сказал им, что не против пустить деньги на перестройку собора, но есть два условия. Во-первых, замену должен одобрить папа, ведь в конце концов, это был священный обет. Во-вторых, часть средств пойдет на ремонт церкви в аббатстве. И в качестве утешения для аббата я предложил, чтобы настоятелям монастыря на Ла Кроме каждый год на Сретение разрешали отслужить мессу в соборе Святой Марии в честь их щедрой уступки.
Губы Ричарда сложились в слабую улыбку.
– Единственный способ достичь прочного компромисса, это сделать так, чтобы обе стороны были одинаково недовольны им. В этом случае некоторое разочарование присутствует, однако и те и другие считают мое предложение справедливым, так как и без выгоды никто не останется. Помогло, конечно, и то, что рагузане народ рассудительный. Иными словами, не французы.
Рыцари расхохотались, хотя и понимали, что ничего смешного в этой шутке нет: Ричард никогда не простит французских союзников за весь тот вред, причиненный ими крестовому походу. Варин ухватился за удобный случай, чтобы изложить свою точку зрения.
– Я вот пораскинул мозгами, милорд, – начал он и двинул под ребра Гуго де Невилла, когда тот в притворном ужасе схватился за голову. – Мы все переживаем насчет той лжи, которую распространил о тебе епископ Бове по пути во Францию: что ты в сговоре с сарацинами и никогда не собирался возвращать Иерусалим, и прочий подобный вздор. Но пираты Георгиоса и горожане Рагузы не поверили ему, потому что слышали рассказы возвращающихся домой воинов. Не может ли получиться так, что правда возобладает над клеветой даже во Франции и в Германии?
Король был поражен такой наивностью.
– Филиппу и так известно то, что на самом деле произошло в Утремере, однако он не мешает епископу клеймить меня как предателя христианского дела. Что до Генриха, то ему наплевать на правду, как и на честь. Но если человека судят по тому, кто его враги, то я, надо полагать, сделал в жизни кое-что хорошее.
Его спутники вновь рассмеялись, и этот последний вечер в Рагузе закончился на приятной ноте. Все радовались короткой передышке от суровой реальности, ждавшей их поутру, когда им предстояло выйти из уютной городской гавани в открытое море.
* * *
Устроив «Морскому волку» ходовые испытания, Георгиос пришел к выводу, что галера еще не пригодна к плаванию, поэтому принял командование «Морским змеем», а часть экипажа оставил в порту, конопатить корпус «Морского волка». Проводить Ричарда вышло большинство жителей Рагузы; они выкрикивали добрые пожелания вслед поднимающей якорь и распускающей паруса галере. Ричард махал в ответ и со смехом обещал вернуться и побывать на мессе в роскошном новом соборе. Но когда солнце закрыло вдруг набежавшее облако и на палубу «Морского змея» упала тень, король зябко поежился, понимая, что немало пройдет времени, прежде чем ему снова доведется увидеть такие дружелюбные лица.
Их путь был в венгерский портовый город Задар, лежавший примерно в ста семидесяти пяти милях по побережью. Георгиос успокаивал, говоря, что это будет приятной прогулкой, потому как при благоприятном ветре галера способна покрыть сто миль за дневной переход. Самые суеверные из спутников Ричарда решили, что капитан спугнул удачу такой бравадой, потому что едва Рагуза осталась за кормой, ветер начал слабеть и вскоре совершенно стих. Морякам пришлось бросить якорь и ждать благоприятной погоды. Вместо нее на следующее утро они обнаружили себя посреди густого липкого тумана. Туман был пугающим и зловещим, поскольку все звуки странным образом приглушались, и путники чувствовали себя слепцами, заблудившимися в сыром белом облаке. Пелена рассеялась лишь на третий день, и крестоносцы облегченно вздохнули, когда «Морской змей» снова тронулся в путь. Как только придут в Задар, давали они себе зарок, то никогда в жизни не ступят больше на палубу треклятого корабля, разве только чтобы пересечь Узкое море, отделяющее Англию от Франции.
Ричард не решил, стоит ли ему открывать свое имя в Задаре и просить у короля Белы охранную грамоту. С благословения Белы их дорога через Венгрию станет гораздо проще. Вот только откуда взять уверенность, что здешняя королева не попытается натравить на него своего супруга? Едва ли Маргарита питает к нему теплые чувства. Вдова брата Хэла, она была также сводной сестрой Филиппа Французского и родной сестрой дамы Алисы. Об Алисе Ричард давно не вспоминал. В детстве их обручили, и Алиса росла при дворе английского короля. Девушка была недурна собой, но робкая, как птичка в клетке, лишена воли и огня, да и других качеств, способных привлечь его интерес. Обычные женщины всегда казались ему скучными. От жены он ожидал того же, потому что испанцы прививали своим девочкам скромность и послушание. Беренгуэла без сомнения обладает сильно развитым чувством долга и по временам бывает чересчур покорна. Зато она будет верна ему до последнего вздоха, и твердости характера у нее не отнять. За время путешествия в Святую землю и в последующие месяцы она раз за разом выказывала отвагу, а ничто не вызывало у Ричарда большего уважения, чем отвага. Он не променял бы Беренгарию на Алису, даже если благодаря этому его приняли бы при дворе Белы как давно пропавшего брата.
Заявление Георгиоса, что от Задара их отделяет меньше ста миль, подняло у всех настроение. Однако на следующее утро рассвет горел багрянцем более ярким, чем кровь, и к полудню западную часть горизонта заволокло тучами. Вскоре «Морской змей» уже качался на высоких валах. Зная, что собирается очередной шторм, вожак пиратов разрезал лист пергамента на полоски, попросил капеллана Ричарда написать на них имена святых, после чего ссыпал в свою шапку. Матросы и пассажиры по очереди вытягивали полоски и давали обет заказать мессу доставшемуся им небесному покровителю за избавление от бури. Георгиос освободил Ричарда от жеребьевки, заявив с едва приметной усмешкой, что король уже внес свою лепту, а на тысячу дукатов можно хоть каждый день мессы служить. Затем капитан с соблюдением приличествующих церемоний спустил полоски с именами святых в море, и все с облегчением вздохнули, хотя бы на время.
Налетевший несколько часов спустя шторм был не таким свирепым как тот, что выбросил их на Ла Крому, зато затяжным. Три дня «Морского змея» трепали волны и ветер, хлестал ледяной дождь. Люди мало спали, ели еще меньше. Они глотали имбирный сироп, чтобы успокоить норовящий вывернуться наизнанку желудок, и молились: не обязательно тому святому, чье имя было написано на полоске пергамента, но всем, каких могли вспомнить. Ветер был яростный и холодный; кормчий Спиро сказал, что это бора, который налетает с прибрежных гор и сеет хаос в течение зимних месяцев. Кутаясь в промокшие плащи, рыцари Ричарда сбились в кучку в шатре и ждали прихода в Задар с таким же нетерпением, с каким неверные стремятся в Мекку.
Бора унес судно далеко в море, и в течение двух суток они не видели берега. Когда Ричард потребовал сообщить, сколько еще осталось до Задара, Георгиос с неохотой признал, что этот порт остался уже далеко позади. Испуганный вспышкой вулканического темперамента короля, наводившей на мысль об Огненной горе на Сицилии, пират заверил монарха, что впереди другой венгерский порт – Пула, и как только буря поутихнет, Спиро доставит их туда. У рулевого для таких целей есть помощник: намагниченная иголка, воткнутая в пробку и плавающая в ведерке с водой. Она всегда указывает на север. Обычно моряки ориентируются по звездам и береговым приметам, напомнил он Ричарду. Все это сейчас недоступно для Спиро. Как только погода улучшится, корабль пристанет в Пуле или направится обратно к Задару, это уж как король пожелает. Тон у него был очень деловитый и уверенный, зато когда Ричард задал вопрос, что будет, если шторм вскоре не утихнет, ответа у него не нашлось.
Лишь на третий день путники увидели, наконец, землю. Вот только открылась она по левому борту галеры. Осознав, что это берег Италии, люди пришли в ужас от того, насколько далеко отклонились они от курса. Вскоре полоска земли скрылась вдали, и снова их окружали только море и небо. Георгиос снова пообещал, что как только им удастся вырваться из цепких лап злокозненного боры, они снова возьмут курс на какой-нибудь венгерский порт. В его речах ветер представал неким недобрым живым существом, способным на лукавство, и мало у кого из людей Ричарда возникало желание противоречить ему.
Когда буря все-таки кончилась, все обитатели «Морского змея», как матросы, так и пассажиры, были слишком измождены, чтобы радоваться. Сил им хватало только облегченно вздыхать. Спиро посоветовался со своей мореходной иголкой и положил галеру на новый курс. Но недолго путникам довелось радоваться избавлению, потому как несколько часов спустя случилась беда. Первым признаком, по которому Ричард понял, что нечто пошло совсем не так, был громкий крик, за которым последовала тирада ругательств – даже не зная греческого, ошибиться в тоне было невозможно. Поспешив на палубу, король обнаружил, что пираты толпятся у румпеля и гомонят все разом в явном испуге.
– Петрос, что стряслось?
Опасности и суматоха прежде только радовали молодого моряка. Теперь же он побледнел как смерть.
– Да поможет нам Бог, лорд, потому что мы лишились руля! Он не отвечает поворотам румпеля!
Петрос распространялся, что это могло стать результатом постоянных ударов волн, или что перо руля запуталось в водорослях или рыболовной сети. Но Ричард не слушал его: перед мысленным взором у него стоял покалеченный сарацинский корабль, тонущий после того как избранные христианские моряки поднырнули и опутали руль канатами, сделав гиганта легкой добычей для галер короля. Лишенный руля корабль не может управляться и оказывается в полной власти стихии.
* * *
Весь следующий день «Морского змея» влекло по воле течения, люди на его борту молились, поскольку больше предпринять ничего не могли. Но на следующее утро Спиро разбудил их криком, призывая Георгиоса. Петрос перевел, что впереди открылась земля, а изменившийся цвет воды говорит о близком впадении реки. Прилипшие к планширю путешественники напряженно вглядывались в горизонт и разразились радостными воплями, услышав далекий рокот прибоя. Наконец показался берег: зеленовато-серая полоса под свинцовым нависающим небом. Пираты снова сели за весла. Едва достигнув отмели, они попрыгали в воду и вытащили галеру на сушу. Грунт был вязкий, и моряки проваливались в него почти по колено, но даже болото показалось морякам раем после злоключений, пережитых на «Морском змее».
Пираты завели якоря, чтобы галеру не унесло приливом и, сыпя проклятиями, обнаружили, что руль действительно сломан. Ветер был пронизывающий, люди начали дрожать от холода. Все смолкли, озирая самую пустынную и бесприютную местность, которую им доводилось видеть. Деревьев нет, нет никакой растительности, если не считать скудной болотной травы. Ни единого звука, кроме шума прибоя, даже морские птицы не кричат. Никаких признаков жизни.
– Ну и куда же, Бога ради, нас занесло? – сказал наконец Ричард, озвучив крутившийся у всех вопрос.
Глава III Побережье Истрии
Декабрь 1192 г.
Чтобы найти более-менее твердый грунт и топливо, им пришлось углубиться внутрь материка на несколько миль. К тому времени стемнело, и едва заполыхало несколько костров, путники сразу завернулись в одеяла и провалились в сон, слишком уставшие, чтобы испытывать голод. На следующее утро душу им согрели проблески солнца – впервые за много дней небо не было затянуто пеленой грозовых туч. Посоветовавшись с рулевым «Морского змея» и изучив лучшую из имевшихся карт, Ричард выслал несколько человек на поиски цивилизации, остальные приготовились ждать.
Ричард сидел на земле, скрестив под собой ноги, и напряженно вглядывался в карту, словно та могла дать ему нужные ответы, стоит только смотреть достаточно долго. Когда подошли Варин и Морган, он на краткий миг поднял глаза, затем снова впился в карту. Варин наклонился поближе, чтобы было видно.
– Ты уверен, что Спиро правильно определил наше местоположение, лорд?
Плечи Ричарда слегка приподнялись, потом опустились.
– Он утверждает, что его путеводная стрелка всегда указывает на север, и на этом основании сделал вывод, что мы где-то на побережье между Венецией и Аквилеей.
Оба рыцаря смотрели поверх плеча короля на карту. Им обоим был известен курс, которым нужно следовать – на восток, в Венгрию. Это при условии, что им повезет где-то купить лошадей. Повезет не наткнуться на вражеский дозор, ведь теперь они на неприятельской территории. В отличие от Рагузы, воля императора Священной Римской империи тут закон.
– Тебе известно, сир, каковы намерения пиратов? – спросил Морган, чтобы избавиться от этих тягостных мыслей.
– Петрос говорит, что они починят руль и подлатают, как смогут, «Морского змея», затем пойдут вдоль побережья в Венецию, где проконопатят судно и зашьют рваные паруса. У них мало желания бросать вызов зимним штормам, выходя в открытое море, поэтому скорее всего ближайшие несколько месяцев они проведут, развлекаясь со шлюхами и пьянствуя в каком-нибудь безопасном порту. – Король улыбнулся одними губами. – Так что если кто-нибудь из вас предпочтет податься в пираты, я пойму.
– Вино и потаскухи – это заманчиво, – согласился Морган, стараясь попасть в тон браваде кузена. – Вот только я скорее приму постриг, нежели соглашусь снова ступить на палубу корабля.
Варин категорически не мог допустить, чтобы кто-то перещеголял его в способности смачно выражаться, поэтому заявил, что предпочтет пить козлиную мочу, чем снова выйдет в море, но его уже никто не слушал. Завидев подходящих Петроса и Георгиоса, Ричард встал.
Петрос понурил голову и отводил взгляд, чем сразу насторожил короля.
– Господин… – начал моряк. – Георгиос считает, что с тебя причитается больше двухсот марок. Он не рассчитывал, что за время этого плавания оба его корабля получат повреждения.
– Угу. А я не рассчитывал, что меня высадят у Богом забытой трясины, – хладнокровно возразил Ричард. – Разве эта местность напоминает ему Задар?
Когда Петрос перевел эти слова, вожак пиратов разозлился. Он начал было возражать, но на лице у Ричарда не дрогнул ни один мускул. Тогда Георгиос резко повернулся и пошел прочь. Бросив на короля виноватый взгляд, Петрос пошел за ним.
Когда они отошли подальше, Ричард кивнул.
– На самом деле я не осуждаю его за это. – Он обвел рукой унылые окрестности. – В конечном счете, многие ли пираты умеют, подобно Моисею, раздвигать воды морские? Георгиос старался как мог, и перед выходом из Рагузы я решил, что он заслуживает увеличения платы.
Варин и Морган озадаченно уставились на короля:
– Тогда почему ты отказал ему, сир?
– Потому что он потребовал этого от меня, Морган. Дай я согласие, Георгиос расценил бы это как слабость. Получив запрошенное, он тут же захотел бы больше.
Морган кивнул, с улыбкой отметив, что в тоне Ричарда прорезалась досада за то, что ему приходится разъяснять такие простые вещи. Валлиец давно усвоил, что люди, обладающие особым даром повелевать другими, редко понимают, насколько уникален этот талант. Морган наблюдал его в отце Ричарда и в его брате Жоффруа. А вот Хэл и Джон, другие братья, оказались его лишены. Король, не имеющей этой способности – это король-неудачник, вроде правившего Англией Стефана: отважного командира на поле боя и очаровательного собеседника в большом зале, однако его правление стало известно как «анархия», как время, когда «Господь и все святые спали».
Резкий оклик одного из часовых привлек внимание к дороге, извивавшейся по направлению к западу. Когда подъезжающие всадники назвались, рыцари с облегчением вздохнули, поскольку не ожидали возвращения своих так скоро, да еще верхом.
Ричард отобрал для разведки Ансельма и Арна за их знание латыни и немецкого, придав им в качестве охраны Гийена де л’Этанга и двоих тамплиеров. Едва посланцы спешились, их обступили и закидали вопросами о том, что они выяснили, и шутками насчет лошадей, ни одну из которых нельзя было счесть достойной седла рыцаря, не говоря уж про короля. Наконец Ричард велел всем замолчать и дал слово Ансельму.
Капеллан был человек молодой и пользовался симпатией спутников, поскольку был весел, добр и охотнее закрывал глаза на грехи смертных, чем большинство священников. А еще слишком восхищался Ричардом, чтобы накладывать слишком суровую епитимью за королевские проступки. На его лице читалось вполне понятное удовлетворение успехом своей миссии, но Ричард достаточно хорошо его знал, чтобы разглядеть за улыбкой озабоченность, и приготовился к дурным вестям, хотя начал Ансельм с хороших.
– Неподалеку отсюда, государь, располагается деревушка под названием Латизана. Поначалу мы не знали, как быть, потому что тамошний священник слишком слабо владеет латынью, чтобы объясниться со мной, а местные жители говорят на каком-то из итальянских наречий. Но потом нам удалось разыскать кузнеца, разумеющего по-немецки. Он подсказал Арну, где найти торговца лошадьми. Мы скупили у него все, что было, даже этого. – Капеллан махнул в сторону полуслепого мерина с провисшей спиной. – Годится под вьюки. Барышник говорит, что мы сможем докупить коней в городе Герц, что к востоку от Латизаны.
Арн не смог дольше молчать, потому как был очень горд первым своим опытом в качестве переводчика.
– Народ там повел себя дружелюбно, милорд, стоило только разнестись вести, что мы пилигримы, возвращающиеся из Святой земли. Там настоящая мешанина из языков, как в Рагузе – итальянские и славянские наречия. Но многие говорят и на немецком, и я наверняка смогу послужить тебе толмачом в Герце – у тамошнего лорда немецкое имя: Энгельберт.
Взгляд Ричарда метнулся с паренька на Ансельма.
– Расскажи мне про этого Энгельберта, – приказал он, заранее уверенный, что не обрадуется вестям.
– Это граф Герца, сир. Он делит власть со своим братом Мейнхардом. Его отец умер в прошлом году, так что правит Энгельберт совсем недолго. Но судя по услышанному нами в Латизане, народ его уважает. Ясное дело, он вассал императора Священной Римской империи…
– И? – подстегнул его Ричард.
Ансельм подтвердил худшие подозрения, помрачнев лицом.
– А также доводится племянником Конраду Монферратскому, сир, – выдавил священник.
В повисшем тягостном молчании его слова зловещим эхом разнеслись в морозном декабрьском воздухе. Конрад, итальянско-немецкий феодал и авантюрист, был убит членами наводящего ужас сарацинского культа, так называемыми ассасинами, буквально несколько дней спустя после своего избрания королем Иерусалимским. Епископ Бове и герцог Бургундский не преминули заклеймить Ричарда, обвинив его в сговоре с убийцами. Ричард с презрением отметал обвинение, утверждая, что никто, знающий его, не поверит в подобную клевету. Вот только как отнесется к ней родич Конрада?
* * *
Петрос был очень доволен полученной им надбавкой. Моряк твердил, что собирается по весне вернуться в Мессину, но Ричард подозревал его в намерении попробовать себя на поприще пирата и поэтому, поблагодарив молодого матроса за услуги, только наполовину в шутку дал ему совет:
– Возвращайся на Сицилию, парень. Там меньше шансов, что тебя повесят.
Затем король подошел к Георгиосу. Он уже уплатил вожаку пиратов оговоренные двести марок, но теперь бросил ему в руки кожаный кошель.
– Здесь, надо думать, меньше, чем ты хотел, но больше, чем ты заслуживаешь, – процедил Ричард. – Но тебе нужно покрыть издержки на ремонт «Морского волка» и «Морского змея». Отдай часть Спиро, который честно отработал каждый свой денье во время той высадки на Ла Крому.
Гордость помешала Георгиосу открыть кошель прямо на месте, но тот был приятно увесистым, и пират ухмыльнулся:
– Мы в расчете. Мне теперь никогда в жизни не придется платить за выпивку – стоит только рассказать о моем путешествии с королем, прозванным Львиным Сердцем.
Вскоре к нему и Петросу присоединился Спиро, и трое моряков стояли и смотрели вслед Ричарду и его людям, удаляющимся на восток, к Герцу. Арн обернулся и помахал, затем дорога сделала поворот, и всадники скрылись из виду.
– Да поможет им Бог, – промолвил вполголоса Спиро, разворачиваясь.
Петрос услышал его замечание и нахмурился.
– Обязательно поможет, – заявил он. – Фортуна улыбается государю.
Георгиос пересчитывал монеты из кошеля, но при этих словах поднял голову.
– Тут одной удачи будет мало, – сказал пират, и на этот раз Петрос не стал спорить.
* * *
Замок Герц господствовал над равниной. Он угнездился на холме, возвышающемся над городом, а за ним бледное зимнее небо пронзали увенчанные снеговыми шапками горные пики. Окольцованный толстыми каменными стенами и глубокими рвами, замок выглядел так, будто способен выдерживать осаду хоть до второго пришествия – то было не особенно приятное зрелище для стоявших на улице внизу. Первым заговорил Морган.
– Будем надеяться, что нам не предстоит изведать гостеприимство тамошних темниц, – сказал он и пошел дальше по дороге, сопровождаемый Ансельмом и Арном.
Впустили их без проблем, но граф Энгельберт держал в большом зале совет, выслушивая петиции, жалобы и разрешая местные дрязги, поэтому к нему их проводили уже ближе к вечеру. Граф сидел за поставленным на козлы столом, рядом с ним на стульчике примостился писец, разложивший письменные принадлежности на доске на коленях. Энгельберт оказался моложе, чем они ожидали, ему явно не исполнилось и тридцати. Не будь он облачен в тунику из дорогой шерсти, отороченную мехом мантию и не носи на пальце золотой перстень-печатку, никто не обратил бы на него внимания, потому как у молодого человека было невыразительное худое лицо, сгорбленные плечи, а волосы были какого-то неопределенного коричневого оттенка. Зато взгляд у него был цепкий, даже пронзительный, в карих глазах читались ум и подозрение к чужеземцам, вполне привычное для тогдашнего мира, где большинство людей никогда не покидало родных краев.
– Так вы, значит, пилигримы, возвращающиеся из Святой земли? – То ли его латынь оставляла желать лучшего, то ли граф предпочитал разговаривать на родном языке, но он обратился к единственному немцу среди гостей. – Назовитесь.
Ощутив вдруг волнение, Арн помедлил, но когда Ансельм и Морган ободряюще улыбнулись ему, сделал шаг к столу.
– Нас возглавляют фламандский лорд Балдуин де Бетюн, а также наш хозяин Гуго, который в своей стране является купцом, торгующим шелками. – Слова заготовленной заранее истории полились теперь более свободно. – С нами путешествуют также несколько рыцарей-тамплиеров. Они испрашивают у тебя охранной грамоты на проезд по твоим владениям, милорд граф, во имя Господа нашего Иисуса Христа, за которого им довелось сражаться.
Лицо графа могло показаться высеченным из того же камня, из которого был сложен замок, потому как не выражало ни единой эмоции. Путешественники понятия не имели, о чем он думает.
– Вы видели Иерусалим? – спросил Энгельберт после тревожно долгой паузы. Когда Арн ответил что да, граф почти неуловимо кивнул. – Значит, вам довелось посетить Гроб Господень?
Получив от Арна очередной утвердительный ответ, граф взял стоявший рядом серебряный кубок и сделал глоток вина.
– И вы останавливались в Рагузе? – спросил он.
– Нет, лорд! – Арн вытаращился на него. – Мы заходили за припасами в порт, который называется Пула.
Юноша торопливо добавил, что они направлялись в Триест, но сбились с курса из-за встречного ветра-боры.
Это заявление было встречено новым продолжительным молчанием, и Арн с мольбой посмотрел на спутников. Хотя Ансельм с Морганом и не понимали слов, но чувствовали, что разговор протекает не так, как хотелось бы. Решив доказать графу насколько ценно им его расположение, Ансельм вытащил подарок из своей дорожной сумы и передал Арну. Парень стиснул предмет на удачу, затем чинно положил на стол, завороженный тем, что ему довелось распоряжаться, пусть и на миг, такой ценностью.
Когда на подарок упал свет факела, перстень как будто вспыхнул; массивный рубин заалел в обрамлении чеканного золота.
– Вот дар от моего хозяина, купца Гуго, – важно объявил Арн, – призванный показать, как высоко ценим мы твою доброту и гостеприимство, милорд граф.
При виде перстня глаза Энгельберта расширились. Но руки за подарком он не протянул, а повернулся и приказал писцу выйти. Откинувшись в кресле, граф задумчиво посмотрел на гостей.
– Твоего господина зовут не Гуго, – промолвил он наконец. – Ты служишь английскому королю.
Арн ахнул, не в силах ничего сказать. Но Морган обладал хорошим слухом на языки, да и нахватался немецких слов за проведенные в компании оруженосца месяцы. Выхватив из речи графа «englische» и «könig», он без труда понял причину исказившего лицо Арна ужаса, и расхохотался. Его спутники проявили сообразительность, и тоже деланно рассмеялись.
– Скажи графу, – велел парню Морган, – что наш господин будет сильно польщен, будучи по ошибке принят за короля. Однако мы можем заверить графа Энгельберта, что речь идет всего лишь о торговце и паломнике, не более того.
Когда Энгельберт потянулся за перстнем, все трое затаили дыхание. Молодой граф без спешки рассмотрел подарок, провел большим пальцем по искрящемуся рубину, по замысловатой золотой оправе, с любовью сделанной пизанским ювелиром. Затем положил кольцо на стол и пододвинул к гостям.
– Я не могу его принять. Передайте королю английскому, что я уважаю данный им обет и его борьбу за освобождение Святой земли от безбожных сарацин. Но скажите также, что он в большой опасности и ему следует немедленно покинуть Герц, поскольку я не смогу его защитить, стоит распространиться слухам о его присутствии здесь. Император Генрих щедро заплатит всякому, кто предаст ему в руки вашего государя.
* * *
Разыскав гостиницу, Ричард и его спутники впервые за неделю поели горячего. Затем король отрядил Арна и Балдуина покупать коней, и те порадовали барышников Герца, скупив лучших лошадей, каких мог предложить город. Затем Арн, Ансельм и Морган отправились испрашивать у графа охранную грамоту на проезд, и, ожидая их возвращения, Ричард пошел на конюшню, проверить что там понакупил Балдуин. Кони оказались не так плохи, как он опасался, но король быстро пришел к выводу, что Балдуин переплатил. Когда прочие их товарищи согласились с этим мнением, Ричард улыбнулся и заверил Балдуина, что переплата за лошадей в Герце едва ли лишит его сна.
Сон. Это слово было слаще меда, поскольку никому из них не удавалось проспать ночь напролет со дня их выхода из Рагузы. В конюшне они были одни, потому как грумы пошли ужинать, и поэтому могли говорить свободно – большую часть этого дня они молчали, чтобы не привлекать к себе внимания французской речью. Наклонившись, чтобы осмотреть переднее копыто у гнедого мерина, Ричард распрямился с трудом, чувствуя себя так, будто за сутки состарился лет на двадцать.
– Раньше я на койку обращал внимание, только если в ней была женщина, – признался он Балдуину. – Но теперь простой матрас в этой грязной, кишащей блохами гостинице для меня привлекательнее, чем королевский дворец в Акре.
Балдуин кивнул и указал на тенистый угол, в котором, прямо стоя на ногах, дремал один из тамплиеров.
– Лучше нам попросить хозяина гостиницы разбудить нас поутру, а то мы и Рождество проспим. Как долго мы можем здесь задержаться?
– Это зависит от того, насколько преуспеют Морган и Ансельм. Если им не удастся попасть к графу или тот откажет дать охранную грамоту, нам придется уйти на рассвете. Но если перстень купит его поддержку, то, думаю, мы сможем остановиться на пару дней. Господь свидетель, нам всем не помешает отдохнуть…
Заслышав приближающиеся к конюшне шаги, Ричард осекся. Балдуин тоже насторожился и толкнул тамплиера, который по солдатской привычке тут же проснулся. К ним спешили адмирал Роберт де Тернхем и Гийен де л’Этанг. Лица у них были мрачные. За их спинами Ричард разглядел Ансельма и Моргана, за ними плелся Арн, как по волшебству лишившийся своего щенячьего задора. Было очевидно, что Роберту и Гийену известно о встрече в замке, но подойдя к королю, оба расступились, пропуская вперед капеллана и кузена Ричарда. И тот понял, что его ждет новая порция скверных новостей.
– Мы одни? – спросил Ансельм по латыни, с трудом удержавшись, чтобы не добавить «монсеньор» – не так-то просто было избавиться от привычки к субординации. – Можем говорить здесь?
Когда Ричард кивнул, Ансельм и Морган переглянулись.
– Граф Энгельберт… – начал Морган, решив обойтись без обиняков. – Ему известно, кто ты. Когда мы вручили ему перстень, граф сказал, что… – Морган помедлил, чтобы набрать в грудь воздуха и поточнее припомнить фразу. – Граф сказал: «Твоего господина зовут не Гуго. Ты служишь английскому королю».
– Господи Боже, – едва слышно промолвил Ричард. – Откуда Энгельберт… – Он не договорил, потому что это не имело значения. – Как вы выбрались?
– Вы привели за собой стражу? – с угрозой осведомился Балдуин, и Морган с Ансельмом возмутились.
– Нет! – хором возразили они, и наперебой пустились в объяснения.
Ричард вскинул руку, призывая к тишине, и показал, что рассказывать будет Морган.
– Граф не задержал нас, – сообщил тот. – Он даже перстень не взял. Сказал, что уважает принятый тобой обет и заслуги в войне с Саладином.
Ричард задумался, едва ли не впервые сам изумившись своему удивительному везению. Неужели ему на самом деле довелось найти честного человека среди оравы холуев и прихлебателей Генриха?
– И он ничего не сказал про Конрада?
Морган покачал головой.
– Ни словом не обмолвился, сир, – подтвердил Ансельм.
– Зато упомянул про Рагузу, лорд, – вмешался Арн. – Спрашивал, останавливались ли мы там. Я, понятное дело, сказал что нет.
– Однако граф предупредил, что нам следует немедленно уезжать из Герца, – уныло продолжил Морган. – По его словам, мы в большой опасности, и Генрих раскинул широкую сеть. Его люди будут искать тебя повсюду, поскольку ты можешь оказаться где угодно.
Ричард с минуту молчал, взвешивая стремительно тающие варианты выбора. Ему не удавалось вспомнить, когда еще он чувствовал себя таким усталым и отчаявшимся. Повернувшись к тамплиеру, король велел ему привести людей, отправившихся в таверну, расположенную на противоположной от конюшни стороне улицы, а Арна послал в гостиницу собирать вещи. А затем отдал ноющему телу и отказывающейся служить голове приказ, которого все так страшились:
– По коням, – глухо бросил он.
* * *
Метильдис Андехская, бывшая графиня Пизино и нынешняя графиня Герца, злилась на мужа. Тот часами ворочался и метался в постели, мешая ей спать. Это было все равно, что ночевать с речным угрем. И когда он в очередной раз крутанулся, угодив ей локтем в ребро, она решила, что с нее хватит.
Метильдис села в кровати и потрясла супруга за плечо.
– Ты бы лучше рассказал, что тебя так беспокоит, Энгельберт. Пока ты не облегчишь душу, все равно никто из нас не уснет.
Граф тоже сел и пригладил пятерней спутанные волосы.
– Как скажешь, дорогая.
Такая готовность зародила в ней искру сомнения – не специально ли он разбудил ее, чтобы поговорить? Обычно ей приходилось упрашивать его облегчить душу. Следующий поступок мужа удивил графиню еще сильнее: сердитым приказом разбудив сквайра, он велел заспанному мальчишке принести из кладовой кувшин с вином. Энгельберт обычно был мягок со слугами, даже слишком, по мнению его жены, и оруженосец явно был удивлен тем, что его резко вырвали из сна и отправили посреди ночи с поручением. Поеживаясь от холода, он торопливо оделся, закутался в плащ и побрел к двери. Как только они остались одни, Энгельберт отдернул льняной полог, и темноту над их укромным ложем отчасти рассеял свет от пылавших в очаге поленьев.
К этой минуте Метильдис ощутила уже волну тревоги.
– В чем дело, Энгельберт? – спросила она, и от прежнего раздражения в голосе не осталось и следа. – Что стряслось?
Она не знала, чего ожидать. Они были женаты два года, время достаточное, чтобы понять: ее муж из тех, кто склонен к беспокойству, угрызениям совести и копанию в себе. Но следующие его слова заставили ее ахнуть.
– Английский король в Герце.
– Что? Здесь? Ты уверен?
Света было достаточно, чтобы разглядеть утвердительный кивок графа.
– Сегодня он прислал ко мне троих своих людей просить охранную грамоту. Они, понятное дело, назвались чужим именем, сказали, что служат у купца, возвращающегося вместе с другими пилигримами из Святой земли. Но я-то знал, что это не так.
Метильдис уже полностью стряхнула сон и как завороженная представляла, какими почестями осыплет их император, когда ему приведут взятого в плен заклятого врага.
– Как ты это понял, Энгельберт? Что заставило тебя их заподозрить?
– Два дня назад ко мне приходил один человек, уже приносивший прежде полезные сведения. Он рассказал, что в портовой таверне в Аквилее встретил моряка, чей корабль на неделе прибыл из Рагузы. Тот моряк заявил, что английский король в Рагузе, радушно встречен графом и жителями как избавитель Святой земли и обещает построить в городе большой собор. Мне это сообщение показалось сомнительным, я отмел его как обычную болтовню во хмелю. Но когда эти люди пришли ко мне за охранной грамотой, держались они так напряженно, что мне сразу вспомнилась та сплетня. Стоило мне упомянуть про Рагузу в разговоре с тем юнцом, что знает немецкий, как он сделался белым, как воск у поминальной свечи. Я все еще сомневался, конечно, но тут они вручили мне в качестве подношения перстень – такого великолепного рубина я в жизни не видел.
– Правда? – Метильдис затаила дух, поскольку питала слабость к драгоценным камням. Но как бы ни хотелось ей увидеть подарок, с этим можно было обождать. – Одного я не пойму, Энгельберт: каким образом перстень подтвердил твои подозрения?
Граф тонко улыбнулся:
– Потому что ни один купец, даже самый богатый, не расстанется со столь ценным предметом. Такой широкий жест подобает только королю – человеку, привыкшему жить на широкую ногу и проявлять щедрость, не думая о затратах.
Это соображение показалось Метильдис разумным.
– А дальше что? Они пытались отрицать? – Женщина сомневалась, что английский король уже в темнице, иначе она давно бы знала об этом. Все знали бы. Трудно было не выговорить мужу за то, что он хранил от нее такой секрет, но Метильдис проглотила обиду и только спросила, удалось ли ему заставить их выдать тайну местонахождения Ричарда. Даже если чужеземцы вздумают запираться, долго они не продержатся. Ее брат сказал ей однажды, что есть способы разговорить даже самого храброго человека, а когда на кону такие ставки, Энгельберт наверняка не станет миндальничать.
Однако супруг ничего не ответил и как-то странно посмотрел на нее. Она не могла истолковать этот взгляд и ощутила смутное беспокойство.
– Энгельберт, ты о чем-то умалчиваешь? Ричарду ведь не удалось сбежать?
– Нет, – промолвил граф, и Метильдис с облегчением выдохнула. Но потом он добавил: – Я отпустил его.
– Что-что?
В ее голосе было такое недоумение, такой ужас, что Энгельберт вспыхнул.
– Я отпустил его, – повторил он, на этот раз с нажимом и вызовом. – Это был правильный поступок, Метильдис. Этот человек принял крест и находится под защитой церкви. Да и не совершил ничего такого, за что его нужно хватать. Между Англией и империей нет войны.
Графиня была так поражена, что озвучила первый же довод, какой пришел ей на ум:
– Как ты можешь говорить, что его не за что задерживать? А как же убийство твоего дяди?
– Ты ведь и сама в это не веришь, так ведь? – Кончики его губ искривились в ироничной усмешке. – Если в христианском мире есть человек, который предпочитает сражать недруга собственной рукой, так это Ричард Английский. Конрад же считал потерянным день, когда ему не удавалось нажить очередного врага. Так что в конечном счете он пожал то, что посеял.
Метильдис открыла было рот, потом закрыла. Упоминание про Конрада было ошибкой. Конрад без зазрений совести развелся с первой женой, теткой Энгельберта, когда ему представилась возможность посвататься к сестре византийского императора в Константинополе.
– Ты хоть понимаешь, что натворил, Энгельберт? Ты пошел против императора Генриха!
– У меня не было выбора! Позиция Святой церкви изложена яснее некуда: людям, принявшим крест и сражающимся с неверными, нельзя причинять вред. Допустим, я попытаюсь его арестовать, он окажет сопротивление – а он обязательно окажет – и будет убит? Папа отлучит меня, и я буду обречен на вечные муки!
– Это нынешний-то папа? Этот робкий старикашка? Да он не осмелится бросить вызов Генриху!
– Отлучить Генриха ему духу, может, и не хватит, допускаю. А вот меня? Из меня получится великолепный козел отпущения. Да и почему я должен подвергать опасности мою бессмертную душу только ради того, чтобы угодить Генриху?
– Никогда не поверю, что ты больше боишься прогневать папу, чем императора! Ты ведь не настолько слеп и глуп?
– Довольно разговоров! – отрезал граф. – Я поступил по велению моей совести, а это лучший советчик. Я больше ни скажу об этом ни слова, и от тебя не услышу. Это ясно?
Темперамент у Метильдис был куда более горячий, нежели у супруга. Она быстро вспыхивала, но так же быстро погасала. Зато пожар в душе у Энгельберта было трудно разжечь и трудно побороть. Женщина поняла, что разворошила остывшие угли и те занялись, поскольку подметила, как застыло лицо мужа. Она знала, что теперь лучше выждать, пока его гнев не пройдет сам собой. Вот только время было роскошью, не доступной ей – пока суд да дело, английский король с каждым часом удаляется от Герца. Метильдис была дамой гордой, дочерью графа и сестрой герцога, не из тех, кто играет роль покорной, уступчивой жены. Но когда на кону такой куш, выбирать не приходилось.
Она положила руку мужу на плечо.
– Прошу прощения, господин мой супруг. Я воистину слишком резко говорила с тобой. Простишь ли ты меня?
Энгельберт полуобернулся к ней, и в его лице читалось удивление, но одновременно и подозрительность.
– Как правило, ты не слишком склонна извиняться, – с сомнением протянул он.
Но руки ее не сбросил, и Метильдис это обнадежило. Муж не так убежден в своей правоте, как пытается показать. Да и если бы душу его не грызли сомнения, с чего бы ему лишаться сна?
– Я бываю строптивой, знаю, – повинилась женщина. – Но тут дело другое, Энгельберт. Мы должны встретить опасность вместе, объединиться против нее. Я вполне понимаю, почему ты поступил именно так, – слукавила она. – Ты человек куда более порядочный, чем Генрих. Если не хочешь обсуждать больше эту тему – я подчинюсь твоей воле. Так же как поддержу тебя в любом принятом тобой решении, как твоя супруга и графиня. Только умоляю, ответь на два вопроса. Всего на два. После этого, обещаю, я и рта не раскрою.
Он подался глубже в тень, отбрасываемую пологом кровати, и ей нельзя было теперь разглядеть выражение его лица.
– Ладно, – сказал Энгельберт после долгой паузы, заставившей ее стиснуть кулачок так, что ногти впились в ладонь. – Задавай свои вопросы.
– Спасибо, – ответила графиня, решив про себя, что муж еще ответит за то, что вынудил ее так унизиться. Возможно, расплатой станет тот самый перстень с рубином, полученный им в дар – она обожала рубины.
– Первый вопрос таков: думаешь ли ты, что английскому королю удастся избежать поимки и благополучно добраться до Венгрии или Саксонии? – промолвила она.
– Нет, – ответил он после такой же мучительно долгой паузы. – Не думаю.
– Вот и я тоже, – поспешно согласилась она. – А когда его поймают, что будет тогда?
– А мне-то откуда знать?
«Знать-то ты знаешь, – сказала Метильдис себе. – Просто не хочешь этого признавать». Но обращаясь к мужу, постаралась не выдать в голосе ни малейшего оттенка осуждения.
– Стоит ему оказаться во власти императора, все выплывет наружу: как ты мог захватить его в Герце и не захватил. Как думаешь, узнав про то, что ты дал Ричарду уйти, простит тебя Генрих или нет?
Вопросов на самом деле получилось три, но графиня была уверена, что супругу не до подсчетов, поскольку наверняка именно последний, третий, вопрос как раз касался сути дела и лишал графа сна.
Энгельберт молчал так долго, что Метильдис испугалась вовсе не дождаться ответа.
– Нет, – промолвил он наконец очень тихо. – Я знаю, что не простит.
Метильдис смежила веки и вознесла благодарственную молитву за то, что к мужу вернулся разум.
– Ты внял совести и дал английскому королю шанс уйти. Но теперь ты обязан защитить себя, Энгельберт. Ты исполнил свой долг христианина. Настало время исполнить долг императорского вассала. Завтра поутру пошли весточку своему брату Мейнхарду, что Ричарда Английского заметили, по слухам, в Герце. Если его где-то схватят, это будет не твоя вина. Король в руках Божьих, как и все мы.
Она затаила дыхание, ожидая возражений и отказа с его стороны. Когда их не последовало, Метильдис ощутила такое облегчение, что бессильно повалилась на подушки. У нее было такое чувство, что она находилась на волосок от страшной опасности. Нащупав его ладонь, она пожала ее.
– Ты пошлешь гонца к Мейнхарду?
– Пошлю.
Слово прозвучало едва слышно, но для нее этого было достаточно. Затем наступила тишина, и судя по тому как выравнивалось и замедлялось дыхание мужа, графиня поняла, что он погружается в сон. Ему необходим покой, подумала она, как способ обрести мир в разрываемой надвое душе. Ее тоже стало клонить в дрему. Но тут в памяти всплыло нечто важное.
– Энгельберт, а тот перстень с рубином… Где он?
– Какой такой… – пробормотал граф, зевнув. – Я вернул его назад.
И он снова провалился в сон и не слышал, как с уст его жены сорвалось шипение, похожее на звук рассекающей воздух стали.
Глава IV Удине, Фриули
Декабрь 1192 г.
Сбежав из Герца, Ричард и его люди нашли той ночью приют в хижине углежога. Хозяин и его семейство насмерть перепугались при появлении вооруженных чужестранцев, и попытки Арна успокоить их не принесли успеха. Лишь с рассветом, когда воины ускакали прочь, бедняги вздохнули свободно. И обрадовались неожиданной удаче, потому как за оказанный против воли прием рыцари оставили щедрую сумму – столько монет им никогда даже видеть не доводилось. Смеясь и обнимаясь, домашние углежога дали обет помолиться за этих таинственных иноземцев святому Христофору, покровителю путников, чтобы он берег их на опасных горных дорогах.
* * *
Пивная была тесная и грязная, от разбросанного по полу тростника воняло протухшим элем и мышиным пометом, стены стали бурыми от дыма с черными полосами сажи. Она была набита до отказа, потому как денек выдался холодный, свинцовые тучи предвещали снегопад. Ричарду и его людям с трудом удалось найти место. Еду подавали соответствующую заведению, но рыцари не жаловались, потому как нет приправы лучше голода, а это был первый их прием пищи со времени выезда из Герца.
За время короткого пребывания в хижине углежога они посовещались и решили, что добираться до Венгрии теперь слишком опасно, лучше взять курс на север, в Моравию, где правил брат герцога Генриха Льва Оттокар Богемский, и где они рассчитывали найти теплый прием. Добравшись до города Удине, рыцари стороной обошли замок, не отважившись на еще одну попытку попросить охранную грамоту. Умудрившись найти стойло для лошадей, путники расположились в гостинице по соседству, а оттуда отправились искать таверну, где можно поесть и выпить. Поглощая бобы с селедкой и кислым хлебом, они пытались не вспоминать о роскошном обеде из четырех блюд, устроенном в их честь архиепископом Бернардом и графом Рафаэлем. Меньше двух недель прошло с момента отплытия из Рагузы, но это событие уже казалось им частью далекого-далекого прошлого.
Вокруг бурлила знакомая суета: слышались смех, добродушное ворчание, сбивающиеся с ног служанки разносили пиво, разливая которое ухитрялись еще и уклоняться от игривых шлепков посетителей. Не звучи тут немецкая речь, разбавляемая итальянскими диалектами, можно было бы вообразить себя сидящим в корчме или таверне в родных краях. Сами они ели молча, не желая привлекать внимание своим французским, и представляли собой угрюмый островок среди разгульного шумного моря завсегдатаев. Арн вышел в уборную, а Гийен де л’Этанг пересел и занял его место на скамье рядом с королем.
– Мне кажется, за нами следят, – тихонько сообщил он. – В углу у бочонка с элем. Тот человек в зеленом шерстяном плаще и в войлочной шапке.
Ричард немного передвинулся, чтобы рассмотреть подозрительного типа, на которого указывал Гийен. Это был мужчина лет сорока, среднего роста, с аккуратно подстриженными каштановыми волосами и бородкой, с тонким белым шрамом, пересекавшим лоб над густыми бровями и с карими глазами под припухшими веками. Одет он был хорошо – явно человек с деньгами, а меч на бедре носил так, как носят его люди, чувствующие себя голыми без оружия. Потягивая эль, он с показным безразличием разглядывал посетителей, но стоило Ричарду посмотреть в его сторону, сразу отступил глубже в тень.
– Я его сначала в конюшнях приметил, – сообщил Гийен на ухо Ричарду. – Он вошел, как раз когда мы выходили. Потом, пока мы искали гостиницу, он слонялся по рыночной площади. Теперь вот объявился здесь. Удине не Париж, но и не какая-нибудь деревня, поэтому странно, что стоит обернуться, как он тут же попадается на глаза.
Ричард согласился. Обменявшись вполголоса парой фраз с Гийеном, он дождался возвращения Арна, без спешки встал, бросил на стол несколько монет для служанок. Следуя его примеру, спутники допили пиво и поднялись со скамей, стараясь спрятать поспешность за показной беспечностью. Едва оказавшись на улице, Гийен хлопнул соседа по спине, как сделал бы прощающийся с приятелями гуляка, и исчез в примыкающем к корчме переулке. Остальные разбились на группки и разными дорогами вернулись в гостиницу.
С наступлением ночи задул пронзительный ветер, и при каждом его порыве столб с гостиничной вывеской скрипел и кренился. На вывеске значилось: «Der Schwarz Löwe». «Черный лев». Зверь был намалеван грубо и казался серым в тех местах, где краска полиняла. Это было не то зрелище, что могло утешить наших путников, потому как черный лев являлся гербом династии Гогенштауфенов. Сама гостиница была такой же убогой, как вывеска, и ее хозяин был жутко удивлен и обрадован, когда новые постояльцы сняли две комнаты. В тогдашние времена отдельное помещение было роскошью, доступной немногим, и большинству путников приходилось делить с чужаками не только номер, но и постель. Подстегиваемый в равной степени любопытством и алчностью, хозяин лез из кожи вон, стараясь угодить постояльцам: предлагал вино, свечи, дополнительные одеяла, даже женское общество, если интересует – божился, что дамы будут молодые, красивые и без заразы. Претерпев неудачу в образе купца в Герце, здесь Ричард решил выдать себя за тамплиера – эта личина больше подходила к человеку, в котором даже походка выдавала воина. Наконец Арн отделался от держателя гостиницы, сказав ему, что они все рыцари-храмовники и сержанты ордена, давшие обет целомудрия.
Комнаты были маленькие, и когда все двадцать путешественников собрались в одной из них, то места там едва хватало, чтобы стоять, не говоря уж присесть. Все ждали в напряженной тишине, нарушаемой иногда хриплым кашлем одного из арбалетчиков. Казалось, минули годы, прежде чем Гийен дважды стукнул в дверь и проскользнул внутрь. Однако принесенные им вести были хорошими. Рыцарь прятался в переулке, пока колокола не прозвонили к вечерне, но человек в зеленом плаще так и не вышел из пивной.
– Похоже, я склонен видеть тень, где ее нет, – признал л’Этанг с виноватой улыбкой.
Теперь, с облегчением выдохнув, люди осознали насколько они устали, и тамплиеры с арбалетчиками ушли в свою комнату. Спутники Ричарда расстелили одеяла, сняли сапоги, брони и оружие, но лечь приготовились в одежде. Ричард присел на угол одной из двух имеющихся у них кроватей и снова принялся изучать карту, что делал при всяком удобном случае. Король тщательно следил, чтобы воск от свечи не капал на пергамент. Ансельм листал псалтирь. Морган латал дыру в сапоге вырезанным из ремня куском кожи. Варин ворчал, распарывая ножом стежки на подкладке плаща: деньги, которые не хранились в седельных сумах, путники зашили в одежду, но Варин расположил монеты слишком близко, и обнаружил, к своему разочарованию, что при ходьбе они позвякивают. Он все колдовал над плащом, теперь уже с иглой, когда прочие стали задувать свечи, мечтая об объятьях сна, как в другое время мечтали бы о женских объятьях. И в эту-то минуту послышался тихий стук в дверь.
Ричард, стягивавший сапоги, замер и сделал знак Арну. У большинства мелькнула мысль, что это надоедливый хозяин гостиницы пытается выудить из них еще пару монет, но все равно сели на подстилках, потому как приучились быть всегда настороже, как уличные коты. Зевая, Арн подошел к двери.
– Wer ist das?[4]
– Друг.
От этого произнесенного шепотом слова у навостривших уши людей побежали мурашки, потому что оно было французским.
Ричард взял меч, который всегда держал под рукой, и кивнул Гийену. Тот вытащил из ножен кинжал и занял пост у стены. Арн медленно сдвинул засов; вид у него был такой, будто он ожидал узреть на той стороне демона. Скрипнули петли, дверь отворилась, и за ней оказался тот самый человек из пивной. Едва он переступил через порог, рука Гийена взяла в захват его горло, а острие кинжала уткнулось под ребра.
– Я друг, – просипел незнакомец. – Богоматерью клянусь!
Ричард велел зажечь свечу.
– Ты кто? – спросил он, и голос его был не менее пугающим, чем меч, уткнувшийся в грудь непрошенному гостю.
Ответом был судорожный хрип, потому что Гийен непроизвольно усилил хватку. Когда он ослабил мускулы, человек в зеленом плаще отдышался, затем сказал, что его зовут Роже д’Аржантан.
Аржантан был город в Нормандии, что объясняло беглый французский.
– Отпусти его, – распорядился Ричард. Гийен разжал захват, но, и отступив на шаг, кинжала не опустил. Тон у Ричарда был ледяным. – Так зачем ты сюда пожаловал, Роже д’Аржантан? Не самый удобный час, чтобы навещать странников.
Роже не сопротивлялся, когда Морган подошел и забрал у него меч.
– Мне срочно нужно поговорить с тобой, милорд король, – сказал он, опустившись перед Ричардом на колено.
Кое-кто не сдержал удивленного возгласа. Ричард не проронил ни звука и просто смотрел на коленопреклоненного человека.
– Да ты спятил? – Он осклабился. – Разве короли останавливаются в такой дыре, как эта? И Бога ради, встань, не ставь себя в дурацкое положение.
Роже не двинулся.
– Я вассал графа Мейнхарда. Ему сообщили, что английский король может проехать этой дорогой. Он отрядил меня на поиски, монсеньор, поскольку знает, что я видел тебя, когда ездил в Нормандию навестить свою семью. Это было девятнадцать лет назад, и тебе тогда было всего шестнадцать. Но ты не так уж сильно переменился, сир. Я сразу тебя узнал.
Ричард раздраженно тряхнул головой.
– Либо ты спятил, либо пьян, – сказал он. – Неужто ты на самом деле думаешь, что английский король рискнет ехать через земли императора с горсткой людей? Говорят, что он человек отчаянный, но не безумец.
Подыгрывая государю, рыцари захмыкали. Но в глазах у Роже стояли слезы.
– Ну что мне сказать, чтобы ты поверил? Разве осмелился бы я прийти сюда вот так, если бы не хотел помочь тебе? Узнав тебя, я мог бы просто вернуться в замок и донести графу Мейнхарду. И ты проснулся бы в гостинице, окруженной воинами. Вместо этого я пришел к тебе, поставив на кон свою голову. Господь свидетель, если ты не выслушаешь меня, ты обречен на гибель!
В его голосе звучали такие искренние эмоции, что Ричард дрогнул: способен ли человек притворяться так искусно?
– Ты сказал, что являешься вассалом графа Мейнхарда, – сказал он. – Зачем тогда тебе «ставить на кон голову» ради английского короля?
– Граф Мейнхард и в самом деле мой сеньор, – тихо ответил Роже. – И был милостив ко мне. Но я рожден и вырос в Нормандии, и ты мой герцог. Меня совесть замучит, если я предам тебя.
Ричард пристально вглядывался в лицо нормандца.
– Я тебе верю, – сказал он наконец, и Роже в первый раз с тех пор как пересек порог комнаты вздохнул свободно.
Пока он с трудом поднимался, Ричард осведомился, откуда Мейнхард прознал о присутствии английского короля в Удине.
– Ему пришла весточка от его брата, герцога Энгельберта из Герца. – Заметив удивленный взгляд, которым обменялись его собеседники, Роже улыбнулся. – Энгельберт отпустил вас. Насколько мне известно, у него не поднялась рука причинить вред людям, принявшим крест. Однако после жена наверняка уговорила его прикрыть свой зад.
– Насколько могу судить, твой сеньор не отличается щепетильностью Энгельберта, – процедил Ричард.
– Граф Мейнхард – добрый сын церкви. Но одновременно и вассал императора Священной Римской империи.
Роже откашлялся, потому как горло до сих пор болело и он сильно надеялся, что неизбежные синяки не вызовут подозрений. Его могучий противник, впрочем, уже не видел в нем угрозы и спрятал кинжал. Гийен спросил, как Роже нашел их гостиницу, поскольку определенно не следил за ними.
– Да я это узнал раньше, – пояснил нормандец. – Не так уж много в Удине гостиниц, и я проверил все из них.
– Так что дальше?
– Дальше я пойду к графу Мейнхарду и сообщу, что донос не подтвердился. Я скажу, что застал нескольких пилигримов, возвращающихся из Святой земли, но Ричарда Английского среди них нет. Это даст вам немного времени. Опрашивая хозяев гостиниц и конюхов, я не упоминал твоего имени, монсеньор, только расспрашивал про чужестранцев. Но слух уже просочился. В пивной я уловил обрывки сплетен, и в них фигурировало твое имя. Граф наверняка вышлет еще кого-нибудь, чтобы удостовериться, не ошибся ли я. Мне кажется, что самой большой угрозой тебе сейчас является словоохотливый хозяин гостиницы. Он ошеломлен твоей щедростью и стоит ему прознать про слухи, тут же побежит в замок.
Кое-кто из рыцарей был задет намеком на допущенную ошибку, и Ричард вскинул руку, успокаивая их.
– Нам требовались уединенные помещения – только так мы получили возможность переговариваться между собой.
Роже только кивнул, ибо какими бы ни были причины, оставался факт, что путники подвергли себя риску.
– Я поглядел на ваших лошадей. Они… Ну, как бы тут выразиться? – Нормандец слабо улыбнулся. – Скажем так, что мне приходилось видеть и получше. Возьми моего коня, милорд король. Я приехал на нем раньше и оставил во дворе у коновязи. Это гнедой скакун с черными хвостом и гривой. А теперь уходите. Уезжайте из Удине насколько сможете дальше и быстрее.
Пилигримы уже натягивали сапоги и препоясывались мечами. Ричард поручил Варину сообщить плохие новости спутникам, отдыхающим в соседней комнате, потом повернулся к нормандцу.
– Граф не обвинит тебя в нашем бегстве?
– Он будет жестоко разочарован, но я верой и правдой прослужил ему больше двадцати лет и поднялся в его глазах настолько высоко, что он отдал мне в жены свою племянницу. Пока он будет верить, что с моей стороны это всего лишь досадная ошибка, мне ничто не грозит.
Ричарду оставалось надеяться, что новый друг прав. Он положил нормандскому рыцарю руку на плечо.
– Ты храбрец, Роже д’Аржантан. Я твоей услуги не забуду.
В горле у Роже встал ком. С усилием проглотив его, он ответил:
– Да пребудет с тобой Господь, монсеньор.
* * *
Нужно было спешить, так как городские ворота закрывали сразу после сигнала гасить огни. Чтобы привлекать меньше внимания, путники решили разбиться на две группы. Возглавляя первую из них, Ричард и его товарищи заставляли себя вести коней шагом, тогда как все инстинкты побуждали гнать их галопом. Улицы были тихие и пустые, холод и надвигающаяся темнота заставили всех попрятаться по домам. Через щели между ставнями пробивался свет, путники смотрели на хижины жадными глазами, потому что в этих скромных постройках таились сокровища, дороже которых для них не было в этот унылый декабрьский вечер: пылающий очаг и постель.
Завидев, что северные ворота открыты, беглецы с облегчением выдохнули в надежде вскоре оставить Удине за спиной. И тут дверь одной из таверн распахнулась и на улицу повалили люди. Они вели себя шумно и развязно, размахивали флягами с вином и фонарями. Некоторые держали в руках грубо сделанные факелы. Почуяв беду, Ричард и рыцари натянули поводья и выслали Арна вперед, выяснить, что происходит. Парень вскоре вернулся, в глазах его застыло отчаяние.
– Они охотятся на английского короля, – сообщил он. – До них дошли слухи, что он где-то здесь, в Удине. Они убеждены, что граф Мейнхард щедро вознаградит того, кто приведет пленника, и намерены обыскать все гостиницы города на предмет чужестранцев.
Никто не сказал ни слова, но у всех в голове промелькнула одна и та же мысль: если бы не Роже, их всех поймали бы в капкан в «Черном льве», поскольку эта пьяная ватага наверняка привлекла бы внимание воинов из замка. Путники огляделись, но никто не знал города, поэтому легко было заблудиться в переплетении узких улочек. Безопаснее казалось оставаться на главной улице и идти напрямик. Они поскакали дальше, придерживая коней и поправляя полы плащей так, чтобы легче было достать мечи в случае необходимости. Толпа перегораживала улицу. Впрочем, часть простолюдинов, приученных уважать конных, начала раздаваться в стороны. Следуя примеру Арна, рыцари бубнили гортанное «Guten Abend», от всей души надеясь, что одурманенные вином горожане не удивятся, с какой стати людям понадобилось покидать город с наступлением темноты.
Надежда оказалась напрасной. Кое-кто уже таращился на них, и изумление быстро уступало место подозрению. Черпая силу в своей многочисленности, гуляки стали перекрывать им путь, осыпая вопросами, воинственный тон которых делал перевод излишним. Но останавливаться и пускаться в объяснения было бы ошибкой. Рыцари не обнажили мечи, только дали коням шпор, и люди с воплями и угрозами бросились врассыпную, чтобы не угодить под копыта. Ричард и его спутники не сбавляли хода и не оглядывались посмотреть, какой хаос они учинили. Гуляки стали подниматься на ноги, подбирая упавшие фонари и факелы, а в домах стали открываться ставни и из окон высовывались головы любопытных. Из караулки высыпали стражники, но и они вынуждены были рассеяться, когда плотная масса конных галопом промчалась через ворота и исчезла в ночи.
Но времени радоваться избавлению не было. Отряд не успел уйти далеко, когда сзади донесся шум. Рыцари встревожились, не ожидая, что погоню снарядят так быстро, натянули поводья и обернулись. И только тогда сообразили, что случилось. Вторая группа беглецов угодила прямо в растревоженный людской улей и оказалась окружена толпой.
Ричард выругался и начал разворачивать подаренного Роже скакуна. Спутники в ужасе воззрились на него, и только Морган вовремя опомнился.
– Нет! – вскричал он, и поставил свою лошадь прямо на пути у Ричарда. Гнедой взвился на дыбы, и Ричарду не сразу удалось подчинить его.
– Ты из ума выжил? – рявкнул он.
Никогда прежде Моргану не доводилось быть объектом царственного гнева своего кузена, и во рту у него пересохло. Но не успел он ответить, как Балдуин тоже преградил путь королю.
– Морган вспомнил про Ибн-Ибрак, – сказал он, без дрожи встретив взгляд Ричарда.
Никто не произнес больше ни слова, потому как про случившееся под Ибн-Ибраком знали все. Отряд оруженосцев собирал хворост, а их конвой из тамплиеров угодил в устроенную сарацинами засаду. Ричард находился всего в двух милях и когда узнал про разгоревшийся бой, отрядил графа Лестера за подкреплением, а сам поспешил на выручку. Вступив в бой, он обнаружил, что это ловушка, и крестоносцы окружены многократно превосходящими силами. Соратники умоляли короля отступить, напирая на то, что помочь обреченным храмовникам уже невозможно. Государь ответил сердито, что сам послал их туда и обещал защиту, поэтому если он не сдержит слова и они погибнут, у него нет права называться королем. Он погнал скакуна в самое пекло, выручил своих и сумел благополучно отступить. Этот отважный поступок под Ибн-Ибраком внес свою лепту в растущую легенду о Львином Сердце, но сейчас воспоминание о нем вселило в только что вырвавшихся из Удине рыцарей страх.
По лицу Ричарда заходили желваки.
– Я спас тех людей под Ибн-Ибраком.
– Да, – согласился Балдуин. – Вот только сейчас это невозможно. Если ты вернешься, то будешь убит или взят в плен. Подумай, сир! Увидев, что происходит, тамплиеры могли ускользнуть, даже вернуться в гостиницу – ищут тебя, не их. Вместо этого они решили отвлечь внимание толпы на себя, и ты прекрасно знаешь зачем: чтобы дать тебе время уйти. Нельзя, чтобы их жертва стала напрасной. Это зависит от тебя, милорд.
Ричард порывался возражать. Но когда Балдуин повел отряд, уступил, развернул гнедого прочь от Удине и последовал за фламандцем. Уверившись, что погони нет, беглецы сбавили ход, так как берегли уставших лошадей. Нависавшие в течение дня облака рассеялись, и теперь путь им освещал неяркий свет луны и россыпи далеких звезд. После месяцев, проведенных в Святой земле, холод чувствовался особенно остро, и вскоре лица и руки покраснели и стали гореть. Силуэты горных пиков, вздымавшихся по обе стороны от дороги, только усиливали гнетущее ощущение, что их окружают опасности и враги, а будущее сулит беды.
Ричард несколько часов не произносил ни слова, и спутники, понимая, что помочь ничем не могут, оставили его наедине с мыслями, черными как декабрьская ночь. Из всех претерпленных им с момента высадки на истрийском берегу испытаний: голода, холода, недосыпания, позора спасаться от погони как лиса, убегающая от своры идущей по ее следу собак, ничто не потрясло его сильнее, чем пленение тамплиеров и арбалетчиков. Это заставляло его признаться самому себе, насколько он беззащитен и уязвим. Фульк обвинил его в том, что он не способен признать поражение, и клерк из Пуату прав: Ричард всегда стремился к победе, уверенный в своих талантах и свысока относясь к врагу. А теперь вот его обуревали неведомые сомнения. Сколько еще людей предстоит ему потерять? Как им избежать пленения в стране, где каждый высматривает подозрительных чужестранцев? А если его схватят, что тогда? Впервые король задумался всерьез о судьбе, которая постигнет его, если он окажется в руках у Генриха, будет зависеть от милости врага, не знающего оной. Английский монарх, помазанник Божий, отправится в немецкую тюрьму, а тем временем его земли в Нормандии будет прибирать к рукам этот ублюдок на французском троне, а Джонни заявит права на его корону. Как незнакомы были ему прежде эти терзания, так же незнакомо было и чувство, скакавшее рядом с ним по ледяной горной дороге – страх.
* * *
Прежде чем остановиться на привал в бенедиктинском монастыре Св. Галла в Моджо, путники покрыли двадцать пять миль. Монахи приняли их как пилигримов, и путники, отчаянно нуждавшиеся в отдыхе, смогли наконец выспаться в гостевом доме аббатства. Они надеялись, что путь по виа Юлия Августа, римской дороге, ведущей из Аквилеи в Альпы, будет полегче, потому что проезжая часть дороги была шириной в двадцать футов и вымощена камнем. Но вскоре обнаружили, что значительные отрезки пути нуждаются в ремонте, а погода становилась все хуже: им приходилось пробиваться через налетающие заряды снега, такие сильные, что подчас дорогу засыпало полностью. К этому времени они оказались в герцогстве Каринтия: краю суровом и диком, где к чужакам всегда относятся с подозрением, дремучие леса кишат разбойниками. Здесь мало было шансов повстречать еще одного щепетильного сеньора или переселенца из Нормандии, сохранившего привязанность к родной династии.
Беглецы обсудили возможность остановиться в городке Филлах, но осторожность возобладала и они поехали дальше, чтобы искать приюта в другом монастыре – бенедиктинском аббатстве на северном берегу большого озера Оссиах. На следующий день путники не жалели ни себя, ни лошадей, чтобы покрыть тридцать миль – впечатляющий переход по зимним дорогам. И когда дневной свет начал меркнуть, они уже подъезжали к обнесенному стенами городу Фризах.
Монахи в монастыре Св. Галла поделились с Ансельмом, что Фризах является одним из самых процветающих городов в Каринтии, поскольку в его окрестностях расположены богатые серебряные рудники, привлекающие искателей легкой наживы. Путники согласились, что в эту толпу не составит труда затесаться. И хотя это все равно рискованно, ничего не поделаешь, потому как наступала темнота, а им отчаянно требовались пища и отдых.
Они пришпоривали коней, но не спешили заезжать в гостиницу до тех пор, пока не убедились, что провести ночь во Фризахе будет безопасно. Разыскав таверну, расположенную напротив приходской церкви Св. Варфоломея, рыцари заказали ужин, а Арн тем временем отправился бродить по городским улицам, чтобы послушать, понаблюдать и сделать выводы о царящих в городе настроениях. Оставшись без него, пилигримы ощущали странное беспокойство – настолько привыкли они полагаться на парня за минувшую неделю. Его знание немецкого языка оказалось для них воистину даром Божьим.
Таверна была полна народа, разговор был громкий и веселый. Насколько можно было судить о Фризахе, то монахи из обители Св. Галла дали городу точное описание: деловитый, шумный и многолюдный. Отличное место, где можно затеряться, не то что в Герце, Удине или в Филлахе. Рыцари с наслаждением поглощали не слишком аппетитное блюдо из рыбы, подобающее рождественскому посту, радуясь, что нет необходимости терпеть холод и качаться в седле, и с любопытством улавливали звуки других, помимо немецкого, языков.
Ричард сел в темном углу, насколько возможно стараясь быть незаметным. Он знал, что его считают надменным и готов был с этим согласиться, но еще ему свойственно было умение посмеяться над собой. И вот, когда пережитое волнение отступило, Ричард стал видеть в происходящем некий извращенный юмор: впервые в жизни он надеется, что на него не обратят внимания. Ему не потребовалось напрягать воображение, чтобы в голове послышался голос кузена Андре де Шовиньи: «Пытаешься казаться скромным и непримечательным? Да тебе скорее удастся слетать на Луну и обратно». Они с Андре сражались бок о бок двадцать лет, и Ричард дорого дал бы, чтобы двоюродный брат оказался сейчас рядом, во Фризахе. Король улыбнулся своим мыслям, потому как никогда, естественно, не открыл бы их Андре. В их взаимных расчетах за твердую монету почиталась ироничная пикировка, а выражение чувства искренней привязанности было бы расценено за подделку.
Глаз Варина лег на нескольких густо накрашенных и напудренных женщин, и он поспешил обратить на них внимание спутников. Но надежды рыцаря рассеялись как дым, потому что те высмеяли его. Фульк осведомился ехидно, не собирается ли Варин, после того как переспит со шлюхой, еще напиться вдрызг и затеять драку. Варин начал было оправдываться, но получил взбучку за то, что разговаривает слишком громко. Тогда он, к вящей потехе товарищей, погрузился в угрюмое молчание. Ансельма эта вспышка веселья сильно обеспокоила. Капеллан опасался, что выпитое на пустой желудок вино может ударить в голову путникам, и придвинулся к королю, чтобы поделиться своими тревогами, но тут Ричард опустил резко кубок, грохнув им по столу. Проследив за взглядом государя, клирик тоже напрягся. Арн вернулся и торопливо пробирался к ним через толчею посетителей. Он был бледен настолько, что лицо его казалось бескровным.
Стоило рыцарям его увидеть, всю их веселость как рукой сняло; они живо подвинулись, освобождая парню место.
– Некий лорд по имени Фридрих фон Петтау находится в замке, – начал сквайр так тихо, что слушателям пришлось вытянуть шеи. – Он приехал из Зальцбурга с многочисленным отрядом воинов и бахвалится, что пленит английского короля. По словам местных жителей, слухи распространяются как зараза. Они смеются, что у короля, должно быть, отрасли крылья, поскольку его одновременно видели в дюжине разных мест. Но говорят, что лорд Фридрих верит в эти истории, и его люди повсюду: наблюдают за конюшнями, тавернами, пивными и, зорче всего, за гостиницами. Мол, даже мышь не проскочит через наброшенную на город сеть.
Когда Арн закончил рассказ, повисло тягостное молчание. Никто не говорил ни слова, все избегали смотреть в глаза друг другу. В последний вечер в аббатстве Св. Галла они выработали план на чрезвычайный случай, если все иные возможности будут исчерпаны. Но никто не рассчитывал всерьез, что до него дойдет, и когда этот миг настал, беглецы словно окаменели.
В кои веки первым от удара оправился не Ричард. Видя, что он молчит, Балдуин понял, что действовать придется ему.
– Мы знаем, что нужно делать, – спокойно заявил он, обведя взглядом всех по очереди и остановившись на Ричарде. – Тебе нужно сейчас же уходить, немедленно покинуть город. Мы же отвлечем на себя внимание и устроим этому лорду Фридриху столько хлопот, что ему и думать о ком-то еще, кроме нас, будет некогда.
Для Ричарда это было крайней точкой унижения. Он чувствовал себя так, словно возлагает своих людей на алтарь, пренебрегает священным долгом командира заботиться о подчиненных. Да и хоть он никогда и не признался бы, идея продолжить путешествие в сердце этой враждебной империи в обществе лишь юного Арна и одного из рыцарей казалась ему пугающей. Медленно поднявшись, король посмотрел на Варина и заставил себя улыбнуться:
– Похоже, тебе удастся-таки сегодня позабавиться с парой-другой потаскух.
Совершенно раздавленный, Варин пробормотал что-то нечленораздельное. Никто не знал, что сказать. Ричард положил руку на плечо Балдуину.
– Не отказывайте себе ни в чем, – сказал он, безуспешно стараясь придать тону легкость. – В конечном счете, английский король – известный мот.
Затем он повернулся и направился к двери, сопровождаемый Арном и Гийеном де л’Этангом. Никто из них троих не обернулся.
Тишина душила. Ансельм закрыл лицо ладонями, чтобы скрыть слезы. Роберт де Тернхем медленно сжимал и разжимал кулак, ворча себе под нос. Варин уже осушил свой кубок и теперь потянулся за тем, который не допил Ричард. Обычно флегматичный Фульк утирал краем рукава глаза и радовался, что никто этого не замечает, потому что все были погружены в себя. Морган с такой силой сжал нож, которым резал пищу, что рукоятка отпечаталась на ладони.
– Простите, я так не могу, – сказал он, вдруг вскочив. – Знаю, мы договорились, что пойдет только Гийен. Но если я вот так останусь во Фризахе, леди Джоанна заживо снимет с меня шкуру.
Сунув нож в чехол, он негнущимися пальцами застегнул плащ и поспешил за Ричардом.
Балдуин расправил плечи.
– Ну ладно, – произнес он. – Полагаю, нам лучше приступить к делу.
Он хлопнул в ладоши и свистнул, поймал взгляд служанки и понятным на всех странах жестом велел принести еще выпивки. Потом повернулся к своим товарищам и зычным голосом, с расстановкой, заговорил по-французски. Те последовали его примеру. Они нарочито громко смеялись, зубоскалили над служанками, и вскоре часть посетителей таверны уже бросала в их сторону любопытные и подозрительные взгляды.
Глава V Герцогство Австрия
Декабрь 1192 г.
Они не представляли в точности, где находятся, поскольку не знали, сколько проехали, покинув Фризах. Не знали и какой сегодня день, потому что со времен вынужденной высадки на берегу Истрии все дни слились воедино, были похожи один на другой. Натянув на вершине холма поводья, путники глядели на расстилающийся под ними пейзаж: густые леса росли по обе стороны от дороги, а вдалеке сверкала, похожая на частый в Святой земле мираж, гладь широкой реки, огибавшей частично обнесенный стенами город. Церковные шпили были окутаны дымом очагов, спиралью поднимающимся в хмурое зимнее небо.
Некоторое время они стояли и смотрели молча, полностью поглощенные видом. Арн заговорил первым.
– Это Дунай? – спросил он, указывая на искрящуюся ленту воды.
В его вопросе читалось сомнение, боязнь обмануться – ведь если это действительно Дунай, то город на его берегу – это Вена, а значит, от границы с Моравией и безопасности их отделяет всего пятьдесят миль. А еще отсюда вытекало, что за минувшие три дня и три ночи беглецы проделали без малого сто пятьдесят миль: достижение, которое прежде показалось бы им немыслимым, принимая в расчет разгар зимы и горные дороги.
– Должен быть Дунай, – сказал Морган, вложив в голос всю уверенность, какую мог собрать. – Выглядит достаточно широким.
Арн издал победный клич, но старшие спутники были слишком измучены, чтобы проявлять юношескую пылкость, и просто обменялись краткими улыбкам. Было решено послать Арна разведать, действительно ли это Вена. Как только юноша и Морган ускакали, Ричард и Гийен де л’Этанг повернули к лесу.
Продвинулись они не дальше сгоревшего от молнии дерева, которое должно было служить для Арна и Моргана ориентиром. Едва убедившись, что их не видно с дороги, всадники спешились и привязали коней к низкой ветке. Потом привалились спиной к серому стволу старого бука и приготовились ждать. Они не разговаривали, каждый был погружен в свои мысли, и вскоре задремали. Разбудил их приближающийся стук копыт. Ричард и Гийен вскочили, ругая себя за беспечность. Они схватились за мечи, готовые вытащить их из ножен, но тут разглядели среди деревьев Арна и Моргана.
Оба улыбались до ушей, но Морган выдвинул вперед Арна, позволяя мальчишке сообщить радостные вести.
– Это Вена! Мы побывали в городе, встретили торговца-разносчика и привезли вам еды! – Соскочив с седла, сквайр победно потряс холщовым мешком. – Разжились горячими сырными лепешками и жареными каштанами. Впрочем, они уже остыли. Мы с сэром Морганом свою долю съели в городе, но потом нас окликнули люди из замка и…
Ему не хватило дыхания, и рассказ продолжил Морган.
– Ну, мы не уверены, что они из замка, но эти люди высматривали чужаков, и мы поспешили спрятаться. Вена куда меньше, чем я ожидал, и там трудно остаться незамеченным.
Ричард и Гийен приуныли, поскольку надеялись, что Вена – подходящих размеров город, где можно затеряться.
– И как вы поступили, когда вас остановили?
Физиономия Моргана снова расплылась в улыбке, а Арн рассмеялся в голос.
– Сэр Морган такой хитрый, сир! Он ответил им по-валлийски, и стражники просто вытаращились на него, не поняв ни слова!
– Я хотел опробовать на них свой зачаточный арабский, – Морган хмыкнул. – Но решил, что валлийский надежнее: вдруг среди них окажется кто-то, служивший в Святой земле. – Потом его улыбка померкла. – Они ищут чужаков, говорящих по-французски. Воины не поняли ни слова из мной сказанного, но решив, что это не французский, отпустили нас.
Тревожно было узнать, что Вену так плотно патрулируют – они-то надеялись, что молва о замеченном в Каринтии короле английском еще не дошла до австрийцев. При мысли о долгой дороге, которую предстояло преодолеть, плечи Ричарда опустились.
– Так что вы оба такие радостные? – спросил он более резко, чем намеревался. – Мне ваши новости не показались особенно обнадеживающими.
– А, так ведь мы подыскали место для ночлега, сир! Убравшись из Вены, мы остановились в окрестной деревушке, которая называется… – Арн нахмурился, напрягая память.
– Эртпурх, – пришел на выручку Морган. – Сельцо так себе, зато там есть хозяйка пивной, которая оказала любезность сдать нам комнату. Это вдова с двумя сыновьями, и была вне себя от радости, заработав пару монет. Говорит, что мы можем разместиться в ее спальне, а она будет спать у очага вместе со своими мальчишками.
– А кузнец сказал, что поставит наших лошадей к себе в стойло, – вклинился Арн. – Хозяйка пивной берется готовить нам, если мы дадим ей продукты!
Парень был так рад, будто их пригласили жить в королевском дворце. Впрочем, после трехдневных мытарств и для Ричарда дом торговки пивом в Эртпурхе казался раем.
– Нам повезло, что мы послали тебя с Морганом на разведку, Арн, – сказал король, и от этой похвалы юнец расплылся в улыбке и покраснел.
– Очень повезло, – подхватил Морган, и было нечто в его тоне, отчего Ричард напрягся, поняв, что отчет о визите в Вену еще не закончен.
– Даже не будь горожане так подозрительны, нам не стоит соваться в Вену. – Карие глаза Моргана твердо встретили взгляд серых очей короля. – Я это понял, как только увидел красный с белым флаг, развевающийся над замком.
– Это знамя Леопольда, – воскликнул Ричард удивленно, и Морган кивнул:
– Нам не посчастливилось, что герцог оказался здесь, а не в одной из других своих резиденций.
Валлиец предпочел ничего не говорить об остальном: о лютой ненависти герцога Леопольда к Ричарду, о том, что герцог один из тех, кто узнает английского короля с первого взгляда, и утверждать, что его с кем-то спутали, Ричарду будет бесполезно.
* * *
Эртпурх оказался именно такой непритязательной деревушкой, какой ее описал Морган: скопление низких хижин с тростниковыми крышами, церквушка, кузница, пекарня, пара лавок, кладбище и укутанные снегом поля. За околицей разбили лагерь люди, приехавшие покупать и продавать лошадей – Арн объяснил, что чужестранцам не дозволяют заниматься торговлей в Вене, поэтому те ведут свои дела вне городских стен. Теперь, оказавшись в родных краях, оруженосец болтал без умолку, гордый тем, что может так много рассказать про Вену и про герцога. До этого в Вене ему бывать не приходилось, признался юноша, и она всегда казалась ему большим городом, но в реальности сильно проигрывала в сравнении с Акрой и Иерусалимом. Он взахлеб пересказывал все, что ему приходилось слышать про Леопольда, и вызвал всеобщее веселье, когда сообщил, что герцог тут известен как Леопольд Добродетельный. Впрочем, к тому времени они уже подъехали к дому торговки пивом, и прочие истории сквайр приберег на потом, потому как разговаривать по-французски можно было только за закрытыми дверями.
Содержательница пивной оказалась худой светловолосой женщиной по имени Эльс. Она радушно встретила гостей, и едва войдя в ее скромное жилище, они поняли, что вдова сильно нуждается в деньгах. Ее юные сыновья во все глаза смотрели на чужаков, которых мать провожала в спальню. Комната была маленькая и скудно меблированная – хозяйка перенесла свою кровать к очагу, и извинилась, что больше спать не на чем. Но это был лучший приют со дня их бегства из Фризаха, и путники не жаловались. Селянка хлопотала: принесла для них одеяла, ночной горшок и несколько сальных свечей, затем пригласила разделить семейный обед. Тот состоял из вареной капусты, ячменного хлеба, похлебки из турнепса, свеклы и лука. Все это предлагалось запить превосходным пивом ее приготовления.
Рыцари были очень благодарны за гостеприимство. Морган для пущего эффекта проявил галантность, целуя женщине ручку и шепча комплименты на валлийском, которые вызывали у нее смех, хотя она и не понимала ни слова. Но в итоге все вздохнули с облегчением, когда женщина наконец ушла, оставив их одних в обшарпанной спальне. Помимо прикупленных Арном в Вене сырных лепешек, у них три дня не было во рту ни крошки, и теперь путники жадно набросились на скромное угощение. Гийен нарезал каравай хлеба на лепешки-тарелки, Арн разливал на них густую похлебку. Но когда он повернулся, чтобы предложить первую порцию королю, то не увидел его. Ричард растянулся на своем одеяле и завернулся в плащ, даже не сняв сапоги. Когда сквайр наклонился и поставил пищу рядом с ним на пол, то обнаружил, что государь уже спит.
– Он разве не голоден? – спросил он, недоуменно глядя на товарищей. – Может, разбудить его, чтобы поел? Ведь столько времени прошло с тех пор…
– Пусть поспит, парень, – последовал ответ.
Но за едой все то и дело бросали исподволь взгляды на Ричарда. Поев, Морган встал, склонился над спящим и положил руку ему на лоб. Король при прикосновении не пошевелился, и Морган, присев рядом на корточки, кивнул в ответ на немой вопрос Гийена.
– У него жар, – сказал он, подтвердив подозрения, мучившие обоих рыцарей в течение последних дней.
– Как же нам быть? – растерянно ахнул Арн. – Лекаря-то вызывать опасно!
– Опасно, – хмуро согласился Морган. – Утром, парень, ты поедешь в Вену, найдешь аптеку и купишь средство, которое называется «аква вита» – я слышал, что оно хорошо помогает при горячке. Приобрети еще одеял, поскольку без них мы тут замерзнем. Цыпленок – лучшее питание для больного, но посреди поста тебе его ни один торговец не продаст, так что раздобудь яиц, хлеба и чеснока.
– Исполню, – торжественно пообещал Арн. – Могу я еще чем-нибудь помочь?
Морган снова посмотрел на кузена:
– Он упрямее любого осла, поэтому не только не признается, что заболел, но и будет настаивать, чтобы поутру ехать дальше. Но мы не можем продолжать путь, пока он не окрепнет, потому как следующий приступ четырехдневной лихорадки запросто может прикончить его. Поэтому да, кое-чем еще ты помочь можешь, Арн. Когда будешь в Вене, разыщи церковь и закажи молебен о его скорейшем выздоровлении.
* * *
Арн был признателен Моргану за то, что тот сохранил тайну его настоящего возраста. Но имелся у него еще один секрет, которым он не поделился с товарищами, и оттого испытывал смутное чувство вины. Как может он так наслаждаться происходящим, когда они страдают? Да, было несколько страшных моментов, особенно на корабле и во время бегства из Удине, но по большей части радостное возбуждение было в юноше сильнее тягот или испуга. Он гордился доверием английского короля, тем, что прославленные рыцари обращаются с ним как с равным. Он ощущал, что творит историю, ибо наверняка легенды об отважном походе короля Ричарда будут передаваться из поколения в поколение.
Арн въехал в Вену в приподнятом настроении, чувствуя себя рыцарем, исполняющим важное поручение короля. У него прежде никогда не было столько денег, и легко было вообразить себя богатым лордом. Он задержался, бросил оборванному нищему монету и ухмыльнулся, когда старик крикнул ему вслед:
– Да благословит тебя Бог, юный господин!
Первой его задачей было найти менялу, поскольку они уже потратили деньги, которые разменяли в Герце. По счастью, Вена являлась перекрестком на пути паломников в Святую землю, для русских купцов и итальянских торговцев, а потому нуждалась в услугах менял. Лавку одного из них Арн разыскал у церкви Св. Стефана. Он позабавился удивлением дельца, когда выложил на стол золотые безанты.
– Хочу обменять их на пфенниги, – бросил юноша небрежно. – И не пытайся обмануть меня – я не какой-нибудь несведущий чужеземец, я родился под Хайнбергом.
По правде говоря, у него даже представления не было, сколько стоит безант, но он внимательно следил за пересчитывающим монеты менялой и пытался придать себе вид человека, опытного в таких делах. Сгребая пфенниги, Арн неожиданно расчувствовался, потому как вот уже несколько лет не видел этих серебряных кружочков. Они напомнили ему о жизни, которую он вел, когда и представить не мог, что повидает половину мира и станет служить королю.
Дальше его путь лежал в аптеку. Глянув на потрепанную одежонку парня, аптекарь процедил, что аква вита стоит слишком дорого. Но сменил тон, когда Арн извлек туго набитый кошель. Налив в фиал снадобье, аптекарь предложил еще настой лапчатки или кислицы, которые тоже хорошо помогают при горячке. Не зная, что выбрать, Арн купил и то и другое.
День был не базарный, но юноше не составило труда найти торговца, у которого он приобрел лучшие одеяла, свечи и единственную в наличии подушку. Арн радовался, что нашел хотя бы одну, для короля. Затем настал черед мыла и деревянного гребня – надо же будет привести себя в порядок, когда они доберутся до Моравии. Еще он купил бронзовое зеркальце и мяч из мочевого пузыря свиньи в качестве прощального подарка их домохозяйке и ее ребятишкам, набор игральных костей для Моргана и Гийена, банку с медом для Ричарда и пригоршню засахаренной айвы для себя.
Он даже не помнил когда испытывал в последний раз такую радость, так как никогда не позволял себе совершать покупки, не оглядываясь на цену. У другого торговца он разжился яйцами, у пекаря – двумя караваями хлеба, затем его взгляд упал на вывеску харчевни, расположенной через улицу от Юденштадта – городского района, где селились евреи. Здесь, как и в аптеке, на него смотрели искоса, пока на свет не выплыл кошель с деньгами. Тогда Арна с удовольствием снабдили рыбными лепешками, горячими бобами, пропитанными медом вафлями. Оглядывая полки в поисках деликатесов, способных вернуть покинувший короля аппетит, юноша припомнил рассказ Варина о диковинной птице, известной как белощекая казарка – поскольку она выводит птенцов в море, считается, что ее мясо можно есть даже в постные дни.
– Какая жалость, что у вас нет белощекой казарки, – с сожалением протянул он, сгорая от нетерпения просветить подручных в харчевне рассказом о легендарном пернатом. К его удивлению, здешний народ был знаком с этим чудом. Ему сказали, что хотя белощекой казарки в продаже сейчас нет, они могут предложить ему жареные бобровые хвосты: поскольку те покрыты чешуйками, как у рыб, их с чистой совестью разрешается употреблять в пищу во время поста.
Арн купил хвосты не торгуясь, довольный, что принесет королю мяса. Выйдя, нагруженный приобретениями из харчевни и направившись за лошадью, он вспомнил, что до сих пор не заказал молебен о выздоровлении Ричарда. Он остановился и завертел головой, высматривая ближайшую церковь. В этот миг на плечо ему опустилась чья-то рука. Его с силой развернули.
– Не спеши-ка, приятель, – произнес грубый голос. – У нас есть к тебе пара вопросов.
* * *
Ричард пробудился резко, и не сразу очнулся от сна. На краткий неприятный миг он не мог понять, где находится, поскольку погруженная в полумрак комната казалась незнакомой. Потом в поле зрения появился Морган со свечой в руке, и король вспомнил. Проспав несколько часов, он проснулся посреди ночи, чтобы отлить, обнаружил, что при таком холоде моча того гляди замерзнет, потом снова закутался в одеяло и в ту же секунду заснул. Сев, Ричард поморщился – каждый мускул тела ныл.
– Утро уже наступило?
– Если по правде, то скоро вечер, – ответил Морган. – До захода солнца осталось часа два.
– Господи! Почему ты не разбудил меня! Мы ведь целый день потеряли!
– Мы нуждались в отдыхе, сир, – тихо, но твердо заявил Гийен. – И лошади тоже.
Ричарду пришлось признать справедливость этих слов, так как он понимал, что и его силы на пределе. Морган поставил перед ним тарелку и сообщил, что хозяйка подала им на завтрак сыр, хлеб и пиво, а они отрядили Арна в город купить еды и одеял.
Пиво король выпил, но к кушанью не прикоснулся. Лицо у него было алым, на одежде виднелись пятна от пота, на лбу выступила испарина. Взяв второй кубок, Морган протянул его больному.
– Выпей-ка это, государь, – настойчиво попросил он. – Это ячменный отвар. Как говорят, хорошо снимает жар.
Ричард собрался было оспорить, что у него жар, но потом сообразил, что отрицать бесполезно. Он выпил отвар, поморщившись от горечи. Затем, видя, что все на него смотрят, заставил себя съесть немного хлеба и сыра.
– Арн, говорите, в город пошел? Безопасно ли это?
– Ищут ведь рыцарей, взрослых мужчин, иностранцев, а не мальчишек, для которых немецкий – родной язык, – возразил Гийен. – Разве кто-нибудь обратит на него внимание?
Ричард молчал, думая о людях, оставшихся далеко позади.
– Много бы я дал, – промолвил он наконец, – чтобы узнать, чем все закончилось во Фризахе.
– Это я могу тебе и так рассказать, – сказал Морган так уверенно, что Ричард застыл с поднесенным ко рту куском хлеба. – Наши парни швырялись деньгами как пьяные матросы, быть может, даже затеяли потасовку, если Балдуин счел ее необходимой для привлечения внимания. Когда тот лорд Фридрих пожаловал, чтобы допросить их, они заявили, что английского короля среди них никогда не было, и что в высшей степени возмутительно преследовать или обижать людей, принявших крест. Предполагаю, что люди Фридриха поместили их под арест. Фридрих наверняка опасается, что Генрих разгневается на него за то, что он проделал всю дорогу из Зальцбурга в погоне за слухами. Но вреда нашим не причинят, сир. Они ведь под эгидой церкви, и хотя некоторые из феодалов императора готовы преступить через эту защиту в стремлении схватить тебя, едва ли они станут рисковать отлучением ради кого-то другого.
– Надеюсь, ты прав, кузен. – Положив хлеб, Ричард улегся на одеяло, накрылся плащом, и ровное дыхание вскоре дало понять, что он снова уснул.
Морган взял карту и, поставив свечу, стал изучать маршрут, который должен привести их в Моравию. Пятьдесят миль, совсем немного. Затем нужно пересечь Баварию и Саксонию, а далее отплыть в Англию из одного из портов Северного моря. Улегшись на одеяло, молодой рыцарь стал думать, где застал этот декабрьский день Джоанну и Мариам. Вероятно, они сейчас в Риме. Мариам не обрадуется, узнав, что он не остался во Фризахе, – она не любила английского короля – и не похвалит Моргана, рискнувшего жизнью ради Ричарда. Но валлиец соглашался скорее сносить упреки возлюбленной, чем предстать перед Джоанной и сказать, что бросил ее брата в логове льва. Он души не чаял в своей прекрасной кузине, но характер у нее был крут. Как и у всех представителей анжуйской династии, сонно подумалось ему. Он уже задремал, когда дверь с шумом распахнулась и в комнату ворвался Арн.
Гийен указал на Ричарда, предупреждая Арна, чтобы не шумел.
– Ему нужен сон. Что стряслось, парень? Судя по твоему виду, ничего хорошего.
Тон рыцаря был одновременно строгим и успокаивающим. Арн сделал несколько глубоких, судорожных вздохов и наконец обрел возможность говорить четко и разборчиво.
– В городе меня остановили какие-то люди и допросили. Меняла рассказал им о моих золотых безантах. Я уже собирался уезжать, но меня схватили. Я так перепугался… – признался юноша, не в силах сдержать дрожи.
Морган отдал ему недопитое Ричардом пиво.
– Вот, Арн, глотни, а потом расскажешь, что случилось. Это были люди герцога? Как тебе удалось выбраться?
Оруженосец несколькими большими глотками осушил кубок.
– Нет, думаю, это были дружки менялы, поскольку допрашивали меня на улице, а не в замке. Они удовлетворились моими ответами и отпустили. Я сказал, что безанты мне дал хозяин, который вернулся из Святой земли. Пояснил, что хозяин не вернулся вместе с герцогом Леопольдом, потому что заболел в Акре, а когда поправился, то воевал под командой герцога Бургундского до тех пор, пока не был заключен мир.
– Выходит, ты называл им имя рыцаря, которого сопровождал в Акре. Ловко выкрутился, Арн.
Арн слишком разволновался, чтобы обрадоваться похвале.
– Мне в голову больше ничего не пришло. Мой хозяин состоял в дружине Хадмара фон Кюнринга, имя которого я тоже упомянул. Я сказал чистую правду, кроме того, что мой господин не поправился, но думаю, об этом тут никто не знает. Еще я сообщил им, что хозяин остановился в аббатстве Святого Креста в местечке Хайлигенкрейц на отдых, потому как болен, а меня выслал купить припасов. Мне поверили. Сам Всевышний направлял мой язык, – прошептал он и снова вздрогнул. – Но это опасное место, сэр Морган. Слишком многие там ищут короля в надежде получить щедрую награду от герцога. Нам нужно как можно скорее убираться отсюда.
Морган и Гийен посмотрели друг на друга, потом на неподвижную фигуру Ричарда.
– Мы не можем, Арн. Пока не можем, – сказал Гильен, понизив голос. – Король слишком слаб, чтобы держаться в седле. Ему требуется еще день или два на отдых.
Морган согласно кивнул.
– Пока мы соблюдаем осторожность, нам тут ничто не грозит. Ты привез аква виту, парень? И еду?
Арн кивнул на брошенные на пороге сумы.
– Вы еще не видели, чего я понакупил! Одеяла, подушку для короля, аква виту и травяные настойки, кучу припасов… – Копаясь в мешках, юноша вдруг помрачнел. – Он пропал! Бобровый хвост для государя! Эти негодяи украли его, пока допрашивали меня…
Рыцари понятия не имели с чего такой шум, но выглядело это так комично, что оба расхохотались. Когда несколько часов спустя Ричард проснулся и ему рассказали историю о похищенном бобровом хвосте, он тоже расхохотался. И Арн счел это вполне достойным возмещением утраты, поскольку вот уже много дней спутники не слышали, как король смеется – с той самой минуты, как он вынужден был оставить своих людей во Фризахе.
* * *
На следующее утро повалил снег, и путникам пришлось отсиживаться в доме у вдовы. Ричард отсыпался, Гийен с Морганом либо дремали, либо играли в зары новыми костями. Арн помогал Эльс по работе, рассказывая ее сынишкам истории про страшных зверей, называемых верблюдами, которых ему приходилось видеть в Святой земле. Рассвет следующего дня выдался холодным, но ясным, да и Ричард чувствовал себя лучше, так что они решили тронуться в путь завтра.
Эльс сказала Арну, что в этот день, за четыре дня перед Рождеством, отмечается праздник апостола Фомы. Юноше подумалось, что этот день ему запомнится, потому что именно он принесет им безопасное убежище в Моравии. Сквайр боялся предпринимать новую вылазку в Вену, но им требовались продукты. Ричард спал, Гильен ушел в кузницу, заниматься с лошадьми, Морган предложил Эльс наколоть дров. Поэтому никто не видел, как Арн уезжал. Стараясь не разбудить короля, оруженосец надел плащ и стал искать шерстяную шапку Гийена – рыцарь разрешил позаимствовать ее в случае визита в город. Роясь в их скудных пожитках, молодой человек наткнулся на перчатки Ричарда и вытащил их, чтобы полюбоваться. Перчатки тогда считались еще новинкой, достоянием духовенства и знати; эта пара была пошита из тонкой телячьей кожи, оторочена мехом красной белки и украшена золотым шитьем. Арн не удержался и надел их. Ощущение было чрезвычайно приятным и снимать печатки не хотелось, да и на улице было так холодно, что деревня казалась скованной морозом, а дыхание облачками белого пара срывалось с уст людей. Он нахлобучил шапку Гийена – та оказалась велика, зато прикрывала уши, – и порадовался спокойному сну Ричарда – путники опасались возвращения четырехдневной лихорадки, и каждый день без приступов предательского озноба был для них настоящим облегчением.
* * *
Ветер был пронизывающий, и Арн погонял коня, покрыв отделяющие Эртпурх от Вены несколько миль бодрой рысью. Он удовлетворенно отметил, что попал в базарный день, а значит, купить все необходимое будет проще. В последний момент оруженосец успел снять с рук дорогие перчатки Ричарда и сунуть их за пояс. А еще обошел стороной лавку менялы. Юноша снова бросил монету оборванному нищему, за что снова получил благословение. Затем направился в харчевню, где разжился лепешками с рыбой и вафлями. Потом он побродил по рынку в поисках еды, которую удобно перевозить в седельных сумах. Его выбор остановился на караваях с хлебом, твердом сыре, миндале, нарезанной не слишком аппетитными кусочками соленой сельди. С продавцами юноша не торговался, не чая как бы скорее убраться из Вены.
И тут он вдруг заметил девушку. Та с восторгом рассматривала товар у одного из прилавков. Ее голубые глаза ласкали тонкой работы ткани, деликатные кружева, яркие ленты. Арну подумалось, что никогда ему не встречалась особа красивее: щечки ее раскраснелись от мороза, концы светлых кос дразняще выглядывали из-под убора. Словно почувствовав его взгляд, она подняла голову и на миг их глаза встретились. Затем девушка потупила взор, но юноша был уверен, что уголки ее губ приподнялись в улыбке. Он подошел и как бы рассеянно стал присматриваться к товару. Взяв ленту, Арн поднял ее так, чтобы девушка видела, и проговорил вполголоса:
– Она точно такого же цвета, как твои глаза.
– Ты так считаешь? – Незнакомка искоса стрельнула в него взглядом, и на этот раз ее улыбка не вызывала сомнений.
Торговец не собирался потворствовать их флирту, поскольку чувствовал, что в кармане у обоих нет не единого пфеннига.
– Не хватай товар своими грязными лапами! – рявкнул он, вырвав ленту из рук Арна. – А ты, Маргрета, топай-ка лучше своей дорогой, не то расскажу твоему отцу, что ты строила телячьи глазки этому прохвосту-голодранцу!
Арн густо покраснел и зыркнул на торговца.
– Если это твой способ обращаться с покупателями, то я не удивлен, почему дела у тебя идут так скверно!
– Покупатели, юнец, это люди, которые покупают, – осклабился в ответ торговец.
– А именно это я и делаю, – отрезал сквайр, схватив ту самую ленту и еще несколько попавших под руку вещиц. – Я их беру.
Торговец заломил такую цену, что стоявшие рядом зеваки захмыкали и стали толкать один другого локтем. Арн был слишком зол, чтобы думать об истинной цене лент и кружева. Он выхватил кошель и отсыпал купцу пригоршню пфеннигов. Тот смутился настолько, что растущая аудитория осыпала его насмешками, хлопками приветствуя Арна. И только тут молодой человек понял, что вокруг них собралась целая толпа.
– Это тебе, – произнес он со всем достоинством, на которое был способен и протянул ленты и квадратик кружева Маргрете. – Прошу, прими это в возмещение за то, что вовлек тебя в эту некрасивую свару.
Девушка закраснелась, но приняла подарок, и кое-кто из зрителей снова захлопал. Арн сделал вывод, что этот торговец не самая популярная фигура в Вене. А еще, что привлек к себе ненужное внимание. Отвесив Маргрете галантный, как ему казалось, поклон, он повернулся и начал проталкиваться через толпу. Парень до сих пор горел румянцем, но на этот раз краску на щеках вызывал стыд, а не гнев. Слава Богу, что король и другие его спутники никогда не узнают о допущенной им глупости.
Однако успел он сделать всего несколько шагов, как несколько человек преградили ему путь.
– Не часто встретишь юнца, который выглядит, как оборванец, а тратит, как богач, – сказал один. – И откуда у тебя столько денег, малый?
Арн отступил на шаг, но незнакомцы обступили его и бежать было некуда.
– Я не вор, если вас это волнует, – сказал он настолько твердо, насколько мог. – Мой господин послал меня в город накупить для него товаров. Деньги принадлежат ему, а не мне.
– Сомневаюсь, чтобы хозяин велел тебе покупать ленты хорошеньким девицам. Ему стоило предупредить слугу, чтобы не распоряжался вольно его деньгами.
Преподав урок торговцу, Арн стяжал симпатию толпы, и кое-кто из зевак пришел ему теперь на помощь, давая допросчикам совет «не лезть к парню». Задававший вопросы только осклабился, но его приятели, похоже, потеряли интерес.
– Вызнай имя мальчишки, Йорг, и пусть себе проваливает, – заявил один из них. – Холодно как у ведьмы под юбкой, и если я постою еще, то отморожу ту часть тела, с которой меньше всего хочу расстаться.
Кое-кто из зевак расхохотался, и Арн снова задышал. Однако Йорг все еще хмурил лоб.
– Иди-ка сюда, парень, – сказал он, ухватив сквайра за руку. – Расскажи нам поподробнее о своем хозяине.
Хватка была болезненной и достаточно сильной, чтобы оставить синяк, и Арн инстинктивно дернулся. При этом порыв ветра распахнул полу его плаща и стали видны засунутые за пояс перчатки. Большая часть присутствующих их не заметила. А вот Йорг увидел достаточно, чтобы его любопытство пробудилось, и отдернул плащ Арна.
– Ого! А что это у нас там? – Выхватив перчатки, он поднял их вверх, чтобы все видели тонкую кожу и меховую оторочку. Это сразу все переменило. Образовавшийся у Арна ком в горле не давал ему сказать ни слова. Окруженный этими хищными людьми с колючими глазами, он затрепетал, как загнанный волками ягненок.
* * *
На этот раз Арн угодил в лапы к людям герцога. Они отвели его прямиком в замок, в помещение над воротами. Его усадили на стул, намеренно дали напряжению сгуститься, и только потом Йорг спросил отрывисто:
– Ну, парень, готов рассказать нам про эти перчатки?
Арн сразу сообразил, что выдуманная им прежде история тут не поможет, поскольку ни один рыцарь или мелкий барон не мог позволить себе такие перчатки. Бесполезно также утверждать, будто он их нашел: его сразу заподозрят в краже и повесят. Все, что ему приходило в голову, это держаться первоначальной легенды Ричарда. И юноша запинаясь сообщил, что служит богатому купцу и перчатки принадлежат ему.
– Мой хозяин занемог и остановился в аббатстве Святого Креста, а меня послал в Вену накупить припасов. Он… он человек добрый, и дал мне поносить эти перчатки, потому что так холодно…
Не успело последнее слово сорваться с его губ, как Йорг врезал ему по лицу тыльной стороной ладони. Голова мальчишки дернулась, из носу хлынула кровь. Воин ухватил его за шиворот и встряхнул.
– Не ври мне, щенок! Такие перчатки не для купца. Их делали для епископа. Или для короля.
Арн сглотнул, чувствуя на губах кровь, стекающую из перебитого носа. Утереться он не мог, потому что другой воин удерживал его руки за спиной.
– Я… Я не вру, клянусь…
На этот раз Йорг использовал кулак, ударив в живот. Лихорадочно пытаясь вдохнуть, молодой человек силился подавить тошноту и смог только качнуть головой, когда Йорг выкрикнул:
– Ты служишь английскому королю, малый! Признавайся!
Молчаливая попытка отрицать стоила Арну еще одного удара, на этот раз снова по лицу. Голова у юноши кружилась, никогда в жизни ему не было так страшно. Но когда у него спросили, где король, он поклялся, что не знает никакого короля. Он зарыдал, понимая, что преданность дорого ему обойдется. Но предать Ричарда не мог. Государь оказал ему доверие, и, терпя удары, Арн цеплялся за это как за единственную спасительную нить в этом сошедшем с ума мире и твердил себе, что обязан оправдать доверие.
– Дайте-ка я попробую. – Голос принадлежал не Йоргу. – Посмотри на меня, мальчик. – Тон не был злым. – Мы не хотим причинить тебе вреда. Но знаем, что ты лжешь. Откуда мы это знаем? При тебе перчатки короля. Кошель, набитый монетами, включая безанты из Святой земли. И еще из Фризаха сообщили, что с задержанными там людьми видели парня, говорящего по-немецки.
Незнакомец помедлил, но Арн продолжал молчать.
– Ты ведешь себя крайне глупо, – продолжил человек тоном почти дружеским. – Как тебя зовут?
Сквайр почти не видел допрашивающего, потому что один глаз его распух и закрылся, а другой застили слезы.
– Арн…
– Ну вот, неплохо для начала. Послушай меня, Арн. Ты расскажешь нам все, что мы хотим знать. Будешь упорствовать, как сейчас, только продлишь свои мучения. Отвечай на вопросы, и никто больше тебя не тронет. Мы даже позовем лекаря, чтобы позаботился о тебе. Итак, где английский король?
– Я… Я не знаю, – выдавил Арн. – Не знаю!
Кто-то хрипло рассмеялся. Оруженосец решил, что это был Йорг. Неизвестный покачал головой и пожал плечами.
– Ну ладно, Йорг. Он в твоем распоряжении.
Арн зажмурил глаза, как будто если не видеть кошмара, он исчезнет. Но тут Йорг схватил его за волосы и повернул голову на бок.
– Видишь это, мальчик? Посмотри на этот клинок. Черт, смотри же! Если не начнешь говорить правду, то я, клянусь, вырежу им твой лживый язык!
Арн беззвучно лил горючие слезы, а когда Йорг поднес кинжал ему к горлу, вздрогнул и снова зарыдал. Когда лезвие полоснуло по щеке, он вскрикнул. Но не ответил ни на один из вопросов, которые орал ему в ухо Йорг. Наконец вмешался тот незнакомец и оттащил Йорга. Арн обвис на веревках, которыми его примотали к стулу, радуясь передышке от боли. Только она оказалась недолгой.
– Последний шанс, щенок.
Когда Арн в ответ только заскулил, Йорг повернулся и взял что-то из рук другого человека. Сквайр ощутил вдруг жар и, приоткрыв глаз, увидел в нескольких дюймах от лица раскаленный железный прут. Его снова схватили за волосы, запрокинули голову. А потом для него не осталось ничего, кроме вони паленой плоти, агонии и криков.
* * *
Ричард без воодушевления рассматривал стоящее перед ним блюдо, и Морган улыбнулся про себя, уверенный, что кузен впервые ест отварную капусту, которая едва ли навещала когда-нибудь королевский стол.
– Эльс начинает вести себя очень по-матерински, – весело заметил валлиец. – Настаивает, чтобы мы доедали то, с чем не управились ее мальчики. Хозяйка сказала Арну, что мы слишком тощие и нас нужно откормить. Полагаю, тут она права.
Судя по своей обвисшей одежде, Морган сделал вывод, что изрядно потерял в весе за последние недели, а кузен выглядел сильно исхудавшим. Когда Ричард отставил блюдо в сторону, молодой рыцарь понадеялся, что причиной тому был непривлекательный аромат капусты, а не лихорадка. Король послушно принимал аква виту и травяные настойки, даже глотал ячменный отвар, но Морган знал, что на самом деле для выздоровления требуются еще несколько дней полноценного отдыха.
– Арн вскоре вернется из города, – заверил он Ричарда. – И привезет еще что-нибудь вкусненького.
– Этого парня нам прямо небо послало: не знаю, как бы мы без него питались, – сказал Ричард. – Нужно найти способ отблагодарить его за преданность. Как и тебя, кузен. – Тут по его губам скользнула улыбка. – Я бы предложил тебе графство, если бы не опасался, что ты воспримешь это как оскорбление.
– Ты шутишь. – Морган усмехнулся. – Однако король Генрих предлагал моему отцу графский титул и получил отказ. Это стало семейной легендой. Папа сказал, что валлиец во главе английского графства будет выглядеть так же противоестественно, как бык с выменем.
Оба рассмеялись.
– У меня не было иного выбора, как ехать вместе с тобой, государь, – весело продолжил Морган. – Я обещал твоей сестре не выпускать тебя из виду, а ее гнев для меня страшнее гнева Генриха!
– И правильно, – согласился Ричард, хмыкнув. – Джоанна – это стихия, с которой нельзя не считаться. Когда я ей сказал, что договорился заключить мир с Саладином, выдав ее за его брата аль-Адиля, она мне чуть уши не оторвала.
– Что-что? – Морган только-только отхлебнул пива и чуть не подавился.
– А, прости, я совсем забыл, что ты про это не знал. Я до сих пор считаю этот брак одной из лучших моих идей. В результате аль-Адиль становился королем, и не мог быть не заинтересован, потому как получал одновременно и корону и красавицу-невесту. Я не сомневался, что Саладин откажет, и это может послужить причиной для раздора между братьями. Но вот Джоанна не оценила тонкость моих дипломатических маневров, и ясно дала понять, что не собирается идти в гарем. – Ричард залился смехом. – Она мне напомнила, что выросла на Сицилии и прекрасно знает о праве мусульманина иметь четыре жены. Я возразил, что она-то станет королевой, и следовательно будет по статусу гораздо выше прочих жен аль-Адиля. А Джоанна запустила в меня подушкой!
Этот рассказ одновременно и развеселил и озадачил Моргана.
– Поверить не могу, что тебе удалось сохранить этот план в тайне. Боже правый, только представь, что учинили бы французы, если бы смогли пронюхать о нем!
– Неприятная получилась бы ситуация, – согласился Ричард. – Да она и получилась неприятной, потому как Саладин принял предложение.
Морган оторопел.
– Принял?
– Да. Шах и мат. Мне пришлось внести поправки в каноническое право и заявить, что для подобного брака Джоанне требуется одобрение папы римского, ведь она вдовствующая королева. А если папа не благословит, я предложил султану взамен свою племянницу. Во время обеда с аль-Адилем я намекнул, что проблему можно решить, если он примет христианство, он же выдвинул контрпредложение – сделать Джоанну мусульманкой.
Тут Морган закатился со смеху так, что на глазах у него выступили слезы.
– Странно, – промолвил он, как только восстановил дыхание, – что с врагами-сарацинами тебе удавалось ладить куда лучше, чем с союзниками-французами!
– Секрет тут прост. Саладин и аль-Адиль – люди чести, тогда как французы… Короче, если они и не в сговоре с дьяволом, то лишь потому, что нечистый отказался иметь с ними дело.
Потом Ричард посерьезнел и продолжил:
– Условия, которые я предложил тогда Саладину, почти ничем не отличались от тех, на которых мы заключили мир после взятия мной Яффы. Если не считать пункта о Джоанне, разумеется. Приди мы к соглашению в ноябре, а не в следующем сентябре, то сберегли бы множество жизней. Не говоря уж о том, что я гораздо раньше смог бы отправиться домой. Наше приключение очень увлекательно, конечно, но я бы ничего не потерял, если бы мне никогда не довелось побывать в Эртпурхе.
Морган охотно согласился и они с минуту сидели молча, жалея об упущенной возможности. Вскоре Ричарда снова сморил сон, да и Морган вздремнул немного про запас – едва ли вскоре им представится такой шанс. Его разбудил приход Гийена. Арна все еще нет, доложил рыцарь, но лошади отдохнули за несколько дней; мерину Моргана угрожала опасность потерять подкову, но кузнец это обнаружил и исправил. Разговаривали они тихо, чтобы не разбудить Ричарда, и нахмурились, когда на улице послышался вдруг лай. Но король не пошевелился, и Морган уже потянулся за стаканчиком с костями.
Однако лай не прекращался и стал теперь таким громким, будто все собаки в деревне принялись брехать во все горло. Товарищи озабоченно переглянулись. Гийен подошел к окну, открыл ставни и выглянул наружу.
– Господи Боже! – Он захлопнул ставни и развернулся, бледный как полотно. – Снаружи воины!
Морган, повинуясь инстинкту, позвал Ричарда и устремился через комнату запирать засов, и только потом понял бесполезность этих усилий. Тревога в его голосе заставила Ричарда тут же пробудиться.
– Солдаты, сир, – хрипло доложил Гийен, и король в два прыжка оказался у окна.
Приоткрыв ставни настолько, чтобы виден был двор пивоварни, он заметил, как арбалетчики и пехотинцы становятся по местам. Эльс и ее сыновья, не понимающие в чем дело, стояли на улице, где к ним присоединялись соседи, желающие посмотреть, что происходит. Несколько прибывших рыцарей спешились и, обнажив мечи, начали приближаться к дому. Они выкрикивали имя Ричарда и то одно из немногих немецких слов, которые он знал: «König», то есть «король».
Ричард захлопнул ставни. Сердце его колотилось, дыхание сделалось частым и неглубоким – так тело реагировало на опасность, тогда как оторопевший мозг пытался принять то, что видят глаза. Морган и Гийен выглядели настолько же обескураженными. Они не могли смириться с мыслью, что попались, потому как самоуверенность Ричарда передалась им, а ведь в Святой земле ему не раз и не два удавалось выбраться из безвыходных положений. Но здесь, в маленькой австрийской деревушке, его вошедшее в пословицу везение вдруг кончилось, и это казалось невероятным всем, и прежде всего самому Ричарду.
Король схватился за меч, но толку в нем было мало. Впервые в жизни он испытывал чувство, которое большинство обычных людей переживает во время битвы – чисто физический страх. Их поймали в ловушку, спасения нет, и есть только два исхода: сдаться или погибнуть. Ричард смотрел на дверь спальни, слышал, как на нее обрушиваются глухие удары – это солдаты пытались выбить ее ногами, и в этом смятении смерть казалась ему предпочтительнее того, что ожидает его за пределами этой комнаты.
Кто-то раздобыл, видимо, топор, потому как от двери полетели вдруг щепы и она рухнула с петель. Комната была плохо освещена, и нападающие замерли на пороге, давая глазам привыкнуть к темноте. Их взгляды миновали Моргана – недостаточно высокий, задержались на миг на Гийене, затем сосредоточились на Ричарде. Пусть его волосы были грязными и спутанными, они сохраняли медный цвет, да и необычный рост служил верной приметой.
Австрийцы кричали, размахивая мечами. Никто из них не вошел в комнату. Переводя взгляд с одного на другого, Ричард удивился тому, что прочитал на их лицах. Это был страх. Он, Морган и Гийен были втроем против целого войска, беспомощные, как рыбы в садке, и в случае сопротивления исход возможен только один. И все-таки эти люди боялись Львиного Сердца. Осознание этого послужило мостом к спасению. Его ум снова заработал. В конечном счете, у него есть рычаг – его репутация. Сей инструмент все чаще срабатывал ближе к концу его пребывания в Святой земле: эмиры Саладина и мамлюки, воины испытанной храбрости, обращались в бегство, страшась скрестить с ним меч. Вот и у этих австрийских рыцарей желания сразиться с ним было ничуть не больше, чем у сарацин. Эти воины трепетали перед его боевой славой, и это придало ему храбрости сделать первый, пугающий шаг в неизведанное.
– Я сдамся только вашему герцогу, – заявил он, с облегчением убедившись, что в голосе его не угадывается ни намека на внутренний ужас.
Рыцари переглянулись, затем осыпали его новым потоком немецких слов. Ричард попытался снова, на этот раз на латыни. Когда стало ясно, что так его тоже не понимают, он обернулся, припомнив, что его кузен нахватался от Арна немецкой речи.
Мозги у Моргана работали туго, но ценой больших усилий ему удалось выдавить:
– Herzog! Herzog Leopold!
Имя герцога тут же произвело действие, и Морган добавил:
– Hier, – сказал он и обвел рукой комнату, дав понять, что Леопольд должен прийти сюда.
Рыцарям это явно показалось хорошей идеей, потому что они закивали, а в возгласах «Ja» слышался очевидный энтузиазм.
– Они поняли. – Морган облегченно выдохнул. – И приведут Леопольда.
Австрийцы, с мечами в руках, стояли на пороге, но ожидание их вполне устраивало. Они глазели на Ричарда, пихали друг друга. Постоянно слышалось слово «Löwenherz». Король еще до перевода Моргана сообразил, что означает оно «Львиное Сердце». Подойдя к постели, Ричард поднял свой полинялый, заляпанный грязью плащ и набросил его на плечи на манер королевской мантии.
От величественности жеста у Моргана выступили на глазах слезы. Валлиец поначалу относился к кузену настороженно, потому что преданно служил брату Ричарда Жоффруа и их отцу Генриху, старому королю. Но за два минувших года он узнал государя ближе, и теперь понимал всю степень его отчаяния и тоски: гордецу из гордецов приходится склонять голову перед врагами, которых он презирает. Морган не сомневался, что Ричарду проще было бы сдаться в плен Саладину. Глядя, как кузен готовится встретить опасности и унижения, поджидающие его впереди, Морган вспомнил Гийома де Пре, назвавшегося Малик-Риком[5], чтобы спасти короля от плена. Он подумал, что охотно пошел бы на такую же жертву, будь это в его власти: не только потому что Ричард был для него королем и родичем, но и потому что их объединяли узы, осознать силу которых способны только те, кто сражался бок о бок и смотрел в лицо смерти на поле боя.
Отражение собственного несчастья валлиец наблюдал на лице Гийена. В глазах у друга тоже стояли слезы.
– Мне жаль, сир, – сказал великан.
Ричард тряхнул головой и на миг положил руку на плечо рыцарю. Морган поднял свой плащ и отвязал от пояса кошель с деньгами. Он знал, что солдаты приберут к рукам все до пфеннига, и хотел как мог помочь их домохозяйке: уж лучше пусть серебро достанется ей, чем прихлебателям Леопольда. Его взгляд на миг задержался на лежанке Арна. Ему было страшно думать о том, что могло приключиться с парнем в Вене.
Очень скоро за окном послышался шум, свидетельствующий о прибытии Леопольда. Никогда и ничего Ричард не боялся сильнее, чем того, что предстояло ему пережить сейчас. Вполне вероятно, истекали последние мгновения, когда они были вместе, и он подошел и обнял Моргана и Гийена.
– Будь я проклят, если стану дожидаться, когда меня вытащат отсюда как лису из норы, – заявил он и двинулся к двери.
Воины расступились перед ним с поспешностью почти комичной. «Как Моисей, раздвигающий воды Красного моря», – подумалось ни с того ни с сего Моргану, который вместе с товарищем последовал за королем.
На улице, под тусклым, негреющим зимним солнцем, выхода Ричарда из дома ожидала целая толпа: солдаты, селяне, большой отряд рыцарей, сопровождающих герцога. Леопольд восседал на роскошном белом скакуне и был облачен в богатое одеяние: шапка и мантия с собольим мехом, ножны украшены самоцветами, пальцы в драгоценных перстнях. Что-то в его наружности не совпадало с воспоминаниями Ричарда, и тут он понял, что впервые за время их знакомства Леопольд улыбался.
Леопольд не спешил слезать с коня, поскольку это давало ему возможность свысока смотреть на человека, который был на несколько дюймов выше его ростом.
– Когда мне доложили про схваченного на рынке мальчишку, я, признаюсь, питал определенные сомнения, – сказал он, по-прежнему улыбаясь. – Но слава Богу, это действительно ты.
Ричард смерил его равнодушным взглядом.
– Милорд герцог, – процедил он.
Король не сдвинулся с места, пока Леопольд слезал с седла, а затем сделал шаг вперед и вытащил меч. Большинство воинов герцога уже стояли с обнаженными клинками, и теперь вскинули их. Не обращая на них внимания и не говоря ни слова, Ричард протянул меч рукояткой вперед своему пленителю.
Леопольд принял меч, затем внимательно и неспешно смерил Ричарда взглядом, отметив спутанные волосы, отросшую бороду, замызганные сапоги и пыльный плащ, который лишь отчасти прикрывал бывшую некогда белой, а теперь испещренную пятнами грязи и пота тунику тамплиера.
– Не слишком-то ты сейчас похож на короля, милорд Львиное Сердце! Воистину, видок твой более приличествует бедняку, коему и подобает прятаться в лачуге вроде этой. Воистину, «погибели предшествует гордость, и падению – надменность»[6].
Ричард обрадовался заструившейся по жилам ярости, потому как ее поток смыл стыд и страх.
– Если уж ты решил цитировать Писание, напомню тебе другой стих: «Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет»[7]. Не будет прощения тем, кто чинит вред принявшим крест, ни перед церковью, ни перед Всемогущим. Лучше поразмысли над этим, пока есть время. Стоит ли удовлетворение мелкой мести вечного проклятия?
Кровь прилила у Леопольда к лицу и к шее.
– Ты лишился права на церковную защиту из-за твоих преступлений в Святой земле!
– Что-то не доходила до меня весть о твоем избрании папой. На священном престоле сидит Целестин, и неужели ты действительно считаешь, будто он тебя поддержит? Да когда рак на горе свистнет!
Разговор шел по-французски, поэтому только Морган и Гийен могли понимать обвинения, которыми обменивались два правителя. Зная, что Ричард никогда не мог вовремя сдержаться в разговоре, Морган поспешно подошел ближе. Хотя он и не считал Леопольда человеком напрочь, лишенным чести, вроде Генриха, он все-таки не посовестился схватить крестоносца. Что может произойти за стенами его замка, если Ричард продолжит вот так задирать его? Решив, что пора вмешаться, валлиец, стараясь придать голосу уважительность и ровность, сказал:
– Милорд герцог, а что сталось с Арном, тем парнем, схваченным на рынке? Где он?
Леопольд посмотрел на него, явно не уверенный, стоит ли удостаивать этот вопрос ответом.
– Как я упомянул, мальчишка упрямствовал, – произнес он после долгой паузы. – Нам пришлось развязать ему язык. Но не думаю, что причиненный ему ущерб слишком серьезен.
Морган позабыл про намерение смягчить австрийца.
– Вы пытали его?
Гийен разъярился не менее валлийца и, свирепо глядя на Леопольда, обозвал его бесстыдником и трусом. Это обвинение, к счастью для рыцаря, пролетело мимо ушей герцога, все внимание которого было приковано к английскому королю.
Ричард в свою очередь взирал на Леопольда со всем презрением, какое мог собрать.
– Ты, Леопольд, видно точно решил попасть в ад. Мальчишка, которого мучили твои люди, тоже принял крест и находился под защитой святой церкви, как и мы.
Леопольд тоже кипел гневом, но сообразил, что дальнейший обмен оскорблениями ему ничего не даст. Пусть его рыцари и крестьяне не знают французского, вызывающий тон реплик Ричарда угадать не составит труда, а герцог не собирался служить предметом для нападок со стороны своего пленника.
– Довольно, – отрезал он и велел привести для захваченной троицы лошадей. – Поедешь сам или предпочитаешь, чтобы тебя волокли до Вены как обыкновенного преступника?
Как Леопольд и рассчитывал, Ричард был слишком горд, чтобы пойти на такое, и вскоре король и его спутники уже сидели в седлах со связанными ногами и руками, а коней их вели в поводу. Ричарда по-прежнему сопровождал конвой с мечами наголо, потому как герцог не желал давать столь опасному пленнику ни единого шанса. Провожая кавалькаду, жители Эртпурха стояли на дороге и смотрели вслед, удивленные драмой, разыгравшейся в их мирном маленьком селе. Эльс уже стала предметом насмешек насчет жильца, оказавшегося королем английским. Но насмешки были беззлобные: соседи радовались, что вдову не наказали за приют, данный злейшему врагу их государя. Эльс говорила то, что подобало случаю, выражая изумление и ужас от того, что подобные негодяи пробрались под ее кров. Но тем временем ощущала вес припрятанного между грудями кошеля, который Морган сумел передать ей, пока галантно целовал ручку на прощание. Она не сомневалась, что герцог Леопольд – это хороший человек и добрый правитель. Однако молилась и о судьбе пленников – этот свой секрет она делила только с Богом. И еще дала себе обет молиться о душе своего герцога, которому за свершенный им сегодня поступок определенно предстоит гореть в аду.
Глава VI Вена, Австрия
Декабрь 1192 г.
Комнатка была не намного больше чулана и из обстановки в ней наличествовали лишь кушетка, горшок и деревянный стул. Зато в ней было закрытое ставнями окошко, а в стенных скобах чадило несколько факелов. При всей браваде, с которой он старался держаться, Ричард испытал облегчение: его хотя бы не бросили во мрак холодной подземной тюрьмы. Обстановка была спартанской, но вполне терпимой по сравнению с лишениями, перенесенными им за одиннадцать дней после кораблекрушения. Все, чего ему теперь хотелось, это побыть наедине с собой, получить время притерпеться к новому, неприятному повороту колеса Фортуны. Но вскоре он понял, что охрана не намерена его оставлять, что за ним будут постоянно наблюдать люди с мечами наголо. При других обстоятельствах это могло его позабавить – чего так боится Леопольд: что узник пройдет через стену или улетит в окно, подобно орлу? Но сейчас Ричард ощущал только глухой гнев и отчаяние. Его угнетало не то, что даже на ночной горшок приходится садиться на глазах у всех – солдаты отвыкают от ложной скромности. Вот только под беспрестанным наблюдением он был лишен возможности хоть на миг снять с себя маску – а король твердо решил, что враги никогда не увидят, как глубоко сокрушен он своим пленением.
Отопления в комнате не было, и вскоре его стала бить дрожь. А еще хотелось пить: во рту все так пересохло, что не хватало слюны даже сплюнуть. Но он скорее согласится гореть в аду, чем попросит своих тюремщиков о чем-то. Не доставит он Леопольду такого удовольствия. Не в силах сидеть, Ричард стал расхаживать, и его стражи стали натыкаться друг на друга, стараясь не отпускать короля дальше, чем на расстояние вытянутой руки. Они напомнили ему толпу во время медвежьей травли: зевакам одновременно любопытно, но и страшно, что зверь сорвется с цепи. Государь не сомневался, что медведь предпочел бы умереть в бою, повергая мучителей-псов, пока остается сила в могучих лапах.
А ведь они были так близко – всего пятьдесят миль отделяло их от границы с Моравией! Если бы не эта треклятая лихорадка, сейчас бы им ничто уже не грозило. Как могло тело так предать его? Неужели такова воля Всевышнего? Иерусалим ему освободить не удалось, тут ничего не скажешь. Но он ведь старался, видит Бог как старался! А эти негодяи французы раз за разом мешали ему. И он ведь остался, храня верность обету, даже узнав, что Филипп и Джонни замышляют украсть у него трон. Он не сдался и не отплыл домой, как поступили Филипп и Леопольд. Чем же он тогда заслужил такое?
Минуты тянулись как часы, часы казались днями. Ричарду показалось, что он слышит звон колоколов в городе. Сзывают прихожан к вечерне? Или это сигнал гасить огни? Когда дверь внезапно распахнулась, король резко обернулся, ожидая увидеть Леопольда, пришедшего позлорадствовать. Но увидел на пороге седовласого священника, сопровождаемого двумя слугами. Последние внесли в комнату поднос с едой и кипу одеял.
– Меня зовут отец Отто, я капеллан герцога, – произнес клирик на вполне правильной латыни, бросив на пленника тот самый взгляд зеваки, наблюдающего за цепным медведем, а затем быстро потупив глаза. – Мне подумалось, милорд, что ты мог проголодаться.
– Что с моими людьми? Их покормили?
– Я… Я точно не знаю. Но проверю, – пообещал капеллан.
Он по-прежнему избегал смотреть пленнику в глаза, и Ричард пытался понять, не является ли причиной тому смущение. Кому как не служителю Господа понимать всю тяжесть прегрешения Леопольда?
Рассматривая священника, Ричард осознал, что гордость сослужила ему плохую службу. Не возмущаясь обращением с ним, он только облегчает жизнь своим тюремщикам. Раз они дерзнули пленить короля, то, черт побери, пусть ведут себя с ним как с королем.
– Как мальчишка Арн? Леопольд признался, что парня пытали, чтобы заставить заговорить. Я требую, чтобы его немедленно осмотрел лекарь. На него, как и на моих рыцарей, распространяется защита церкви, поскольку мы все дали священный обет. Передай от меня Леопольду, что сегодняшним своим поступком он ставит под угрозу свою бессмертную душу. А лучше всего, скажи ему это от себя. Ты ведь его духовник, да? Так не уклоняйся от своего долга, священник. Говори, пока у твоего лорда еще есть время на раскаяние.
Капеллан втянул голову, и его смущение явно давало понять, что он не одобряет деяний герцога. Те, кому выпало одновременно служить Всевышнему и светскому господину, изо всех сил стараются блюсти заповедь Христа и отдавать Богу Богово, а кесарю кесарево, и при этом молятся, чтобы им никогда не пришлось делать выбор между одним и другим. Ричард научился читать людей с легкостью, с какой священник читает свой псалтирь, и сильно сомневался, что отцу Отто хватит внутренней силы противостоять герцогу. Наделены ли австрийские епископы большей крепостью духа? Но даже если они осмелятся возражать, станет ли Леопольд их слушать?
– Я сделаю, что смогу, милорд, – ответил отец Отто, по-прежнему разглядывая носки своих туфель.
Ричард смотрел, как клирик поспешно удаляется и надеялся, что он хотя бы облегчит судьбу рыцарей и Арна. Еду король удостоил лишь мимолетного взгляда. Она была достаточно простой: рыбная похлебка, которую едва ли поставят на стол Леопольду, зато порция была щедрая, и к ней прилагались каравай свежего хлеба и кубок эля. Но аппетита не было. Взяв кубок, пленник направился к окну, и охрана забеспокоилась, когда он принялся отпирать ставни. Резкий окрик сержанта успокоил стражников, и, открыв ставни, Ричард понял почему. Окошко было узкое как бойница, и сбежать через него не было ни малейшего шанса. В лицо королю ударил поток ледяного воздуха, отчего у него перехватило дыхание, но он постоял еще немного у окна, вглядываясь в темнеющее небо. Оно напоминало черное море, усеянное звездами, далекими от бед простых смертных.
* * *
Моргана и Гийена так быстро отделили от Ричарда, что они не успели попрощаться. Оба напряглись, когда их подвели к лестнице: они испугались, что та ведет вниз, в подземелья. Но их препроводили в комнату, освещенную фонарем, и при виде этого мерцающего огонька узники обрадовались, потому как знали, что в подземных темницах бывает темно как в пучине ада. Дверь захлопнулась, и пленники начали осторожно осваиваться в своих новых владениях. Помещение было большое и без окон, вдоль стен рядами стояли бочки. Вскоре они пришли к выводу, что их заперли в кладовой. Фонарь давал лишь крошечное пятно света, остальная часть комнаты тонула во тьме. Из мрака доносились скребущие звуки, и рыцари переглянулись в надежде, что это мыши, а не крысы.
Но тут Морган уловил другой звук, от которого волосы зашевелились у него на голове. Он замер, напряженно прислушиваясь, и дождавшись его снова, двинулся в том направлении, откуда звук исходил. Минуту спустя он опустился на колени между двумя бочонками с припасами. На полу, поджав колени к животу, лежал человек. Прихода Моргана он, похоже, не заметил, но когда валлиец тронул его за плечо, поднял руку, как бы защищаясь от удара.
– Арн?!
Узнав свое имя, юноша снова заскулил и попытался глубже забиться в тень. Морган повернулся к Гильену, но рыцарь уже шел туда, где на стене висел фонарь. Вскоре он присоединился к ним и поднял фонарь. Оба приятеля приготовились к тому, что предстояло им увидеть.
Свет трепещущего огонька был слабым, но и безжалостным, открыв им бледное как смерть лицо, опухшие, почти не открывающиеся глаза, нос в сгустках запекшейся крови, синяки на лбу и на шее, ожоги такие сильные, что они были покрыты волдырями и язвами. Рыцари отпрянули. Им и раньше приходилось видеть раненых: вспоротых мечами, проткнутых копьями, с раскроенными секирой черепом. Но ничто не ужасало их так и ничто не вызвало такого отвращения, как зрелище, представшее им в той венской кладовой, когда они смотрели на несчастного Арна.
– Не бойся, парень, это я, – тихо сказал Морган. – Тебе больше нечего опасаться, ты среди друзей.
Он не брался утверждать, верно ли это, но это были те слова, которые требовалось услышать мальчишке. Арн попытался открыть глаза. Не в силах разглядеть лица, он узнал голос и заплакал. Поначалу они почти ничего не могли разобрать из отрывочных фраз на немецком, прерываемых рыданиями. Когда несчастный смог наконец вспомнить что-то из своего французского, это было одно слово, повторявшееся снова и снова: «Простите… простите…»
Никогда Морган не испытывал такой ярости, такой жажды крови. Гийен, человек молчаливый, обнаружил в себе кладезь красноречия, и смачно проклял сначала тех, кто пытал Арна, затем герцога Леопольда, императора Генриха, короля Филиппа и всех австрийцев, немцев и французов, которые служат им. Морган обнял плачущего оруженосца и шептал слова утешения, сомневаясь, впрочем, что Арн их слышит.
Они не брались судить, сколько прошло времени, но вскочили на ноги, когда открылась дверь и вошли люди с факелами и мечами наголо. За стражей появились священник и слуги, которые внесли еду, одеяла, ночной горшок и еще один шипящий масляный фонарь. Клирик держался вежливо, даже участливо, но рыцари недостаточно знали латынь, чтобы понять его. Он вручил Моргану фиал с темной жидкостью и глиняный горшочек, от которого исходил запах гусиного жира, и указал на Арна. Пленники сообразили, что эти средства должны как-то облегчить страдания от ран и ожогов. Когда свет фонаря упал на лицо Арна, священник отвел взгляд и перекрестился. Когда он повернулся и направился к выходу, Морган бросил ему вслед:
– König Richard?
Клирик помедлил, печально посмотрел на валлийца, потом медленно покачал головой.
Едва австрийцы ушли, Морган и Гийен как смогли позаботились об Арне: смазали ожоги и заставили проглотить немного жидкости из сосуда. Поесть парень наотрез отказался и продолжал дрожать, хотя они и укутали его одеялами.
– Вы… вы когда-нибудь простите меня? – прошептал он, стиснув руку Моргана.
– Простить тебя? Да Ричард скорее всего возведет тебя в рыцари!
Окровавленная нижняя губа Арна затряслась.
– Он не возненавидит меня?
Товарищи уверили его, что превыше всех качеств Ричард ценит храбрость, и никто не осудит человека, сломавшегося под пыткой, и что Арну не в чем себя упрекнуть. И впервые с той минуты как его схватили на рынке, у юноши появился слабый проблеск надежды.
– Что с ним сделают? – едва слышно спросил он, и рыцари наперебой стали заверять его, что Леопольд не осмелится причинить вред королю английскому, человеку, победившему Саладина в Акре и в Яффе. Они не знали, поверил ли он им. Да и не брались сказать, верят ли в это сами.
* * *
Ричард не ожидал, что уснет, но физическое истощение взяло верх над душевными терзаниями. Следующее, что он увидел, было лицо отца Отто. Священник склонялся над кушеткой и извиняющимся тоном говорил, что короля приказано отвести к герцогу. Так Ричард усвоил еще один урок в жизни пленника: ему приходится являться по вызову человека, которого он презирает. Государь с благодарностью отметил, что капеллан принес тазик с водой и полотенце. Можно было хотя бы вымыть лицо и руки. Он подозревал, что Леопольд решил устроить зрелище для своих баронов и епископов, показав им грязного и оборванного Ричарда, как злорадно заметил сам Леопольд, имевшего вид совсем не королевский. Подобное испытание глубоко уязвляло Ричарда, но он поклялся про себя, что никто этого не узнает, и умыл холодной водой лицо, а затем наскоро перекусил парой кусков хлеба и сыра. И только затем повернулся к сгорающему от нетерпения священнику и процедил:
– Идем.
Но едва выйдя из башни, король понял, что неверно истолковал намерения Леопольда. Час был ранний, слишком ранний для сбора австрийской знати: звезды еще мерцали над головой и лишь слабый проблеск на востоке предвещал приход зари. Проследовав за капелланом на внутренний двор, он огляделся и замер как вкопанный при виде выезжающих из конюшни всадников. Эти зевающие и продирающие глаза люди были облачены в кольчуги, вооружены мечами, копьями и щитами. Латники, изготовившиеся идти на войну. Или сопровождать знатного пленника.
В нескольких шагах поодаль стоял Леопольд и давал наставления человеку, внешность которого говорила о долгих годах занятий военным ремеслом. У него были пронзительные глаза и безразличный с виду взгляд, который ничего не упускает и никогда не выражает удивления. Заметив Ричарда, герцог сделал конюху знак подвести гнедого мерина, а затем направился к английскому королю.
– Я помещу тебя в одну из самых наших неприступных твердынь: замок Дюрнштейн, – заявил он вместо приветствия.
Ричард был благодарен судьбе, давно заставившей его овладеть самым ценным навыком государя: способностью скрывать свои чувства.
– Лучше уж в Дюрнштейн, чем в ад, – заявил он и с удовлетворением отметил, как у Леопольда перекосился рот и дернулся глаз.
Но собеседник герцога не выдал никаких эмоций. Он смотрел на Ричарда с выражением человека, который твердо решил не давать воли своему характеру.
– Дюрнштейн находится в пятидесяти милях от Вены, – продолжил герцог. – Если ты даешь мне честное слово не пытаться сбежать, тебя не свяжут. Согласен?
Ричарда подмывало указать на непоследовательность позиции Леопольда. С чего это вдруг он решил поверить честному слову человека, которого обвинил в отречении от христианства?
– Не согласен. Я не намерен помогать и потворствовать тебе в твоем преступлении, либо способствовать тому, чтобы оно выглядело не тем, чем является на самом деле – деянием, подобающим только подлому разбойнику.
Леопольд выпятил челюсть, но сдержался и сказал только:
– Погубит тебя твоя гордыня, Львиное Сердце.
Когда подошли воины с веревками, Ричард подставил им руки: пусть лучше свяжут их спереди, это менее болезненно чем сзади, да и так он не будет совершенно беспомощным. Они начали связывать ему кисти, но запутались с узлами и остроглазый командир, нетерпеливо тряхнув головой, отослал их прочь и закончил работу сам.
Конюх подвел Ричарду коня, но тут все растерянно замялись, запоздало сообразив, что теперь пленника будет нелегко посадить верхом. Тот самый бывалый рыцарь снова выступил вперед, подвел мерина к колоде, а затем помог Ричарду взгромоздиться в седло. Ричарду эта процедура показалась глубоко унизительной, и хотя на лице его не дрогнул и мускул, он ничего не мог поделать с краской, залившей щеки.
Едва Ричарда разместили на коне, Леопольд повернулся и отправился в большой зал. Но отец Отто немного помедлил.
– Не бойся за своих людей, милорд, – сказал он. – Им не причинят вреда, поскольку они не совершили ничего дурного.
– Зачем тогда их удерживают? – спросил Ричард. – Нет никакой законной причины не вернуть им свободу тотчас же, возвратив при этом деньги, бывшие при мне в Эртпурхе. Или твой герцог решил присоединить к списку своих грехов еще и кражу?
Священник вздрогнул:
– Могу ли я говорить начистоту, милорд? Мне вполне понятен твой гнев. Но ты должен научиться сдерживать язык.
– Должен?
– Да, сир, – твердо стоял на своем седовласый. – Ради твоего же собственного блага.
Ричард ничего не ответил, но капеллан так и стоял во дворе, глядя как английский король и его стража минуют ворота и исчезают из вида.
* * *
Переправившись через Дунай, конвой направился на запад вдоль берега реки. Встречных было мало, потому как, завидев вдалеке многочисленный отряд вооруженных всадников, большинство путников предпочитало свернуть куда-нибудь в сторонку. Возглавлял рыцарей тот самый сдержанный вояка с циничным взглядом; Ричард узнал, что зовут его Гюнтер. Гюнтер не говорил ни по-французски, ни по-латыни, но при необходимости всегда мог объясниться с пленником, используя общеупотребительный среди солдат язык, состоящий из жестов и гримас. Между ними возникло инстинктивное взаимопонимание, как между людьми, испытавшими одно и то же, пусть и на разных полях сражений.
Конвой скакал быстро и к закату покрыл уже тридцать с лишним миль. Для Ричарда осталось неведомым название городка, в котором они провели ночь, расположившись в гостинице, напомнившей ему «Черного льва» в Удине. Как только они расположились, Гюнтер дал своим людям приказ снять с Ричарда веревки и караулить по очереди. Воины ворчали – как король догадывался, сетовали, что охранять пленника было бы сподручнее, будь он связан. Но перечить Гюнтеру никто не стал. Ричард съел совсем немного из принесенного хозяином гостиницы ужина, а спал и того меньше: лежал без сна, пока рыцари храпели, а караульные наблюдали за ним как кот, стерегущий мышиную норку. Говори он по-немецки, сказал бы им, что их волнения напрасны. Король прекрасно понимал всю тщетность надежд на побег, хотя это не мешало все долгие бессонные часы прокручивать один за другим невероятные сценарии спасения. Уж лучше думать об этом, чем о будущем в Дюрнштейне, о тех, кого он потерял при кораблекрушении, или о том, как воспримут новость о его плене те, кто ему дороже всего: мать, сестра, жена, кузен Андре, юный сын, оставшийся в Пуатье.
На следующее утро Гюнтер помедлил, держа в руках веревку, и вопросительно вскинул бровь. Ричард уловил суть вопроса и очень хотел согласиться – немного потребовалось времени, чтобы пожалеть об отвергнутом предложении Леопольда. Но гордость не позволяла ему отступить с занятых позиций, и он отрицательно покачал головой. Гюнтер пожал плечами и связал ему запястья, хотя Ричард заметил в его глазах проблеск невольного одобрения: такое испытывают к людям, которые вопреки обстоятельствам демонстрируют упорство и храбрость, пусть и безрассудную.
Когда они выступили в путь, небо было пасмурным и в воздухе витало предчувствие надвигающегося снегопада. По мере того как температура опускалась, шло на убыль и настроение Ричарда. Его пугал возврат горячки и даже очередного приступа четырехдневной лихорадки. Ничего не страшился он сильнее, чем оказаться тяжело больным и беспомощным в руках у врагов – ему и среди друзей мысль о недуге была невыносима. И если он захворает, то только Бог поможет ему в темнице Дюрнштейна – долго ли удастся ему протянуть в холодной, сырой и темной камере? Он то и дело вспоминал предупреждение отца Отто, проигрывал в уме две язвительные стычки с Леопольдом. Определенно, он не дал австрийскому герцогу повода хорошо думать о нем. Станет ли Леопольд сводить счеты теперь, убрав пленника с глаз подальше? Истязай он его в Вене, об этом обязательно разошлась бы молва, а у Леопольда и без того напряженные отношения с церковью. Но кто узнает о случившемся в каменных стенах далекого, неприступного замка вроде Дюрнштейна?
«Сдерживай язык», – посоветовал ему капеллан. Бог свидетель, он никогда этого не делал, уныло думал Ричард. И тут вдруг в памяти всплыла сцена, как отец распекал брата Хэла за какой-то забытый проступок. Хэл, разумеется, усугубил положение, пытаясь огрызаться и переваливать вину на других. Наконец Генрих оборвал его и сказал, что если человеку довелось провалиться в глубокую яму, то самое время перестать копать дальше. Воспоминание было таким живым и неожиданным, что вызвало на его губах улыбку, пусть и безрадостную. Ему и впрямь лучше отложить лопату. Ричард прекрасно это понимал. Но понимал и то, что гордость – единственный оставшийся у него щит, за которым можно укрыться от страха и отчаяния.
* * *
Ближе к концу дня вдали показался замок. Даже прежде чем Гюнтер промолвил: «Дюрнштейн», Ричард уже знал, что видит перед собой «неприступную твердыню» Леопольда. Мрачной тенью нависала она над долиной, угнездившись на вздыбившемся над Дунаем утесом, такая же угловатая, зловещая и бесприютная, как окружающие горы. Обычно Ричард смотрел на крепость глазами полководца, определяя ее сильные и слабые места. Но в этой он видел только тюрьму.
* * *
Дюрнштейн приготовил для Ричарда несколько сюрпризов. Первый встречал его в крепостном дворе и предстал в лице старого знакомого, Хадмара фон Кюнринга – австрийского рыцаря, сопровождавшего Леопольда во время похода в Святую землю. Одним жарким июльским вечером накануне взятия Акры Ричард сидел с ним за одним столом и обменивался похабными шуточками – такого он и представить себе не мог в общении со щепетильным, «правильным» герцогом Хадмара – этим Леопольдом Добродетельным.
Хадмар был министериалом. Когда Ричард впервые услышал этот термин, то решил, что Хадмар является придворным чиновником. И очень удивился, когда после нескольких кувшинов вина Хадмар признался, что хотя министериалы и считаются рыцарями, они лично не свободны. Подобно английским и французским рыцарям они исполняют вассальный долг, и некоторые, например сам Хадмар, достигают высокого ранга. Но им нельзя жениться без разрешения сеньора и оставить службу, так как прикреплены они к господину, подобно тому, как английский серв прикреплен к земле. Узнав Хадмара, Ричард обеспокоился еще сильнее, ибо известно ли министериалу, что такое честь?
Хадмар слегка нервничал, и Ричарду подумалось: не вспомнился ли и ему тот вечер в осадном лагере под Акрой?
– Милорд король, – начал австриец с наигранной полуулыбкой. – Обычно я встречаю гостей словами «Добро пожаловать в Дюрнштейн», но при данных обстоятельствах они мне кажутся не совсем уместными. Предлагаю попросту оставить формальности в стороне. Ты, должно быть, устал и проголодался…
Тут он осекся, потому что разглядел путы Ричарда. Вытащил кинжал и перерезал веревки, затем одарил Гюнтера взглядом – острым как клинок того самого кинжала. Ричард растер запястья, восстанавливая кровообращение, затем слез с седла.
– Сэр Гюнтер только следовал указаниям герцога, сэр Хадмар, – сказал он.
Разговор шел на латыни, но Гюнтер уловил, похоже, суть сказанного королем в его защиту, потому как когда взгляды их встретились, он кивнул, а уголки его губ искривились в гримасе, способной сойти за улыбку. Хадмар хмурился – он явно не ожидал, что Леопольд даст приказ связать Ричарда, но затем тоже кивнул и заявил отрывисто:
– Если нам надо что-то обсудить, можем обсудить это внутри, у огня. Идемте.
Он повернулся и зашагал к внутренним воротам, принимая как данность, что Ричард следует за ним.
* * *
Вторым сюрпризом стала комната, куда поместили Ричарда. Она представляла собой спальню более комфортабельную, чем он смел надеяться. Здесь имелась настоящая кровать, с подушками и подбитыми мехом одеялами, жаровня, полная раскаленных углей, ковры на стенах, чтобы отогнать декабрьскую сырость, стол на козлах, два стула, достаточное количество свечей и несколько масляных ламп, и даже тростниковая подстилка на полу. Оглядываясь, король спрашивал себя, кого выселили из этих палат ради него и как отреагирует Леопольд на такую щедрость со стороны Хадмара.
Пройдя в глубь комнаты, Ричард остановился так резко, что один из охранников наскочил на него. Государя удивил предмет, стоящий позади кровати: здоровый деревянный чан, окольцованный обручами, и со скамеечкой. Остальные стражники ввалились следом в палату, из чего король сделал вывод, что его и здесь будут держать под непрерывным наблюдением. Караульные не препятствовали ему знакомиться с новой тюрьмой. Они смотрели на пленника скорее с любопытством, чем с враждебностью, и не возражали даже, когда он отворил ставни на одном из окон. Из окна открывался живописный вид на горы и на быстро несущий свои воды Дунай. Но шансов на побег не было никаких, если только отчаявшийся вконец узник не наложит на себя руки и не купит конец своим земным страданиям ценой вечного проклятия. Ричард закрыл окно и грел руки над жаровней, когда в дверь постучали. Стражники впустили слуг, которые внесли большие ведра с горячей водой, кипу полотенец и еще котелок с жидким мылом. Решив про себя, что Хадмар фон Кюнринг достоин за свои заслуги английского графства, Ричард начал раздеваться.
Король соскреб, насколько мог, накопившуюся за несколько недель грязь и все еще отмокал в чане, наслаждаясь действием, которое производит теплая вода на ноющие, усталые мышцы, когда вошел Хадмар.
– Не прими за обиду, – сказал он с легкой улыбкой, – но я подумал, что тебе не помешает помыться.
– Никаких обид, потому что это действительно так.
– Завтра я пришлю цирюльника, чтобы он подстриг тебе волосы и бороду. – Хадмар кивнул слуге, который положил на постель кипу одежды. – Со временем мы подберем тебе подобающее одеяние, а пока предлагаем то, что сумели найти. Мои вещи тебе не подойдут, ты слишком высокий.
Он обвел взглядом сваленные на пол грязные тунику, рубаху, брэ и рваные шоссы.
– С твоего разрешения, мы все это выбросим: едва ли тебе захочется снова увидеть эти обноски, не говоря уж о том, чтобы надеть.
У Ричарда едва не сорвался с языка вопрос, не захочет ли Леопольд сохранить эту ветошь как трофей, как шкуру убитого волка или оленьи рога, но одернул себя и, взяв полотенце, предложил передать одежду тому, кто занимается в хозяйстве Хадмара раздачей милостыни, чтобы тот нашел им применение. Австриец явно старался из всех сил, будучи поставлен в двойственное положение радушного хозяина и тюремщика, и когда он, пообещав, что скоро подадут ужин, собирался уходить, Ричард проявил по отношению к нему то, чего никогда не проявил бы к Леопольду – вежливость.
– Спасибо, – сказал государь, как если бы был гостем, ищущим гостеприимства Хадмара. Тот улыбнулся в ответ, испытывая радость и облегчение от того, что им удалось избежать первой ловушки на усеянном препятствиями пути.
* * *
Ричарда содержали изолированно от двора Хадмара, он видел только денно и нощно наблюдающих за ним стражей и самого рыцаря, который время от времени заглядывал проверить, не нуждается ли узник в чем-нибудь. Ричарда кормили так, как он не едал со времен Рагузы, обеспечили одеждой, книгами и даже лютней, поскольку Хадмар помнил про увлечение английского короля музыкой. Ценя эти заботы, Ричард понимал, что они плохое средство против кровоточащей внутри раны. Он терялся в догадках, как его мать сумела выдержать в заточении шестнадцать лет и не повредиться в уме. Всего за неделю его нервы издергались как пакля. Неспособность знать, что готовит будущее, была невыносимой. Король не пытался расспрашивать Хадмара насчет намерений Леопольда, понимая, что это дурной способ отблагодарить рыцаря за его старание. Даже если Хадмару известно, что у герцога на уме, едва ли он станет делиться с узником, а значит, этот разговор только расстроит его.
О приходе Рождества Ричард узнал только благодаря появившемуся на столе жареному гусю – это блюдо знаменовало завершение поста. Когда король попросил разрешения присутствовать на праздничной мессе в замковой часовне, Хадмар вынужден был отказать, очевидно, следуя указаниям Леопольда, а не собственным побуждениям, потому как в следующий свой приход он принес четки. Ричард старательно читал по пятьдесят «Аве Мария» каждый вечер, но молитва не могла заглушить внутренний голос, коварно нашептывающий, что Бог отвратил от него свое лицо и глух к его просьбам.
Большую часть времени государь проводил в размышлениях об уготованном ему будущем. Леопольд ведь наверняка намерен затребовать выкуп? Как ни сильна была бы его обида, не может же он бесконечно удерживать в заточении английского короля. Да и слух обязательно просочится – слишком много людей участвовали в охоте на Ричарда. Не верил государь и в то, что австрийский герцог осмелится предать его суду за преступления, якобы совершенные в Святой земле. А вот Генрих мог бы. Неприятная мысль. Зато Филипп не стал бы утруждаться даже подобием суда. Попади он в лапы к французскому монарху, ему никогда больше не увидеть солнца.
В понедельник после Рождества Ричард вел борьбу с новым врагом: скукой. Он привык постоянно действовать, физически и умственно, и вынужденное уединение само по себе стало для него пыткой. Он рассеянно полистал страницы одной из данных Хадмаром книг, не в силах сосредоточиться, потом растянулся на постели и стал наигрывать на лютне унылую мелодию. Некоторое время спустя он перешел на другие аккорды, сочиняя новую песню, одну из тех, что выражают то, чего нельзя передать словами. Король настолько увлекся, что не слышал шагов, и, когда дверь открылась, сильно удивился, потому как Хадмар редко навещал его по вечерам.
Удивились и караульные, недоуменно глядевшие на застывших на пороге двух мальчиков. Ричард сел, заинтригованный неожиданным визитом. Ребята были сильно схожи между собой, из чего король сделал вывод об их родстве: братья или кузены; на вид он им дал лет шестнадцать-семнадцать. Ричард полагал, что австрийцы и немцы следуют привычной для Англии и Франции практике посылать юнцов из знатных семей служить сквайрами при крупном дворе. Но наблюдая, как препираются они со смущенными стражами, он заключил, что парни могут являться сыновьями самого Хадмара, поскольку в них угадывалась развившаяся с колыбели привычка повелевать. Взволнованные караульные продолжали упираться, и тогда один из мальчиков подошел к ним и до Ричарда донесся звук переходящих из рук в руки пфеннигов. Трюк сработал: воины отступили, и юноши приблизились к постели.
Смотрели они настороженно, и королю снова пришло в голову сравнение с посаженным на цепь медведем. Вот только в глазах у них горел восторг.
– Меня Лео зовут, – представился один на ученической, но вполне внятной латыни. – А это мой брат Фридрих. Мы хотим поговорить с тобой.
Фридрих решил, что брат повел себя слишком дерзко, потому что вмешался, прибавив на куда лучшей латыни:
– Ты дозволишь нам поговорить с тобой, господин король?
В своем теперешнем настроении Ричард был рад любому развлечению.
– А почему нет?
Другого поощрения им не требовалось. Подтянув поближе к кровати сундук, они угнездились на нем, напомнив государю птиц, готовых взлететь.
– И о чем же вы хотите поговорить? – осведомился он, отложив лютню.
– О войне в Святой земле, – выпалил Лео, и его брат согласно кивнул. – Мы хотим узнать про Яффу и поход из Акры. Мы слышали истории от воинов, вернувшихся домой, но воины любят присочинить, и у них мелкие стычки разрастаются до великих битв, так что мы уже не знаем чему верить.
– А почему вы уверены, что я тоже не стану сочинять?
Фридриха вопрос огорошил, но Лео расплылся в нахальной улыбке.
– Люди и так прозвали тебя Львиным Сердцем. Зачем же тебе еще что-то сочинять?
Смелость мальчишки забавляла Ричарда.
– Так про что вам рассказать сначала?
– Про Яффу, – хором ответили ребята и стали жадно слушать.
Поняв, что Иерусалим не взять, армия крестоносцев отошла к Акре. Ричард планировал напасть на Бейрут, единственный оставшийся в руках у Саладина порт, когда до него дошла весть о внезапной атаке сарацин на Яффу. Французы отказались участвовать, хотя в Яффе оправлялись от ран их соотечественники. Тогда Ричард поставил во главе их войск своего племянника Генриха Шампанского и послал их на юг, а сам поплыл вдоль побережья. Но корабли попали в штиль и добирались до Яффы целых три дня. Поставив галеры на якорь близ берега, крестоносцы стали ждать рассвета, чтобы узнать, держатся ли еще город и замок. И как только тьма отступила, увидели развевающиеся на ветру желто-оранжевые стяги Саладина.
То была одна из худших минут в жизни Ричарда. Перестав рассказывать, он заново переживал охватившую его тогда волну горестного гнева. В Яффе проживало четыре тысячи мужчин, женщин и детей, и теперь они погибли или отправились на невольничьи рынки Дамаска, и все потому что ветер подвел его, не доставив на место вовремя. Король медлил у берега, выслушивая оскорбления ликующих сарацинских воинов и скорбя в сердце. Но затем со стены замка спрыгнул вдруг какой-то священник и поплыл к его галере.
– Выяснилось, что замок еще не пал, – продолжал рассказ Ричард. – А значит, у нас был еще шанс.
Когда его галера «Морской клинок» устремилась к берегу, сарацины смотрели на нее, вытаращив от удивления глаза. Они отказывались поверить, что враги, сильно уступающие им числом, осмелятся на высадку. Ричард ступил на землю первым, меч в одной руке, арбалет в другой, и его рыцари преданно пошлепали по воде за ним, хотя все ожидали найти свою смерть на этих отмелях.
– Но наши арбалетчики расчистили пляж, а мне был известен потайной вход в город. В итоге мы натолкнулись на упорное сопротивление, и на улицах шел жесткий бой до тех пор, пока гарнизон замка не ударил нам навстречу. Будучи зажаты между моими людьми и гарнизоном, сарацины вынуждены были умирать или сдаваться.
Выражение на лицах слушателей было ему знакомо. Как часто видел он таких юнцов, восхищенных и горящих желанием пройти через славу и кровь битвы, хотя в большей степени через первую, чем вторую.
– Выходит, вы не думаете, что я сочиняю, – с намеком на улыбку сказал Ричард. – Тогда я поведаю вам, что Саладин утратил контроль над своими воинами, что многие из них стремились скорее к грабежу, чем к войне, и поэтому мы победили, хотя и уступали числом. Солдаты, будь то мусульмане или христиане, рассчитывают обогатиться на войне, а люди султана устали за многие годы сражений.
Впрочем, ребят интересовали не прозаические подробности военного ремесла, а только его кровавый пафос, и они хором принялись упрашивать рассказать про вторую битву под Яффой, состоявшуюся четыре дня спустя после первой.
Король рассказал, и на краткий миг его слова опьянили всех троих. Холодная декабрьская ночь уступила место испепеляющей жаре Утремера. Мальчики ощущали на коже укусы белого солнца, видели суровое величие раскинувшейся под медным небом земли и впитывали каждый звук из уст Ричарда.
– В Яффе воняло как на бойне, ведь взятым штурмом городам не выказывают милосердия. Мы разбили шатры за полуразрушенными городскими стенами. Узнав, что наша армия задерживается под Цезареей, Саладин решил нанести удар. Он полагал, что если я буду убит или захвачен в плен, войне конец. И если бы не один генуэзский арбалетчик, которому понадобилось отлить спозаранку, нас захватили бы спящими. Но генуэзец заметил солнечные блики на щитах сарацин. При мне было всего пятьдесят четыре рыцаря, четыреста арбалетчиков, две тысячи пехотинцев и всего одиннадцать лошадей, тогда как войско Саладина, как мы узнали позднее, насчитывало свыше семи тысяч человек. Времени отступать в Яффу не было, и даже имейся оно у нас, поврежденные стены не помогли бы отразить нападение. Поэтому я велел нашим пехотинцам упереть копья в землю и опуститься на колено, а арбалетчиков расположил сзади, под прикрытием щитов. Как только один арбалетчик делал выстрел, другой тут же передавал ему заряженный арбалет, поэтому поток стрел был непрерывным. Я заверил своих людей, что лошади сарацин не пойдут на ощетинившийся копьями строй, и оказался прав. Раз за разом конница налетала и в последний момент отворачивала. Мы простояли шесть с лишним часов, а когда постоянные неудачные наскоки утомили и обескуражили мусульман, я со своими рыцарями перешел в атаку и смел их с поля боя.
– Как ты додумался до такой тактики? Ведь она воистину удивительна!
– Я ничего не изобрел, Фридрих. Эту тактику я позаимствовал у сарацин, потому что никогда не стыжусь учиться у неприятеля.
Лео наклонился вперед, опершись ладонями в колени.
– А расскажи про поход из Акры, – сказал он.
Ричард повиновался. По мере рассказа ребята, снедаемые любопытством, придвинули сундук еще ближе к кровати. Правда, что люди умирали от солнечного удара? Правда. Правда, что в Святой земле водится ядовитый кусачий паук под названием «скорпион»? Правда. Правда, что за несколько дней перед битвой при Арсуфе Ричард был ранен арбалетной стрелой? И это тоже было правдой.
Собеседники напрочь забыли про время. Мальчики впитывали как губка истории про схватки с неверными на священной земле, по которой ступал некогда Господь-Спаситель. Ричард радовался возможности вырваться из каменных стен Дюрнштейна, хотя бы в воображении. Один из стражей многозначительно кашлянул, и это напоминание о том, что час уже поздний, разрушило волшебство.
– Надо идти, пока нас не хватились, – с грустью сказал Фридрих. – Еще один вопрос. Нам рассказывали, что под Яффой ты разъезжал перед фронтом сарацинской армии, и никто не осмелился принять твой вызов на поединок. Ну, это-то наверное придумали – ведь это настоящее безумие!
Ричард усмехнулся.
– Насчет безумия ты прав, Фридрих. Но тогда мне это показалось хорошей идеей.
Юнцы вытаращились на него, потом расхохотались. Смех однако резко оборвался, стоило им сообразить, что они зашли слишком далеко и забыли, что перед ними недруг. Лео вскочил и с неожиданной враждебностью посмотрел на короля.
– Не понимаю я тебя, – звонким голосом заявил он. – Ты ведь великий воин, отважный, как Роланд, готовый отдать жизнь за нашего Спасителя. Как же ты мог так бессовестно обойтись с нашим отцом?
Ричард удивленно заморгал.
– Я никогда не ссорился с Хад… – Тут он прикусил язык, запоздало угадав правду. – Так вы сыновья герцога Леопольда?
– Честь имеем, – гордо заявил Фридрих, тоже встав. – Меня зовут Фридрих фон Бабенберг, я первенец моего господина отца, наследник герцогств Австрии и Штирии, а это мой брат Леопольд.
Лео тоже принял вызывающую позу: выпятил подбородок, стиснул кулаки. Ричарду оставалось удивляться, как он прежде не заметил сходства, потому что мальчик был вылитой копией Леопольда во гневе.
– Ты унизил нашего отца, – с укором сказал парень. – В Акре твои люди сбросили его стяг, и ты позволил этому случиться!
Ричарду не хотелось осуждать герцога при его сыновьях, но и лгать в угоду им он тоже не собирался.
– Те люди действовали по моему приказу. Узнав, что Леопольд вывесил свое знамя, я приказал сбросить его и не жалею об этом. Мы с французским королем договорились, что каждый из нас получает половину Акры, а вывесив свое знамя, ваш отец заявил права на город и добычу. Он поступил неправильно, не я.
Аргумент показался Лео несущественным.
– Он ведь вместе со своими людьми тоже брал Акру, тогда почему ему отказали в доле добычи? Он был твоим союзником, а ты обошелся с ним, как с вассалом? Но мой отец – герцог Австрийский, и ты на своей шкуре убедишься, что это значит!
Мальчик резко повернулся и вышел, громко хлопнув за собой дубовой дверью.
Фридрих не последовал за братом.
– Я тоже не понимаю, – промолвил он, но без убеждения, звучавшего в тоне брата. – Наш господин отец – человек гордый, а ты без нужды унизил его. Когда твои люди сорвали флаг и бросили его в ров, они попрали его гордость, его честь, честь Австрии.
Ричарда не радовал оборот, который принял их разговор. На упреки Фридриха отвечать было сложнее, чем на обвинения Лео.
– Я не знал, что знамя скинули в ров.
– А если бы знал, наказал бы своих людей за это?
Ричард поразмыслил.
– Нет, – честно признал он. – Скорее всего, не наказал бы. Как я уже упомянул, они исполняли приказ.
– Ты утверждаешь, что мой отец не по праву вывесил знамя. Даже если это так, ты поступил еще хуже, подтолкнув его оставить армию и вернуться домой.
– А вот тут я ни при чем. – Король нахмурился. – Он сам решил уехать с войны, и это позорное решение, потому как герцог давал такой же священный обет, как и я, как мы все. Обет оставаться в Утремере до тех пор, пока мы не отберем Иерусалим у неверных.
– Но это ты сделал так, что ему невозможно было остаться. Неужели ты этого не видишь? Все его люди знали о случившемся: о том, что с австрийским знаменем обошлись как с ничтожной тряпкой. Как он мог остаться после такого унижения и позора? Отъезд был для него единственным способом сохранить лицо, пусть даже это причинило ему много страданий. Он уже во второй раз принимал крест. В первый свой приезд в Святую землю он даже получил частицу Истинного Креста от короля Иерусалимского. И хотя дар был для него бесценен, отец отдал реликвию аббатству в Хейлигенкрейц, сказав, что ей надлежит пребывать в доме Божьем. Судьба Святой земли заботит его ничуть не меньше, чем тебя, милорд. Вот если бы ты выразил хоть толику уважения к его чести, чего он с полным правом ожидал, отец никогда не уехал бы, и ты не оказался бы здесь, в Дюрнштейне, в эту декабрьскую ночь.
Тут Фридрих повернулся, явно довольный, что последнее слово осталось за ним, и чинно вышел из комнаты.
Сразу после ухода мальчиков принесли ужин, но Ричард даже не прикоснулся к нему. Поначалу он отмахивался от жалоб Леопольда, как от досадной помехи, но когда герцог уплыл вместе с французским королем, распространил на него то презрение, которое питал к Филиппу. Львиное Сердце отказывался понять, как эти люди могли с такой легкостью преступить через клятву, данную Господу. И до этого вечера даже не пытался посмотреть на случившееся глазами Леопольда. Хотя признавать этого не хотелось, была в словах Фридриха своя истина. Для такого гордеца как Леопольд сложно было остаться после унижения, претерпленного от английского государя.
Растянувшись на кровати, Ричард вспоминал о том судьбоносном столкновении. При всех тогдашних его заботах обида Леопольда казалась малозначительной, и возмущенные протесты герцога не находили у него отклика. Потеряв терпение, он развернулся, чтобы уйти, а Леопольд посмел схватить его за руку, чем вызвал вспышку гнева. Ему припомнилось, каким было тогда лицо австрийца: красное, словно обгоревшее на солнце, на губах пена, на скулах ходят желваки. Припомнил и то, как рассказывал после об этом случае жене, сестре и племяннику. Генрих Шампанский предложил переговорить с обиженным и «пригладить взъерошенные перья», но он тогда посоветовал ему не вмешиваться, пусть, мол, Леопольд «поварится в собственном соку». Генрих, при желании, мог очаровать кого угодно; интересно, удалось ли бы ему смягчить разъяренного герцога? Не прояви Ричард такого безразличия к раненной гордости Леопольда, могла бы встреча в Эртпурхе закончиться иначе? Да, Леопольд – вассал Генриха Немецкого, но вовсе не марионетка в его руках. И если его сын прав, крестовый поход для него, в отличие от Филиппа, вовсе не пустой звук. Быть может, и он, как граф Энгельберт в Герце, поостерегся бы хватать человека, находящегося под защитой церкви? Не поставил бы долг перед Господом выше долга перед императором Священной Римской империи?
Король все еще был погружен в мрачные размышления вокруг стычки с сыновьями Леопольда, когда неожиданно пришел Хадмар.
– Я подумал, тебе стоит знать, что ближе к концу дня приехал герцог Леопольд. Он сказал, что завтра намерен поговорить с тобой.
– Спасибо, что сообщил, – сказал Ричард, а когда гость повернулся, чтобы уйти, воскликнул порывисто: – Постой, сэр Хадмар. Ты осуждаешь меня за то, что я снял стяг герцога в Акре?
– Разумеется. Таким презрительным обращением с нашим знаменем ты унизил герцога Леопольда, наше герцогство, всех австрийцев.
Ричард не ожидал такого бескомпромиссного ответа.
– Я ценю твою честность, – сказал он.
Хадмар сухо кивнул и вышел, оставив Ричарда гадать, каким образом уживаются в Хадмаре этот холодный, неумолимый гнев с выказанным ему почтительным гостеприимством. Единственным приходившим на ум ответом был тот, что Хадмар, разделяя негодование герцога насчет знамени, не одобряет причинения вреда человеку, принявшему крест и сражавшемуся во имя Христа в Святой земле.
* * *
Леопольд, похоже, не торопился начинать разговор. Он стоял посреди комнаты, уперев руки в бока, и внимательно оглядывал Ричарда, стражу и обстановку спальни.
– Как вижу, сэр Хадмар обставил твое жилище согласно твоему рангу, – произнес он наконец.
Ричард с вызовом посмотрел на него:
– Этому суждено скоро перемениться?
– Нет. – Леопольд снова надолго замолчал, потом вскинул голову и распрямил плечи. – Твои апартаменты в Вене не соответствовали… человеку знатного рода. Каковы бы ни были твои проступки, ты король, помазанник Божий. Гнев мой праведен, но даже так…
Было очевидно, что герцогу сложно сделать это признание. Он теперь сложил руки на груди и поджимал губы, но пока говорил, твердо выдерживал взгляд Ричарда. Последнее, чего ожидал король, так это почти что извинений. Момент был знаковый и говорил о том, что австриец считает себя человеком порядочным, следующим велениям этики, побуждающей его признавать ошибки, даже если это дается с трудом.
– А что с моими людьми? – осведомился Ричард.
– Их переселили в более удобные помещения. А лекарь позаботился о полученных парнишкой ранах.
Король скорее подавился бы, чем сказал «спасибо».
– Рад это слышать, – вывернулся он.
Леопольд переменил позу, посмотрел на сундук, словно намеревался присесть, потом передумал:
– Моя жена, герцогиня Елена, приехала со мной в Дюрнштейн, как и мои сыновья, брат, племянник и несколько клириков, включая моего кузена, архиепископа Зальцбургского. Еще здесь епископ Гуркский. В честь нашего прибытия сэр Хадмар собирается устроить сегодня вечером пир.
Ричард не понимал, к чему Леопольд затеял этот разговор, поэтому не отвечал и только смотрел, как герцог начал беспокойно мерить шагами комнату, беря и возвращая на место первые попавшиеся под руку предметы.
– Кое-кто из моей свиты выразил желание познакомиться с тобой, – произнес австриец после очередной затянувшейся паузы.
Ричард недоуменно воззрился на него:
– Ты приглашаешь меня пообедать с вами?
Щеки и шея Леопольда слегка порозовели.
– Нет, это было бы… неуместно.
– Да уж, пожалуй. Раз меня денно и нощно стерегут с мечами наголо, едва ли мне доверят держать в руках нож. Впрочем, ты ведь можешь поручить одному из слуг нарезать для меня мясо?
Леопольд эту иронию оставил без внимания.
– После обеда нас будет развлекать мой главный менестрель, Рейнмар фон Хагенау. Думаю, в этот момент ты мог бы к нам присоединиться, – невозмутимо продолжил он, после чего повернулся к Ричарду: – Я понимаю, что не могу требовать, выбор за тобой. Если ты примешь приглашение, смею ли я рассчитывать, что мы согласимся соблюдать… – Герцог снова замолчал, пытаясь подобрать правильное слово.
– Вежливость? – подсказал Ричард, и в глазах его блеснула искорка. – Под этим, насколько я могу судить, следует понимать такие скользкие темы, как Кипр, Святая земля и ад.
Вид у Леопольда сделался мрачный.
– Определенно, это была ошибка, – пробормотал он и двинулся к двери.
– Я согласен, – сказал Ричард, чем заставил герцога резко остановиться.
– Вот как? – Тон у австрийца был скорее подозрительный, чем довольный, и королю пришлось усилием воли спрятать улыбку.
– Ну, этот вечер выдался у меня свободным…
Леопольд впился в него взглядом:
– Ладно, договорились. Хадмар проводит тебя в большой зал после того как пробьют час шестой.
– Буду ждать этого момента сильнее, чем могу выразить словами, – промурлыкал Ричард, наслаждаясь внезапным беспокойством, появившимся в глазах своего тюремщика. Вторая половина дня будет для Леопольда весьма напряженной – по крайней мере, король надеялся на это. После того как герцог ушел, Ричард удивил стражу, расхохотавшись в голос. Это была посланная Богом возможность, и он постарается сполна воспользоваться ею. Изоляция чревата опасностью. Чем больше контактов с внешним миром удастся ему установить, тем лучше. Особенно если это будут контакты с князьями церкви.
* * *
Герцогиня Елена выглядела на год или два моложе мужа, который был одного с Ричардом возраста – тридцать пять лет. Дочь и сестра венгерских королей, лишь она одна в окружении Леопольда говорила на французском, приправленном приятным мадьярским акцентом. Но язык препятствием не являлся, потому что большинство мужчин понимали латынь, а молодой архидьякон с готовностью переводил с нее на немецкий для женщин. Евфимия, жена Хадмара, была намного моложе мужа, а двое их сыновей появились в зале лишь на минуту – их сочли слишком юными для участия в развлечениях. Зато Фридрих и Лео были тут. Когда Ричард сделал вид, будто видит их впервые, Лео метнул в брата колючий взгляд и сказал, что виноватая совесть святого Фридриха заставила его признаться во всем отцу. Фридрих зло посмотрел на Лео и пробормотал по-немецки несколько слов, явно не лестных для братца. Ричарду эта сценка напомнила про его собственные ссоры с Жоффруа: в этом возрасте ни один не упускал возможности насолить другому. И тем не менее он чувствовал, что Лео с Фридрихом так же часто оказываются союзниками, как и соперниками, а вот у него с Хэлом или Жоффруа было совсем не так. По какой-то причине – она вовсе не интересовала его в юные годы, но с возрастом заставляла задумываться все чаще – Анжуйская династия усвоила в качестве ролевой модели отношений между братьями пример Каина и Авеля.
Генриха, младшего брата Леопольда, представили Ричарду как герцога Медлингского. О таком герцогстве королю слышать никогда не приходилось. А вот знакомство с несовершеннолетним племянником Леопольда Ульрихом всколыхнуло в нем неприятные воспоминания о Фризахе, потому как Ульрих был герцогом Каринтии – области, которую Ричард вовсе не испытывал желания увидеть снова. В число прочих гостей входили кузен Леопольда Адальберт, архиепископ Зальцбургский; Дитрих, епископ Гуркский, а также настоятели цистерцианских обителей: в Штифт-Цветтле, основанной отцом Хадмара, и в Штифт-Хейлигенкрейце, фигурировавшей в сходу выдуманной Арном легенде. Ричард надеялся, что лорд Фридрих фон Петтау будет в свите Леопольда, потому как желал узнать о судьбе своих людей, схваченных во Фризахе, но их тюремщика среди присутствующих в большом зале замка Дюрнштейн не оказалось.
Позже Ричард вспоминал о том вечере как о происшествии воистину странном, которое, однако, доставило куда больше удовольствия ему, нежели Леопольду. Герцог держался отстраненно, предоставляя Хадмару принимать английского короля. Ричард видел, что Леопольд на грани, поскольку не уверен, сохранит ли непредсказуемый пленник усвоенную линию хорошего поведения. А короля и впрямь подмывало: он знал, что стоит завести разговор о предстоящем почти наверняка сошествии Леопольда в ад, это повергнет герцога в ужас перед лицом близких и друзей. Но это не сослужило бы ему добрую службу, и потому Ричард старался как мог очаровать знатных гостей. Он галантно чмокал ручки Елене и Евфимии, отвешивал им куртуазные комплименты, усвоенные еще при дворе матери в Аквитании. Архиепископу Адальберту он польстил, почтительно поцеловав его перстень, а припомнив услышанную от Фридриха историю, попросил аббата монастыря в Хейлигенкройце поведать про частицу Истинного креста. То была тема не только удобная для беседы с клириками, она еще выставляла в выгодном свете Леопольда, и Ричард надеялся, что слушатели отметят то благородство, с каким он восхваляет своего тюремщика.
Ему не потребовалось много времени, чтобы выяснить причину их интереса к его персоне. Отчасти она крылась в естественном любопытстве к нему как к прославленному воителю, одному из самых знаменитых государей христианского мира. Но больше всего их интересовал Иерусалим, и вскоре король уже отвечал на вопросы о битвах в пустынях Утремера, о будущем Святой земли и о человеке, который, даже будучи неверным, интриговал почти всех европейцев – о Салах-ад-Дине.
Брат и племянник Леопольда, а также остальные мужчины больше интересовались войной. И хотя сам герцог держался невозмутимо и хранил важное молчание, Ричард не сомневался, что и ему тоже не терпится услышать про поход из Акры, про Ибр-Ибрак и Яффу. Сложись обстоятельства иначе, они с Ричардом могли бы бок о бок сражаться с сарацинами, этими обреченными попасть в ад язычниками, разумеется, но несмотря на это, достойными противниками. Клирики хотели услышать о библейских местах и были сильно разочарованы признанием Ричарда, что он состоит в числе тех немногих, кто не совершил паломничества в Иерусалим после заключения мирного договора. Но стоило ему объяснить, что он не счел себя достойным, так как не исполнил свой обет отобрать Иерусалим у Саладина, как осуждение сменилось уважением перед твердым соблюдением данной Всевышнему клятвы и даже восхищением. Ричард не лукавил, и именно по этой причине отказал себе в духовной радости видеть Гроб Господень, камень, на котором покоилось тело Иисуса Христа, комнату, где состоялась Тайная Вечеря и прочие святые места, запечатленные в Евангелиях. Но это не помещало ему извлечь из этого своего воздержания пользу в беседе с прелатами Леопольда.
Хорошую службу сослужила ему и любовь к музыке. Он был несколько знаком с творчеством немецких трубадуров, называемых миннезингерами, и когда Рейнмар фон Хагенау собрался выступать, Ричард попросил его исполнить одну его песню, указав, как она называется. А затем сам великодушно уступил просьбам дам и вместе с Рейнмаром спел одну из песен собственного сочинения, хотя высокородные поэты Аквитании предпочитали, чтобы их композиции исполнялись жонглерами.
Ему удалось даже обратить единственный некрасивый момент вечера в свою пользу. Лео заметно дулся и, воспользовавшись паузой в разговоре взрослых, спросил громким звонким голосом, а правда ли, что английского короля и его братьев величают «дьявольским отродьем». Грубость сына повергла Леопольда и Елену в отчаяние, но Ричард только улыбнулся и весело поведал их любимое семейное предание про Мелюзину, дьяволицу-графиню из Анжу. Она вышла замуж за анжуйского графа, а потом выяснилось, что ее отец Сатана. Ричард с братьями частенько шутили насчет Мелюзины, противоестественно гордясь такой скандальной прародительницей. Но заметив, что кое-кто из гостей пришел в ужас и осеняет себя крестным знамением, король тут же заверил их, что все это вздор, разумеется – сплетни, распространяемые недругами, чтобы опорочить Анжуйскую династию.
В общем и целом Ричард остался доволен тем, как провел этот вторник в конце декабря. Хадмар лично препроводил его в комнату в башне, к стражникам, державшимся теперь совсем иначе, чем до визита в зал. Австриец вежливо пожелал пленнику покойной ночи, затем, уже в дверях, помедлил и сказал:
– А ты умный человек.
Ричард не стал притворяться, что не понимает.
– Я принял бы эти слова за комплимент, не будь они произнесены таким удивленным тоном, – сухо ответил он. – Нам с твоим герцогом не удалось переговорить этим вечером. Но поговорить нам нужно… Причем скоро.
Хадмар кивнул.
– Ты поговоришь с ним, – пообещал он, и пока Ричарду пришлось довольствоваться этим.
* * *
Леопольд пришел только несколько часов спустя после наступления темноты. Ричарда порадовало, что с ним явился слуга, поставивший на стол кувшин вина и два позолоченных кубка. Слуга наполнил кубки, после чего деликатно удалился. Леопольд отпил глоток, внимательно наблюдая за королем.
– Полагаю, все прошло неплохо, – сказал он, выразив, насколько мог, благодарность английскому монарху.
«Ты имеешь в виду, что я не выставил тебя идиотом перед твоей семьей и вассалами», – подумал Ричард, протягивая руку за своим кубком. Леопольд, снова выказывая признаки внутреннего напряжения, с отсутствующим видом забарабанил пальцами по доскам стола.
– Прошу простить дурные манеры моего сына.
– Он юн, – ответил Ричард, пожав плечами. – Кроме того, парнишка мне по нраву. У него есть характер, как у моего собственного сына.
– Не знал, что у тебя есть сын. – Леопольд выглядел изумленным. – До меня не доходили вести, что твоя супруга ждет ребенка.
– Филипп не от Беренгуэлы, – сказал король, отхлебнув вина. – Ему одиннадцать, он появился на свет задолго до моего брака.
Его не удивило, что на лице собеседника появилось хмурое выражение – стоит ли ожидать, что человек, известный как Леопольд Добродетельный, одобрит детей, рожденных вне брачного ложа? Но как дал понять следующий вопрос, гримаса на лице герцога была скорее озадаченной, чем осуждающей.
– Мне казалось, что твою жену зовут Беренгарией?
– Так и есть. Но только со времени нашей свадьбы. Ее настоящее имя Беренгуэла, но для уха моих подданных оно звучит слишком чужеземным. А вот мне оно больше нравится, и поэтому мы договорились, что при дворе она будет Беренгарией, а в опочивальне – Беренгуэлой.
Повисло молчание, потому как оба уловили неуместность беседовать вот так, почти доверительно, о семье. Так человек может говорить с другом. Умом Ричард понимал, что это, может быть, один из самых важных разговоров в его жизни, но осознал вдруг, как с его губ, совершенно неожиданно, срывается не обдуманная заранее фраза:
– Я не знал, что мои люди сбросили твое знамя в ров, пока Фридрих не сказал мне об этом вчера вечером.
– Это была сточная канава, – невыразительно уточнил Леопольд.
«Час от часу не легче, – отметил про себя Ричард. – Если так дальше пойдет, то вскоре выяснится, что флаг сожрали свиньи».
– Фридрих спросил, наказал бы я своих, если бы узнал про это, – продолжил король. – Я ответил, что нет, потому что они следовали моему приказу, даже если зашли дальше, чем следовало. И если бы мне пришлось решать снова, я отдал бы тот же самый приказ. Но мне следовало бы переговорить с тобой после случившегося. Я сожалею о том, что этот разговор не состоялся.
В темных глазах Леопольда сложно было что-либо прочесть.
– Это звучит почти как извинение.
Ричард улыбнулся:
– Мне кажется, для извинений уже слишком поздно. Да и с учетом обстоятельств мое раскаяние может показаться неискренним.
Австрийский герцог ничем не выдал, уловил ли он иронический подтекст.
– Да, пожалуй, – согласился он, подтвердив подозрение Ричарда о полном отсутствии у него чувства юмора.
Глотнув еще вина, Ричард склонился через стол ближе к собеседнику:
– В таком случае давай вести разговор не о прошлом, но о будущем. Насколько я разумею, перед нами лежат два пути. Первый: мы предаем прошлое забвению, завтра утром я уезжаю отсюда – лучше всего отправляюсь с сильным эскортом в Моравию, – а ты тем временем даешь приказ отпустить на свободу моих людей. Второй: мы обсуждаем условия выкупа. Естественно, для меня предпочтительнее первый путь. Но если нужно, я готов пойти и по второму. В первом случае я даю тебе честное слово, что не стану искать мести и не буду держать на тебя обиду, потому как признаю, что ты не так неповинен, как я считал прежде. Если речь идет о втором, то я уверен, что мы сможем достичь устраивающей нас обоих договоренности. Так какой путь мы изберем?
Леопольд теперь избегал встречаться с ним взглядом, уткнувшись глазами в свой кубок.
– Ни тот и ни другой.
Это был удар. Ричард убедил себя в возможности договориться с герцогом, поскольку судил по некоторым робким признакам, что Леопольд начинает жалеть о решении ухватить льва за хвост. Еще вчера король взорвался бы гневом и напомнил герцогу, что упорствуя в своем безумии, он обрекает себя на вечную тьму. И спросил бы, стоит ли ради какой бы то ни было обиды подвергать опасности свою бессмертную душу. Однако юноша семнадцати лет достиг того, чего не удавалось практически никому: заставил Ричарда посмотреть на ситуацию глазами противоположной стороны. Аккуратно поставив на стол кубок, вместо того чтобы грохнуть им об пол, он сказал:
– Леопольд, ты совершаешь непоправимую ошибку. Что бы ни случилось со мной, тебя ожидает судьба намного худшая. Нам обоим известно, что его святейшество папа предаст тебя анафеме за такой великий грех. Но еще не поздно. Еще есть время исправить причиненное зло.
Сдвинув стул, Леопольд медленно встал.
– Ты ошибаешься, Львиное Сердце, – мрачно процедил он. – Отныне мы лишены роскоши выбирать свою судьбу. Понимаешь ли, я был обязан известить о твоем пленении моего сюзерена, и император Генрих повелел мне доставить тебя к нему в Регенсбург. Завтра утром мы отправляемся к императорскому двору.
Глава VII Дорога на Регенсбург, Германия
Январь 1193 г.
На этот раз Ричард дал слово не пытаться бежать, и его не стали связывать. Хадмар обеспечил его удобным предлогом, сообщив, что до Регенсбурга добрых полторы сотни миль, но правда заключалась в том, что король отдал бы все, лишь бы не явиться ко двору Генриха спеленатым как гусь на Михайлов день. Он огорчился, узнав, что архиепископ Зальцбургский и епископ Гуркский не сопровождают Леопольда, потому как рассчитывал на шанс перемолвиться с кем-нибудь из них с глазу на глаз. Но ни прелаты, ни аббаты-цистерцианцы не вошли в состав свиты герцога. Леопольд намеренно держался на расстоянии, не давая Ричарду возможности заговорить с ним. Удалось перекинуться лишь парой слов с Хадмаром. Решив, что терять нечего, он спросил, поддерживают ли австрийские клирики захват короля. Рыцарь поразил его готовностью, с которой был дан ответ.
– Разумеется, не поддерживают. Герцог не в ладах с церковью, и это сильно беспокоит наших прелатов. Но тем не менее, они ему верны и останутся верны, даже если папа наложит на него высшую кару.
Ричарду хотелось услышать вовсе не это.
Они покрывали по двадцать миль в день, расстояние вполне приличное для зимнего путешествия, ночевали в замках, один раз в монастыре, а еще однажды остановились в гостинице, повергнув в панику хозяина заведения. Ричарда всегда помещали с удобствами, но держали изолированно и под крепкой охраной, и ничто не мешало ему думать о том, что ждет его при императорском дворе.
Генриха фон Гогенштауфена он никогда не встречал, но известия о нем не обнадеживали. Генриху было сейчас двадцать семь, он получил хорошее образование, по слухам, бегло говорил на латыни и, подобно Ричарду, иногда сочинял стихи. А еще говорили, что он безжалостен, неумолим, злопамятен и надменен. Зять Ричарда, бывший герцог Саксонии, и его племянник не находили для императора ни единого доброго слова. Так же, как мать Ричарда и его жена.
Алиенора и Беренгария неожиданно столкнулись с Генрихом и его супругой два года назад, по пути к Ричарду на Сицилию. Генрих и Констанция ехали в Рим на коронацию – отец Генриха, как стало известно, погиб во время крестового похода. Пути двух делегаций пересеклись в итальянском городе Лоди, сильно озаботив тамошнего епископа, которому пришлось оказывать гостеприимство и тем и этим. Лежа на постели в немецком замке и пытаясь не замечать окружающих его стражей с мечами наголо, король припоминал колкую характеристику, данную его матерью императору Германии.
– Генрих умен, слишком умен. И холоден. Бьюсь об заклад, если его разрезать, в жилах у него обнаружится чистый лед. А еще наделен обаянием раненого барсука. – Тут Алиенора остановилась, давая Ричарду насмеяться всласть. – Но он опасный человек, Ричард, не из тех, к кому можно относиться легкомысленно, так как Генрих лишен принципов и наделен огромной властью. Из таких получаются самые страшные враги.
Это был жестокий вердикт, но спокойная оценка жены озаботила Ричарда еще больше, потому что Беренгария по природной доброте старалась толковать сомнения в пользу обвиняемого и не была склонна драматизировать или преувеличивать.
– У него вид совсем не царственный, – сказала тогда она. – Совсем не как у тебя или у моего брата Санчо, и поначалу я не понимала, почему люди так боятся его. Но его глаза… Ричард, я понимаю, что это звучит глупо. Но когда я заглянула в его глаза, мне показалось, что я смотрю в бездну.
* * *
Ни единой ночи не знал Ричард покоя от своих мрачных мыслей. Фридрих и Лео пробирались к нему поговорить и приводили кузена Ульриха, молодого герцога Каринтийского. Они хотели, чтобы он рассказал Ульриху, как в одиночку бросал вызов армии сарацин под Яффой, и вольно переводили эту историю кузену, латынь которого была в лучшем случае зачаточной. Лео изрядно оттаял с момента последней их встречи, и Фридрих вскоре объяснил почему: их очень порадовало, что английский король извинился перед отцом за поруганное знамя. Это удивило Ричарда, но, слушая болтовню ребят, он вскоре сообразил, в чем дело. Леопольд уцепился за выраженное королем сожаление за несостоявшийся тогда разговор и ради сыновей распространил его на весь тот неприятный случай. Спасать честь герцога Ричард не собирался, но ему нравились Фридрих и Лео, и он не видел причины развенчивать ложь, которая явно так согревала души ребят. Те полагали, что худшее позади, что император согласится на выкуп и Львиное Сердце отправится вскоре в родные края. Но Ричард списывал это на счет естественных для юности оптимизма и легкомыслия. Мальчики разоткровенничались настолько, что по секрету поведали о желании их матери ехать с ними в Регенсбург, потому что она очень дружна с супругой Генриха, императрицей Констанцией. Однако отец настоял, чтобы жена вернулась в Вену, что ее жутко огорчило. Ричард подзуживал их к разговору, пытаясь выведать, почему Леопольд не разрешил супруге навестить императорский двор. Ему это не нравилось: не подозревает ли герцог, что там произойдет нечто, чего Елене лучше не видеть?
Собираясь уходить, ребята наскоро посовещались между собой, и Лео объявил, что они хотят поделиться новостью. Император распорядился, чтобы спутников короля тоже доставили в Регенсбург. Граф Мейнхард привезет восьмерых, захваченных в Удине, Фридрих фон Петтау отвечает за шестерых, взятых во Фризахе, а отец велел переслать тех троих, которых держат в Вене. Мальчики с улыбкой смотрели на Ричарда, явно полагая, что известие обрадует его. Только вот ему меньше всего на свете хотелось услышать, что его люди тоже окажутся в сплетенной Генрихом паутине. Леопольд рано или поздно отпустил бы их, хотя бы ради очистки совести. А вот для Генриха их судьба не стоит и гроша.
* * *
Наступил праздник Богоявления.
– Регенсбург, – сказал Гюнтер, придержав коня рядом с Ричардом, и растопырил обе ладони, дав понять, что до места назначения осталось десять миль.
Учитывая это, Ричард изумился, когда они, проскакав несколько миль, остановились в замке, тогда как без труда могли добраться до Регенсбурга до наступления темноты. Подобно Дюрнштейну, эта твердыня угнездилась на утесе высоко над Дунаем. Могучий, мрачный ее силуэт обрисовывался на фоне затянувших зимнее небо снеговых туч. Чуть позднее Хадмар сообщил королю, что замок известен как Донауштауф, или Штауф-на-Дунае. Владеет им епископ Регенсбургский. Но еще прежде ничего не знающего пленника без слов препроводили в верхние палаты. Только отворив ставни и увидев, как Леопольд со свитой уезжают, Ричард сообразил, что австрийцы оставили его здесь, а сами продолжили путь к Регенсбургу. Это озадачило его, даже сбило с толку: разве не мечтал Леопольд похвастать своей добычей перед императорским двором? Но дать ответа на возникающие вопросы никто не мог, только говорящие по-немецки стражники. Королю никогда не составляло труда найти взаимопонимание с солдатами; не сомневался он в способности расположить к себе и этих австрийских пехотинцев, не разделяй их только этот злосчастный языковой барьер.
Той ночью он спал мало, и был как на иголках весь следующий день, ожидая, что в любую минуту приедет Гюнтер и повезет его к Генриху. Но этого не случилось. На второй день маятник его настроения резко качался от беспокойства и отчаяния к гневу и обратно. Караульные настороженно наблюдали, как король мечется из угла в угол, бормоча что-то про себя. Постоянное напряжение так измотало Ричарду нервы, что у него разыгралась страшная головная боль. Он рано лег, потому что заняться было нечем. Но едва сумел заснуть, как был разбужен громким стуком в дверь.
Стражники поспешили сдвинуть засов, и в комнату ворвался Хадмар, бросил что-то по-немецки, отчего караульные удивленно воззрились на него.
– Тебе немедленно нужно одеваться, потому что сегодня же ночью мы уезжаем, – сказал он пленнику.
Ричард сел и впился в него взглядом.
– Уезжаем куда? Поздновато как-то наносить визит Генриху.
Хадмар скривился и скомандовал охране что-то еще.
– Мы едем не в Регенсбург, – сказал он. – Мы возвращаемся в Австрию.
– Нет, – отрезал Ричард так решительно, что караульные обернулись на него и вытаращились, хотя ни слова не понимали на латыни. – Я никуда не поеду, пока вы не скажете мне, что происходит.
Министериал нахмурился:
– Сейчас не время для споров. Герцог ждет внизу, во дворе, и он хочет, чтобы мы немедленно спустились.
Когда Ричард не двинулся с места, Хадмар продолжил нетерпеливо:
– Ты не в том положении, чтобы упираться. Нужно ли мне напоминать, что я могу увести тебя отсюда силой?
– Ты считаешь, что отдав своим людям приказ одевать меня против воли, ты достигнешь цели? – Ричард ухмыльнулся. – Поскольку в твои намерения не входит выволакивать меня голым на снег, лучше расскажи мне немедленно что к чему. Что не так с Генрихом?
Хадмар колебался недолго.
– Мой герцог и император не сошлись на условиях твоей передачи, и Леопольд опасается, что Генрих пошлет людей захватить тебя. Герцог полагает, что продолжать переговоры лучше на расстоянии. Ну, теперь-то ты сделаешь, что я прошу? Бога ради!
Ричард кивнул и, спустив ноги на пол, потянулся за одеждой. Ответ Хадмара был не самым пространным, но детали могли подождать. Какие бы мотивы не руководили Леопольдом, в собственных интересах Ричарда было удаляться от императорского двора со всей скоростью, какую способна развить лошадь.
* * *
Ехали они быстро и без остановок, и даже начавшийся на второй день снегопад не задержал их. Оставались за спиной мили, но Ричард не получал ответов, поскольку ни Леопольд, ни Хадмар не приближались к нему достаточно близко, чтобы затеять беседу. Даже сыновья герцога опускали глаза, стоило королю посмотреть в их сторону. Если у него и оставались какие-то сомнения в том, что им известно нечто такое, о чем неведомо ему, они окончательно рассеялись после неожиданного вечернего визита австрийского рыцаря Гюнтера. Воин принес с собой мех с вином, и оба посидели немного, передавая мех друг другу, как Ричарду частенько доводилось делать в прошлом, сидя со своими солдатами у костра и вспоминая о былых сражениях и обмениваясь шутками. С Гюнтером разговор, понятное дело, не получился, потому что общаться им приходилось без слов. Они молча прикончили вино, затем Гюнтер встал и вышел. Но это немудреное проявление воинского братства скорее встревожило Ричарда.
Настоящий проблеск облегчения он ощутил, только когда на горизонте замаячил Дюрнштейн, потому что в мире сгущающихся теней и зыбучих песков он был хотя бы чем-то знакомым. Там он узнает, наконец, необходимые ответы. Прибыли они уже поздно, но в ожидании давно назревшего разговора с Леопольдом фон Бабенбергом, Ричард встал рано. Как и в Донауштафе, часы тянулись, а ничего не происходило. Для человека нетерпеливого ожидание всегда пытка – оно напоминает ему про то, как бессилен он что-то изменить. День клонился к вечеру нестерпимо медленно. Слуги принесли обед, потом убрали посуду. И только когда на комнату опустилась темнота и пришло время зажигать свечи и лампы, испытание закончилось. Король уже приготовился терпеть еще целую ночь, когда дверь отворилась и вошел Хадмар в сопровождении слуги, нагруженного парой больших кувшинов и кубками.
– Герцога нет, – сообщил он, опередив вопрос Ричарда. – Уехал сегодня вечером в Вену, поэтому разговаривать тебе предстоит со мной.
Он велел слуге поставить на стол поднос, после чего отвесил Ричарду шутливый поклон и сделал рукой приглашающий жест.
– После вас, милорд король английский!
Ричард сел и посмотрел на кувшины, расставленные между ним и Хадмаром.
– Разговор будет из тех, которые не стоит вести на трезвую голову, так?
– Трезвость сильно переоценивают, – ответил с ироничной усмешкой собеседник.
Государь уже подметил его раскрасневшееся лицо, легкую невнятность речи. Подозрения подтвердились, когда Хадмар, разливая вино по кубкам, действовал нарочито осторожно, не доверяя собственным рефлексам. Пьяным министериала назвать было нельзя, но он с успехом приближался к этому состоянию.
Придвинув кубок к Ричарду, рыцарь щедро отхлебнул из своего.
– Как я уже упомянул в Донауштауфе, мой господин и император не сошлись насчет условий, и коли так Леопольд не намерен выдавать тебя. Генрих обмолвился, что раз ты угодил к ним в руки, на этом можно сделать целое состояние. И Леопольд хочет быть уверен, что получит свою законную долю.
Ричард не сдержался.
– Выходит, то, что начиналось как обида за поруганную честь, заканчивается деньгами? – сказал он и тут же пожалел о неосторожных словах, поскольку не желал раздражать Хадмара прежде, чем выведает про случившееся в Регенсбурге.
Но австриец и бровью не повел.
– Похоже, что так, – с готовностью согласился он. – Золото кружит мужчинам голову с такой же легкостью, что и красотки. Леопольд вполне обоснованно не верит императорскому слову и потому желает получить гарантии соблюдения своих интересов. А еще требует, чтобы Генрих пообещал не причинять тебе телесного вреда, пока ты будешь находиться в его темнице.
Ричард так резко опустил кубок, что расплескал вино через край.
– У Леопольда есть причины подозревать, что мне могут причинить телесный вред?
Хадмар пожал плечами, выпил еще, рыгнул:
– Зная нашего разлюбезного императора, причин подозревать хватит, особенно теперь, когда он выпачкал руки в крови одного из епископов.
– Это ты о чем?
– Прибыв в Регенсбург, мы обнаружили, что Генрих ввязался во вселенских пропорций скандал. Года полтора назад епископ Льежский скончался по дороге из Святой земли, и вскоре на его престол объявились два кандидата. Альберт Лувенский был в Льеже архидьяконом и, что важнее, приходился младшим братом герцогу Брабантскому и племянником герцогу Лимбургскому. Ему не исполнилось еще тридцати, – возраст, начиная с которого можно рукополагать в епископы, – но как ни странно, никого это не смутило, даже папу.
Рыцарь помедлил, чтобы выпить еще вина.
– Вторым кандидатом был еще один Альберт, пробст из Ретеля. Все его достоинства сводились, надо понимать, к тому, что он приходился дядей по материнской линии супруге Генриха, императрице Констанции. Его поддержал Балдуин де Эно, граф Фландрский, напрочь отрицаюший любого кандидата, которого продвигает его соперник герцог Брабантский. Первый Альберт выиграл выборы, но второй продолжал возмущаться, как и граф Балдуин, и все это дело передали на рассмотрение императорского суда. Для решения император образовал комитет из епископов и аббатов. Они оказались не из того теста, из какого лепят мучеников, и постановили, что определить победителя должен Генрих. А он взял и взбесил обе стороны, отдав епархию Лотарю фон Хохштадену, брату графа Дитриха фон Хохштадена, одному из военачальников императора и человеку, наиболее достойному именоваться другом Генриха, если бы тот мог иметь друзей.
«In vino veritas»[8], – сказал себе Ричард. Он больше не злился на Леопольда за поспешное бегство в Вену, поскольку со стороны герцога подобных пьяных откровений не дождался бы никогда.
– Так что произошло потом? – подтолкнул собеседника он. – Как подозреваю, ни один из Альбертов не поспешил поздравить марионетку Генриха с назначением?
– Разумеется, – подтвердил Хадмар, осоловело глядя на Ричарда поверх кубка. – Первый Альберт устремился в Рим жаловаться папе, а второй, слишком пожилой для подобных путешествий, сидел в городе и дулся. Святой отец поддержал принесенную молодым Альбертом жалобу, и папская курия высказалась в его пользу. Целестин явно готов был посмотреть сквозь пальцы на такую мелочь, как канонический возраст, лишь бы досадить императору. Поэтому он даже удостоил Альберта сана кардинала и отослал его назад с мешком денег и папским письмом с приказом о рукоположении.
С удивлением обнаружив, что его кубок пуст, Хадмар налил в него щедрую порцию, а наполняя кубок Ричарда, расплескал вино по столу.
– Архиепископ Кельнский привел Генриха в ярость, отказавшись рукополагать избранного им, императором, кандидата. Тогда он притащил Лотаря в Льеж и заставил горожан признать его. Поскольку тем, кто отказывался подчиниться, сносили дома, большинство примкнуло к Лотарю. Но Альберт был уже в безопасности во Франции – по крайней мере, бедняга считал, что находится в безопасности. Архиепископ Реймский, по совместительству папский легат и тоже кардинал, с большим удовольствием рукоположил Альберта. Было это в прошлом сентябре. В октябре в Реймс прибыли три немецких рыцаря и заявили, что сбежали от гнева императора Генриха. Вскоре они встретились с Альбертом и втерлись к нему в доверие. Только эта новоявленная дружба оказалась недолгой, потому что двадцать четвертого ноября епископ в изгнании согласился прокатиться с этими рыцарями за городские стены, а те вытащили мечи да и отправили его к праотцам. Ну, им хотя бы хватило деликатности не прикончить его в соборе, как вашего святого Томаса Кентерберийского. Убийцы сбежали и где, как ты думаешь, обрели они убежище? Ну конечно, прямиком устремились к императорскому двору.
Хотя Ричард мысленно составлял список епископов, которых сам охотно отправил бы к праотцам – первым на ум приходил Бове, – жестокость и дерзость свершенного убийства его ошеломила.
– Зная, чего стоило убийство Бекета моему отцу, как мог Генрих совершить такую глупость?
– Глупость – это единственное допустимое объяснение поступка Генриха, – согласился Хадмар. – Но при всех его грехах он не глуп. Естественно, он при этом один из самых надменных типов, что разгуливают по этой Божьей земле. Ты, милорд король, может, и исполнен гордыни как лев, которым ты так восхищаешься, но в сравнении с Генрихом ты сущий ягненок! – Рыцаря явно позабавила игра слов, потому что он громко расхохотался. – Разумеется, император отрицал всякую причастность к убийству. Но родичи убитого прелата в ней не сомневались. Герцоги Брабантский и Лимбургский подняли открытый мятеж, а архиепископы Кельна и Майнца возмущаются государем так яростно, что того и гляди тоже взбунтуются.
Ричард откинулся на спинку стула, удивленный тем, как Генрих мог позволить втянуть себя в такую трясину, но очень довольный этим. Хадмар понаблюдал за ним с улыбкой скорее горестной, чем веселой, затем тряхнул головой:
– Ты думаешь, что неприятности Генриха способны сыграть тебе на руку, но это как раз наоборот. Нет ничего опаснее загнанного в угол волка, и Генрих видит в твоем пленении посланную Богом возможность отвлечь внимание подданных и разжиться деньгами на подавление мятежа. Он даже прикидывает, не получится ли воспользоваться английским или французским золотом для организации вторжения на Сицилию, потому как до сих пор претендует на тамошнюю корону от имени своей жены. И поэтому отчаянно желает заполучить тебя и пойдет ради этого на что угодно.
Ричард уже не слушал.
– Французское золото? – переспросил он, надеясь, вопреки рассудку, что ослышался.
Улыбка Хадмара исчезла, будто и не существовала вовсе.
– Генрих сказал Леопольду, что англичане наверняка заплатят за тебя большой выкуп. Но король Филипп выложит еще больше, лишь бы получить шанс сгноить тебя во французской тюрьме.
– Генрих не осмелится передать меня французам! Он знает, что за грех столь великий церковь отлучит его на веки вечные! – Ричард готов был спорить и дальше, но смолк, прочитав в глазах собеседника чувство, которое прежде никогда не относилось к нему: жалость.
Хадмар кивнул в знак согласия:
– Ты прав. Император понимает, что в таком случае даже дряхлый и смиренный Целестин вынужден будет действовать. Вот почему он сообщил Леопольду, что намерен предать тебя суду.
Ричарду вдруг сильно и неотложно захотелось выпить и он в несколько глотков осушил кубок:
– И по какому же обвинению?
– Он собирается предъявить тебе обвинение в сговоре с Саладином с целью сохранить Священный город в руках неверных, а также в организации убийства Конрада Монферратского. Но может прибавить к списку и еще несколько пунктов. Возвращаясь во Францию, епископ Бове навестил императорский двор, и надо думать, влил в уши Генриха немало яда. Добрый прелат утверждает, что тебя следует сжечь как еретика, поскольку ты, вполне возможно, втайне исповедуешь ислам…
– Ложь! Все это наглая, презренная ложь! – взъярился Ричард. – Я делал все возможное, чтобы освободить Иерусалим, да только французы каждый раз мешали мне. И Конрада Монферратского не убивал. Генриху нет никакого дела до правды, и гореть ему за это в аду. Но что Леопольд? Он верит в это вранье? А ты, Хадмар?
– Разве я сидел бы тут с тобой, если бы верил? – парировал рыцарь, и впервые за вечер его голос прозвучал резко. – Ясное дело, я не верю во все эти обвинения. Что до Леопольда, то и он, я думаю, сомневается в них, поскольку его обида на тебя всегда носила личный характер. Он хотел наказать тебя за претерпленное в Акре унижение и за смещение его родича на Кипре, а не видеть, как тебя карает германский суд.
– За смещение Исаака Комнина я извиняться не стану, – сердито перебил его Ричард. – Он узурпировал кипрский трон и обращался с подданными так жестоко, что те были только рады помочь низвергнуть его с престола.
На этот раз настал черед Хадмара перебивать собеседника.
– Тебе нет нужды оправдываться передо мной за действия на Кипре. Я бы и бровью не повел, если бы ты отправил его на невольничий рынок в Каире, вместо того, чтобы передать рыцарям-госпитальерам. Но Леопольд чувствует себя обязанным, поскольку его мать была дочерью византийского императора, а значит, приходилась Исааку двоюродной сестрой.
У Ричарда было много забот поважнее Исаака Комнина, и он промолчал, размышляя над полученными от Хадмара известиями.
– Все это лишено смысла, – промолвил он наконец. – Генрих сказал Леопольду, что рассчитывает получить большой выкуп. Но если его цель нажиться, то зачем предавать меня суду?
– Леопольд задал тот же самый вопрос. Генрих намерен заломить воистину огромную сумму. Но понимает, что удерживая тебя в плену, он подвергнется жестокой критике. Твой захват идет не только вопреки обещанной церковью защите, герцог нарушает законы войны, поскольку между империей и Англией сейчас мир. По словам Леопольда, Генриха мало заботит позиция папы, но при этом ему не хочется подливать масла в огонь мятежа или давать немецким клирикам повод присоединиться к бунту. Поэтому император полагает, что как только тебя признают виновным в том, что ты хотел предать христианство и сговориться с неверными, – а его суд обязательно признает тебя виновным, – церкви труднее станет защищать тебя, а у него будут развязаны руки и он сможет творить, что вздумается, например, продать тебя тому, кто больше даст.
– А если самое выгодное предложение поступит от французского короля, это будет означать для меня смертный приговор. Генрих из-за этого сна не лишится. А Леопольд?
Хадмар ответил не сразу.
– Пожалуй, лишится, – сказал наконец рыцарь. – Он знает, что ты не предавал братьев-христиан в Святой земле. Но согласится герцог или нет, только время покажет. Человек он гордый и упрямый, и вполне вероятно, может решить, что уже слишком далеко зашел по дороге, чтобы поворачивать назад.
– Даже если в конце пути сорвется с утеса? Хадмар, еще не поздно остановить это безумие. Судя по твоим словам, планы Генриха на мой счет не слишком вдохновляют Леопольда. Он опасается, что запятнает собственную честь, и правильно делает. А еще ему следует остерегаться гнева церкви – пусть даже Целестину не хватит духу отлучить императора Священной Римской империи, с герцогом-то он церемониться не станет. Из Леопольда получится идеальный козел отпущения. Ему ведь это ясно?
– Осмелюсь предположить, что да, – согласился министериал. – Но до поры он не видит выхода, а заодно хочет поживиться, получив половину выкупа. Мой господин – человек практичный. – Рыцарь снова печально улыбнулся. – Что ни говори, он ведь наполовину грек.
– Если ему нужен гарантированный выкуп, он его получит, – заявил король. – Причем целиком. Убеди его забыть про Генриха и иметь дело со мной. Я сказал ему, что готов платить. И не передумал. Я знаю, что он считает себя человеком чести. Сейчас, возможно, его последний шанс сохранить свою честь… А заодно мир в душе.
Хадмар поднял кубок и осушил его залпом до последней капли.
– Господь свидетель, Ричард, – тихо проговорил он. – Неужели ты думаешь, что я не пытался? Леопольд стоит на своем. Он считает себя вправе привлечь тебя к ответу за то, что ты унизил его, всю Австрию, под Акрой. Но вот намерения Генриха в отношении тебя… Да, это тяготит его, лишает покоя. И все же он не видит выхода из этой ловушки. Герцог может не уважать Генриха, но как император тот остается его сюзереном. Отстранить Генриха и заключить с тобой частную сделку для него немыслимо. Он будет рассматривать это как акт мятежа и знает, что Генрих посмотрит на это так же. Хотя Леопольд возмущен убийством епископа Льежского, он не отважится на бунт против правителя, с которым связан узами долга и оммажа.
Хадмар сдвинул стул и не без труда поднялся.
– Я подумал, что ты заслуживаешь правды. Прости, что не могу сделать ничего больше. Мне очень страшно, что это «безумие», как ты выразился, плохо закончится для всех нас.
Не дожидаясь ответа Ричарда, министериал повернулся, оттолкнул стражника, пытавшегося было вести его под руку, и шатаясь пошел к двери.
Король не встал из-за стола. Зловещая тишина окутала комнату, и Ричарду казалось, что он слышит глухой стук собственного сердца, свое хриплое дыхание и даже то, как мысли мечутся у него в голове. Он налил еще вина, но едва пригубил кубок, потому как сладкое рейнское показалось ему вдруг горьким как полынь и желчь.
Ему было тридцать пять, и почти двадцать из них он провел на войне. Смерть стала ему старым, хорошо знакомым врагом. Ричард не мог и упомнить, сколько раз рисковал жизнью. Бури на море, приступы лихорадки, удары мечей, которые удалось отвести в последний миг, острия копий, скользнувшие по щиту, арбалетные болты и стрелы, пропевшие свою губительную песенку, мелодия которой так часто ему снилась. В народе говорили, что он неуязвим, но тело его было испещрено шрамами, как у любого другого воина. Племянник Генрих однажды сказал, наполовину в шутку, наполовину всерьез, что короля легко найти на поле битвы в Святой земле, потому как он всегда в самой гуще схватки, в окружении желто-оранжевых знамен мамлюков, этих отборных бойцов Саладина. Он не отрицал, считая, что государь должен служить примером, поэтому первым вошел в Мессину, первым ступил на берег Кипра, первым был и в Яффе. Он давно понял, что не испытывает того сковывающего страха, что обуревает прочих людей в бою, и рассматривал это как дар Божий, знак небесного расположения.
Только теперь он уже не считал себя любимчиком Фортуны, так как не мог объяснить случившегося с ним и его людьми в последние два месяца. Господь наказывает его за то, что он не сдержал клятву и не освободил Иерусалим? Или он прогневал Всевышнего тем, что нарушил Пятую заповедь и развязал войну против отца? Что сотворил он, дабы заслужить такую кару? И какую епитимью нести, если не знаешь, в чем согрешил? Ответов не было. Ричард знал только, что никогда не чувствовал себя таким отчаявшимся, таким уязвимым и таким бесконечно одиноким, как в ту морозную январскую ночь в замке Дюрнштейн.
Глава VIII Лондон, Англия
Ей дважды повезло – она появилась на свет красавицей и богатой наследницей. Ей предстояло стать единственной из женщин, кто будет носить корону и Франции и Англии, но история помнит ее по титулу, происходящему от названия ее любимого герцогства – Алиенора Аквитанская. Она выкажет себя как фигура противоречивая и притягательная, потому как никогда не следовала ограничениям, налагаемым на женщин церковью и обществом, ибо Алиенора была убеждена, что способна править наравне с любым мужчиной. В тринадцать ее выдали за французского короля Людовика Капета. Будучи очарован молодой прелестной супругой, Людовик, с другой стороны, был смущен ее сильной волей и мирскими пристрастиями. Сам-то он воспитывался для церкви, и в десять лет был вырван из монастыря неожиданной гибелью старшего брата. Со своей стороны, Алиенора сетовала частенько, что выходила замуж за короля, а вышла за монаха. Их брак стал столкновением характеров и культур. Алиенора была дочерью обласканного солнцем юга, где тяга к наслаждением не считалась греховной, где высоко ценились трубадуры, а женщины не были робкими и угодливо-покорными, тогда как Людовик был сыном куда более сурового, воздержанного и консервативного севера.
И тем не менее, этот брак продержался пятнадцать лет и даже пережил провальный Второй крестовый поход и скандал, вызванный родственным визитом Алиеноры ко двору ее дяди в Антиохии. Там она попыталась положить конец их союзу при помощи той тактики, к которой испокон века прибегали короли, чтобы избавиться от постылых жен: заявила, что брак незаконен, потому как они приходятся друг другу кровными родственниками в запретном четвертом колене. Людовик силой увез жену из Антиохии, а его советники запятнали ее честь, распустив слухи, что это преступная страсть к собственному дяде подтолкнула ее на столь дерзкое и непристойное поведение. Это был первый из преподанных Алиеноре горьких уроков о неравенстве мужчин и женщин. Но далеко не последний.
Залогом краха их брака стала ее неспособность дать Людовику наследника. После рождения второй дочери король начал верить, что их союз проклят перед Богом, и в марте 1152 г. положил ему конец. Сразу после развода Алиенора вернулась в Аквитанию, и не прошло и двух месяцев, как она повергла в ужас весь христианский мир, когда сама выбрала себе мужа, а не стала дожидаться, пока Людовик определит кандидата, выгодного для французской короны. Выбор ее не мог сильнее ужаснуть Капета, и как монарха и как человека, потому что пал на герцога Нормандского. Генрих Фиц-Эмпресс был на девять лет моложе жены, но уже снискал себе репутацию сильного правителя и имел веские притязания на английский трон.
Если Алиенора и Людовик не подходили друг другу, то с Генрихом она составила идеальную пару: то были два сокола высокого полета, одержимые жаждой престола и друг друга. В течение двух лет со дня их свадьбы Генрих овладел Англией, и Алиенора снова стала королевой. Домены первого ее мужа казались ничтожными по сравнению с владениями Анжуйского дома, распростершимися от шотландской границы до Средиземного моря. Для соседей, испытывающих удивление, восхищение и зависть, Генрих словно летел на крыльях ветра. Алиенора горделиво парила рядом. Людовику она не смогла родить сына, а Генриху подарила пятерых, причем четверо из них дожили до совершеннолетия, и еще трех дочерей, из которых две сочетались браком с королями. В течение двадцати лет они шли от триумфа к триумфу. Даже убийство архиепископа в стенах Кентерберийского собора не заставило померкнуть блеск Анжуйского двора. А затем все вдруг рухнуло.
Никто не был удивлен сильнее Генриха, когда трое старших сыновей затеяли против него мятеж и их поддержала их мать, его королева. Король победил, разумеется, разгромив троих неоперившихся юнцов и бездарного полководца в лице короля французов, но этот бунт оставил в его сердце рану, которая никогда полностью не затянулась. Сыновей-то он простил, и прощал снова и снова, из года в год. А вот Алиенору нет. Генрих винил ее в отчуждении сыновей, которых любил, но при этом забывал посмотреть на себя. Он пришел к выводу, что Алиенора – ревнивая жена, возненавидевшая его юную любовницу, известную как Прекрасная Розамунда, и не верил утверждениям супруги, когда та говорила, что причинами ее возмущения стали слишком суровая власть, которую он взял над ее любимой Аквитанией и отказ наделить сыновей собственными доменами. Главной слабостью Генриха была его неспособность поступиться хоть толикой королевских прерогатив. Сыновья продолжали роптать на тугую узду, а Алиенора стала его пленницей: он заточил ее в английском замке вдали от родных земель. Зимы сменяли лето, а ей оставалось бессильно наблюдать, как ее собственная семья раздирает сама себя изнутри.
Однажды она сказала даме Амарии, преданной служанке, делившей с ней долгое заточение, что они с Генрихом редко допускали ошибки, но если уж допускали, то гибельные. У нее было шестнадцать лет, чтобы обдумать свои, и за эти долгие, трудные годы, вдали от мира Алиенора развила в себе способность, о существовании которой ее муж и сыновья даже не подозревали – искусство самоанализа. А еще королева научилась уживаться со своими горестями, и это дало ей силы пережить трагедии, предотвратить которые она не могла.
Хэл, их золотой мальчик, молодой король, умер во время очередного мятежа против отца. Среди прочих недостатков Генриха и Алиеноры как родителей было то, что у каждого имелись свои любимчики. Для Генриха это были Хэл и младшенький Джон, тогда как для Алиеноры на первом месте всегда стоял Ричард. Жоффруа досталась роль забытого сына. Его толкала на бунт неспособность отца понять, что он, Жоффруа, и Ричард совсем другие по сравнению с обаятельным, но никчемным и безответственным Хэлом. Жоффруа нашел глупую смерть во время турнира при дворе своего нового союзника, молодого французского короля Филиппа, который оказался столь же отличен от Людовика, как отличаются гранит и песок. Затем Генрих утеснил Ричарда, отказав признать его наследником. Он считал, что таким образом сможет повлиять на своевольного и гневливого сына. Но на деле только убедил Ричарда в том, что намерен лишить его права на трон в пользу Джона, и заставил отправиться по проторенной братьями дорожке – к французскому двору. К тому времени Генрих уже сдал и болел и не желал воевать с сыном. Но и был слишком горд, чтобы пойти на уступки и официально признать Ричарда преемником престола. И жизнь, полная великих побед, закончилась горькой драмой. Генрих умер в замке Шинон после того как пережил унизительную капитуляцию перед Ричардом и Филиппом. Мало кто сомневался, что окончательно сломила старика весть о предательстве его любимчика Джона, ради которого он шел на такие жертвы.
Первым же своим королевским указом Ричард освободил мать из заточения в замке Солсбери. Ей надлежит повиноваться во всем, гласил документ. И ей повиновались. Так началось лучшее, быть может, время в жизни Алиеноры, потому как она перестала быть птицей с подрезанными крыльями. Между ней и Ричардом существовало то, к чему так отчаянно стремился Генрих в общении с сыновьями, но так никогда и не достиг: полное и безоговорочное доверие. Сын охотно дозволял ей все, против чего всегда восставал Генрих – дал сполна развернуться ее недюжинным талантам, инстинктам политика, отточенным за пятьдесят лет на арене истории. Сразу после восшествия на престол Ричард стал готовиться исполнить данный им обет освободить Иерусалим от сарацин. Три года прошло с тех пор как меловые скалы Дувра растаяли вдали, но король был уверен, что под скипетром матери его королевство будет пребывать в мире до его возвращения.
Сейчас, в свои шестьдесят девять, Алиенора так же яростно сопротивлялась старости, как некогда боролась с условностями общества. После зимнего перехода через Альпы, предпринятого с целью проводить невесту Ричарда к нему на Сицилию, королева вернулась в Англию, чтобы маневрировать между своевольным сводным братом Ричарда Жоффом, ставшим против воли архиепископом Йоркским и непопулярным канцлером епископом Илийским – умным и гордым калекой Гийомом Лоншаном, а также приглядывать за своим младшим отпрыском Джоном, графом Мортенским, по совместительству покорной пешкой французского монарха.
С Англией у Алиеноры было связано мало хорошего, она грезила о тепле и уютной роскоши своего любимого города Пуатье. И тем не менее, королева готова была торчать в этой треклятой, промытой всеми дождями стране до возвращения Ричарда из Святой земли. Недели превращались в месяцы, прочие крестоносцы вернулись домой, и многие из них взахлеб рассказывали о подвигах ее сына на полях сражений в Утремере. Но от Ричарда не было ни единой весточки, только зловещее, удушающее молчание.
* * *
Часовня Св. Иоанна Евангелиста была той причиной, по которой Алиенора предпочитала останавливаться в Лондонском Тауэре, а не в королевском дворце в Вестминстере. Верхний этаж главной башни был разделен на два больших помещения: большой зал и просторную опочивальню, из которой потайная дверь вела в часовню. Если по ночам сон не шел, Алиенора заворачивалась в подбитый мехом плащ и тихо проскальзывала в ораторий[9], чтобы побыть наедине с Богом и собственными мыслями. В ее долгой жизни было много неудавшихся праздников Рождества. Иные имели место во время скучной, несчастной жизни в роли супруги французского государя, еще большее количество в качестве пленницы Генриха, теряющей надежду когда-либо выйти на свободу. Но ни одно не было таким тягостным, как минувшее. Она руководила своим Рождественским двором с надменным видом и колючей улыбкой на губах, всем своим видом отрицая слухи, распространяемые ее собственным отпрыском – слухи о гибели Ричарда.
Стены в часовне недавно побелили, и в мягком свете свечей они мерцали, как будто были сделаны из полированной слоновой кости. Днем витражные стекла играли в лучах солнца россыпью самоцветов, теперь же, в полутьме, вспыхивали время от времени неяркие искры изумруда, рубина или королевского пурпура. Аромат благовоний витал в воздухе; Алиеноре он нравился, напоминая о благоуханных специях Сицилии и Пуату. По блестящим плиткам пола были разбросаны молитвенные подушки, но старые кости стали капризными, и она предпочитала деревянную скамью у восточной стены. Королева уселась на нее и сейчас, подложив под поясницу вышитый валик. Следом за ней в ораторий пробралась одна из ее борзых, но у нее не хватило духу прогнать животное. Если Всевышний заботится даже о воробышке, то почему ему не обратить взор и на собаку?
В эту дождливую январскую ночь она пришла не молиться – на пути к Господу и так уже было больше ее молитв, чем звезд на небе.
– Ах, Гарри, – чуть слышно промолвила королева. – Интересно, в чистилище плачут? Оплакивают близких, живущих в печали? Я не верю, что он мертв. Будь это так, я бы знала. Как я могла бы не почувствовать?
И все же… У нее не было дурных предчувствий в отношении Хэла, Жоффруа или дочери Тильды. Было только потрясение при вести, что предстоит похоронить еще одно дитя. Но Ричарда она понимала как никого другого из его братьев. Мать и сына связывали узы не только кровного родства. Их так многое объединяло: глубинная, всепоглощающая любовь к герцогству, которым он готовился править, любовь к музыке, зрелищам, тяга к далеким экзотическим странам. Да и к риску тоже, хотя приобретенная за годы осторожность научила ее сдерживать эти порывы. Алиенора видела в Ричарде лучшего представителя своей династии, достойного наследника долгой череды герцогов Аквитанских, которые возводили свой род к Карлу Великому. А еще она ощущала в своем любимце горько-сладкий привкус воспоминаний о его отце, том молодом, дерзком герцоге, в котором с первой их встречи в тот жаркий августовский день во дворце у Людовика она угадала человека с великим будущим. Нет, будь Ричард мертв, она бы знала.
Но где он? Что с ним случилось? С каждым днем его власть подвергается все большей угрозе, потому как стоит людям поверить, что государь не вернется, у них не останется иного выбора, как примкнуть к Джону. Алиенора всегда считала, что будет ногтями и зубами драться за сохранение династии, вот только сумеет ли она поддержать Джона, если тот снимет корону с мертвого тела брата? Она так до конца и не простила младшего сына за то, что он предал лежащего на смертном одре Гарри. А уж простить еще и предательство по отношению к Ричарду… Как-то вдруг накатила невыносимая усталость, она ощутила тяжесть каждого прожитого года из своих шестидесяти восьми лет.
– Что, если мы так никогда и не узнаем, что с ним сталось, а, Гарри? – прошептала королева. – Если его корабль пошел ко дну во время бури…
– Мадам! – На пороге стояла дама Амария. Ее тревогу выдавали напряженность позы и легкая дрожь в голосе. – Лорд Шатору здесь, просит его принять. Он извиняется за поздний визит, но говорит, что дело срочное.
Алиенора оцепенела. Андре де Шовиньи был кровным родичем, его мать приходилась ей теткой. Для Ричарда, однако, он значил куда больше, чем просто кузен – это был его лучший друг, настолько близкий, что они заканчивали друг за друга фразы и понимали друг друга с полувзгляда. Между ними существовала связь, которой Ричард был лишен в отношениях с братьями. Только Андре никогда не ступал ногой на английскую землю – шутил, что там скверная погода, плохое вино, добродетельные женщины. И все это основательные причины держаться от острова подальше. И вот теперь он отважился на опасную январскую переправу через беспокойный пролив, называемый Узким морем. Что его заставило?
– Разумеется, я приму его, Амария.
Алиенора посидела еще немного, чувствуя, что ее мир вот-вот изменится, но в какую сторону, ей страшно было даже думать.
Когда она вышла из часовни, Андре уже успели проводить в ее опочивальню. Рыцарь промок до нитки, с покрытого пятнами плаща капала вода, сапоги были в грязи, волосы взъерошены, – все это являло собой свидетельство того, что дело у него и впрямь срочное. Но Алиенора видела только его осунувшееся, печальное лицо.
– Нет, только не Ричард!
Этот неровный, срывающийся голос был каким-то чужим, и она не сразу поняла, что он принадлежит ей. Стены вдруг закружились, силы оставили, как оставил Бог. Алиенора никогда не падала в обморок и гордилась умением сохранять хладнокровие в критическую минуту. Теперь она ощутила опасную легкость в голове, ноги грозили вот-вот подкоситься. Но Андре и Амария были рядом и поспешно проводили ее к ближайшему креслу.
Когда королева рухнула на сиденье, Андре опустился перед ней на колени и заключил ее руку в свои ледяные ладони.
– Нет, мадам, нет! Он не умер!
Ее глаза впились в поднятое к ней лицо.
– Ты клянешься, что это так?
– Жизнью моего сына. Я не лгу. Дела плохи, так плохи, что хуже некуда. Но он жив.
Алиенора смежила на миг веки и показалась ему такой старой и хрупкой, что он засомневался, осмелится ли поведать ей всю правду. Но когда она снова заговорила, это был голос королевы, а не волнующейся матери.
– Расскажи, – велела она. – Расскажи все, что знаешь.
– За несколько дней до Рождества Ричард попал в плен к людям герцога Австрийского. Это произошло в деревушке близ Вены. Леопольд удерживает его и собирается передать этому выродку Генриху. Если уже не передал.
Пальцы Алиеноры впились в подлокотники кресла.
– Откуда ты узнал, Андре? Насколько ты уверен?
– Более чем уверен, мадам. Я едва с ума не сошел у себя в Шатору, дожидаясь вестей. Мне подумалось, что архиепископ Готье всегда все узнает первым, поэтому после Рождества я поскакал в Руан. И находился там, когда прибыл один из лазутчиков прелата при французском дворе.
Андре заерзал, так как тело его ныло после долгих часов в седле, и Алиенора знаком предложила ему подняться. Плюхнувшись на ближайший сундук, Шовиньи с благодарностью принял от Амарии кубок с вином.
– Сколько бы ни платил архиепископ своему человеку, тот заслуживает большего, – продолжил он рассказ. – Ему каким-то образом удалось раздобыть копию письма Генриха к Филиппу, где рассказывалось про пленение Ричарда.
– Письмо у тебя с собой?
– Да, копия с оригинала и перевод на французский.
Сунув руку за пазуху, он извлек кожаный кошель.
– Это послание архиепископа тебе, госпожа, а это письмо Генриха. – Не уверенный, что королева понимает латынь – редкая наука для большинства женщин, – он вручил ей французскую копию.
Выждав, когда одна из фрейлин поспешно принесла подсвечник, она развернула пергамент. Свеча помогала, но не слишком. Отбросив ложную скромность, она вернула письмо рыцарю.
– Здесь слишком темно для моих слабеющих глаз. Прочти вслух, Андре.
Шовиньи встал и поднес письмо к большому железному канделябру, свисавшему с потолка. Прочистив горло, он глянул на Алиенору, как бы извиняясь за то, что ей предстоит услышать.
«Генрих, милостью Божией император римлян и вечный август, своему возлюбленному и ближайшему другу Филиппу, преславному королю франков, с пожеланием здоровья и выражением искренней любви и признательности… Сочли мы должным уведомить твою милость, что когда враг нашей империи и возмутитель твоего королевства Ричард, король английский, пересекал море с целью возвратиться в свои владения, ветры занесли его в область Истрию, в место, расположенное между Аквилеей и Венецией. И там, по воле Божьей, король потерпел крушение, но спасся вместе с некоторыми другими спутниками.
Наш преданный вассал граф Мейнхард Герцский и население тамошнего округа, прослышав о присутствии короля на их земле и припомнив измену, предательство и коварные деяния, учиненные им в Земле обетованной, стали разыскивать его с намерением пленить. Хотя сам король сбежал, но восьмерых рыцарей из его свиты поймали. Вскоре после этого король проезжал через деревню в архиепископстве Зальцбургском, где Фридрих фон Петтау схватил шестерых его спутников. Сам Ричард поспешил в ночь всего с тремя приспешниками, направляясь в Австрию. Но за дорогой следили и расставили стражу по обе стороны от нее, и тогда наш возлюбленный кузен Леопольд, герцог Австрийский, пленил короля в бедном доме в одном селе в окрестностях Вены.
Андре сделал паузу, чтобы отпить вина, надеясь забить неприятный вкус, остававшийся у него во рту после этих слов.
Поскольку он сейчас в нашей власти, и зная, сколь досаждал и вредил он тебе, мы почли нужным известить твою милость, поскольку ведаем, что это весьма порадует тебя и заставит возликовать в душе. Писано в Реднице в день пятый перед январскими календами».
– Похоже, Ричард пытался добраться до Саксонии, – произнесла Алиенора после очень долгого молчания. – Он явно был осведомлен, что ему не стоит соваться в какой-либо итальянский, французский или испанский порт. Но почему с ним было так мало людей, Андре? Пуститься вглубь враждебной территории с двумя десятками рыцарей? Что сталось со всеми воинами, с которыми он отплыл из-под Акры?
Андре, не менее недоумевающий, мог только развести руками.
– Быть может, они погибли во время кораблекрушения. Но мы ведь наверняка прознали бы о таком громадном несчастье, не так ли? Мадам, это еще не все. Лазутчику архиепископа удалось раздобыть второе письмо, написанное Филиппом Леопольду, когда он узнал новости от Генриха. В нем французский король обвиняет Ричарда в организации убийства Конрада Монферратского, заклинает Леопольда не освобождать Ричарда и не предпринимать ничего, пока они все не обсудят.
Тут губы де Шовиньи скривились, и он с горечью промолвил:
– Эта подлая свинья на французском троне намерена предложить за Ричарда свою цену, и если ее примут…
Заканчивать фразу нужды не было, потому что Алиенора представляла последствия не хуже родича. Теперь она уже не сгибалась в кресле, словно кости не в силах были держать ее, но сидела ровно, и рыцарь заметил, как краска постепенно возвращается на ее щеки, а восковая бледность исчезает. Ему подумалось, что ее тело повинуется ее приказу окрепнуть, найти силу в некоем внутреннем источнике, над которым не властны года, и он ощутил волну облегчения. Андре так тягостно было видеть королеву такой хрупкой, уязвимой, дряхлой. Алиенора встала и, переваривая смысл письма императора, принялась расхаживать по опочивальне. Затем повернулась к гостю, и тот увидел, что в ее миндалевидных глазах появился по-кошачьему зеленоватый блеск и что они не выражают ничего, кроме свирепой, неумолимой ярости.
– Это им с рук не сойдет, – сказала она, превратив эту простую фразу в объявление войны. – Мы вернем свободу моему сыну, чего бы это ни стоило. И будем защищать его королевство до тех пор, пока он не вернется к нам.
Это было именно то, чего Андре жаждал услышать.
– Я еду в Германию, как только соберусь, мадам. Я разыщу его и, клянусь бессмертием своей души, что…
– Нет, Андре. Ричарду ты нужнее здесь. Не боясь больше возмездия со стороны Ричарда, Филипп заявит права на Нормандию. Тебе и верным вассалам моего сына предстоит защищать ее до той поры, когда он сам сможет разобраться с этой «подлой свиньей на французском троне».
Как бы ни хотелось Андре ринуться в Германию и перерыть эту проклятую страну в поисках Ричарда, он понимал, что королева права.
– Обещаю тебе, госпожа, что нога Филиппа не ступит на землю Нормандии, пока Ричард в отсутствии. – Тут он помедлил, отдавая себе отчет, что Джон тоже приходится ей сыном, но промолчать не мог. – Нападение будет с двух сторон: Филипп действует в Нормандии, Джон – в Англии. Мне неизвестно, где Джон, но вскоре он узнает о пленении Ричарда, и тогда…
– Джон сейчас в Уэльсе, пытается нанять рутье, но пока не слишком преуспел. – Алиенора не раскрыла, откуда ей так хорошо известно о действиях младшего сына, и вместо этого устремила на рыцаря прямой, почти вызывающий взгляд гипнотических зеленых глаз. – Джона опасаться не стоит, я о нем позабочусь, – ледяным тоном пообещала она.
Королева повернулась к Амарии и попросила позвать писца:
– Завтра поутру нужно разослать весть. Следует сообщить юстициарам Ричарда, в первую очередь Вильгельму Маршалу. Спасибо Господу за Уилла. А еще надо направить указ в большой совет. Так много дел. – Алиенора, похоже, обращалась к себе самой, а не к Андре, хотя время от времени ее взгляд останавливался на нем. – Надо установить наблюдение в портах и усилить гарнизоны королевских замков. И надо составлять план, как собрать выкуп.
Снова сосредоточив на Андре взгляд, королева с удивлением отметила, что он улыбается.
– Ты, госпожа, напомнила мне Ричарда, замышляющего очередную кампанию. Ты уверена, что Генрих затребует выкуп?
– Будь это Филипп… – Она мрачно посмотрела на собеседника. – А вот Генрих… Да, он запросит выкуп за Ричарда. Ему слишком потребны деньги, потому как нужно подавлять мятеж собственных вассалов. Этот идиот дерзко убил епископа, по крайней мере, выглядит это именно так, и сей поступок наводит на мысль, что я серьезно переоценила способности этого человека. В мире справедливом и честном император был бы немедленно отлучен от церкви и ему стало бы не до захвата Ричарда. Но в мире справедливом и честном не может быть папы столь бесхребетного – удивительно, как ему ходить-то удается.
В ее голосе было столько досады, что Андре понял: она не ожидает от Целестина действенной помощи в освобождении Ричарда.
Алиенора подошла к рыцарю и положила свои ладони на его:
– У тебя усталый вид, кузен. Ты приплыл из Барфлера в Саутгемптон? Значит, провел в пути несколько дней. Мой стюард найдет для тебя комнату здесь, в Тауэре. Постарайся выспаться. Мы победим, обещаю.
– Я верю, мадам, – ответил Шовиньи совершенно искренне, сильно ободренный возрождением Алиеноры из легенд, женщины, отважившейся пойти в крестовый поход, не побоявшейся выбирать собственную судьбу, совершить поступок, на который не дерзала ни одна королева: взбунтоваться против человека, бывшего ее повелителем и мужем. Отвагу и стойкость Ричард унаследовал не только от отца, подумалось ему.
– Госпожа… – промолвил он, слегка сжав ей руки. – С этим нельзя тянуть. Надо как можно быстрее освободить Ричарда. – Шовиньи помолчал немного, затем продолжил так тихо, что расслышать его слова могла только она: – Орел, запертый в клетке, долго не живет.
Алиенора похолодела – Андре красноречиво озвучил ее собственные страхи. Но когда их взгляды встретились, королева кивнула, потому что этот человек знал ее сына как никто другой на этой Божьей земле, возможно, даже лучше, чем она сама.
– Я это понимаю, – сказала женщина спокойно. – Но нам стоит помнить еще кое о чем, Андре. Если из могилы Ричард никогда не смог бы к нам вернуться, то из Германии сможет. И вернется.
* * *
Поначалу супруга Ричарда и его сестра наслаждались своим пребыванием в Вечном городе. Папа был само радушие, и вскоре их поселили во дворце семейства Франджипани на Палатине, самом знаменитом из семи римских холмов. Джоанна несколько раз посещала Рим во время замужества за королем Сицилии Вильгельмом Вторым, а Беренгария была тут проездом, когда ехала в обществе Алиеноры из Наварры к Ричарду на Сицилию. Но Анне не терпелось полюбоваться древними реликвиями, и обе королевы наняли проводников, показавших девушке храм Аполлона, дворец Нерона и подземные крипты в банях Диоклетиана. Угождать той, кого прозвали Девой Кипра, вошло у них в привычку.
Анна стала предметом живого любопытства и слухов, потому как римское общество не знало, как относиться к ней. Известно было, что это дочь Исаака Комнина, самопровозглашенного императора Кипра, смещенного Ричардом, и людей удивляло, что она не является ни пленницей, ни заложницей. Не вызвало сомнения, что сейчас девица входит в королевский двор, и римляне не понимали, как могло такое произойти. Им ведь было невдомек, что Исаак Комнин был отцом, которого ни одна дочь не смогла бы любить, и был ненавистен киприотам, охотно помогавшим его свергнуть. Тринадцатилетняя это было за два года до описываемых событий Анна и ее мачеха София с радостью оставили позади Кипр и дурные воспоминания о своем существовании на острове, и девушка вскоре уже наслаждалось жизнью в качестве подопечной английского короля.
Тем январским вечером Анна играла в тавлеи[10] с Алисией, девушкой, которую Джоанна взяла к себе после того как брат несчастной, рыцарь-тамплиер, утонул во время кораблекрушения у берегов Сицилии. Но сосредоточиться на игре не удавалось. И оглядывая зал, Анна видела, что и другие женщины тоже отвлечены от дела.
Проведя в их обществе почти два года, Анна хорошо изучила спутниц. Даму Беатрису она про себя называла Драконихой – эта острая на язык норманнка находилась при Джоанне с детства, и ей лучше было не перечить. Фрейлины Беренгарии вызывали у нее мало интереса, потому как по-французски не разумели и говорили на романском языке Наварры и на lenga romana, наречии, бывшем в ходу в Аквитании. Да и вообще они казались скучными и пресными уже пятнадцатилетней Анне. А вот в леди Мариам не было ничего скучного и пресного, потому как история ее семьи была такой же экзотической, как и ее наружность. Поцелованная солнцем кожа и раскосые золотистые глаза намекали на сарацинскую кровь, при этом Анна знала, что Мариам христианка, избранная в наперсницы Джоанне, тоскующей по дому девочке-жене короля Вильгельма. Мать фрейлины была невольницей в гареме отца Вильгельма. Скандальное происхождение подстегивало любопытство Анны, как и тайный роман, который Мариам крутила с валлийским кузеном Джоанны Морганом.
Анна терялась по временам в догадках, известно ли Джоанне и Беренгарии об амурах Мариам. Беренгария наверняка бы не одобрила, потому что усвоила строгий испанский кодекс поведения, отчего казалась Анне старше своих двадцати трех лет. Анна была слегка влюблена в супруга Беренгарии, которого называла сарацинским прозвищем Малик-Рик – она знала, что это забавляет его. Киприотка не считала Беренгарию подходящей парой для такого мужчины. Но питала к ней симпатию, потому что у Беренгарии было щедрое сердце. Дочь Исаака Комнина как никто другой знала, как редко встречается в их мире истинная доброта.
Но вот кого она по-настоящему полюбила, так это Джоанну: женщину красивую, светскую, умную и обладающую сильной волей. А еще Джоанна умела наслаждаться радостями повседневной жизни, и этому уроку Анна охотно училась. При кипрском дворе смех был не в чести, так как отец, постоянно боящийся утратить свою незаконную власть, с подозрением смотрел на всякие забавы и веселье. Когда они приплыли в ноябре в Мессину, мачеха предпочла остаться на родной Сицилии, а вот Анна решила ехать с Джоанной и Беренгарией дальше, во владения английского короля.
Позабыв про игру с Алисией, Анна наблюдала за другими женщинами в зале. Беренгария трудилась над тонкой вышивкой, как и большинство ее фрейлин, а Джоанна читала им вслух книгу «История королей Британии». Анна слышала рассказ Джоанны, что сочинил эту книгу монах-августинец по имени Гальфрид Монмутский, но это имя ни о чем не говорило ей. Чтение явно не слишком занимало Джоанну, поскольку она по временам останавливалась, устремляла взгляд в пустоту, затем спохватывалась и снова обращалась к страницам. Анна забыла, когда в последний раз слышала чей-то смех. Создавалось ощущение, что в доме объявлен траур.
Алисия терпеливо ждала, когда подруга вернется к игре. Когда этого не случилось, она промолвила тихо:
– Я каждый день возношу молитвы, чтобы король Ричард добрался благополучно.
Она хотела утешить, понимая, как беспокоится Анна, как переживают они все, но Анна неверно истолковала ее намерения и рассердилась:
– Разумеется, с Малик-Риком все хорошо! Как ты вообще можешь сомневаться в этом?
Голос Анны прозвучал звонко, и взрослые стали оглядываться на нее. Но никто ничего не сказал на этот всплеск эмоций, потому что тема безопасности короля была очень тонкой и явно не из тех, которые стоит обсуждать в присутствии сестры и жены Ричарда. Повисла неуютная тишина, но все давно уже привыкли к таким неприятным моментам. Привычный уклад придворной жизни постепенно и неуклонно разрушался вместе с осознанием неприятного факта, что король исчез и может даже погиб.
Наблюдая, как Анна выговаривает Алисии за «недостаток веры», Беренгария печально улыбнулась. Джоанна перестала делать вид, будто читает, раскрытая книга лежала у нее на коленях. Она прекрасно понимала, в каком унылом направлении текут мысли невестки, потому что и сама думала о том же, отчаянно дожидаясь весточки о местонахождении Ричарда. Но они никогда не обсуждали свои опасения, вступив в заговор молчания, и вели себя так, будто им нет дела: пытались прогнать страх, делая вид, что не замечают его. Однажды это сработало – когда буря разметала королевский флот, и их корабль прибило к берегам Кипра, а Исаак Комнин грозился силой свезти их на остров. За весь тот кризис женщины и полусловом не обмолвились о том, что галера Ричарда могла пойти ко дну во время того шторма в Страстную пятницу. Их вера была вознаграждена, когда Ричард прибыл за считанные часы до истечения выдвинутого Исааком ультиматума. Но тогда испытание продлилось всего неделю, пусть и показавшуюся бесконечной. А теперь минуло вот уже два месяца с тех пор как об английском короле были хоть какие-то известия.
Стараясь повернуть беседу к безопасной теме, с которой не обратишься ненароком к исчезновению ее мужа, Беренгария снова заговорила о преступлении, вызвавшем в Риме много шума, – убийстве епископа Льежского и кровавых следах, ведущих прямо к трону императора Фридриха.
– Я бы хотела сказать, что не верю в причастность Генриха к такому безбожному делу, да не могу, Джоанна. Есть в этом человеке что-то, от чего меня бросает в дрожь. У меня душа болит за его жену. Что с ней станется, если его святейшество обречет Генриха на вечную тьму? Все христиане обязаны избегать отлученных. Но как это делать Констанции? Как думаешь, церковь смилуется над ее горем?
Джоанна очень переживала за Констанцию д’Отвиль, так сильно помогавшую ей в первые годы новой жизни на Сицилии, и ей больно было думать о несчастье, которое Констанция обрела в браке с Генрихом Гогенштауфеном.
– Мне никогда не приходила мысль о том, каково приходится супруге отлученного, – призналась она. – К счастью, Констанции это не грозит, поскольку папа не предаст Генриха анафеме. Моего отца не отлучили после убийства Томаса Бекета, а ведь его смерть прогневала церковь даже сильнее, чем судьба епископа Льежского.
– Верно. Но папа Александр поверил твоему отцу, когда тот поклялся, что и подумать не мог, будто рыцари вздумают исполнять неосторожно брошенный призыв. Святой отец знал, что в сердце он хороший человек, искренне скорбящий о смерти архиепископа. Может ли папа Целестин сказать такое об императоре Генрихе?
– Едва ли, только это не важно. Какие бы ни питал папа подозрения насчет причастности Генриха к преступлению, доказательств-то нет.
Да и вряд ли бы он что-либо предпринял, будь у него хоть подписанное кровью признание самого Генриха. Но эту циничную ремарку Джоанна сохранила при себе, тронутая невинной верой невестки в неизменное торжество правосудия, будь то в папской курии или в королевском суде.
Беренгария не унималась. Она знала, разумеется, что не все церковники безгрешны и честны. Кое-кто из них воистину отвратительные личности, вопреки принесенным Богу обетам. Молодая женщина нахмурилась, подумав про заклятого врага мужа, епископа Бове. Но когда церковь имеет дело с таким вопиющим преступлением, когда пролилась кровь прелата, виновник должен дать ответ вопреки всем политическим соображениям. Но не успела она изложить эту мысль, как в дальнем конце зала началось шевеление.
Завидев высокую, полную достоинства фигуру, направляющуюся к ним в сопровождении слуг, Джоанна вскочила.
– Милорд епископ! Видеть тебя – услада для глаз!
Она поспешила навстречу Губерту Вальтеру, лишь чуть-чуть опередив Беренгарию – обе женщины сильно привязались к епископу Солсберийскому за время пребывания в Святой земле. Джоанну восхищал его прагматизм, Беренгария была благодарна за духовную поддержку в трудный час, когда Ричард умирал от страшной болезни под названием «арнальдия». И та и другая были благодарны ему за непоколебимую преданность английскому королю.
Покончив с обменом приветствиями, они уселись у центрального очага, угощаясь вином и вафлями, и Джоанна задала вопрос, вертевшийся у нее на языке с того самого момента, как прелат появился в комнате.
– Милорд епископ, когда мы покидали Акру, ты намеревался отплыть с Ричардом. Что заставило тебя передумать?
– Я и плыл с королем, по крайней мере до Сицилии. Там я по его настоянию сошел на берег, потому как узнал, что в Марселе пристать не можем, и Ричард велел мне ехать к папе, прежде чем это успели сделать враги, а оттуда поспешить в Англию и помочь его госпоже матери и юстициарам управиться с Джоном. Я приехал сюда прошлой ночью и поутру отправился во дворец, засвидетельствовать почтение его святейшеству. И только потому узнал, что вы еще в Риме.
– Наслушавшись рассказов невестки про январский переход через Альпы, – сказала Джоанна, бросив на Беренгарию ласковый взгляд, – мы решили подождать до весны, пока перевалы не откроются. Она описывала, как в одном месте женщин спускали по склону горы, завернув в бычьи шкуры!
Беренгария усмехнулась – легко было вспоминать об этом сейчас, когда все осталось в прошлом. Приняв из рук слуги кубок, она выждала когда епископу нальют вина, после чего промолвила негромко:
– Как понимаю, тебе ничего не известно о моем господине супруге, иначе ты немедленно поведал бы нам новости. Но ты можешь избавить меня от тяжких дум хотя бы в одном. Когда мы отплывали из Акры, Ричард не вполне еще оправился от четырехдневной лихорадки. Как он себя чувствовал, когда ты расстался с ним в ноябре?
Губерт потянул немного времени, взяв вафлю, которую не имел желания есть. Женских истерик он старался как мог избегать, но знал, что эти две особы едва ли потеряют контроль над собой. И тем не менее, предчувствуя страшный эффект вести, которую ему предстояло им сообщить, старался оттянуть момент истины.
– Когда я в последний раз его видел, мадам, он был вполне здоров, – проговорил Губерт, радуясь, что хотя бы в этом может успокоить супругу Ричарда. – Но у меня есть известия о короле. Когда я был на приеме у папы, прибыл гонец со срочным донесением от архиепископа Кельнского. Мне крайне неприятно выступать в роли дурного вестника, но король Ричард был пленен близ Вены герцогом Австрийским и, если верить архиепископу, скоро будет передан императору Генриху.
С первыми же словами прелата Джоанна напряглась и полагала, что готова к самому худшему. Но выяснилось, что ошибалась, потому как эта новость в буквальном смысле обрушилась на нее как удар. В легких не осталось воздуха, она лихорадочно пыталась вдохнуть. А глянув на невестку, испытала еще один удар: Беренгария, вся сияя, взирала на епископа так, как если бы тот был одним из ангелом Божьих.
– Gracias a Dios! – прошептала наваррка, затем с лучезарной улыбкой повернулась к Джоанне. – Он жив, Джоанна! Жив!
– Да, и в плену у германского императора!
– Ну, это ненадолго. Его святейшество ни за что не потерпит такого возмутительного нарушения церковных законов. Мы заставим Генриха освободить Ричарда и просить прощения за то, что он бросил вызов церкви и так недостойно обращался с государем, сражавшимся за веру в Святой земле. – Беренгария положила ладонь на руку Джоанны. – Теперь я могу признаться, как мне было страшно. Я думала про свирепые бури, про яростные волны, и что зимой штормы даже еще сильнее… Но мне следовало быть более крепкой в вере. Всевышний никогда не покинет Ричарда!
Джоанна открыла рот, но остановила себя прежде, чем слова успели сорваться с губ. Едва новость распространилась, все в зале собрались вокруг них, и Губерт поведал все то немногое, что знал: как шторм прибил корабль Ричарда к побережью Истрии и как король, судя по всему, предпринял попытку добраться до владений своего племянника в Саксонии.
– Доехав до самой Вены, он почти преуспел, – сказал прелат, – потому что, оказавшись в Моравии, Ричард был бы уже в безопасности. Не понимаю только, почему при нем было так мало людей. Меньше двух десятков, если верить архиепископу, а когда его поймали, то и вовсе только трое.
Это ужаснуло Джоанну почти так же, как и весть о пленении Ричарда, поскольку, обладая живым воображением, она легко могла представить, во что вылились эти отчаянные недели бегства для человека, наделенного характером ее брата. Мариам тоже подошла и теперь воспользовалась внезапно повисшей тишиной и спросила у Губерта, не сообщил ли посланец архиепископа Кельнского имен тех двадцати. Когда прелат покачал головой, фрейлина ничего не сказала, но вскоре выскользнула из зала. Ее уход заметила лишь Джоанна, знавшая, что женщина беспокоится насчет Моргана. Она любила Мариам как сестру и души не чаяла в валлийском кузене, но в эту минуту могла думать только о Ричарде, оказавшемся в самом трудном за всю свою жизнь положении.
Беренгария удалилась сразу же, как только позволило приличие, и, поскольку фрейлины отправились к выходу вместе с ней, Джоанна догадалась, что невестка собирается пойти в близлежащий храм Св. Марии на Капитолии и вознести благодарственную молитву за избавление Ричарда. Анна, не менее Беренгарии склонная верить, что худшее для короля уже позади, пошла с ней, захватив с собой и Алисию.
Придворные рыцари королев начали разбиваться на группы, обсуждая между собой важную новость и ее возможные последствия. Наконец Джоанна осталась только в обществе Губерта Вальтера и Стивена де Тернхема, английского лорда, которому Ричард поручил заботиться о женщинах по пути на родину. Краем глаза Джоанна заметила, что Беатриса находится неподалеку, как это было всегда в трудную минуту все двадцать семь лет жизни Джоанны, и была рада, что может полагаться на поддержку Беатрисы, так как Мариам, зачастую служившая ей опорой, сейчас способна думать только о Моргане. И от невестки помощи ожидать не стоит, так как Беренгария свято верит, будто папа способен заставить человека вроде Генриха ходить на задних лапках.
Джоанна медлила, подбирая слова, поскольку не хотела обидеть Губерта Вальтера, бывшего, как-никак, одним из князей церкви.
– Боюсь, что я не разделяю уверенности невестки в способности святого отца повлиять на императора.
– Папа буквально разъярен, как и вся курия. Но говоря начистоту, я и сам сильно сомневаюсь, что Целестин осмелится пустить в ход против Генриха самое могущественное оружие церкви, а ничто, кроме интердикта и анафемы, не заставит императора отпустить короля на свободу.
Джоанна собралась, потому как впасть в полное отчаяние означало бы подвести Ричарда в минуту испытаний.
– Генрих потребует за Ричарда выкуп, как это сделал бы всякий разбойник, – сказала она. – Сколько бы он ни запросил, мы заплатим. Моя мать позаботится об этом. – Ей с трудом удалось изобразить улыбку. – А в противоборстве с Генрихом я без колебаний поставила бы на нее.
Мужчины, столь же отчаянно цепляющиеся за надежду, улыбнулись тоже. Но затем епископ дал Джоанне понять, как переменился отныне их мир. Он посоветовал ей и Беренгарии никуда не уезжать из Рима. Слишком опасно приближаться к границам империи, ибо попади женщины в руки Генриха, тот вынудит Ричарда пойти на еще большие уступки.
– Нам не стоит заблуждаться, будто мы имеем дело с человеком чести, – угрюмо проговорил прелат. – Генрих готов на все ради усиления своей власти, и в нашем несчастном положении нельзя забывать, что он совершенно не скован приличиями или требованиями морали.
Зная, что Губерт совершенно прав, Джоанна закусила губу. Она представила себе, каково человеку вроде Ричарда находиться в полной власти у такого подлеца, и не смогла подавить дрожи. Погрузившись в свои мрачные мысли, она не сразу расслышала, что епископ обращается к ней.
– Прости, милорд. Ты говорил что-то о письмах?
– В конце недели я уезжаю из Рима. Мне подумалось, что вы с королевой Беренгарией захотите передать со мной письма.
– Письма? Моей матери? Ну конечно.
– Нет, для короля. Я не в Англию возвращаюсь, а еду в Германию.
– Благослови тебя Бог за это. – У женщины слезы подступили к глазам.
Он протянул руку и погладил ее ладонь.
– Не стоит забывать, что найдется без счета таких, кто охотно отдаст свою жизнь за короля.
– И уж точно так поступит любой из тех, кто сражался с ним бок о бок, – добавил Стивен де Тернхем.
Джоанна улыбнулась обоим, но улыбка ее была столь же призрачной, сколь и надежда.
– У Ричарда и врагов без счета, – сказала она, думая про французского короля и собственного брата.
– Да, верно, – согласился епископ, оказывая ей почесть тем, что разговаривал без прикрас и начистоту, как с мужчиной. – И теперь, полагая, что король может получить смертельный удар, стервятники начинают кружить.
Джоанна вскинула голову, ее зеленые глаза прищурились
– Пусть кружат. Ни один стервятник не осмелится напасть на льва.
Но ее собеседники знали, что не все так просто. Знала и она сама.
* * *
Валлийская крепость Кардифф простояла сто с лишним лет, ее возвели на месте древнего римского форта. Некогда ей довелось служить тюрьмой для брата короля: тридцать лет герцог Нормандский томился тут по приказу Генриха Первого. Брату нынешнего короля Джону, графу Мортенскому, знание этого факта не грело душу, и ему приходилось напоминать себе о том, что Кардифф отныне принадлежит ему, став частью приданого богатой наследницы Глостеров.
Он отодвинул доску, не доиграв партию в шахматы с одним из своих рыцарей, сэром Дюраном де Керзоном, и стал беспокойно расхаживать по палате, потом подошел к окну и отворил ставни. Буря не утихала, косой дождь лил как из ведра, обратив внутренний двор в грязевую трясину, а ветер бился об стены замка, словно вражеская армия в поисках слабого места. Джон смотрел некоторое время, потом мрачно процедил:
– Неужели в этой проклятой стране никогда не бывает солнца?
Собеседники не проявили интереса к теме погоды. Любовница принца зевнула и потянулась как гибкая избалованная кошка. Хотя время клонилось к полудню, она все еще лежала в кровати. Садясь, девушка дала одеялу упасть, и Дюран де Керзон увидел на миг ее груди. Рыцарь был уверен, что она сделала это намеренно. Ему доводилось встречать девиц и покрасивее Урсулы, но ни одна не излучала такой мощной, пламенной сексуальности. Он сомневался, что даже самый целомудренный монах сможет посмотреть на эти чувственные алые губы, влажные серые глаза, на пышную гриву льняных волос, на спелое, сочное тело и не испытать приступа запретного желания. Ад и пламень, эта женщина представляла собой живое воплощение плотского греха.
Поймав на себе взгляд Дюрана, Урсула посмотрела на него с безразличием, которое, как надеялся рыцарь, было показным. Но он не мог обладать ею, даже будь она не против. Пока Джон спит с ней, девушка недосягаема – слишком многое можно потерять ради забавы со шлюшкой, пусть и обладавшей неотразимыми прелестями. И все же Урсула не давала ему покоя, как прыщ, который нельзя почесать. Дюран не мог понять, то ли эта девица беспредельно цинична, развратна и пресыщена, то ли просто глупа. Даже с Джоном она вела себя на удивление дерзко. Наложницы королевских особ обычно оглаживают их гордыню не менее ласково, чем их причинный орган, восхищаются каждым оброненным словом как перлом премудрости, смеются над их шутками, изо всех сил стараются показать, будто считают возлюбленного таким неотразимым и умным, каким он непременно видит сам себя. Все, только не Урсула. Дюран не слышал от нее ни единого комплимента в адрес Джона, а его язвительные шуточки красотка могла встретить как одобрительным сухим смешком, так и закатив к небу глаза. То, что Джон терпит столь возмутительное поведение, только укрепляло рыцаря в мысли, что чертовка просто огонь в постели.
Джон продолжал ворчать на мерзкую валлийскую погоду, и Дюран уже не мог делать вид, что не замечает. Ему, как рыцарю ближней дружины Джона, приходилось выполнять самые разные поручения – от вполне естественных до таких, в каких стыдно признаться на исповеди. Помимо прочего ему полагалось развлекать лорда, когда это необходимо, помогать принцу прогнать скуку, даже если это означало просиживать бесконечные часы за игрой в шахматы или в зары, слушать нытье Джона о жизни, о женщинах, и о том, как нечестно обошелся с ним отец. Когда речь заходила о Генрихе, принц всегда оправдывался, подчас насмерть утомляя Дюрана объяснениями, что у него не было другого выбора, как покинуть умирающего родителя, и что любой другой на его месте поступил бы так же. Рыцарь знал, что немногим дано видеть эту сторону Джона, потому как доверие оного было не так-то легко заслужить. Но с де Керзоном он делился некоторыми своими секретами, будучи уверен, что они останутся между ними. Чего принц не знал, так это что у Дюрана есть собственные тайны.
Джон не отходил от окна, не обращая внимания на холодный сырой воздух, врывающийся в комнату.
– Если так и продолжится, скоро нам придется строить ковчег.
Дюран решил, что пора поддержать разговор, иначе принц расценит это как невнимание с его стороны.
– Говорят, что у многих валлийцев ноги с перепонками на пальцах.
Это замечание вызвало непредвиденный интерес у Урсулы.
– Правда? – Когда мужчины усмехнулись, она сердито нахмурилась и постаралась прикрыть промах грубостью. – Это похоже на тот вздор, в который ты так веришь, Дюран.
– Это еще что, моя госпожа, – отозвался рыцарь. – Кое-кто утверждает, что у англичан растут длинные хвосты, но мне так и не выдалось случая проверить истину этих слухов. Впрочем, постой-ка – ты ведь родилась в Англии, разве нет? И наверняка видела больше голых англичан, нежели доводилось мне. Был у кого-нибудь хвост?
– Я скажу тебе, Дюран, чьего английского хвоста тебе никогда не увидеть – моего.
Джон отвернулся, явно заинтересовавшись их обменом колкостями.
– Ну же, детишки, – заявил он назидательным тоном родителя, усмиряющего разбаловавшихся отпрысков.
Но когда в дверь постучали, они напрочь забыли об игре. Джон стремительным шагом пошел открывать дверь. Пришел один из его воинов, Жоффруа Лутрелл, неся в руках запечатанное письмо. Джон выхватил его, небрежным кивком отпустил Жоффруа, затем поспешил к масляной лампе, чтобы прочесть. Лутрелл помедлил немного и метнул в адрес Дюрана враждебный взгляд. Де Керзон знал о том, что прочие рыцари недовольны его стремительным сближением с Джоном. Ему доводилось слышать ворчание про «выскочку, вообразившего себя невесть кем» – намек на происхождение Дюрана, остававшееся, как и его прошлое, загадкой. Пару дней назад он вошел в зал как раз в ту минуту, когда один из рыцарей презрительно обозвал его «ручным волчонком графа». Поняв, что Керзон слышал, собеседники притихли, потому как при всем нежелании признавать сей факт, было в Дюране нечто, что внушало нежелание связываться с ним. Но он только рассмеялся вслух, потому что не был ни ручным, ни волчонком, и даже Джону не принадлежал. Его хозяйкой была Алиенора.
– Это от Гуго де Нонана, – сообщил Джон и бросил письмо на стол. – Он ничего не слышал про Ричарда. И какого дьявола нужно было слать гонца через половину Уэльса, только чтобы сообщить мне про это?
Похоже было, что Джон говорит правду, но Дюран решил постараться позднее прочитать письмо, просто чтобы убедиться. Епископ Ковентрийский – тип скользкий как угорь, и хотя покуда он провозгласил себя сторонником Джона, вполне мог, по мнению Керзона, спрыгнуть с корабля, если Ричард объявится вдруг живым, здоровым и полным желания поквитаться с теми, кто слишком легко поверил в распускаемые Джоном слухи о его смерти.
– Не желаешь ли продолжить игру, милорд? – спросил он, указывая на шахматную доску.
Джон посмотрел на вырезанные из слоновой кости фигуры, явно прикидывая шансы на победу. Он во многих смыслах не походил на своих братьев. Темноволосый среди семейства рыжих, неудачник среди любимцев судьбы, имеющий за плечами целую летопись просчетов и ошибок. В семнадцать он опрометчиво напал на принадлежащую Ричарду Аквитанию – причиной были брошенные в гневе слова Генриха, что Джон получит Аквитанию, если сможет отобрать ее у брата. Джон не смог. В восемнадцать, когда отец впервые дал ему самостоятельное правление в Ирландии, Джона ждал полный крах. Ему удалось невозможное – объединить против себя ирландцев и норманнских поселенцев. Зато время, когда следовало предать отца, он рассчитал очень удачно, и заключил сепаратный мир с Ричардом и Филиппом еще при жизни родителя. А первые проблески таланта политика проявил, организовав падение канцлера Ричарда, Гийома де Лоншана. Дюран полагал, что канцлер сам вырыл себе яму благодаря алчности и высокомерию, но отмечал, как блестяще провел Джон кампанию, закончившуюся опалой и высылкой Лоншана. До сей поры принц не проявлял своих блестящих качеств в стремлении узурпировать трон брата, но месяцы, проведенные рыцарем в обществе младшего отпрыска Алиеноры, дали ему понять, что недооценка талантов Джона будет ошибкой.
Ответ, что партия может подождать, не удивил Дюрана – ему удалось поставить соперника в непростое положение, а уж в одном Джон весьма походил на прочих членов семьи: ненавидел проигрывать.
– Я еще нужен тебе, милорд? – осведомился Дюран, надеясь, что сможет улизнуть.
Но тут снова постучали в дверь. Жоффруа вернулся и на этот раз привел покрытого дорожной грязью и усталого гонца.
– Милорд, этот человек утверждает, что прибыл от короля французского со срочным посланием, и просит выслушать его немедленно.
Жоффруа огорчился, когда Джон услал его прежде, чем дал слово гонцу, тогда как Дюрану разрешили остаться. Курьер опустился перед принцем на колено и протянул пергаментный свиток, перетянутый тесьмой и запечатанный восковой печатью с оттиском перстня Филиппа. Но на что Джон по-настоящему внимательно смотрел, так это на кольцо на пальце у посланца. На нем горел аметист, ограненный восьмиугольниками. То был тайный знак, что гонец действительно прибыл от французского государя.
Джон и раньше получал письма от Филиппа, но ни одно из них не сопровождалось собственным перстнем монарха. Отослав курьера прочь, принц взломал печать. Дюран внимательно смотрел, как он читает письмо, а услышав, как Джон резко втянул воздух, не смог удержаться.
– Ну? – воскликнул рыцарь. – Вести дурные или добрые?
Джон смотрел на письмо так, будто не мог поверить в прочитанное. Когда он поднял голову, то впервые на памяти Дюрана сбросил с лица маску правителя и благодаря этому показался вдруг моложе своих двадцати шести.
– Для меня добрые, – проговорил он. – А для брата – плохие. Похоже, Ричард ухитрился попасть в лапы к императору Священной Римской империи.
«Черт побери! – подумал рыцарь. – Да это же удар кинжалом в сердце королеве». Дюран сухо улыбнулся:
– Как неосторожно с его стороны.
– Вот-вот, и я о том же, – согласился Джон. Глаза у него были материнские, миндалевидные; сейчас в них горел огонь. – Это меняет все!
Даже Урсулу, похоже, заинтересовали новости, потому что она встала с постели и изящно задрапировала нагое тело меховой накидкой.
– И что теперь будет? – поинтересовалась она. – Император убьет твоего брата?
– Едва ли. Ричард слишком ценен для Генриха в денежном выражении. – Джон вдруг рассмеялся. – Впрочем, у Ричарда редкий талант провоцировать здравомыслящих обычно людей на опрометчивые поступки. У Филиппа пена идет изо рта, стоит при нем хотя бы упомянуть про английского короля!
Дюрану хотелось вырвать письмо из руки у Джона, но следовало хранить терпение – если только принц не сожжет пергамент, рано или поздно до него можно будет добраться. С приливом удовлетворения Керзон осознал, что отныне его услуги становятся для королевы бесценными, поскольку из незначительной угрозы миру в королевстве Ричарда Джон превращается в угрозу главную. Урсула, за которой по полу тащился край меховой накидки, подошла к Джону. Дюрану подумалось, что женщина переосмысливает свое положение, осознав вдруг, что вскоре, возможно, будет спать с королем.
– Думается, тебе, милорд, прок от этого всего небольшой, – сказала она. – По крайней мере, не на долгий срок. Да, ты выиграешь драгоценное время, чтобы собрать войска, пока английского короля держат в плену в Германии. Но рано или поздно выкуп заплатят, Ричард вернется в Англию и потребует назад то, что у него отняли.
Дюран поймал себя на мысли, что это на удивление точное наблюдение со стороны апатичной Урсулы, и с интересом стал ждать ответа Джона.
– О, я не сомневаюсь, что моя госпожа матушка вытряхнет все сундуки в Англии, чтобы собрать выкуп за своего любимчика Львиное Сердце, – сказал принц и уголки его губ опустились. – Она не моргнув глазом заморит голодом всю страну и отправит народ собирать подаяние на улицах, только бы освободить Ричарда. Вот только чего она еще не знает, так это что в этой игре ей предстоит участвовать не одной. Сколько бы ни готова мать заплатить за избавление Ричарда, Филипп заплатит еще больше, чтобы увидеть, как он гниет в темнице до конца своих дней.
Урсула взяла Джона под руку.
– Неужто ты так сильно ненавидишь брата?
Дюран изумился, как ей пришло в голову задать такой дерзкий вопрос. Когда Джон удивленно, но не сердито посмотрел на нее, рыцарь получил лишнее доказательство тому, что эта женщина в постели даже лучше, чем он предполагал. Джон словно всерьез задумался над вопросом.
– Нет, – ответил принц после долгой паузы. – Я бы не сказал, что ненавижу Ричарда.
«Может и нет, – подумал Дюран, усмехнувшись про себя. – Но ты так чертовски завидуешь ему, что способен захлебнуться своей завистью».
Урсула смотрела на Джона с интересом, которого Дюран раньше в ней не подмечал.
– Но если ты не питаешь к нему ненависти, милорд, то почему хочешь «увидеть как он гниет в темнице до конца своих дней»?
Джон тем временем отвернулся, открыл сундук и стал рыться в нем в поисках пергамента, перьев и чернил. Писца при нем не было, поручать замковому капеллану писать письмо Филиппу он опасался и поэтому решил взяться за дело сам. Услышав вопрос, принц распрямился и озадаченно посмотрел на девушку:
– Неужели ты на самом деле не знаешь почему, женщина? Да потому что так мне до короны рукой подать, разумеется.
Глава IX Оксфордский замок, Англия
Февраль 1193 г.
Алиенора восседала на помосте в большом зале рядом с главным юстициаром Англии Готье де Кутансом, архиепископом Руанским. Члены большого совета располагались на деревянных скамьях, а королева пристально наблюдала за ними, гадая, многие ли из них останутся верны ее сыну. В первых рядах сидели другие юстициары: Гуго Бардольф, Вильгельм Бривер, Жоффруа Фиц-Питер и Вильгельм Маршал.
Рядом пристроился Жофф, сводный брат Ричарда. Алиенора знала, что он не питает симпатий к Ричарду, но Джона не любит еще сильнее – Жофф истово любил отца и считал, что Джон своим предательством нанес Генриху смертельный удар. Ричард уважил последнюю волю родителя и проследил, чтобы Жоффа избрали архиепископом Йоркским, хотя то был не самый подходящий кандидат на этот пост. Настойчивое желание Генриха устроить для Жоффа карьеру в церкви служило, как печально подумала Алиенора, очередным доказательством того, как плохо понимал он своих сыновей, хотя и сильно любил их. Недолгое пока пребывание Жоффа в сане было отмечено бурными событиями, поскольку он унаследовал буйный анжуйский характер и без колебаний предавал анафеме всех, кто ему не угодил.
Один из таких отлученных сидел в следующем ряду: Гуго де Пюизе, епископ Даремский. Гуго был одним из немногих так называемых светских прелатов, который видел в церковной карьере поле для деятельности, а не времяпрепровождение. Выходец из знатной семьи, приятной наружности, любезный в обхождении. Он тоже любил роскошь, был надменен, склочен и плевал на приличия: имел четырех незаконнорожденных сыновей и долговременную любовницу, которую даже не пытался скрыть. Гуго стяжал большие богатства, и когда Ричард всеми доступными средствами собирал деньги на крестовый поход, приобрел за две тысячи марок Нортумберлендское графство. Ричард потом шутил, что он сделал молодого графа из старого епископа. Алиенора едва ли обратилась бы к Гуго за духовным наставлением, а вот его таланты политика могут вполне пригодиться для освобождения его сына. Вот только можно ли ему доверять?
Рядом сидели еще два епископа, носивших то же имя. Гуго де Нонан, епископ Ковентрийский, считался закадычным другом Джона. Единственная религия, которой он придерживался, была вера в себя, и Алиенора склонялась к мысли, что этот пройдоха покинет Джона, если шансы Ричарда на возвращение будут достаточно велики. Если Гуго де Пюизе и Гуго де Нонан были циничными дельцами, то третий Гуго был редкая птица: могущественный прелат, окруженный ореолом святости. Линкольнская епархия Гуго д’Авалона была богатой, и сам он вовсе не был агнцем Божьим среди волков. Гуго не боялся возвысить голос в защиту церкви, даже если это могло вызвать гнев вспыльчивых анжуйских государей. Но прелат служил живым примером того, что личное обаяние может стать отличным щитом. Его резкость сдабривалась чувством юмора, а за прямотой скрывалось тонкое знание человеческой природы. Генрих выказывал такое расположение своему возмутительно непреклонному епископу, что молва причислила Гуго к числу незаконных детей короля. Это было не так, и не могло быть, потому как Гуго был всего семью годами моложе Генриха, но оба забавлялись подобными слухами и, как подозревала Алиенора, ее супруг отчасти даже жалел, что они не соответствуют правде. Какие бы сомнения ни питала Алиенора по отношению к прочим епископам, на Гуго Линкольнского они не распространялись.
Ее пытливый взгляд переместился с князей церкви на баронов королевства. Гамелен де Варенн приходился Ричарду сводным братом – он был незаконнорожденным сыном Жоффруа Анжуйского. Генрих отлично ладил с родичем, подыскал ему в жены богатую наследницу, принесшую в приданое графство, и Алиенора решила, что может рассчитывать на его преданность Ричарду. О Вильгельме д’Обиньи она никогда не была высокого мнения. Хотя графство Арундель было важным, его хозяин сам по себе значил мало. Рэндольф де Бландевиль был внуком женщины, бывшей некогда ее близкой подругой – графини Честерской Мод, а стало быть, приходился Ричарду двоюродным братом. А еще он был мужем бывшей снохи Алиеноры, Констанции Бретонской. Их брак стал плодом стараний Генриха, а также, если верить молве, союзом взаимной ненависти. Граф был молод, всего двадцать три, и пока не играл заметной роли в государственных делах. Он не принял крест вместе с Ричардом и не был причастен к свержению королевского канцлера Гийома де Лоншана. Но обширные земельные владения по обе стороны Пролива превращали его в крупного магната, а следовательно в фигуру, за которой стоит приглядывать.
На мгновение ее взгляд задержался на бароне, сидящем по правую руку от графа. Подобно Честеру, он был юн и низкоросл. Но Роберту Бомону, графу Лестерскому, не было нужды что-либо доказывать, поскольку он был ближайшим соратником ее сына в Святой земле, и только сам Ричард да Андре де Шовиньи снискали бόльшую славу своими крестоносными подвигами. Ей с трудом удалось убедить графа, что он окажет Ричарду большую услугу здесь, обороняя его владения, поскольку Роберт так же, как и Андре, стремился поехать в Германию. За внешним спокойствием тлело скрытое напряжение, и Алиенора разделяла его чувства, ибо и сама готова была обрушить гнев и ярость на презренных, бессовестных людишек, удерживающих в неволе ее сына.
Когда все расселись, совет начался с молитвы: вельможи обращались к Всевышнему с просьбой сохранить короля и поспешествовать скорому его возвращению в родную державу. Затем встал архиепископ Руанский:
– С сожалением вынужден сообщить, что у нас нет новых известий о нашем господине короле: ни о его местонахождении, ни о состоянии здоровья. Зато я могу сообщить вам то, что мы узнали о действиях графа Мортенского. Видимо, он прослышал о пленении короля одновременно с нами, потому как вскоре отплыл из Уэльса. Высадившись в Барфлере, принц призвал к себе Вильгельма Фиц-Ральфа, сенешаля Нормандии, и прочих норманнских лордов. – Прелат посмотрел на графа Лестерского. – Ты присутствовал на том собрании, милорд. Ты поведаешь совету то, о чем рассказывал королеве и мне?
Юный граф встал, кивнул сначала Алиеноре, затем архиепископу.
– Граф Джон заявил, что король Ричард мертв и потребовал, чтобы мы признали его, Джона, законным наследником английского престола. Мы отказались, разумеется. Он сильно разгневался и предупредил, что не станет защищать нас от французского короля, если мы не исполним его веления.
Лестера, похоже, не слишком пугали угрозы Джона, но Алиенора знала, что не все будут такими же стойкими. Многие побоятся противоречить тому, кто станет их королем, если Ричард умрет или останется в заточении.
– Нам известно, – продолжил архиепископ, – что затем граф Джон поскакал прямиком ко двору французского короля в Париж. Они с Филиппом явно заключили некий пакт. Детали этой дьявольской сделки нам покуда неизвестны, но мы с уверенностью можем предположить, что она направлена во вред нашему государю.
Алиенора не стала вставать, но вскинутой руки хватило, чтобы привлечь внимание к ней.
– Я получила весточку от моей дочери, королевы Сицилийской, – сказала она, возвысив голос, чтобы все в зале слышали. – Она пишет, что когда новость о невзгодах короля достигла папского престола, в Риме находился епископ Солсберийский. И епископ Губерт немедленно отправился в Германию. Епископ Батский тоже пребывал в Риме и нанес визит моей дочери и королеве, супруге моего сына, и заверил их, что сей же день едет к императорскому двору ходатайствовать за короля. Его мать приходится Генриху кузиной, и прелат надеется, что родственные связи откроют ему доступ к уху императора.
Алиенора понимала, что ей не удалось полностью изгнать скепсис из своего голоса, но питала мало надежды на Саварика Фиц-Гелдвина, еще одного беззастенчивого искателя собственной выгоды.
Годфри де Ласи, епископ Винчестерский, взял слово следующим.
– Госпожа, милорд архиепископ. Есть ли какие-нибудь известия от его святейшества папы?
Готье де Кутанс издал звук, напоминающий вздох:
– Нет, милорд епископ. Пока нет.
Повисшая вслед за этим скупым ответом тишина красноречиво говорила о том, что все не решались высказать вслух. Немного погодя архиепископ принялся разглагольствовать о необходимости защиты владений Ричарда в его отсутствие. Постановили, что по всему государству следует потребовать принести клятву верности Ричарду и принять меры по защите портов. Затем члены совета перешли к рассмотрению вопроса о выкупе за короля, хотя дискуссия была расплывчатой, так как никто не знал, какая будет запрошена сумма. И наконец выбрали двоих, кому поручалось поехать в Германию и разыскать короля. Ими стали аббаты цистерцианских обителей в Боксли и в Робертсбридже.
Алиенора не знала ни одного из настоятелей, но оба, похоже, восприняли это достойное Геракла поручение как честь, а не как кару, и это приободрило королеву. Радовало также возмущение, царившее в зале. Она не сомневалась, что общественное мнение по всему христианскому миру будет на стороне Ричарда, возможно даже во Франции и в Германии. Не сомневалась королева и в том, что общественное мнение не имеет совершенно никакого значения для Генриха фон Гогенштауфена.
* * *
Солар был погружен в темноту, если не считать приглушенного света от плавающих в масляных лампах фитилей да мерцания углей в жаровне, не слишком помогавшей прогнать царивший в палате холод. Холод Вильгельм Маршал с течением лет чувствовал все острее: теперь ему было пятьдесят семь, и юность осталась далеко позади. Он поплотнее запахнул плащ и сделал еще глоток вина, продолжая наблюдать за королевой и графом Лестерским. Разговор между этими двумя шел уже несколько часов. Вернее, говорил граф, а королева слушала. Сам Уилл внимал вполуха, поскольку уже был знаком с историями Лестера. Зато Алиенора слушала очень внимательно, поскольку речь шла о пребывании Ричарда в Святой земле. Граф рассказывал ей о человеке, которого мать не могла знать: о военачальнике, о солдате, о Львином Сердце. Уилл думал, что этот интерес со стороны Алиеноры вполне естественен. Но наблюдая, как она ловит каждое слово Лестера, он понял, что королева собирает воспоминания о сыне, копит их на случай, если тот не вернется из немецкого плена. И это его невыразимо опечалило.
Судьба Уилла давным-давно переплелась с судьбой Анжуйской династии. Он любил Хэла, своего воспитанника, и его сердце разбилось, когда все блестящие надежды пошли прахом, когда он увидел, в кого превратился Хэл. Отца Хэла Маршал уважал и оставался предан Генриху до последнего его вздоха в замке Шинон. Рыцарь полагал, что его будущее умерло вместе со старым королем. Дело в том, что когда они убегали от Ричарда и французского короля в Ле Мане, он, прикрывая отход короля, прилюдно унизил Ричарда, выбив его из седла, а ведь Ричард не из тех, кто прощает такие обиды. Но он простил, заметив сухо, что не в его интересах наказывать за преданность монарху. Затем Ричард дал ему жену, которую Генрих только обещал, – Изабеллу де Клари. Изабелла была дочерью графа, внучкой короля и богатой наследницей. Даже теперь, три с лишним года спустя после брака, Уилл не переставал удивляться своему везению – эта женщина не только принесла ему обширные имения в Англии, Южном Уэльсе, Нормандии и Ирландии, но и подарила счастье, о котором ему не доводилось даже мечтать. Всякий раз как она улыбалась ему, когда он смотрел на их двух сыновей, Маршал ощущал благодарность человеку, благодаря которому все это свершилось. К человеку, томившемуся ныне в германской тюрьме.
Но самое глубокое чувство преданности он всегда испытывал к королеве. Младший сын мелкого барона, Уилл впервые повстречался с Генрихом и Алиенорой, когда состоял на службе у своего дяди, графа Солсберийского. Их отряд сопровождал королеву по дороге на Пуатье и попал в засаду, устроенную Лузиньянами, этим печально знаменитым кланом недовольных, для которых мятеж заменял еду и питье. Эскорт сумел дать Алиеноре время сбежать, но дорогой ценой: дядя Уилла был убит, а сам юноша угодил в плен. Рыцарь без гроша в кармане, он считал себя человеком конченым, пока королева не уплатила за него выкуп и не взяла к своему двору, поставив на путь, приведший его в итоге к Изабелле де Клари. Ради Алиеноры он был готов на все. Ее боль была его болью, ее гнев – его гневом, ее стремление спасти сына – его стремлением.
Наконец Лестер истощил свой репертуар крестоносных историй, встал и подлил всем вина.
– Полагаешь ли ты, госпожа, что вскоре мы услышим о договоре между твоим сыном и французским королем?
– Уверена в этом. Архиепископ Готье хвастает, что у него при французском дворе есть чрезвычайно умелый лазутчик, и он не лжет, – сказала Алиенора, а потом сложила губы в холодной улыбке. – Вот только мой еще лучше.
Откинувшись в кресле, она снова улыбнулась, на этот раз теплее.
– Те, кто был с моим сыном в Святой земле, хорошо служат ему. У меня к тебе еще одна просьба, милорд граф. Трудно судить о человеке, которого не знаешь лично. К сожалению, мне так и не выпала возможность встретиться с французским королем – он отплыл из Мессины в тот самый день, когда я туда приехала. Любопытно, захотелось бы ему встретиться с женщиной, бывшей замужем за его отцом? – Она хмыкнула. – Едва ли. Так что у тебя есть передо мной преимущество, лорд Роберт. – Ее миндалевидные глаза встретились с синим взором графа. – Расскажи мне про Филиппа Капета.
Де Бомон ожидал такого вопроса и обдумал ответ:
– Ну, ему нет еще и тридцати, но, по моему мнению, он сразу родился стариком. Филипп не признает азартных игр и никогда не ругается. Терпеть не может охоту и осуждает турниры. Не питает интереса к музыке, и при французском дворе не встретишь ни одного трубадура. Не могу ручаться такой ли он трус, каким его считает твой сын, но Капет явно наделен слабыми нервами и постоянно переживает о своем здоровье. Филипп никуда не выходит без своих телохранителей и это единственный из всех известных мне мужчин, который не любит лошадей. Скор на расправу, и даже если прощает, то не забывает никогда. Страдает гордыней, убежден, что ему судьбой предопределено вернуть французскому престолу его величие. И очень хитер. Забыть об этом, мадам, будет большой нашей ошибкой.
Говоря «нашей», Роберт пытался быть тактичным, и Алиенора это поняла. Это был намек на Ричарда. Ее сыну была присуща губительная склонность свысока смотреть на своих врагов.
– Как выглядит Филипп? – осведомилась королева.
– Не такой высокий, как Ричард, не такой низкий, как граф Джон. Не такой красавец, чтобы привлекать взоры, не будь он королем, но и определенно не урод. Рыжий, что очень сходится с его вспыльчивым характером, и ходил с целой копной густых, взъерошенных волос.
– Ходил?
Лестер ухмыльнулся:
– Когда во время осады Акры твоего сына и Филиппа скосила арнальдия, оба лишились шевелюры. Лекари говорят, что виной тому сильный жар. Большинство больных снова обрастает волосами через несколько месяцев. Например, так было с королем Ричардом. Но как я слышал, с Филиппом такого не произошло, и у него осталась большая плешь. – Граф снова усмехнулся. – Не сомневаюсь, госпожа, что и в этом он винит твоего сына. Стоит ему ушибить палец, проснуться с болью в животе, или если его конь потеряет подкову – во всем виноват Ричард Английский.
– Он так сильно его ненавидит?
– О да, миледи. Когда дело касается твоего сына, Филипп буквально теряет рассудок. Он проклинал его за то, что оказался в Святой земле, потому как никогда не хотел принимать крест. Ненавидел жаркое солнце, пыль, скорпионов, чуждую культуру Утремера. Но прежде всего не нравилось ему то, что король Ричард затмевал его на каждом шагу. Капет едва ли рассчитывал выиграть состязание с ним на поле боя, но не ожидал, думается, что Ричард сможет обойти его и в зале совета. Что ему придется каждый день терпеть унижения. Не помогало и то, что король Ричард выказывал презрение к нему и…
Граф сделал паузу, и Алиенора закончила предложение за него:
– …и не удосуживался скрывать это.
Лестер кивнул:
– Воистину так, мадам.
Алиенора помолчала, не обрадованная тем, что ей довелось услышать. У нее была возможность «снять мерку» с императора Генриха в Лоди, и она пометила его как опасного врага, безжалостного и беспринципного. Но из только что полученных ею сведений следовало, что французский король представляет для ее сына угрозу еще большую. Генрих желает унизить Ричарда и извлечь из этого выгоду. Поскольку в его ненависти нет пыла, император будет руководствоваться корыстными интересами. А вот неприязнь Филиппа куда более опасного толка, потому как она раскалена добела, сильна и жгуча. Вот только осознает ли это Ричард?
* * *
Лестер пошел спать, а Уилл спросил, нужен ли он еще королеве. Вид у нее был очень усталый. В эту минуту раздался стук в дверь, и Маршал пошел открыть. На ведущей в палаты лестничной площадке стоял молодой человек, высокий, смуглый, с черными волосами и серыми глазами. Имени его Уилл не ведал, зато знал род занятий. При каждом королевском дворе имеются такие люди: фигуры в тени, которые приходя и уходят, выполняя поручения короля. Или королевы. Юстициар сделал шаг в сторону, чтобы Алиенора увидела, кто пришел, и она кивком пригласила гостя в солар.
Когда тот преклонил колено, государыня подалась вперед. В каждой линии ее тела читалось напряжение.
– Ты разыскал в Париже Дюрана?
– Да, мадам. – Мужчина страшился этого момента, зная, какую боль ему предстоит причинить ей. – Не добрые доставил я новости, госпожа.
– Добрых я и не ожидала. – Дав ему знак сесть, королева ровным голосом продолжила: – Поведай мне о том, что узнал при французском дворе, Джастин.
– Дюран смог сообщить мне подробности договора между графом Джоном и французским монархом. Джон приносит Филиппу оммаж за Нормандию и прочие владения короля Ричарда, которые тот держит от французской короны. Соглашается развестись с нынешней женой и сочетаться с сестрой Филиппа Алисой. Уступает замок Жизор и отказывается от всяких претензий на Вексен. Взамен французский король обещает сделать все от него зависящее, чтобы обеспечить английский трон за графом Джоном и оказывает ему помощь во вторжении в Англию.
Пока Джастин говорил, он старался не отводить взора, но едва закончив, потупил глаза – его слова были прямым обвинением в измене человека, который как-никак был ее плотью и кровью, плодом ее чрева.
Лицо Алиеноры пряталось за королевской маской, не выражая ничего. Она поблагодарила Джастина, затем отправила его вниз, в большой зал, сказав, что стюард позаботится насчет ужина и удобного ночлега. Когда он повернулся, государыня снова опустилась в кресло, и вид у нее был такой утомленный, что у Маршала защемило сердце. На миг его взгляд встретился с взглядом человека королевы, и они без слов обменялись посланием, полным гнева и тревоги. Никто из служивших Алиеноре не хотел быть свидетелем ее страданий и никто не желал видеть графа Джона на английском троне.
Юстициар ожидал, что его тоже отпустят и удивился, услышав ее негромкий приказ:
– Я хочу, Уилл, чтобы ты еще немного задержался.
– Разумеется, мадам.
Когда дверь тихонько закрылась, Маршал сел рядом с Алиенорой. Он не знал, что сказать, чем утешить ее. Он пытался представить, каково приходилось бы ему, если бы его два маленьких сына выросли и пошли друг против друга. Да, именно так, наверное, выглядит ад. Не найдя слов, Уилл успокоился, заметив, что она их и не ждет. Королева искала утешения, просто будучи в его обществе. И они длительное время сидели и молчали, а тем временем ночь вступала в свои права.
* * *
Снегопад начала марта припорошил внутренний двор Дюрнштейнского замка, и в лучах полуденного солнца снежинки блестели, как сделанные из хрусталя. Хадмар фон Кюнринг остановился посмотреть, как два его сына с радостным визгом играют в снежки. Но когда он двинулся дальше к башне, в которой держали английского короля, улыбка министериала померкла, потому как ему предстояло сообщить узнику дурную весть.
Едва ступив на лестницу, он услышал громкие голоса, доносящиеся из комнаты Ричарда. Встревоженный, министериал ускорил шаг, перепрыгивая через две ступеньки зараз. Он распахнул дверь и замер при открывшемся его глазам зрелище. Ричард и Эберхард, добродушный юноша с ежиком на голове, здоровяк на полголовы выше остальных стражей, сидели друг напротив друга за столом и боролись на руках, а прочие караульные столпились вокруг и криками подбадривали соревнующихся. Заметив застывшего на пороге Хадмара, воины стихли и подались назад от стола. Ричарда происходящее, похоже, забавляло, а вот Эберхард покраснел, как свекла, и вскочил так стремительно, что опрокинул стул.
Было несколько случаев, когда Хадмар прерывал то, что выглядело как урок языка: Ричард указывал на разные предметы, а стражи говорили, как это называется по-немецки. Против этого рыцарь не возражал, но вот борьба на руках выглядела на его вкус слишком вольной забавой, и он уже принял решение поручить Эберхарду другие обязанности, когда вспомнил, что его вскоре и самого освободят от роли тюремщика английского монарха.
Ричард встал и добродушно хлопнул Эберхарда по плечу. Стражник глуповато осклабился, но затем спохватился и, волнуясь, высказал надежду, не сердится ли на него лорд. Хадмар отмахнулся от оправданий и посмотрел на узника с ироничной полуулыбкой.
– Спасибо, что не пытаешься разлагать дисциплину среди моих людей, – сказал он.
– Надо же нам как-то коротать время. Парни страдают от скуки ничуть не меньше меня. – Ричард указал на освободившийся стул жестом, насмешливо изображая хозяина, встречающего гостей. – Присаживайся. Расположившись с удобствами, легче сообщать дурные вести.
– С чего ты решил, что вести дурные?
– А ты разве когда-нибудь приносил мне хорошие?
Хадмар решительно положил конец болтовне.
– Сегодняшний день не исключение. Мне пришло письмо от герцога. Он пишет, что они с императором Генрихом договорились об условиях твоей передачи и приказывает сопроводить тебя к императорскому двору в Шпейере.
Несомый два месяца течением реки неопределенности, Ричард жаждал пристать к берегу – он ведь знал: ничто так не подрывает дух воина, как затянувшееся ожидание битвы. Не к добру, когда у человека слишком много времени на раздумья о том, что может пойти не так.
– Леопольд обмолвился о том, что хочет за меня получить?
– Нет, не обмолвился. – Только когда слова слетели у него с губ, Хадмар понял, что солгал. И причиной было не убеждение, что английский король не имеет права знать. Такое право у него было. Просто рыцарь не хотел быть тем, кто сообщит Львиному Сердцу о том, что ожидает его в Шпейере.
* * *
Ричард предполагал, что его повезут прямиком в Шпейер. Но вместо этого их путь лежал в Оксенфурт – маленький городок на левом берегу Майна. Там им предстояло дожидаться приглашения от герцога Леопольда. Генрих, очевидно, намеревался оттянуть появление пленника до той поры, когда все прелаты и бароны съедутся к его пасхальному двору. Ричарду вспомнились описания из книг, где римские полководцы привозили побежденных врагов в Рим, а затем с триумфом входили в город. Пленников вели в цепях за войском, а толпа глумилась над ними. Интересно, известен ли Генриху этот обычай древних римлян? Говорят, что император весьма начитан.
Ричарда держали в странноприимном доме премонстрантского[11] монастыря, посвященного святому Ламберту, Иоанну Крестителю и святому Георгию. С аббатом король еще не встречался, и лишь изредка замечал одного из облаченных в белую рясу каноников, спешащего по делам. С Хадмаром он тоже почти не виделся, и время тянулось мучительно долго. Он пытался читать и сочинял песню, в которой рассказывал о своем плене. Все, что приходило в голову, не устраивало его, и король снова и снова начисто соскребал написанное с пергамента и начинал сначала. Его обуревали сомнения, что, оказавшись в Шпейере, он по-прежнему сможет иметь доступ к книгам и письменным принадлежностям. Ричард с удивлением обнаружил, что эти мелкие ограничения так важны – это было досадное напоминание, как мало осталось у него власти: меньше, чем у самого последнего из его подданных, чем у тех беззащитных христианских пленников, которых ему довелось освободить под Дарумом. Те уже находились на пути к невольничьим рынкам Каира и плакали от радости, когда пришло избавление. Ричард был рад, что помог страдальцам, но вскоре и думать о них забыл. Теперь воспоминание о том дне стало таким живым, что иногда врывалось даже в его сны.
Он прилег на кровать в надежде вздремнуть, когда Хадмар обогнул ширму, которой отгородили ту часть зала, где содержался пленник.
– У тебя гости, – с улыбкой объявил рыцарь.
Ричард поспешно сел. На миг он подумал, что это Леопольд, но сразу оставил эту мысль, потому как о приходе герцога Хадмар таким тоном докладывать бы не стал. Король поднялся, и австриец отошел в сторону. Ричард, не веря своим глазам, уставился на человека, стоявшего за спиной у министериала, а затем на его лице расплылась широкая улыбка.
– Насколько я понимаю, ты просто проезжал мимо?
Губерт Вальтер тоже усмехнулся.
– Что-то вроде того, – сказал прелат и сделал шаг вперед.
Ричард уже спешил ему навстречу. Губерт собирался опуститься на колено, но вместо этого его заключили в объятия как брата. Когда объятия разомкнулись, у обоих на глазах были слезы. И только тут король заметил, что епископ пришел не один. Уильям из Сен-Мер-Эглиз был ему хорошо знаком: то был доверенный клерк Генриха, а вскоре после своего восшествия на престол Ричард назначил его деканом церкви Св. Мартина Великого в Лондоне. Его появление удивило короля даже сильнее, чем приход Губерта Вальтера, и едва Уильям согнулся в поклоне, как Ричард заставил его выпрямиться и тоже обнял. Все смеялись и говорили одновременно, и даже не заметили, как Хадмар потихоньку удалился.
– Я успел добраться до Рима прежде, чем узнал о случившемся, – сказал Губерт. – Ну и разумеется, тут же поехал в Германию. Уильяму тоже случилось пребывать в Риме, и он отправился со мной.
Ричард ощутил приступ разочарования: он отчаянно хотел услышать новости из Англии и надеялся, что епископ прибыл с островного королевства. Но тут же забыл про досаду, поскольку Губерт извлек письма. Схватив их, король подошел к факелу на стене и вскрыл печати. Писем было четыре: от жены, от сестры, от Анны, она же Дева Кипра, и от Стивена де Тернхема, которому он поручил заботиться о безопасности женщин. Ричард наскоро пробежал послания, затем внимательно перечитал, улыбаясь над пассажами Джоанны и весело смеясь над оборотами Анны.
– Девчонка говорит, что наслала на моих недругов какое-то жуткое кипрское заклятье, и обещает, что не пройдет и года и они сгниют как от проказы.
Потом он снова вернулся к письму своей королевы и покачал головой.
– Вера Беренгуэлы в старика на папском престоле воистину примечательна, – вырвалось у него. Однажды он сказал жене, что ее невинность чрезвычайно мила. Но не до такой же степени.
Отложив письма, король снова рассмеялся. Он даже не подозревал о наличии в своем характере сентиментальной струнки и очень удивился насколько расчувствовался при виде знакомых лиц. Гости принялись рассказывать ему о политических осложнениях, вызванных его пленом, но знали они немногое – только что его святейшество взбешен этим событием и обрел союзника в лице архиепископа Кельнского, который не только известил папу о пленении Ричарда, но и встал в ряды мятежников. Генриху, радостно заверили они короля, грозит масштабное восстание.
Следуя примеру Хадмара, караульные отступили, давая им общаться без помех, а когда Ричард попросил вина, впечатлив клириков тем, что сделал это по-немецки, его вскоре принесли. Расположившись за столом, гости засыпали короля вопросами. Тот поначалу отвечал охотно. Рассказал про встречу с пиратами и объяснил, почему взял с собой на разбойничьи галеры всего двадцать человек. Ему не составило труда описать первое их кораблекрушение близ Рагузы и второе на Богом забытом заболоченном берегу, а также про бегство из Герца и Удине. А вот потом слова стали даваться с трудом. Воспоминания о Фризахе ныли, как нагноившаяся рана. А перейдя к Эртпурху, Ричард с тревогой обнаружил, что все вернулось: отчаяние, усталость, голод и холод, ту проклятую лихорадку, страх и стыд сдачи в плен. Рассказывать об этом было все равно что переживать все заново – он словно стоял в доме у хозяйки пивоварни, загнанный в ловушку. Сердце забилось, дыхание участилось, в горле встал ком.
Уильям удивился, почему Ричард вдруг замолчал, но Губерт быстро сообразил. Он приехал под Акру на девять месяцев раньше, чем король, и нередко беседовал с людьми, побывавшими в плену у сарацин. Иные провели в неволе годы. Что прелата поразило, так это нежелание бедолаг говорить о пережитом испытании и явный дискомфорт, когда они все-таки рассказывали о нем. Он обнаружил, что взгляды мусульман и христиан на плен сильно разнятся. Первые крестоносцы не делали попыток выкупить своих – в их глазах взятый в плен рыцарь как бы переставал существовать, его пребывание среди живых только все осложняло. Со временем подход изменился, отчасти благодаря соприкосновению с культурой, где избавление своих рассматривалось как долг. Но болезненное отношение осталось, как и позор. Если их так сильно ощущали простые рыцари и солдаты, то Губерту не составляло труда представить, насколько хуже приходится королю. Особенно такому королю, как Львиное Сердце.
– Повесть о твоем пленении мы выслушаем позже, сир, – резко заявил он. – Пока же давай поговорим про Генриха и про то, какие выгоды он рассчитывает извлечь из своего вопиющего преступления.
Уильям удивился, но облегчение, отразившееся на миг на лице Ричарда, укрепило догадку Губерта, что рана еще слишком свежа, чтобы ее касаться.
* * *
Четверг перед святой неделей оказался для Ричарда днем сюрпризов. Всего пару часов спустя после приезда Губерта Вальтера и Уильяма де Сен-Мер-Эглиза Хадмар ввел в зал еще двух посетителей. Те были облачены в безошибочно узнаваемые белые накидки цистерцианцев. Уставшие с дороги монахи возликовали, что нашли наконец государя, и немного огорчились, узнав, что добрались до него не первыми. Как ни любил Ричард епископа Солсберийского, прибытию этих аббатов из Англии он обрадовался еще сильнее – их приезд говорил о том, что юстициарам и матери известно о его злоключениях.
Цистерцианцы привезли не только новости, но и пачку писем, такую толстую, что Ричарду подумалось, будто каждый лорд королевства отправил свое. Первым он прочитал послание от матери, затем от юстициаров, и когда закончил, то почувствовал, что отныне не так одинок. Ярость писавших едва не опаляла пергаменты, их перья сверкали как клинки, когда они клеймили грубое неуважение к каноническому праву и законам войны. Именно это желал услышать король, а не набожные упования своей супруги на то, что папа Целестин возобладает над императором Генрихом и добудет пленнику свободу.
– Моя матушка пишет, что вы расскажете мне о шашнях, которые развел мой брат с французским королем, – сказал он.
И аббаты рассказали все, что знали об измене Джона. Ричард выслушал, не перебивая, затем принялся расхаживать по комнате, по мере того как внутри у него разгоралось пламя. После смерти Генриха люди вроде Уилла Маршала опасались опалы за верность покойному королю. Но проявив мудрую непоследовательность, Ричард вознаградил тех, кто до конца оставался с Генрихом и не доверял тем, кто покинул его в поисках милостей молодого государя. Не был отвержен только Джон. Мать выражала определенные сомнения по части щедрых пожалований Джону, и Ричард помнил, как ответил ей тогда: «Джонни нужен шанс доказать, что заслуживает доверия, если я буду справедлив по отношению к нему». А затем бросил беспечно, что не видит в Джонни сколько-нибудь существенной угрозы.
Разумеется, он никак не мог предположить, что три года спустя окажется в плену у императора Генриха, неспособный защитить даже самого себя, не говоря уж о далеких доменах. Впервые Ричард сполна понял, что должен был почувствовать его отец, узнав об измене – причем не первой – своего любимого сына. Ему подумалось, не Всевышний ли карает его за роль, сыгранную в падении Генриха. Но эту мысль стоит приберечь для тех бессонных часов, когда он будет пытаться понять и принять волю Господа. Сейчас нужно разобраться с предательством Джонни. К счастью, он знал средство, знал оружие, способное сильнее всего ранить, уязвить гордыню Джонни до самых костей. Насмешка – вот единственная вещь, которой этот мерзавец не в силах стерпеть.
Повернувшись к гостям, он ехидно улыбнулся и заявил:
– Мой братец Джон не из тех, кто способен завоевать королевство. Достаточно кому-нибудь оказать хотя бы малейшее сопротивление.
* * *
Вполне вероятно, это был самый лучший день для Ричарда с момента его отплытия из Рагузы. При всем его врожденном оптимизме, почти три месяца заточения не прошли для него даром. Хадмар фон Кюнринг, хотя держался любезно, а по временам проявлял доброту, не был другом, и Ричард об этом не забывал. Но до неожиданного появления Губерта Вальтера король не осознавал в полной степени своего одиночества. Возможность беседовать с людьми, которым доверяешь, притом беседовать на французском, сильно подняла ему настроение. Когда гости уехали, пообещав вернуться на следующий день, король настолько приободрился, что потянулся за лютней Хадмара. Он прислушивался к музыке у себя в голове и пытался переложить ее на струны, когда поднял голову и увидел стоящего в нескольких шагах от него Хадмара. Лицо австрийца было непроницаемым, что само по себе настораживало.
– Не думаю, что ты пришел сообщить мне о моей королеве, прибывшей по зову супружеского долга, – проговорил король.
– Я получил послание от герцога Леопольда, – сказал Хадмар голосом, выражавшим чувства ничуть не более, чем лицо. – Он пишет, что завтра нам следует отправиться к императорскому двору.
Рыцарь ждал ответа от Ричарда, а не получив его, начал уже было разворачиваться, но задержался:
– Мой герцог сообщил мне, что сумел вырвать у императора клятвенное обещание не причинять тебе телесного вреда.
Ричард делал вид, что увлечен лютней.
– А нам обоим известно, чего стоит слово императора, – сказал он, взяв новый аккорд. Когда король снова поднял глаза, Хадмар исчез.
* * *
В Шпейер они прибыли к вечеру третьего дня, когда уже сгущались сумерки. Было Вербное воскресенье, и большой собор Св. Марии и Св. Стефана был полон верующих. Это напомнило Ричарду, как много прошло времени с тех пор как ему отпускали грехи. Он ожидал, что его препроводят в королевский или епископский дворец, смотря какой из них Генрих сочтет более подходящим для сбора большой толпы, которая соберется поглазеть на унижение английского короля. Когда Хадмар доставил его в предместья собора и поместил в доме каноников, расположенном к северу от большого храма, Ричард решил, что его снова решили придержать до поры, когда Генрих изготовится начать забаву. Но едва переступив порог понял, что ошибся. Выходило так, что император не собирался проводить первую их встречу на людях.
Генрих восседал в богато украшенном резьбой епископском кресле, по бокам стояли Леопольд и дородный, роскошно одетый мужчина – видимо, епископ Шпейерский. Присутствовали в доме каноников и другие, но Ричарду их не удосужились представить. После того как Хадмар преклонил перед императором колено, Генрих жестом велел страже подвести Ричарда ближе. Первое о чем подумал король, пока рассматривал своего врага, так это что Беренгуэла была права. В Генрихе фон Гогенштауфене не было ничего царственного. Среднего роста мужчина, довольно хилый, с тонким лицом, бледность которого подчеркивали белокурые волосы и жидкая бородка. А еще Беренгуэла точно описала его глаза – они были такие водянистые, что казались бесцветными, и Ричарду подумалось, что он смотрит в пустые, безжизненные глаза змеи.
В руке Генрих держал великолепный золотой кубок, украшенный рубинами. Он отпил глоток, потом неспешно поставил кубок на подлокотник кресла.
– Я привык, что люди преклоняют колено, представ передо мной. – Голос его звучал ровно, латынь была безукоризненной.
– Ну, мы не всегда получаем то, к чему привыкли, разве не так?
Тонкие губы императора скривились в усмешке.
– Я могу заставить тебя опуститься на колени.
– Нет, – отрезал Ричард, улыбнувшись в ответ. – Ты – не можешь.
Он особо выделил местоимение, чтобы никто не истолковал ошибочно смысл сказанного им. У Филиппа от подобного оскорбления кровь прилила бы к голове. Генрих даже не пошевелился, и Ричарду припомнилась язвительная насмешка матери, утверждавшая, что у этого Гогенштауфена в жилах течет лед.
Молчание нарушил Леопольд:
– Не перейти ли нам к делу?
Выказанное им нетерпение дало Ричарду понять, что герцогу не по душе находиться тут. А еще, что Леопольд верит в свою возможность воздействовать на Генриха, и Ричард пришел к выводу, что Бабенберг еще больший дурак, чем это казалось поначалу.
– Разумеется, кузен. – Генрих снова улыбнулся. Такой ледяной улыбки Львиное Сердце не видел ни у одного человека. – Можешь лично зачитать английскому королю условия.
Леопольду все это совершенно не нравилось. Когда один из императорских писцов вручил ему пергаментный свиток, герцог принял его неохотно. Развернул, пробежал глазами, потом снова посмотрел на Ричарда.
– Император Священной Римской империи и я договорились в февральские иды в Вюрцбурге о том, что я передаю тебя, короля английского, на его попечение. Император будет содержать тебя по своему усмотрению до тех пор, пока не будет уплачен выкуп в размере ста тысяч серебряных марок. Половина из оных…
– Да ты шутишь?! – Ричард был ошеломлен. Такой запрос превосходил даже самые худшие его опасения. Сто тысяч серебряных марок в два раза превышали сумму годовых податей, собираемых с Англии и Нормандии.
– Могу я продолжить? – Леопольд нахмурился. – Как я уже сказал, тебе предстоит заплатить сто тысяч марок. Половина этой суммы станет приданым твоей племянницы герцогини Бретонской, которая на Михайлов день в этом году сочетается браком с моим сыном Фридрихом. Оставшиеся пятьдесят тысяч должны быть уплачены к началу Великого поста следующего года, и будут поделены между императором и мной.
Герцог оторвал глаза от документа и с вызовом посмотрел на Ричарда:
– Ты также выдашь императору двести знатных заложников в обеспечение исполнения условий настоящего соглашения. Император, в свою очередь, выдает двести заложников мне как гарантию того, что в случае его смерти прежде истечения данного договора ты будешь возвращен в мои руки. Если умру я, вместо меня будет выступать мой сын. Если умрешь ты, находясь во власти императора, твои двести заложников будут отпущены.
Решив, что Ричард собирается возражать, Леопольд вскинул руку.
– Это еще не все. Тебе следует освободить моего кузена Исаака Комнина и вернуть ему его дочь Анну. Кроме этого ты должен оснастить пятьдесят боевых галер и выставить сто рыцарей, а также лично во главе еще сотни рыцарей сражаться на стороне императора в войне против человека, узурпировавшего сицилийский трон.
Леопольд сделал паузу, как бы смакуя пункт, который он собирался огласить следующим.
– Существует еще одно условие твоего освобождения. Император будет удерживать твоих заложников до тех пор, пока ты не убедишь папу отменить интердикт, в случае если я несправедливо буду предан анафеме за взятие тебя в плен.
Это был один из немногих в жизни Ричарда случаев, когда он напрочь лишился дара речи. Он воззрился на герцога и императора и думал, что угодил в лапы к сумасшедшим. Сумма в сто тысяч марок была такой огромной, что не шла ни в какие рамки. И они решили, что весь мир будет одурачен, если обозвать эти деньги приданым, а не выкупом? Требование лично помочь в свержении его союзника Танкреда было в высшей степени мстительным и ставило короля английского вровень с каким-нибудь германским вассалом Генриха. Прочие условия возмущали ничуть не меньше. Выдать на милость Генриха двести заложников и просватать племянницу замуж за сына Леопольда? Освободить этого сукиного сына Исаака Комнина и вернуть ему Анну? Ходатайствовать перед папой за человека, который его схватил?
– Я полагаю, что вы оба спятили. Я никогда не соглашусь ни на один из этих пунктов. Никогда!
Леопольд покраснел от гнева, но Генрих продолжал спокойно потягивать вино.
– А я думаю, что согласишься, – произнес он с очередной ледяной улыбкой. – Видишь ли, если ты не согласишься, то лишишься для меня всякой ценности, и у меня не будет причины оставлять тебя в живых.
Блеф был разыгран убедительно. Но Ричард знал, что это блеф, потому как понимал, что эти алчные сумасшедшие его не убьют. По крайне мере, пока рассчитывают опустошить английские сундуки не хуже берберских пиратов.
– Ну, значит мы в тупике, потому как я скорее умру, чем соглашусь на эти условия.
Его упорство ничуть не вывело Генриха из себя.
– Даю тебе время поразмыслить. – Он сделал знак стражам, которые снова обступили Ричарда.
Осознав, что его отсылают прочь, как какого-нибудь слугу, король ощутил ярость столь мощную, что перед ней отступило на второй план все остальное. Никогда в жизни ему так не хотелось иметь под рукой меч. Но караульным он сопротивляться не стал, не желая тешить Генриха. Император смотрел, как эскорт направился к двери, выждал, когда та откроется, и только потом сказал:
– Есть еще кое-что. Суд над тобой начнется завтра.
Глава X Шпейер, Германия
Март 1193 г.
Ричарда разместили в доме каноников при большом соборе, потому как Генрих постановил, что суд состоится в большом зале дворца епископа Шпейерского. Король ждал возвращения Хадмара и беспокойно расхаживал по комнате, а австрийские стражи старались обеспечить хоть какую-то свободу, расположившись в углу. Ричард ощущал их сочувствие, но понимал, что ему предстоит столкнуться с куда более враждебной аудиторией, когда начнется императорский сейм – Хадмар успел его предупредить, что завтрашний сейм будет мало похож на обычное собрание германских князей. Поскольку половина из них находится в состоянии мятежа против Генриха, их места будут пустовать. Среди участников будут австрийский герцог, его брат, герцог Медлингский, и сын. Присутствуют и ближайшие родичи Генриха: его дядя, граф Рейнского палатината, два брата: Конрад, герцог Швабский, и Отто, граф Бургундского палатината. Хадмар сказал, что в большом зале были архиепископ Трирский, а также епископы Шпейера, Вормса, Пассау, Фрейзина и Цейтца. Здесь же будут имперские министериалы, возглавляемые маршалом Генриха Хайнцем фон Кальденом, и его сенешаль Марквард фон Аннвейлер, наряду с клириками. Приехали послы от французского короля и Бонифация д’Алерамичи, маркиза Монферратского – младшего брата человека, в убийстве которого обвиняли Ричарда.
Ричарду казалось совершенно несуразным, что ему придется предстать перед судом по обвинению в предательстве Святой земли. Казалось, что до прихода Хадмара прошла целая вечность.
– Теперь они готовы к суду над тобой, – мрачно объявил рыцарь. – Ты не останешься совсем без друзей, потому как император разрешил присутствовать на сейме епископам Солсберийскому и Батскому, Уильяму де Сен-Мер-Эглизу и аббатам.
Присутствие тут епископа Батского оказалось для Ричарда неожиданностью, и не самой приятной, поскольку этому прелату он не слишком доверял.
– Но им ведь не дадут права голоса, не так ли?
Хадмар глянул на стражей и понизил голос, хотя и знал, что его подчиненные не знают латыни.
– Могу я дать тебе один совет?
– Лучше бы ты дал мне быструю лошадь и время оторваться, – отозвался Ричард с невеселой улыбкой. – Но и совет я тоже приму.
– Я думаю, тебе следует преклонить колени перед императором.
– Да я скорее иголку себе в глаз воткну!
Хадмар ожидал подобной реакции и вскинул руку:
– Хотя бы выслушай меня. После того как отец императора Генриха утонул по пути в Святую землю, большая часть немецкой армии сгинула от заразы, вспыхнувшей в Антиохии. Фридрих, брат Генриха, кое-как довел уцелевших до осадного лагеря под Акрой, но тут сам умер от лихорадки. Понимаю, тебе это все известно, но не перебивай. Когда несколько месяцев спустя прибыл герцог Леопольд с австрийским войском, он, как крупный вассал императора, принял немцев под свою руку. Поэтому, так позорно обойдясь с его знаменем, ты оскорбил не только австрийцев, но и немцев. Многие из тех, кто соберутся завтра в зале, считают, что ты поставил под сомнение отвагу герцога Леопольда и выразил презрение ко всем людям германской крови.
– Но это же бред! Я никогда не обвинял Леопольда в трусости, а только в превышении своих полномочий. А сыновья и дочь моей сестры наполовину немцы, и я их очень люблю.
– И тем не менее многие верят в это, и тебе предстоит убеждать их в обратном. Самым правильным для тебя будет выказать уважение к рангу Генриха, если уж не к нему самому.
– Даже если я смогу доказать им, что не питаю к германцам ненависти, неужели ты в самом деле думаешь, что это изменит их вердикт?
Ричард знал, что Хадмар старается быть честным на свой лад. Не обманул он его и теперь.
– Нет, едва ли, – сказал министериал. – Но уж точно не повредит.
И не говоря больше ни слова, рыцарь знаком дал своим людям понять, что пришло время сопроводить английского короля на встречу с его обвинителями.
* * *
Епископ Солсберийский бдительно следил за дверью, и едва появились ведущие Ричарда стражники, вскочил и бросился к ним. Караульные замялись, неуверенные, можно ли допускать кого-нибудь до пленника, но Хадмар сказал им что-то по-немецки и они расступились. Губерт надеялся предупредить Ричарда, но опоздал. Король оглядывал зал, его взор пробегал по людям, сидящим на выстроенных рядами скамьях внизу и на помосте. Резкий вздох, вырвавшийся у него, подсказал Губерту, что Ричард заметил того, кто расположился слева от Генриха.
– Прости, государь, – тихо сказал прелат. – Мы только сегодня утром узнали, что Бове приехал, иначе как-нибудь дали бы тебе знать.
Ричард смотрел на французского церковника с ненавистью, которую даже не пытался скрыть.
– Может, оно и к лучшему, – сказал он наконец. – Едва ли разумно обзывать Генриха лжецом перед лицом его императорского сейма, а вот вывести на чистую воду Бове мне никто не помешает.
Губерт с облегчением выдохнул. Первый взгляд на Ричарда породил в нем беспокойство: темные круги под глазами говорили о бессонной ночи. Теперь же он видел перед собой своего прежнего короля: уверенного и собранного, способного выбирать стратегию согласно меняющимся обстоятельствам. Таким он был на поле боя, и епископу подумалось, что никогда ему не предстояло битвы такой тяжелой, как в это мартовское утро понедельника на страстной неделе.
В зале началось шевеление – это французские послы поднялись и, поклонившись императору, двинулись Ричарду на перехват. Король знал одного из них, Дрюона де Мелло, который был в составе французского войска в Святой земле. К этому пожилому лорду Ричард относился хорошо, видел в нем порядочного человека, которого его государь заставляет выполнять поручения против его воли. И действительно, вид у Дрюона был не радостный.
– Милорд Ричард, – начал француз после очередного вежливого поклона. – Мы привезли тебе это от нашего господина, короля французов.
Ричард принял пергамент, сломал печать и прочел. Подняв глаза, он заметил, что двое послов смотрят на него с вызовом, но Дрюон прячет взгляд. Не говоря ни слова, король передал письмо Губерту Вальтеру. И мрачно улыбнулся, когда у епископа вырвалось гневное восклицание. Снова взяв пергамент, он скатал его в свиток и сунул за пояс, а затем, помня что все взоры устремлены на него, гордо вскинул в голову, твердо решив не выказывать беспокойства.
Мужчина, которого Хадмар представил как епископа Шпейерского, встал и начал говорить. Когда он закончил тираду, Хадмар негромко сообщил:
– Епископ говорит, что им удалось найти некоего человека, знающего французский, чтобы ты мог понять, какие против тебя выдвигаются обвинения. Этот же человек станет переводить твои ответы на немецкий.
– Как великодушно. Передай, что в этом нет необходимости. Я предпочитаю, чтобы переводил ты. А отвечать я буду на латыни, не на французском.
Хадмар понимал, к чему клонит Ричард: король не доверяет толмачу, предоставленному Генрихом. Но выступив вперед и обращаясь к суду, министериал представил желание обвиняемого говорить на латыни с выгодной стороны, заявив, что английский король осведомлен о большом числе присутствующих в зале людей, знающих этот язык. После краткого обмена репликами с епископом рыцарь повернулся к королю:
– Они согласились с твоими требованиями.
– Моими требованиями? – Ричард иронично вскинул брови, выказывая восхищение тактом Хадмара.
Но тот подтолкнул короля, а епископ сделал знак писцу начинать. До этого зал гудел, но как только писец принялся вслух зачитывать предъявляемые английскому государю обвинения, повисла тишина.
Хадмар слушал внимательно и ждал паузы, чтобы переводить.
– Там сказано, что нет сомнений в воле Всевышнего наказать тебя за преступления, иначе ты не оказался бы во власти герцога Леопольда. Перечислен ряд обвинений, включая твое обращение с родичем герцога Исааком Комнином, твою жажду наживы и заносчивое поведение в Святой земле. Но самые серьезное из них – это твой союз с узурпатором Сицилийского королевства, соучастие в убийстве Конрада Монферратского и предательский сговор с сарацинским султаном Египта Саладином.
Это Ричард и ожидал услышать, поэтому кивком дал клерку Генриха знак продолжать. Следующая тирада писца получилась длинной, он несколько раз указывал на епископа Бове. Публика слушала, напряженно подавшись вперед и переводя взгляды с Ричарда на Бонифация Монферратского. Приятной наружности светловолосый мужчина лет тридцати с чем-то, Бонифаций был поразительно похож на покойного брата, поэтому Ричарду не потребовалась высказанная шепотом подсказка Хадмара.
– Тебя обвиняют, что ты признал Танкреда Сицилийского королем, прекрасно зная, что по праву кровного родства корона принадлежит супруге императора, императрице Констанции. – Хадмар старался переводить как можно подробнее, но Ричард нетерпеливо отмахнулся, торопясь узнать насчет Конрада.
– Тебя это не сильно обрадует, – предупредил рыцарь. – Сказано, что ты был заклятым врагом Конрада и делал все возможное, чтобы не дать ему стать королем Иерусалимским. А когда понял, что проиграл и его изберут вопреки твоим усилиям, нанял сарацинскую секту, называемую ассасинами, чтобы те закололи Конрада, когда тот будет проезжать по улицам Тира. После покушения один из ассасинов был убит, но другой попал в плен и признался епископу Бове и герцогу Бургундскому, что убийство было совершено по твоему заказу.
Ричард чувствовал, как его гнев начинает закипать, тлеющие угли разгораются в яркое пламя, но старался сдержать его, понимая, что ярость лишает человека осторожности. Он покачал головой, ничего не говоря. Ему припомнилось, как беспечно отмахнулся он тогда от обвинений Бове и Бургундца, наивно полагая, что в этот вздор никто не поверит.
Писец продолжал перечислять обвинения. Самое серьезное он приберег напоследок. Оно гласило, что Ричард предал своих собратьев-христиан ради безбожного, мерзкого союза с язычниками.
– Епископ Бове утверждает, что с самого дня твоего прибытия в Святую землю ты выказывал стремление к сговору с сарацинами. Сразу же затеял переговоры с Саладином. Вы с ним обменивались подарками и любезностями, как если бы ты имел дело с другим христианским государем. Ты множество раз встречался с братом султана, а однажды даже пировал в его шатре. Ты подружился с иными из эмиров Саладина и с мамлюками. Даже дерзнул возвести в рыцарское звание некоторых из них. И ты раз за разом отказывался осаждать Иерусалим. Как бы тебя ни умоляли, ты оставался тверд и сумел убедить тамошних христиан и тамплиеров в правоте своих еретических взглядов, что, мол, Иерусалим нельзя взять. Затем выяснилось, что ты состоял в тайном сговоре с Саладином, замышляя сдаться, уступить крепость Аскалон неверным и оставить Святую землю на поругание сим сынам погибели – это грех столь тяжкий, что за него ты наверняка будешь гореть в самом жарком адском пламени.
– Теперь мой черед? – спросил Ричард.
Когда Хадмар кивнул, король решительно выступил на середину зала. Тишина повисла полная, даже зловещая.
– Я родился в ранге, который делает меня ответственным лишь пред лицом всемогущего Господа. Но я не боюсь и суда людского, а выдвинутые против меня обвинения настолько ничтожны и лживы, что я с радостью воспользуюсь возможностью развенчать их. Будь человек императором, королем или рыцарем, собственная честь дорога ему в своих собственных глазах, потому как это его наследие, по которому он будет памятен потомкам. – Ричард сделал паузу и обратил взор на помост. – Поэтому когда я закончу, то, быть может, преславный император римлян захочет развеять гнусную молву, обличающую его в убийстве епископа Льежского.
Захваченный врасплох, Генрих оказался вовсе не таким невозмутимым, каким его многие считали, потому как пальцы его впились в подлокотники кресла, а лицо хоть и оставалось неподвижным, совершенно побелело. Когда их взгляды скрестились, Ричард испытал горячую волну удовольствия. Он знал, что Гогенштауфен не простит его за это, но ему было все равно. Если уж его корабль и пойдет ко дну, то, черт побери, он утонет с прибитым к мачте флагом. А еще он приободрился, когда обвел взглядом зал и заметил улыбки – улыбки эти быстро исчезали, но они были. Выходит, это тщательно подобранное собрание не так уж предано Генриху, как тот рассчитывал – даже в его числе есть люди, сомневающиеся в невиновности императора.
– Я отвечу на обвинения в том порядке, в каком они были высказаны. Прибыв на Сицилию, я обнаружил, что моя сестра, королева Джоанна, томится в Палермо по приказу короля Танкреда, захватившего ее вдовью долю. Я вызволил сестру, а затем договорился с Танкредом. Тот обязался уплатить мне двадцать тысяч унций золота как компенсацию за утрату вдовьей доли, и еще двадцать тысяч унций, которые король Вильгельм обещал вложить в войну против Саладина. Поэтому признаю, что я заключил договор с королем Танкредом, поскольку не видел иного пути получить деньги, причитающиеся моей сестре, а также вклад Вильгельма. Гнев императора мне вполне понятен. Но здесь нет никакого злого умысла. Я, скажем, совсем не обрадовался, узнав, что французский король и император встретились в Милане и вступили в союз, направленный, как известно, против меня. И тем не менее, я не ставлю под вопрос право императора заключать подобный пакт. Так и у него нет основания оспаривать мое право вести по своему усмотрению дела с королем Сицилии. Таков ход государственных дел, таковы прерогативы королей.
Ричард снова сделал паузу. Его слушали напряженно, но трудно было сказать, находят ли его слова отклик.
– Я удивлен, что мне приходится оправдывать свои действия в отношении узурпатора Исаака Комнина, поскольку я всего лишь мстил за причиненные моим людям обиды и попутно смог избавить киприотов от гнета тирана. Когда мы отплыли из Мессины в Святую землю, свирепая буря разметала наш флот, и несколько кораблей прибило к берегам Кипра, включая судно, на котором находились моя невеста Беренгария Наваррская и моя сестра, королева Джоанна. Исаак заточил в темницу тех, кто спасся при кораблекрушении и пытался угрозами заставить женщин сойти на землю, чтобы обратить их в заложниц. Господь свидетель, я прибыл как раз вовремя, чтобы спасти их из его лап. Разумеется, я пожелал наказать его за такие возмутительные действия. Найдется ли в этом зале человек, который на моем месте поступил бы иначе? Когда позднее Исаак запросил мира, я согласился, но вместо того, чтобы следовать условиям договора, он сбежал в ночи. Поэтому я сместил этого двоедушного злого человека и не жалею об этом, потому как он не позволял христианским кораблям заходить в кипрские порты и был уличен в связях с Саладином.
Тут Ричард повернулся к Леопольду, занимавшему почетное место на помосте.
– Если герцог Австрийский оскорблен моими действиями против его родича, мне остается лишь напомнить, что у всех нас есть родственники, которыми сложно гордиться. Если не сказать больше. Теперь об оскорблении, нанесенном мною герцогу при осаде Акры, когда я приказал сбросить его знамя. Первоначальная вина тут на нем, но признаю, что я обращался к нему чересчур резко, и это привело в результате к его уходу из Акры, а мы едва ли могли допустить потерю такого могучего воина. Впрочем, он вполне отомстил за свою обиду, задержав и пленив меня.
Леопольд не выглядел как человек вполне отмщенный: губы его были плотно сжаты, щеки побагровели, а стиснутые кулаки прижаты к бокам. Ричарда вид австрийца обнадежил – он решил, что его доводы прозвучали веско.
– Не имел я и намерения обогатиться за счет других, совсем напротив. Когда король Танкред согласился уплатить сорок тысяч унций золота, французский монарх заявил права на половину этой суммы, ссылаясь на договоренность делить всю взятую во время похода добычу поровну. Я согласился отдать ему треть, хотя едва ли Филипп мог претендовать на вдовью долю моей сестры. Но я пошел на это в стремлении сохранить мир между нами. Затем, захватив в Утремере богатый сарацинский караван, я сполна отдал французам треть денег и скота, потому что то была их доля за участие в набеге, а остальное разделил между своими солдатами. Не обогатился я лично и от завоевания Кипра. Я продал его тамплиерам, чтобы у нас была база для действий в Святой земле. А когда тамплиеры сочли, что остров им больше не нужен, я устроил его передачу Ги де Лузиньяну, королю Иерусалимскому. Тамплиеры заплатили всего сорок тысяч безантов и до сих пор должны шестьдесят тысяч. Я сказал Ги, что если он возместит храмовникам их взнос, я не стану требовать с него оставшиеся шестьдесят тысяч. Я сделал это, чтобы Ги и его родичи Лузиньяны убрались из Утремера, и тем самым расчистил дорогу Конраду, маркизу Монферратскому, к Иерусалимскому трону.
В зале стало еще тише – если это было вообще возможно. Привычные в большом собрании людей звуки: шорох ног, покашливание, шепот, отсутствовали. Ричард впервые за время речи посмотрел на Бонифация Монферратского. Тот сидел, откинувшись на спинку стула, сложив на груди руки. Но обманчивость расслабленной позы выдавали прищуренные глаза и желваки на скулах.
– Признаю, что приязни между мной и Конрадом не водилось. Но наши противоречия были политическими, а не личными. Я не верил, что у него есть право получить иерусалимский трон, потому что считал сомнительными обстоятельства его брака. Для тех из вас, кто не сведущ в жестоком соперничестве за власть в Святой земле, я поясню. Претензия на престол Ги де Лузиньяна основывалась на его женитьбе на королеве Иерусалимской Сибилле. Когда Сибилла умерла во время осады Акры, Ги оказался в двусмысленном положении. Он утверждал, что будучи законным образом коронован и помазан елеем, должен продолжать править. Но многие винили его в катастрофе, постигшей государство в битве под Хаттином, результатом которой стало взятие Саладином Священного города. Поэтому лишь немногие из пуленов, то есть урожденных в Утремере христиан, соглашались видеть его своим королем.
Ричард с трудом сглотнул – в горле у него пересохло.
– Я поддерживал Ги по двум причинам. Лузиньяны являлись моими вассалами в Пуату, поэтому я обязан был помогать им как феодальный сеньор. И я был озабочен мерами, которые предпринимал Конрад в погоне за короной. После смерти Сибиллы самой очевидной наследницей стала ее младшая сестра Изабелла. Но Изабелла пребывала замужем за человеком еще менее популярным, нежели Ги. Конрад убедил знатных пуленов, что Изабелле следует развестись с мужем, Хамфри де Тороном, и выйти за него. Хотя Изабелла возражала, не желая расторгать брак, ее заставили сделать это – она ведь была юной девушкой восемнадцати лет от роду и не имела союзников. Меня в то время в Святой земле еще не было, но архиепископ Кентерберийский находился под Акрой и ожесточенно возражал против этого брака, объявив его незаконным и греховным. Если бы прелат не умер от лихорадки, он, думаю, настоял бы на своем. Но едва он скончался, Изабеллу выдали за Конрада. Одним из главных зачинщиков этого некрасивого предприятия был епископ Бове, человек, который никогда не позволяет каноническому праву или принципам вставать на пути собственных выгод.
Французский прелат сидел, развалившись в кресле и изображая скуку, но при этих словах распрямился и впился глазами в Ричарда, который подчеркнуто не замечал его.
– Вот почему я не поддерживал Конрада – потому что он добыл право на престол злым делом. Когда под Акрой мы попытались примирить Ги и Конрада, предложенный компромисс никого не устроил. Конрад был настолько недоволен, что даже отказался принимать участие в войне против Саладина и удалился в Тир.
Ричард приостановился, чтобы дать Хадмару перевести его слова на немецкий для тех, кто не понимал латыни.
– Со временем я перестал противодействовать Конраду, осознав, что не нам, кто вскоре вернется в собственные земли, следует избирать короля для Утремера. Мы-то уедем домой, но для пуленов Святая земля это и есть их дом, а следовательно, выбор за ними. Ведь расхлебывать последствия этого выбора предстоит им, не нам. Поэтому я объявил, что приму любое их решение, и пуленские лорды единогласно проголосовали за Конрада. Именно тогда я решил удалить Ги как угрозу для правления Конрада, а тем временем послал своего племянника Генриха в Тир, известить Конрада, что он стал королем. Маркиз страшно обрадовался и тут же отрядил Генриха в Акру готовиться к коронации. Но ей не суждено было состояться.
Бонифаций Монферратский тоже восседал на помосте, и епископ Бове склонился к нему, шепча что-то на ухо, но Бонифаций не обращал на него внимания, не отрывая глаз от английского короля. Лицо его было непроницаемым, и Ричард понятия не имел, что у него на уме.
– Несколько дней спустя Конрад отправился пообедать к епископу Бове. На обратном пути его подстерегли два ассасина, посланных Рашид ад-Дин Синаном, известным как Старец Горы. Умирающего маркиза перенесли в цитадель, где он дал Изабелле наказ передать Тир только мне или законному государю страны. Поступил бы он так, если бы верил, что ассасинов на него подослал я? Конрад не питал ко мне симпатии, но знал, что я не способен на такой низкий поступок.
Выступая, Ричард прохаживался по залу. Теперь он подошел к помосту и посмотрел брату Конрада прямо в глаза.
– Подобное обвинение совершенно противоречит моему характеру. Даже злейшие из моих врагов никогда не упрекали меня в трусости, а что может быть трусливее, чем подослать к человеку убийц из-за угла? Если бы я желал кому-то смерти, то открыто вызвал бы его, как вызову любого, кто посмеет обвинить меня в подлом убийстве. Если был бы волен поступать так.
Впервые за все время Ричард добился ответа от аудитории – он видел, как некоторые головы закивали, как бы в знак согласия.
– Плененного ассасина передали епископу Бове, который показал под пыткой, что это я послал его убить Конрада. Но это наглая ложь. В конечном счете, ассасины это вам не рутье, готовые продавать свой клинок тому, кто больше заплатит. Любой, наслышанный о Святой земле, знает это. Но все это не имело никакого значения для епископа Бове, который увидел шанс запятнать мою репутацию и сразу ухватился за него.
Лицо у прелата побагровело. Он хотел было подняться и заговорить, но Генрих покачал головой, и француз снова сел, одарив Ричарда взглядом, полным убийственной ненависти.
Король ожидал, что его оборвут или зашикают, но у императорского сейма явно не было твердого регламента, поэтому обвиняемого слушали в вежливом молчании. Теперь, однако, реплика Бонифация вызвала в зале удивленный шум.
– Так ты утверждаешь, что епископ Бове солгал? – спросил он.
– Епископ Бове обращается с правдой, как другие мужчины обращаются со шлюхами, – ответил Ричард, и среди слушателей раздались смешки, вскоре стихшие. – Я готов поклясться своей честью, что не имею никакого отношения к убийству твоего брата, милорд маркиз. Но смею предположить, что многие в этом зале убеждены в том, что у меня нет чести, потому как наш добрый епископ прославил меня вдоль и поперек всего христианского мира, виня во всех грехах, кроме Великого потопа. Тем, кто вдоволь наглотался яда, приготовленного прелатом, я могу только сказать, что люди не поступают вопреки собственным интересам. Уверен, многим из вас ведомо, что в момент убийства Конрада мне угрожала опасность лишиться своего королевства, потому как французский король вступил в сговор с моим братом графом Мортенским. Чем дольше оставался я в Святой земле, тем больше времени у них было прибрать к рукам мои домены. Охотно повинюсь, я отчаянно хотел поскорее вернуться, чтобы защитить свою страну. Но я не мог нарушить данную Всевышнему клятву не покидать Святую землю, как это сделал французский монарх. Я надеялся, что как только Конрад станет королем, я спокойно смогу передать Утремер в его руки, так как признавал в нем талант военачальника.
Бонифаций долго в молчании смотрел на Львиное Сердце, храня непроницаемое выражение лица.
– Если не ты в ответе за смерть моего брата, тогда кто?
– Могу только передать то, что слышал от Балиана д’Ибелина, отчима королевы Изабеллы, и других лордов-пуленов. Твой брат был человек великой отваги и больших способностей. Но одновременно с этим был беспечен, своенравен и упрям. Я ему это не в укор говорю, – тут Ричард вдруг улыбнулся, – потому как эти качества частенько упоминаются вкупе с моим собственным именем. Но боюсь, что они могли стоить Конраду жизни. Он захватил торговый корабль, принадлежавший Рашид ад-дин Синану и отклонил все требования Старца Горы вернуть назад судно, его команду и груз. Балиан говорит, что предупреждал Конрада, как опасно задевать ассасинов – даже Саладин пошел на попятный, когда Рашид ад-дин Синан пригрозил зарезать его семью. Конрад же только рассмеялся…
Бонифаций ничего не ответил, но Ричард рискнул предположить, что ему удалось убедить брата Конрада в своей невиновности. По крайней мере, посеять семена сомнения там, где произрастала убежденность. Голос у короля охрип – никогда прежде не доводилось ему говорить так долго и так страстно. Он был приятно удивлен, когда вдруг появился слуга и подал ему кубок с вином.
– Danke schön[12], — поблагодарил его Ричард, воспользовавшись своим скромным запасом немецких слов, и сделал щедрый глоток, не зная кого благодарить за вино. Удаляясь, слуга кивнул мужчине в первом ряду, совершенно незнакомому Ричарду.
– Из всех презренных клевет, что распространяют обо мне, самая возмутительная и бесстыдная это та, что я предал Святую землю. Я был одним из первых правителей, принявших крест. У меня на теле рубец от болта, выпущенного из сарацинского арбалета. Я едва не умер под Акрой, а затем под Яффой от губительной лихорадки, бесчинствующей в Утремере. Даже узнав, что мое собственное королевство в опасности, я не нарушил данный мной обет и остался. А за обвинениями в мой адрес стоит человек, который не остался. Я знаю это, потому что следы всей этой травли ведут в Париж.
Чувствуя, как ярость снова разгорается в нем, Ричард стал расхаживать по залу.
– Я искал встречи с Саладином после прибытия в осадный лагерь под Акрой, потому как знал, что наша единственная надежда вернуть Иерусалим заключается в соглашении сторон. Королевство Иерусалимское похоже на остров посреди Сарацинского моря. Христиан там намного меньше, чем мусульман – в сражении при Хаттине Ги де Лузиньян смог собрать всего тысячу двести рыцарей. Разумеется, я обменивался с Саладином подарками и любезностями, потому что так полагается поступать храбрым людям, имеющим дело с достойным противником. Не кто иной, как отец императора Генриха, благословенной памяти Фридрих, тоже обменивался с Саладином подарками, но никому не приходит в голову осуждать великого государя за это.
Король снова сделал паузу, чтобы Хадмар перевел, а также сделал несколько глубоких вдохов, чтобы унять гнев.
– Уважаю ли я сарацин? Да, потому что храбрецы заслуживают уважения. Я установил дружеские отношения с братом Саладина, аль-Малик аль-Адилом, и некоторыми другими эмирами в расчете на то, что они побудят султана заключить мир. Но я никогда не забывал, что они враги и неверные, пусть многие из них были людьми порядочными. Верно и то, что я отказался осадить Иерусалим, так как понимал, что его невозможно взять. Во время нашего марша вдоль побережья из Акры к Яффе мой флот снабжал армию. Но Священный город находится в двадцати пяти милях от побережья. Саладин без труда перерезал бы наши линии снабжения, мы лишились бы даже возможности заменить павших лошадей. Стены Иерусалима имеют больше двух миль в окружности, охватывая территорию в двести с лишним акров. У нас не хватало воинов, чтобы окружить город, а стало быть, мы не могли рассчитывать взять его измором. Лорды-пулены, тамплиеры и госпитальеры признавали, что нам не взять крепость. Все понимали это. Все, кроме французов. Даже когда стало известно, что Саладин отравил все колодцы и цистерны в пределах двух лиг от Иерусалима, епископ Бове и герцог Бургундский утверждали, что мы не можем проиграть, потому что это священная война, одобренная Господом. Но Бог был на стороне христиан и под Хаттином, однако они все равно проиграли. Всевышний ожидает, что и мы тоже поможем ему. И я не сдавался Саладину. Путем переговоров мы пришли к соглашению, заключив перемирие на три года. Мы не достигли всего, на что надеялись, я этого не отрицаю. Но ко времени моего прибытия в Святую землю королевство Иерусалимское состояло из города Тира и осадного лагеря под Акрой, все остальное было отдано Саладину. К моменту моего отъезда королевство протянулось по побережью от Тира до Яффы, султан больше не удерживал Аскалон, а христианские паломники снова смогли свободно посещать Иерусалим и поклоняться Гробу Господню.
Ричард снова приблизился к помосту:
– Милорд император, тебя ввели в заблуждение. Ты поверил тому, что тебе сказали твои французские союзники, но они лгали и продолжают лгать. Позволь поведать тебе о людях, которых ты считаешь достойными своего доверия. Я не нарушил данного мной священного обета и не покинул войну с сарацинами. Это сделал французский король. Мне больно говорить это, поскольку Филипп мой феодальный сеньор за Нормандию и другие земли по эту сторону Узкого моря. Но я знал, что не могу доверять ему, и поэтому заставил на святых мощах поклясться, что он будет уважать гарантию безопасности, данную церковью тем, кто принял крест, и не покусится на мои владения, пока я пребываю в Святой земле. Он крайне неохотно согласился на это, а затем обратился к папе Целестину с просьбой разрешить его от клятвы, что святой отец, естественно, отказался сделать.
Ричард в первый раз, пусть и обтекаемо, коснулся того факта, что его удерживают против церковных законов, поскольку он не видел смысла указывать на очевидное. Однако не повредит напомнить сейму, что в этом смысле Генрих не менее виновен, чем Филипп.
– Это не помешало Филиппу, после его возвращения во Францию, строить козни против меня вместе с моим братом, – продолжил король. – И я убежден, что он наказал французским лордам, оставшимся в Утремере, мешать мне на каждом шагу. Другого объяснения их поведению у меня нет. Я собирался нанести удар по базе Саладина в Египте, источнике его могущества. Поняв, что Египет под угрозой, султан непременно согласился бы на более выгодные для нас условия договора. Французы отказались даже рассмотреть эту идею. Когда после нашей победы при Арсуфе мы узнали, что Саладин приказал срыть крепость Аскалон, чтобы не дать ей попасть в наши руки, я намеревался отплыть в Аскалон и захватить его прежде, чем стены разрушат. И снова французские лорды воспротивились. Затем я занял развалины Аскалона и потратил целое состояние, отстраивая твердыню. У меня сердце кровью облилось, когда нам не удалось убедить султана оставить крепость в руках христиан. Но он согласился, что она не будет и сарацинской, а это уже немалая уступка с его стороны, потому как Аскалон был самым неприступным из его замков. И вот теперь меня обвиняют в оставлении Аскалона именно те, кто помешал мне его взять! Но их коварство и подлость на этом не заканчиваются. Когда было решено, что на Иерусалим мы не пойдем, большинство французов покинули армию и удалились в Тир, где измыслили план захватить Акру. Я в тот момент находился в Аскалоне и лишь благодаря пизанцам, которые с оружием в руках отстаивали город до моего прибытия, Акра избежала перехода в руки французов. Вы только подумайте об этом: они хотели развязать войну против собратьев-христиан. Как порадовало бы это сарацин!
Ричард вернулся к помосту и нацелил указующий перст на епископа Бове.
– Этот человек во все время нашего пребывания в Святой земле мешал мне как мог, а затем чернил мое имя по всему христианскому миру. Но и это не самое страшное из его преступлений. В Писании сказано, что нам следует прощать согрешивших против нас, ибо тогда и мы будем прощены небесным отцом нашим. Но я никогда не смогу простить Филиппа де Дре, епископа Бове, за отказ помочь нам спасти тех, кто оказался в ловушке в Яффе!
Ричард обвел взглядом зал, затем снова повернулся к сидящим на помосте:
– Смею предположить, все вы слышали про две битвы, данные мной при Яффе. Но вам едва ли известно о предательстве со стороны тех, кто считались моими союзниками. Мы вернулись к Акре, и я замышлял поход на Бейрут – единственный оставшийся у Саладина порт, когда пришел крик о помощи из Яффы. Султан неожиданно напал на город, и гарнизон не знал, как долго еще сможет продержаться. В Яффе обитало четыре с лишним тысячи человек, по большей части оправляющиеся от ран воины, и изрядное их количество составляли французы. Но когда мы известили епископа Бове и герцога Бургундского о нависшей над Яффой опасности, они отказались присоединиться к идущему на выручку войску. Ненависть ко мне оказалась для них важнее жизни собственных соотечественников! И они осмеливаются обвинять меня в предательстве собратьев-христиан, когда истинная вина целиком лежит на них!
Несколько раз в ходе речи Ричарда Бове порывался его перебить, но Генрих неизменно удерживал его. Теперь епископ снова начал было вставать, но резкий приказ императора заставил его вновь опуститься в кресло.
– В этом зале могут найтись те, кому не хочется принять сказанное мною о герцоге Бургундском и епископе Бове. Не верите мне – не надо. Сэр Дрюон де Мелло был с нами в Святой земле, и он человек честный. Спросите у него, он подтвердит мои слова.
Дрюон де Мелло вскинул голову. Его страшило стать центром внимания, и читавшееся на его лице несчастье говорило за себя красноречивее любых слов. Хадмар продолжал переводить, а когда закончил, Ричард нарочито медленно вытащил из-за пояса свернутый пергамент.
– Но если вам требуется еще одно подтверждение того, что я говорю правду, я дам вам его. Я охотно ответил бы на любые обвинения, будучи вызван на суд французского короля, являющегося моим ленным сеньором. Вот только он никогда не осмелится вызвать меня. Откуда мне это известно, спросите вы? Вот отсюда.
И он поднял свиток, чтобы все его видели. А затем продолжил:
– Филипп Капет сделал все возможное, чтобы растоптать мою честь и доброе имя, и теперь, когда я запутался в сплетенной им паутине лжи, что он предпринимает? Зная, что я не в состоянии оборонять свои владения, он объявляет войну Англии!
Ричард добился именно такой реакции, на какую рассчитывал: на лицах немецких баронов и епископов появилась гримаса изумления и отвращения.
– Впрочем, одно из выдвинутых против меня французами обвинений справедливо. Они заявляют, что моя война закончилась неудачей, и это правда. Я объяснил, почему счел, что мы не сможем отбить Священный город. И все-таки цель нашего похода была именно такой. Я дал Всевышнему обет, что освобожу Иерусалим от сарацин, и не выполнил его. Но для меня священная клятва значит много больше, чем для французского короля. Поэтому я обещал королеве Изабелле и моему племяннику, а также пуленским лордам, что как только разберусь с моим подлым братцем и предателем-сеньором, я вернусь в Утремер и доведу начатое до конца.
Оглядевшись, Ричард с удовольствием отметил, что его слова нашли у слушателей отклик.
– Итак, я изложил все, как было на самом деле. – Его подмывало закончить «А теперь делайте, что хотите», но он понимал, что заносчивость – непозволительная для него сейчас роскошь, поэтому заставил себя принять примирительный тон. – Надеюсь, что мои дела перевесят лживые измышления моих врагов, и вы выкажете сегодня правосудие по отношению к человеку, который отчаянно в нем нуждается.
Когда он закончил говорить, на некоторое время воцарилось молчание, затем зал взорвался хлопками и одобрительными криками. Люди вскакивали с мест и вскоре Ричарда окружили бароны и епископы, причем у многих слезы текли из глаз. Незнакомец, приславший ему вина, представился как Адольф фон Альтена, пробст большого собора в Кельне. Адольф выказал себя человеком смелым, во всеуслышание заявив, что короля Англии гнусно оболгали. К обступившему Ричарда кольцу присоединились уже все прелаты, даже епископ Шпейерский, и королю подумалось, не желают ли они тем самым выказать императору свое недовольство нарушением церковного указа. Но тут все расступились, освобождая путь Бонифацию Монферратскому.
Маркиз подошел и встал напротив Ричарда.
– Клянешься ли ты спасением своей бессмертной души, что не участвовал в убийстве моего брата?
– Клянусь.
Бонифаций выдержал паузу, будучи, как и Ричард, склонен к драматическим эффектам.
– Я верю тебе, – произнес он наконец, и это вызвало новую бурю одобрительных возгласов.
У Ричарда голова закружилась от успеха, превосходившего самые смелые его ожидания. Крохотный контингент присутствующих в зале англичан плакал от радости, рядом с королем возник Хадмар с широкой улыбкой на губах. Но Леопольд не двинулся с места, всей своей позой выказывая разочарование и гнев. Ричард развернулся к помосту, и его примеру последовали другие. Снова воцарилась тишина, и все взгляды устремились на императора.
Эмоции находившихся рядом с Генрихом людей не составляло труда распознать. У епископа Бове вид был такой, словно он подавился собственной желчью. Дядя Генриха разделял, похоже, огорчение Леопольда, а братья императора ехидно ухмылялись у него за спиной – родовое соперничество явно оказалось сильнее семейной солидарности. А вот лицо самого Генриха казалось вырезанным из камня – столь мало на нем отражались потаенные мысли.
Когда Ричард двинулся к помосту, стояла такая тишина, что его шаги по каменным плитам пола эхом отдавались по залу. На долгий миг их с Генрихом взоры скрестились, затем король опустился перед троном на колено. По толпе прокатился звук, как если бы у всех разом перехватило дыхание, сменившийся затем громкими криками. Но стоило Генриху подняться, зал смолк.
– Нас сбили с толку лживые речи. Я вижу теперь, что английский король был оклеветан и очернен. – Протянув руку, император сделал Ричарду знак встать, а затем, торжественно и формально, дал поцелуй мира.
Сейм снова разразился радостными криками, достаточно громкими, чтобы их было слышно на городских улицах. Ричард не был одурачен бесстрастным поведением Генриха. Он находился достаточно близко, чтобы заметить затаившуюся в льдистых глазах ярость, и испытал от этого радость. Большую часть своей жизни он воспитывал в себе привычку преодолевать обстоятельства, превращая почти неизбежное поражение в невероятный триумф. Но никогда не переживал он победы такой полной и радостной, как та, которую одержал на императорском сейме в Шпейере.
Глава XI Шпейер, Германия
Март 1193 г.
Настроение в палатах царило мрачное. Большинство присутствующих оглядывались на императора, который до поры говорил очень мало. Леопольд тоже был молчалив.
– Я тебя предупреждал. Этот человек говорит так же хорошо, как воюет, – процедил он в самом начале, обращаясь к Генриху, после чего погрузился в раздумья.
Больше всех выступал брат Генриха Конрад, возмущавшийся тем, что ему выпала задача утешать взбешенного епископа Бове, но на его жалобы мало кто обращал внимание.
Графу Дитриху фон Хохштадену надоело наконец слушать нытье Конрада и он взял слово, ведя себя с уверенностью человека, близкого к императору и потому позволяющего себе подобные вольности.
– Я знаю, кто во всем виноват – Адольф фон Альтена, – заявил граф. – Адольф первый вскочил, первый начал кричать, а остальное стадо идиотов подхватило. Нельзя нам было его допускать на сейм.
Епископ Шпейерский расценил это как укол в свой адрес и быстро перешел в контратаку: Отто фон Хенненберг был не только епископом, но и князем, и не собирался терпеть выволочки от тех, кого рассматривал ниже себя по достоинству.
– У нас не было выбора. Его прислал сюда его дядя, архиепископ Кельнский, посредничать в переговорах с мятежниками, и тебе это прекрасно известно, господин граф.
– Посредничать? Скорее шпионить, – съязвил Дитрих. – И с каких это пор мы ведем переговоры с бунтовщиками? Их не увещевать, а укорачивать на голову надо.
Прежде чем епископ Отто успел ответить, поднялся дядя Генриха. За плечами у Конрада фон Гогенштауфена были многие годы навигации в весьма бурных по временам водах имперской политики, и ему достаточно было вскинуть руку, чтобы унять разгоревшиеся страсти.
– Не стоит свысока относиться к мятежу, если к нему примкнули архиепископы Кельна и Майнца. Что нам нужно, так это чтобы остальные прелаты не последовали их примеру.
На миг его взгляд остановился на графе Дитрихе, человеке, не способном к компромиссу или уступкам.
– Мне довелось слышать, как некие глупцы говорили, что императору, мол, следовало проигнорировать вердикт сейма, а не одобрять его, – продолжил Конрад. – Ничто так не помогло бы умножить ряды мятежников, как подобный неразумный шаг. Мой племянник император поступил мудро и дальновидно, и не знаю кто как, но я горд его поведением в этот день.
Тут он посмотрел на Генриха, в очередной раз удивляясь, насколько сын может уродиться непохожим на отца. Фридрих Барбаросса, брат Конрада и родитель нынешнего императора, был воплощением рыцарства, великим воином, не знающим страха в битве, проницательным, твердым, добродушным, веселым, умеющим расположить к себе даже врагов. Генрих был лишен всех этих качеств. Зато был наделен несгибаемой волей, острым умом и пугающей способностью принимать решения, отстранившись от любых эмоций. Конраду подумалось, что это последнее свойство он проявил сегодня в большом зале епископа Шпейерского. Своего племянника Конрад находил одновременно восхитительным и отталкивающим, упорным в своем стремлении оборонить и расширить владения своей империи, и при этом совершенно неспособным определить те нужды и чаяния, что движут другими людьми. И дядя не мог решить, получится в итоге из племянника великий правитель или чудовище.
К его радости однако Генриху хватило ума и силы воли признать, что английский король прижал его к стенке, и смириться с этим. Не действуй император так быстро и решительно, он, по мнению Конрада, настроил бы против себя большинство людей в зале, как тех, кто подпал под обаяние Львиного Сердца, так и просто ищущих любого предлога, чтобы примкнуть к бунтовщикам. А врагов у Генриха, благодаря жестокому и безрассудному убийству епископа Льежского, и так уже более чем достаточно. Конрад не считал, что племянник сам отдал приказ прикончить прелата. Скорее всего это сделал один из прихлебателей в стремлении угодить государю, и главным подозреваемым для него был граф Дитрих фон Хохштаден, брат одного из претендентов на епархиальный престол. Но напрямую он Генриха не спрашивал и знал, что никогда не спросит.
– Я согласен с господином графом, – твердо заявил епископ Шпейерский. – Весть о том, что английский король успешно защитил себя перед сеймом, уже разнеслась. Теперь, когда он обелил свое имя, церковь начнет требовать его освобождения. Полагаю, нам надо сделать это самим и как можно скорее, взвалив вину на французского короля и на… – он осекся, но слишком поздно.
– И на меня? – Леопольд вскочил, испепеляя епископа-князя взглядом.
– Ну, ведь это ты первым наложил руки на человека, принявшего крест.
– Потому что получил такой приказ от императора!
Епископ пожал плечами, а брат Генриха, не питавший приязни к герцогу и любящий ловить рыбку в мутной воде, тут же вступил в беседу.
– Сомневаюсь, что тебе удастся доказать это перед лицом папской курии, так что придумай оправдание получше, господин герцог, – заявил он.
Это разозлило не только Леопольда, но и всех находившихся в палатах австрийцев. А также вывело Генриха из глубокой задумчивости, и он холодно посмотрел на брата. Конрад снискал при дворе заслуженную репутацию человека грубого и неуживчивого. Впрочем, он был не дурак и никогда не шел поперек старшему брату. И в этот раз тоже свернул на попятный, а когда Леопольд потребовал извинений, принес их.
– Покончим пока на этом, – сказал Генрих, отодвигая кресло.
Все тут же встали, вежливо распрощались и потянулись к выходу. Оглянувшись через плечо, Хадмар заметил, что Генрих сидит на месте и знаками просит маршала Хайнца фон Кальдена и сенешаля Макварда фон Аннвейлера задержаться. Прикрыв за этой доверенной группой дверь, Хадмар ощутил укол беспокойства, потому как вид Генриха и этих приближенных к нему министериалов частенько порождал это чувство. Несвятая троица, так их называли. Впрочем, существовало мнение, что полностью император не доверяет никому, даже своей супруге. Бросив на закрытую дверь еще один любопытный взгляд, рыцарь поспешил за еще кипящим от возмущения герцогом.
* * *
По мере того как тянулись часы, Уильям де Сен-Мер-Эглиз волновался все сильнее. Ричарда вызвали на встречу с императором и герцогом Австрийским. Король воспользовался своим укрепившимся статусом и настоял, чтобы епископ Солсберийский сопровождал его. Уильям остался, чтобы ходить по комнате и переживать. Англичане знали, что Генрих по-прежнему будет выдвигать условия освобождения Ричарда, но Уильям был уверен, что теперь они станут не такими возмутительными, как заявленные императором в Вербное воскресенье. Но ждать все равно было нелегко.
Когда Губерт Вальтер наконец вернулся, Уильям принялся засыпать его вопросами, не дав даже закрыть дверь. Епископ вскинул руку, прервав поток:
– Я все тебе расскажу, обещаю. Но дай сначала присесть. Уф, я скорее согласился бы вести переговоры с дьяволом, чем с этой шайкой.
Уильям торопливо налил вина.
– Стоило ожидать, что император будет в скверном расположении духа после триумфальной речи государя в понедельник.
– Императора мы не видели. Он поручил вести переговоры епископам Шпейерскому и Батскому, хотя Леопольд присутствовал и явно был весьма не рад этому обстоятельству.
– Епископу Батскому? С каких это пор он сделался императорской марионеткой?
– По собственному мнению прелата, он идеальный выбор: кровный родич императору и одновременно предан королю. Впрочем, я сильно сомневаюсь, что родство много значит для Генриха, а предан Саварик исключительно самому себе.
Губерт отпил глоток вина, потом другой, только теперь осознав, насколько устал.
– Готов услышать, чего добиваются они теперь? Император по-прежнему желает получить сто тысяч серебряных марок, но на этот раз их называют «платой» императору Генриху за его услуги по примирению Ричарда и французского короля.
У Уильяма отвисла челюсть.
– Да у него не больше шансов устроить этот мир, чем заслужить сан святого!
– Знаю. И он сам тоже знает. И поэтому согласился, что если ему не удастся примирить королей, никто ему ничего не будет должен.
Уильям присел на ближайший стул, чтобы спокойно все осмыслить.
– Выходит, теперь они пытаются сохранить лицо.
Губерт кивнул, радуясь сообразительности товарища.
– Это первая их забота, хотя они не забывают и о выгодах. Генрих, например, желает чтобы Ричард предоставил ему пятьдесят галер и двести рыцарей для годичной службы.
– Значит, он уже не требует, чтобы Ричард лично участвовал во вторжении на Сицилию?
– Нет, об этом даже речь не заходила. К счастью, Генрих проявил себя прагматичным политиком. Он, похоже, сильно рассчитывает на помощь в войне против короля Танкреда и одновременно выставляет себя новым другом короля, списав прежний раздор на происки лукавых французов. Что до Леопольда, то его цена – освобождение родича и рука племянницы Ричарда для его сына. Он был более упрям, чем представители императора – вероятно, понимает, кому предстоит стать козлом отпущения, как только уляжется пыль. Но даже он не совсем безнадежен. Ричард твердо заявил, что ни при каких обстоятельствах не вернет Анну отцу, обозвал Исаака сумасшедшим и еще похуже. Тогда Леопольд предложил новый план: племянница Ричарда выходит за его старшего сына, а Анна – за младшего. Если поразмыслить, весьма недурной компромисс.
Уильям задумчиво кивнул:
– Ему требуется нечто существенное, что он может предъявить своим несчастным вассалам, когда его герцогство попадет под интердикт. И похоже, брак с королевскими особами как раз подходит. Что до заложников?
– Здесь позиция тоже стала гораздо благоразумнее. Вместо двухсот речь теперь идет о шестидесяти знатных особах при императорском дворе и семи в Вене.
– А что король? Как Ричард отреагировал на эти более умеренные требования?
Губерт сухо улыбнулся.
– После блистательного выступления на императорском сейме он убежден, что никто не вправе предъявлять ему подобные запросы.
– Я-то это понимаю. Но ведь новые условия – большой шаг вперед по сравнению с тем, что с него пытались истребовать поначалу. Мне кажется, нам стоит на них согласиться и увозить короля прочь отсюда со всей скоростью, какую способна развить лошадь.
– Согласен, – сказал Губерт и снова безрадостно улыбнулся: – Теперь нам остается только убедить в этом Ричарда.
* * *
Ричард слушал их в угрюмом молчании, от которого Уильяму де Сен-Мер-Эглизу и цистерцианским аббатам было не по себе. Они в любую минуту ожидали вспышки монаршего гнева. Губерт Вальтер, хорошо изучивший короля за время совместного пребывания в Святой земле, истолковал это молчание по-другому: как знак того, что Ричард скрепя сердце пришел к тому же умозаключению, что и они – первым делом ему следует обрести свободу. Здравый смысл Ричарда выступал их союзником, оставалось преодолеть его уязвленную гордость.
– Мы понимаем, почему тебе трудно согласиться, монсеньор. Правда на твоей стороне, а своей блестящей защитой в понедельник ты сокрушил все возможные юридические зацепки к твоему задержанию. Но все это не меняет того факта, что ты по-прежнему в руках императора Генриха, человека, известного своей бесчестностью и коварством. Немцам важно сохранить лицо, и как ни больно говорить это, нам придется подыграть им.
– Епископ Губерт прав, милорд, – пылко подхватил Уильям. – Опасно раздражать Генриха, пока ты еще не на свободе. Потом можно будет побудить святого отца принять меры против императора и герцога, что он должен был сделать с самого начала.
– Есть еще одна причина принять эти условия, – продолжил Губерт. – Чем дольше ты остаешься в Германии, тем больше у французского короля и твоего брата времени, чтобы терзать твои владения. Филипп уже ведет армию в Нормандию, а лазутчик королевы передал весть, что Джон рассчитывает присоединиться в Виссане к флоту, собранному для вторжения в Англию. Если ты успеешь вернуться домой прежде, чем это случится, то убережешь своих подданных от многих страданий.
Ричард ничего не ответил, но когда он опустился в ближайшее кресло, его понурые плечи и налитые кровью глаза говорили об утомлении, о том, какое напряжение пришлось пережить его телу и духу. Губерт склонялся к мысли, что король согласится. Но тут аббат из Боксли допустил промах, указав на то, что новые условия гораздо умереннее прежних. Голова Ричарда вскинулась, во взгляде блеснул огонь.
– Сомневаюсь, что Танкред, киприоты, моя племянница и Анна согласятся с тобой, – отрезал он.
Огорченный своей ошибкой, аббат устремил на Губерта умоляющий взор, и епископ не замедлил прийти на помощь:
– Судьба Танкреда едва ли изменится, если ты дашь Генриху пятьдесят галер. Он давно ждет вторжения Генриха и готов к нему. Да и киприотам ничего не грозит, если Исаак обретет свободу. Он как сломанный тростник, и уже не представляет угрозы, потому что лишен главного оружия деспота – денег.
– Да и предлагаемые браки не являются унизительными, монсеньор, – быстро вступил Уильям. – Леди Энора, будучи племянницей английского короля, могла бы подыскать себе партию и получше, согласен. Но породниться с австрийским домом вовсе не зазорно. Род Леопольда знатен, связан кровными узами с множеством королевских дворов христианского мира. Его мать была византийская принцесса, супруга – сестра короля Венгрии, да и сам он вправе причислять себя к Гогенштауфенам. Что до леди Анны, то ее перспективы в любом случае скромны, даже если ты обеспечишь ее приданым. Исаак опозорен и низложен, и ни при каких обстоятельствах не будет иметь законного права на кипрский престол. Полагаю, армянские родственники по материнской линии приютят девушку, но едва ли какой-нибудь знатный лорд сочтет выгодным взять ее в жены. Так что брак с младшим сыном Леопольда для нее большая удача.
– Уильям прав, сир, – также торопливо ввернул Губерт, желая рассеять все сомнения Ричарда. – Судьба у девушек может сложиться много хуже. Если не считать, что это сыновья Леопольда, считаешь ли ты, что Фридрих и Лео не подходят для них?
– Нет, это хорошие парни, оба. У меня нет оснований думать, что из них получатся плохие мужья для моей племянницы и для Анны.
Приободренный этим вынужденным признанием Ричарда, Губерт улыбнулся:
– Нельзя забывать и о том, что не все помолвленные доходят до алтаря. Скажем, твоя с леди Алисой свадьба так и не состоялась. А если мне не изменяет память, твой господин отец и император Фридрих договаривались одно время о твоей женитьбе на одной из дочерей императора, но и отсюда ничего не вышло.
– И слава Богу! – с жаром воскликнул Ричард. – Если бы вышло, Генрих был бы сейчас моим шурином.
Когда все рассмеялись, король тоже сухо улыбнулся:
– Значит, завтра поутру мы объявим, что ты принимаешь условия? – Губерт не рискнул бы задать этот вопрос, не будь у него уверенности в ответе. И все-таки он затаил дыхание, пока Ричард не кивнул молча – ему явно не хотелось произносить слова согласия, казавшиеся слишком горькими на вкус.
Когда решение было принято, все с облегчением вздохнули. Губерт подозревал, что и Ричард тоже рад, хотя никогда не признается в этом. И тогда аббат из Боксли совершил еще одну ошибку.
– Давайте-ка выпьем за грядущее избавление короля, – предложил он и кинулся к столу наливать, прежде чем Губерт успел его остановить.
Ричард принял сунутый ему в руку кубок, но глаза его потемнели, как штормовое море. Губерту и Уильяму слишком часто доводилось наблюдать этот оттенок в глазах у прежнего короля; он служил предвестником взрыва печально известного анжуйского нрава. Оба подготовились к надвигающейся грозе. А вот аббаты и стражи этих признаков не знали, поэтому вздрогнули и охнули, когда Ричард сначала крепко сжал кубок, а затем запустил им через всю комнату. Сила удара была такой, что от стены полетели во всех направлениях куски отбитой штукатурки, вино же разлилось по побелке, образовав пятна, подозрительно похожие на кровавые.
– Может, я и вынужден соглашаться на это гнусное вымогательство, – рявкнул король. – Но Богом клянусь, не обязан его праздновать!
* * *
Ричард уединился на оконном сиденье в своей палате во дворце епископа Шпейерского, музицируя на маленькой арфе. То было явное свидетельство изменившегося к лучшему его положения, потому как стоило ему попросить у епископа инструмент, арфу доставили буквально через пару часов. Еще ему разрешили видеться с некоторыми из германских прелатов, и он провел весьма приятный вечер в обществе пробста Кельнского, Адольфа фон Альтена, поведавшего ему много интересного про мятеж. Но Пасха миновала, члены императорского сейма покинули Шпейер, и поток посетителей к Ричарду усох до ручейка. А потому король обрадовался, услышав стук в дверь – после трех месяцев в полузаточении он радовался практикуемой Генрихом политике открытых дверей: одиночество само по себе является наказанием для человека, привыкшего быть в центре внимания.
Теперь, когда Леопольд формально передал пленника императору, караульные у него сменились, и вот один из них встал и вразвалку подошел к двери, впустив Хадмара и двух сыновей Леопольда.
– Мы пришли попрощаться, – объявил Фридрих. – Потому как наш батюшка отъезжает сегодня в Австрию и мы можем уже больше не увидеться.
– Если только ты не приедешь на наши свадьбы, – вставил Лео с такой озорной улыбкой, что Ричард не смог удержаться от улыбки в ответ.
– Боюсь, я буду слишком занят, вселяя страх Божий в моего братца и его французского сообщника.
– Но если приедешь, мы будем рады, – заверил его Фридрих. – Как ни крути, я ведь женюсь на твоей племяннице, и мы станем родственниками.
В его голосе прозвучала гордость, и брат толкнул его локтем под ребра.
– И ты будешь называть его дядюшка Львиное Сердце?
– Только через мой труп, – отрезал Ричард, и юнцы рассмеялись.
– Не обращай на Лео внимания, – сказал Фридрих, стараясь подражать серьезному тону взрослого человека. – Я хочу тебе сообщить, что имею честь жениться на твоей племяннице.
– А еще хочет спросить, как она выглядит, – поддел Лео, и был вознагражден сердитым взглядом Фридриха.
– А ты сам тоже любопытствуешь насчет Девы Кипра!
Ричарда забавляло их шутливое соперничество, так непохожее на его собственный непростой опыт общения с Джоном и другими братьями, и ему вдруг подумалось: что ни говори о Леопольде, но отец из него получился хороший.
– Ну, Энору я не видел уже три года, и это маленькая девочка… – он быстро посчитал в уме, – девяти лет. Но когда она войдет в приличествующий для замужества возраст, то, не сомневаюсь, ты останешься ею доволен, Фридрих. Женщины в моей семье славятся красотой.
– А что Анна? Она хорошенькая? Сколько ей лет?
– Пятнадцать. И она действительно хорошенькая, Лео. У нее длинные светлые волосы и голубые глаза. А еще она очень шустрая и острая на язык, так что если ты ожидаешь получить покорную овечку, то будешь разочарован.
– Мне нравятся девушки с характером, – высокопарно заявил Лео, как будто имел большой опыт общения с такими девицами.
Ричард спрятал улыбку. Его все еще злило, что его вынудили на эти браки, но расположение к мальчикам помогало преодолеть досаду.
– Ты назвал племянницу Энорой, – вмешался Фридрих. – А я думал, что ее имя Алиенора.
– Так и есть. Энора – бретонская форма. Жоффруа назвал ее в честь нашей матушки, – пояснил Ричард, поймав себя на мысли, что то был один из немногих случаев, когда он был доволен братом. Их отец был взбешен, узнав, как нарекли внучку, чего Жоффруа как раз и добивался.
– Бретонская? – Фридрих на миг смутился. – А она, выходит, говорит по-бретонски?
– Нет, по-французски – ведь это родной язык для герцогов Бретонских. Не думаю, что ее мать Констанция знает хоть одно слово по-бретонски.
В первый раз Ричард задумался о том, как его невестка должна была отнестись ко второму своему браку. Она была в ярости, но его это мало заботило. Ричард не питал симпатии к вдове Жоффруа. Он считал, что она пагубно влияла на его брата, подталкивала его к союзу с французским королем и к покушению на Аквитанию.
Лео интереса к невесте брата не питал – ему хотелось узнать, на каких языках разговаривает Анна. И был явно обрадован, когда Ричард сообщил, что она знает греческий и армянский, а ее французский претерпел огромные изменения к лучшему с того дня как она поступила ко двору Джоанны.
– Вот здорово! Я тоже немного разумею по-гречески! – воскликнул мальчик. – Наша бабушка была дочкой византийского императора из Константинополя, и отец настоял, чтобы я выучил язык. Сказал, что мы должны гордиться наличием императора среди членов нашей семьи.
Лео оседлал стул, явно намереваясь задержаться подольше, и с большой неохотой встал, когда Хадмар напомнил про то, что их господин отец планирует уезжать через час. Когда мальчики подобно жеребятам понеслись вниз по лестнице, Хадмар задержался на миг, чтобы попрощаться с английским королем.
Ричард не виделся с австрийским министериалом с того дня, как его передали в руки Генриха, и был рад обменяться с ним парой слов.
– Ты сделал мое заточение не таким ужасным, как оно могло быть, Хадмар, и я этого не забуду. Спасибо тебе за вежливость, за доброту… и за совет. – Ричард улыбнулся. – Надеюсь, ты не лишился из-за этого милости своего герцога?
– Он был не слишком доволен мной после суда, решив, что я слишком бурно радовался твоему оправданию. Но все прошло, поскольку он знает, что я предан ему до последнего вздоха. А еще знает, что я способен на то, на что редко отваживаются другие – всегда говорить ему правду. У каждого правителя должен быть такой человек.
– Верно, должен. – Ричард подумал о собственном правдорубце Фульке из Пуатье. Епископ Шпейерский заверил, что вскоре его люди будут освобождены, и король очень надеялся на это: ему так не хватало этого язвительного, проницательного и вспыльчивого клерка, настолько же преданного ему, как Хадмар Леопольду. Есть ли подобный человек при Генрихе? Весьма сомнительно.
Хадмар поклонился, но уже взявшись за ручку двери, помедлил. У него не было твердых оснований для подозрений, тем более доказательств. Он просто знал, что император так просто не сдается. Но ведь Генрих в присутствии всего императорского сейма дал английскому королю поцелуй мира. Неужели он посмеет отречься от него? Неужели так беспардонно обойдется с собственной честью? Нет, не может быть. К чему отягощать Ричарда своими дурными предчувствиями, если они, скорее всего, ничто, кроме тумана или дыма?
– Божьей помощи тебе, милорд Львиное Сердце, – сказал рыцарь и ступил на лестницу вслед за сыновьями герцога.
* * *
Когда Ричард признался, что в первые недели заточения его охраняли стражи с мечами наголо, Губерт Вальтер пришел в ужас. Епископ с облегчением видел, что немецкие караульные теперь заняты игрой в кости – лишнее доказательство того, что положение короля меняется к лучшему.
– Надеюсь, вскоре их совсем уберут, – заметил он.
Ричард тоже на это надеялся, но только пожал плечами в ответ.
– Они держатся вежливо и, похоже, почитают за честь охранять короля. Епископ Шпейерский даже нашел одного, кто немного говорит по-французски – совсем чуть-чуть, надо признать, но все лучше, чем я на немецком.
Он указал на стол и продолжил:
– Вот письма, которые я тебя прошу захватить с собой в Англию. Уильям свои уже забрал. Я тебе не говорил, что у меня теперь есть писец? Если верить епископу, император счел недостойным короля писать письма собственноручно, поэтому любезно выделил мне помощника.
Губерт улыбнулся, потому как голос Ричарда сочился сарказмом.
– Вот я и думаю, – продолжил государь, – что лучшего лазутчика, чем писец, просто не найти. Если не считать королевского духовника, конечно.
– Не приведи, Господи, – отмахнулся Губерт, лишь наполовину вшутку, потому как нарушение тайны исповеди считалось страшным грехом. – Как понимаю, письма адресованы королеве и твоим юстициарам.
Ричард кивнул:
– То, что я почел за лучшее не доверять пергаменту, расскажешь им на словах. – Он искоса глянул на епископа и озорно улыбнулся. – Тебя, возможно, больше заинтересует одно из писем, которые я поручил Уильяму. В нем я сообщаю моей матери, что настало время заполнить вакансию архиепископа Кентерберийского. Как-никак, прошло уже два года с тех пор как архиепископ Балдуин умер под Акрой. Думаю, уже давно пора избрать нового примаса, не так ли?
Губерт в свою очередь кивнул, надеясь скрыть охватившее его волнение под маской безразличия. Как бы ни хотелось ему стать архиепископом, он никогда не обсуждал этот вопрос с Ричардом, слишком гордый, чтобы бороться за пост, которого его могут счесть недостойным. Губерт прошел хорошую школу администратора при дворе своего дяди, главного юстициара короля Генриха, затем приобрел богатый опыт в должности судьи при лорде-казначее, прежде чем Ричард одобрил его назначение епископом Солсберийским. Но ему недоставало формального образования, подразумевавшегося для князя церкви. Да и латынь хромала: во время императорского сейма Уильям шепотом переводил ему содержание речи Ричарда. Губерт опасался, что, обратившись к королю с просьбой о повышении, он получит отказ, и поскольку высоко ценил их отношения, никогда даже не заикался о назначении. Не показалось ему это уместным и сейчас.
– Надеюсь, что в следующий раз монахи приората Крайстчерч отнесутся с большим уважением к твоему выбору, – сказал прелат, намекая на предыдущую попытку Ричарда поставить своего архиепископа Кентерберийского.
Король хотел, чтобы примасом английской церкви избрали архиепископа Монреале – за время пребывания в Мессине этот сицилийский прелат оставил у него очень хорошее впечатление. Но кентерберийские монахи заупрямились. Возражать королю было проще, когда он далеко, и они наотрез отказались избирать «чужестранца». Вместо этого они проголосовали за епископа Батского Реджинальда Фиц-Джослена, дядю Саварика, нынешнего прелата Бата. Тот хитроумными маневрами помогал успеху дяди, чтобы расчистить дорожку для себя. Новоизбранный примас умер через месяц, и с тех пор престол оставался вакантным.
– Я проявил большой такт – в кои-то веки! – в моем письме к крайстчерчским монахам, – заверил Ричард Губерта. – Написал только, что при выборе им следует внять совету королевы и Уильяма де Сен-Мер-Эглиза. Матушка дипломатично сообщит им о моем выборе, причем они и не заподозрят, что их стадом гонят туда, куда нужно ей. – Он улыбнулся. – Моя мать знает толк в таких вещах. А вот отец наоборот предпочитал прямой подход. Он в самом деле написал монахам в Винчестер, что приказывает им провести свободные выборы, но запрещает выбирать кого-нибудь еще, кроме своего клерка!
Губерт засмеялся вместе с ним, но его веселье показалось Ричарду натянутым. Мастер нагнетать атмосферу – эта черта досталась ему от отца, он рассчитывал, что заставит кандидата самого заявить о своем желании. Но заметив, как нервничает епископ, сжалился над ним.
– Я написал матери, что хочу видеть следующим архиепископом Кентерберийским тебя.
Губерт в какой-то миг стал уже сомневаться, и теперь мог только смотреть на собеседника.
– Почту за большую честь, монсеньор, – выдавил он. – Я благодарен больше, чем способен выразить.
– Не хочу, чтобы ты думал, будто я выбрал тебя за то, что ты отважился перебираться через Альпы зимой с целью ходатайствовать за меня. – Уголки рта Ричарда сначала дрогнули, потом разошлись в широкой улыбке. – Впрочем, должен признать, это определенно не пошло во вред твоим шансам.
Во внутренней борьбе амбиций с совестью Губерт закусил нижнюю губу. Совесть победила, потому что архиепископ Кентерберийский исполняет роль главы всей английской церкви.
– Мне хочется, монсеньор, чтобы ты был уверен в правильности своего выбора. Вынужден признать, что есть много клириков более образованных, нежели я, и моя латынь оставляет желать лучшего.
Ричард хотел было пошутить, что в незнании латыни есть свои преимущества, но вовремя спохватился. Он понял, что ответ Губерта продиктован не приличествующей случаю скромностью, но является искренним.
– Я бы без труда нашел сотню клерков, говорящих на латыни, как на своем родном языке. Мне не лингвист нужен, Губерт, а человек прямой, честный, храбрый и умный: именно эти качества ты с избытком проявил во время нашего пребывания в Святой земле. Я уже много месяцев назад пришел к выводу, что ты лучший кандидат, и случись мне добраться до дома без происшествий, ты уже прошел бы через обряд рукоположения.
– Спасибо, милорд король! – Губерт собирался опуститься на колени, но Ричард остановил его:
– Посему у меня нет никаких сомнений, что из тебя получится превосходный архиепископ. А теперь, чем быстрее ты окажешься в Англии, тем быстрее встретишься со своей судьбой, и тем скорее я обрету свободу. – Ричард улыбнулся и благословил Губерта теми же словами, какие услышал от Хадмара фон Кюнринга. – Божьей помощи тебе, милорд архиепископ.
* * *
Цистерцианские аббаты уехали после Пасхи, но Губерт и Уильям де Сен-Мер-Эглиз оттянули свой отъезд до конца марта. Только когда они отбыли тоже, Ричард осознал, как нужно было ему их присутствие, и провел бессонную ночь. Поэтому вовсе не обрадовался, когда его рано поутру разбудил Йохан, стражник, немного разумевший по-французски.
Молодой воин запинался и то и дело твердил слово «император», из чего Ричард смог заключить, что его вызывают к Генриху. В дверях стоял, сложив на груди руки, некий рыцарь. Когда король обратился к нему на латыни, он только безразлично посмотрел в ответ. Неприятно, когда тебя вот так вытаскивают из постели, но поняв, что ничего тут не поделаешь, Ричард откинул одеяло.
Выйдя в сопровождении стражи на внутренний двор, Ричард увидел, что его поджидает конвой. Воины зевали, сгорбившись в седлах. Короля удивило, что час такой ранний – небо на востоке только-только начало сереть. Главного в отряде он узнал – на него несколько раз указывал Хадмар. То был Марквард фон Аннвейлер, имперский министериал и сенешаль Генриха. Сенешаль немедленно выступил вперед, назвался с вежливым поклоном и выказал знание латыни, без которой придворному чиновнику было не обойтись. Человек далеко не молодой, за пятьдесят, он выглядел подтянутым и энергичным, а в рыжевато-каштановых волосах еще не проглядывало седины. В отличие от большинства немцев он брил бороду; был обладателем пронзительно-зеленых, как мох, глаз и, как ни странно, располагающей улыбки. Ричард холодно подумал, что эта улыбка принесла ее владельцу множество женских сердец – если даме, разумеется, не хватало ума подметить, что эта улыбка никогда не отражается в глазах.
– Император желает меня видеть? – спросил Ричард.
Марквард это подтвердил и дал знак подвести коня. Много чего не хватало Ричарду за эти три месяца и десять дней с момента пленения в Эртпурхе. Ему не хватало девчонки в постели, не хватало веселого братства солдат и рыцарей двора, не хватало самых близких, не хватало музыки, книг, любимых соколов, целеустремленности, наполнявшей его существование. Но он даже не подозревал, насколько соскучился по скачке на породистом коне, по ощущению, когда под тобой пылкий скакун, мчащийся наперегонки с ветром. Теперь ему предложили лошадь, какую он сам для себя никогда бы не выбрал: смирного мерина, который и в подметки не годился Фовелю, великолепному кипрскому жеребцу, который прошел вместе с ним столько победных сражений в Святой земле. У этого не было уздечки и поводьев, только постромки – лишнее доказательство нынешнего униженного положения короля.
Внутренне негодуя, Ричард запрыгнул в седло. Марквард тем временем сообщил приставленным к пленнику стражам, что их присутствие не понадобится. Разочарование на лицах последних было слишком очевидным, и Ричард решил, что они огорчились, лишившись редкой возможности лицезреть императора.
– Считай, что тебе повезло, Йохан, – утешил его король, но молодой немец, разумеется, ничего не понял, и озадаченно смотрел вслед английскому государю, покидающему епископский дворец в окружении новой охраны.
Город еще только пробуждался и улицы были пусты. Ричарду показалось странным, что Генрих вызвал его в такой ранний час, но подозрения пробудились в нем, только когда конвой свернул на улицу, ведущую к Старым воротам – главному въезду в Шпейер с запада. Ворота были пока заперты, но, повинуясь короткому приказу Маркварда, караульные поплелись открывать их. Ричард воспользовался задержкой и окликнул министериала по имени, причем достаточно громко, чтобы можно было делать вид, будто его не услышали.
– Я думал, что мы едем в императорский дворец?
Марквард ответил очередной ослепительной улыбкой.
– О нет, милорд король. Ты не так меня понял. Мы едем в деревню Аннвейлер, где я родился.
– Зачем?
– Я не задаю вопросов моему императору, – отрезал сенешаль. – Но знаю, что его очень заботит твоя безопасность. Как-никак, ты весьма важный гость империи.
Ричард с прищуром поглядел на спутника:
– Мне говорили, что я поеду вместе с императором в его дворец в Хагенау. Наверняка это достаточно безопасное для меня место.
Плечи сенешаля дернулись в жесте, который мог сойти за пожатие. Все присущие Ричарду инстинкты самосохранения били тревогу. Все происходящее казалось лишенным смысла, но не нравилось ему. Совсем не нравилось. Хороший солдат шестым чувством угадывает опасность, а король за долгие годы научился доверять этим сигналам.
– Что за игру затеял Генрих?
В зеленых глазах теперь засветилось нескрываемое веселье.
– Свою любимую, милорд король. – Марквард хмыкнул. – Ту, в которой он меняет правила, как захочет.
* * *
Ехали они быстрым аллюром, и это напомнило Ричарду спешку, с которой его везли в Дюрнштейн. Он не верил, что их путь лежит в Аннвейлер – с какой стати Генриху отсылать пленника в глухую немецкую деревушку? Положение солнца подсказывало, что они едут на запад, но прочее оставалось загадкой. Однако с каждой проделанной милей беспокойство Ричарда нарастало. Его охрана была из людей совсем другого сорта, по сравнению с приставленными к нему в Дюрнштейне или во дворце епископа Шпейерского. Он знал эту породу, и сам прибегал к ее услугам: то были рутье, продававшие мечи тому, кто больше даст, не знающие угрызений совести и, как правило, отлично знающие свое дело, которое заключалось в том, чтобы творить зло по приказу того хозяина, который им платит. Еще сильнее его заботило, что руководит наемниками Марквард фон Аннвейлер – едва ли доверие Генриха мог заслужить человек, подверженный угрызениям совести. Но как бы ни пытался король распутать этот гордиев узел, ничего не получалось. Генрих перед всем имперским сеймом признал его невиновным. Немецким епископам и баронам известны условия его освобождения. Ричард не видел, как удастся Генриху отречься от прилюдно произнесенных слов. Тогда чего пытается он достичь? Куда посылает своего пленника, и самое главное, зачем?
Дорога вилась среди темного, первобытного леса, тянувшегося насколько хватало взора. Небо, клочками проглядывавшее над высоченными елями и голыми ветвями буков, теперь затянули облака. Готовясь к встрече с Генрихом в императорском дворце, Ричард предпочел надеть более нарядный из двух плащей, данных ему в Дюрнштейне, и вскоре пожалел, что не выбрал более теплый, потому как апрельский ветер был студеным. Всадники ехали молча, останавливались только, чтобы дать короткий отдых лошадям, а воинам оправиться. И как только они спешивались, Ричарда снова окружало кольцо обнаженных клинков. Попытки добиться от Маркварда ответа оказались безуспешны – сенешаль только улыбался и уверял, что ехать совсем недалеко, что Аннвейлер всего в двадцати с небольшим милях от Шпейера. Ричарду оставалось довольствоваться этим.
Солнце стало медленно клониться к западу, окрасив облака в багровый с золотом цвет, и тут открылись горы: три скалистых утеса, все еще покрытые зимними снеговыми шапками на вершинах. Каждый из трех венчал замок, но только один приковал к себе взгляд короля, потому что казался плывущим в волнах тумана, омывающего склоны под ним. На фоне закатного солнца сложенные из песчаника стены и башни алели в небе как кровавый шрам, и первое, о чем подумал Ричард, это что замок неприступен и еще более внушителен, нежели Дюрнштейн.
Марквард сделал знак остановиться, затем развернул коня и натянул поводья рядом с Ричардом.
– Только не говори мне, что это Аннвейлер! – буркнул король.
– Сам город внизу, в долине, – любезно пояснил Марквард. – Скрыт туманом. Зато замок просматривается неплохо, даже с такого расстояния. Это Трифельс. Быть может, тебе доводилось слышать о нем, милорд?
Ричард кивнул. Дурная слава этой красной твердыни распространилась далеко за границы Германии. Трифельс был тюрьмой, где содержали государственных преступников и самых опасных врагов империи.
Глава XII Трифельс, Германия
Апрель 1193 г.
Ричард с облегчением выдохнул, когда его поместили не в одну из пресловутых замковых темниц, которые окрестили черными дырами ада. Однако лучшее, что он мог сказать о своих новых апартаментах, это что они не находятся в сыром подземелье. Комнатка была маленькой и пустой, из обстановки только лежанка да ночной горшок. Окон нет, только пара бойниц, никакого обогрева и скворчащая масляная лампа. И снова его охраняли стражи с мечами наголо.
В комнате было холодно, по ней разгуливал ночной холодный воздух с гор. Опустившись на койку, Ричард обнаружил, что его снабдили всего лишь одним тонким одеялом. Привалившись спиной к стене, король силился понять смысл его нынешних испытаний. Должен ли он был это предвидеть? Но кто мог представить вероломство такого грандиозного размаха? Теперь стало ясно, что Генрих просто затаился, дожидаясь роспуска имперского сейма. Но неужели он на самом деле может скрыть следы преступления, упрятав пленника в Трифельс? Впрочем, почему нет? Один Бог ведает, какие еще темные тайны хранятся за этими каменными стенами. И как сможет кто-нибудь узнать, что здесь томится король? Его друзья на пути в Англию, уверенные, что обговорили все условия его освобождения. Сколько пройдет времени, прежде чем распространится весть об его исчезновении? Недели? Месяцы?
Стоило ему встать с койки, как охрана сразу насторожилась. Караульные не выказывали открытой враждебности, но в их суровых взглядах читалось кое-что похуже – безразличие. Ричард не знал, набраны ли они из наемников-рутье или из несвободных министериалов, но не сомневался, что эти парни без колебаний перережут глотку даже младенцу, если хозяин отдаст им такой приказ. Много ему довелось пережить неприятных моментов с той минуты, как он выглянул из окна дома торговки пивом в Эртпурхе и увидел захлопывающийся вокруг него капкан. Но никогда не ощущал он себя таким беспомощным, как сейчас, оказавшись во власти человека, не знакомого ни с честью, ни с совестью, ни со здравым смыслом, человека так дерзко уверенного в своей безнаказанности, что он посмел убить князя церкви.
Вскоре после того как городские колокола прозвонили к вечерне, появился слуга с подносом. Он поставил его на пол и тут же удалился. Ричард взирал на хлеб, сыр и пиво, размышляя о том, что вместе с этим скудным угощением ему шлют сообщение: едва ступив на двор этого замка, ты лишился своего высокого ранга. Это был рацион заключенного – такой не подали бы даже знатному заложнику, не говоря уж про монарха. Король заставил себя проглотить несколько кусков, затем отодвинул блюдо. Через некоторое время вернулся Марквард фон Аннвейлер.
Он пришел не один. Состоявшееся в момент приезда знакомство Ричарда с бургграфом[13] замка было поверхностным, потому как министериал не владел ни латынью, ни французским. Чиновник был крупный, дородный мужчина, из тех, что в определенный момент начинают раздаваться вширь, лысоватый, с водянистыми голубыми глазами и важным, флегматичным выражением лица. Ричард сразу определил в нем человека, никогда не нарушающего приказ и не имеющего своего собственного мнения. Их сопровождали воины, причем в таком количестве, что части пришлось остаться на лестнице. Ричард вскочил, в намерении потребовать ответов, пусть без надежды получить их. И тут заметил то, что несет один из пришедших – связку цепей.
– Вы ведь не думаете, что я вот так просто позволю заковать себя в железа?
– На самом деле, нет, – хладнокровно признал Марквард. – Поэтому когда я спросил у императора, как нам поступать, если ты будешь сопротивляться. Он просто улыбнулся. Я истолковал это как разрешение применять столько силы, сколько понадобится. Но я надеюсь, что до этого не дойдет. Это не та битва, в которой ты можешь победить, милорд король. Ты же сам видишь. В своей речи на имперском сейме – она, кстати, была великолепна, ты убедительно доказал, что отказался от нападения на Иерусалим, понимая, что оно неизбежно закончится поражением.
Сенешаль кивнул бургграфу, тот прорычал приказ, и стражники разошлись веером с явным намерением окружить Ричарда. Если их и страшила перспектива схватки с таким прославленным воином, то на их лицах это никак не отражалось – иные даже ухмылялись, словно радуясь такой возможности. Марквард тоже улыбался, и тон его был почти дружеским.
– Сопротивлением ты ничего не добьешься, только отсрочишь неизбежное и дашь этим парням шанс похвастать в местных пивных тем, что они одолели самого Львиное Сердце. Я не король, конечно, но будь я таковым, не почел бы за честь быть побитым неотесанными деревенщинами.
Марквард помедлил, давая Ричарду время поразмыслить над сказанным. Он видел, что король почти кипит от гнева, но одновременно слушает, и порадовался этому. Сенешаль бы глазом не моргнув отдал команду избить английского государя до полусмерти, но будучи по натуре человеком практичным, стремился по возможности избегать осложнений.
– Возможно, я смогу отблагодарить тебя за содействие, – любезно прощебетал немец. – День был долгий, меня ждет мягкая постель, а в ней грудастая девка, поэтому мне не хотелось бы торчать здесь попусту. Если ты согласишься на ручные оковы, я забуду про ножные кандалы. Разве это не справедливая сделка?
Ричард не решался заговорить или двинуться, понимая, что стоит ему сделать хоть шаг, он бросится душить Маркварда, и к черту последствия. Но частью рассудка король понимал, что немец говорит чистую правду. Если только Ричард не хочет, чтобы его убили, весь его выигрыш от драки составят боль и унижение. А он еще не готов был окончательно расстаться с надеждой.
Истолковав его молчание как капитуляцию, Марквард снова кивнул бургграфу, который обнажил меч, дав сигнал сделать это своим приспешникам. Только тогда стражник с цепями подошел ближе. С опаской глядя на Ричарда, он передал ключ соседу, защелкнул наручники на запястьях у короля, затем взял ключ и запер их. Пока это происходило, Ричарду понадобилось все его самообладание, чтобы сдержаться. Но он был захвачен врасплох, когда кандальных дел мастер прикрепил цепь болтом к стене. Король совсем не ожидал, что его посадят на привязь, и с укором посмотрел на Маркварда, поняв, как легко на него можно теперь надеть и ножные оковы.
Словно прочитав его мысли, фон Аннвейлер улыбнулся:
– Хоть у меня это и не в обычае, но иногда я соблюдаю данное мной слово, и сегодня, на твое счастье, именно такой день. Думаю, ножные кандалы нам понадобятся в другом месте: отсюда еще ни один узник не убегал. Добрых снов, милорд король.
Распахнув дверь, сенешаль в очередной раз улыбнулся:
– Осмелюсь предположить, впрочем, что у меня ночь пройдет приятнее, чем у тебя.
* * *
Спал Ричард плохо, потому что стоило ему повернуться на другой бок, цепь натягивалась и будила его. Кованые наручники оказались жутко тяжелыми; сидели они туго и уже натерли запястья. Он не испытывал благодарности за то, что его щиколотки не в железах, только священную ярость помазанника Божьего, которого подвергают такому унизительному обращению. Ричард радовался этой ярости, подпитывал ее огонь чем мог, укрываясь за гневом как за щитом в напрасной попытке загнать поглубже стыд. Вечером он утешал себя тем, что не имел другого выбора, как подчиниться, и тем самым пощадить хотя бы гордость. В холодном свете наступившего дня ему казалось, что спасая гордость, он принес в жертву честь.
То, что он был теперь закован, даже не избавило его от охраны. Просто стражников стало меньше и они сидели на корточках в тени и коротали время, обмениваясь шутками – по крайней мере, так королю показалось, потому что то и дело слышался смех. Но их присутствие растравляло ему раны – с самого момента пленения, то есть с 21 декабря, его почти не оставляли без навязчивого внимания со стороны.
К исходу утра через бойницы в комнату проникли доносившиеся с внутреннего двора замка звуки. Прислушавшись, Ричард пришел к мнению, что они означают отъезд Маркварда фон Аннвейлера. Сенешаль наверняка спешил с докладом к императору о том, что пленник надежно упрятан в Трифельсе. Но облегчения отъезд министериала не принес. Теперь его окружали люди, не знавшие ни слова ни по-латыни, ни по-французски, и даже поговорить стало не с кем.
Часы тянулись. Ричард проводил время, прокручивая в памяти последние тринадцать дней, начиная с первой встречи с Генрихом в доме каноников. Должна быть какая-то логика в поступках императора, которую он упустил. Генрих не из тех, кто действует, повинуясь порыву. Он это доказал, приняв вердикт имперского сейма. Тогда в чем его замысел? Что надеется он выгадать своим подлым предательством? Неужели полагает, что сможет вытрясти более выгодные условия из пленника, который заплатит любую цену, лишь бы выбраться из Трифельса? Или решил, что будучи переигран и перехитрен в Шпейере, не видит больше смысла торговаться? Ричард как сейчас слышал этот холодный, бесстрастный голос: «Если ты не согласишься, то потеряешь для меня всякую ценность, и у меня не будет причин сохранить тебе жизнь». Не упрятали ли его в Трифельс, чтобы сломить дух? Или это месть за то, что он унизил Генриха перед его собственным двором? Ответа он найти не мог, но получил его, прежде чем кончился день, причем из неожиданного источника.
Ему подали очередной скудный ужин из хлеба с сыром, а также кубок жидкого пива, но тут дверь открылась, и вошел бургграф в сопровождении нескольких человек с факелами. Непривычно яркий свет резал глаза, заставляя Ричарда отворачиваться – с наступлением вечера камера быстро погружалась во тьму. Немного попривыкнув, король обнаружил, что смотрит в лицо Филиппу де Дре, епископу Бовезскому.
На лице прелата сияла широкая ухмылка.
– Доводилось мне когда-нибудь видеть столь приятное зрелище? Нет, едва ли. Видок у тебя довольно жалкий, Львиное Сердце, а ведь прошло всего два дня. Представь, какую печальную картину ты будешь представлять после того, как погостишь у императора месяц-другой.
Ричард медленно поднялся:
– Так мне тебя за это благодарить, Бове?
– Я бы с радостью приписал себе все лавры. Но император и раньше вынашивал мысль послать тебя сюда. Он не обрадовался той легкости, с которой ты расположил к себе его вассалов, и счел, что в Трифельсе от тебя будет меньше вреда. Я, разумеется, согласился. Но добавил, что тебя мало заточить, потому как ты упрям, обуян гордыней люциферовой, и тебе не помешает хороший урок смирения. Если это тебя утешит, смерть твоя Генриху не нужна. Он хочет сломать тебя, а пребывание в Трифельсе обычно ломает человека как тростинку. Когда ты станешь умолять его о пощаде, он охотно обсудит с тобой новые условия. Что до меня, то я надеюсь, что ты некоторое время поупираешься. Для меня большое удовольствие видеть тебя холодным, голодным, грязным и закованным, как обыкновенный преступник.
– Ты покойник, Бове, обещаю!
Епископ рассмеялся:
– Ой, я уже в штаны наложил! Да неужто ты до сих пор не понял, Ричард? Генрих продаст тебя хоть халифу Багдадскому, если тот даст хорошую цену. Да, он хочет, чтобы твое пребывание в Трифельсе было мучительным, но денег хочет еще сильнее. Ты ожидаешь, что твоя мать и твои дружки выпотрошат все сундуки в Англии, чтобы тебя выручить, и скорее всего, так и будет. Но ненависть намного сильнее любви, а мой кузен Филипп ненавидит тебя так же непримиримо, как я. Его не обрадовала весть, что Генрих и Леопольд сговорились в Вюрцбурге об условиях твоего освобождения, не дав ему шанса сделать свою ставку. Завтра я поеду в Париж и повезу ему добрую весть, что у него теперь появился новый шанс. Сколько бы ни предложили англичане, король даст столько же и даже больше, и не только ради удовольствия видеть, как ты гниешь во французской тюрьме. Филипп не дурак и прекрасно понимает, что забрать Нормандию и Анжу у твоего брата гораздо легче, чем у тебя. Так что можешь не сомневаться, у него есть веская причина перебить ставку твоей нежной матушки. Поразмысли об этом ночами, когда к тебе не будет идти сон.
Он выждал, не будет ли от Ричарда ответа, потом дал бургграфу знак открыть дверь.
– Прощай, милорд Львиное Сердце, – насмешливо бросил прелат. – И пусть следующая наша встреча произойдет в Париже. И если нынешние удобства кажутся тебе скудными, подожди и увидишь, что ждет тебя в темницах французского короля.
* * *
Терпя насмешки епископа, Ричард полагал, что достиг самого дна. Но на следующий день у него открылся кашель, и король стал чувствовать себя все хуже и хуже. Вскоре он уже не сомневался, что у него начался жар, потому что в комнате уже не казалось так холодно. Он и так уже беспомощный в руках врагов. Если ему суждено было понести кару за прежние грехи, то разве этого не достаточно? Неужели теперь ему предстоит страдать от приступов озноба и горячки, которые в прошлом валили его с ног? Но в прошлом он был среди друзей, под надзором у лекарей. И даже так едва не умер от четырехдневной лихорадки под Яффой. Долго ли ждать, когда Смерть придет за ним в этой ледяной, пустой камере? Быть может, к тому времени Смерть покажется ему избавительницей, но не сейчас. Он не готов пока признать поражение и способен претерпеть куда большие мучения, только не порадовать этих Богом проклятых ублюдков, что сидят на германском и французском тронах. Уж каковы бы ни были его деяния, оскорбившие Господа, сердце у Христа наверняка скорее сжалится над ним, чем над Генрихом или Филиппом.
* * *
Несколько часов промаялся Ричард от приступов кашля, но после полудня в конце концов уснул. Он не понял, что его разбудило, потому как поначалу слышал только похрапывание стражей да стоны ветра. Поежившись, король потянулся за одеялом и плащом. И тут услышал. Голос раздавался совсем рядом и велел ему просыпаться. Говорил человек по-французски, и голос был очень знакомым. Ричард сел так резко, что натянувшаяся цепь дернула его назад. Вглядываясь в темноту за постелью, он вроде как различил стоящую в нескольких шагах фигуру. В кои веки Львиное Сердце совершенно растерялся.
– Ты призрак? – с сомнением спросил он, чувствуя себя полным идиотом.
Прозвучавший в ответ смех был хриплым, сухим и тоже очень знакомым.
– Думаешь, у меня на том свете других дел нет, кроме как являться своему неблагодарному сыну, а? И тем не менее, я здесь.
– Нет, – сказал Ричард. – Тебя нет здесь.
– И ты не в германской темнице, – парировал Генрих. – Давай выразимся так, что я выхлопотал охранную грамоту из Чистилища. Мне нужно кое-что тебе сказать, и хотя бы раз прислушайся к моим словам. Начнем с этого ублюдка Бове. Даже слепая свинья время от времени ухитряется найти желудь, и он совершенно справедливо назвал тебя упрямым. Это упрямство прикончит тебя, если ты не приспособишься к новой реальности.
– И в этой реальности возможно болтать с призраком? – сухо заметил Ричард. – Впрочем, почему бы и нет? Так что мне нужно делать?
– Для начала признайся в том, чего ты сильнее всего боишься.
Ричард напрочь забыл, что это просто сон.
– Я не боюсь ничего!
Отец снова рассмеялся:
– Если это так, то твоя мать должна быть еще худшей женой, чем я думал, потому как мой родной сын таким идиотом быть не может. Мы оба знаем, чего ты боишься сильнее всего, Ричард, и этого любой полудурок испугался бы. Ты боишься быть перепорученным нежным заботам французского короля.
Генрих помолчал, как бы приглашая Ричарда возразить. Потом продолжил:
– Что ни говори про этого немецкого стервятника, но им руководит одна только корысть. Осмелюсь предположить, что ему нравится унижать тебя, ведь ты наделен большим талантом наживать врагов. Но здесь мы имеем дело с корыстными мотивами, а вот с французским королем дело обстоит иначе и намного хуже. Ненависть к тебе – единственная яркая страсть, доступная его трусливой душонке. Ну да, еще он не прочь посадить на твой трон Джонни, понимая, что эта добыча куда проще, нежели ты. Каюсь, я сильно ошибся в парне.
– Как и я, – сказал Ричард, обнаружив, что по совести весьма рад вести этот потусторонний, невероятный разговор с насмешливым духом.
– Но смертельно опасна для тебя именно ядовитая зависть Филиппа. Знаешь, что произойдет, стоит тебе оказаться в его власти, Ричард? Ты никогда больше не увидишь дневного света, а когда придет смерть, будешь радоваться ей.
– Еще бы мне этого не знать! Но если ты покуда не заметил, скажу, что в последние дни мое влияние на события не слишком велико.
– Оно больше, чем ты склонен считать, парень. Употреби его себе на пользу. Сделай все возможное, чтобы удержать Генриха от продажи тебя французам.
– Даже если для этого придется проглотить без остатка всю гордость? – спросил Ричард с поразившей его самого горечью.
– Да, черт тебя побери! Да! Сделай это ради меня, Ричард! Сохрани мою империю. Не позволь труду всей моей жизни развеяться по ветру. Не дай Филиппу и Джонни все разрушить!
Потом надолго повисла тишина. Когда Генрих заговорил снова, страсть исчезла из его голоса, в котором зазвучали теперь ирония и некое отстраненное веселье.
– Есть еще кое-что, о чем тебе следует помнить, если эта новая реальность покажется тебе слишком тяжелой, чтобы ее выносить. Нельзя никому отомстить из могилы. Поверь мне, уж я-то знаю.
Ричард ответил не сразу, потому что загнанные вглубь воспоминания обрели вдруг свободу, и он вспомнил последние обращенные к нему слова отца. Когда Филипп вынудил Генриха дать мятежному сыну поцелуй мира, тот повиновался, а затем прорычал: «Бог милостив, я проживу достаточно долго, чтобы отомстить!» Только тогда Ричард понял, что Генрих на самом деле при смерти.
– Когда я оказался пленником в Дюрнштейне и знал, что предстану перед судом Генриха по обвинению в преступлениях, которых не совершал, я склонялся к мысли, что это наказание за другие мои грехи. Прежде я не считал их грехами. Думал, что совершаю их, защищая положенное мне по праву рождения и свою мать. А теперь… Теперь я не так уверен. Вот почему Господь отвернул свое лицо от меня? Из-за того, что я грешен перед тобой?
Ричард напряженно ждал ответа. Но ответа не было, была только тишина.
* * *
Наутро сон казался таким реальным, что это обеспокоило Ричарда: ему вспомнились галлюцинации, представшие перед ним в горячке в Яффе. Тогда он как воочию видел обступивших его ложе болезни Филиппа, а также братьев Жоффруа и Джона. Был ли и этот сон галлюцинацией? Но лихорадки вроде не ощущалось, и король успокоился на этом, решив, что всего лишь грезил наяву и ничего более.
Король провел еще один тяжелый день, так как приступы кашля были такими сильными, что иногда ему казалось, что он вот-вот задохнется. Ближе к вечеру ему стало немного полегче, и он уснул. Но когда проснулся, страх галлюцинаций нахлынул снова, потому как прямо у его постели стояли трое. Одним был бургграф, вид у которого был не такой уверенный, как прежде: он покраснел и явно находился не в своей тарелке. Рядом с ним стоял тощий как жердь паренек, рыжий, веснушчатый, с располагающей щербатой улыбкой. А на колени перед койкой опустился маленький несуразный человечек со скошенным подбородком, плоским носом, кривыми ножками. За неприглядную внешность недруги жестоко обзывали его «карликом», «бесом» и «горгульей». То был опальный канцлер Англии Гийом де Лоншан.
Ричарду никак не удавалось сесть – цепь запуталась в одеяле и ограничивала его движения. Он кое-как ухитрился коснуться руки канцлера, чтобы удостовериться, настоящий ли это Лоншан, а не очередной явившийся дух.
– Гийом? Ты здесь откуда?
Черные глаза Лоншана блестели от непролившихся слез.
– Господь накажет их за это, сир, – сказал он, стараясь распутать цепь. – После того как твой брат отправил меня в изгнание, я удалился в Нормандию. Но едва прослышав о твоем плене, поехал в Рим, а оттуда в Германию. Когда я прибыл в Шпейер, Генрих уже уехал в Хагенау, а о твоем местонахождении никто не знал. Епископ Шпейерский по секрету поведал мне рассказ одного из стражников: что на рассвете за тобой пожаловал императорский сенешаль Марквард фон Аннвейлер. Епископ Отто клялся, что непричастен к этому делу и не знает, куда тебя увезли. Но стоило мне надавить, он признал, что скорее всего в замок Трифельс.
Все это было мало интересно Ричарду, но перебить Гийома он не мог, потому как изо всех сил старался сдержать приступ кашля.
– Ну… Я скорее имел в виду то, как тебе удалось уговорить бургграфа пустить тебя ко мне? Да и вообще как вы с ним общаетесь – он ведь ни французского, ни латыни не знает…
– Арнольд послужил мне в качестве переводчика, сир. Отправляясь сюда, я нанял проводника, знающего немецкий. – Лоншан указал на долговязого юнца, который осклабился в ответ. – А бургграф не посмел отказать мне. Я сообщил ему, что являюсь не только рукоположенным епископом, но и папским легатом, и дал священную клятву, что если он немедленно не пропустит меня, я предам его анафеме и тем самым обреку его жалкую душонку на вечную тьму.
Лоншан стал подниматься – задача не простая, потому как Гийом с рождения был хром на обе ноги. Но когда Арнольд вознамерился помочь, канцлер отмахнулся, поскольку был жутким гордецом. Встав, он обернулся и устремил взгляд пылающих черных глаз на бургграфа.
– Скажи ему, Арнольд, что он заслуживает позора и порицания. Жизнь английского короля драгоценна для Всевышнего и для императора тоже: если быть точным, эта цена определена в сто пятьдесят тысяч серебряных марок. Если король умрет в Трифельсе, император лишится выкупа. И если смерть приключится тогда, когда он находился на попечении у этого глупца, то кого признают виновным?
Он сделал паузу, чтобы проводник перевел, а сам тем временем не спускал с бургграфа пылающего взгляда.
– Скажи ему, что гнев императора будет ужасен, но еще ужаснее будет гнев Божий. За убийство человека, принявшего крест, сражавшегося за Христа в Святой земле, ему предстоит корчиться в самом жарком пекле ада. За все, что претерпит от его рук английский король, ему воздастся тысячекратно. Тех, кто попадает в ад, терзают демоны, их топят в реках из кипящей крови, швыряют в озера огня. Но как бы ни были ужасны эти пытки, они не худшая из кар, постигающих проклятых. Самая страшная кара заключается в том, что эти обреченные души никогда не узрят лика Господа.
К этому времени лицо бургграфа приняло оттенок кислого молока, и даже Арнольд побледнел.
– Он говорит, что любит Бога и не хочет гореть в аду, – перевел юнец слова чиновника. – Что следует ему делать?
– Пусть пригласит лекаря или аптекаря из деревни внизу, чтобы тот излечил лихорадку короля. И пусть не медлит.
– Он… Он думает, что это не разрешено, милорд. Что так никогда раньше не делали.
– Такого тоже никогда раньше не делали! – рявкнул Лоншан, указав на скованного узника на лежанке.
Проковыляв к бургграфу, канцер ткнул в него перстом наподобие пророка из Ветхого завета, метающего громы небесные в нераскаявшихся грешников, и бургграф попятился перед ним.
Стражи были заворожены этим небывалым зрелищем и наблюдали за ним округлившимися глазами и раззявив рты. Когда Лоншан стал сыпать проклятиями на латыни, немец дрогнул и пообещал немедленно послать за аптекарем. И глядя как здоровенный наглый бургграф трепещет перед миниатюрным канцлером, Ричард улыбнулся впервые с того момента, как его перевезли из Шпейера в эту уединенную горную цитадель.
* * *
Аптекарь был пожилой и явно испугался вызова в замок, однако захватил с собой припас лекарственных трав и научил Арнольда как их применять. Несколько часов спустя приступы кашля у Ричарда стали реже, а в горле больше не так саднило. Сам король полагал, что не помешал еще и первый за время его пребывания в Трифельсе приличный обед: котелок горячего супа с не успевшим зачерстветь хлебом. По настоянию Лоншана узнику даже принесли кувшин вина. Выписанное аптекарем сонное снадобье начинало действовать, и король сквозь дрему улыбнулся канцлеру.
– Я воистину рад твоему приезду, – сказал он. – А воспоминание о том, как ты перемолол в кашу этого мужлана бургграфа, я до смерти не забуду.
Его собеседник поерзал, стараясь устроиться – он настоял на том, чтобы ему разрешили сесть на полу рядом с кушеткой Ричарда.
– Бог не забыл тебя, монсеньор. Не надо отчаиваться, – воскликнул он с чувством, почти умоляюще. – Ведь я приехал вызволить тебя отсюда.
Ричард сомневался не в искренности намерений канцлера, а только в его способности свершать чудеса.
– Тебе не получится запугать императора на манер нашего бургграфа, Гийом, – заметил он, зевнув. – Для Генриха ад – дом родной…
– И все-таки, сир, я что-нибудь придумаю. Клянусь спасением моей души.
Ричард не ответил. Его ресницы медленно прикрыли глаза, а ровный ритм дыхания подсказал канцлеру, что король уснул. Канцлер с первыми лучами рассвета планировал направиться к императорскому двору в Хагенау, и знал, что ему самому надо выспаться. Но уйти отсюда он не мог. Хотя ему и удалось заставить бургграфа выдать Ричарду второе одеяло, холодный ночной воздух по-прежнему гулял по камере, проникая через бойницы. Гийом снял с себя плащ и бережно укутал им спящего.
Жизнь у Лоншана была нелегкая, и в определенном смысле делалась еще труднее из-за того, что его немощное тело служило приютом для высокого ума. Сколько Гийом себя помнил, над ним жестоко насмехались, ибо в их век физический изъян зачастую рассматривался как признак внутреннего греха. Он скоро понял, что намного превосходит умом своих мучителей, и с младых ногтей дал себе зарок всем это доказать. Сгорая от желания превзойти всех этих идиотов с их красивыми лицами, здоровыми телами и пустыми головами, Гийом рассматривал церковь как единственное доступное ему поприще. Не обладая ни обаянием, ни приятной внешностью, ни семейными связями, он мог полагаться только на свой интеллект, и тот со временем добыл ему место клерка при Жоффе, незаконнорожденном сыне старого короля, занимавшем тогда пост канцлера. Тем карьера Лоншана скорее всего и ограничилась бы, не доведись ему случайно повстречаться с Ричардом, в ту пору молодым герцогом Аквитанским.
Сложно было представить двух более непохожих людей: принц, щедро одаренный природой, и калека-карлик. Но к изумлению Лоншана, Ричард не поглядел на физические изъяны, проник за завесу неприглядной внешности и смог оценить отточенный как сталь ум. Гийом стал канцлером Ричарда, и когда тот был коронован, стал канцлером Англии. Ричард возвел его в сан епископа Илийского, дал должность главного юстициара, выхлопотал назначение папским легатом и, отправляясь в Святую землю, оставил свое государство на попечение Лоншана.
Никогда амбиции Гийома не достигали подобных высот: он осмелился даже мечтать о главной вершине, престоле архиепископа Кентерберийского. Лоншан пользовался новоприобретенной властью, чтобы облагодетельствовать членов своей семьи, отомстить своим давним обидчикам и воздать должное тем, кто, оберегая королевский трон, так и не получил награды. Но где-то на этом своем пути он сбился с дороги. Гийом настроил против себя тех, в чьей поддержке нуждался, слишком открыто выражал презрение к англичанам и их треклятому острову и наконец угодил в ловушку, расставленную младшим братом короля, который оказался умнее, чем он думал. За месяцы в изгнании у него не было иных занятий, кроме как переживать заново свое головокружительное падение и пытаться осмыслить его причины, и он пришел к выводу, что во всем виновата его безбожная гордыня.
Но даже больше чем личное унижение тяготило его осознание того, что он подвел короля, единственного человека, который в него поверил. Преданность Ричарду долгое время была путеводной звездой Лоншана, чувством почти религиозным по своей силе. Оно коренилось как в благодарности Ричарду, который по достоинству оценил его, так и в тех ощутимых благах, что приносил королевский фавор. Это чувство не ушло с опалой, напротив, разгорелось еще сильнее за темные дни минувшего года. Гийом горел желанием исправить свои ошибки, хотя и знал, что второй шанс редко дается в этом мире, особенно таким, как он. И тут вдруг понял, что Господь оказался милостивее к нему, чем можно было надеяться.
– Однажды я подвел тебя, сир, – промолвил Лоншан. – Но больше этого не случится.
* * *
Ричард прекрасно понимал, что пламенное обещание канцлера не более чем способ выразить свое возмущение и преданность. И все же после визита Лоншана воспрянул духом. Проснувшись поутру, он был тронут, обнаружив себя закутанным в плащ епископа, и пришел к мнению, что приезд Гийома оказался очень своевременным, потому как только выписанное аптекарем снадобье предотвратило серьезный приступ болезни. А что еще важнее, мир вскоре узнает о его заточении в печально известной императорской крепости. Сколько бы трупов не нашло свое упокоение в Трифельсе, его тела в их числе не будет.
До того он утратил счет дням, но узнав, что Лоншан приехал в Трифельс на восьмой день заключения, решил вести календарь. Каждое утро он ухитрялся делать на стене отметку краем одного из своих наручников и гнал от себя мысль, что когда-нибудь наступит день и свободного места в пределах досягаемости его цепи уже не останется. Время король коротал, сочиняя песни, составлял списки тех, к кому у него есть кровный счет, и пытался угадать, какие еще заоблачные и возмутительные требования предъявят ему, когда рано или поздно состоится их с императором встреча. Но едва ли это случится в ближайшие недели. Если верить этому хорьку Бове, Генрих даст узнику время впасть в отчаяние и разувериться во всем.
Поэтому Ричард был удивлен, когда на шестнадцатый день плена дверь открылась, и в камеру вошел Марквард фон Аннвейлер в сопровождении бургграфа. Ричард проворно поднялся, уже научившись управляться с цепью. Король обратил внимание на спокойный и довольный вид сенешаля, но решил, что он вел бы себя так же даже в случае, если получил от императора приказ перерезать английскому государю глотку.
– Ну, милорд, теперь у меня появился лишний повод никогда не забыть тебя, – заявил Марквард с порога. – Ты был первым королем, которого мне довелось доставить в Трифельс, и первым узником, которого я увожу отсюда.
Ричард испытал огромное облегчение, потому что не мог представить себе места худшего, чем Трифельс.
– И куда меня отправят теперь?
– К императорскому двору в Хагенау. Сдается, у твоего канцлера воистину золотой язык.
Марквард бросил взгляд через плечо, и, когда бургграф посторонился, Ричард увидел ковыляющего за ними Гийома де Лоншана.
– Боже мой, Гийом, – воскликнул король изумленно. – Ты сделал это!
Обычно Лоншан был скуп на улыбку, но тут ухмылялся во весь рот, а его темные глаза сияли.
Повернувшись к бургграфу, он протянул к нему раскрытую ладонь. Немец сунул в ладонь ключ, и карлик прихрамывая направился к кровати.
– С твоего позволения, монсеньор, – сказал он.
Ричард с усмешкой подставил скованные запястья, и канцлер сунул ключ в первый замок. Когда с наручниками и цепью было покончено, король подумал, что никогда не слышал звука более приятного, чем звон ниспадающих на пол цепей.
Марквард невозмутимо наблюдал, довольствуясь тем, что выполняет приказы императора, как бы он сам к ним ни относился.
– Воду для мытья уже согрели, – сказал он Ричарду. – А твой канцлер привез тебе новую одежду. Когда будешь готов, стража препроводит тебя в большой зал.
Как только Марквард и бургграф вышли из комнаты, Ричард схватил коротышку-канцлера в охапку, поднял в воздух и описал с ним широкий круг.
– Тебе и впрямь это удалось!
Лоншан даже покраснел.
– Сир, так не подобает, – запротестовал он, и Ричард поставил его на пол, припомнив, как однажды в шутку хлопнул канцлера по плечу и едва не свалил с ног.
– Прости, – смеясь, сказал он. – Ну, я тебя хотя бы не расцеловал! Как ты это проделал, Гийом? Как сумел заставить этого выродка переменить намерения?
– Сказал, что застал тебя тяжело больным. Ну, я, может, малость и преувеличил, но мне требовалось изобразить все так, будто ты на пороге смерти. И добавил, что ему следует знать то, что епископ Бове от него утаил: что ты подвержен приступам четырехдневной лихорадки, и, если такой случится во время твоего пребывания пленником в Трифельсе, он наверняка станет последним.
Лоншан бросил на короля быстрый, пытливый взгляд.
– Надеюсь, ты не сердишься, сир, что я рассказал про твои прошлые хвори? Мне очень важно было убедить императора, что, находясь здесь, ты подвергаешься серьезной опасности.
– Пламя адово, Гийом! Да я не стал бы возражать, скажи ты ему, что у меня проказа, если это поможет выбраться из этой вонючей дыры!
– Нам ясно теперь, что на самом деле он не заинтересован в твоей смерти. Разумеется, я указал на то, как много он потеряет, если ты умрешь в Трифельсе. Император не только не получит выкупа, но и нанесет своей репутации непоправимый удар – стоит только разнестись вести, что он упрятал тебя в Трифельс и тем самым убил. Еще я уведомил его, что уже послал гонцов к твоей королеве-матери в Англию и к его святейшеству в Риме с известием о твоих обстоятельствах. Мне подумалось, что неразумно позволить Генриху думать, будто только я один знаю тайну твоего заключения в этом замке, – сухо заметил Гийом.
Ричард выразил ему похвалу очередной одобрительной улыбкой и подумал, что Генрих наконец-то столкнулся с ровней себе по части козней.
– Потом я проявил озабоченность, что рано или поздно слухи дойдут до мятежников, и те не преминут воспользоваться твоими бедами, чтобы стяжать новых сторонников. Многие из тех, кто присутствовал на имперском сейме в Шпейере и признал английского короля невиновным по всем пунктам выдвинутого против него обвинения, сочтут повод примкнуть к бунту более весомым. Все это, разумеется, я заявил с большим сожалением.
– Ну еще бы.
Ричарду было ясно, что Лоншан намерен во всех подробностях изложить историю своего триумфа – канцлер никогда не страдал от ложной скромности. Но прерывать его не собирался – пусть хвастает хоть целый год, он это вполне заслужил. Но что-то здесь наводило на подозрение. Вполне понятно было опасение Генриха лишиться ценного пленника, жизнь которого стоила сто с лишним тысяч серебряных марок. Но ему достаточно было отдать приказ обращаться с узником более мягко или перевести в менее зловещую тюрьму. Переезд же из Трифельса к императорскому двору в Хагенау казался головокружительным поворотом колеса Фортуны.
– Что еще ты ему сказал, Гийом? О чем пока не упомянул в своем рассказе?
Теперь пришел черед Лоншану расцвести в одобрительной улыбке.
– Я намекнул, что крайне близоруко наживать смертельного врага в лице английского короля. Союзы переменчивы, как приливы и отливы, и может настать день, когда Священная Римская империя и Англия заодно встанут против Франции.
– В самом деле? И каков был его ответ?
– Ну, прямо об этом разговор не шел, только околичностями и иносказаниями. Другими словами, лукавым языком дипломатии. Понимаешь ли, государь, я навел справки про нашего несвященного императора и выяснил, что он не так твердо держится за союз с Францией, в отличие от отца. Генрих питает амбиции, которые распространяются далеко за пределы его державы. Он мечтает о том, что немцы называют «Weltherrschaft», что можно перевести как «всемирная империя». Первым шагом к ней, ясное дело, должно стать покорение Сицилии. Но со временем придет черед и других стран, и тогда Франция станет самой привлекательной мишенью.
Улыбка Лоншана как никогда ранее напоминала гримасу торжества.
– Говоря о Франции, я позаимствовал страничку из твоей книги, монсеньор. Епископ Шпейерский рассказал, как умно ты переложил вину за твои беды на французов и тем помог императору сохранить в трудный момент лицо. Поэтому я сообщил Генриху, что ты целиком винишь епископа Бове за дурное обращение с тобой. И добавил, что знаю тебя получше Бове, и что тяготы тебя не сломят. Сколько бы ни держали тебя в Трифельсе, этого не случится.
Ричард промолчал, но когда он опустил взгляд на валяющиеся у ног цепи, на лице его выступила краска. Лоншан этого не заметил и продолжил:
– Еще я заявил Генриху, что уполномочен вести переговоры от твоего имени и убежден, что мы достигнем взаимоприемлемого соглашения. Я убедил его, что вернуть тебя к своему двору – это в его же собственных интересах.
– И тебе это удалось. Твой успех воистину удивителен, Гийом. Ты переиграл хитрого паука, и я никогда не забуду, что именно тебе обязан освобождением из его сетей.
Лоншан просиял:
– В этом мне помогли, сир. Одна добрая и благородная дама.
Брови у Ричарда поползли на лоб – он знал, что Лоншан разделяет присущее клирикам недоверие к женщинам, уничижительно называющих их дочерями Евы.
– Я воистину надеялся, что преблагославенная Дева Мария будет на моей стороне, – сказал король, поскольку мог представить только одну особу слабого пола, которую канцлер мог бы так восхвалять.
Гийом кивнул.
– Да, а еще на твоей стороне императрица Констанция, – сказал он с тихим удовольствием человека, разоблачающего сокровенную тайну. – Император поначалу отказался встретиться со мной, а каждый день моей задержки означал для тебя лишний день страданий в Трифельсе. Тогда я обратился к императрице, и та убедила мужа принять меня.
Ричард удивился. Но об этом можно поразмыслить позже, а пока всего, чего он хотел, так это отряхнуть с ног прах Трифельса. Но шестнадцать дней в цепях подорвали его силы. Мышцы ослабели, а попытавшись сделать первые несколько шагов, он испытал головокружение. Запястья были сильно стерты кандалами и саднили, когда король растирал их, восстанавливая кровообращение. Слушая Лоншана, он осторожно прохаживался, привыкая, пока не почувствовал, что готов двинуться по лестнице.
– Пойдем отсюда, – сказал Ричард, но тут взгляд его упал на сброшенные цепи.
Он наклонился, поднял их, подержал, прикидывая вес, потом раскрутил и с силой ударил об стену. Стражи оторопели, но возражать не стали. Ричард молотил наручниками о камень до тех пор, пока замки не разлетелись вдребезги. Только тогда он швырнул цепи на пол и вышел из камеры не оглянувшись.
* * *
Ричард наслаждался теплыми лучами солнца, падающими на лицо. Трифельс был не только наводящей ужас тюрьмой, тут размещалась одна из самых любимых резиденций родителя Генриха, с очень удобными покоями и обнесенным стеной садом. Здесь сейчас Ричард и пребывал со своим канцлером. Они сидели на деревянной скамье, стражники со скучающим видом прохаживались поблизости. Отъезд в Хагенау было решено отложить до завтрашнего утра: официально по причине всего нескольких оставшихся часов до наступления темноты, а на самом деле, чтобы король смог немного восстановить силы. Ричарду не терпелось увидеть, как Трифельс тает вдали, но пока он довольствовался тем, что вдыхает свежий, вольный воздух и видит, как перистые облака волнами расчерчивают небо, бездонное, как Греческое море.
– Только подумай обо всех тех бедолагах, что томятся в подземелье, – печально произнес он. – Правда, что если человек много лет не видит солнца или неба, он делается слепым, как летучая мышь?
Лоншана пленники в ранге ниже королевского не интересовали, и он пожал плечами. Он ничего в жизни не боялся так сильно, как того, что ему предстояло сказать сейчас.
– Сир… Я должен поговорить с тобой о событиях, приведших к моему изгнанию из Англии.
Ричард о них уже знал. Письмам требовались месяцы, чтобы достичь Святой земли, но рано или поздно они доходили. Лоншан столкнулся с сопротивлением знатных лордов, презиравших его за низкое рождение, уродливое тело и надменный дух, но к падению его привели собственные ошибки. Ричард велел своим братьям Джону и Жоффу жить до его возвращения вне Англии, но затем уступил настояниям матери. Лоншан не поверил, что Жоффа освободили от клятвы, и стоило архиепископу сойти на берег в Дувре, канцлер велел кастеляну тамошнего замка, мужу своей сестры, арестовать прелата. Жофф укрылся в приорате Св. Мартина, и после нескольких дней противостояния его силой вытащили оттуда и заточили в замок. Лоншана тогда в Дувре не было, и едва прознав о случившемся, он сразу приказал отпустить Жоффа. Но было уже поздно. Народ возмутился подобным обращением с архиепископом и нарушением неприкосновенности священного убежища, тем более что убийство архиепископа Кентерберийского в его собственном соборе свершилось всего двадцать лет назад. Остальные епископы объединились против Лоншана, Джон объявил себя защитником сводного брата, которого всегда презирал, и запоздалые попытки канцлера умиротворить врагов не принесли плодов. Смещенный с высокого поста, Гийом искал убежища в Лондонском Тауэре, и его канцлерству настал бесславный конец.
Но худшее поджидало Лоншана впереди. Для человека столь слабого тела он обычно выказывал на удивление сильный дух, но тут он потерял самообладание и вопреки велению большого совета попытался сбежать из Англии. До Ричарда дошли несколько версий этой неудавшейся попытки. Согласно одной из них, канцлер переоделся в рясу монаха, по самой распространенной – в женское платье. Но его задержали, установили личность, и главный из его недоброжелателей епископ Ковентрийский Гуго де Нонан распространил неприличное, издевательское письмо с описанием злоключений Лоншана на дуврском берегу, где к нему пристал похотливый рыбак, принявший переодетого беглеца за шлюху.
Вне зависимости от того, были ли правдивы эти истории, Ричард не хотел унижать Лоншана их пересказом.
– Мне известно, что случилось, Гийом. Не стану отрицать, что ты наделал серьезных ошибок. Мне не доставило радости узнать о них, хотя в твоей преданности я никогда не сомневался. Но виноват не ты один: виноватых и помимо тебя хватает. Теперь ясно, что братец Джонни с самого начала собирался вредить тебе. Что до Жоффа… Ну, этот и со святым Петром у райских врат спорить будет.
Ричард потрепал собеседника по плечу.
– Что было, то прошло, и не будем больше об этом.
Но вместо облегчения, которое ожидал увидеть король, на лице канцлера читалось лишь отчаяние.
– Сир… это еще не все. Враги уже давно опорочили и оклеветали меня. Верно, что я не знатного происхождения, но вовсе не внук серва, как утверждает епископ Ковентрийский. Мой отец держал рыцарский лен от Гуго де Ласи. Я также не пренебрегал советами моих собратьев-юстициаров и не жил в такой роскоши, как на меня наговаривают. Недруги обзывают меня «темным чужестранцем» и презирают за то, что я не англичанин. Но настоящая причина их обид кроется в том, что я оказался не податлив и покорен, как им хотелось, и осмеливался бросать вызов «лучшим». Не отрицаю, я обращался за советом к своей родне и слишком полагался на своих соотечественников-«чужестранцев», ставя на должности уроженцев моей родной Нормандии.
– Мне все жалобы в твой адрес известны, – отрезал Ричард несколько нетерпеливо, потому как не видел смысла обсуждать сейчас эту тему.
Щеки у Лоншана стали пунцовыми.
– Но до тебя не дошло самое гнусное из обвинений, милорд король. То, которое распространяет обо мне этот сын погибели, епископ Ковентрийский. Я и сам узнал о нем лишь недавно. Оно отвратительное до омерзения. Гуго де Нонан и его прихлебатели утверждают, что я… что я повинен в самом тяжком из грехов – что я брал на свое ложе маленьких мальчиков.
Говоря, он смотрел на свои сцепленные руки, но теперь заставил себя поднять голову и встретиться с взглядом Ричарда.
– Монсеньор, я клянусь тебе, что все это низкая, подлая ложь. Никогда, никогда, никогда не был я замешан в подобном извращении, таком…
– Довольно! – Ричард повернулся на скамье, обратившись лицом к собеседнику. – Вот, посмотри, – продолжил он, протянув к нему руки ладонями вверх. – Ты видишь на моих руках кровь Конрада Монферратского? Должен ли я поклясться перед тобой, что не сговаривался с Саладином предать королевство Иерусалимское? Вот и тебе нет нужды клясться в своей невиновности. Я знаю, что в этих обвинениях нет правды, потому что знаю тебя.
Лоншан смежил на миг глаза. Ошеломленный обвинениями, гнусность которых он не мог даже представить, Гийом даже от необходимости озвучить их цепенел, но счел необходимым довести до сведения короля существование подобных слухов.
– Спасибо, монсеньор, – пролепетал он так тихо, что слова едва достигли ушей Ричарда.
– Согласен, эти обвинения особенно мерзкие. Но тебе, Гийом, следует помнить одно: они исходят из уст Гуго де Нонана. Это само по себе вызывает подозрение у людей, потому как грехам самого Гуго нет счета. Если из рассказов о нем справедлива хотя бы половина, то единственная его надежда получить отпущение – это найти священника настолько пьяного, что он исповедал бы самого Люцифера. Мало кто верит де Нонану.
Ричард знал, конечно, что это не совсем так: порочащие слухи распространяются быстрее любой заразы. Но то было единственное утешение, которое он мог предложить.
Лоншан ухватился за него, как утопающий за соломинку, настолько ему хотелось верить, что никто не прислушается к клеветническим измышлениям епископа Ковентрийского. Ему даже удалось выдавить слабую улыбку в ответ на колючую остроту Ричарда.
– Сир, нам надо еще кое-что обсудить, прежде чем мы вернемся в большой зал. В своей жизни я встречал много плохих людей: алчных, завистливых, гневных, чрезмерно гордых.
Ричард наклонил голову набок, лукаво усмехаясь.
– Если ты намерен отчитать меня за мои грехи, то не я виноват в том, что мне так давно не представлялось шанса покаяться в них. Да и из смертных грехов я повинен не более чем в трех: гневе, гордыне и похоти[14].
– Я не о твоих грехах веду речь, монсеньор. Все мы грешны, такова наша природа. Но мне встретились только два человека, которых я могу заклеймить как истинных злодеев. Один из них – презренный выродок Гуго де Нонан. Второй – Генрих фон Гогенштауфен.
– Я буду последним, кто оспорит это утверждение. Но к чему ты клонишь, Гийом?
– Когда мы приедем в Хагенау, Генрих захочет обсудить с тобой новые условия освобождения. У меня нет сомнений, что он никогда не выпустит тебя без уплаты очень большой суммы. Знаю, как трудно будет тебе согласиться на такой грабеж, но у тебя действительно нет выбора, и я хочу, чтобы ты твердо понимал это.
Ричард молчал так долго, что канцлер забеспокоился.
– Я понимаю, – промолвил король наконец. Взгляд его был устремлен через сад на сложенные из плит красного песчаника стены замка. – И выкуп еще не самое худшее. После Трифельса мы знаем, что Генриху наплевать на собственную честь, а это значит, что данное им слово ничего не стоит.
Глава XIII Хагенау, Германия
Апрель 1193 г.
Едва переступив порог большого зала императорского дворца, Ричард почувствовал, что все взоры устремлены на него. В них не чувствовалось открытой враждебности, преобладало скорее любопытство, и король предположил, что слух о его оправдании в Шпейере докатился и сюда. Сопровождаемый караулом, он направился к помосту, придерживая шаг, чтобы канцлер не отставал. Лоншан бросал на него благодарные взгляды, ценя эти мелкие проявления доброты, которые не нуждались в признании. Приближаясь к возвышению, Гийом тихо молился, чтобы государь сумел сдержать свой темперамент, не поддаваясь ни на какие провокации.
Поклявшись себе, что будь он проклят, если снова преклонит колени перед этой бесстыжей свиньей, Ричард пошел на компромисс в виде короткого поклона. Генрих взирал на него с циничной усмешкой.
– Мы рады приветствовать короля английского при нашем дворе. Нас согревает надежда, что вскоре мы ознаменуем нашу дружбу договором о союзе между Англией и империей.
Ричард оскалил зубы в ответной улыбке:
– Я этот альянс ценю не меньше тебя, милорд император.
– Да, – довольным тоном заметил Генрих. – Это замечательно, что между нами такое согласие.
Ричард повернулся к женщине, сидящей рядом с Генрихом. Констанция д’Отвиль вышла замуж поздно, в тридцать один год, поскольку ее племянник, король Сицилийский, не спешил подыскать ей подходящую партию. Она была на одиннадцать лет старше Генриха, и за семь лет брака чрево Констанции еще не наполнялось ни разу. И несмотря на это, Ричард полагал, что супруг не разведется с ней как с неплодной, потому как его претензии на Сицилию покоились на этих хрупких плечах. Джоанна описывала ему Констанцию как красавицу, но Ричард нашел ее чересчур худой. Кожа плотно обтягивала ее скулы, а губы давно отвыкли улыбаться. Остатки былой красоты угадывались только в голубых, как сапфир, глазах. Но сейчас в глазах этих не было чувства, они не выражали ничего. Эта женщина навела Ричарда на мысль о замке, осажденном противником, но намеренном стоять до последней капли крови.
– Госпожа, я рад наконец встретиться с тобой, – произнес король, поцеловав ей руку, и удостоился едва слышной любезности в ответ.
Он собирался поприветствовать дядю императора Конрада, графа Рейнского палатината, но на него энергично налетел епископ Батский.
– Монсеньор, как я рад видеть тебя здесь, в Хагенау!
– Эта встреча состоялась бы раньше, не пожелай император показать мне сначала свой замок в Трифельсе.
Реплики от Генриха не последовало, но Ричард ее и не ожидал. Он наблюдал за реакцией остальных собравшихся. Выражение удивления на лице Конрада. Почти неприметно дрогнувшие уголки губ Констанции. Саварик Фиц-Гелдвин, быстро отведший взгляд. Значит, Конрад не был осведомлен о его визите в Трифельс. А вот епископ знал. С какой стати Генриху доверяться этому пронырливому, самовлюбленному интригану?
Генрих, сидя на троне, наклонился вперед и устремил на Ричарда пронзительный взгляд:
– Теперь, когда наметился наш союз, я стал подумывать о том, как мне лучше проявить свою добрую волю. И тут меня осенило. В моем положении я способен резко изменить твою судьбу к лучшему, милорд король.
Ричард ощутил, как плащ канцлера коснулся его плаща, когда Лоншан подступил ближе.
– И каким же образом, милорд император?
– Мне пришло в голову, что престол архиепископа Кентерберийского вакантен вот уже два года. Случилось так, что у меня имеется идеальный кандидат на эту должность, мой кузен, епископ Батский.
Первой реакцией Ричарда был не гнев, а недоумение. Он воззрился на императора, отказываясь поверить, что даже Генриху хватит наглости так беспардонно вмешиваться в английские дела.
– Как любезно с твоей стороны заботиться об интересах английской церкви. Я должным образом рассмотрю кандидатуру епископа Батского.
– Знаю, что ты учтешь мой интерес. Но право же, рассматривать тут нечего. В конечном счете мой кузен подходит по всем статьям. Я с удовольствием предоставлю в твое распоряжение собственного писца, чтобы тот составил письмо королевским юстициарам Англии, уведомляющее их о распоряжении их повелителя на этот счет.
Лоншан неприметно коснулся руки короля, надеясь, что его безмолвное послание дойдет до адресата. Но оно уже эхом отдавалось в ушах Ричарда: «Сделай все возможное, чтобы удержать Генриха от продажи тебя французам».
– Если это порадует моего нового союзника, то порадует и меня, – ровным голосом сказал он.
Генрих кивнул и на губах его снова обозначился намек на улыбку.
– Хорошо, что между нами царит взаимопонимание, милорд король. Это отличный задел для будущих достижений.
– Государь, как смогу я отблагодарить тебя? – Саварик Фиц-Гелдвин, в мелодраматическом жесте рухнув перед Ричардом на колени, с восторгом смотрел на него. – Какая великая честь! Обещаю, ты не пожалеешь. Я буду предан тебе до последнего моего вздоха.
Ричард смотрел сверху вниз на раскрасневшегося, восторженного прелата, и на лице его не дрогнул ни один мускул.
– Не переживай, милорд епископ, – сказал король. – Мне прекрасно известна цена твоей преданности.
* * *
Следующие два часа были весьма неприятными для Ричарда. Многие из окружения императора стремились представиться ему или возобновить знакомство, начатое в Шпейере. Ему приходилось улыбаться, поддерживать светскую беседу и вести себя так, будто ничего не происходит. Новые его друзья были по преимуществу церковники. Они были очень рады, что теперь, когда король и Генрих вроде как примирились, им не придется делать мучительный выбор между верностью императору и папе. Ричард старался как мог, но у него разыгралась страшная головная боль и он сказал Лоншану, что этот фарс следует немедленно заканчивать.
Гийома удивляло то, что король продержался так долго.
– Я извещу Генриха, что ты готов отбыть, – пообещал он и заковылял к помосту.
Вопреки вежливой формулировке, Ричард понимал, что на самом деле никуда они не отбудут без разрешения на то императора, и это была еще одна горькая капля в и так уже дрянном напитке. Но ожидая возвращения Лоншана, он заметил стоящую в нескольких шагах от него императрицу, которая разговаривала с епископом Вормсским. Как только епископ удалился, Ричард свернул свою беседу с парой архидьяконов и подошел к Констанции:
– Госпожа, могу ли я перемолвиться с тобой?
– Разумеется, милорд король. – Верно истолковав взгляд, брошенный Ричардом на ее фрейлин, Констанция добавила: – Мои дамы не знают французского, поэтому мне редко выпадает шанс поговорить на моем родном языке.
Ричард оценил тонкость, с которой она дала ему понять, что они могут беседовать откровенно.
– Мой канцлер поведал, как сильно ты помогла, устроив ему аудиенцию у императора. Если бы не твоя доброта, я до сих пор наслаждался бы сомнительным гостеприимством Трифельса. Хочу сказать, что теперь среди твоих должников числится король – я всегда плачу по своим обязательствам.
Любому стороннему наблюдателю улыбка Констанции показалась бы вежливой и безликой, настолько же лишенной тепла, как и у ее супруга. Но Ричарду почудилось, что в этих на диво сапфировых глазах мелькнула искра.
– Ты ничего мне не должен, – промолвила женщина. – Все, что я сделала, сделано не ради английского короля, но ради брата Джоанны.
* * *
Сразу после прибытия Ричарда в Хагенау головорезов-караульных из Трифельса сменили стражи куда более обходительные и презентабельные. Во время его пребывания в большом зале они старались держаться как можно незаметнее, а затем проводили в новые апартаменты, которые, как жизнерадостно заверил Марквард фон Аннвейлер, наверняка придутся королю «более по вкусу».
Пока они шли, Лоншан время от времени бросал на Ричарда взгляды. Львиное Сердце смотрел прямо перед собой, лицо его ничего не выражало. Но канцлер знал, что он все еще кипит.
– Мне жаль, монсеньор. Я даже представить не мог, что тебя загонят в подобную ловушку. – Ответа он не дождался, но был слишком озабочен, чтобы хранить молчание. – Сир, есть на самом деле шанс, что монахи Крайстчерча изберут Саварика?
– Нет, – ответил Ричард после небольшой паузы. – Генрих и в Шпейере предоставил мне услуги своего писца, да только он не знает, что я написал одно письмо самолично. Уильям де Сен-Мер-Эглиз повез его в Лондон, и оно содержит просьбу моей матери, что я хочу видеть следующим архиепископом Губерта Вальтера.
Лоншан против воли ощутил боль умирающей мечты, хотя и понимал, насколько несбыточна она была. За него монахи обители Христа, быть может, и проголосовали, поскольку он находился с ними в прекрасных отношениях, но вот Англия никогда бы его не приняла.
– Рад слышать это, – признался он. – Потому как восхождение Саварика на архиепископский престол стало бы верным предвестием Апокалипсиса.
– Никогда тому не бывать, – отрезал Ричард. – Даже если бы я и не отправил письма насчет Губерта Вальтера. Мать слишком хорошо знает меня. Она сообразит, что любое послание в поддержку Саварика Фиц-Гелдвина будет написано по принуждению.
Канцлер закусил нижнюю губу: ему подумалось, что прежде Ричард даже представить себе не мог, как действовать по чьему-то принуждению.
– Мне кажется, ты встретил это возмутительное требование как никогда достойно, – произнес Гийом после затянувшегося молчания. – Пока мы выигрываем войну, ничего не значит проиграть ту или другую битву.
Ричард так резко остановился и вперил в Лоншана такой яростный взгляд, что канцлер против воли вздрогнул, хотя и понимал, что королевский гнев направлен не на него.
– Черт побери, Гийом! Еще как значит!
* * *
Губерт Вальтер и Уильям де Сен-Мер-Эглиз совершили путешествие так быстро, что уже через двадцать дней были в Лондоне. Они приехали даже раньше аббатов из Боксли и Робертсбриджа, хотя те и отбыли из Шпейера двумя днями ранее, и поэтому именно им выпала радость поведать королеве о блестящем выступлении ее сына перед имперским сеймом. Затем Губерт и Уильям сели с Алиенорой обедать в большом зале ее апартаментов в Тауэре. Свободные от ограничений великого поста, повара королевы приготовили изысканное угощение. Поскольку с Пасхи открывался сезон охоты, стол государыни украшала жареная оленина, равно как жаркое из ягненка, пирог из каплуна, щавелевый суп с добавлением инжира и фиников, а также горчица из Ломбардии. Слух гостей услаждали арфа и еще один звук, который придворные Алиеноры очень редко слышали в минувшие месяцы: ее смех.
– Не будь ему судьбой предначертано править, из твоего сына вышел бы превосходный законник, – с улыбкой заметил Губерт. – Он последовательно разобрал каждое выдвинутое против него обвинение и опроверг их, выставив напоказ всю их лживость. Ты бы гордилась им, госпожа. Воистину, то был один из лучших его часов.
– Должно быть, это была воистину блестящая защита, раз даже Генрих вынужден был отступить, – сказала Алиенора, улыбнувшись в ответ. – Сегодня вы с Уильямом поднесли мне самый дорогой из всех даров – надежду.
Затем королева воздала должное стоявшему перед ней на блюде пирогу с каплуном, но мысли ее витали далеко – она обдумывала все, чем поделились с ней сегодня епископ и декан.
Уильям Бривер, единственный из присутствующих в городе юстициаров, стал рассказывать Губерту Вальтеру и Уильяму де Сен-Мер-Эглизу о том, что восстание Джона развивается не так, как принц рассчитывал. Его вторжение с флотом наемных фламандских кораблей не осуществилось, потому как Алиенора созвала ополчение на юго-востоке.
– Тогда граф Мортенский высадился с одними своими силами, разместил в захваченных им в прошлом году замках гарнизоны из валлийских рутье, а сам посмел заявиться в Лондон и потребовать от юстициаров присягнуть ему на верность, поскольку король Ричард якобы мертв. Мы, понятно, отказались, и он вернулся в замок Виндзор, который ныне осаждают Вильгельм Маршал и архиепископ Руанский, епископ Даремский тем временем обложил его замок в Тикхилле.
Алиенора внимала Бриверу лишь вполуха. Каплун был жирным, корочка у пирога сочной и ароматной, но королева даже не замечала, что именно ест.
– Генрих не тот человек, который легко выпустит из рук добычу, – задумчиво произнесла она, отложив нож. – И триумф Ричарда не отменяет того факта, что он остается во власти императора. И что бы тот сейчас не говорил, я никогда не поверю, что он удовольствуется военной помощью во время своей сицилийской кампании. Сдается мне, чтобы вызволить моего сына, нам предстоит уплатить изрядный выкуп.
Обведя высокий стол взглядом, она увидела, что епископ, декан и Уильям Бривер согласно кивают.
– А это означает, что нам нужно перемирие с Джоном.
Бривер повернулся на стуле так резко, что расплескал вино на скатерть.
– Но мадам, мы вот-вот возьмем Виндзор!
– Если мы хотим собрать деньги на выкуп, то не можем и дальше тратить огромные суммы на осаду Виндзора и Тикхилла. И если затребованный выкуп будет так велик, что нам не обойтись без дополнительного налога, то как мы сможем удержать народ от волнений? Ничего не удастся собрать, если в королевстве нет мира, пусть даже мира временного.
Бривер в отчаянии взирал на нее: у него не было сомнений, что дай достаточно времени, они возьмут и Виндзор и Тикхилл. Ему подумалось, не материнское ли чувство влияет на решения королевы? Ведь Джон как-никак ее сын. Но высказать свои подозрения вслух юстициар не осмелился, поэтому посмотрел на клириков: не окажутся ли они смелее. Его ждало разочарование.
– Полагаю, ты права, госпожа, – сказал Губерт. – Нам следует в первую очередь позаботиться о свободе Ричарда, и даже если ради этого придется пойти на не самую приятную сделку, то так тому и быть.
Ответ Губерта успокоил Алиенору – она понимала, что не все юстициары и члены совета согласятся с ней, и поддержка епископа Солсберийского – а вскоре архиепископа Кентерберийского – окажется весьма кстати.
– Как повел себя Ричард, узнав от аббатов про сговор Джона с французским королем? – спросила она.
Губерт усмехнулся:
– Мой братец Джон не из тех, кто способен завоевать королевство, были его слова, достаточно кому-нибудь оказать хотя бы малейшее сопротивление.
За высоким столом послышался смех. Глаза Алиеноры блестели задорным зеленым огоньком.
– Мне думается, этот ответ следует распространить как можно шире, – заявила она с холодной улыбкой, из которой Уильям Бривер сделал следующий вывод: он мог по-прежнему не соглашаться с ней, но больше не подозревал, что материнские чувства уводят ее в сторону.
После того как подали последнюю смену блюд, состоявшую из пропитанных медом вафель и засахаренных фруктов, Алиенора дала своим гостям время полакомиться, прежде чем выкладывать плохие новости.
– Мне бы очень хотелось сообщить, что французскому королю сопутствует успех не больший чем Джону. Но увы, это не так. Филипп вкупе с графом Фландрским проник далеко вглубь Нормандии. Он установил контроль над Вексеном, а теперь в его руках еще Жизор и Нофль.
Оба клирика охнули; им хотелось узнать, как удалось Филиппу взять Жизор, один из самых сильных замков Ричарда в Нормандии. Ответ Алиеноры приводил в оцепенение, вызывая к жизни пугающий призрак измены.
– Прискорбно говорить, – сказала она мрачно, – но кастелян Жизора Жильбер де Васкейль предал моего сына, доверившего ему этот пост, и сдал Жизор и Нофль Филиппу, не оказав ни малейшего сопротивления.
Губерт, не только церковник, но и воин, изрыгнул такое заковыристое ругательство, что его сам Ричард не постыдился бы. Но в отличие от Ричарда прелат сразу же извинился за свою несдержанность.
– Что может быть позорнее, чем предать своего сеньора, зная, что тот томится в плену в Германии? Наверняка в аду есть специальный круг для таких вот мерзких себялюбцев.
– К тому же падение Жизора обескуражило тех, кто в ином случае выказал бы больше готовности драться. – Губы Алиеноры сложились в твердую линию. – Иные из лордов, включая троих из тех, кто сражался вместе с моим сыном в Святой земле, дали согласие на проход войска Филиппа через свои владения. В их числе Жофре, граф Першский, муж моей внучки Рихенцы.
Губерт и Уильям де Сен-Мер-Эглиз переглянулись. При всей огорчительности новостей они не были столь уж неожиданными, ведь эти лорды были вассалами не только герцога Нормандского, но и короля Франции. Вынужденные делать непростой выбор, они, вполне естественно, предпочли обещающий защиту их родовым владениям. Их поступок не стоило судить так строго, как поведение жизорского кастеляна, ведь тот не свои земли оберегал, а сдал замки, доверенные ему королем. И все-таки то были люди влиятельные, и их измена вполне могла и других побудить следовать их примеру.
– Это сильно опечалит короля, когда он узнает, – мрачно проронил Губерт. – Мне известно, какого высокого мнения был он о Жофре Першском.
Алиеноре не хотелось даже думать, что испытает ее сын, пленник в чужой стране, узнав об измене тех, кому он доверял.
– Я получила полное сокрушения письмо от внучки, – спокойно сообщила она. – Девочка в печали, но говорит, что у ее мужа не было выбора, ведь Филипп его король. Хотя в ее словах есть правда, моему сыну не легче будет их принять.
Тягостная тишина повисла в зале, угрожая испортить праздничное настроение от привезенных епископом и деканом новостей. Но Алиенора не собиралась так просто сдаваться.
– Нам следует помнить, что все свои потери в Нормандии мой сын возместит, как только вернется. И ему стоит гордиться преданностью английских своих поданных, а также твердостью союзника в лице шотландского короля. Джон подбивал короля Вильгельма на войну с Ричардом, явно памятуя, как охотно примкнул шотландец двадцать лет назад к мятежу против моего покойного супруга. В прошлом скотты никогда не упускали случая погреть руки на беспорядках и неурядицах в Англии. Но не в этот раз. Король не только отверг посулы Джона, но и сообщил, что если для освобождения Ричарда потребуется выкуп, Шотландия внесет в него свой вклад.
Алиенора достигла эффекта, на который рассчитывала, потому что после ее заявления лица в зале просветлели. Когда появился трубадур и начались развлечения, она заверила епископа, что они с Уильямом де Сен-Мер-Эглизом без промедления уведомят монахов Крайстчерча о желании Ричарда избрать Губерта примасом. Припомнив рассказ Ричарда про то, как Генрих разрешил монахам из Винчестера проводить свободные выборы при условии, что они проголосуют только за его кандидата, он передал их разговор Алиеноре, и королева от души рассмеялась и сказала, что не забыла ту историю. Губерт счел добрым признаком то, что ее способны веселить и радовать воспоминания о человеке, который шестнадцать лет продержал ее в заточении.
Первым, кто заметил, как дворецкий королевы проводил в зал нового гостя, был Уильям Бривер. Перепачканная дорожной грязью одежда говорила о том, что это гонец, и то, что он не удосужился привести себя в порядок, прежде чем идти к государыне, намекало на срочность сообщения. Когда он подошел ближе, Бривер узнал в нем одного из людей королевы – человека до мозга костей преданного ей, неприметного и чувствующего себя как дома среди густых теней.
– Мадам! – воскликнул Бривер, но Алиенора уже увидела своего агента.
– Госпожа, – сказал тот, опускаясь на колено. – Прости, что нарушаю твою трапезу, но у меня вести, не терпящие отлагательств.
Алиенора смотрела на гонца невозмутимо, но под столом крепко сцепила лежащие на коленях руки. Она отправила его с письмом к сенешалю Нормандии. Но не ожидала его возвращения так скоро. Да и письма при нем не было видно. Королева прикинула, стоит ли выслушать эти новости без чужих ушей, но отбросила эту идею. Что бы ни произошло в Нормандии, ее соратники должны знать. Жестом предложив курьеру подняться, она сказала:
– Излагай все, что узнал, Джастин. Ты повстречался с сенешалем?
– Нет, мадам. – Он подошел ближе к помосту, ни на миг не спуская с нее взгляда. – Мне не удалось попасть в Руан, потому как город осажден войсками французского короля и графа Фландрского.
Повисла напряженная тишина. Никто не открывал рта, потому как не было нужды озвучивать мысль, и так крутившуюся у всех в уме: если Филиппу достанется Руан, столица Нормандии, власти Ричарда над герцогством будет нанесен смертельный удар.
* * *
Французский король пребывал в отличном расположении духа, что выражалось в появлявшейся время от времени на его лице улыбке. Враги Филиппа Капета заявляли, что тот напрочь лишен чувства юмора. Это было не так, просто оно было слабым из-за отсутствия тренировки. Филипп смотрел на мир очень трезво, что было плодом его раннего восхождения на трон, в возрасте всего пятнадцати лет. Это сказалось на его образовании – он так и не овладел латынью и очень болезненно воспринимал этот изъян, особенно потому, что вечный его соперник, английский король, свободно разговаривал на этом древнем языке. Он не был подвержен пустому тщеславию и отдавал себе отчет, что Ричард всегда будет затмевать его на поле боя. Зато знал толк в осадном деле, где успешно раскрывались его сильные стороны: стратегическое чутье и терпение. И поэтому тем теплым апрельским утром под стенами Руана король уже предвкушал победу.
Этот месяц покуда складывался крайне успешно для двадцатисемилетнего французского монарха. В замке Жизор он видел золотой ключ, способный открыть для него всю Нормандию. Два дня назад из Германии вернулся епископ Бове. Узнав от него, что английский король брошен в темницу Трифельса, он расценивал страдания своего врага как божественное воздаяние. Теперь, получив второй шанс перебить ставку престарелой матери Львиного Сердца, Филипп не сомневался, что сумеет вскоре посадить Джона на английский престол. И он знал, что в день, когда это случится, проклятая Анжуйская империя будет обречена.
Его шатер был полон, хотя мог вместить сотню с лишним человек. Для обеда были расставлены на козлах столы, накрытые белыми скатертями, уставленные серебряными кувшинами и кубками для вина. Блюда были горячими, ароматными, воистину достойными короля. Вино было особенно хорошим, потому что вино Филипп любил и надеялся, что со временем сможет прибрать к рукам знаменитые виноградники Аквитании.
– Выпьем за падение Руана! – провозгласил он, поднимая кубок.
Тост с восторгом подхватили собравшиеся в шатре – люди по большей части высокородные, жадные до добычи, которую обещала кампания. Балдуин, граф Фландрский и отец покойной супруги французского короля, трагически умершей, рожая ему ребенка, сидел на почетном месте справа от государя, а слева располагался кузен короля, епископ Бове. После первой перемены блюд епископ позабавил сотоварищей рассказом о прискорбном состоянии английского короля и заявил, что Ричард умолял вступиться за него перед императором Священной Римской империи. Знавшие Львиное Сердце лично сочли эту деталь маловероятной, но большинству отчет Бове понравился. Еще больше хохота вызвала повесть прелата о позорных обстоятельствах ареста английского монарха. Его, мол, обнаружили в паршивой гостинице, бывшей немногим лучше публичного дома, где он пытался избежать опознания, выдавая себя за помощника повара.
Не все находили басни епископа увлекательными. Жофре, граф Першский, не поднимал глаз от своей тарелки, стараясь не замечать бросаемые на него пытливые взгляды: все знали, что он женат на племяннице английского короля, и потому его преданность вызывала сомнения. Разглядывая жаркое из барашка, Жофре вспоминал мучительное прощание с женой. Он изо всех сил старался убедить Рихенцу, что не может поступить иначе и не откликнуться на вызов Филиппа. Напомнил ей, что Филипп его кузен и его король, и что он вернулся из Святой земли по уши в долгах, а граф Мортенский обещал пожаловать ему Мулен и Бонмулен, как только английская корона достанется ему. Убедить Рихенцу не удалось, но Жофре знал, что женщины создания эмоциональные и что она любит дядю, поскольку выросла при английском дворе. Поэтому граф решил проявить снисхождение к ее глупости, особенно сейчас, когда она считает, что снова непраздна: одного сына жена ему уже родила, когда он уехал в Святую землю. Жофре был твердо убежден, что принял единственно правильное решение. Но почему ему тогда так неуютно в шатре у французского короля?
Не одного Жофре смущало злорадство епископа Бове. Матье, сеньор де Монморанси, с трудом скрывал свое отвращение. Бове он ненавидел, не мог простить ему отказа французов прийти на помощь Яффе. Он не сомневался, что Бове и герцог Бургундский больше старались предотвратить успех английского короля, чем нанести поражение неверным. И с неохотой пришел к выводу, что это подозрение справедливо и в отношении Филиппа.
Когда Матье впервые отправился вместе с отцом в Утремер, ему было всего шестнадцать. Принять крест его побудила смесь юношеского энтузиазма и набожности, и молодой рыцарь был поражен, когда Филипп покинул священную войну, чтобы вернуться во Францию. Матье с ним не поехал: решил остаться и исполнять данный обет. В Святой земле в нем укоренилось восхищение английским королем, который не покинул пост, тогда как Филипп сбежал. Монморанси откликнулся на вызов французского государя, поскольку то был его сюзерен, но он отдавал себе отчет, что они затеяли неправое дело и опасался Господа, который не простит их за предательское нападение на владения короля-крестоносца. Оглядывая шатер, он чувствовал себя изгоем, связанным узами чести с человеком, которого больше не уважал.
– Как думаешь, город сдастся?
Матье повернулся к соседу по скамье, четырнадцатилетнему Гийому, графу Понтье. Мальчишка сопровождал своего дядю Гуго, графа Сен-Поля. Участие в осаде так возбуждало его, что парень напоминал Матье кипящий на огне котел. Отец Гийома погиб под Акрой. Узнав, что Матье тоже был там, юнец так и ходил за ним хвостом. Он жаловался, что дядя Гуго не любит распространяться насчет своего пребывания в Святой земле, и открытость Матье его радовала.
– Да, я полагаю, что Руан покорится королю, – сказал Матье, жалея, что не сможет разделить радости грядущей победы. Но из этого бессовестного нападения может воспоследовать хоть что-то доброе, так как в большом замке Руана томится сводная сестра Филиппа, госпожа Алиса. Матье сочувствовал принцессе, пешке в брачных играх, ставшей пленницей. Когда они еще были детьми, их с Ричардом обручили, но отец жениха, старый король, постоянно находил предлоги отложить свадьбу. Поскольку Ричард особенно не спешил жениться на Алисе, за которой поначалу давали пустяковое приданое, он против задержек не возражал. А став королем, согласился заключить брак после возвращения из Святой земли. Но то был просто способ заставить Филиппа исполнить обет крестоносца. На самом деле Львиное Сердце не желал получить Алису в жены и устроил все так, чтобы его мать доставила на Сицилию ту невесту, которую он сам для себя выбрал.
Матье хорошо помнил стычку между двумя королями в часовне в Мессине. Он слышал, крайне удивленный, как Филипп обвинил Ричарда в вероломстве, и тут же с лихвой получил сдачи от английского короля. Он не может жениться на Алисе, хладнокровно заявил Ричард, потому что по слухам она была наложницей его отца и даже родила ему ребенка. Признав, что такая молва циркулирует при французском дворе, Филипп вынужден был дать согласие на расторжение помолвки, положив в свою копилку еще одну обиду против государя Англии.
Матье не знал, правдивы ли были те слухи, да это и не слишком важно. В самом ли деле король Генрих бессовестно соблазнил девушку, отданную ему под опеку и просватанную за его сына, или же она была невинной жертвой пустой молвы, это ничего не меняло. Ее честь оказалась запятнана, а цена на рынке невест упала ниже некуда. Но теперь, когда французская армия возьмет Руан, несчастная хотя бы обретет свободу. Матье сомневался, впрочем, что дома ее ждет теплый прием. Теперь он полностью разочаровался в своем феодальном сеньоре и был уверен, что Филипп видит в Алисе не сестру, не женщину из плоти и крови, с которой скверно обошлись, но обузу, от которой следует по-тихому и по-быстрому избавиться, скорее всего сослав в подходящий монастырь. И все же молодому человеку казалось, что лучше уж ей быть монахиней, пусть и против воли, нежели заложницей.
– Значит, боя не будет? – В голосе Гийома было столько разочарования, что Матье не сдержал улыбки.
Он чувствовал себя намного старше и опытнее этого наивного, восторженного юнца и собирался уже заверить парня, что приступ к стенам города еще не исключен, когда в шатер торопливо вошел Готье, камергер французского короля. Камергер шепнул несколько слов на ухо Филиппу. Известие явно было приятным, потому как французский монарх прямо-таки расплылся в улыбке.
– Так-так, – воскликнул он. – Похоже, что Руан станет нашим до наступления ночи, потому как осажденные просят о переговорах.
* * *
Наблюдая за приближающимися всадниками, Филипп уже ощущал сладкий привкус триумфа, так как городские ворота остались открытыми – верный признак неизбежной сдачи. Парламентеры ехали под белым флагом, но было при них и еще одно знамя. Король предположил, что оно принадлежит сенешалю Нормандии Вильгельму Фиц-Ральфу. Но ветер развернул полотнище и улыбка сошла у Филиппа с лица. Когда его соратники разглядели герб, послышались приглушенные восклицания и проклятья. Юный Гийом потянул Матье за рукав, интересуясь, что здесь не так. Матье не успел ответить, потому что Филипп уже поскакал навстречу эмиссарам из Руана.
Он кивнул в ответ на приветствие сенешаля, но все его внимание привлекал второй всадник. Он был молод и, даже сидя в седле, выглядел явно миниатюрным. А еще он был очень хорошо знаком французскому королю.
– Не ожидал застать тебя в Руане, Лестер.
Граф улыбнулся:
– Узнав, что ты можешь сюда заглянуть, я поспешил прибыть в город, чтобы успеть засвидетельствовать свое почтение. Когда же мы в последний раз встречались? Ах да, под Акрой… Было ли твое путешествие назад в свои владения благополучным? Как жаль, что состояние здоровья не позволило тебе задержаться подольше. В твое отсутствие мой король старался как мог. Надеюсь, ты слышал о его победах под Арсуфом, Яффой и под…
– Сейчас не время для пустой болтовни, милорд граф! – Филипп сердито зыркнул на собеседника, но злился и на себя за то, что заглотил наживку.
Ничуть не смущенный отповедью, Лестер поздоровался с соратниками по войне в Святой земле, обменявшись радушными приветствиями с графом Сен-Полем, графом Першским и Матье де Монморанси, но обойдя вниманием епископа Бове и его брата графа Дре, как будто те были невидимками. Филипп с недовольством отметил, что Жофре и Матье явно чувствуют себя не в своей тарелке, и даже Сен-Поль несколько смутился.
– Полагаю, вы слышали, что граф Мортенский встретился со мной в Париже, – процедил король. – И принес мне оммаж за это герцогство и другие земли, принадлежащие ему как герцогу Нормандскому и английскому королю.
Брови Лестера взмыли вверх – эту гримасу Филипп слишком часто наблюдал у английского монарха.
– Похоже, что, как ты попутал Акру с Иерусалимом, милорд, так попутал и графа Мортенского с истинным королем английским, который в данный момент пользуется гостеприимством твоего союзника, императора Генриха.
– Ты ведь не дурак, Лестер. А только дурак поверит в то, что Ричард когда-нибудь вернется. Джон – вот твой король, хочешь ты того или нет. И как его сюзерен, я имею все права на Руан. Если попробуешь помешать мне, то сильно об этом пожалеешь. В моем распоряжении двадцать четыре требюше и…
– Сир, тебя ввели в прискорбное заблуждение! У нас нет ни малейшего намерения мешать твоему вступлению в Руан. Не так ли, милорд? – Лестер повернулся к сенешалю, который энергично кивнул в знак согласия.
Филипп переводил взгляд с одного парламентера на другого.
– Так вы хотите сказать, что сдаетесь?
– Вовсе нет, милорд король. Я хочу сказать, что мы будем рады видеть тебя в Руане всегда, когда тебе этого захочется. – Лестер снова расплылся в улыбке, которая с каждым разом раздражала Капета все сильнее. – Посмотри сам: ворота ведь распахнуты, не так ли?
Филипп нахмурился сердито, но и несколько неуверенно.
– Что за игру ты затеял, Лестер?
– Никакой игры, милорд. Я приглашаю тебя в город. Могу без опаски заявить, что король Ричард сильно порадуется, узнав, что ты в Руане.
Филипп слышал за спиной у себя ропот – это новость распространялась среди французов. Его взгляд метнулся с графа на городские ворота, широко открытые и манящие, залитые лучами апрельского солнца. Лестер насмешливо созерцал короля. Видя, что не дождется ответа, граф грациозно всплеснул рукой, повернул коня и обернулся через плечо.
– Мы ждем тебя, монсеньор!
Сенешаль пришпорил лошадь, догоняя спутника. Он вздохнул спокойно, только когда они галопом промчались через ворота. Но стоило ему дать караульным знак закрывать ворота, Лестер стремительно возразил:
– Нет, пусть будут открыты!
Вильгельм Фиц-Ральф испытующе посмотрел на молодого товарища. План графа казался ему безумным, но он согласился под весом авторитета Лестера и того факта, что он был одним из настоящих героев крестового похода.
– Ты уверен, что это сработает, милорд?
Лестер посмотрел на французский осадный лагерь, в котором явно началось какое-то шевеление, в предвечернем воздухе до них доносилось эхо голосов.
– Я знаю Филиппа Капета, – сказал он. – Знаю, как устроен его ум. Он даже в полдень видит тени и дышит не воздухом, как все прочие люди, но подозрениями. И он не из тех, кто возглавляет атаку. Можешь себе представить нашего короля или его господина отца укрывающимися за спинами телохранителей? Филипп и шагу без охраны не сделает. Более того, лазутчик королевы Алиеноры сообщил, что Филипп принял за чистую монету тот бред, который ему скормил Бове: будто наш король нанял сарацин-ассасинов, чтобы те проникли в Париж и убили его. Похож он на человека, который рискнет вступить в Руан после того, как я заронил в нем мысль, будто тут его ждет ловушка?
– Нет, не похож, – признал сенешаль. – Но даже если сам он не осмелится принять твое приглашение, что помешает ему послать в эти открытые ворота войска?
– Гордыня. Тот факт, что я бросил ему вызов перед всей его армией. Не приняв мою перчатку, он потеряет лицо, а этого не может позволить себе ни один военачальник. Солдат у него маловато, чтобы полностью окружить город, и он старается запугать жителей и заставить их сдаться. Получше поразмыслив, Филипп поведет своих людей на поиски менее зубастой добычи, чем Руан.
Сенешаль посмотрел на французскую армию, слишком хорошо видимую через открытые ворота. Помолившись про себя, чтобы затеянный графом блеф сработал, он сказал:
– Надеюсь, ты прав, милорд.
Вильгельм находился достаточно далеко и не услышал, как Лестер пробормотал себе под нос:
– И я тоже на это надеюсь.
* * *
Наблюдая за врагом с городских стен, руанцы время от времени слышали доносящиеся из шатра французского короля сердитые крики. Они явно свидетельствовали о внутреннем разладе, и горожане черпали в этом надежду. Лестер отлучился в ближайшую таверну подкрепиться, но тут его позвали к сенешалю. С колотящимся сердцем и пульсацией в висках граф, прыгая через две ступеньки сразу, стал взбираться на парапет.
– Ты только посмотри! – Вильгельм Фиц-Ральф широко улыбался. – Они сворачивают лагерь! Уходят! Твой план сработал, милорд граф.
Ликующие защитники обступили Лестера, и тому не без труда удалось вырваться и присоединиться к Фиц-Ральфу, стоявшему на стене. Сенешаль смотрел на запад, прикрыв ладонью глаза от слепящих лучей заходящего солнца.
– Но что это за огни? Что они жгут?
Когда пришло понимание, что французский король сжигает собственные осадные орудия, последовала новая вспышка ликования. Люди хохотали до упаду, слушая рассказ Лестера, что французский монарх был и ранее подвержен таким импульсивным поступкам. В течение многих лет английские и французские короли встречались, чтобы уладить разногласия между собой, под древним деревом, известном как «вяз мира». Но после одних неудачных переговоров с Генрихом Филипп приказал срубить вяз. Облепив стены, горожане свистели и улюлюкали вслед отступающим французам, но разразились криками неподдельной ярости, когда враги стали подкатывать к берегу Сены бочки с вином и опорожнять их, чтобы драгоценное содержимое не досталось победителям.
Герой дня обменялся с сенешалем радостной улыбкой.
– А вот теперь, – сказал он, – ворота можно и закрыть!
* * *
Дама Марта начала уже отчаиваться, поскольку обыскала весь замок и так и не нашла своей госпожи. Хотя за леди Алисой и вели неприметный надзор, стражу к ней не приставляли – кастелян обращался с ней скорее как с гостьей, чем с заложницей, каковой она на самом деле являлась. Марта предполагала, что принцесса могла ускользнуть через крепостную калитку, но куда ей идти? Фрейлина состояла при Алисе с ее приезда в Англию в возрасте девяти лет, и любила сильнее, чем если бы та была собственной ее дочерью. Но любовь не делала ее слепой к особенностям характера подопечной. Алиса была девушкой милой, добросердечной и доверчивой, но ей недоставало твердости, она была напрочь лишена мятежной жилки. Она никогда не осмелилась бы бежать, и даже в город одна боялась выходить, напоминая вскормленную в неволе пташку, отказывающуюся вылетать из сулящей безопасность клетки.
Марта давно поняла, что Алисе никогда не стать королевой Англии: в тех немногочисленных случаях, когда Ричард бывал в их обществе, он не выказывал к невесте ничего, кроме вежливого равнодушия. Но фрейлина молчала, потому как ее госпожа верила в будущий брак. Она осознавала, что Алисе нужна эта вера, эта надежда на счастливый конец. Алиса хранила эту веру даже тогда, когда любая другая женщина давно признала бы двусмысленность своего положения – вплоть до того самого момента как Марта сообщила ей о свадьбе Ричарда с Беренгарией Наваррской.
Проверив большой зал, солар и часовню и даже заглянув в кухню, Марта стояла посреди внутреннего двора, не зная где искать дальше. Она до сих пор помнила, как плакала тогда Алиса, помнила свои напрасные попытки ее утешить, перемежаемые проклятиями в адрес тех мужчин, которые так жестоко подвели бедняжку. Но когда Алиса вынуждена была расстаться с девичьей мечтой о золотой короне и красавце-муже, прославленном своей отвагой, она проявила удивительную гибкость и обратилась к новой своей будущности при французском дворе с той же целеустремленностью, с которой раньше цеплялась за английскую свою судьбу. Принцесса быстро убедила себя, что брат, которого она не видела с тех пор, как ему исполнилось четыре годика, возьмет на себя роль ее любящего защитника и подыщет ей высокородного мужа, достойного дочери короля. Как только английский монарх – Ричардом его Алиса больше не называла – вернется из Святой земли, она возвратится в Париж и начнет жизнь заново.
Марта верила во французского короля не больше, чем в двух английских. Но как и прежде помалкивала, не желая развенчивать мечты Алисы. Однако все опять пошло не так, как ожидалось. Вместо того чтобы вернуться в Англию и освободить Алису, английский государь сам стал пленником в Германии. Только Всевышний ведал, когда он вновь выйдет на волю – если выйдет, – а Алисе, которой пошел уже тридцать третий год, придется томиться вместе с ним, как если бы и она сама была заложницей императора Генриха. И когда Марта начала уже отчаиваться, под стенами Руана появилась французская армия.
Тут фрейлина вдруг поняла, где ее хозяйка. Марта была уже не молода и весьма дородна, и пока взбиралась на стену замка, изрядно запыхалась. Караульные, прикладываясь по очереди к меху с вином в честь одержанной победы, радушно приветствовали женщину. Она вскоре заметила Алису: худенькая фигурка, завернутая в синий плащ, стояла в отдалении от солдат. Принцесса не обернулась, даже когда Марта окликнула ее по имени, и продолжала смотреть на опустевший французский лагерь.
– Идем домой, ягненочек, – взмолилась фрейлина, подойдя ближе. – Ты тут простудишься.
Алиса словно не слышала ее.
– Они ушли, Марта, – сказала она, и ее голубые глаза были мокры от слез. – Ушли и бросили меня здесь.
* * *
Отступив от Руана, армия Филиппа быстро заняла один за другим несколько важных замков и в какой-то степени отыгралась, взяв Паси-сюр-Эр, принадлежавший графу Лестерскому. Но это не возмещало провал осады Руана. Обычно Филипп быстро вспыхивал, но и быстро отходил. Но чего он не забывал и не прощал, так это когда его выставляли дураком, а потому затаил на Лестера страшную обиду.
* * *
Ричард играл в кости со стражниками, потешаясь над их забавными попытками говорить по-французски, и своими равно неудачными достижениями в немецком. Его новые хранители держались по-дружески, уважительно и проявляли к нему любопытство; по сравнению с голодными волками из Трифельса они походили на игривых овчарок. Один из них даже более-менее сносно изъяснялся на французском. Но он знал, что это все лазутчики Маркварда, пусть даже и не считают себя таковыми, поэтому решил не выказывать перед ними сомнений или отчаяния. Поскольку денег для ставок у него не было, он заявил, что произведет победителя в английские рыцари. Сочтя это забавным, караульные величали друг дружку сэр Герман или сэр Вильгельм и отвешивали неуклюжие поклоны. В свою очередь стражники пообещали Ричарду провести к ним потаскуху по имени Лена, милостями которой, похоже, все пользовались.
Поймав себя на мысли, что наполовину поддался соблазну принять эти условия, Ричард осознал, как долго уже обходится без женщины. Это заставило его впервые за несколько недель вспомнить о супруге. Он не сомневался, что она мирится с его пленом, поскольку вера ее непоколебима, под стать любой святой. А вот мать и Джоанна беспокоили его больше – он боялся, что его испытание всколыхнет в них память об их собственных заточениях. А как там его сын? Филиппу теперь двенадцать, он бродит по не нанесенной на карту неведомой стране между детством и взрослостью. Ричард попытался припомнить себя двенадцатилетнего. Как бы он отнесся к плену отца? Наверняка отказался бы поверить. Но у него имелась возможность обратиться с вопросами и за утешением к матери. А вот у Филиппа матери нет, она умерла много лет назад.
Ближе к вечеру он был приятно удивлен, получив письмо. Печать, естественно, была сломана, но здесь любая весточка из внешнего мира казалась настоящим праздником. Однако прочитав послание, король был одновременно опечален и потрясен, потому как эта неожиданная смерть заставляла задуматься над тем, как мало он понимает судьбу, предначертанную ему Всевышним. Откинувшись на сиденье у окна, открытого для теплого майского воздуха, Ричард пытался найти объяснение необъяснимому. В Писании сказано, что сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Значит, это Бог направил его в это место, прочь от Святой земли. Но для чего? Он смотрел, как письмо выскальзывает из его пальцев и падает на пол у ног. Все вокруг утратило смысл.
Резкий стук в дверь вывел его из мрачного забытья. Стражник, которого товарищи в шутку окрестили сэром Вильгельмом, распахнул дверь, впустив внутрь Маркварда фон Аннвейлера. Ричард напрягся при виде министериала, которого прочно связывал с сырой темницей в Трифельсе и тяжелыми железными оковами. Но тут же позабыл про немца.
– Глазам своим не верю! – вскричал он и вскочил, увидев, как следом за Марквардом в комнату входит Фульк из Пуатье.
Клерк стремительно вскинул руки:
– Если ты намерен обнять меня, милорд, то постарайся не переломать ребра!
Расхохотавшись, Ричард заключил гостя в объятья, не как король клерка, но как товарищ по кораблекрушению. А когда отступил на шаг, то увидел, как у обычно выдержанного клирика слезы блестят на глазах. Марквард не стал медлить, а весело взмахнув рукой, вышел, прежде чем его хватились. Ричард сразу же принялся закидывать Фулька вопросами. Освободили ли только его одного? Где остальные? Как с ними обращались? Видел ли он Гийена, Моргана и юного Арна? Все ли живы-здоровы?
– Чтобы я мог ответить, тебе придется замолчать, монсеньор, – запротестовал Фульк, удачно пародируя собственную ворчливость. – Боюсь, покуда тебе придется довольствоваться только моим обществом.
Далее он сообщил, что остальных еще держат в Регенсбурге, но обещали вскоре отпустить. Разумеется, обещание легко даются, но не так просто выполняются. Хотя их немецких тюремщиков никто не примет по ошибке за ангелов, обращались с пленниками неплохо. Его самого держали вместе с захваченными во Фризахе, о Гийене, Моргане и мальчишке ему ничего не известно. Зато он слышал, что тамплиеров и арбалетчиков уже освободили. Фульк полагал, что следующим отпустят Ансельма, как священника, а вот Балдуина де Бетюна станут держать до последнего – он достаточно знатен, чтобы быть ценным заложником.
Они размещались на оконном сиденье, и свет солнца не щадил Ричарда, лучше любых слов поведав Фульку о королевском плене.
– Выглядишь ты не слишком хорошо, государь, – напрямик заявил он. – Насколько могу судить, потерял вес, да и сон тоже. Тот немецкий щеголь, что проводил меня сюда, обмолвился о нескольких днях, проведенных тобой в замке Трифельс. Неужто это правда?
– Их было шестнадцать, если быть точным, – лаконично сообщил Ричард, но распространяться на эту тему не стал.
Фульк достаточно знал его, чтобы не давить – когда король пожелает рассказать о претерпленных мучениях, то расскажет. А в том, что это были мучения, Фульк не сомневался, будучи знаком со зловещей репутацией императорской тюрьмы. По дороге сюда из Регенсбурга он тешил себя мыслью, что монарший статус защитит государя, но услышав название «Трифельс» понял, что ошибался.
– Нам явно много что следует обсудить, – бросил клерк. – Подозреваю, ты лучше нас осведомлен о событиях в Англии и в Риме. И считаю также ложной надежду на то, что святой отец обнаружит вдруг у себя яйца и поставит императора на место.
Нечасто приходилось Ричарду слышать, как слова «святой отец» произносятся с таким сарказмом, и он снова рассмеялся, радуясь встрече со своим сварливым помощником и надеясь, что эта сентиментальность не является симптомом заточения и не исчезнет, стоит ему обрести свободу.
Фульк заметил упавшее письмо и инстинктивно поднял его, следуя привычке заботиться о королевской корреспонденции. Уже протягивая его Ричарду, он прочитал первые строки и издал удивленный возглас:
– Ты получил новость от дожа Венеции?
Ричард не видел причины томить соратника в неведении.
– Ну же, читай, – сказал он, и Фульк развернул письмо к свету.
«Достославнейшему государю Ричарду, милостию Божией королю Англии, герцогу Нормандии, Аквитании, графу Анжу, Энрико Дандоло, оною же милостию дож Венеции, Далмации и Черногории, желает здравия и заверяет в искреннем своем почтении. Знай же, что получил я из надежного источника весть, что Саладин, сей враг веры Христианской, умер в первую неделю великого поста. Один из его сыновей, которого по слухам назначил султан наследником всех своих владений, пребывает ныне в Дамаске, тогда как другой правит Египтом и Александрией. Брат султана находится вблизи Египта с многочисленною армиею, и злейшая рознь возникла между дядей и племянниками. Прощай».
Когда Фульк оторвал глаза от пергамента, Ричард понял, что клерк сразу уловил суть этого судьбоносного известия.
– Теперь, когда Саладин мертв, а его империя в беспорядке, Иерусалим похож на спелую сливу, готовую упасть в руки.
– И если бы я не вынужден был заключить с Саладином мир, чтобы вернуться и защитить мое собственное королевство, то находился бы еще в Утремере, Фульк. В отсутствие вечно мешающих нам французов, мы с Генрихом могли бы отобрать Иерусалим у сарацин.
Ричард вскочил и принялся расхаживать взад-вперед.
– Французского короля и моего братца за многое следует привлечь к ответу. Как и этого скорпиона на германском престоле. Окажись я только в Англии, мне не потребуется много времени, чтобы обратить Джонни и Филиппа в бегство. И тогда я мог бы строить планы, как вернуться в Святую землю, как обещал Генриху и Всевышнему. А так… Кто скажет, сколько пройдет времени, прежде чем я обрету свободу и исполню свой обет?
Он стремительно развернулся и обратился к клерку:
– Ну разве есть в этом хоть какой-то смысл, Фульк? Как Господь попустил такому случиться? Смерть Саладина открывает редкую возможность взять самый священный город христианского мира, а я не могу воспользоваться ей!
Самый простой ответ гласил, что не им ставить под сомнение пути Господни. Но Фульк не питал склонности к простым ответам, да и Ричард их не принимал.
– Не знаю, что сказать тебе, монсеньор. Я тоже не понимаю.
– Со временем брат Саладина возьмет верх, потому как он куда способнее своих племянников. Теперь самое время нанести удар, а я торчу здесь, и удерживают меня не сарацины, а другой христианский правитель!
Ричард изрыгнул несколько смачных ругательств, ни одно из которых не умерило ни его гнева, ни огорчения. Снова сев, он сгорбился на оконном сиденье рядом с клерком.
– Саладин был лучше Филиппа или Генриха, – произнес король наконец. – Человек отважный и честный. Великая жалость, что он навечно будет лишен милости Божьей.
Фульк вздохнул, представив, как воспользовались бы Филипп или Генрих подобным оборотом речи. Ему подчас казалось, что король сам вкладывает врагам в руки оружие против себя. Не успел ничего сказать, как дверь с шумом распахнулась, и в палату влетел епископ Батский.
– Сир, у меня добрые новости: хотел быть одним из… – Саварик осекся и стушевался на миг, заметив Фулька из Пуатье – эти двое не питали симпатии друг к другу. – Не ожидал увидеть тебя здесь, мастер Фульк. Мой кузен император, видно, запамятовал сообщить мне, что тебя выпустили из заточения.
Ричарду подумалось, что впору изобрести игру для хмельного застолья: угадай, сколько раз за один разговор Саварик произнесет выражение «мой кузен император». Фульк даже не пытался скрывать свое презрение:
– Немногие станут гордиться тем, что тюремщик короля их родич, милорд епископ.
Прелат ощетинился.
– Тебе не помешало бы идти в ногу с последними событиями, мастер Фульк. Наш король и император теперь лучшие друзья. Император Генрих отправил письмо английским юстициарам, в котором предлагает заключить вечный мир между нашими державами и клянется в том, что с нынешнего дня любую обиду, причиненную королю Ричарду, он будет рассматривать как нанесенную лично ему и империи. И даже твое обращение ко мне устарело, потому как я вот-вот стану архиепископом Кентерберийским.
Глаза у Фулька были посажены глубоко и были прикрыты тяжелыми веками, но тут стали размером с золотые безанты.
– Ты… архиепископом Кентерберийским? Да скорее рак на… Ой!
Последнее восклицание было вызвано тем, что Ричард пихнул его под ребра, а затем осведомился, что за «добрые вести» принес Саварик.
Епископ предпочел бы распространяться о грядущем своем избрании на высшую церковную должность в Англии, верно предположив, что Фульку сложно смириться с мыслью об этом. Но добившись от Ричарда драгоценного письма в свою поддержку, Саварик старался отплатить королю за милость.
– Так вот, сир, – начал он. – Император и французский король договорились встретиться в Вокулере на Рождество святого Иоанна Крестителя. Зная, как это тебя порадует, я немедленно решил известить тебя, что наконец-то император убедил Филиппа заключить с тобой мир, и твоему государству больше не угрожает опасность.
При первых словах прелата Ричард напрягся, словно ему нанесли удар под дых. Он сделал несколько глубоких вздохов, не обращая внимания на радостно щебечущего епископа. Тот говорил, что его кузен император скорее всего пригласит его на ту встречу и он рад будет представлять там интересы своего короля. Фульк посмотрел на Ричарда, потом на Саварика и в кои-то веки прикусил язык.
Наконец прелат заметил, что говорит только он, и неохотно раскланялся, пообещав вернуться завтра. Как только он вышел, Фульк перешел на латынь, хотя казалось маловероятным, что кто-то из стражей достаточно хорошо знает французский, чтобы подслушивать.
– Что происходит, сир? Ну какой из этого надутого павлина архиепископ? Что до намеченной встречи с французским королем, то мне все это ни капли не нравится!
Ричард с крепким словцом отмахнулся от перспектив Саварика и добавил:
– Мы скорее увидим Второе пришествие, чем этого глупца в облачении примаса. И твои недобрые предчувствия насчет той встречи справедливы. Если она состоится, для меня это, скорее всего, будет означать конец. Филипп горит желанием перебить ставку моей матери и юстициаров и желает, чтобы Генрих передал меня ему, а не выпустил на свободу.
Хотя подобный вариант вот уже пять месяцев на давал Фульку спокойно спать, у него все похолодело, когда эти слова произнесли вслух.
– Но ведь принять английский выкуп будет для Генриха проще, да и меньше ущерба для репутации. И ставку королевы никто не перекроет, ты же сам это знаешь, сир.
Ричард снова встал. Меряя шагами палату, он напоминал Фульку посаженного в клетку льва, которого клерк видел однажды в лондонском Тауэре.
– Будь вопрос только в деньгах, я бы не переживал за исход. Но Филипп в состоянии предложить Генриху то, чего у моей матери нет. И это нечто вполне может склонить весы в его пользу. На встрече в Вокулере Капет наверняка пообещает выставить войско, чтобы подавить мятеж имперских баронов. И если это предложение прозвучит, можешь ли ты представить отказ Генриха?
Вопреки мягкому майскому солнцу, заливающему своими лучами оконное сиденье, Фульку стало вдруг очень холодно.
– Господь никогда не попустит, чтобы такое случилось, – сказал он, но не очень убедительно.
– Может и кощунство так говорить, – заметил король, – но я не стал бы полагаться на Бога в деле предотвращения этой встречи. Если беды можно избежать, я должен сделать это сам.
– Но как, сир?
– Не знаю, – признался Ричард. – По крайней мере, пока.
И ему показалось, что язвительный призрак отца стоит рядом и одобрительно кивает, слыша следующие его слова:
– Но я найду способ.
Глава XIV Сент-Олбанс, Англия
Май 1193 г.
Возвращение в Англию оказалось для Гийома Лоншана куда более трудным испытанием, чем он предполагал. После того как его корабль вошел в устье реки Оруэлл под Ипсвичем, канцлер известил о своем прибытии Самсона, аббата Сент-Эдмундсбери, сообщив в знак уважения, что проедет через владения его обители. Он твердо решил, что отныне никому не даст повода упрекать его в надменности – грехе, которому так часто был подвержен в прежние годы. Самсон не числился среди его друзей. И все-таки Лоншан был ошеломлен, когда аббат распорядился приостановить богослужения во всех городах, через которые будет проезжать канцлер. Ему пришлось пережить унижение, когда стоило ему зайти в один храм, священник прервал мессу и стоял молча у алтаря, пока он не вышел. Возмущение Лоншана было даже сильнее обиды, ведь он не находился более под отлучением, наложенным на него архиепископом Руанским вскоре после его изгнания. Гийома не только разрешил от всех ограничений папа, но и королева Алиенора убедила архиепископа снять свой эдикт об анафеме. И все же ничего не оставалось делать, только пробираться дальше в Лондон.
Лоншан нанял себе телохранителей, но решил, что в свете предстоящей трудной работы ему не обойтись и без моральной поддержки – да и как без нее в этом, по его мнению, осином гнезде? Все его братья много выиграли от восхождения Гийома к власти. Осберта и Анри он поставил шерифами Йоркшира и Херефордшира, для Стефана добыл должность при дворе самого Ричарда, еще одного из братьев сделал аббатом Кройленда, Робера – приором в Или, с прицелом на кусок побогаче: место настоятеля монастыря в Вестминстере. Падение Гийома поставило крест на этой мечте, но Роберу удалось хотя бы сохранить свое положение в церкви, в отличие от братьев, которых происки врагов лишили всех привилегий. Семья не отвернулась от Гийома, и, получив его срочное послание, Робер поспешил присоединиться к нему на пути из Ипсвича в Лондон, да еще принес добрые вести. Их брат Анри был следом за опалой Лоншана арестован и заключен в принадлежащем графу Джону замке Кардифф, но Робер сообщил, что теперь Анри наконец-то на свободе.
Впрочем, радовались они рано, потому что, добравшись до Лондона, Гийом уперся в закрытые ворота. Враждебность лондонцев обижала Лоншана тем сильнее, что он дал этим неблагодарным английским мужланам право самим избирать себе шерифов. Слушая, как они улюлюкают и насмехаются над ним с городских стен, он подумал, что с удовольствием повернется спиной к этому треклятому острову и никогда в жизни сюда больше не вернется. Но сначала ему предстоит исполнить поручение, данное его господином, королем.
* * *
Узнав, что королева Алиенора созвала юстициаров и членов большого совета в Сент-Олбансе, Лоншан направился на север, собираясь с духом перед встречей, которая, как он знал, будет не самой приятной. Когда стены бенедиктинского аббатства Сент-Олбанс показались в виду, Робер посмотрел на пригорюнившегося брата.
– Гийом, найдется здесь хоть один человек, не желающий воздеть твою голову на пику?
– Ну… Графы Арундельский и Суррейский числились некогда среди моих друзей, а потому, вероятно, помолятся за мою душу в тот миг, когда голову станут отделять от тела, – процедил Лоншан. Его глаза неотрывно следили за Норманнской башней, уходившей на сто с лишним футов в херефордширское небо. – Королеву я другом едва ли назвал бы, но она мне и не враг. А в прошлом году Алиенора оказала мне большую услугу.
Робер не виделся с братом со дня его насильственного изгнания из Англии, и потому обрадовался шансу узнать подробности провалившегося замысла Лоншана вернуться во власть.
– Я слышал, она поддержала твою попытку возвратиться из изгнания. Это потому что королева знает о том доверии, которое Ричард питает к тебе?
– Думаю, причина тут в том, что ей стало известно о моей попытке подкупить графа Джона. – Гийом улыбнулся, глядя на удивленное лицо брата. – Джон полагал, что изгнав меня, сможет править по своей воле. Да только архиепископ Руанский его переиграл: предоставил письмо от короля Ричарда, что в случае моего ухода с должности старшим юстициаром становится он. Джону такой поворот совсем не понравился, и я таил надежду, что он предпочтет в качестве верховной власти меня, а не Готье де Кутанса. И оказался прав, кстати. Джон согласился вернуть меня, если я заплачу ему пятьсот марок.
– Но… но ты ведь не любишь графа Джона и не доверяешь ему, Гийом!
– Да. То была сделка с дьяволом, Роб. Я убедил себя, что лучше сумею защищать интересы короля Ричарда, если буду находиться в Англии, даже если для этого придется пойти на пагубную уступку Джону. Я искренне верил, что делаю это ради государя, но теперь осознаю, что мне также хотелось вернуть власть главного юстициара, которой я так наслаждался. Королева Алиенора сильнее всего боялась, что Джон не устоит перед соблазном и переметнется к французскому королю, вернувшемуся из Святой земли, и, как я подозреваю, видела во мне меньшее зло по сравнению с Филиппом. Имея на своей стороне королеву и принца, я полагал возможным вернуть хотя бы часть былого величия.
– Но… но Джон не поддержал твоего возвращения!
– Да, не поддержал. Когда я сошел на берег в Дувре, королева постаралась убедить совет удовлетворить мою просьбу предстать перед членами собрания и лично ответить на выдвинутые против меня обвинения. Они уперлись и захотели узнать мнение Джона. Вынужден воздать принцу должное: он на удивление честен в своей бесчестности. Принц правдиво сообщил совету, что я предлагал ему пятьсот марок за поддержку и предложил им перебить мою ставку. Когда ему предложили две тысячи, он с радостью перешел на другую сторону. Джон никогда не позволяет совести вставать на пути у своих желаний. Так что вопреки помощи королевы я вынужден был возвратиться в Нормандию, Алиенора же помешала Джону прибыть к французскому королевскому двору.
Тут Лоншан натянул вдруг поводья, повернулся в седле и посмотрел брату прямо в глаза.
– Но говоря, что королева оказала мне большую услугу, Роб, я вовсе не имел в виду ее старания вызволить меня из изгнания. Когда я вынужден был бежать, архиепископ Готье прибрал к рукам мой диоцез в Или. Я ответил тем, что наложил на собственный престол интердикт, и мы с ним предали друг друга отлучению. Я его перещеголял, отлучив заодно остальных юстициаров и моих недругов вроде Гуго де Нонана. Впрочем, английские епископы проигнорировали мой эдикт.
Тут Гийом помрачнел – ему до сих пор было обидно, как быстро отреклись от него собратья-прелаты.
– Когда королева Алиенора приехала в Или, то была опечалена страданиями народа – моего народа. Эти бедняги не могли погребать мертвых, участвовать в мессе или совершать любое из таинств за исключением крещения детей и соборования умирающих. Государыня пристыдила меня и заставила снять интердикт. Она заставила меня понять, что в стремлении отомстить Готье де Кутансу я покарал невиновных. В иные времена я и сам бы это понял, Роб, но тогда ненависть затуманила мой рассудок. Затем королева заставила архиепископа возвратить мне доходы с Или, и мы с Готье сняли друг с друга взаимно наложенную анафему. Это удивительная женщина, – добавил канцлер, заставив брата в изумлении посмотреть на него, так как Лоншан никогда не выражался с таким восхищением о представительницах слабого пола.
Все ближе становилась громадная норманнская надвратная башня аббатства, и Лоншан снова остановил коня.
– Я чувствую себя, как Даниил, входящий в логово льва, – сухо признался он.
Но затем тронул лошадь. Вместо того чтобы потребовать впустить его, как бывало прежде, он вежливо попросил разрешения войти. И его брату подумалось, не видит ли он перед собой воистину редчайший пример человека, которого переменили перенесенные несчастья, человека, способного учиться на своих ошибках.
* * *
Появление Лоншана вызвало в совете шум. Архиепископ Руанский, восседавший на помосте рядом с королевой и Губертом Вальтером, даже нарочито отпрянул с видом человека, обнаружившего в своей опочивальне змею. Юстициары вели себя более сдержанно, но их позы и лица красноречиво свидетельствовали о том, что Гийом тут незваный гость. Его злейший враг епископ Ковентрийский уже вскочил, как и архиепископ Йоркский. Пышущий гневом, Жофф кинулся Лоншану наперерез, не дав дойти до помоста. Такой же рослый, как его сводный брат Ричард, и такой же темпераментный, Жофф возвышался над малюткой-канцлером и сердито вопрошал Лоншана, по какому праву он заявился сюда.
– Меня удивляет, как ты вообще посмел показаться в Англии? – язвительно воскликнул прелат.
– Соскучился по похотливым рыбакам, Лоншан? – с ухмылкой осведомился Гуго де Нонан, вызвав у присутствующих взрыв издевательского хохота.
Гийом покраснел, но держал себя в руках. Обогнув Жоффа, словно тот был еще одной из каменных колонн, что поддерживали своды большого зала, он заковылял к помосту.
– Мадам, – произнес он, глубоко склонившись перед королевой, которая приветствовала его кивком. Распрямившись, канцлер твердо встретил ледяной взгляд Готье де Кутанса.
– Я пришел к тебе, – продолжал Гийом, – не как юстициар, не как папский легат, не как канцлер, но как обычный епископ и посланец от нашего господина короля.
Если он надеялся обезоружить врагов смирением, то ошибся, потому как его заявление было встречено насмешками: недруги выражали сомнение, что король способен был поверить ему снова. По логике восстановить порядок надлежало главному юстициару, но Готье де Кутанс не выражал стремления прийти на помощь человеку, которого сам некогда назвал Пилатом из Руана. Предел веселью положила Алиенора, для чего ей потребовалось только вскинуть руку.
– Ты видел моего сына?
– Да, миледи. Я нашел короля в замке Трифельс…
Продолжить ему не дали, потому как изо всех углов зала послышались возгласы – они принадлежали тем, кто знал зловещую славу этой немецкой твердыни в горах. Алиенора заметно побледнела, а Губерт Вальтер громко охнул. Воспользовавшись повисшей вдруг тишиной, Лоншан наскоро заверил королеву – поскольку теперь обращался исключительно к ней, – что государя в Трифельсе больше нет. Затем сообщил, что ему удалось убедить Генриха вернуть короля к императорскому двору. Не обошлось без хмыканья, но Гийома мало заботило, если его примут за хвастуна – он гордился вызволением Ричарда из Трифельса, как ни одним другим достижением в жизни.
– Я привез письма, мадам, – сказал канцлер и, сделав шаг вперед, вручил их королеве.
Среди них было одно частное, от сына к матери, предназначенное лишь для ее глаз; одно на латыни, чтобы огласить его перед юстициарами и советом; одно от императора, скрепленное золотой печатью – хрисовулом, бывшей в ходу у императоров Священной Римской империи. В последнем содержались заверения, что Генрих и Ричард живут отныне «в согласии и вечном мире» и что император «будет любую обиду, нанесенную королю, рассматривать как причиненную мне самому и нашей императорской короне». Затем Алиенора попросила архиепископа зачитать публичные послания вслух, и Лоншан испытал дикое наслаждение, потому что вскоре этим так безжалостно насмехавшимся над ним людям предстоит услышать, как король называет Гийома «нашим самым дорогим и преданным канцлером» и признает себя целиком обязанным ему за свое спасение из Трифельса.
* * *
Остаток заседания совета прошел не так удовлетворительно. Когда Лоншан передал распоряжение Ричарда по подбору требуемых заложников, епископ Ковентрийский принялся было отпускать ехидные комментарии, что легко, мол, ему распоряжаться чужими сыновьями, но получил резкую отповедь от Губерта Вальтера. Узнав, что для спасения короля действительно требуется собрать огромный выкуп, они не стали растрачивать время. Было решено ввести новую подать как на светских лиц, так и на духовенство: четвертая часть годового дохода. Каждому рыцарю предстояло уплатить по двадцать шиллингов, с церквей собирался взнос их золотом и серебром, а цистерцианцам, устав которых запрещал дорогую утварь, предписывалось отдать всю шерсть, состриженную с их овец за год. Собранные деньги постановили хранить в сундуках собора Св. Павла, под надзором Губерта Вальтера, епископа Лондонского и графов Арундельского и Суррейского. Сундуки должны быть опечатаны королевой и архиепископом Руанским. Это было огромных размеров предприятие, подразумевавшее суровые тяготы для страны, и так уже истощенной Саладиновой податью, но Лоншан не сомневался, что средства будут собраны – королева об этом позаботится. Наблюдая, как Алиенора хладнокровно обсуждает меры по освобождению сына, не открывая до конца совета личное письмо от него, Гийом подумал, что Всевышний облагодетельствовал короля Ричарда многими дарами, но самым драгоценным из них была женщина, давшая ему жизнь.
* * *
Аббат Варин уведомил Лоншана, что странноприимный дом аббатства и покои уже полны, и ему следует поискать себе приют в другом месте. Канцлер был склонен ему верить, потому как Сент-Олбанс заполонили знатные гости, прибывшие на совет. Вот только не мог забыть, что удостоился совсем иного приема, когда король посетил Сент-Олбанс неделю спустя после коронации: какими пышными были церемонии, каким щедрым хлебосольство аббата. Но возмущаться Гийом не стал и послал своих людей поискать комнаты в городе. В итоге им удалось подыскать палаты в частном доме, и близко не соответствующие привычным представлениям Лоншана о комфорте. Канцлер слишком устал, чтобы сетовать и готовился отойти ко сну, когда вдруг получил записку от королевы с распоряжением снова приехать в монастырь.
* * *
Лоншана препроводили в гостиную аббата, где он обнаружил королеву в обществе Губерта Вальтера, Вильгельма Маршала и внука Отто, пятнадцатилетнего сына ее покойной дочери Тильды, герцогини Саксонской. Встретили Гийома вежливо, хоть и без радушия, и по слову Алиеноры Отто предложил канцлеру свое кресло, а сам развалился в оконном сиденье с присущей юнцам вальяжностью.
– Мой сын в подробностях сообщил мне, каким образом удалось тебе убедить Генриха не держать пленника в Трифельсе. А вот о пережитом там выражается довольно расплывчато. Надеюсь, милорд епископ, что ты будешь более откровенен. Расскажи мне, насколько тяжело ему пришлось.
Лоншан порадовался, что Ричард не взял с него клятвы молчать, ибо не представлял, как смог бы отказать этой натянутой как струна, решительной женщине. Никогда не доводилось ему видеть такого проницательного взгляда – он готов был поверить, что тот способен проникнуть в самые отдаленные закоулки его души.
– Очень тяжело, мадам, – сказал он и затем поведал, насколько именно.
Когда речь зашла о том, как он застал Ричарда больным и в цепях, Губерт Вальтер и Вильгельм Маршал не удержались от гневных восклицаний, а у Отто в ужасе округлились глаза. Но Алиенора не вздрогнула и не промолвила ни слова, только немигающим взором смотрела на Лоншана, пока тот не закончил рассказ, пока они не узнали самое худшее.
Когда он смолк, повисла тишина. Гийом твердил себе, что сделал это все ради освобождения государя, но теперь понял, насколько важно для него, чтобы эти люди осознали истинную цену свершенного им поступка. И получил свое, из уст внука Алиеноры.
– Должно быть, сам Всевышний послал тебя в Трифельс, – воскликнул Отто. – Зная, как сильно дядя Ричард нуждается в помощи!
Губерт и Уилл переглянулись, затем эхом повторили похвалу мальчика. «Они почти стыдятся этого», – с грустью подумал Лоншан. Алиенора промолвила только: «Спасибо, милорд канцлер». Но Гийом был счастлив слышать эти слова. Он говорил врагам, что лишь один король может сместить его с поста, и тем не менее вынужден был отдать королевскую печать, и тем самым, как утверждали недруги, не мог долее называться канцлером Англии. Поэтому когда королева употребила этот титул, испытал своего рода удовлетворение и вернулся на свою квартиру в гораздо лучшем расположении духа, нежели покидал ее. Пусть шакалы цапают его за пятки, он заслужил то, чему им остается только завидовать: полное доверие короля и чистосердечную благодарность королевы-матери.
* * *
Остальные бывшие в комнате не спешили расходиться после того как отбыл Лоншан, потому как рассказ о злоключениях Ричарда в Трифельсе сильно потряс их. Уилл был до предела возмущен фактом, что короля заковали в железо как обычного преступника, а Губерта страшно испугало коварство Генриха. Он нахмурился, вспомнив, с каким легким сердцем расставался с Ричардом в Шпейере, будучи убежден, что освобождение государя теперь обеспечено. Внук Алиеноры вызвался проводить бабушку обратно в королевский зал, выстроенный для венценосных посетителей. Она с улыбкой оперлась на его руку, как будто имела дело с настоящим кавалером. Но далеко они не ушли, потому как, едва приблизившись к двери, Отто замедлил шаг:
– Бабушка, я охотно соглашаюсь стать заложником за дядю Ричарда. Ничем иным я не могу помочь ему обрести свободу. И тебе не нужно будет переживать за моего маленького братишку, когда нас пошлют в Германию. Я позабочусь о Вильгельме и сделаю все возможное, чтобы не дать ему угодить в неприятности, – пообещал мальчик с серьезностью, весьма удивительной для его юного возраста. Он унаследовал от отца темные волосы, но был выше родителя, почти таким же рослым, как Ричард в его годы. Подобно сестре, парень унаследовал красоту матери, а его быстрая, приятная улыбка неизменно напоминала королеве о дочери, скоропостижно умершей от болезни в возрасте всего тридцати трех лет.
– Чтобы помешать Вильгельму угодить в неприятности, придется бдить день и ночь, – заметила она.
Отто усмехнулся, поцеловал ее в щеку и направился в гостевой зал аббатства. Алиенора стояла и смотрела ему вслед. Она очень привязалась к Отто, сильнее похожему на ее дочь, чем его энергичная сестра Рихенца и девятилетний сорванец-брат. Вся эта троица росла при английском дворе. Они приехали вместе с родителями, когда Генрих Лев и Тильда были изгнаны германским императором, и остались, когда отец, мать и старший их брат Генрик получили три года спустя разрешение вернуться в Саксонию. Вильгельм, появившийся на свет в Винчестере, пока мать пребывала в опале, и Отто, уехавший из Саксонии в пять лет, говорили по-французски лучше, чем по-немецки, и по приезде в Германию окажутся незнакомцами в чужой стране. Алиенора многое бы отдала ради того, чтобы избавить внуков от этого испытания, но ничего не могла поделать: Генрих фон Гогенштауфен настаивал на включении их в число заложников, потому что их отец и брат находились в рядах мятежников, угрожающих его трону.
Небо в этот час было темнее, чем в полночь, звезды сияли, как далекие костры чуждого мира. Алиенора вглядывалась в эти белые огоньки в надежде, что ее сын тоже смотрит на них в этот тихий весенний вечер. Подумав про дни, проведенные им в Трифельсе, вне солнца, неба и свежего воздуха, она ощутила, как сдавливает у нее в груди. Эту тяжесть ей предстоит нести до дня его освобождения. А если он не наступит?
Фрейлины угадали ее настроение и держались тихо. Алиенора не сомневалась, что не сумеет заснуть. Не зная, чем еще заняться, королева позволила им приготовить себя к ночи. Но как и опасалась, как только погасли свечи и опустился полог кровати, сила ее воли дала трещину и на глазах выступили колючие слезы. Она так долго жила в страхе: с той самой минуты, как Ричард отплыл из Сицилии в Святую землю. Многие из его подданных отчаялись дождаться его возвращения, и бывали темные ночи, когда Алиенора разделяла эти сомнения. Но ему как-то удалось пережить свирепые шторма в Греческом море, губительную лихорадку, кровавые битвы, даже при его бесшабашном стремлении всегда находиться в гуще сражения. И все это ради того, чтобы теперь, на пути домой, оказаться в опасности куда более страшной, чем все беды Утремера. Вновь ей казалось, что она несет бодрствование у смертного одра. Мысль о его плене рождала в ней достаточно ярости, чтобы отгонять страх. Но только не ночью. Затем Губерт Вальтер принес весть о триумфе Ричарда в Шпейере, и страх наконец отступил, съежившись под согревающими лучами надежды. Алиенора уверила себя, что худшее позади, что сын скоро будет дома. Поэтому оказалась безоружна, когда сильнее всего нуждалась в этом, и была сокрушена одним упоминанием про замок Трифельс.
Как бы ни старалась она уснуть, воспоминания не отпускали. Опасения за судьбу повзрослевшего сына неразрывно сплетались с картинами из его детства. Ворочаясь с боку на бок, она видела перед собой двенадцатилетнего мальчугана, упрашивающего брата Хэла дать ему попытать силы в упражнении с квинтином[15]. Он тогда был выбит из седла и полетел в грязь, но тут же со смехом поднялся, горя желанием пробовать снова. Королева улыбалась сквозь слезы, вспоминая, как Ричард и Жоффруа подложили ей змею в кровать. Закрыв глаза, она слышала голос сына, просившего ее послушать первую сочиненную им песню. Он умолял сказать по правде, понравилась ли песня, а потом добавил с усмешкой: «Но это если понравится, мама. Если нет, то можешь солгать!».
Ей всегда казалось, что есть проклятие, распространяющееся только на матерей, удваивающее их горе. Но однажды Гарри признался тоже, что всякий раз, когда видит во сне их умершего сына Хэла, он предстает ему душераздирающе юным. Слишком много детей похоронили они, она и Гарри. Потеря первенца стала тяжелейшим из испытаний. Ей пришлось беспомощно смотреть, как малыш плачет и хватает ртом воздух. Он умер после недельных мучений, всего двух месяцев отроду. Она не видела, как Хэла убивает кровавый понос, узнав об этом только после его смерти. Гибель Жоффруа на турнире тоже была как гром среди ясного неба. Поутру она думала о нем, как о живом и здоровом, а к ночи он ушел из ее жизни, но не из сердца. Не получала она вестей и о горячке, забравшей Тильду, узнав о трагедии спустя шесть недель после того как дочь испустила последний вздох. Время не сгладило острых краев памяти о той утрате. И о том, как ей пришлось сообщить о смерти Тильды ее детям. Рихенца незадолго до этого вышла замуж за Жофре Першского и могла выплакаться в объятьях супруга, а вот утешать Отто и маленького Вильгельма, слишком юных, чтобы постичь ужасную конечность жизни, выпало ей, Алиеноре.
К ее трауру по Хэлу и Жоффруа примешивалось чувство вины, она изводила себя запоздалыми угрызениями совести за совершенные ошибки и упущенные возможности. Они с Гарри часто выказывали себя плохими родителями, но она не подведет, не имеет права подвести теперь Ричарда. Нельзя поддаваться отчаянию, нужно твердо помнить, что этот призрак мальчика, витающий вокруг нее сегодня, на самом деле мужчина тридцати пяти лет, такой бесстрашный воин, что по словам его соратников, стоит ему попросить, и солдаты пойдут за ним через реки крови хоть до самых Геркулесовых Столпов. Человек, способный вселить в людей такую преданность, сможет выдержать любые испытания, какие измыслит германский император. Но какой ценой? Ей ли было не знать, какие раны оставляет в душе заточение.
Нет, нельзя поддаваться страхам, иначе легко сойти с ума. Надо отогнать прочь образ сына, закованного в кандалы, в горячечном бреду и беспомощного, нельзя думать об ужасах еще более страшных, поджидающих его во французской темнице. Она купит ему свободу, а затем поможет отомстить безбожным подлецам, дерзнувшим заключить в тюрьму короля.
– Клянусь тебе, Ричард, – едва слышно промолвила она. – Клянусь жизнью твоего никчемного, двоедушного братца.
Ей казалось, что эта ночь никогда не закончится. Наконец немолодое тело покорилось усталости, и Алиенора уснула. Проснулась королева перед самым рассветом. Она не могла припомнить свои сны, но догадывалась, что и в них не нашла покоя, потому как ее подушка была мокрой от слез.
* * *
Уезжая в конце апреля из Хагенау, Генрих препроводил Ричарда под охраной в вольный имперский город Вормс. Там пленника разместили в роскошных апартаментах во дворце, но держали под строгой охраной. В середине мая император обосновался в августинском монастыре в Мосбахе на реке Неккар. Обитель располагалась всего в двух днях конного пути от Вормса, на случай если Генриху вздумается проведать своего драгоценного пленника. В тот теплый вечер на Троицу император играл в шахматы со своим сенешалем Марквардом фон Аннвейлером, когда ему передали донесение от одного из лазутчиков на Сицилии. Послание его не обрадовало, так как человек, которого император называл «безродным узурпатором», продолжал укреплять свое положение на острове. Танкред заставил бесхребетного папу признать его притязания на престол, а теперь вел переговоры насчет брака между своим старшим сыном с дочерью византийского императора в Константинополе. Генрих опасался, что император Исаак Ангел согласится породниться с этим подлым отродьем, но еще сильнее заботило его то, что попытки Танкреда узаконить свой королевский сан приносят плоды. Время оказалось вдруг на стороне Танкреда, а не на его, потому как у Генриха связаны руки до тех пор, пока он не разделается с этими проклятыми мятежниками.
Он вернулся к игре, но не мог сосредоточиться, и Марквард озабоченно смотрел на доску, ища удобную возможность прервать партию, потому как проигрывать его повелитель не любил. Поэтому сенешаль очень обрадовался, услышав стук в дверь. Вошел оруженосец, а за ним, к удивлению Генриха, появилась его жена. Он не мог припомнить, когда та в последний раз входила в его опочивальню. С первого дня их брака только Генрих приходил к ней, когда хотел потребовать исполнения супружеского долга – так он мог вернуться затем в свою постель, потому как предпочитал спать один.
Констанция холодно кивнула Маркварду, не относившемуся к числу ее любимцев, затем улыбнулась Генриху.
– Господин супруг, это мастер Фульк из Пуатье, клерк английского короля. – Она отошла в сторону, и стало видно мужчину, вошедшего в комнату следом за ней. – Я была в гостевом зале, когда он приехал из Вормса. Узнав, что у него срочное сообщение от короля Ричарда, я подумала, что ты захочешь немедленно его увидеть.
Вообще-то Фульк специально разыскивал ее и был впечатлен, как ловко Констанция солгала. Он вежливо поблагодарил императрицу и преклонил колено перед ее супругом.
– Я здесь по велению моего государя. Король просит тебя принять его, милорд император. И так скоро, насколько это будет возможно.
– И что же он намерен обсудить со мной, мастер Фульк?
Надеясь, что сможет соврать так же убедительно, как Констанция, клерк с сожалением покачал головой.
– Не знаю, милорд. – Он нахмурил лоб, создавая вид слуги, огорченного недоверием своего господина. – Король сказал только, что это дело чрезвычайной важности для вас обоих.
Затем, затаив дыхание, Фульк стал ждать, заглотит ли Генрих наживку.
Некоторое время император бесстрастно смотрел на него, но затем любопытство взяло верх. Повернувшись к Маркварду, он приказал сенешалю ехать поутру в Вормс и доставить английского короля в Мосбах. Радуясь возможности свернуть партию в шахматы, Марквард встал и вызвался найти госпитальера, чтобы тот устроил Фулька на ночлег. Констанция вежливо распрощалась с супругом и вышла бы вслед за мужчинами, если бы Генрих не ухватил ее за руку.
– Позже я загляну к тебе, дорогая, – сказал он.
Императрица не выказала удивления, давно научившись прятать истинные свои чувства от этого человека.
– Ты всегда найдешь теплый прием на моем ложе, господин супруг, – проворковала она, одарив его такой же безликой улыбкой, как вся та жизнь, какую она вела.
Констанция помнила те времена, когда горела рвением исполнить супружеский долг – ей так хотелось забеременеть, что она готова была раскрыть объятья хоть самому Люциферу. В первые годы брака ее стремление родить ребенка было для нее всепоглощающим. Она хотела этого не ради Генриха, но ради Сицилии. Настолько же, насколько она желала причитающейся ей по праву наследования сицилийской короны, настолько же страшилась ее, потому как прекрасно знала, что под железной пятой супруга ее любимую родину не ждет ничего хорошего. Если бы Всевышний подарил ей сына, ну хотя бы дочь, это стало бы маленьким лучиком надежды для сицилийцев. Вот только собственные ее надежды развеялись давным-давно, заставив посмотреть в глаза горькой правде: ей уготована самая печальная и бесполезная судьба бесплодной жены.
* * *
Генриха окружали граф Дитрих, брат Конрад, Марквард и маршал Хайнц фон Кальден. Ричарда сопровождали Фульк и капеллан Ансельм, недавно выпущенный из заточения. Как только с обменом любезностями было покончено, а вино подано, император откинулся в кресле и изобразил намек на улыбку:
– Итак, что же это за «дело чрезвычайной важности», милорд король?
– По совести можно сказать, что мы с тобой, милорд император, находимся в одной худой лодке, потому что суверенной власти каждого из нас брошен вызов. В моем случае угроза исходит от моего сюзерена Филиппа Капета и от моего брата, этого дважды предателя. Над тобой нависает опасность посерьезнее, потому как даже в плену я остаюсь миропомазанным государем, а вот твои враги обладают возможностью, которой мои лишены: избрать другого императора. До меня дошли сведения, что именно так они и намерены поступить, и, поскольку более половины твоих вассалов находятся в состоянии мятежа, это может означать для тебя большие сложности. Будь я на твоем месте, я рассуждал бы только так и не иначе.
Стоило Ричарду заговорить, как снисходительная улыбка сошла с лица Генриха.
– Я отказываюсь поверить, что ты попросил аудиенции исключительно ради того, чтобы сообщить и без того известные мне вещи, милорд. К чему ты клонишь?
– Чем дольше длится бунт, тем больше вероятность, что к нему примкнут и прочие недовольные. Тебе следует перехватить инициативу, не дать мятежу перерасти в гражданскую войну. И я располагаю средством помочь тебе в этом. – Ричард сделал паузу и глотнул вина, не отрывая тем временем, взгляда от Генриха. – Если ты согласишься пойти на определенные уступки, я готов буду послужить посредником в деле усмирения бунта, прежде чем он разгорится в пожар, способный положить конец правлению Гогенштауфенов.
– И ты полагаешь, что они, отвергая до поры все мои предложения, станут говорить о мире с тобой?
Ричард устоял перед искушением указать, что ему эти люди поверят куда охотнее, чем Генриху.
– Среди вождей бунта находятся мой зять и племянник, и еще Англия давно находится в самых теплых отношениях с Кельном, этим важным торговым партнером наших купцов. И еще, думаю, ты согласишься, что в Шпейере я выказал себя человеком, умеющим убеждать.
Брату Генриха Конраду и Дитриху этот разговор не понравился, и, перейдя с латыни на немецкий, оба стали высказывать свои соображения, на слух сильно походившие на возражения. Император не стал их слушать.
– Даже если я соглашусь на серьезные уступки, что заставляет тебя думать, будто они ими удовлетворятся?
– Потому что я могу говорить о военном ремесле с авторитетом, который никто не поставит под сомнение. Когда я укажу, что загнанный в угол полководец вынужден вести войну не на жизнь, а на смерть, ко мне вполне могут прислушаться. Если мне удастся убедить их, что победа им не гарантирована, они предпочтут пойти на переговоры с тобой, чем на риск потерять все.
Прежде чем Генрих успел ответить, Дитрих разразился очередной тирадой, сопровождая ее яростной жестикуляцией. Когда он закончил, ледяная улыбка императора снова вернулась на его уста.
– Граф Дитрих не доверяет тебе и считает, что ты не о нашей пользе радеешь. Не составит ли тебе труда объяснить, какая тебе от всего этого выгода, милорд король?
Ричард не сомневался, что Генрих и так прекрасно понимает все его выгоды. Вопрос был призван проверить его реакцию, выяснить насколько честным готов он быть. Король отпил еще глоток вина, думая о том, что теперь слова сделались его оружием.
– Разумеется, я рассчитываю извлечь пользу для себя. Вот если бы я пытался вас уверить, что действую исключительно из соображений доброй воли или христианского милосердия, тогда у графа Дитриха могли бы возникнуть причины для беспокойства. – К своему удивлению, Ричард уловил на лице Генриха выражение, которое смахивало на искреннее веселье. Оно быстро сошло, но король истолковал его как знак, что находится на верной дороге. – Если я сделаю это для тебя, то ты, надеюсь, придешь к умозаключению о большей выгоде для империи союза с Англией, нежели с Францией.
– И отменю намеченную в Вокулере встречу с французским королем?
С любым другим собеседником Ричард с самого начала поставил бы условие «ты мне – я тебе», и лишь затем согласился бы хлопотать в пользу Генриха. Но обещание императора все равно не имело никакой цены, было не более весомым, чем утренний туман. Полагаться на порядочность Гогенштауфена было пустой надеждой, и все же у Ричарда не оставалось иного выбора.
– Путь до Вокулера неблизкий, и какой смысл ехать туда, если в итоге путешествие ничего не сулит? – сказал он, пожав плечами.
– Верно, – согласился Генрих вальяжно, но равнодушному тону противоречил взгляд, наблюдавший за Ричардом с ястребиной зоркостью. – Так ты хочешь уверить меня, что на самом деле желаешь союза с империей? Если так, то ты очень отходчив к обидам, милорд король английский.
– Нет, – процедил Ричард подчеркнуто холодно. – Не отходчив. Зато чем я наделен, милорд император, так это умением отделять овец от коз. Ты не дал мне причины испытывать к тебе благодарность. При прочих обстоятельствах я до последнего вздоха держал бы для тебя камень за пазухой. Но неприятности, причиненные мне тобой, не чета тем пакостям, которым я обязан иуде, сидящему на французском троне.
– Да, в Шпейере ты достаточно ясно дал понять, что не питаешь приязни к Филиппу Капету. Но даже так…
– Ты и половины всего не ведаешь! Его козни начались задолго до того, как мы достигли Святой земли. Когда я, после восстания горожан, захватил Мессину, Филипп предложил Танкреду заодно с ним выступить против англичан. Я собственными глазами видел то письмо. Но даже предавая втихую, он настоял, чтобы над взятой Мессиной вывесили и его флаг, чтобы обеспечить себе право на долю добычи. А затем нагло потребовал половину вдовьей доли моей сестры!
Ричард вскочил столь стремительно, что караульные всполошились и положили руки на эфесы мечей.
– Позднее, в Утремере, Филипп делал все возможное, чтобы наша священная война закончилась провалом. Он бросил Всевышнего и своих союзников, и увел бы с собой всю свою армию, если бы многие французы не относились к данному ими обету серьезнее, чем их повелитель. Но епископ Бове и герцог Бургундский продолжили его грязное дело, они мешали мне как могли, а тем временем Филипп уговаривал папу разрешить его от клятвы не нападать на мои земли, пока я нахожусь в Святой земле. В минувшем году он вторгся бы в Нормандию, если бы его собственные бароны не воспротивились. Да за одни эти преступления этому ублюдку полагается тысячу лет корчиться в адском пламени!
Было очень здорово выплеснуть вот так свой гнев – впервые за много месяцев Ричард говорил именно то, что думал.
– И это все относится лишь к лету Господню 1192, – с горечью продолжил он. – А с той поры Филипп и его цепной пес Бове изо всех сил старались запятнать мою репутацию и честь и достигли больших успехов. Он склонил моего полудурка-брата к предательству, и пока мы тут разговариваем, французская армия опустошает герцогство Нормандское. И как будто этого мало, Капет заставляет тебя передать меня ему, чтобы упрятать в парижскую темницу. Ему даже не хватает совести предать меня быстрой смерти. Нет, он хочет, чтобы я страдал. И почему? Да потому что этот жалкий трус и сопляк не надеется стать и вполовину таким мужественным, как я!
Все были заворожены этой вспышкой, и когда Ричард наконец остановился, чтобы перевести дух, Марквард и Конрад усмехнулись и зааплодировали, тогда Генрих выдавил одну из своих ледяных улыбок и сухо заметил:
– Значит, ты на самом деле не любишь этого человека, а?
– И кто меня осудит? – Ричард снова сел и в несколько глотков прикончил кубок с вином.
По лицу у него еще шли пятна, а дыхание было неровным, потому как приступ гнева был непритворным. Он знал: чтобы убедить Генриха, нужно выказать страсть, не вызывающую сомнений, ярость достаточно сильную, чтобы затмить месяцы плена и унижения, даже замок Трифельс. Потому как недостаточно выбить из императора согласие дать пленнику шанс примирить его с мятежниками. И даже если эти переговоры будут успешны, этого мало. Конец бунта не гарантирует Ричарду свободы – только не с этим человеком, не ведающим ни благодарности, ни чести. Генрих должен поверить, что долговременные интересы связывают его с Англией, а не с Францией.
Император знаком велел слуге наполнить Ричарду кубок.
– Ну хорошо, – сказал он. – Я устрою тебе встречу с мятежниками.
– Тебе следует предложить реальные уступки, – предупредил Ричард. – Они должны понимать, что ради них стоит кончать с бунтом. Ты готов на это?
Дитрих нахмурился, явно недовольный тем, что кто-то осмеливается в таком дерзком тоне разговаривать с императором. Но даже серебряный язык и красноречие самих ангелов Божьих не даст ничего, если Генрих не предложит мятежникам устраивающие их условия.
Генрих ответил не сразу.
– Да, готов, – сказал он наконец. – Я хочу покончить с этим делом и точка. – Он снова улыбнулся, и снова невесело. – Если тебе удастся достичь этого… Ну, давай выразимся так, что твоя судьба отныне в твоих собственных руках.
Ричард улыбнулся в ответ, потому что хотя в словах императора и прозвучала явная угроза, он не ощущал страха. Король держал свою судьбу в собственных руках всякий раз, когда выезжал на поле боя.
Глава XV Франкфурт, Германия
Май 1193 г.
На устройство мирных переговоров ушло две с лишним недели: мятежники требовали от императора выдать заложников, дабы обеспечить их безопасность. В конце концов договорились, что Ричард встретится с ними в имперском дворце во Франкфурте, тогда как Генрих разместится в замке Ханау, в десяти милях от города. В сопровождении своего клерка Фулька из Пуатье, капеллана Ансельма и неизменной стражи Ричард добрался до расположенного на реке города в последний день мая. Несколько часов спустя ажиотаж во внутреннем дворе указал на то, что прибыли вожди мятежников. Вскоре двери в покоях короля распахнулись, и, прежде чем стража успела помешать, племянник ворвался в палату и восторженно его обнял:
– Как я рад видеть тебя, дядя!
Ричард тоже был рад видеть Генрика. С последней их встречи минуло три года, и молодой человек заметно возмужал. Больше уже не тот нескладный безусый семнадцатилетний юнец, племянник стал выше на несколько дюймов, и теперь кичился изящно подстриженной золотистой бородкой – он единственный из детей Тильды унаследовал ее цвет волос. В Саксонию Генрик вернулся с родителями, когда закончилось их изгнание, но провел в Анжуйских владениях достаточно времени для того, чтобы установить прочные связи с родней матери. Он сейчас же с негодованием накинулся на тюремщика Ричарда, уверяя, что большинству немцев стыдно за возмутительно дурное обращение императора с тем, кто находится под защитой церкви.
– А что твой отец? Он тоже здесь?
– Нет, он отказался приехать. Сказал, что лучше отужинает с дьяволом, чем станет обсуждать мир с Гогенштауфеном.
Зять Ричарда, известный как Der Löwe, Лев – герцог Саксонский и Баварский, некогда был самым могущественным среди германских баронов, силой, с которой следовало считаться. Но вражда с Гогенштауфенами оказалась гибельной для его дома. Он был обесчещен, изгнан, лишен титулов и герцогств. Ричард понимал его обиду, но не видел смысла в позиции Генриха Льва, ведь когда все его союзники заключат мир с их злейшим врагом, ему придется иметь с ним дело один на один.
Генрик, по всей видимости, думал так же, потому как со вздохом сказал:
– Я пытался убедить его хотя бы узнать, что предлагает император. Он никого не пожелал слушать – ни меня, ни Генриха. У него появился еще один повод для обиды на императора, – молодой человек печально улыбнулся. – Я с детства был помолвлен с двоюродной сестрой Генриха. Агнеса, единственная дочь его дяди Конрада, главы Рейнского палатината, была блестящей партией, и, потеряв герцогство, отец утешался тем, что ему не приходится беспокоиться хотя бы за мое будущее. Однако Генрих запретил брак, он хочет выдать Агнесу за Людвига, герцога Баварского. Признаюсь, я был страшно разочарован. Агнеса не только богатая наследница, у нее ослепительная улыбка, и мы всегда хорошо ладили. Но отец принял это тяжелее, чем я. Он ненавидит Гогенштауфенов даже сильнее, чем ты, дядя.
– Нет никого, кто ненавидел бы их сильнее, чем я, – возразил Ричард с таким притворным негодованием, что Генрик рассмеялся. – А твой отец знает, что ты отправился на эти переговоры?
Генрик кивнул:
– Ему известно, что я здесь лишь для того, чтобы повидаться с тобой. Если ты сумеешь хоть как-то договориться о мире, на меня он не распространится. Я должен остаться на его стороне, даже если сам того не желаю.
Увидев, что Ричард его понимает, Генрик с облегчением уселся верхом на стул, нетерпеливо отбросил прядь светлых волос с синих, как небо, глаз.
– Дядя Ричард… Я должен кое-что сказать, и тебе это не понравится. Я получил письмо от сестры с признанием, что ее муж принял участие во вторжении французского короля в Нормандию. – Увидев, как поджались губы Ричарда, он поспешно добавил: – Рихенца пишет, что у Жофре не было другого выбора, ведь Филипп его король, но она очень этим расстроена. Что мне передать ей в ответном письме?
– Скажи, что я не виню ее, – ответил Ричард, делая ударение на последнем слове, и тем дав Генрику понять, что Жофре не так повезло. Ричард не слишком удивился измене Жофре, но все же был уязвлен, тем более что понимал – за ним последуют и другие.
Генрик тут же подтвердил его опасения, назвав имена нескольких баронов, присоединившихся к французам, и в том числе двоих, сражавшихся рядом с Ричардом в Святой земле.
– И это еще не самое худшее, дядя. Рихенца говорит, что ты потерял замок Жизор. Кастелян предал твое доверие, сдав замок французскому королю.
Ричард ожидал возможных измен, но не такой. Он ссутулился в кресле. Трудно сказать, кого он сейчас ненавидел сильнее: вероломного лизоблюда, который сдал Жизор, французского короля, столь же бесстыдного, сколь и трусливого, или это дьявольское отродье Генриха.
Генрику страшно не нравилась роль гонца, приносящего дурные новости, и потому добрые вести от Рихенцы он приберег напоследок в надежде, что они смягчат горечь.
– Однако, дядя, король Франции потерпел серьезную неудачу при осаде Руана. Граф Лестер не только не дал захватить город, но впридачу еще и выставил Филиппа дураком – открыл ворота и бросил вызов, предлагая войти, если тот посмеет. Филипп не решился и удрал, поджав хвост!
Уловка сработала – Ричард разразился смехом:
– Я бы все отдал, чтобы такое увидеть!
Потом он поделился с племянником парой историй про подвиги графа Лестера в Святой земле, и когда его пригласили в большой зал на встречу с германской знатью, пребывал уже в гораздо лучшем расположении духа. Он поднялся, кивком подозвал стражу, словно по-прежнему имел право приказывать, и мысленно дал обет показать Филиппу, что даже будучи пленником, способен дать отпор предательству французского короля.
* * *
Присутствовали все германские мятежники, кроме зятя Ричарда, но верховодили всем герцоги Брабантский, Лимбургский и Богемский, а также архиепископы Кельнский и Майнцский. Ричард не был склонен доверять Генриху Лимбургскому, поскольку тот не исполнил свой обет отправиться сражаться в Святую землю, но проникся мгновенной симпатией к его племяннику – Генриху Брабантскому. Также Ричард с радостью заметил племянника архиепископа Кельнского – Адольфа фон Альтена: ему понравилась прямота и храбрость пробста во время суда в Шпейере.
Обмениваясь любезностями с герцогом Оттокаром Богемским, король не мог не ощутить иронию встречи при этих обстоятельствах, потому что изначально он надеялся найти убежище в Моравии, герцогстве брата Оттокара. С тех пор прошло всего пять месяцев, но казалось, будто это было давным-давно – столько всего случилось за это время.
Когда все расселись в соларе дворца за длинным столом на козлах, Ричард предложил услуги своего клерка Фулька в качестве писца. Капеллан Ансельм начал собрание с молитвы. Короля воодушевляло, что его хотя бы согласились выслушать. Однако он знал, что потребуется все отпущенное ему красноречие, чтобы убедить мятежников заключить мир с человеком, которому они не доверяют и которого ненавидят.
Ричард начал с того, что выразил соболезнования герцогам Брабанта и Лимбурга – брату и дяде убитого епископа Льежского, а потом решил не ходить вокруг да около, а нырнуть сразу в омут с головой, и заявил:
– Хочу быть с вами честным насчет своих мотивов. Я не пытаюсь положить конец вашему восстанию потому, что всегда старался быть миротворцем, и уж конечно не потому, что желаю избавить Генриха от проблем. Мирное разрешение вопроса в моих интересах, но я полагаю, что и в ваших тоже. Когда я приведу свои доводы, вы, надеюсь, согласитесь со мной.
Он сделал паузу, чтобы оценить произведенный эффект. Взгляд Германа, ландграфа Тюрингии, открыто выражал недоверие, что неудивительно, поскольку он был давним врагом зятя Ричарда, Генриха Льва. Остальные выглядели скорее заинтересованными, чем сомневающимися.
– Не знаю, слышали ли вы про то, что в следующем месяце император хочет встретиться в Вокулере с королем Франции.
По лицам присутствующих стало понятно, что до большинства эта весть пока не дошла.
– Уверен, вы слышали, что как раз когда я находился под судом в Шпейере, король Франции храбро объявил Англии войну. Филипп – опасный враг, особенно если его противник сражается за Христа в Святой земле или находится за сотни миль в германской тюрьме. Он знает, что не может и надеяться победить меня на поле битвы, поэтому делает все возможное, чтобы помешать мне обрести свободу. Он пообещал уплатить сумму не меньше любой, которую соберут в Англии, но понимает, что Генриху намного проще и безопаснее принять английский выкуп, и потому я боюсь, что на встрече в Вокулере Капет предложит Генриху военную помощь в подавлении вашего восстания. А в благодарность за эту бесценную помощь Генриху нужно будет всего лишь выдать меня французам. Если это произойдет, я покойник. Но и вам это не сулит ничего хорошего. На западе вас будут ждать французы, на востоке – Генрих. Они зажмут вас в клещи. Я могу сказать, что сейчас у вас есть шанс нанести поражение Генриху и даже свергнуть его. Папе, возможно, хватит духу признать вашего нового кандидата, если его победа станет свершившимся фактом. Полагаю, эта честь принадлежит вам, милорд. – Ричард кивнул в сторону герцога Брабантского. – Но если в эту драку ввяжутся французские войска, то все изменится, и чаша весов решительно склонится в пользу Генриха. Я изучал карту – большая часть ваших замков расположена в Рейнской области, так? Двум армиям будет легко взять вас в клещи, и последствия могут быть ужасными. Если честно, ни Генрих, ни Филипп не кажутся мне новым воплощением Цезаря, но вам придется биться на два фронта, чего сильнее всего опасается любой полководец. Вас просто задавят числом.
Ричард снова сделал паузу. Его слушали внимательно, многие – с тревогой, поскольку обладали достаточным военным опытом, чтобы увидеть правоту Львиного Сердца.
– Если этот злонамеренный пакт будет заключен, вам предстоит сражаться уже не ради победы, а чтобы выжить. Но пока у вас в руках есть рычаг, и я предлагаю вам пустить его в ход. Генрих известен своим упрямством, и я подозреваю, что давно запланированное завоевание Сицилии – вот единственное по-настоящему важное для него предприятие. Пусть он очень самонадеян и напрочь лишен понятия о чести. Но он не дурак и понимает, что пока в его империи неспокойно, Сицилия ему не по зубам. Император хочет мира. И я полагаю, готов заключить его на ваших условиях.
Они начали обсуждать услышанное, и поскольку немецкий Ричарда оставался еще зачаточным, король и не пытался вникнуть в суть резкого и яростного обмена репликами. Генрик ухмыльнулся, и Адольф фон Альтена одобрительно кивнул, поймав взгляд Ричарда. Король сделал все что мог, теперь ему оставалось только ждать.
Герцог Брабантский был первым, кто вновь обратил на себя внимание английского короля, доказав, что он реалист и не питает надежд стать императором.
– Возвращения захваченных земель и замков недостаточно. Генриху придется публично поклясться, и лучше на святых мощах, что он не приложил руку к убийству моего брата. Думаешь, он пойдет на это?
После того как его вынудили поклясться в непричастности к смерти Конрада Монферратского, Ричард счел такой поворот весьма приятной иронией судьбы. Божьи пятки, пусть Генрих сам теперь побудет в его шкуре.
– Да, – сказал король после недолгого размышления, – думаю, он согласится. Конечно, я не хотел бы в этот момент стоять с ним рядом, – добавил он с ухмылкой, – вдруг его испепелит божественная молния?
Раздавшийся смех Ричард принял за добрый знак. Теперь, решил он, время забрасывать наживку. Нужно только подобрать слова, дабы не задеть ничью гордость, но если Генрих с Леопольдом смогли придать грабительскому требованию вид уплаты приданого, он уж как-нибудь облагородит взятку.
– Я хотел бы обсудить с вами еще кое-что. Я должен быть уверен, что Филипп Капет не победит, и я не окончу свои дни во французской темнице. Я узнал, что надежда – лучшие доспехи узника, – сказал он, и на этот раз его улыбка получилась безрадостной. – На мне долг крови, и я провел немало времени, размышляя, как его заплатить. Я изо всех сил убеждал Генриха, что иметь союзником Англию полезнее, чем Францию, но мне самому нужны союзники, которым я действительно могу доверять – такие, как вы.
Бруно, престарелый архиепископ Кельнский, как один из самых влиятельных немецких церковников, взялся говорить за всех:
– К чему именно ты клонишь, государь?
– Едва вернувшись в свои владения, я намерен отобрать назад земли, захваченные Филиппом во время моего заточения. Я поведу атаку двумя фронтами, мечом и дипломатической удавкой. Я хочу потуже затянуть петлю на шее Филиппа, видеть, как он задыхается, и самый верный способ этого достичь – это заключение союзов. В обмен на поддержку против французского короля я предлагаю вам денежные бенефиции. Выгоды от столь формального соглашения огромны. Стоит мне твердо знать, что вы не клюнете ни на какие его посулы, и я вселю в Филиппа страх Божий. А еще я буду благодарен вам за поддержку, за ваш вклад в мое освобождение.
Эти искушенные люди прекрасно поняли истинный смысл его речей, но в предложении короля никто не смог бы придраться ни к единому слову, и их довольные улыбки показали, что они оценили его ловкость.
– Лично я готов встать с тобой рядом против французского короля, – провозгласил герцог Брабантский, расчищая остальным путь последовать его примеру. Мятежники снова заговорили по-немецки, а Генрик склонился к Ричарду и шутливо прошептал на ухо: «Сладкоречивый дьявол».
Ричард громко рассмеялся: теперь он был уверен, что победит.
Споры продолжались несколько часов, но в конечном счете бунтовщики сказали Ричарду то, чего он так жаждал услышать: они заключат мир, если император согласится на их условия.
– Отлично. – Король тепло улыбнулся своим новым друзьям. – А теперь… скажите, чего вы хотите от Генриха, и я сделаю все возможное, чтобы выбить это из него.
* * *
Ханау представлял собой маленький замок, окруженный водами реки Кинциг. Убогая деревушка – горстка домов и церковь – притулившаяся в тени замка, только подчеркивала его заброшенный вид, как будто он забыт всем окружающим миром, даже вычеркнут из анналов истории. Владетель замка, растерянный нежданным визитом императора и его свиты, смущенно играл роль хозяина, опасаясь, что у Генриха есть для приезда какие-то скрытые мотивы. Почему он предпочел остановиться в Ханау, когда императорский дворец всего в десяти милях? Остатки самообладания владетеля Ханау рухнули при появлении английского короля. Перепуганный, он проводил нового высокородного гостя и охрану в большой зал, после чего поспешил удалиться.
С приходом ночи над долиной пролился ураганный дождь, и в очаге зажгли огонь, чтобы прогнать сырость и холод. Генриха сопровождали в Ханау его дядя, брат Конрад, придворная свита, граф Дитрих и герцог Людвиг Баварский, надеявшийся заполучить невесту Генрика. Дядя читал, остальные играли в кости и шахматы, а Генрих склонился над лютней. То, что такой черствый и холодный человек мог разделять его любовь к музыке и поэзии, приводило Ричарда в замешательство – он как будто вдруг обнаружил, что сатана тайком читает Священное Писание.
Генрих сыграл несколько аккордов и лишь потом соизволил поднять глаза, словно только что заметил английского короля:
– Ну? И что же они сказали?
– Они согласны заключить мир. – Ричард развернул пергамент и протянул императору. – Вот их… – Он чуть было не сказал «требования», но вовремя остановился. – Это полный перечень их условий. Могу назвать те из них, что не подлежат торгу. Мятежники хотят вернуть отнятые замки и земли, а также получить возмещение убытков от потерь. Они хотят, чтобы ты публично поклялся в том, что неповинен в убийстве епископа Льежского и нашел других епископов и баронов, готовых свидетельствовать в твою пользу. Ты предоставил убежище тем, кто убил епископа, теперь эти люди должны быть изгнаны из двора. И последнее, они требуют, чтобы ты дал согласие избрать Симона, сына герцога Лимбургского, следующим епископом Льежским. Парню всего шестнадцать, он существенно моложе предписываемого каноническим правом возраста, но меня уверили, что проблем с этим не будет, поскольку твой младший брат Филипп стал епископом Вюрцбургским всего в тринадцать.
Тут Ричард не смог удержаться от насмешливой улыбки. Однако беспокоился он зря – внимание Генриха целиком поглощал документ. Всплеск эмоций случился у графа Дитриха – тот раскраснелся от гнева и вскочил на ноги. Ричард не мог разобрать его напыщенной речи, но прекрасно понимал суть, ведь Дитрих был главным подозреваемым в убийстве епископа. И не только он был приближен к императору – Генрих отобрал сан епископа у двух законных кандидатов, отдав его брату Дитриха Лотарю. Братья Хохштаден больше всех пострадали от последствий убийства епископа, поскольку Лотаря папа отлучил от церкви, а мятежники разорили владения Дитриха и захватили все его замки, кроме одного. Вполне следовало ожидать, что Дитрих станет сопротивляться любому мирному урегулированию. Вот только прислушается ли к нему Генрих?
К облегчению Ричарда, император словно не замечал обличительного выступления Дитриха, хотя тот верещал так громко, что его было слышно и во дворе замка. Ричарду, наблюдавшему, как император читает список, оставалось только надеяться, что он не ошибся и что для Генриха завоевание Сицилии важнее наказания мятежников. Он ощутил укол совести при мысли о германской армии, идущей к владениям Танкреда, поскольку между ним и королем Сицилии неожиданно завязались дружеские отношения. Но Танкред знал о приближающемся вторжении и был к нему готов. Кроме того, победа Генриха не предрешена. Он и прежде, когда Ричард сражался в Святой земле, пытался завоевать Сицилию, однако его воины тяжело переносили непривычную жару итальянского лета, многие заболели и умерли во время осады Неаполя. Сам Генрих едва не скончался от кровавого поноса и был вынужден отступить в Германию для восстановления сил. Император по глупости или, возможно, из самонадеянности, оставил в Салерно Констанцию, где ее захватили местные жители и передали Танкреду. Ричард хорошо представлял, как обошелся бы Генрих с попавшей к нему в лапы женой Танкреда, но Танкред видел в Констанции скорее гостью, чем заложницу, и в конце концов передал ее под опеку папы. По пути в Рим ей удалось сбежать, лишив папу и Танкреда важной пешки в этой игре, но то была ее заслуга, не Генриха. Сицилийская кампания императора обернулась несомненной катастрофой, и мысль об этом придавала Ричарду уверенности, напоминая, что Танкред куда лучший полководец, чем Гогенштауфен.
Когда Генрих наконец-то оторвался от перечня требований, Ричард заподозрил, что он намеренно нагнетает напряжение.
– Леопольд был прав, – произнес император с надменной улыбкой, которую Ричард давно возненавидел. – Ты говоришь так же хорошо, как и сражаешься. Признаю, я впечатлен. Их условия обременительны, но не возмутительны, и я могу их принять.
Прежде чем он успел продолжить, его перебил Дитрих, явно протестуя. Генрих обернулся на него и одним своим взглядом заставил замолчать. Потом посмотрел на Ричарда.
– Можешь завтра вернуться во Франкфурт и передать мятежникам, что я встречусь с ними в Кобленце через две недели для подписания мирного соглашения.
– А ты можешь сообщить королю Франции, что слишком занят, чтобы встречаться с ним в Вокулере, – Ричард старался говорить уверенно, думая про себя, уж не воткнут ли ему сейчас нож в спину.
Но Генрих только улыбнулся.
– Конечно. Теперь в этой встрече нет необходимости, не так ли? – мягко сказал он и подал знак слуге, который поспешил налить всем вина. Присутствующие выпили за мирное окончание мятежа, хотя Дитрих выглядел так, будто ему налили скисшего молока. Ричарду вино показалось таким же на вкус, потому что он знал, эти «потеплевшие» отношения с Генрихом – прогулка по очень тонкому льду, и при каждом новом шаге слышал под ногами тревожный хруст.
* * *
Хотя Ричард весьма обрадовался, что смог сорвать встречу в Вокулере, общий результат не принес удовлетворения, даже несмотря на приобретение ценных будущих союзников. Его сильно раздражало, что пришлось действовать от имени Генриха, и он не разделял ликования Фулька и Ансельма, потому что чувствовал себя не победителем, а чем-то вроде сводника. Он держал эти мрачные мысли при себе, не ожидая найти понимания у соратников. Да, они делили с ним плен, но не разделили его позора. Они ведь церковники, им не свойственно ценить честь дороже жизни. В отличие от рыцаря. Или от короля.
* * *
Гийому де Лоншану срочно требовался глоток вина: он без передышки проговорил больше часа, и во рту у него пересохло. Но ему требовалось многое рассказать своему королю: про перемирие с его братом Джоном до ноября, про меры, предпринимаемые королевой-матерью и юстициарами по сбору выкупа и заложников, затребованных Генрихом, про успешную кампанию французского короля в Нормандии. Он обрадовался, узнав, что Ричарду уже известно о потере замка Жизор и предательстве, так как боялся приносить столь дурные известия. Он не сказал Ричарду ни о том, как враждебно его приняли в Англии, ни о новых унижениях, поскольку решил, что у короля хватает своих проблем. Вместо этого канцлер постарался говорить жизнерадостно, уверял Ричарда, что Губерт Вальтер, должно быть, уже рукоположен в архиепископы, упирал на верность королевских подданных и так пылко восхвалял королеву-мать, что Ричард пошутил, не влюбился ли в нее Гийом. Но ничто не обрадовало короля сильнее, чем привезенные канцлером письма от Алиеноры, Отто, Губерта Вальтера, юстициаров и английских лордов. Глядя, как Ричард перечитывает эти письма, Лоншан удивлялся, почему король не упоминает о своем дипломатическом триумфе во Франкфурте. Он считал, что для пленника это выдающееся достижение, но в свете молчания Ричарда предпочел не распространяться на эту тему.
– На рынке Вормса, по дороге к дворцу, я наткнулся на Фулька, сир. Он торговался с лавочником из-за сюрприза для тебя и рассказал о твоей встрече с германскими мятежниками. Хотел бы я оказаться в Париже, видеть злость и досаду французского короля, когда тот узнает, что ты обвел его вокруг пальца!
Ричард оценил дипломатичность своего канцлера: тому удалось подчеркнуть единственную чистую радость от франкфуртского подвига – грядущие печали Филиппа Капета. Не желая пока говорить о самой встрече, он спросил:
– Говорил ли я тебе раньше, как меня удивило, что вы с Фульком так легко подружились? Я ожидал, что вы с первого дня будете на ножах, учитывая, какие вы оба бываете подчас колючие.
– В самом деле, мы оба терпеть не можем глупцов. И ни один из нас не славится своим тактом. И это в чем-то объединяет нас, – улыбнулся в ответ Лоншан. Уловив намек, он решил отложить обсуждение Франкфуртского совета до тех пор, пока король сам не заведет о нем разговор. – Сир, ты обмолвился, что у тебя есть для меня новое поручение?
– Ты прибыл в Вормс очень вовремя, Гийом: мы собираемся начать переговоры о новых условиях моего освобождения. Я полагаюсь на тебя: ты не позволишь Генриху высосать из меня кровь до последней капли, – за беззаботным тоном Ричарду не удалось скрыть горечь, только не от человека, знавшего его столь хорошо, как канцлер. – Затем я пошлю тебя во Францию. Хочу, чтобы ты попытался склонить французского короля к перемирию. Мне ненавистна сама мысль об этом, но иначе он проглотит всю Нормандию целиком, пока я здесь в плену.
Ему только что поручили дело, перед которым дрогнули бы и самые талантливые дипломаты, но Лоншан сделал карьеру именно благодаря подобным миссиям, и он как раз заверял Ричарда, что приложит все усилия, когда дверь отворилась и в покои влетел Фульк с «сюрпризом» для короля в руках – зеленым попугаем в клетке. Клерк надеялся, что птица позабавит Ричарда, но сейчас ее отодвинул на второй план другой принесенный им сюрприз.
– Сир, ты никогда не догадаешься, кого я встретил во внешнем дворе! – обычная хмурость Фулька совершенно испарилась, он сиял, пропуская вперед новых гостей. Морган и Гийен толкались, спеша войти в дверь, и затем перед ошарашенными немецкими стражниками развернулась сцена триумфального воссоединения. Их поразило, что английский король обнимает этих рыцарей как братьев. Они и вообразить не могли, чтобы их император оказал подобную честь человеку ниже по положению.
Ричарду был очень близок специфический дух солдатского товарищества, но особенно крепкие узы связывали его с двадцаткой храбрецов, отплывших вместе с ним на тех пиратских кораблях, и прежде всего с Морганом и Гийеном, бывшими рядом с ним в один из худших моментов его жизни. Убедившись, что они неплохо, насколько это вообще возможно, перенесли плен, он отступил и нахмурился.
– А где парень? Его что, не отпустили?
– Он боялся встретиться с тобой, сир, – грустно пояснил Морган. – Думает, что твои беды – это все его вина. Мы пытались его успокоить, говорили, ты не станешь его винить за то, что он сломался под пытками. Я думал, нам это удалось, но когда мы добрались до Вормса, Арн снова впал в отчаяние. – Морган был почти уверен, что Ричард не станет винить мальчишку, но короли не всегда терпимы к человеческим слабостям, и поэтому прибавил: – Он еще очень молод, монсеньор, даже моложе, чем мы думали – ему и пятнадцати нет…
– Иди и найди его, Морган, и приведи сюда. А будет упираться, скажи, что это приказ короля.
Только после того как Морган ушел, Ричард заметил попугая. Он много знал о соколах, но ничего о домашних птицах и с сомнением смотрел на подарок, но Фульк настаивал, что это хорошая компания. Впрочем, когда Фульк засунул руку в клетку и тут же был укушен, король признал, что в этой затее что-то есть. Он, Гийен и Лоншан смеялись над бессвязными ругательствами клерка, когда дверь открылась и Морган наполовину уговорами, наполовину тычками завел Арна в комнату.
Парнишка бросился к Ричарду, упал перед ним на колени и склонил голову. Ричард взял его за руку и рывком поднял:
– Посмотри на меня, Арн. – Долгое время он изучал юношу, отметив корки красных рубцов ожогов на лбу и на шее. – Парень, я кое-что расскажу тебе о мужестве. Оно кроется не в отсутствии страха, в преодолении оного. Ты претерпел за меня немалые страдания, больше, чем многие бы выдержали. У тебя нет причин упрекать себя.
В горле у Арна запершило, он видел Ричарда сквозь застилавшие глаза слезы. Король протянул руку и провел большим пальцем по самому ужасному шраму Арна, что шел от брови вверх и терялся в волосах. – Другие будут смотреть на это и видеть шрам, Арн. Но они ошибаются. Это почетная награда.
Моргану и Гийену показалось, что, когда тяжкий груз сняли с его плеч, Арн прямо на глазах прибавил в росте.
– Король прав, Арн, – усмехнулся Морган. – И эта «почетная награда» хорошо послужит тебе в будущем. Когда зайдешь в таверну и расскажешь, как ты ее получил, тебе никогда не придется платить за выпивку.
– Она также пригодится, когда ты захочешь произвести впечатление на девушку, – предсказал Ричард, и когда все рассмеялись, Арн присоединился к ним, удивленный, сколько боли можно исцелить парой хорошо подобранных слов. Немецкие стражники наблюдали, озадаченные весельем, и пришли промеж себя к выводу, что англичане воистину очень странный народ.
* * *
Двадцать девятого июня, когда оглашали условия соглашения, Ричард сидел на помосте рядом с германским императором в большом зале императорского дворца в Вормсе. На губах Генриха играла торжествующая и отчасти издевательская улыбка. Он забавлялся, представляя себе досаду французского короля, когда тот услышит об этом пакте, тем более что именно благодаря Филиппу Генриху удалось выбить из английского короля значительные уступки. У него не было оружия эффективнее, чем нависшая над Ричардом угроза парижской темницы.
Ричард изобразил гримасу, которая, как он надеялся, сойдет за улыбку, но она скорее напоминала оскал мертвеца. Король решил, что никто не узнает, сколько мучений причинило ему это соглашение. И поэтому хранил улыбку, даже когда новые возмутительные условия стали зачитывать вслух. Выкуп подняли до ошеломляющих ста пятидесяти тысяч серебряных марок, и на свободу пленника отпустят не ранее уплаты двух третей этой огромной суммы – ста тысяч марок. Он должен выдать шестьдесят заложников Генриху, и еще семерых герцогу Леопольду, в обеспечение уплаты оставшихся пятидесяти тысяч марок в течение семи месяцев после освобождения. Если ему удастся примирить императора со своим зятем, Генрихом Львом, уплату этих пятидесяти тысяч марок отменят, и заложники не потребуются. Но поскольку требования, предъявленные Льву, включали признание брака бывшей невесты его сына с герцогом Баварским, Ричард понимал, что мир заключить не получится никогда.
Он также был вынужден согласиться на свадьбу своей племянницы Эноры со старшим сыном Леопольда и выдать Анну, Деву Кипра, замуж за младшего отпрыска австрийского герцога. Утешаться оставалось только отсутствием одного из прежних требований – его личного участия в кампании против короля Сицилии. Но в тот жаркий полдень вторника это не доставляло ему особой радости – достаточно было вспомнить о цене своей свободы: сумма была столь огромной, что казалась немыслимой – она более чем в три раза превышала годовой доход английской казны.
* * *
После того как они с Генрихом пришли к окончательному соглашению, условия содержания Ричарда значительно улучшились. Удушающий надзор был ослаблен, он получил больше свободы, мог встречаться с глазу на глаз с друзьями и новыми германскими союзниками и вести государственные дела. Он даже послал в Англию за любимыми соколами, поскольку ему пообещали, что он сможет охотиться. Генрих также отпустил последних людей Ричарда, и Балдуина де Бетюна тепло приняли в Вормсе. Немцев впечатлил неиссякающий поток посетителей из Англии, людей знатных и облаченных властью, пускавшихся в трудное путешествие, дабы выразить преданность своему плененному королю, и вскоре до французского двора дошла молва, что теперь с Ричардом обращаются скорее как с гостем, чем с узником.
Филиппа ошеломили новости о заключенном в Вормсе соглашении. Он разъярился, что Генрих оставил его в дураках, заставив поверить, будто примет его предложение. А поняв, что освобождение Ричарда неизбежно, Филипп испугался. Он был настолько потрясен, что, встретившись девятого июля с канцлером Ричарда Гийомом де Лоншаном и его юстициаром Уильямом Бривером, согласился на перемирие с Англией в надежде сохранить захваченное за время плена Ричарда.
Он также отправил срочное сообщение своему союзнику и соучастнику. Прочитав скупое предупреждение: «Берегись. Дьявол на свободе», – Джон немедленно сбежал во Францию.
Глава XVI Рим, Италия
Июль 1193 г.
Леди Мариам сидела на мраморной скамье в палаццо семьи Франджипани на Палатинском холме. Солнце стояло в зените, но жара не беспокоила выросшую на Сицилии Мариам. Она ждала возвращения королев из папского дворца. В последние недели, стоило им попросить аудиенции, папа неизменно оказывался занят. И если Беренгария еще цеплялась за веру в его святейшество, то Джоанна уже оставила всякую надежду, и уклончивость иерарха церкви бесила ее не меньше, чем бездействие, поскольку она не могла ничего поделать ни с тем, ни с другим. Это внезапное приглашение от папы взволновало обеих: женщины решили, будто понтифик получил известия о Ричарде. Мариам не разделяла их уверенности в том, что новости хорошие – никто из сицилийцев не питал иллюзий относительно императора Генриха.
Если у папы действительно найдутся обнадеживающие слова о положении Ричарда, Мариам готова была порадоваться за Джоанну и Беренгарию, но считала маловероятным, что папа слышал что-нибудь о человеке, который много значит лично для нее: валлийском кузене Джоанны Моргане. Узнав, что Ричард рискнул пройти по вражеской территории всего лишь с двадцатью спутниками, она не усомнилась, что Морган был одним из них, и ее подозрения подтвердили братья де Пре: Гийом, Жан и Пьер. Расставшись с Ричардом на Корфу, братья добрались до Сицилии и уже направлялись домой в Нормандию, когда узнали о пленении короля и тут же изменили планы, решив присоединиться к Ричарду в Германии. Но сделали остановку в Риме, чтобы рассказать женщинам Ричарда о злосчастном путешествии короля из Святой земли.
Джоанна и Беренгария осыпали их хвалами за преданность, Мариам же молча слушала и удивлялась, почему так трудно понять приоритеты мужчин. Братья Пре ставили короля выше собственных обеспокоенных семей, ждущих их в Нормандии, и она не считала это достойным восхищения. Мариам все еще обижалась, что Морган решил отплыть с Ричардом, а не с ней, и на какое-то время ее отношения с Джоанной испортились. Но две женщины были близки как сестры, и Мариам поняла, что должна отбросить обиду. Ричард – брат Джоанны, тот, кто спас ее из плена, поэтому вполне ожидаемо, что сестра будет очень его любить, и безопасность брата будет иметь для нее первостепенное значение. Мариам напомнила себе, что Морган не обязан был исполнять просьбу Джоанны, и это опять вернуло ее думы к запутанной теме мужской чести.
Она настолько погрузилась в мысли, что очнулась, только когда в руку ткнулся мокрый нос. При виде Ахмера, сицилийской борзой или чирнеко, как еще называют эту породу, она улыбнулась. Ахмер был любимым псом ее брата. Она потрепала лисьи рыжие уши, вспоминая радость Вильгельма и ужас его врача-мусульманина, когда Мариам привела собаку в спальню во время его последней болезни. Мысли о Вильгельме неизбежно навевали грусть о несбывшемся. Вот если бы выжил его с Джоанной сын. Если бы Вильгельм не выдал Констанцию за Генриха Гогенштауфена, дав тем самым ему право на сицилийскую корону. Если бы не был таким упрямым, не оставил без внимания протесты своих подданных, которые скорее сошлись бы с Люцифером, чем с германским императором. Вильгельм всегда был хорошим братом и, как она думала, хорошим мужем для Джоанны, несмотря на то, что держал целый гарем сарацинских рабынь, как делали его отец и дед. Но вот хорошего короля из него не получилось.
Ахмер резко поднял голову, крутанулся и с радостным лаем понесся в большой зал. Мариам тоже встала и последовала за ним, уверенная, что пес услышал возвращение хозяйки. Когда она вошла, Джоанну и Беренгарию уже окружили другие фрейлины, жаждавшие услышать новости от папы. Один взгляд на Беренгарию подсказал Мариам, что перспективы Ричарда улучшились: лицо королевы сияло, прекрасные карие глаза наполнились мерцающим светом. Но сицилийка заметила тень, прячущуюся за улыбкой Джоанны, а улыбка сэра Стивена де Тернхема могла сойти лишь за дань вежливости.
Встретившись взглядом с Мариам, Джоанна ускользнула из окружившей Беренгарию толпы, предоставив королеве Ричарда право объявить всем, что скоро ее муж обретет свободу. Выйдя на внутренний двор, Джоанна заморгала от ослепительно-белого летнего солнца, затем направилась к скамье в тени серебристо-серой оливы. Мариам и Ахмер последовали за ней. Как только Мариам села рядом, Джоанна поведала о пакте, заключенном 25 июня в Вормсе между Ричардом и Генрихом. Фрейлина слушала, не перебивая, только ахнула, услышав непомерную сумму выкупа. Дождавшись окончания рассказа, она спокойно сказала:
– Условия очень жесткие, с умыслом сломить человека и разорить его страну. Неужели Беренгария этого еще не поняла?
– Сейчас в Беренгарии говорит жена Ричарда, а не королева, и ее трудно за это винить. – в голосе Джоанны проскользнули защитные нотки, она всегда опекала младшую родственницу. – Пока для Беренгарии все это означает лишь то, что скоро она может воссоединиться с мужем. Пусть порадуется, Мариам. Еще будет время оценить последствия этой сделки с дьяволом, когда Ричарда освободят. – Она помедлила и мрачно добавила: – Если освободят.
– Папа думает, что Генрих нарушит соглашение? Он же получит кучу денег.
– Если только французский король не предложит больше. – Джоанне очень хотелось разделить радость невестки, поверить в скорое освобождение Ричарда. Но безопаснее взять в домашние питомцы утремерского скорпиона, чем довериться императору Священной Римской империи. Она знала брата намного лучше, чем его жена, и втайне, не делясь ни с кем, даже с Мариам, страшилась, что плен терзает гордость Ричарда, оставляя шрамы на душе.
– Джоанна… ты все еще уверена, что следует скрывать от Беренгарии письмо королевы Алиеноры?
– Конечно, уверена, Мариам! Достаточно вспомнить обо всех ночах, когда я думала о заключенном в Трифельсе Ричарде, сгорающем от лихорадки, закованном в цепи, словно разбойник… Как я могу причинить Беренгарии такую боль? Если Ричард захочет рассказать ей о своих злоключениях в Трифельсе, то сам это сделает. А пока ее утешает вера, что с мужем обращаются с приличествующим уважением, и я не стану лишать ее этого.
Мариам понимала доводы Джоанны и не винила ее за желание по мере сил защитить Беренгарию. Но если бы Морган томился закованным в кандалы в замке Трифельс, она хотела бы это знать, невзирая на боль. Раньше Мариам продолжала бы спор, но их размолвка из-за Моргана побудила ее воздержаться от привычной откровенности, и фрейлина предпочла сменить тему:
– Ты собираешься сообщить Анне, что ей предстоит брак с сыном герцога Австрийского?
– Мы с Беренгарией обсуждали это по пути из папского дворца и решили, лучше нам подождать. Сомневаюсь, что Ричард желает заключения такого союза, и как только он освободится, возможно, найдет способ этого избежать.
Вопреки своему обычаю, Мариам согласилась, что не следует сообщать новость Анне. Она относилась к девушке с нежностью, но Анна была капризной и импульсивной, поэтому ее реакцию трудно предвидеть.
– Святому отцу известны имена будущих заложников?
– Не все, но папа говорит, что они из знатных семейств. – Губы Джоанны скривились. – Поскольку чести у Генриха нет, он считает, что Ричард способен пожертвовать жизнью заложников, как поступил бы сам на его месте, и потому требует тех, кого считает самыми ценными. Наши племянники Отто и Вильгельм в списке. Сыновья некоторых баронов Ричарда. Фернандо, младший брат Беренгарии. Люди, близкие к Ричарду. И даже церковные прелаты.
– А папа Целестин ничего не слышал о людях, взятых в плен вместе с Ричардом?
Джоанна грустно покачала головой. Потом, справившись с чувствами, ответила так твердо, насколько могла:
– Однако я уверена, их освободили. Скорее всего, Морган сейчас в Вормсе с Ричардом, строит планы возвращения домой.
Мариам все понимала – Моргану не покинуть Германию прежде Ричарда.
– Ты считаешь, что твоя мать сможет собрать такие огромные деньги?
– Я нисколько в этом не сомневаюсь. – В голосе Джоанны звучала уверенность. – У меня есть еще хорошие новости, Мариам. Папа обещал позаботиться о том, чтобы мы благополучно вернулись во владения Ричарда. Нас сопроводят в Пизу, а потом в Геную, где мы сядем на корабль до Марселя.
Вопреки палящему зною Джоанна похолодела при мысли о необходимости снова ступить на борт корабля, хотя ее уверяли, что они поплывут вдоль побережья.
– Благодарение Господу, – с жаром ответила Мариам, относившаяся к Риму как к золотой клетке. – Но… Марсель? Мне казалось, ты говорила, будто Ричарду пришлось повернуть назад, когда он узнал, что не сможет безопасно сойти на берег в Марселе?
– Знаю. Ни мне, ни Беренгарии совсем не доставляет радости просить о помощи арагонского короля. Но если не хотим оставаться в Риме до тех пор, пока Ричард сам не придет за нами, выбора у нас нет.
Мариам не слишком-то хотела признавать свое невежество в географии Франции.
– Я ведь сицилийка, Джоанна, помнишь? А Марсель – город на побережье Франции. При чем здесь король Арагона?
– Король Альфонсо – еще и граф Барселонский, и маркиз Прованский, а это и дает ему контроль над Марселем. Святой отец сообщил, что несколько месяцев назад он написал Альфонсо и попросил помочь, как только мы сможем безопасно уехать из Рима. Альфонсо пообещал проследить, чтобы мы добрались из Марселя до Пуатье. Подозреваю, он чувствует вину за то, что предал Ричарда и присоединился к этой гадюке из Тулузы. Ему на самом деле есть за что чувствовать себя виноватым, ведь они с Ричардом дружили с пятнадцати лет!
Упоминание о «гадюке из Тулузы» подстегнуло память Мариам. Она знала, что мать Джоанны предъявляла права на Тулузу, поскольку ее бабка была единственным ребенком одного из тамошних графов, но наследство захватил ее дядя. Это случилось лет сто назад, и с тех пор герцоги Аквитанские враждовали с графами Тулузскими. Два года назад нынешний граф Тулузский, Раймон де Сен-Жиль, каким-то образом вовлек Альфонсо в союз против общего врага, Наварры, и в результате Ричарду пришлось добираться домой через Германию.
– Я знаю, Джоанна, что Альфонсо когда-то был дружен с Ричардом. Но ты считаешь, ему можно по-прежнему доверять? Что если он выдаст Беренгарию и тебя графу Тулузскому?
– Альфонсо никогда так не сделает. В отличие от Сен-Жиля, он не совсем лишен чести. Альфонсо гарантировал нашу безопасность папе, и не изменит слову. Более того, до Марселя нас сопроводит кардинал Мелиор из церкви Санти-Джованни-э-Паоло. Он француз, – с кислой миной сказала Джоанна, – но еще и папский легат. Я с ним несколько раз общалась, и мне кажется, кардинал искренне возмущен положением Ричарда и не позволит причинить нам вред.
– Кардинал и папский легат? Я поражена. Смеем ли мы надеяться, что в его святейшестве наконец-то проснулась совесть?
– Подозреваю, этой нежданной заботливости мы обязаны скорее страху перед моей матерью, нежели запоздалым угрызениям совести, – неожиданно улыбнулась Джоанна.
После того как папа перестал с ними встречаться, она принялась подыскивать новые источники информации, и с легкостью нашла сочувствие у одного из папских секретарей – ведь даже мужчины, что дали обеты, не защищены от обаяния красивой женщины. Джоанна не выдавала имени нового друга, шутливо называя его «добрым самаритянином», и теперь, обратившись к нему, узнала, что Алиенора засыпала папу Целестина письмами, попеременно умоляющими и угрожающими.
– Как сообщил «самаритянин», королева выразила возмущение тем, что святой отец не отправил ни единого нунция, даже простого иподиакона для ведения переговоров в интересах Ричарда. Она трогательно писала о материнском горе, говоря, что «лишилась опоры в старости, света своих очей», в то время как ее «терзают воспоминания о покойных сыновьях, спящих в земле». Алиенора предупреждала папу, что его действия бросают тень на церковь и требовала объяснить, как он может оставаться столь равнодушным, когда ее сын «страдает в цепях», напоминала об огромнейшем злодеянии Генриха против церкви – убийстве епископа Льежского и пленении пяти других епископов. Она обвиняла папу, что тот «держит меч святого Петра в ножнах», взывала к «страху людскому», писала: «Верни мне сына, Божий избранник, если ты в самом деле избран Богом».
– Она и вправду решилась сказать такое, Джоанна?
Дочь Алиеноры гордо кивнула:
– Одно из писем она подписала «Гневом Господним королева Англии». – Джоанна снова улыбнулась и добавила: – Мой «добрый самаритянин» клянется, что святой отец вздрагивает лишь от одного взгляда на письмо с печатью моей матери.
Джоанна рассмеялась, Мариам присоединилась к ней, обе порадовались минутке веселья в такие тяжелые времена. И ни одна не услышала приближения тихих шагов и не обернулась, пока Ахмер не взвизгнул от радости. Беренгария улыбнулась им, на ее лице появилось выражение любопытства.
– Что вас так развеселило?
– Я рассказывала Мариам о письмах моей матери к его святейшеству, – объяснила Джоанна, двигаясь на скамье, чтобы дать место невестке.
Беренгарию поначалу шокировал обвинительный тон посланий свекрови, но втайне она тоже была довольна – терпеть пассивность святого отца становилось все труднее и труднее. Он наместник Бога на земле и, как ей хотелось верить, не станет пренебрегать своим пастырским долгом из мелких политических соображений. Беренгария нуждалась в этой уверенности. Однако папа ее не оправдывал.
– Просто возмутительно, что Ричарду придется заплатить столько денег, чтобы вернуть свободу, – сказала она, давая понять, что помнит о ложащемся на королевство бремени выкупа. – Собрать его будет непросто, особенно после того, как подданных Ричарда уже обложили Саладиновой десятиной. Как думаешь, Джоанна, твоей матери это удастся?
В ответ на заверения невестки Беренгария робко улыбнулась.
– Должно быть, с моей стороны эгоистично так радоваться, зная, что этот выкуп для многих станет причиной лишений, – продолжила она. – Но я ничего не могу поделать. Впервые наше с Ричардом воссоединение видится мне реальностью, а не просто светом на горизонте. Мы так давно в разлуке. Я думала об этом сегодня утром и поняла, что с тех пор, как мы оставили его в Акре, прошло уже девять месяцев. Девять…
Беренгария продолжала улыбаться, но голос изменил ей, и Джоанна поняла причину. Слишком хорошо поняла. Для женщины, отчаянно желавшей родить, девять месяцев означали только одно. Беренгария явно терзалась мыслями о том, что могло бы случиться, будь Бог милостивее к ней: она могла покинуть Акру беременной, и теперь, наконец-то воссоединившись с Ричардом, могла бы показать ему сына. Джоанна страдала от тех же заглушенных желаний в собственном браке с королем Сицилии, терзалась, что больше не смогла забеременеть после смерти младенца-сына. Она тоже ощущала свою вину, боясь, что это из-за нее у Вильгельма не оказалось наследника. Джоанна знала: Беренгарию преследуют те же страхи – ведь за шестнадцать месяцев, прошедших между свадьбой на Кипре и расставанием с Ричардом в Акре, ее истечения оставались удручающе регулярными.
Джоанна изо всех сил старалась развеять эти страхи, напоминая, как редко Беренгарии удавалось делить ложе с Ричардом, и уверяла, что все изменится, когда ему не придется больше сражаться в Святой земле. Однако Джоанна не знала, поможет ли этот призыв к здравому смыслу. Себе она говорила, что бесплодный брак – вина Вильгельма в той же мере, как и ее, ведь немало ночей муж проводил в постели с соблазнительной сарацинской наложницей. Но это не облегчало ее страданий.
Она потянулась к Беренгарии, легко сжала ее ладонь:
– У нас есть прекрасный повод для радости, ведь худшее позади.
Ей удалось придать голосу убедительность, пусть даже сама она не до конца верила в свои слова.
* * *
Арагонскому королю не пришло в голову отказаться, когда папа попросил его помочь. Считай Альфонсо Ричарда своим врагом, он все равно бы предложил содействие жене и сестре Львиного Сердца. Но поскольку король видел в Ричарде друга, у которого, к тому же, имелись поводы для обиды, Альфонсо был рад загладить, насколько возможно, свою вину. Это не означало, что он жаждал встречи с Джоанной и Беренгарией, которые, наверняка, винят его за ту роль, которую он, пусть и невольно, сыграл в пленении Ричарда. Кроме того Наварра, откуда родом Беренгария, всегда была враждебна Арагону. Король подумывал облегчить положение искренним признанием, что не имел иного выхода, кроме как заключить союз с графом Тулузским: брат Беренгарии Санчо слишком уж успешно подавлял мятеж в землях Ричарда, дойдя до самых стен Тулузы. Устрашившись, что Санчо захочет вторгнуться в его земли в Провансе, Альфонсо вынужденно пошел на крайние меры. Но стоит ли ожидать от них сочувствия к его затруднениям, когда Ричард томится в немецком плену?
В любом случае, королям не часто приходится извиняться, и потому он решил просто положиться на их хорошие манеры. Без сомнения, дамы слишком хорошо воспитаны, чтобы начать выговаривать приютившему их человеку. Альфонсо также позаботился о присутствии своей королевы. Санча не очень обрадовалась необходимости ехать из Арагона после того как с трудом разрешилась восьмым ребенком, но муж настоял, ведь Санча – сестра короля Кастилии, женатого на сестре Джоанны, Леоноре. А еще Альфонсо слышал, что супруга Ричарда набожна, а значит, должна найти общий язык с Санчей, пять лет назад основавшей монастырь.
В итоге встреча вышла не такой уж неловкой. Как он и надеялся, гостьи держались с прохладной вежливостью и учтиво поблагодарили его за гостеприимство, держа истинные чувства при себе. В соответствии с ожиданиями, обе сердечно подружились с Санчей. Присутствие знаменитого трубадура Пейре Видаля помогло ослабить напряжение. Внес свою лепту и кардинал Мелиор, будучи одним из светских прелатов, одинаково свободно ощущавших себя как в монастыре, так и в обществе. Альфонсо предоставил гостьям все мыслимые удобства, и те не стали протестовать, когда король настоял, чтобы они отдохнули от тягот путешествия из Рима. Все шло замечательно, и Альфонсо уже затаил надежду, что Ричард смягчится, узнав, как тепло приняли его жену и сестру при арагонском дворе.
* * *
Конец первой недели пребывания гостей в Марселе Альфонсо отпраздновал роскошным пиром в их честь. После пяти перемен южных деликатесов Пейре Видаль исполнил написанную им песню о пленении Ричарда. Джоанна и Беренгария горячо зааплодировали, когда он назвал французского короля «бессовестным и бесчестным», насмешливо заявил, что Филипп «продает и покупает, как серв или бюргер», и обвинил Генриха в нарушении Закона Божьего за то, что держит Ричарда в плену. Присоединившись к аплодисментам, Альфонсо решил, что сам должен написать песню о тяжкой участи английского короля: так он выразит дамам Ричарда свои сожаления, не прибегая к прямым извинениям. Талантливый поэт – Альфонсо даже выучил диалект lenga romana и мог писать на языке трубадуров – к концу празднования король уже слагал в уме вирши.
И не обратил внимания, как Беренгария, выражая Санче благодарность за гостеприимство, вдруг сказала, как любезно со стороны Альфонсо вызваться сопровождать их до самого Пуатье. Санча нахмурилась и удивленно повернулась к супругу:
– Ты не сказал им? – спросила она на каталанском, любимом языке арагонских королей, но ее интонация дала понять Джоанне и Беренгарии, что что-то не так, и Альфонсо внезапно оказался в центре всеобщего внимания.
Король намеренно держал свой план в тайне, зная, что его примут плохо, и ждал, когда прибудет Раймунд, надеясь, что тот развеет все сомнения гостей. Теперь стало слишком поздно.
– Разве я не сказал? – обходительно произнес он. – К великому сожалению, я не смогу сопроводить вас до Пуатье, милые дамы. Это ставит меня перед дилеммой, ведь я хочу удостовериться, что вы безопасно продолжите свой путь. К счастью, мой друг предложил сделать то, что я не в силах. Я сопровожу вас через Прованс, а затем передам ему. На самом деле, он приедет сюда, в Марсель, так как хочет предоставить вам возможность познакомиться с ним…
Королей не перебивают, но в голову Джоанны закралось ужасное подозрение: земли за Провансом удерживал Тулузский змей.
– И как же зовут твоего друга, которому ты доверишь нашу безопасность, милорд?
Альфонсо подавил желание куда-нибудь спрятаться:
– Сен-Жиль, граф…
Как он и боялся, Альфонсо только что бросил факел в стог сена. Обе женщины в ужасе воззрились на него.
– Ты шутишь! – воскликнула Джоанна, снова прервав его на полуслове. – Граф Тулузский, заклятый враг нашего дома!
То был редкий случай, когда Беренгария охотно присоединилась к золовке в устроенной ей на людях некрасивой сцене.
– Он ненавидит и боится моего супруга, – взволнованно сказала королева. – Мы знаем, что граф сговорился с королем Франции против Ричарда. Думаю, он вполне способен взять нас в заложники и выдать Филиппу.
Джоанна выразилась еще более откровенно:
– Этот человек – просто чудовище. Считается, что именно Раймон несет ответственность за убийство виконта Безье, которое произошло несколько лет назад, и многие думают, будто это он стоит за убийством твоего брата, милорд король. Он годами держал в страхе соседей, которые не доверят ему и пса, не говоря уж о королеве!
– Ты расстраиваешься из-за пустяка, миледи, – холодно произнес Альфонсо, задетый бестактным напоминанием Джоанны об убийстве его брата.
Король и в самом деле подозревал графа Тулузского в участии в заговоре, пусть это и осталось недоказанным. Однако ему не нравилось напоминание, что он сам стал союзником человека, на руках которого, возможно, кровь брата.
– Я и не ожидал, что вы согласитесь путешествовать в компании графа Тулузского. Я говорил не о Раймоне Сен-Жиле, а о его сыне Раймунде, графе Мельгейском.
Их негодование тут же сыграло Альфонсо на руку. В других обстоятельствах они отвергли бы любого члена Тулузского дома, но на фоне злодея-отца сын выглядел меньшим из зол. Гостьи обменялись озабоченными взглядами, поскольку о Раймунде де Сен-Жиле не знали почти ничего и не могли привести убедительных возражений.
Но усмиряя один пожар, Альфонсо разжег другой. Кардинал Мелиор слушал его с нарастающей тревогой, ведь в итоге ответственность за безопасность королев лежала на церкви. Ему не больше, чем женщинам, нравилось неожиданное привлечение графа Тулузского. Но при имени Раймунда де Сен-Жиля он подскочил как ужаленный, едва не наступив при этом на хвост мирно дремавшему на помосте королевскому псу.
– Граф Мельгейский представляет собой опасность, куда большую, чем его отец. По крайней мере, вера графа Тулузского сомнений не вызывает. А его сын – еретик!
Беренгария ахнула, услышав эти слова. В отличие от невестки, Джоанна, зная церковную жизнь на юге, не принимала суждения кардинала как непререкаемую истину, но охотно подхватила протянутое ей «оружие» и с вызовом произнесла:
– Милорд, это правда? Ты отправляешь нас в сопровождении еретика?
– Разумеется, нет! – сквозь зубы процедил Альфонсо. – Тебя ввели в заблуждение, господин кардинал. Раймунд де Сен-Жиль не более еретик, чем я сам. А разве ты не считаешь короля Арагонского добрым христианином?
Обычно он предпочитал не подчеркивать свой ранг без особой нужды, но сейчас очень хотел завершить этот спор, пока ситуация не вышла из-под контроля. Однако кардинал не принял намек, поскольку на кону стояло нечто большее, чем королевское недовольство.
– Конечно, монсеньор, твоя вера сомнению не подлежит. Но о Раймунде де Сен-Жиле я этого сказать не могу. Он часто общается с альбигойскими еретиками, называемыми катарами, и был замечен в почитании их perfecti, как они величают своих священнослужителей. Раймунд позволяет их мерзким верованиям процветать в Тулузе, а они подлинно мерзкие! Катары отрицают воскрешение и евхаристию, утверждают, что Господь наш Христос – не Сын Божий, и настаивают, будто таинства церкви – силки, расставленные дьяволом!
– Я не защищаю эти ужасные верования, господин кардинал! Я говорю, что Раймунд де Сен-Жиль не катар. Он верный сын истинной церкви.
Альфонсо обратился к женщинам, принимая вызов Джоанны:
– Имей я хоть каплю сомнения, что рядом с Раймундом вы в безопасности, никогда не вверил бы вас его заботам. Признаю, его отец не человек чести. Но сыновья не всегда похожи на своих отцов: Раймунд и Раймон очень разные люди. Если он и виновен в каком-то грехе, так только в излишней любезности. Да, граф выказывал уважение к священникам-катарам, но лишь потому, что в большинстве своем это люди пожилые и, по его мнению, безобидные…
– Безобидные?! – Кардинал Мелиор задохнулся от возмущения, разгневанный, что врагов церкви описывают в столь снисходительных терминах.
Понимая, что допустил промашку, Альфонсо поспешно исправился:
– «Безобидные» – неудачное слово. Я имел в виду, что Раймунд не считает катаров серьезной угрозой для Святой церкви. Он мне говорил, что их perfecti не создают никаких проблем, живут простой аскетический жизнью, проводя время в молитвах и хороших делах. У Раймунда доброе сердце, и иногда это сбивает его с пути. Но это не делает его еретиком, господин кардинал.
Выражение лица Мелиора говорило о том, что он придерживается иного мнения, и Альфонсо повелительно поднял руку:
– Сожалею, что мы расходимся в данном вопросе, господин кардинал, но я не могу сопроводить королев в Пуатье лично, и потому признателен графу Мельгейскому за предложение заменить меня. Нет смысла продолжать эту дискуссию.
Кардинал был прожженным дипломатом. Но одновременно и князем церкви. Примиряя между собой эти противоречивые сущности, он выжидал, пока не убедился, что голос не выдаст гнева:
– Я уступаю твоим желаниям, государь. Однако не разделяю твоей веры в добропорядочность графа Мельгейского и считаю необходимым изменить планы. Вместо того чтобы попрощаться с королевами Англии и Сицилии здесь, в Марселе, я сопровожу их до Пуатье.
Беренгария и Джоанна немедленно и с таким очевидным облегчением принялись благодарить кардинала, что Альфонсо понял: ему не удалось умерить их тревогу. Глядя на несчастных королев и взбешенного прелата, король подавил вздох, подумав: «Бедный Раймунд даже не подозревает, с чем ему предстоит столкнуться».
* * *
Беренгария и Джоанна хотели узнать о Раймунде де Сен-Жиле все, что возможно, раз уж им предстоит провести в его обществе много недель. Кардинал Мелиор с радостью пересказал известные ему истории о грехах графа. Свободное от якшаний с еретиками время он тратил на то, чтобы волочиться за женщинами. У Раймунда уже вторая жена, неодобрительно сообщил прелат, и несметное число незаконнорожденных отпрысков. У него извращенное чувство юмора, зачастую граничащее со святотатством, а стекающиеся к его двору трубадуры столь же нечестивы. К сожалению, граф пользуется любовью среди подданных его отца, и это только подтверждало самые темные подозрения кардинала насчет жителей этих солнечных южных земель.
Затем Джоанна и Беренгария обратились к Санче, любившей собирать слухи и делиться ими.
– Я плохо знаю Раймунда, – призналась она, – но с Альфонсо они добрые друзья. Граф из тех мужчин, которым обаяния отпущено больше, чем полагается по закону, и мог бы соблазнить аббатису, возникни у него такая прихоть. Его первая жена была на несколько лет старше него – Раймунду на момент брака едва исполнилось шестнадцать. Когда спустя четыре года она умерла, граф унаследовал ее графство Мельгей. Затем Раймунд женился на сестре виконта Безье…
– Хочешь сказать, граф Раймунд женился на дочери виконта, которого, как говорят, убил его отец? Святые небеса!
– Южане – люди прагматичные. Его сестру, кстати, тоже выдали замуж в семью Транкавель, чтобы хоть как-то залатать мир между ними и Тулузой. У Раймунда и Беатрисы родилась лишь одна дочь, которую он в честь своей матери назвал Констанцией.
Санча усмехнулась:
– Отец Раймунда не слишком обрадовался. Он-то со своей Констанцией обращался так дурно, что та в конце концов бросила его и сбежала ко двору своего брата, французского короля – того, который когда-то был женат на твоей матери. Разразился невероятный скандал, поскольку на тот момент Констанция была на сносях и позже родила в Париже сына. Она наотрез отказалась возвращаться в Тулузу и несколько лет назад умерла.
– Сколько было Раймунду, когда его мать сбежала во Францию? – спросила Джоанна, и Санча задумалась.
– Он почти ровесник Ричарду, значит, лет десять.
– И больше граф ее не видел? Как это печально. – Джоанна обнаружила, что хотя бы один из поступков графа Раймунда ей нравится: назвав дочь в честь матери, он сумел почтить ее память и выразить неодобрение дурному обращению с ней. – У него в самом деле так много внебрачных детей, как заявляет кардинал?
– Мне известно лишь о троих: сыне и двух дочерях. Альфонсо рассказывал, что граф с готовностью признал их и щедро обеспечивает; это говорит в его пользу, ведь далеко не все мужчины заботятся о своих бастардах.
До сих пор Джоанна не услышала от Санчи ничего особенно порочащего Раймунда де Сен-Жиля. Большинство мужчин ее социального класса имели любовниц и детей вне брака, ее отец сам прижил нескольких.
– А обвинения в ереси? Ты в это веришь?
– Нет… Альфонсо настаивает, что Раймунд не катар.
Джоанна уловила в голосе Санчи нотки сомнения и поднажала:
– Но…
– Но граф подозрительно снисходителен, когда речь идет о религиозных убеждениях других людей. Он будто считает, что это не его забота, и их вера касается лишь их самих и Господа!
Беренгария слушала молча, но после этих слов покачала головой, желая сказать, что терпеть ересь – значит поощрять ее. Джоанна имела более свободные взгляды, поскольку выросла на Сицилии, где арабский являлся одним из официальных языков, ее мужа окружали сарацинские медики и астрологи, а евреи не были изолированы от общества, как в других христианских странах. Однако спорить с Беренгарией она не стала, не желая повергать ее в ужас лишним примером анжуйского легкомыслия. Джоанна помнила, как часто они с Ричардом смущали его замкнутую супругу-испанку своей прямотой и язвительным юмором. Но даже если бы она и могла оправдать Раймунда де Сен-Жиля в самом серьезном обвинении – ереси, доверять графу не собиралась, поскольку их дома враждовали так долго, сколько Джоанна могла упомнить, и ей, не более чем невестке, не хотелось оказаться у него в долгу. Однако тут они ничего не могли поделать.
* * *
Вокруг предстоящего прибытия Раймунда де Сен-Жиля создалась такая напряженность, что Мариам пошутила, обращаясь к невестке:
– Мы будто пришествия Антихриста ждем.
Джоанна невесело улыбнулась в ответ – после того как узнала о предательской уловке Альфонсо, а именно так она воспринимала преподнесенный им сюрприз, желание веселиться пропало. И вскоре она вместе с Альфонсо, Санчей и Беренгарией уже сидела на помосте в зале в ожидании прихода «Антихриста».
Появление Раймунда вызвало суматоху, поскольку его сопровождал трубадур, восходящая звезда, Раймон де Мираваль. Джоанна, однако, не обратила на трубадура никакого внимания, ибо видела только Раймунда де Сен-Жиля. Выше среднего роста, худощавый граф двигался с грацией человека, которому удобно в собственном теле. Никогда она не видела таких темных волос, блестящих и черных, как вороново крыло, или таких голубых глаз, еще более поразительных от того, что они сияли на покрытом глубоким южным загаром лице. На этом лице, чисто выбритом, выделялись высокие, резко очерченные скулы и красивые чувственные губы, чуть приподнятые в уголках, словно затаившие улыбку. Граф не был классическим красавцем, в отличие от ее мужа и братьев, но при его приближении горло Джоанны сжалось, и она в первый раз поняла, что имеют в виду трубадуры, поющие об огне в крови.
Граф почтительно преклонил колено перед Альфонсо и плавно заговорил:
– Я, как всегда, счастлив видеть тебя и твою возлюбленную супругу, монсеньер.
Джоанна закусила губу – воистину этот испорченный человек обладал голосом падшего ангела. Низкий, с легкой хрипотцой, он навевал мысль о жарких летних ночах, о медовом вине и тех сладких грехах, которыми вымощена дорога в ад.
Поднявшись, Раймунд галантно поцеловал руку Санчи, а когда Альфонсо представлял его остальным, ответил на холодное приветствие кардинала Мелиора с безупречной вежливостью, за которой угадывалась тонкая насмешка. Однако прикладываясь к руке Беренгарии, он выглядел искренним, выразил сочувствие злоключениям ее мужа и сказал, что просто позор держать в заключении человека, принявшего крест. Изумленная Беренгария приветствовала его теплой улыбкой, которая померкла, стоило ей вспомнить, что этот любезный и привлекательный человек неблагонадежен в глазах Святой церкви.
– Миледи Джоанна.
Раймунд склонился над ее рукой в грациозном поклоне, и Джоанна ощутила дрожь от прикосновения его пальцев, горячего дыхания на своей коже и обжигающего, как раскаленное клеймо, поцелуя. Она отпрянула, непроизвольно отдернув ладонь – жест получился настолько же импульсивным, насколько невежливым, – а потом залилась краской, смущенная собственным поведением. Черная бровь Раймунда чуть изогнулась, едва-едва, но больше он никак не отметил эту грубость и продолжал смотреть на Джоанну с улыбкой. Джоанна снова опустилась в кресло, стараясь не встречаться с ним взглядом. Присутствие мужчины никогда так на нее не действовало, она была раздосадована коварным предательством своего тела и – а это было еще хуже – точно знала, что Раймунд де Сен-Жиль полностью осведомлен о запретных чувствах, эту досаду вызвавших.
Глава XVII Арль, Прованс
Август 1193 г.
Джоанна руководила одним из самых просвещенных дворов христианского мира, с младых ногтей постигая искусство превращения женщины в королеву. Кроме того, она привыкла привлекать внимание мужчин и была законченной кокеткой. Но, к своей досаде, в обществе Раймунда де Сен-Жиля Джоанна чувствовала себя неотесанной юной девицей. Проглотив вдруг язык и чувствуя себя не в своей тарелке, она обнаружила, что не способна поддерживать с ним непринужденную беседу, дававшуюся ей без труда лет с пятнадцати. Ощущая себя выбитой из колеи, королева с трудом укрылась за ледяной вежливостью, и злость на себя только усиливала испытываемые ей неудобства. Небольшим утешением служило лишь то, что не только ей было тягостно в присутствии Раймунда. Светский и элегантный кардинал, сопровождавший их из Рима, превратился в человека, кипящего от злости: он только через зубы цедил каждое вежливое слово, и казалось, постоянно прикусывал язык, чтобы не извергнуть поток обвинений и контробвинений. Но кардинал и Джоанна были единственными, кто не поддался очарованию графа.
Анна и Алисия подпали под его влияние сразу же. Джоанна зорко следила за девочками, но вынуждена была признать, что до поры Раймунд принимает их влюбленность весьма галантно: не смеется над неуклюжими попытками флиртовать с ним, и не поощряет их. К возмущению Джоанны граф и Мариам с первой их встречи сошлись как две родственные души, а после того как в Арле их покинули Альфонсо и Санча, Сен-Жиль завоевал и даму Беатрису. Даже строгой морали испанские фрейлины Беренгарии не устояли перед его улыбкой и обольстительным голосом. Разумеется, они выражали ужас перед его еретическими взглядами, но, как подметила Джоанна, тайком стреляли в него взглядами и заливались румянцем всякий раз, стоило ему глянуть в их сторону.
Джоанна осознала, что разделяет вину спутниц Беренгарии: держась от графа на расстоянии, она тем не менее постоянно искала его взглядом. Это настоящий хамелеон, меняющий свой цвет в зависимости от аудитории, гласил ее неодобрительный вердикт. С околдованными им девочками он держался подчеркнуто галантно. С прямолинейной Беатрисой – уважительно. Бессовестно заигрывал с Мариам, но не с Беренгарией. С последней он практиковал более тонкий подход, прося рассказать о подвигах Ричарда в Святой земле. Джоанна была уверена, что ему нет никакого дела до самого Ричарда или его побед, но гордость за мужа возобладала в Беренгарии над изначальной ее настороженностью. Похоже, ее подруга частенько забывала, что имеет дело с человеком, подозреваемом во множестве самых серьезных грехов.
Раймунд явно старался сделать их путешествие как можно более приятным. В Арле он показал спутницам древнеримский амфитеатр и бани Константина. Из Арля они направились в Сен-Жиль, место рождения графа, и тот развлекал их историями про того самого святого Жиля. То был отшельник, долгие годы живший в лесу близ Нима в обществе одного только красного оленя. Когда королевские охотники погнались за ланью, святой попытался спасти ее и сам был ранен стрелой. Короля отшельник так впечатлил, что государь повелел выстроить для него большой монастырь, названный в его честь. Теперь эта обитель стала первой остановкой для паломников, направляющихся в Сантьяго-де-Компостела. Жиль, сообщил Раймунд женщинам, является покровителем калек, а также прокаженных, нищих и юродивых. Но когда граф добавил, что святой Жиль никогда не вкушал мяса животных и питался исключительно овощами и фруктами, кардинал Мелиор сразу напрягся и удалился. Позже он сказал женщинам, катары тоже отказываются есть мясо, и этот проклятый Раймунд намеренно соблазняет их историями про кроткого подвижника. Даже Джоанне, деятельно ищущей, в чем обвинить Раймунда, это показалось придиркой, они с Беренгарией договорились, что постараются по возможности держать графа и кардинала подальше друг от друга, ведь впереди еще сотни миль пути.
Выехав из Сен-Жиля, они остановились в Монпелье, а оттуда двинулись к окольцованному стенами городу Безье. Хотя его владетель виконт Роже Транкавель отсутствовал, горожане радушно встретили гостей. Но кардинал Мелиор настоял, что задержаться им тут можно не более как на одну ночь, поскольку Безье, по его словам, является логовом еретиков. Из Безье их путь лежал на запад, в Нарбонн. Когда три года назад Алиенора и Беренгария ехали на Сицилию к Ричарду, виконтесса Нарбонна, дама Эрменгарда, гостеприимно приняла их в городе. Беренгарию впечатлила Эрменгарда, эта женщина, вот уже пятьдесят лет правившая без помощи мужчины. И теперь была сражена новостью, собственный племянник Эрменгарды, Педро де Лара, низложил тетю и вынудил ее бежать из Нарбонна. Ни ей, ни Джоанне не доставил радости прием виконта-узурпатора, но Педро настоял, чтобы они пробыли у него в гостях хотя бы несколько дней. Этого же хотел и кардинал Мелиор, желавший повстречаться с архиепископом Нарбоннским. И вскоре путники уже располагались во дворце на берегу реки, который некогда занимала Эрменгарда.
* * *
Джоанна и Беренгария надеялись отбыть из Нарбонна не далее как к концу недели, но тут с Мариам, отправившейся вместе с Раймундом посетить расположенный за рекой пригород, известный как Бург, приключился несчастный случай. Джоанна отказалась их сопровождать, но наблюдала из дворцового окна за тем, как процессия направляется к старинному римскому мосту. Они вернулись раньше, чем ожидалось: фрейлины щебетали про бабочек яркой расцветки, а лицо у Мариам побледнело от боли. Раймунд на руках внес ее во дворец, а затем вверх по лестнице в опочивальню, которую сарацинка делила с Джоанной. Мариам настаивала, что все делают много шума из ничего, Джоанна, выставив из спальни всех посторонних, обнаружила, что лодыжка подруги сильно распухла.
Все случилось, как объяснила Беренгария, когда они прогуливались по рынку. Маленький поросенок сбежал из клетки и началась давка. Спасая Анну, чтобы ее не затоптали, Мариам вывихнула лодыжку. Но граф Раймунд овладел ситуацией, заверила испанка Джоанну, и не позволил толпе побить владельца свиньи – молодого крестьянина, ошеломленного приключившейся незадачей, и предложил награду за поимку хрюкающего беглеца. Поскольку лошадей они, отправляясь на людные городские улицы, не прихватили, графу пришлось нести Мариам обратно во дворец, к вящей зависти Анны и Алисии. Беренгария с улыбкой предрекла, что во время следующей вылазки в город Анна тоже подвернет ногу и заявит, что не может идти, чтобы Раймунд и ее понес на руках.
Тут Джоанна готова была рассмеяться, потому как ничуть не удивилась бы подобной выходке со стороны киприотки. По ее предположению, Мариам вывихнула лодыжку. Этот диагноз подтвердил и лекарь виконта. Он предписал больной несколько дней не вставать, и Мариам, по-прежнему уверявшая, что все это пустяки, неохотно выпила приготовленное местным аптекарем снадобье и потихоньку погрузилась в крепкий сон. Джоанна просидела рядом с ней весь вечер, но убедившись, что подруга уснула, присоединилась к остальным в большом зале.
Беренгуэр, архиепископ Нарбоннский, вел серьезную дискуссию с кардиналом Мелиором и виконтом Педро, тогда как в другом конце зала граф Раймунд перекидывался остротами с трубадурами Раймоном де Миравалем и Пейре Видалем, которые вызвались сопровождать их до Каркассона. Тем вечером они пообещали выступить, и Джоанна жалела, что Мариам пропустит такое зрелище. Заметив расположившихся на оконном сиденье Беренгарию и Беатрису, она подошла к ним. Супруга Ричарда трудилась над тонкой вышивкой: испанка была знатной рукодельницей и пыталась передать свои умения Джоанне за время пребывания в Святой земле, но без успеха. Опять же при помощи Беренгарии сестре короля удалось освежить в памяти lenga romana, язык, на котором изъясняются в Аквитании и Наварре, подзабытом ею за годы на Сицилии. Но вот иглу она до сих пор брала в руки как опасное оружие, как мягко упрекала ее Беренгария, признавшая в конце концов, что рукоделие никогда не войдет в число талантов Джоанны.
Подняв взгляд и улыбнувшись, Беренгария радостно кивнула, узнав, что Мариам уснула.
– Граф Раймунд послал одного из своих людей на рынок за фруктами, чтобы пробудить у Мариам аппетит, – сообщила она. – Похоже, он сильно за нее переживает.
Беренгария помолчала немного, потом продолжила задумчиво:
– Знаю, кардинал говорит, что граф – закоренелый грешник, но… Я теперь в этом не очень уверена. У него доброе сердце.
– Святой во плоти, – фыркнула Джоанна, не желая выслушивать, как Беренгария превозносит многочисленные достоинства повелителя Тулузы. Довольно и того, что Мариам поет ту же песню.
– Нет, он не святой, – возразила Беренгария, и Джоанне оставалось только гадать: подруга просто не уловила ее иронии или предпочла не замечать ее. – Просто я не верю, что он грешник, для которого нет искупления. Я видела множество свидетельств его доброты. Он не пройдет мимо нищего на улице, не подав милостыни. Он пожелал здоровья и дал монету бедолаге-прокаженному, который попался нам по пути из Безье и от которого все мы воротили взгляд. Как только его узнают, графа сразу окружает толпа народа, и он неизменно вежлив даже с самыми захудалыми из людей. Раймунд говорит, что осуждает Генриха за пленение Ричарда, и кажется искренним. Вчера он завел нас на старый рынок, чтобы купить красные шелка, которыми славится Нарбонн. Пока мы бродили там, наткнулись на двоих невеж, которые подбрасывали в воздух котенка, словно то был мяч для игры. Это была настолько вопиющая жестокость, что я решила попросить графа прекратить такое издевательство. Но просить не пришлось. Он сам заметил – многие ли из мужчин способны на такое? Быть может, если бы били собаку, то дело другое, но когда мучают кошку, мужчинам все равно. А ему – нет. Когда я поблагодарила его, граф только рассмеялся и сказал, что это пустяк. Но то был добрый поступок.
– Значит, он добр к нищим, прокаженным и бродячим котам, – подытожила Джоанна, зная, что это звучит мелочно, но ничего не могла с собой поделать. – Едва ли это обеспечит ему пропуск в рай.
– Он и к детям добр тоже. Ты видела, что случилось во время нашего въезда в Нарбонн? Помнишь, как дети бежали следом и кричали: «Граф Раймунд!»? Так ребятишки всегда встречают Ричарда. А он смеялся и бросал им монеты. Один мальчуган, поменьше прочих, не мог бежать так быстро, а потом споткнулся и упал. Он уселся на мостовой и расплакался. Граф обернулся и увидел это. Представляешь, Джоанна, Раймунд развернул коня, наклонился, поднял мальчишку и усадил позади себя. Ты бы видела личико того ребенка! Никогда ему не забыть тот день, когда он ехал вместе с графом Раймундом через весь город к дворцу. И другие ребята этого не забудут.
Джоанна видела, как Раймунд вернулся за мальчуганом, но не поняла почему. И теперь жалела, что узнала, потому что куда проще испытывать неприязнь к человеку, если Мариам и Беренгария не превозносят день-деньской его добрые поступки.
– Ты мне вот что скажи, – произнесла она против воли с такой резкостью, что Беренгария и Беатриса удивленно вздрогнули, – если у него такое доброе сердце, то почему граф так привержен ереси?
Беренгария потупила взор и залилась румянцем. Она выглядела такой несчастной, будучи уличенной в заступничестве за еретика, что Джоанна ощутила укол совести. Но прежде чем она успела извиниться, ее невестка отложила рукоделие и встала.
– Это воистину серьезный вопрос, – заявила Беренгария. – И я должна задать его графу. Если меня сбили с толку его хорошие манеры и желание видеть в ближнем лучшее, мне стоит выяснить это раз и навсегда.
Под изумленными взглядами подруг она повернулась и зашагала через весь зал к Раймунду. Когда Беатриса осведомилась, неужели королева на самом деле намерена сделать, что говорит, Джоанна вскочила.
– Не знаю, – сказала она. – Но если да, то я очень хочу послушать, что ответит граф.
И она поспешила вслед за Беренгарией. Беатриса отставала на несколько шагов.
Когда Беренгария подошла ближе, Раймунд прервал разговор с трубадурами и с лучезарной улыбкой на лице двинулся навстречу королеве. Впрочем, при первых же ее словах улыбка померкла. Граф принял вид совершенно изумленный, но когда Джоанна подошла к ним, разразился смехом. Голубые, как небо, глаза встретились с зелеными очами Джоанны, и у нее снова возникло неприятное чувство, что он точно знает причину, по какой она держится с ним так высокомерно, а временами даже грубо. Затем Раймунд да снова повернулся к Беренгарии и заявил с неожиданной искренностью:
– Меня часто об этом спрашивают, и я всегда даю один и тот же ответ: нет, я не катар. Кардинал Мелиор мне не верит. Но я надеюсь, госпожа, что мне поверишь ты.
Темные глаза Беренгарии впились в его лицо.
– Я хочу тебе верить. Только не понимаю, почему ты так снисходителен к этим безбожным, испорченным людям. Как ты это объяснишь, милорд граф?
– Они вовсе не безбожные и не плохие, миледи. Церковь называет их священников perfecti[16], но сами они называют себя «добрыми людьми» или «добрыми христианами». Именно так катары рассматривают себя. Их глубоко уважают за чистоту жизни, причем даже те, кто не принадлежит к числу «верующих». Они похожи на ранних христианских отцов: презирают процессии и материальные блага, отвергают плотские желания, стремятся исключительно к славе Господа и помогают соседям. Катары никогда не лгут и осуждают всякое насилие, не допускают даже убивать животных. Никогда с момента появления своего на свет я не встречал более миролюбивых созданий. Я не разделяю их верований. Но не понимаю, почему за эти верования их полагается сжигать на кострах. Они не причиняют вреда никому, кроме самих себя, ибо лишают себя шанса на спасение. Разве это не достаточное для них наказание?
Ни Раймунд, ни Беренгария не заметили, что остальные начинают подтягиваться к ним, чтобы слышать. Эти двое смотрели друг на друга серьезными взглядами: двое людей, стремящихся навести мост через зияющую пропасть, разделяющую их.
– Но ведь эти верования лживы, милорд граф, – возразила королева, но без осуждения, скорее с печалью. – Они оскорбляют Бога. Разве ты не понимаешь? Не осознаешь угрозы, заложенной в них?
– Мне рассказывали, что твой господин супруг свел в Святой земле дружбу с сарацинами. И тем не менее я не сомневаюсь в крепости его христианской веры и не считаю, что он поддался искушению их лживым богом. Ричард понимает, что даже неверный может быть человеком чести. Так ли это отличается от воззрений, которых придерживаюсь я?
– Да. Потому что сарацины – неверные. Но не еретики. Угроза, исходящая со стороны сарацин – военного свойства. Они захватили Священный город Иерусалим, но не губят души побежденных ими христиан. Еретики многократ более опасны, потому что это враг, нападающий изнутри. Почему ты не видишь этого, милорд граф?
– Потому что он сам заражен их пагубной ересью, мадам.
При звуке этого холодного, враждебного голоса, Раймунд и Беренгария обернулись. К разросшемуся в числе кружку слушателей присоединились кардинал Мелиор, архиепископ и виконт. Кардинал пробрался через толпу и встал рядом с Беренгарией.
– Даже если он не исповедует открыто их ересь, она глубоко проникла к нему в душу, затуманив рассудок и подточив веру.
Впервые Джоанна увидела, как Раймунд гневается. Глаза его, обращенные на папского легата, потемнели.
– Ты никогда не задумывался, господин кардинал, почему проповедь катаров так тепло принимают в этих южных землях? Народ видит, что католические священники заводят подружек и наложниц, епископы погрязли в мелочных склоках и используют отлучение как оружие в политической борьбе. Видит, что церковь поражена коррупцией настолько же, насколько вы считаете нас пораженными ересью. Быть может, если бы вы меньше переживали насчет «лисиц в винограднике»[17], а придерживались Христовых заповедей о бедности, мужчинам и женщинам Тулузы не показалась бы такой восхитительной и привлекательной чистая жизнь катарских священников.
– Я не отрицаю, что деревенские кюре малообразованны и плохо знают латынь, а епископы пренебрегают своими обязанностями, редко посещая свои диоцезы. Но Святая церковь – это единственная преграда, стоящая между христианами и победой зла. Когда эти альбигойские еретики заявляют, будто спасения можно достичь только через их учение, они совершают худшее из богохульств. Что еще более непростительно, они обрекают на гибель души тех заблудших людей, которых соблазнили своей ересью. И вот за это я виню людей подобных тебе, господин граф, поскольку ты обязан возвысить голос в защиту правды. А вместо этого ты бережешь свой покой, пока эти лжепророки склоняют темных и заблудших к отступничеству.
Джоанна давно поняла, что кардинал Мелиор – красноречивый оратор. Теперь она уяснила, что есть в нем и задатки законника: он очень ловко отразил обвинения Раймунда в разложении церкви, признав частичную их справедливость. Раймунд, как удалось ей заметить, понял, что его переиграли, потому как вернулся к изначальному своему аргументу.
– Мой народ не рассматривает катарских «добрых людей» как злодеев, господин кардинал. Они не вносят в Тулузу смуты, не бражничают и не дерутся в тавернах. Никогда не пристают к женщинам на улицах, не крадут и не обманывают, а на обиду отвечают мягким увещеванием. И проповедуют только тем, кто сам хочет их слушать…
– И что же они проповедуют, господин граф? Отрицают божественную природу и воскресение Христа, отрицают, что Иисус – сын Божий, рожденный Пресвятой Девой. Кощунствуют, говоря, что римская церковь – церковь сатанинская. Они учат, что человек может быть спасен, только если пройдет через обряд, который называется у них «консоламентум», и даже допускают женщин проводить этот обряд.
Кардинал сделал театральную паузу, чтобы аудитория успела прочувствовать всю мерзость подобных верований.
– Не сомневаюсь, что эти их «совершенные» именно такие сладкоречивые и любезные, какими ты их изображаешь. Именно так дьявол сбивает с пути истинно верующих. Писание предупреждает: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные»[18]. Ты насмехаешься над озабоченностью Святой церкви лисицами в винограднике, а тем временем твои волки терзают невинных. Что ты возразишь на это?
– Я не разделяю верований катаров, господин кардинал. Но не думаю, что их учение действительно опасно для церкви. Катарские священники немногочисленны и не призывают к бунту. Преследуя их, вы только придаете им значимость, которой иначе они бы не имели. Не лучше ли было для церкви вместо борьбы с этими ересями навести порядок у себя в доме? Не будь распутных попов и продажных епископов, все проповеди катаров пропали бы втуне.
От таких аргументов кардинал Мелиор утратил на миг дар речи – настолько чужды они были учению его церкви. Он в искреннем недоумении воззрился на своего молодого собеседника, ибо кто, кроме сумасшедшего, мог высказать мысль о терпимости к ересям?
– В Писании сказано четко и недвусмысленно: «Мечом и голодом будут истреблены эти пророки»[19]. Твое предложение, господин граф, не просто кощунство – оно ведет к проклятию и разрушению. Воистину проклята будет страна, где христиане вынуждены будут жить бок о бок с еретиками и неверными.
Только услышав слова, срывающиеся с ее губ, Джоанна поняла, что они принадлежат ей:
– Такая земля существует, милорд кардинал, и она не проклята Богом, но благословенна. – Оказавшись вдруг центром всеобщего внимания, женщина судорожно вздохнула. – В королевстве Сицилии христиане, подчиняющиеся папе в Риме и подчиняющиеся патриарху в Константинополе, соседствуют с сарацинами и евреями. И хотя между ними случаются трения и непонимание, до кровопролития доходит редко. Жизнь в тесной близости друг с другом позволяет им понять, что человек может быть хорошим, даже если поклоняется неправильному Богу.
Кардинал был явно ошеломлен, слыша подобные речи из уст христианской королевы. Беренгария, тоже пораженная, схватила Джоанну за руку как бы в попытке защитить. Кое-как оправившись, папский легат решил не замечать высказывания сицилийской королевы, отмахнувшись от него как от вздора – все женщины склонны нести чушь, даже знатные. Вместо нее он предпочел вернуться к реальной угрозе, потому как хотя Раймунд де Сен-Жиль еще и не обратился к ереси, он оказался опасно податлив к ее богопротивным учениям, а ведь в один прекрасный день под его скипетром окажется вся Тулуза. Покачав головой, как бы скорее в скорби, нежели в гневе, Мелиор напомнил Раймунду, что даже самый истовый христианин должен всегда быть начеку, ибо тот, кто потворствует лжепророкам, становится соучастником злых деяний еретиков.
К возмущению прелата, Раймунд, похоже, вовсе его не слушал. Граф смотрел на Джоанну и улыбался.
* * *
Как только Мариам поправилась достаточно, чтобы двинуться дальше, путники выехали из Нарбонна в Каркассон. Кардиналу Мелиору очень не хотелось останавливаться там, поскольку виконт Роже де Транкавель был связан с катарами еще теснее Раймунда и дважды подвергался отлучению: один раз за заключение епископа Альби, второй за отказ искоренить ересь в своих землях. Здоровье виконта Роже сильно пошатнулось за последние годы, и хотя он встал с одра болезни, чтобы приветствовать высоких особ, вскоре вернулся в опочивальню, оставив развлекать гостей свою супругу Аделаизу и восьмилетнего сына Раймона-Роже. Аделаиза приходилась Раймунду Сен-Жилю старшей сестрой: красивая, статная женщина лет под сорок и, подобно брату, покровительница трубадуров. Ее сын, мальчик симпатичный и взрослый не по годам, упивался своей ролью хозяина. Даже папский легат не удержался от улыбки, наблюдая, как мальчик восседает в отцовском кресле за высоким столом и гордо председательствует на пиру.
Каркассон был гораздо меньше Нарбонна, зато мог похвастаться внушительным замком и не менее внушительными каменными стенами, опоясывающими город. Рынки не шли в сравнение с нарбоннскими, но женщины все равно наслаждались прогулками по узким улочкам, любовались видами и дивились огромному количеству бродящих повсюду кошек. В отличие от собратьев в других краях, эти были гладкие и упитанные, их явно держали как домашних любимцев, а не простых истребителей мышей. Прогулка была чудесной, пока они не заметили облаченного в черное старика в окружении восторженной толпы. Тот, похоже, благословлял собравшихся, и дамы переглянулись, спрашивая друг друга, как быть. Но когда Анна и Алисия собрались подойти, их остановил Раймунд.
– Кардинала удар хватит, если я позволю вам получить благословение у одного из катарских «добрых людей», – сухо заметил он.
Девочки встали как вкопанные, с ужасом и интересом глядя на первого в их жизни еретика. Тут было что-то не так, потому как катарский священник походил скорее на добродушного деда, чем на главного врага церкви. Они захихикали, когда Раймунд заверил их, что «совершенный» прячет раздвоенные копыта под длинной рясой, но даже Анна постаралась обойти проповедника стороной. Беренгария спросила в ужасе, неужели все эти люди еретики. И с облегчением выдохнула, когда граф сказал, что есть тут и «верующие», но основная масса просто выражает свое почтение уважаемому в здешнем сообществе человеку. Радость испанки померкла, стоило ей подумать, как легко можно сбить с толку добрых христиан, и она попросила Раймунда проводить их к ближайшему храму, чтобы она могла помолиться за заблудшие души.
– Замолвишь ли ты словечко и о моей душе, госпожа? – пошутил граф, но посерьезнел, услышал в ответ, что она уже давно обращается к Всевышнему на его счет, потому как считает хорошим человеком, хотя и серьезно заблуждающимся.
Джоанна, стоявшая достаточно близко, чтобы слышать, с удовольствием отметила, что в кои-то веки Раймунд лишился дара речи. Но он исполнил просьбу королевы и привел их в великолепный собор Св. Назария, где их встретил сам епископ. Беренгария поставила свечи за своего супруга в Германии, за родичей в Наварре, за графа Раймунда и за всех, кто впал в соблазн катарской ереси.
* * *
Тем вечером ожидалось выступление трубадуров, но замок еще бурлил в приготовлениях к развлечениям. Джоанне сообщили, что госпожа Аделаиза наверху с больным мужем; графа Раймунда в зале тоже не оказалось. Кардинал Мелиор диктовал письмо архидьякону, выполнявшему по совместительству обязанности писца. Анна и Алисия раскрыв рты слушали Мариам, читавшую им трагическую историю про любовь Тристана и Изольды. Сэр Стивен де Тернхем и придворные рыцари Джоанны и Беренгарии коротали время, бросая кости, а Беренгария играла в шахматы с Раймоном-Роже. Мальчик выиграл первую партию и очень этому радовался. Джоанне было очевидно, что невестка очень расположена к юному племяннику графа Тулузского. Наблюдая за ними, она подумала, что из Беренгарии получится хорошая мать. «С Божьей помощью», – торопливо добавила Джоанна, ибо все в Его руках. Поскольку мысли о детях часто навевали на нее печаль, молодая королева покинула зал, сопровождаемая своими собаками.
Лето в этом южном климате не торопилось уходить. Сентябрьское солнце согревало лицо, сад полыхал яркими красками цветов, небо над головой было бирюзово-синим, синее даже глаз этого несносного графа из Тулузы. Она нашла скамейку и присела, собаки с наслаждением растянулись на траве, и Джоанна позавидовала на минуту той жизни, которую ведут они. Вот было бы здорово отогнать прочь все страхи и порадоваться царящему в саду Аделаизы покою, не думая о брате и о тех ужасах, которые его ждут, стоит ему попасть в лапы французского короля.
В отличие от Алиеноры и Беренгарии Джоанна лично встречала Филиппа – они познакомились три года назад на Сицилии. Он будто даже влюбился в нее и уделял ей столько внимания, что у некоторых зародилась мысль, не вознамерился ли Филипп сделать ее своей королевой. Но она-то знала: он слишком ненавидит Ричарда, чтобы сочетаться браком с его сестрой. Да и Ричард не дал бы согласия на этот союз. Джоанна улыбнулась, вспомнив, как обрадовался брат, когда она заверила его, что не собирается выходить замуж за французского короля. Ни одна корона христианского мира не вознаградит за обязанность делить ложе с Филиппом.
Тут ее псы вскочили и, виляя хвостами, понеслись навстречу подходящему к калитке человеку. Джоанна выпрямилась на скамейке и напряглась, глядя как Раймунд де Сен-Жиль входит в сад и направляется к ней.
– Можно? – спросил он и дождался ответного кивка, прежде чем сесть на скамейку.
Ахмер и Звезда тут же улеглись у его ног, и ей подумалось, что ему удалось даже собак расположить к себе. В руке он держал одинокий алый пион, который с шутливым поклоном преподнес королеве.
– Много дней я искал шанс побыть с тобой наедине, леди Джоанна. Мне хотелось поблагодарить тебя.
– Тебя не за что меня благодарить, милорд граф.
– Не согласен, миледи, – с улыбкой возразил он. – Строго между нами, архиепископ Беренгуэр и виконт Педро не горят рвением очистить Нарбонн от катаров. Но ни один и слова не сказал, когда меня приперли спиной к скале. Ты была единственной, кто бросил мне веревку.
Джоанна не знала, что на это сказать, поэтому промолчала. Раймунд наклонился и погладил Ахмера. А потом удивил его хозяйку, заявив:
– Надеюсь, твой брат понимает, какой бесценный бриллиант обрел в лице жены? Знаешь, она ведь извинилась за то, что навлекла на меня гнев кардинала. Я успокоил ее, сказав, что по его убеждению я и так на полпути в ад.
– А ты действительно на полпути в ад?
– Послушать Мелиора, так я уже обречен и проклят, – весело ответил граф. – Я не разделяю его ревностного стремления сжигать еретиков на кострах. Евреи засвидетельствовали некоторые из моих хартий, и поэтому кардинал считает, что я не слишком сблизился с ними. Мне намного приятнее общество трубадуров, а не клириков. Мне больше нравится впадать в плотский грех, чем отрекаться от него. Я не верю, что Всевышний создал этот мир с его непревзойденной красотой и не желал, чтобы мы наслаждались им и вкушали земных радостей.
– Ты бы процветал на Сицилии, граф Раймунд.
– Как кедры ливанские?[20] – пошутил он, дав ей понять, что для подозреваемого в ереси он слишком хорошо знаком с Библией.
Она покачала головой, не веря уже больше, что это один из проклятых. Ей было как-то не по себе из-за того, что он находился так близко – достаточно близко, чтобы видеть ресницы, которым позавидовала бы любая женщина, и острый, как бритва, край подбородка. Но любопытство взяло верх над осторожностью.
– Расскажи мне про катаров, – попросила королева.
– Ну, начнем с того, что сами они себя так не называют. Эти люди величают себя христианами, потому что верят, будто их вера искренняя, а вот римская церковь попала в клещи дьяволу. Я говорил, что это миролюбивые души, отвергающие насилие, но про наличие у них такта или дипломатии не упоминал, потому как их эпитеты для римской церкви включают такие, как: Великий Зверь, Блудница Вавилонская, Церковь Волков и – этот мой самый любимый – Распутница Апокалипсиса.
Джоанна сжалась. Она-то угадывала насмешку в голосе собеседника, а вот папский легат его юмора явно не уловил бы. У нее начало складываться убеждение, что Раймунду нравится ворошить палкой муравейник, точно так же, как ее братьям.
– Но во что они верят? – спросила Джоанна.
– В то, что материальный мир – творение дьявола и должен быть отвергнут. Иисуса катары считают ангелом, а не сыном Божьим, и его явление народу в образе смертного не более чем иллюзия. А раз так, он не мог умереть, а следовательно и воскреснуть. Дева Мария тоже ангел, а не настоящая женщина. Поклоняются они нашему Богу, и хотя он и добр, но не всемогущ, и его борьба с дьяволом бесконечна. Катары учат, что человеческие души принадлежат падшим ангелам. Они верят, что мы переживаем ад на земле, и когда я наблюдаю страдания, которые причиняем мы друг другу, то мне трудно убедить себя в их неправоте.
– А верят ли они в рай?
– Да, но туда могут попасть только «добрые христиане». А еще верят в переселение душ. Человек, который вел праведную жизнь, реинкарнируется в тело, более подходящее для духовного развития. А злодей опустится ниже, и даже может возродиться животным. Те, кто приемлет это кредо, величают себя «верующими», но немногие просят дать им консоламентум прежде того часа, когда смерть приблизится к ним, потому жизнь «доброго христианина» крайне нелегка. Как только мужчина или женщина становится священником, он или она должны отречься от всего, что раньше им было дорого, даже от семьи. Дело в том, что катары рассматривают все земные привязанности как зло, сковывающее людей с жизнью плоти, а это препятствует их спасению. Зато они снисходительны к грешникам, и это еще одно, что отличает их от нашей церкви.
Джоанна порадовалась его выражению «нашей церкви», так как для нее стало очень важно знать, что Раймунд де Сен-Жиль не погряз в ложной вере, несущей угрозу его бессмертной душе.
– Я слышала от кардинала, что катары похотливы и распущенны, что они презирают брак и поощряют людей совершать самые постыдные из плотских грехов. Правда ли… – Закончить она не смогла, потому что Раймунд залился хохотом.
– Мне всегда казалось любопытным, что мужчины, принявшие обет целомудрия, так одержимы плотскими грехами ближних. Мне жаль лишать их удовольствия воображать себе оргии и запретные удовольствия катаров, но ничто не может быть дальше от правды. Катарские священники осуждают похоть даже строже наших. Для них физическая близость особенно греховна, ибо ведет к зарождению новой жизни, то есть вытягивает еще одну небесную душу в этот ужасный вещный мир.
Раймунд погладил собаку, ткнувшуюся ему в ногу.
– Как скверно, что страх перед ересью способен даже самых здравомыслящих людей обращать в слепых безумцев. Стоило бы кардиналу Мелиору беспристрастно рассмотреть все обстоятельства, он бы понял, что я никогда не стану катаром, потому как это означает отречение от радостей плоти.
Джоанне его улыбка показалась скорее озорной, чем сальной, и она не удержалась и улыбнулась в ответ, когда он с шутливым вздохом обронил:
– Ведь в конечном счете не секрет, что я люблю женщин.
– Об этом я наслышана, – очень сухо произнесла она.
– Ну еще бы, – столь же сухо согласился он. – Но чего ты, возможно, не знаешь, так это то, что в отличие от большинства мужчин мне нравится общество женщин не только в постели, но и вне ее.
– Полагаешь, что с большинством мужчин это иначе?
– Увы, да. Слишком многих из них гораздо больше интересует женская плоть, чем ум женщины. Им никогда не узнать, как ошибался святой Петр, говоря о женщине как о сосуде скудельном. У известных мне дам зачастую больше здравого смысла, чем у мужчин, да и жизненных сил, потому как они давно привыкли гнуться, но не ломаться. А еще они могут быть очаровательно непредсказуемыми… Что доказала одна прекрасная королева тем недавним вечером в Нарбонне.
Когда взгляды их встретились, дыхание Джоанны участилось. Она знала как опасно флиртовать с этим мужчиной, ибо слишком остро ощущала физическую его близость, испытывала желание погладить эти растрепанные ветром черные кудри, ощутить его руку на своей талии, изведать вкус его губ на своих губах. Она подобралась внутренне и внешне. Но прежде чем Джоанна успела высказать намерение вернуться в большой зал, граф почти неуловимо отступил и бросил как бы невзначай:
– Расскажи мне о Сицилии, госпожа.
Она с облегчением вздохнула, но одновременно расстроилась, что ему с такой легкостью удалось распознать ее настроение. Но поскольку на самом деле уходить ей не хотелось, охотно исполнила его просьбу. По ходу рассказа воспоминания нахлынули на нее, и она с удовольствием отдалась им, повествуя о чудесной жемчужине посреди бирюзового моря, этом пригретом солнцем королевстве, процветающем и мирном под скипетром ее супруга, когда мрачная тень германского императора еще не нависала над островом. Джоанна давно заметила, что Раймунд необыкновенно внимательный слушатель. Внимая ей, он не отрывал глаз от ее лица, ловя ее слова с такой жадностью, как будто весь мир сжался до границ этого благоуханного сада, а его население – до мужчины и женщины, сидящих на узкой каменной скамье в тени вишневого дерева.
Но если тело и сердце сообща толкали ее к непростительному греху, ум продолжал работать четко и ясно, дав команду поднимать перекидные мосты и опускать решетки в воротах.
– Вечереет, – услышала она как бы со стороны собственные слова и указала на небо, окрасившееся золотом и багрянцем роскошного южного заката. – Полагаю, нам пора возвращаться.
– Разумеется, – согласился граф и тут же поднялся.
Но когда он предложил ей руку, Джоанна поняла, что улизнуть без потерь не удастся. Как после только что состоявшейся между ними беседы вернуться к прежней оборонительной холодности? Тоже встав, королева оправила юбки и неохотно, едва коснувшись, положила свою руку на его, пытаясь понять, как удастся ей держать Раймунда на расстоянии все эти мили и недели пути, отделяющие Каркассон от Пуатье.
Глава XVIII Тулуза, Франция
Сентябрь 1193 г.
По настоянию кардинала Мелиора путники не стали задерживаться надолго в Каркассоне и направились к северу, сделав остановку сначала в аббатстве Сен-Папуль, затем в Авинье, а вскоре на горизонте обрисовались знаменитые розовые стены Тулузы. Джоанне очень хотелось посетить город, сыгравший такую большую роль в истории ее семьи. Она видела его в бытность еще ребенком во время путешествия в качестве невесты на Сицилию, но плохо помнила ту многотрудную одиссею. Она не помнила даже Раймунда, хотя тот клялся, что встречался с ней в Сен-Жиле, где Джоанна трогательно распрощалась с Ричардом и перешла под опеку сицилийских послов. Он признался, что был впечатлен ее храбростью: девочка одиннадцати лет покинула родной дом и близких, чтобы выйти замуж за чужака в далекой стране. Когда Джоанна извинилась, что не помнит их встречи, граф рассмеялся и пошутил, что в свои двадцать не представлял из себя ничего запоминающегося. Но ей все равно слышалась в этом ирония, потому как она твердо знала, что отныне никогда не забудет его.
Их разместили во внушительной цитадели, известной как замок Нарбонне, расположенной прямо за городскими стенами, и Раймунд обещал лично провести их по городу, который явно любил. Граф гордо сообщил спутникам, что в Тулузе одиннадцать больниц и шесть лепрозориев, и притворно удивился, когда они вежливо отклонили приглашение посетить один из приютов для прокаженных. Он заверял Джоанну и Беренгарию, что его отец в отсутствии, поэтому они удивились, увидев развевающееся на башне замка красное знамя с легендарным золотым крестом графа Тулузского. Граф лично встречал их во внутреннем дворе, на его устах играла довольная улыбка. Если он рассчитывал, что неожиданность его появления побудит гостей к любезности, графа ждало разочарование. Кардинал Мелиор и его свита как могли старались сгладить неловкость, но королевы и собственный сын хозяина расставались со словами как скряга с монетами. Обед был роскошным, с многочисленной сменой блюд, отличными винами и поразительным десертом в форме дракона. И жестоко не удался, потому что Джоанна, Беренгария, их фрейлины и придворные рыцари молчали и дулись, а Раймунд даже не скрывал своего гнева. Когда пиршество окончилось, он принес дамам пространные извинения, заверив их, что отец обещал держаться в стороне, и сказал, что они завтра же уедут из города.
Джоанна ходила пожелать Беренгарии спокойной ночи, а вернувшись, очень удивилась, застав в опочивальне одну Мариам.
– Остальных я попросила подождать, – пояснила фрейлина. – Мне хотелось бы переговорить с тобой наедине.
Она помогла Джоанне снять вуаль и головной убор, извлекла из соломенных волос королевы заколки и принялась расчесывать их, а попутно сообщила, что один из рыцарей сэра Стивена слышал доносящуюся из спальни графа ругань и что он узнал голос Раймунда.
– Он на самом деле расстроен случившимся, Джоанна. И никогда не стал бы так обманывать тебя и Беренгарию.
– Я это знаю, Мариам, и Беренгария тоже. – Джоанна взяла зеркало и стала любоваться отражением на полированном металле. Ей шел двадцать восьмой год, и она поймала себя вдруг на мысли, как быстро бежит время и что красота так же эфемерна, как воспоминания. – Так о чем ты собиралась поговорить?
– Хотела сказать, что хотя уединение найти нелегко, это все-таки можно устроить. Уверена, что с моей помощью нам удастся организовать тебе и графу встречу без свидетелей.
Зеркало со звоном упало на пол, когда Джоанна резко повернулась лицом к собеседнице:
– Ты что такое говоришь?
– Джоанна, этот мужчина просто околдован тобой, и для меня очевидно, что ты в такой же степени без ума от него. Это ведь такая редкость. Почему бы не…
– Ничего я не без ума от него, – отрезала Джоанна, но свела на нет всю строгость ответа, не удержавшись от вопроса: – А с чего ты решила, что он «околдован»?
– Дорогая, у меня же есть глаза. Вы уже не одну неделю ведете эту игру: каждый смотрит на другого, как только вам кажется, что никто больше вас не видит. И граф никогда не упускает шанса расспросить меня о тебе. Какого цвета у тебя волосы? Близки ли вы с Ричардом? Счастлива ли ты была с Вильгельмом? Я, понятное дело, молчу, но он продолжает спрашивать. Понимаю, будущего у вас нет, раз его отец – такой заклятый враг твоего рода. Но почему это должно помешать тебе урвать на память несколько приятных мгновений? При условии, что ты будешь вести себя очень осторожно, я могу помочь…
– Да ты из ума выжила, Мариам? – Джоанна была потрясена до глубины души. – Как ты могла подумать, что я пойду на столь тяжкий грех?
– Неужели ты рассматриваешь меня и Моргана как обреченных грешников? Понимаю, ты королева, но я не думаю, что Господь осудит тебя слишком строго за желание выкроить для себя кусочек счастья. Ты ведь вдова, в конце концов, женщина свободная, взрослая, и если быть осмотрительной…
– Ни одна королева не бывает свободной, Мариам, а Раймунд и подавно не свободен! Мне сдается, Бог жестоко накажет меня за связь с женатым мужчиной.
– Женатым? Он ни словом не обмолвился о жене!
– Поверь мне, она у него есть.
Мариам была поражена.
– Ах, Джоанна, мне так жаль!
Джоанна перестала сердиться, вспомнив, что Мариам не присутствовала, когда Санча излагала матримониальную историю Раймунда.
– Тебе жаль, что он женат? – с усмешкой спросила она. – Или того, что ты пыталась склонить меня к смертному греху?
– И того и другого!
Тронутая слезами, выступившими на глазах у Мариам, Джоанна обняла подругу. Глаза у нее тоже подозрительно увлажнились, но Мариам тактично сделала вид, что не замечает этого.
* * *
После поспешного отъезда из Тулузы путешественники прибыли в Монтобан, где нашли приют в местном бенедиктинском аббатстве. Из Монтобана путь их лежал в Ажан, где их встретил тамошний епископ Бертран де Бесейра, который за десять лет до того находился в Мартеле у смертного одра брата Джоанны, Хэла. Слушая его рассказ о последних часах Хэла, Джоанна расплакалась от облегчения. Отец писал ей, что Хэл примирился с Богом, но совсем другое было услышать подтверждение этому из уст очевидца. Из Ажана было рукой подать до Марман-ла-Ройяль, и Джоанна и Беренгария порадовались, узнав, что своим возникновением сей городок обязан Ричарду, который выдал жалованную грамоту еще в бытность герцогом Аквитанским и графом Пуатусским. Следующей остановкой стал бенедиктинский приорат в Ла-Реоле, где обнаружилась еще одна связь с Ричардом, который велел построить здесь каменные стены. Ла-Реоль стал также местом тайной встречи между Ричардом и послами короля Наваррского, где обсуждался вопрос его женитьбы на дочери Санчо. Беренгарии нравилось находиться в том месте, где супруг сговаривался насчет ее руки, и она призналась, что пока они в Ла-Реоле, он кажется не таким далеким. Раймунд ублажил ее, продлив их пребывание в городке на несколько дней. Затем они направились к жемчужине Аквитании, процветающему порту Бордо.
* * *
В Бордо их встретили восторженно. Горожане без устали кричали, приветствуя супругу их герцога и его сестру. Архиепископ Эли де Мальмор, выходец из знатного лимузенского рода, лично вызвался проводить их в Омбриер, расположенный на речном берегу дворец, с одиннадцатого века служивший резиденцией для герцогов Аквитанских. И хотя до Пуатье оставалось добрых полторы сотни миль, проезжая по улицам Бордо, ведущим к замку, где появилась на свет ее мать, Джоанна чувствовала, что приехала наконец домой.
* * *
Для двух королев и их свиты последовала головокружительная неделя увеселений и прогулок. Местная знать и клирики спешили засвидетельствовать свое почтение, роскошным пирам не было конца. Джоанна посетила мессу в церкви Св. Андрея – большом соборе, где пятьдесят с лишним лет тому назад ее мать венчалась с французским королем. В тот субботний вечер большинство гостей разошлись отдыхать по комнатам, но Джоанну снедало беспокойство, и она вместе с Мариам вышла прогуляться в сад. Тот был куда богаче садика Аделаизы в Каркассоне и напомнил женщинам о великолепных садах Палермо с их цветочными клумбами, фруктовыми деревьями, отсыпанными гравием дорожками, увитыми зеленью верандами и элегантными фонтанами, каскадами извергающими воду в мраморные бассейны. Здесь было так хорошо, что дамы задержались до тех пор, когда на землю опустилась лавандовая пелена сумерек, а высоко над головой в небе зажглись звезды. Но покой не длился бесконечно, потому что на тропинке послышались шаги, и стоило ее собакам сорваться с места, Джоанна поняла, кто идет, прежде чем Раймунд де Сен-Жиль показался из-за поворота.
Три недели со дня их выезда из Каркассона Джоанна позволяла себе наслаждаться обществом графа, но старательно заботилась, чтобы они никогда не оставались наедине, и ощущала его растущую досаду. Она и сегодня предусмотрительно захватила с собой Мариам: разговор в саду при полном свете солнца еще не назовешь нарушением приличий, тогда как беседа при звездах в темноте способна бросить тень на ее честь и разбить ей сердце.
Граф поприветствовал дам с вежливостью, которую сам кардинал счел бы безупречной, но затем ошеломил их, заявив без обиняков:
– Ты очень нравишься мне, леди Мариам, и я считаю, что твоему валлийскому рыцарю крупно повезло. Но то, что я хочу сказать, не предназначено для твоих ушей. Я буду очень благодарен, если ты прогуляешься немного по саду. Могу я на это рассчитывать?
Мариам вопросительно посмотрела на Джоанну, заметила ее колебания и, прильнув к ней, прошептала:
– Если хочешь прогуляться с ним, мы с собаками можем постоять на страже, чтобы никто не увидел вас вместе. Если не хочешь, ничто не оторвет меня от тебя.
Джоанна готова была поклясться, что скорее согласится идти босая и в рубище, чем встретиться с глазу на глаз с Раймундом в такой интимной обстановке. Поэтому вздрогнула, услышав собственный негромкий голос.
– Прогуляйся с псами. Но неподалеку.
Фрейлина кивнула, ободряюще пожала ей руку, после чего одарила Раймунда предостерегающим взглядом, бывшим красноречивее любых слов. Он кивнул, подтверждая, что понял, и в течение нескольких мгновений не слышно было ни единого звука, если не считать плеска воды в фонтанах и хруста гравия под удаляющимися шагами Мариам.
– Быть может, найдем местечко и присядем? – Граф посмотрел в сторону увитой листвой беседки, а когда Джоанна нахмурилась, вскинул руки, давая понять, что не намерен пользоваться выгодами этого полууединения. Королева не знала, стоит ли верить обещанию человека, остававшегося для нее загадкой. Но, с другой стороны, может ли она доверять самой себе? Решив, что лучше уж разговаривать при свете полной луны, она покачала головой и указала на край фонтана. Раймунд не стал спорить и проявил галантность, убедившись, что мрамор сухой и чистый, прежде чем предложить ей сесть. Как только они устроились, Джоанна убедилась, что лунный свет – оружие обоюдоострое: он позволял ей читать по его лицу, но одновременно позволял и ему делать то же самое, а ее чувства находились в таком смятении, что ей не хотелось находиться под наблюдением.
– Не уверена, что леди Мариам оказала мне услугу, – начал он. – Потому что я, скорее всего, только выставлю себя полным идиотом. – Когда граф повернулся к ней, Джоанна уловила проблеск улыбки. – Я задал себе вопрос, о чем буду жалеть сильнее: что промолчу или сваляю дурака? По части последнего у меня богатый опыт, поэтому я решил, что с этим огорчением легче будет смириться.
Самоирония всегда подкупала Джоанну, а улыбка Раймунда казалась в лунном свете такой колдовской, что она поняла: идиотов в этом саду двое. Но вслух никогда не признала бы этого. Предложение Мариам устроить свидание заставило ее признаться себе во влечении к этому мужчине, и теперь королева осознала все благо того, что он женат. Не будь у него супруги, она могла бы поддаться соблазну, будучи при том убеждена, что монарх не имеет права на свободу. Что, если об их связи узнают? Такой скандал поставит крест на перспективах повторного ее замужества и лишит Ричарда шанса заключить столь необходимый союз с каким-нибудь иностранным правителем. А если у нее будет ребенок? Она не сможет растить дитя как свое собственное, но как можно расстаться со своей кровинкой? Нет, Беатриса Транкавель – это ее тайный оберег. Напомнив себе об этом, Джоанна собралась, приготовившись к позорному бегству из сада как к меньшему из зол.
Раймунд не дал ей этого шанса.
– Полагаю, нам следует признать это, – сказал он. – Поскольку редко случается, что в тебя ударяет молния, а ты остаешься жить, чтобы поведать об этом. Не стану утверждать, когда эта молния поразила тебя. А со мной это случилось в большом зале в Нарбонне. Не то что бы я был невосприимчив к твоим чарам и до этого. Но ты четко дала понять, что мне следует держаться на расстоянии, и я дал клятву вести себя примерно. А затем ты вдруг пришла мне на помощь как ангел-хранитель и заявила кардиналу, что Сицилия не проклята, а благословенна. И я понял, что мое сердце принадлежит тебе, только протяни руку. Как и прочие части тела, которые тебе приглянутся.
Тон его был игривым, но угадывалось в нем нечто, от чего у Джоанны мурашки побежали по коже. Решив, что лучшей обороной будет представить все так, будто собеседник просто флиртует, она заявила холодно:
– Полагаю, твое сердце уже сделало выбор, милорд граф. И должна предупредить, что такой способ соблазнения, как «моя жена меня не понимает», со мной не пройдет.
Джоанна заметила, что ее укол достиг цели, и вдруг пожалела о своем успехе. Но твердо решила не показывать графу, насколько податлива она к его комплиментам.
– На самом деле, моя жена понимает меня слишком хорошо, – произнес Раймунд столь же холодно. – Женщины обычно читают мужчин с оскорбительной легкостью. Ты, леди Джоанна, похожа на исключение из правил, потому как сделала обо мне превратные выводы, это уж точно.
– Неужели? – вскинулась она, стараясь казаться возмущенной. – Я вижу перед собой мужчину, который сам признался, что любит женщин. Мужчину бесспорно обаятельного, но при том женатого. Воображение может вводить нас в заблуждение, милорд граф, но не факты. А вот что факты говорят о тебе, желаешь ты того или нет.
– На самом деле, это вовсе не факты. Понимаешь, у меня больше нет жены. Я расторг наш брак в январе этого года.
Джоанна изумленно уставилась на него. Много чего она ожидала от него услышать, но не это. Только не это. Первым ее ощущением был ужас, потому что ее защитный доспех только что дал глубокую трещину.
– И как же ты устроил этот колдовской трюк? – спросила женщина со всей доступной ей язвительностью. – Каким заклятием можно заставить жену исчезнуть?
– Я не прогнал ее просить милостыню у дороги, – отрезал граф. – Она… она ушла в монастырь.
Он едва заметно поколебался, и она ухватилась за это как за щит.
– Как удобно! – Джоанна хмыкнула. – Как удается мужчинам услать постылых жен в монастырь? Отец моей матери упрятал двоих своих в аббатство Фонтевро, и мою мать ждала бы та же судьба, сумей отец добиться своего.
Вспомнив, что у Раймунда и Беатрисы есть ребенок, она испытала гнев, теперь уже не притворный.
– Какой пример для подражания показываешь ты своей дочери, милорд – с ранних лет приучаешь ее к мысли, что заменить женщину столь же легко, как коня или охотничью собаку!
К этому моменту оба уже вскочили и яростно смотрели друг на друга в серебристом свете луны.
– Ты всегда так скора на приговор? – с вызовом спросил Раймунд. – Впрочем, твоя семья никогда не славилась умением выносить трезвые суждения, не так ли?
Джоанна была благодарна за напоминание, что имеет дело с врагом своего дома.
– Покончим на этом, – сказала она и зашагала к выходу.
– Джоанна!
Она поколебалась, затем неохотно повернулась к нему. Граф явно все еще гневался, но доказал ей, что ярость не лишает его сверхъестественного дара видеть ее насквозь.
– Знаешь, что я думаю? – продолжил Раймунд. – Что не гнев гонит тебя из этого сада, а страх. Ты видела в моей жене стену, за которой можно отсидеться. Теперь стена рухнула, но тебе не хватает смелости признать, что тебя влечет ко мне с такой же силой, как меня к тебе. Я пойму, если ты решишь, что игра не стоит свеч. Но не допущу, чтобы ты лгала мне и себе!
– Возможно, это будет для тебя неприятной неожиданностью, граф Раймунд, но не всякая женщина находит тебя таким неотразимым, каким ты сам себя считаешь. Полагаю, ты человек достаточно светский, чтобы признать наш флирт тем, чем он является на самом деле – способом разнообразить скучное путешествие. Если ты вкладывал в него иной смысл, то это твоя беда, не моя.
Не дожидаясь ответа, королева развернулась и зашагала прочь, с гордо вскинутой головой и с сердцем, стучащим так громко, что, как она опасалась, он это услышит. Джоанна обрадовалась, когда Мариам поспешила ей навстречу, когда до нее донеслись громкие голоса.
Когда Раймунд крикнул ей вслед: «Я тебе не верю», – она вздрогнула, но не обернулась.
* * *
Из Бордо они направились на север, погостив у Жоффруа Рюделя, владетеля Блая, города с маленьким замком на правом берегу эстуария Жиронды. Считалось, что герой «Песни о Роланде», племянник Карла Великого, похоронен в местной базилике Сен-Роман, но даже Роланд оказался в тени отца Жоффруа, прославленного трубадура Жофре Рюделя. Жофре влюбился в графиню Триполийскую, которую никогда не видел. Приняв ради нее крест, он отправился вместе с королем Франции и Алиенорой в Святую землю, в злополучный Второй крестовый поход. Если верить легенде, трубадур заболел и в Триполи его снесли на берег. Графиня, которой рассказали о его чувствах, пришла в его шатер, и он скончался у нее на руках.
Джоанна знала это романтическое предание и при других обстоятельствах с удовольствием задержалась бы в замке влюбленного трубадура. Но сейчас пребывание в Блае получилось не самым приятным. Раймон де Мираваль и Пейре Видаль остались в Каркассоне, и когда дамы огорчились, что не услышат песен Жофре о своей возлюбленной графине, Раймунд вызвался исполнить их сам. Его переложение «В мае, когда дни длинны» было встречено с восторгом. Только Джоанна, вежливо похлопав, не насладилась музыкой. Ей казалось, что граф смотрит прямо на нее, воспевая «далекую любовь» Жофре и стеная: «Знать не могу, увижусь ли я с ней, ведь так далеки наши страны». Когда он завершил строками «нет, не познаю я любви, коль не вкушу любви далекой», некоторые из женщин с трудом сдерживали слезы, но Джоанну так и подмывало запустить кубком с вином в эту темноволосую голову, ведь она знала, что Раймунд насмехается над ней.
Ее обида ощущалась тем сильнее, что он был прав. Да, она боялась признаться себе в чувствах к нему. Теперь зная, что не совершит адюльтера, она опасалась впасть в грех менее тяжкий, но все же из тех, о которых впоследствии приходится жалеть. С королевы спрос очень велик. Поэтому она как могла подпитывала огонь возмущения, то и дело напоминая себе, что граф дурно обошелся с женой, скорее всего, отверг ее за неспособность принести наследника мужского пола – ведь за пятнадцать лет брака у них родилась всего лишь одна девочка.
Еще она как могла старалась избегать встреч с ним, пусть это и влекло за собой необходимость чаще бывать в обществе кардинала Мелиора и клириков. Раймунд подметил эту ее тактику и с насмешливым сочувствием смотрел на Джоанну, когда та усаживалась рядом с кардиналом за трапезой или скакала рядом с ним во время перехода. Папский легат явно радовался, что она вернулась к холодному обращению с Раймундом, и потчевал королеву историями о безбожии, нависшем над Тулузой подобно грозовому облаку. Здесь нет даже отдельных кварталов для евреев, возмущался прелат. Жиды селятся, где им вздумается! Народ этих благословенных южных земель гонится за наслаждениями, как собака за зайцем, а поскольку местным женщинам предоставляется большая свобода, то и они не отстают. Граф Раймунд поощряет легкомысленное поведение и распущенность подданных, и вероятно намерен и их заманить в катарские сети.
Джоанна покорно слушала эти лекции, зная, что навлекла их на себя, вступившись за распространенную на Сицилии терпимость. В отличие от Раймунда, она не осмеливалась заявить кардиналу, что не верит, будто Всевышний мог создать мир столь прекрасным и не желать, чтобы люди наслаждались им и всеми земными радостями.
* * *
Стояла середина октября, и ночи стали заметно прохладнее. После Блая они провели ночь в замке Мирамбо, затем остановились в аббатстве Дам-де в Сенте. В периоды до и после своего заточения, Алиенора щедро помогала обители, поэтому монахини рады были излить благодарность на ее дочь и сноху. Некогда Сент был римским городом, и путешественники восторгались удивительной аркой Германика, возвышающейся над древнеримским мостом, исправно служившим спустя века после падения империи. А вот для посещения римского амфитеатра любопытных сыскалось немного – энтузиазм к достопримечательностям поостыл, поскольку все думали только о скорейшем приезде в Пуатье, лежавшем в восьмидесяти пяти милях к северу.
Следующей остановкой стал Ниорт, строительство замка в котором было начато отцом Джоанны и завершено Ричардом. Едва путники устроились, как началась суматоха, вызванная приездом кузена Джоанны, Андре де Шовиньи. Они не виделись со дня отъезда из Акры год назад, и встреча получилась теплой. У Андре был заготовлен для них сюрприз. Перед выездом из Рима путешественницы отправили в Германию письма, дав Ричарду знать про свои планы, а гонцу велели доставить ответ в Пуатье. Как сообщил Андре, гонец на прошлой неделе прибыл и привез послания от Ричарда, и одно даже для Мариам от Моргана. То были первые вести от короля, дошедшие до его супруги и сестры, и они жадно набросились на них. Беренгария удалилась со своими в уединение опочивальни, тогда как Джоанна устроилась на оконном сиденье в большом зале.
Прочитав их, она откинулась на спинку, закрыла глаза и открыла их, только ощутив, что рядом кто-то есть. Обнаружив, что рядом сидит Раймунд, женщина нахмурилась. Она собиралась подняться, но он успел задать вопрос:
– Новости дурные или добрые?
Поскольку тон его казался искренним, Джоанна помедлила.
– А почему ты спрашиваешь? – холодно осведомилась она.
Он наклонился и коснулся пальцем ее щеки, легко, словно перышком.
– Вот поэтому, – сказал он, и только тут она ощутила, что из-под ресниц у нее скатываются слезы.
– Мне остается только догадываться, насколько тяжелы были эти месяцы для твоего брата, – продолжил граф как никогда серьезный. – Ты, наверное, лучше способна это представить, поскольку и тебя удерживали против воли.
Джоанна мрачно кивнула.
– Об этом он не пишет, – сказала она. – Да и едва ли стал бы…
Королева умолкла, сочтя предательством обсуждать страхи Ричарда с посторонним, и уж тем более с Раймундом, поскольку не могла забыть, что имеет дело с сыном графа Тулузского. Он кивнул, довольствуясь тем, что может посидеть рядом с ней в дружелюбном молчании. К удивлению для себя Джоанна нашла его присутствие успокаивающим, и задумалась над тем, как извиниться за свою грубость, одновременно не поощрив его к новым шагам. Но протянуть оливковую ветвь она не успела, поскольку увидела приближающегося к ним Андре.
Мужчины обменялись прохладными приветствиями, вскоре после чего Раймунд удалился.
– Надеюсь, он не дал тебе повода для обид в ходе вашего путешествия? – поинтересовался Андре, провожая графа полным открытой подозрительности взглядом. – Признаюсь, я не обрадовался, услышав, что он будет сопровождать вас. Я сам собирался на юг, вам навстречу, но ты ведь знаешь пословицу «кот за порог – мыши в пляс», а эта крыса из Лиможа только ждет удобного часа, чтобы напасть снова.
Джоанна улыбнулась, зная, что речь идет о виконте Лиможском, одном из вероломных вассалов Ричарда, и заверила родича, что Раймунд Сен-Жиль вел себя как вежливо, так и любезно. Андре не очень-то поверил, но у него были дела поважнее, чем заниматься отпрыском графа Тулузского.
– Кузина Джоанна, у гонца имелось письмо от Ричарда и для меня. Король пишет, что теперь с ним обращаются хорошо и скоро отпустят. Но перечитав послание, я понял, что на самом деле в нем сказано очень немногое. Мне даже показалось, что кузена заставили его написать, но курьер уверяет в обратном. Не был ли он более откровенен в послании к тебе?
Джоанна медленно покачала головой, и они посмотрели друг на друга в тягостном молчании. Никому не пришло в голову задать тот же вопрос Беренгарии. Оба знали, что если Ричард был так сдержан с сестрой и лучшим другом, то едва ли станет откровенничать с юной испанкой, бывшей его женой, но не наперсницей.
* * *
Андре прозрачно намекнул, что раз он здесь и будет сопровождать женщин до Пуатье, то граф Раймунд может вернуться в Тулузу. Кардинал Мелиор охотно поддержал это предложение. Раймунд широко улыбнулся и сказал, что с легким сердцем может доверить дам заботам лорда Андре, но считает долгом чести оставаться рядом с ними до конца путешествия. На следующее утро они все вместе выехали из Ниорта, заночевали в замке Лузиньянов, так давно бывших репьем под седлом у Анжуйцев. Но Гуго де Лузиньян сражался вместе с Ричардом в Святой земле, и потому усвоил непривычную для своего семейства роль верного вассала. На следующий день, в праздник Св. Луки Евангелиста, путники пересекли мост Сиприан, навстречу восторженному приему столицы Алиеноры, такого любимого ей города.
* * *
Джоанна привыкла быть за старшую, но оказавшись во владениях Ричарда, старалась не принизить Беренгарию, поэтому именно супруга короля устраивала роскошный пир в благодарность кардиналу Мелиору и графу Раймунду. Заодно он стал запоздалым празднованием дня рождения Джоанны, которой во время пребывания в Блае исполнилось двадцать восемь лет, но сама именинница попросила подругу придержать это до поры в секрете. На следующий день кардинал отбыл к французскому двору. Его отрядили с дипломатическим предупреждением к Филиппу, хотя легат, да и сам папа, сомневались, что французский монарх ему внемлет. Джоанна была очень благодарна кардиналу за церковную защиту в его лице. Но одновременно радовалась его отъезду.
В послеобеденный час Андре попросил Джоанну прогуляться с ним в сад; его поведение было достаточно загадочным, чтобы возбудить ее любопытство. Под могучим вязом нервно прохаживался паренек, и, увидев его, женщина сразу все поняла. Это был крепкий подросток, высокий для своих лет – двенадцати, как ей было известно, – с вьющимися медно-рыжими волосами и серо-голубыми глазами. У Джоанны перехватило горло, потому что этот симпатичный юнец был точной копией отца. Филипп робко смотрел, как она приближается, потом не без изящества поклонился и поздоровался хрипловатым, недавно начавшим меняться голосом:
– Моя госпожа!
– Я бы предпочла «тетя Джоанна», – поправила она и заключила сына Ричарда в теплые объятья, в равной мере вызвавших с его стороны радость и смущение, и, подведя мальчика к скамейке, жестом велела ему сесть рядом. – Рада наконец познакомиться с тобой, Филипп. Твой отец много рассказывал о тебе.
– Правда? – Филипп расцвел в улыбке, и она энергично кивнула, хотя все было совсем не так – Ричард крайне неохотно касался своей личной жизни.
Но Джоанна знала, что именно требуется услышать этому растерянному мальчишке. Она не сомневалась, что он обожает своего прославленного родителя, хотя не очень-то хорошо его знает, и последние несколько месяцев наверняка выдались весьма трудными для него. Королева тепло улыбнулась Андре, благодарная, что рыцарь взял паренька к своему двору, и принялась завоевывать доверие племянника. Задача была не из трудных – настолько мальчик изголодался по семейным привязанностям – Андре был единственным родичем, которого он до тех пор знал.
Шовиньи присоединился к их разговору и оба взрослых получили столь нужную передышку от текущих забот, рассказывая Филиппу забавные истории про детство Ричарда и про его поход в Святую землю. Когда юнец вдруг вскочил в тревоге, Андре и Джоанна растерялись, но потом проследили за его взглядом и заметили Беренгарию, входившую с фрейлинами в сад.
Испанка замерла, глядя на Филиппа, потому что внешнее сходство говорило за себя красноречивее всяких слов. Андре собрался было встать – он полюбил мальчишку и не хотел, чтобы того унижали или стыдили за грех, не им совершенный. Джоанна лучше знала невестку и успокаивающе похлопала кузена по руке, спокойно наблюдая за приближением Беренгарии к сыну Ричарда.
– Ты Филипп, – сказала Беренгария.
Это не был вопрос, но мальчик кивнул, с видом одновременно вызывающим и смущенным. Он уже был ростом с нее, поэтому наваррке пришлось приподняться на носочках, чтобы поцеловать его в щеку.
– Я так рада познакомиться с тобой, – сказала она.
Видя, как племянник залился краской удивления, радости и облегчения, Джоанна улыбнулась и поймала себя на мысли, что Раймунд был прав: в своей испанской супруге Ричард обрел настоящий бриллиант.
* * *
Беренгария заверила Раймунда в своей благодарности за оказанные им услуги и обещала и впредь молиться за него. Затем Мариам и Беатриса пожелали ему благополучного возвращения в родные земли, а Анна стиснула графа в неподобающих случаю объятиях, за что позднее получила выволочку. Алисия ограничилась робкой улыбкой и румянцем. И только после скупого обмена прощальными словами с Андре, Раймунд подошел к Джоанне.
– Надеюсь, миледи, что твоего брата вскоре освободят, – сказал он, склоняясь, чтобы поцеловать ей руку.
– Ступай с Богом, милорд граф, – вежливо пробормотала она.
Но затем он наклонился ближе и промолвил:
– Прощай, моя прекрасная трусиха.
Даже будучи уверена, что никто этих слов не услышал, Джоанна почувствовала, как заливается краской. Она стояла на пороге большого зала и смотрела, как Раймунд взбирается на коня и дает своим людям сигнал отправляться. Перед самыми воротами граф обернулся через плечо, весело помахал и улыбнулся. И Джоанна ничего не смогла с собой поделать и улыбнулась в ответ.
Глава XIX Амьен, Франция
Август 1193 г.
Принца Джона и Филиппа Французского мало что объединяло, за исключением совместного желания протомить Ричарда в германской темнице до последнего его вздоха. Про себя Джон считал, что по части юмора Филипп так же обделен, как анахорет-отшельник, поэтому не слишком веселился на свадьбе у французского короля. Глядя на восседающую на помосте венценосную пару, он любовался принцессой, поскольку та была не только благородных кровей – сестра короля Дании, – но потому как то была восемнадцатилетняя девушка, красивая, статная, гибкая, блондинка с голубыми глазами. И хотя она не принадлежала к тому типу, который нравился Джону – принц не любил женщин выше себя ростом и предпочитал более темпераментных возлюбленных, – он все равно считал, что Филиппу повезло куда больше, чем он того заслуживал. Ведь ему, забрав у невесты девственность, даже разговаривать с ней нет нужды: она не знает ни слова по-французски, а Филипп – по-датски. Разумеется, со временем она выучит французский, но до тех пор из нее выйдет идеальная подруга для утех: молодая, хорошенькая и молчаливая.
От этой мысли Джон рассмеялся вслух, обратив на себя внимание других гостей. Принц был уже во хмелю и не видел никакой причины не выпить еще. Быть может, тогда ему хоть ненадолго удастся забыть, что «Дьявол на свободе». Пока еще нет, но вскоре вырвется. Если только им с Филиппом не удастся изобрести способ перехитрить этого двурушника на германском троне. Джона передернуло при воспоминании о том, как Генрих воспользовался ими, чтобы заставить Ричарда пойти на возмутительные уступки. Они его, конечно, тоже использовали, поэтому особенную досаду доставляло принцу то, что Генрих оказался сильнее в этой игре. Он снова рассмеялся, давно приучившись прятаться за насмешкой, как за щитом – в такой семейке, как у него, иначе просто не выживешь. И покуда он способен видеть хоть какие-то смешные стороны в своих несчастьях, можно не думать, как выстоять перед лицом кипучего гнева Ричарда или ледяной ярости матери. Вино тоже помогает, ведь это волшебное средство, позволяющее сгладить острые грани реальности.
Предложенные развлечения разочаровали принца, но его это не удивило, поскольку отвращение Филиппа к музыке было общеизвестно. К концу пира, когда новобрачных настала пора провожать в опочивальню, Джон осушил столько кубков, что нетвердо стоял на ногах. Как и многие другие из гостей. Поэтому церемония проводов получилась бурной. Фрейлины уложили Ингеборгу, переименованную теперь в Исамбуру, и теперь она, широко распахнув глаза и натянув до подбородка одеяло, смотрела на толпу ввалившихся в комнату мужчин, которые громко смеялись своим же шуткам и отпускали в адрес невесты сальные остроты. В течение вечера Джон обнаружил, что юная Ингеборга разумеет немного латынь, и потому, повстречавшись с ней взглядом, высказал свое пожелание:
– Bona fortuna[21]. — И, видя, как нервничает девушка, добавил: – Omnia vincit amor[22].
Разумеется, в то, что «любовь побеждает все», он верил ничуть не более самого Вергилия, да и сомневался, что датчанка обретет любовь в браке с Филиппом. Но те девицы, с которыми доводилось иметь дело ему, предпочли бы заполучить корону, нежели сердце мужчины.
Церемония не собиралась заканчиваться, и принц заскучал. Урсулу он оставил в Париже и теперь жалел об этом, потому что в такую ночь приятно согреться в постели с бабенкой. К счастью, этот аппетит не составляло труда удовлетворить – сын короля никогда не ляжет спать голодным. Подумав, что Ингеборга представляет собой лакомый кусочек по сравнению с его собственной супругой, этой богатой наследницей, о которой он сразу же забывал, как только отворачивался, Джон направился к двери. Ночь только начиналась, а он выпил еще недостаточно, чтобы изгнать своих демонов.
* * *
Пробуждался Джон с жуткой неохотой. Покосился на сквайра, зажмурился от яркого света и застонал, потому что голова кружилась, а мутило так, будто он провел ночь на корабле во время страшной бури. Рядом с ним зашевелилась подружка.
– Доброе утречко, милорд! – прощебетала она так весело, что он сразу понял – девчонка из тех чокнутых, кому и впрямь нравится вставать с солнцем.
– Джайлз, да будь даже во дворце пожар… – проворчал принц.
Но парень не отступал, поскольку все придворные Джона привыкли, что поутру у него дурное настроение. Он напомнил, что коронация госпожи Ингеборги назначена на полдень. Джон придерживался мнения, что, сходя в могилу едва ли пожалеет, что не наблюдал, как на голову супруги Филиппа возлагают корону, он снова застонал и поглубже зарылся в одеяла. Что за женщина с ним в постели, он совсем не помнил, но разумно предположил, что это потаскуха, а не монахиня.
– Заплати ей, Джайлз, – процедил он, после чего накрыл голову подушкой.
Проснувшись несколько часов спустя, принц потребовал травяной напиток, с помощью которого часто боролся с похмельем. Тот делался из отвара мяты болотной, мяты перечной и чистеца, смешанного с белым вином. Заставив себя проглотить снадобье, Джон немного ожил и при содействии Джайлза оделся. Его уже начала одолевать мысль, не улечься ли снова в кровать, когда дверь распахнулась с таким грохотом, что он поморщился.
– Ад и пламень, Дюран! Неужели требуется шуметь так, что даже покойник проснется?
Рыцарь широко улыбнулся:
– Рад, что ты наконец поднялся, потому как у меня новости, которые ты захочешь услышать немедля.
– Если ты пришел мне сообщить, что Генрих согласился передать Ричарда Филиппу, то говори, а остальное меня не интересует.
Дюрана это брюзжание не смутило, ведь он знал, как обожает Джон собирать слухи.
– Вынужден признать, весть не такая радостная. Но все же любопытная. Коронация прошла как положено, хотя всю церемонию Филипп дергался, как будто ему палку в зад засунули, и был слишком мрачен, даже по своим меркам. Кое-кто начал подтрунивать, что датчаночка, мол, пришлась ему не по вкусу. Но того, что произошло потом, никто не ожидал. Король объявил, что с браком покончено и он намерен незамедлительно просить развода.
– Что-что? – Джон в изумлении воззрился на рыцаря. – Дюран, ты шутишь? С чего бы он стал так поступать?
– Это вопрос задает себе весь двор, милорд. Когда один из датских послов объяснил суть происходящего сбитой с толку невестушке, вид у нее стал такой, будто ее молотком по голове стукнули. Датчане, нет смысла упоминать, пришли в ярость, а клирики Филиппа – в отчаяние, предвидя неизбежное столкновение с папой, ведь для расторжения брака нет очевидных причин.
Джон качнул было головой, но понял, что это была плохая идея.
– И я все это пропустил? Не везет как всегда. – Он сел на кровать, стараясь сдержать смех. – Филипп должно быть окончательно, бесповоротно спятил. Ты ведь видел девчонку, Дюран. Ты бы выкинул ее из своей постели?
– Да черта с два. Я бы не отказался покувыркаться с ней вместо короля, раз уж ему это не нужно, – заявил Дюран с очередной ухмылкой.
Джон улыбнулся в ответ, удивляясь, как не кто-нибудь, а Филипп мог допустить такую вопиющую ошибку. Для человека столь осторожного и расчетливого подобный промах был просто непостижим.
– Воистину то должна была быть адская брачная ночь! – воскликнул принц.
* * *
Дав в конце июля согласие в ответ на заоблачные требования Генриха, Ричард теперь наслаждался большей свободой. Хотя за ним по-прежнему наблюдали, охрана не была такой навязчивой. Генрих даже расщедрился на разрешение поохотиться иногда с соколами, и Генри Фальконариус, один из соколятников короля, поспешил в Вормс с парой тетеревятников и любимым сапсаном государя. А еще к Ричарду потоком лились желанные посетители. Он испытывал искреннюю радость от встреч с друзьями и был благодарен столь многим церковникам и знатным вассалам, проделавшим долгое путешествие из Англии или Нормандии. Львиное Сердце знал, что паломничество впечатляет немцев и поднимает его статус, показывая императору, что даже будучи в плену, король может рассчитывать на преданность своих подданных. Это было важно, так как Ричард ни на миг не забывал, как неустойчиво его положение, зависящее от прихоти человека, которому завтра может прийти в голову принять предложение французского монарха.
Если даже у него и оставались сомнения, что он гуляет по натянутому канату, подобно столь популярным на деревенских ярмарках акробатам, они рассеялись в середине августа, когда Генрих с нежданным визитом нагрянул в Вормс. Пусть внешне их встреча прошла радушно, под поверхностью бурлили такие водовороты, что впору было в них утонуть. Генрих начал с неприятных новостей: после тяжелой болезни архиепископ Кельский Бруно отрекся от сана и предпочел провести оставшиеся дни жизни простым монахом в монастыре в Альтенбурге. Ричарду пришлось постараться, чтобы не выдать огорчения, поскольку престарелый церковник был одним из самых надежных его сторонников. Теперь оставалось лишь надеяться, что монахи изберут ему на смену прелата, столь же сочувственно относящегося к его бедствию.
Генрих был не из тех, кто склонен к праздным разговорам, и вскоре раскрыл причину своего визита. Епископ Батский был сильно разочарован, когда монахи Крайстчерча проигнорировали пожелания Ричарда и выбрали новым архиепископом Кентерберийским Губерта Вальтера, сообщил император. И добавил, что тоже был изумлен непослушанием клириков. Ричард тоже изобразил удивление и посочувствовал несбывшимся надеждам епископа, сам одновременно готовясь к дальнейшему.
– Я был уверен, что ты разделишь наше разочарование, – любезно заявил Генрих. – А потому, надеюсь, ты будешь рад узнать, что есть способ возместить моему кузену его неудачу. Он говорит, что не прочь было бы присоединить к своей Батской епархии аббатство Гластонбери.
– Вот как? – Ричарду потребовалось все его самообладание, чтобы не взорваться, потому что Гластонбери являлся одним из важнейших английских монастырей, а с момента недавнего открытия на тамошнем кладбище могил короля Артура и его супруги Гиневры обитель стала для паломников еще притягательнее. Не составило труда догадаться, почему Саварик желает наложить свои жадные лапы на такую добычу. – Едва ли монахи с восторгом примут эту идею, милорд император.
Генрих небрежно взмахнул рукой, отметая возражения монахов.
– Саварик разберется с их жалобами. Суть его предложения в том, что он хочет передать тебе город Бат в обмен на аббатство, объединив два прихода в один. Я заверил его, что не сомневаюсь в твоей поддержке, милорд король. Так я не ошибся?
Ричард пытался понять, неужели Саварик так глуп и не может понять, что наступит день, и ему придется заплатить за это гнусное вымогательство. Король не сомневался, что Генрих-то это понимает, только ему нет дела до судьбы своего недалекого кузена. Его цель всего лишь напомнить узнику, что он остается узником, вопреки всем поблажкам и любезностям, которыми наслаждается. Львиное Сердце улыбнулся в ответ, хотя спрятанные под столом ладони сжались в кулаки.
– Ничуть, – бросил он с беспечностью, давшейся ему дорогой ценой. – Мы ведь, как никак, союзники.
* * *
Учитывая обстоятельства, Ричард не слишком радовался своему тридцать шестому дню рождения, который наступал восьмого сентября: какой пленник будет праздновать очередной день своего заточения? К удивлению для него, событие получилось приятным. Епископ Вормский настоял на том, чтобы устроить пир в честь венценосного именинника, а вслед за угощением их порадовали своими песнями несколько немецких миннезингеров. Музыка всегда поднимала Ричарду настроение, и он находился в самом блаженном расположении духа и до того, как прибыл гонец от одного из новых его союзников, герцога Брабантского.
Герцог не мог сообщить вестей лучше: новым архиепископом Кельнским стал пробст Адольф фон Альтена, проникшийся к Ричарду дружеским расположением с первой их встречи на судилище в Шпейере. Лучшего поборника своих интересов, чем Адольф, король и желать не мог, поэтому воспринял это известие как неожиданный подарок ко дню рождения.
Когда с угощением и развлечениями было покончено, гости отправились в дворцовый сад. Часть мужчин затеяла шумную игру в «кольца», набрасывая подковы на деревянный колышек. Ричард сидел на травяной скамье, наблюдая за забавой и весело болтая с Морганом и Варином Фиц-Джеральдом. В эту минуту ему доставили письмо от германского императора. При виде императорской печати ему показалось, словно солнце внезапно зашло за тучу, потому как любое соприкосновение с Генрихом не сулило добра. Чувствуя себя так, словно он сейчас поднимет камень и обнаружит под ним скорпиона, Ричард сломал печать. Те, кто находился поблизости от него, тоже напряглись, и расслабились, только когда король оторвал взгляд от пергамента, потому что вид у него был скорее удивленный, чем расстроенный.
– Некоторые из вас наверняка слышали, что французский король сговорился о свадьбе с сестрой короля датского. Моя госпожа матушка и юстициары уверены, что Филипп намерен использовать датский флот для вторжения в Англию. Если к браку его побудила именно эта причина, то он избрал весьма странный способ обхаживать данов, поскольку на следующий день после свадьбы отрекся от невесты.
Необычайная новость побудила игроков прервать игру в «кольца» и собраться вокруг английского короля в надежде услышать больше. Ричард вернулся к письму, быстро пробежал его глазами, а когда закончил, на губах у него сияла широкая улыбка.
– Если верить источникам императора при французском дворе, – сказал он, должным образом подчеркнув титул Генриха, поскольку среди присутствующих были немцы, – Филипп без лишней огласки заявил, что не консуммировал[23] брак, но ему напомнили, что одного этого мало для развода. Его советникам следовало бы еще напомнить государю, что подобное признание непременно вызовет в народе молву, будто король не в силах исполнять супружеский долг.
Ричард подбирал слова осторожно, с оглядкой на епископа Вормского и других клириков, но обведя собравшихся взглядом понял, что излишняя деликатность не требуется. Немцев не в меньшей степени забавляло, как французский король ухитрился поставить себя в столь невероятное и столь затруднительное положение.
Ансельм, добросердечный капеллан Ричарда, выразил сожаление о подорванной чести невесты и поинтересовался, что теперь ее ждет.
– Филипп спровадил ее прочь из Амьена и ее поместили в монастыре Сен-Мор-де-Фоссе близ Парижа. Девушка выказала похвальное присутствие духа и отказалась, чтобы ее везли назад в Данию как испорченный товар. Она настаивает, что консуммация брака на самом деле произошла, и перед Богом и церковью они муж и жена. Но лазутчики императора – я хотел сказать, его источники, – с очередной усмешкой поправился Львиное Сердце, – говорят, что Филипп намерен убедить совет епископов и баронов признать брак недействительным в связи с тем, что он состоит с Ингеборгой в недопустимом родстве. И хотя это не так, готов побиться об заклад, что французские прелаты сделают вид, будто верят.
Затем улыбка сошла с его лица.
– И разумеется, этот ублюдок Бове первым предложит Филиппу руку помощи, поскольку лжесвидетельствование есть самый мелкий из его грехов.
После этого никто не говорил ни о чем ином, как о матримониальных скорбях французского монарха. С уходом епископа и архидьяконов шуточки в адрес Филиппа стали более пошлыми и грубыми. Отвращение, испытываемое французским государем к лошадям, было общеизвестно, и теперь высказывались предположения, не передалось ли оно на кобылок другого рода. Отпускались намеки, что монаршие бриллианты оказались такими крошечными, что Ингеборга не смогла разыскать их, что вид обнаженного супруга вызвал у нее смех вместо желания, особенно при виде флага, поднятого лишь до половины древка. Варин размышлял вслух, не обнаружил ли Филипп, что его невеста не девственница, и вызвал бурный приступ хохота, добавив:
– Впрочем, сумел бы он найти разницу?
Кое-кто задался вопросом, способно ли отсутствие девственности стать причиной для признания брака незаконным, и были явно разочарованы, когда Лоншан дал отрицательный ответ. А вот Морган привлек к себе всеобщее внимания заявлением, что валлийский закон считает это уважительным поводом для развода.
В Уэльсе, пояснил рыцарь, брак может быть расторгнут по взаимному согласию. Более того, муж имеет право отвергнуть жену, если та уверяла, будто девственна, а он в брачную ночь установил обратное, или если застал ее при компрометирующих обстоятельствах с другим мужчиной, или если ее приданое оказалось меньше обещанного. Лоншан и Ансельм неодобрительно качали головами, но остальные горячо поддержали законы, позволяющие избавиться от постылой жены, ведь каноническое право предусматривало развод только в случае препятствия, существовавшего с самого начала: кровное родство, свойство по браку, вынужденное согласие или неспособность консуммировать брак в случае импотенции.
Впрочем, дальнейший рассказ Моргана поверг их в шок, потому как валлийская жена, как выяснилось, тоже способна избавиться от постылого супруга в следующих случаях: если он подхватил проказу, имеет зловонное дыхание, если изменял ей трижды или оказался недееспособен в постели. Это шло против традиционного порядка вещей, укрепив слушателей в подозрении, что Уэльс суть дикая, загадочная страна с вопиюще странными обычаями. Моргана они при этом весьма уважали. Зато когда Морган рассказал им про валлийское испытание на бесплодие, когда мужа заставляли пролить себя на выскобленную добела овечью шкуру, все согнулись от хохота, представляя, как Филипп проходит через такую унизительную процедуру, доказывая свою мужскую состоятельность.
Ричард не смеялся так уже очень долго. Воистину это день неожиданностей, подумалось ему. Самой важной из новостей, разумеется, была весть об избрании Адольфа фон Альтена новым архиепископом Кельнским. Но немало удовольствия доставили и злоключения Филиппа.
– Французский король сделался посмешищем для всего христианского мира, – объявил он. – И что самое замечательное, исключительно собственными стараниями.
* * *
Тем вечером Ричард сидел в опочивальне в обществе людей, образовавших ближний его круг. То были Лоншан, Фульк, Морган, Гийен, Балдуин, Варин и братья де Пре. Король сочинял песню, названную им «Плач из темницы». Остальные вели беседу, а Арн дулся на Ганса, немецкого паренька, которого Генрих отрядил прислуживать пленнику, а Арн не терпел, чтобы государю прислуживал кто-то, кроме него.
– Как вам это? – Ричард ударил струну на арфе, его соратники повернулись к нему. – «Бессильны слова и изменчив язык, когда пленник стонет о доле своей. Но себе в утешение может он песню сложить. Много друзей у меня, только…»
Закончить он не успел, потому как дверь распахнулась настежь и в комнату влетел Ансельм.
– Монсеньор, я только что разговаривал с мастером Може, – выпалил он, имея в виду одного из недавних гостей Ричарда, архидьякона из Эвре. – В конце недели он уезжает обратно в Нормандию и уверяет, что с удовольствием заедет в Пуату и передаст письма твоей супруге и сестре. Ко времени его приезда туда женщины должны будут уже добраться до Пуатье.
Он радостно улыбнулся, но улыбка его померкла, когда Ричард покачал головой.
– Я уже написал им и передал письма с гонцом, отправленным ими из Рима.
– Знаю, сир. Но твоя госпожа наверняка будет счастлива получить новую весточку…
– Я сказал, что нет, Ансельм!
Ричард не собирался повышать голос, но исполненная благих намерений навязчивость капеллана вывела его из себя. Над теми первыми письмами он корпел много часов, не в силах подобрать верные слова, и не желал проходить через эту пытку снова. Ну о чем еще написать Беренгуэле? Рассказать про погоду в Вормсе? Про сны, в которых он видит себя погребенным заживо во французской темнице, что чернее любой преисподней? Про то, как согласился на очередную уступку этому сукину сыну Генриху и предал монахов из Гластонбери?
Ансельм оторопело смотрел на него, и его замешательство только сильнее разозлило Ричарда. Уж если Ансельм не понимает, то как, скажите Бога ради, поймет Беренгуэла? Король встал, потеряв интерес к музыке и подмечая воцарившуюся тишину и направленные на него взгляды. Избавление пришло с неожиданной стороны, а именно от попугая.
– Черт побери! – произнесла птица с неожиданной отчетливостью.
Мужчины в удивлении рассмеялись, и неприятный момент был пройден, хотя и не забыт.
* * *
Гуго де Нонан, епископ Ковентрийский, был живым подтверждением того, как обманчива бывает внешность. Был он дородным, краснощеким, с напоминающей тонзуру монаха плешью на макушке, а его голубые глаза окружала сеточка морщинок, какие образуются при улыбке. На первый взгляд прелат казался благодушным добряком, смахивая на святочного деда. Но располагающая наружность и улыбчивость были всего лишь маской, под которой скрывался человек циничный, пронырливый, амбициозный, вероломный и в высшей степени безжалостный к тем, кто стоит у него на дороге.
Впрочем, сейчас он был выведен из равновесия, и его добродетельная личина покоробилась по краям.
– Лицезреть тебя, монсеньор, услада для этих старческих глаз, – пробормотал он, но льстивое приветствие прошло мимо цели, и епископ, похоже, понял это, потому что отвел взгляд от Ричарда.
– Ты не спешил откликнуться на мой призыв, милорд епископ, – сказал король, и каждое его слово было холодным как лед. – Я уж было подумал, что ты вслед за моим братцем сбежал к французскому двору.
– Ни в коем случае, сир! Если ты усомнился в моей преданности, это плод наговоров. – Епископ бросил ядовитый взгляд на канцлера, говоривший, что не составляет труда догадаться, с кого надо спрашивать за навет. Лоншан смотрел в ответ, напряженный и готовый ринуться в схватку.
– Канцлер заслужил мое доверие. А ты нет.
– Монсеньор, это несправедливо. Твой господин брат унаследует престол, если тебя постигнет беда, и я воздаю должное его рангу, но не более того. Моя преданность к тебе не поколебалась ни на миг, ни на единый удар сердца.
Ричард даже не пытался скрывать скептицизм, потому что хотел проучить Нонана – пусть до мозга костей проникнется страхом лишиться королевской милости.
– Если так, ты, должно быть, захватил с собой щедрый вклад в выкуп за меня?
Розовые щеки Гуго сделались пунцовыми.
– Сир… У меня действительно было такое намерение. Я выехал из Лондона, имея при себе крупную сумму. Но на дороге на нас напали разбойники и отобрали все до последнего фартинга. – Тут епископ повернулся и устремил обвиняющий перст на Лоншана. – И все это происки этого человека!
Лоншан сначала пришел в замешательство, затем в ярость. Но прежде чем он успел разразиться возмущенными отрицаниями, Ричард предостерегающе вскинул руку.
– Напрасно ты так думаешь, милорд епископ. Канцлер находился при мне с тех самых пор, как в начале июля устроил перемирие с королем французским. Смею тебя уверить, что он не рыскал по английским дорогам в обличье разбойника.
– Я не утверждаю, что он сам был главарем шайки, монсеньор. Но уверен, что он подослал мужа своей сестры, кастеляна Дуврского замка!
Ричард с первого взгляд на канцлера понял, что Лоншан ничего об этом не знает.
– И у тебя, разумеется, есть тому доказательства? – обратился король к епископу.
– Я настолько уверен в этом, милорд, что предал этого негодяя анафеме.
– Для тебя, милорд епископ, это может и доказательство. Но не для меня. Тебе повезло, что по натуре я человек не подозрительный, иначе мог бы усомниться в правдивости твоей такой удобной истории про разбойников.
Ричард пристально смотрел на епископа, и тот явно смутился, на лбу у него выступил пот, а дыхание участилось.
– Господь благословил меня хорошей памятью, и можешь не сомневаться: я запомню тех, кто доказал свою верность в эти трудные времена, а кто нет.
– Но я-то был верен, сир! Клянусь!
При других обстоятельствах Лоншан получил бы огромное удовольствие от унижения врага, но сейчас был слишком отягощен собственными проблемами, чтобы наслаждаться отчаянными попытками Нонана выкрутиться. Как только прелат ушел, канцлер с тревогой посмотрел на Ричарда:
– Сир, я не имею к упомянутому ограблению никакого отношения.
– Я это знаю, Гийом. – Вопреки заверению, лицо короля оставалось непроницаемым. – Как считаешь, твой свояк способен на столь дерзкое предприятие?
Лоншан замялся, но лгать королю не стал.
– Не исключаю, – выдавил он.
– Понятно… В таком случае, мне кажется хорошей идеей, если твой родич сделает щедрый вклад в выкуп за меня.
На этот раз Лоншан уловил во взгляде короля искорку веселья и широко улыбнулся:
– Я и сам думал о том же!
– Не переживай за свое положение при мне, Гийом, даже если ты не в силах управиться со своими порывистыми родичами. Я никогда не забуду сделанного тобой в Трифельсе. У меня есть свои недостатки, – тут Ричард усмехнулся, – но неблагодарность в их число не входит.
Улыбка исчезла почти так же быстро как появилась, король продолжил уже со всей серьезностью:
– Я сказал этому подлецу Нонану правду: я всегда плачу свои долги.
«Особенно долги кровные», – согласился про себя Лоншан. Ему подумалось, что Генрих вполне может избежать прижизненного возмездия за зло, причиненное английскому королю. А вот французскому монарху и вероломному брату государя едва ли так повезет.
* * *
Герцогиня Бретонская много часов ехала молча, потому как страшилась предстоящей встречи с мужем. Мужем… Даже после пяти лет в браке Констанция находила странным такое обращение к Рэндольфу. Она не хотела идти за него замуж, все еще горевала по Жоффруа. Но выбора не было: свекор настоял. Генрих решил выдать ее за человека, которому может доверять. По иронии судьбы, такого нельзя было сказать о собственном его сыне, поскольку перед самой своей смертью Жоффруа сговаривался с французским королем. Генрих ожидал, что Жоффруа станет послушной марионеткой в его руках и будет управлять Бретанью согласно его воле. Но молодой герцог имел свои соображения на этот счет и ставил интересы Бретани выше интересов Анжуйской империи своего отца, и тем самым сумел завоевать расположение враждебно настроенных поначалу бретонских баронов, да и самой Констанции.
Семь лет прошло со дня гибели Жоффруа на том проклятом турнире, и бывали времена, особенно ночью, когда рана еще кровоточила. Если бы ему не взбрело поучаствовать в общей схватке! Насколько иначе сложилась бы ее жизнь и жизнь их детей. Но гадать «что было бы, если» – забава для глупцов. В душе своей она до сих пор оставалась вдовой Жоффруа. Но в реальном мире являлась женой Рэндольфа де Бландевиля.
То не был неравный брак: Рэндольф, граф Честерский, владелец обширных имений по обе стороны Пролива, кузен короля, являлся достойной партией для герцогини Бретонской. Да и дубиной или деревенщиной его не назовешь. Однако их союз оказался обречен с самого начала, подумала Констанция, вспомнив взволнованного восемнадцатилетнего юнца, выданного за женщину на девять лет его старше, женщину с более высоким положением. Женщину, не желающую его. Рэндольф унизился, выплеснув семя слишком рано, и все шансы установить взаимоприемлемые отношения рухнули в ту самую неудачную брачную ночь. С течением времени они все реже делили ложе. Ей повезло больше, чем многим «женам поневоле». Она правила герцогством и имела вассалов, которые охотно давали почувствовать ее чужаку-супругу, что ему тут не рады. Да и ребенок от него ей нужен не был – от Жоффруа она родила сына и дочь, обеспечив наследование бретонского престола. Артуру было шесть лет, Эноре – девять.
И все же Жоффруа избаловал ее, показав какое наслаждение можно обрести в мужских объятьях, и теперь ей было холодно и одиноко в постели. Подчас Констанция подумывала завести любовника, но так и не сделала этого, убедив себя, что даже самая скрытая связь таит в себе огромный риск. И хотя этот довод был справедлив, ошибкой было отрицать, что единственный желанный для нее мужчина покоился в мраморной усыпальнице в парижском соборе Нотр-Дам.
– Госпожа!
Когда Андре де Витре поравнял своего коня с ее кобылой, Констанция заставила себя улыбнуться, потому что этот бретонский лорд стал после смерти Жоффруа главной ее опорой.
– Ты в самом деле хочешь этого? – спросил Андре негромко.
– Я не знаю другого способа получить ответ, который нам нужен, – ответила герцогиня.
И поскольку де Витри этого способа тоже не знал, он мрачно кивнул, и они поехали дальше, не обмолвившись ни словом до тех пор, пока в виду не показались стены замка Сен-Жам-де-Беврон.
* * *
Узнав, что его хочет видеть жена, Рэндольф де Бландевиль удивился – ему не удавалось припомнить, когда она в последний раз наносила ему визит в одном из его замков. И не обрадовался, поскольку с первого же года поставил крест на своем браке. Жена не отрицала его супружеских прав и даже наедине держалась подчеркнуто вежливо. До этих пор граф и не подозревал, каким страшным оружием может быть безразличие. Констанция даже не утруждалась ссорами с ним, и вот этого он ей простить не мог. Столкнувшись с ее апатией и открытой враждебностью бретонских баронов, Рэндольф чувствовал себя ненужным и обиженным, и его визиты в герцогство становились все более редкими. Связанный этим неудачным союзом с женщиной, которая едва ли родит наследника его графству Честерскому, Бландевиль со стыдом вспоминал, как окрылен был некогда этой партией. Вот ведь идиот! Однако он не даст этой стерве или ее дерзким баронам повода упрекнуть его в невоспитанности. Дав распоряжение открыть ворота, граф спешно послал людей в кладовые и на кухню, чтобы подали вино и вафли.
Гостей препроводили в большой зал. Констанцию Рэндольф почтил галантным поклоном и небрежно чмокнул в щеку. Ее спутников он знал, то были Андре де Витре со своими братьями Робером и Аленом и Гетенок, епископ Ванна. Обращенные к ним приветствия были холодными, но вежливыми. Граф позволил себе добавить толику иронии:
– Воистину, какой приятный сюрприз! – сухо заметил он.
Разговор не клеился, потому как Констанция так же не блистала в светских беседах, как и Рэндольф. Как только этикет был соблюден, она перешла сразу к делу:
– Могу ли я переговорить с тобой с глазу на глаз, господин супруг?
Рэндольф кивнул.
– Мы можем прогуляться по саду, – сказал он так, стараясь дать понять, что не горит желанием оставаться с ней наедине.
Констанция не была писаной красавицей: с немодного темного цвета волосами и глазами, узкая в кости и такая худая, что создавалось обманчивое впечатление хрупкости. Но от нее исходило нечто, что привлекало внимание мужчин, особенно таких, которые видели в ее независимости вызов. Рэндольф был не из их числа, и страшно страдал от того, что супруга до сих пор пробуждает в нем желание.
– Пусть будет сад, – ответила герцогиня и подала мужу руку.
Роста граф был ниже среднего, но все равно выше ее. Пересекая зал, он размышлял, правдивы ли слухи, будто Констанция и Жоффруа выказывали столько пыла, что их брачное ложе охватывал пожар. Как может одна и та же женщина быть похотливой с одним мужем и столь холодной с другим?
Выйдя в сад, Рэндольф указал на одну из скамеек, но Констанция покачала головой. Имелась в ней прямолинейность, которую он всегда считал неподобающей женщинам, вот и теперь она заявила без обиняков:
– До меня дошел тревожный слух, Рэндольф, будто одним из условий освобождения Ричарда является брак моей дочери с сыном герцога Австрийского. Я написала Алиеноре, но та не очень-то спешит отвечать.
Констанция не любила родню Жоффруа, да и сама не была любимицей этой семьи, так что, как подумал Рэндольф, предположение может быть правдой. Герцогиня начала беспокойно расхаживать, и он понял вдруг, каких трудов стоило ей просить его об одолжении.
– Ты ведь кузен Ричарда, – сказала она. – Быть может, тебе проще будет добиться ответа.
Де Бландевиль помялся немного, затем решил позаимствовать у жены немного ее прямоты.
– Добиваться нет необходимости. Это правда.
Констанция охнула и побледнела так, что граф против воли испытал укол жалости – впервые он видел ее по-настоящему расстроенной.
– Ты уверен в этом, Рэндольф? – Когда он кивнул, она как подкошенная опустилась на ближайшую скамейку. Но потом вскинула подбородок и сердито посмотрела на него. – Почему ты не сообщил мне?
Он зыркнул в ответ:
– Констанция, я тебя много месяцев не видел. Не изображай обиженную жену, тебе эта роль не к лицу.
– Это не имеет отношения к нашему браку, Рэндольф. Речь идет о моей дочери!
– Я думал, что тебе сообщили. – Хоть она и злилась, он подошел ближе, потому что женщина была бледна как мел. – Нет так уж все и плохо. На самом деле, это не такая уж скверная партия для Эноры. Она выйдет замуж в одну из могущественнейших семей Священной Римской империи. Тебе бы радоваться…
– Радоваться? Мою дочь ушлют в далекую страну и отдадут за чужака, а меня даже не спрашивают об этом!
– Ричарда тоже не спросили, – возразил граф. – И тебе это прекрасно известно. Если уж хочешь кого-то обвинить, вини германского императора и австрийского герцога. Но я продолжаю утверждать, что это выгодный союз. Бога ради, женщина! В один прекрасный день твоя дочь станет герцогиней Австрийской! Неужели ты всерьез думаешь, что способна обеспечить ей лучшее будущее?
– Но ей всего девять лет от роду!
– Таков закон нашего мира, Констанция. Девочки из знатных семей зачастую растут при дворе своих будущих мужей. Как, например, ты сама. Все сестры Ричарда были совсем юными, когда был решен вопрос об их браке…
– Мне нет до них дела! Я переживаю за свою дочь!
В этом крике было столько боли, что де Бландевиль растерялся.
– Со временем ты смиришься, – промолвил он после тягостной паузы. – У тебя нет выбора.
Констанция закусила губу и потупила взгляд, чтобы он не заметил блеск слез. Она так устала вести эту войну без Жоффруа, устала сражаться с неизбежным. Но потихоньку угольки начали разгораться, давать привычный жар, всегда приходивший ей на помощь. Гнев неизменно служил ей щитом, источником силы, а иногда – единственным убежищем. Она не может помешать им забрать у нее дочь. Но ненависть поможет пережить утрату Эноры, вдохновит драться за сына и за герцогство.
– Мне стоило дважды подумать, прежде чем обращаться к тебе за поддержкой, – презрительно бросила она, вставая.
Прежде чем граф успел ответить, Констанция повернулась на каблуках и зашагала прочь, предоставляя ему обижаться и проклинать Генриха, устроившего для него этот адский брак.
* * *
Алиеноре нравилось общество графини Омальской, потому как у них было много общего. Подобно Алиеноре, Хавиза была богатой наследницей, графиней Омальской по родовому праву, обладательницей богатых владений в Нормандии, Йоркшире и Линкольншире. Как и Алиенора, она обладала сильной волей и не спешила склоняться перед мужским авторитетом. Графиня осмелилась возражать, когда Ричард решил выдать ее за своего вассала Вильгельма де Форса, и ей хватило ума подчиниться, когда король наложил арест на ее земли. Хавиза вышла за выбранного Ричардом супруга, но это не сломило ее свободолюбивый дух. Она сопровождала Алиенору в путешествии на Сицилию, потому что разделала с королевой интерес к причудливым далеким странам и не позволяла даже беременности мешать своим странствиям, опять же как это было с Алиенорой. За свою долгую жизнь у Алиеноры были только две наперсницы: сестра Петронилла и кузина Генриха Мод, графиня Честерская. Но узнав Хавизу лучше, королева опустила подъемный мост и позволила молодой подруге проникнуть если не в главную башню замка, так во внутренний его двор.
В тот дождливый ноябрьский вечер они потягивали вино в большом зале Алиеноры в Белом Тауэре. Большую часть утра королева провела в обществе Генри Фиц-Эйлвина, городского мэра, Ричарда Фиц-Нила, епископа Лондонского и лорда-канцлера казначейства, и теперь радовалась возможности отдохнуть от дел за приятной беседой с Хавизой, всегда умевшей насмешить ее.
Графиня только что допила кубок и знаком велела слуге подать другой.
– До меня дошел слух, что французский король созвал в Компьене совет, чтобы избавиться от своей бедной маленькой невестушки. Это так?
Алиенора кивнула:
– Он утверждает, что Ингеборга и первая его жена были родственницами в четвертом или пятом колене, а это дает основание для расторжения брака. При условии, что это правда.
– А это не так?
– Нет. Предъявленная Филиппом грамота была подделкой, причем грубой. Но он-то знал, к кому обращается: восемь из пятнадцати членов совета его родичи, а другие принадлежат к королевскому двору. Никто не удивился – за вычетом Ингеборги, возможно, – когда архиепископ Реймсский, по совместительству дядюшка Филиппа, послушно провозгласил брак ничтожным и расторгнутым. Когда Ингеборге перевели, ведь французского-то она не знает, девушка возопила по латыни: «Mala Francia! Roma!»[24]. Да только если она ожидает обрести в папе защитника своих интересов, ее ждет жестокое разочарование. Целестин выразит яростное возмущение этим случаем. Но слова недорого стоят, особенно его.
Хавиза тоже не была высокого мнения о понтифике.
– На месте Ингеборги я возблагодарила бы Бога, что тот избавил меня от повинности всю жизнь делить ложе с Филиппом. Что толкает ее так ожесточенно бороться за мужчину, который так унизил ее?
– Гордость, надо полагать, – задумчиво промолвила Алиенора. – После такого скандала ее брату нелегко будет подыскать ей жениха. И поскольку девочка клянется, что брак был консуммирован, она видит себя законной женой Филиппа перед Господом.
– Если бы я верила, что скандал способен избавить меня от мужа, то охотно разгуливала бы по улицам голой от рассвета до заката.
Глаза Алиеноры блеснули весельем.
– Брак – мужская игра, это уж точно. Они устанавливают правила, а нам приходится им следовать.
– Подчас эта игра бывает приятной, – признала Хавиза. – Мне нравилось быть замужем за первым моим супругом. По большей части.
– Я могла бы сказать то же самое про своего второго. Пока он не заделался моим тюремщиком, разумеется. – Алиенора отпила глоток вина, наблюдая за собеседницей поверх кубка. – Не так давно я получила письмо от Констанции. Она в бешенстве из-за того, что ее дочь стала частью платы за освобождение Ричарда. Глупая женщина ведет себя так, словно у нас есть выбор. Впрочем, не так просто отпустить от себя дочь, Хавиза. Нам остается лишь надеяться, что наши девочки обретут счастье с тем, кого мы для них предназначили. Не знаю как насчет Аликс, но думаю, что с Марией, Леонорой, Тильдой и Джоанной так и случилось. Хотя матери всегда стараются верить в лучшее…
– Я рада, что родила сына, а не дочь. Сыновей, по крайней мере, не отнимают как племенных кобыл.
– Но сыновья находят другие способы нарушить наш покой и разбить нам сердце.
Замечание было верное, и у Хавизы ком встал в горле. Проглотив его, она пошутила насчет везения младенцев – знай они, что их ожидает, никогда не согласились бы покидать материнскую утробу. Затем она широко открыла дверь, приглашая королеву к откровенности, сказав:
– Госпожа, а нет ли вестей от твоего сына?
– От какого именно? – Алиенора сделала еще глоток и заглянула внутрь кубка, словно надеялась узреть там не вино, а ответы. – Ты слыхала, что Джон состряпал новый заговор, на этот раз с целью похитить выкуп посредством подделки моей печати? Что о нем не говори, но в недостатке воображения ему не откажешь.
Хавиза не хотела говорить о Джоне, потому как что о нем не скажи, все равно ошибешься.
– Мне говорили, что многие отказывались вносить свою долю выкупа, особенно клирики, которым страсть как не хотелось расставаться с золотой и серебряной церковной утварью. Выкуп-то такой огромный…
– И я надеюсь, что Генрих будет гореть в аду за каждую из этих ста пятидесяти тысяч марок. – Голос у Алиеноры был негромким, но дрожал от сдавленной ярости. – Ни к кому не питала я такой ненависти, как к этому человеку. Но мы соберем эти его проклятые деньги – или достаточное их количество – к тому дню, когда в следующем месяце придет пора отправляться в Германию.
– Ты едешь в Германию, государыня?
Хавиза тут же пожалела, что задала вопрос. В конечном счете, перед ней была женщина, пересекшая Альпы в разгар зимы. Но с тех пор она стала на три года старше и приближается к библейскому возрасту в три раза по двадцать и десять лет, а Северное море в декабре способно испугать и мужчину вдвое моложе ее.
Брови Алиеноры удивленно вскинулись:
– Разумеется еду, Хавиза! В прошлом месяце от Ричарда пришло письмо, где сказано, что Генрих назначил дату его освобождения. Это понедельник спустя три недели после праздника Рождества Спасителя. То есть семнадцатое января.
Она улыбнулась подруге материнской улыбкой, столь же обворожительно, как некогда в молодости.
– Если Бог даст, – продолжила королева, – Новый год я встречу вместе с сыном. А потом… Потом мы вернемся домой.
Глава XX Шпейер, Германия
Январь 1194 г.
Ричарду не верилось, что меньше чем через две недели он обретет свободу. Большая часть выкупа была передана Генриху, а его мать и архиепископ Руанский прибудут в Шпейер ко дню его освобождения. Но Ричард отдавал себе отчет, что тот, кто доверится честному слову Генриха – круглый дурак, и расслабиться можно будет только когда он на самом деле отправится в путь, оставив за спиной Шпейер.
А посему очень обрадовался приезду большой делегации из Пуату – гости отвлекли его от мрачных подозрений и от мыслей об ошеломительно высокой цене, которую он платит за свое избавление. В числе прибывших были епископы Сента и Лиможа, Эмери, виконт Туарский, его младший брат Ги, а также два соратника Ричарда по Святой земле, Жиро де Берле-Монтрейль и Гуго ле Брюн, представитель непокорного клана Лузиньянов. Они доставили вклад в королевский выкуп, а епископ Сентский и Гуго также привезли государю письма от жены и сестры, поскольку по дороге заглянули к Беренгарии и Джоанне в Пуатье.
Эмери заслужил репутацию политического флюгера, а Жиро и Гуго принадлежали к семьям, считавшим мятеж своим родовым правом, но поскольку они решились на долгое и трудное путешествие в разгар зимы, Ричард предал забвению их прошлые грехи. Больше всего ему понравился Ги де Туар, который в отличие от других посетителей не задавал неудобных вопросов насчет его заточения. Вместо этого ему хотелось услышать о подвигах короля в Святой земле. Поэтому Ричард делился с Жиро и Гуго воспоминаниями о боях с сарацинами и повеселился, когда речь зашла про то, как он спасал Гуго из осажденного рассерженными жителями Мессины дома. Ричард подшучивал над попыткой Балдуина де Бетюна оседлать верблюда и согласился, что самой быстрым скакуном во всем христианском мире был Фовель – конь, которого король отобрал у Исаака, деспота Кипрского.
Приятный вечер резко оборвался с приходом мастера Фулька, который вручил Ричарду послание от германского императора. Охваченный недобрым предчувствием и затаив дыхание, король взломал печать
– Генрих отсрочил мое освобождение на две с лишним недели. Не через неделю, считая от понедельника, а на Сретение. И не здесь, в Шпейере, а в Майнце.
Гости были разочарованы, а приближенные государя пришли в отчаяние, поскольку знали Генриха. Лоншан встал и заковылял к Ричарду.
– Император как-то объясняет задержку?
Ричард покачал головой и передал пергамент канцлеру. Беспокоила короля не сама задержка, хотя каждый лишний день заточения тяжелым камнем ложился ему на душу. Тревожило нечто иное, более серьезное.
– Что теперь затеяло это сатанинское отродье? – мрачно сказал он, встретившись взглядом с Лоншаном.
* * *
Прибыв с большой свитой в Германию, Алиенора и архиепископ Руанский наняли суда для плавания по Рейну и прибыли в Кельн как раз вовремя, чтобы отпраздновать Благовещение вместе с новоизбранным тамошним прелатом Адольфом фон Альтена. Королеву, архиепископа Готье и самых знатных из заложников разместили в архиепископском дворце. Передышка пришлась как раз кстати, потому как путешествие далось всем очень нелегко. Но вопреки радушному приему со стороны горожан и Адольфа, Алиеноре не терпелось продолжить путешествие, и она с облегчением вздохнула, взойдя на корабль, чтобы проделать последний отрезок своей одиссеи.
* * *
Алиенора хорошо разбиралась в людях, и пока архиепископ Адольф вел ее через переполненный зал императорского дворца в Шпейере, она ощутила внезапный холодок, не имевший ничего общего с падающим на землю снегом или морозным воздухом. Латынь королева знала плохо, немецким не владела вовсе, зато Адольф на удивление хорошо говорил по-французски, хотя и с заметным акцентом.
– Император отложил освобождение короля, мадам. Теперь оно произойдет второго февраля в Майнце.
Алиенора на миг смежила веки, ощущая на себе вес всех своих шестидесяти девяти лет. Но худшее было впереди.
– И тебе не разрешено увидеться с сыном, госпожа. Генрих распорядился, чтобы ты ехала дальше в Майнц.
Алиенора вскинула голову и распрямила плечи.
– Я хочу переговорить с императором. И как можно скорее.
– Генриха нет в Шпейере. Он весь месяц пробыл в Вюрцбурге, где собрал имперский сейм, и приедет в Майнц самое раннее через две недели. Более того, государь призывает меня к себе в Вюрцбург, поэтому я не смогу сопровождать тебя по пути в Майнц.
Алиенора смотрела на двух архиепископов и читала на их лицах страх. Генрих уже получил большую часть выкупа, а теперь еще и заложников. Что, если он откажется отпустить Ричарда? Что ее бьет крупная дрожь, королева осознала только когда внук Отто галантно снял с себя плац и накинул ей на плечи. Этот жест едва не разбил ей сердце. Вильгельм родился в Англии, а Отто было всего пять лет, когда его родители нашли приют при английском дворе. Даже если все пройдет хорошо, ей предстоит оставить внуков в этой чужой для них стране, в руках у человека, знающего о чести не больше, чем какой-нибудь разбойник или берберский пират. А если дела примут скверный оборот – что тогда станется со всеми ними?
* * *
После нескольких самых тревожных дней и бессонных ночей в ее жизни, произошло событие, которого Алиенора так отчаянно дожидалась. Накануне Сретения ее сын прибыл в императорский дворец в Майнце.
Всем хотелось поскорее встретиться с королем, но первая маленькая группа, которую к нему препроводили, ограничивалась Алиенорой, архиепископом Руанским и племянниками государя Отто и Вильгельмом. Ричард принимал гостей в обществе Лоншана, Фулька, Ансельма, Балдуина де Бетюна, Моргана, Гиейна и юного Арна. Алиенора даже порог не успела переступить, как глаза у нее защипало, и на сына она смотрела через пелену слез. В последний раз королева видела его три года назад. Он стоял тогда вместе с Беренгарией и Джоанной на причале в Мессине, махал вслед ее кораблю, медленно покидающему гавань. Теперешний его облик не порадовал Алиенору, потому что Ричард выглядел как человек, давно не видевший солнца, заметно потерявший в весе и слишком долго живший с полным напряжением нервов. Но тут он улыбнулся и обнял ее, и она подумала удивленно: неужели нужно было прожить всю жизнь, чтобы понять, что самая крепкая, сильная любовь на свете – это любовь матери к своим детям.
– Филипп свалял дурака, когда поставил против тебя. – Ричард со смехом снова сжал ее в объятьях, но затем наклонился прямо к ее уху и прошептал: – Шестнадцать лет… Как же ты это выдержала, матушка?
Эти несколько простых слов поведали все, что ей требовалось знать о времени, которое он провел в плену у Генриха.
Следующим Ричард поздоровался с архиепископом, а затем, когда настал черед девятилетнего Вильгельма и шестнадцатилетнего Отто, сделал вид, будто не верит, что перед ним его племянники. Эти ребята слишком взрослые, уверял он, рассмешив мальчиков и рассеяв любую скованность, какую они могли ощутить. А парни действительно казались ему чужими, потому как четыре года – целая вечность в стране детства, и розовощекий мальчуган пяти лет и серьезный двенадцатилетний подросток жили теперь только в его воспоминаниях. Интересно, а он сам тоже кажется им незнакомцем?
– Спроси у него, – потребовал Вильгельм, и Отто подчинился.
– Дядя, немецкие бароны и епископы прибывают всю неделю. Хоть мы и знаем, что папы тут не будет, но надеялись, что наш брат приедет в Майнц. Ему ведь уже давно пора быть здесь. Выходит, Генрик не появится, да?
– Да, Отто, это так, – неохотно признал Ричард. – Генрик у императора покуда не в чести. Понимаете, ребята, ваш брат увел свою невесту прямо из-под носа у Генриха.
Вильгельм пришел в недоумение, зато Отто рассмеялся.
– Ты хочешь сказать, что он все-таки сумел жениться на Агнесе? Я думал, что император запретил этот брак.
– Запретить-то запретил. Да только девчушка восемнадцати лет, имеющая голову на плечах, его перехитрила.
Видя, что Вильгельм ничего не понимает, Ричард пояснил, что Генрих с детства был помолвлен с Агнесой, единственной дочерью Конрада, графом Рейнского палатината, дяди Генриха. Только его суженая, сама того не ведая, стала причиной раздора между отцом мальчишек и Гогенштауфенов.
– Генрих хотел выдать Агнесу за Людвига, герцога Баварского. Хоть она и упиралась, но со временем смирилась бы. Но потом Генрих получил предложение от французского короля. Филипп заставил своих ручных баронов и епископов признать незаконным его союз с несчастной Ингеборгой. Вы ведь про нее наслышаны?
Когда оба паренька кивнули, Ричард расхохотался: если даже дети вроде Вильгельма в курсе матримониальных дел Филиппа, ему никогда не замять скандал.
– Так вот, оказавшись снова свободен, он принялся выбирать себе новую невесту, и положил глаз на Агнесу. Не уверен, что Генрих дал бы свое согласие – ему ни к чему давать Филиппу хоть какое-то право на Палатинат. Но это брачное предложение вселило страх в мать Агнесы. Она спросила дочь, желает ли та выйти за французского короля, а та наотрез отказалась, заявив, что не выйдет за мужчину, столь бесчеловечно обошедшегося с Ингеборгой. Стоило ей признаться по секрету, что замуж она согласна идти только за Генрика, ее мать принялась действовать.
Он посмотрел на Алиенору и улыбнулся.
– Не знай я достоверно, что это не так, принял бы ее за твою родственницу, матушка, – сказал король. – Стоило ее мужу уехать, она послала весточку Генрику и пригласила его в их замок Шталек, где Генрик с Агнесой быстренько обвенчались. Конрад, узнав об этом, не обрадовался, а Генрих был просто в ярости. Но когда император потребовал от дяди признать брак незаконным, тот воспротивился, заявив, что не желает навлекать бесчестье на свою дочь.
Отто порадовался за брата, так как знал, как сильно тот хотел жениться на Агнесе. Но поежился при мысли, что Генрик стал объектом холодного беспощадного императорского гнева.
– Как думаешь, дядя, Генрих со временем смирится с этим браком? – спросил парень.
– Поначалу он решил обвинить в нем меня. – Сам Ричард рассмеялся, но Алиенора и архиепископ посерьезнели, подумав, не этот ли злосчастный союз стал причиной неожиданной задержки с освобождением. Но следующие слова короля их несколько успокоили. – Впрочем, теперь, когда Конрад встал на сторону молодых, Генрих не в силах ничего поделать. Затем он и собрал в Вюрцбурге имперский сейм – чтобы обсудить этот вопрос. Сдается мне, достаточно велик шанс, что император вынужден будет скрепя сердце принять этот брак.
Послышался тихий стук в дверь, напомнив им, что не они одни желают засвидетельствовать почтение королю. Государь кивнул Моргану, тот пересек комнату и впустил следующую группу. Ричард был рад видеть Уильяма де Сен-Мер-Эглиза, который заверил его, что и Губерт Вальтер собирался приехать, но поскольку король назначил его главным юстициаром, государственные нужды вынудили его остаться в Англии. Алиенора подозвала к себе смуглого красивого юношу лет семнадцати, представив его как Фернандо, брата Беренгарии. Когда Ричард поблагодарил его за согласие стать заложником, парень ухмыльнулся и сказал, что рад был ускользнуть из-под вечного надзора отца и старшего брата. Король не брался определить, чем вызвана такая беззаботность: молодостью или характером – Беренгария упоминала, что Фернандо у них в семье вроде шута, острит и веселится без удержу.
Ричарду было ненавистно любого обрекать на судьбу заложника в лапах у Генриха, но одно дело, когда речь шла о закаленных воинах вроде Роберта де Тернхема, только что вошедшего в палаты, или Роберта Харгрейва, одного из двадцатки, сопровождавшей его в ад и обратно. А вот видеть невинную браваду юнцов, вроде Фернандо, Отто или Вильгельма, было куда больнее. Он часто напоминал себе, что выдача заложников – это составная часть всякого договорного процесса, гарантия правильного поведения и исполнения условий, но на сердце было тяжело, потому как Генрих не признавал никакой морали.
Поздоровавшись с аббатом из Кройленда, Ричард заметил человека, прислонившегося к стене близ двери и наблюдающего за суматохой со скучающей миной зрителя рождественского представления. Протолкавшись через кольцо обступивших его людей, король остановился перед кузеном.
– С чего это ты прячешься тут в тени? – спросил он. – Ведь ты всегда первый лезешь в пролом.
Андре пожал плечами:
– Я знал, что ты ведь спросишь, с чего это меня занесло не куда-нибудь, а в Германию, да еще посреди зимы. И пытался придумать убедительный ответ.
– Если у тебя есть важная причина посетить Германию, мне будет очень любопытно услышать о ней.
Они обнялись и оба к взаимному смущению обнаружили, что на глаза навернулись слезы. Андре попытался взять курс прочь от опасных рифов эмоций в более спокойные воды сарказма, светской беседы и легкомыслия, и выдавил хрипло:
– Видишь, что бывает, когда меня нет рядом, чтобы выручить тебя из беды?
– Обещаю, что научу тебя, как будет «я ведь так и говорил» по-немецки, – заверил его Ричард, и друзья рассмеялись, снова почувствовав себя в своей тарелке.
Алиенора следовала за сыном, как всегда удивляясь мужской неспособности общаться на языке сердца. «Однажды, надеюсь, я пойму, почему сильный пол видит в чувстве злейшего врага, – сухо заметила она. – Вот только сомневаюсь, что доживу до этого момента». Королева очень обрадовалась, когда Ричард обнял ее за плечи – ей очень требовалось осязаемое доказательство его присутствия после долгих месяцев страха, что больше им уже не встретиться.
– Ричард, ты не думаешь, что брак Генрика стал причиной, по которой Генрих отложил твое освобождение?
– Не исключаю, матушка. Он мог таким образом наказать меня. А быть может, просто решил потомить еще немного. Генриху нравится причинять страдания. Не удивлюсь, если у него припасен для нас еще какой-нибудь неприятный сюрприз.
На секунду перед мысленным взором Ричарда предстал замок Трифельс и, опустив глаза на мать, он понял, что и та думает про эту мрачную тюрьму. За время разлуки королева зримо состарилась, и он подозревал, что в этих морщинах на лбу и темных мешках под глазами виноват прежде всего этот последний год. Ричард всегда восхищался ее силой, гибкостью и невероятной способностью отделять зерна от плевел. Теперь же взирал и с неким восторженным благоговением, думая о том, что пришлось ей пережить в бытность узницей у его отца, не имея надежды когда-нибудь обрести свободу. Неудивительно, что сразу после своего избавления она объявила амнистию для всех сидящих в английских тюрьмах. Алиенора заявила, что заключение пагубно для человека, а свобода влечет в высшей степени радостное обновление духа. Подумав, что в те долгие месяцы, пока он томился во власти Генриха, его мать тоже была пленницей, король обнял ее снова, очень бережно, потому что она казалась пугающе хрупкой.
Однако ему даже в голову не пришло солгать ей или успокаивать понапрасну.
– Ну, что бы ни измыслил для нас Генрих, завтра мы все узнаем, – сказал король.
* * *
Констанцию не удивило, когда Генрих сел в постели: исполнив свой супружеский долг, он никогда не оставался на ночь. Обычно ей доставляло радость видеть, как он уходит, но в этот раз императрица протянула руку и коснулась его плеча.
– Генрих, можно задать тебе вопрос? Почему ты отложил освобождение английского короля? Это вызвало при дворе большие пересуды.
– Неужели?
Он зевнул и лениво накрутил прядь ее длинных светлых волос себе на руку. По натуре Гогенштауфен был очень скрытным, но не видел причины не удовлетворить ее любопытство, раз уж завтра и так все будет известно.
– Мне требовалось время, чтобы обдумать новое предложение французского короля и графа Мортенского. Им отчаянно хочется удержать Ричарда в клетке, и они готовы щедро раскошелиться ради этого. Эти двое клянутся, что если я задержу пленника еще на восемь месяцев, до конца военной кампании, Филипп заплатит мне пятьдесят тысяч серебряных марок, а Джон – тридцать тысяч. Или же они согласны выкладывать по тысяче фунтов серебром за каждый месяц его заключения. А если я соглашусь передать узника им или оставлю у себя еще на целый год, Филипп и Джон возместят мне полную сумму выкупа за Ричарда: сто пятьдесят тысяч марок.
Констанция порадовалась темноте опочивальни, благодаря которой муж не мог увидеть ужаса и отвращения на ее лице. Уверившись, что голос ее не подведет, она сказала:
– Не могу понять. С какой стати тебе отвергать уже уплаченный английский выкуп ради обещанного когда-то в будущем?
– Да в этом вся прелесть. Я все равно получу выкуп за Ричарда, ибо после еще одного года плена он будет рад заплатить за свою свободу. И я получаю также деньги от Джона и Филиппа, которые мне нет нужды делить с Леопольдом. Как видишь, эта сделка заслуживала того, чтобы хорошенько над ней поразмыслить.
– Ну и… и что же ты решил?
– Все будет зависеть от Ричарда. Если он согласится прибавить к выкупу, все пройдет, как договорено. Если заупрямится, я всерьез задумаюсь о том, чтобы принять одно из предложений его врагов, и скорее всего, продержу его до Михайлова дня. Хотя, признаюсь, эта тысяча фунтов серебра в месяц звучит очень заманчиво.
Констанция лишилась дара речи. Ей казалось, что она знает супруга, но такой поворот ее ошарашил. Неужели он действительно думает, что английский и французский короли всего лишь пешки, которые он может по своему усмотрению передвигать по доске? Неужели император готов наплевать на то, что такое вероломство сделает его имя нарицательным для самого подлого предательства?
– Но мне казалось, что ты хотел обратить Ричарда в своего союзника.
– Ну, союзник – это слишком сильное слово. Скажем так, мы оба заинтересованы в ослаблении Филиппа. Но это обстоятельство не изменится, даже если я задержу Ричарда до Михайлова дня, ибо как ни сильна была бы его обида на меня, Филиппа он ненавидит куда сильнее. У него не будет иного выбора, кроме как выступить против Франции вместе со мной.
Констанция ничего не ответила, потому что нет пользы убеждать человека, который глух к любым нуждам, кроме своих собственных. Она знала, что рано или поздно Господь призовет его к ответу за грехи, но этот день вышнего суда может наступить через многие годы. Императрица сочувствовала английскому королю. Пусть он и признал узурпатора Танкреда, Ричард не заслуживал того, что случилось с ним в Германии. Но больше всего она переживала за свою родную страну. Ей ли было не знать, какой железной рукой будет править Генрих Сицилией. Но до сегодняшней ночи Констанция не представляла, какая тонкая грань отделяет высокомерие от безумия. Имен она не помнила, но где-то читала, что были в Древнем Риме императоры, считавшие себя богами, а не смертными. Что станется с сицилийцами, если они окажутся под властью сумасшедшего?
Констанция настолько погрузилась в свои мрачные мысли, что не заметила ухода Генриха. Долгие часы до рассвета она пролежала без сна, страшась наступающего дня, и проклинала племянника, который обрек ее на ад на земле, связав узами брака с ненавистным мужем.
* * *
Как только Ричард вошел в большой зал, его обступили люди, желающие поговорить с ним. Алиенору удивил и впечатлил столь теплый прием. Ричард определенно достиг большего, чем просто обзавелся союзниками среди мятежных баронов – у него появились и друзья. Королева уже познакомилась с Адольфом фон Альтена и Конрадом фон Виттельсбахом, архиепископом Майнцским. Как сообщил ей сын, это два самых могущественных прелата Германии, и было большим облегчением узнать, что они твердо стоят на их стороне. Ее представили герцогам Брабантскому и Лимбургскому, а также Симону, семнадцатилетнему избранному епископу Льежскому. Ей было интересно, каково молодому человеку занимать место убитого кузена и стать князем церкви в столь вопиюще юном возрасте. Но времени разговаривать с ним не было, потому как толпа расступилась, давая пройти маркизу Монферратскому.
С Бонифацием Алиенора познакомилась три года назад во время случайной встречи под Лоди с Генрихом и Констанцией, и теперь маркиз приветствовал ее как старого доброго друга. Он ей нравился, потому как королева всегда питала слабость к красивым, обаятельным мужчинам. Но сейчас для нее важнее было то, что он столь же по-приятельски поздоровался и с Ричардом. Такое его обращение напрочь рассеивало всякие остатки подозрений в причастности Ричарда к убийству Конрада Монферратского. Даже прожженный циник не поверил бы, что Бонифаций стал бы обнимать английского короля, будь у него хоть малейшее сомнение в его невиновности – новый маркиз слыл человеком куда более честным, чем его покойный брат.
Бонифаций был одним из крупнейших вассалов Генриха, поэтому Алиенора осведомилась, не известны ли ему причины задержки освобождения Ричарда. Маркиз ответил, что считает их несущественными – скорее всего перенос срока связан с имперским сеймом, только что закончившимся в Вюрцбурге. Оттуда есть добрые вести, радостно сообщил он. Император согласился одобрить брак своей кузины Агнесы с ее внуком Генриком, а также обещал вернуть Генрику свою милость. Алиенора надеялась, что это станет добрым предзнаменованием для событий грядущего дня.
Ричард разговаривал с герцогом Брабантским, тоже пребывающим в неведении о причинах отсрочки, но прервал фразу на половине и предостерегающе коснулся руки матери. Алиенора напряглась, решив, что это Генрих вошел в зал. Но на пороге появился герцог Австрийский.
Леопольд поздоровался с Ричардом с любезностью почти преувеличенной, а когда тот представил его своей матери, склонился над рукой королевы в чопорном поклоне. Алиеноре хотелось залепить ему этой рукой пощечину, но вместо этого она улыбнулась – накопленный за десятилетия опыт помогал скрывать истинные чувства. Разговор не клеился: Леопольд явно чувствовал себя неуютно, и хотя Ричард держался с ним вежливо, это было так, пока ему самому угодно. Поэтому австрийский герцог предпочел как можно скорее удалиться.
– Леопольд в скверном настроении, – сказал матери Ричард, глядя ему вслед. – Он понимает, что как только начнут искать козла отпущения, им станет Австрия, а не Германия. Леопольд не только уверен, что его отлучат, но и знает, что ему придется годами, а то и десятилетиями ждать, пока Генрих передаст ему причитающуюся от выкупа долю.
Они говорили на аквитанском наречии lenga romana. Не опасаясь, что их подслушают, Алиенора спросила, кого он винит больше: Генриха или Леопольда. Ответ сына последовал так быстро, что она поняла – он уже задумывался над этим вопросом.
– Леопольд имел законные основания для обиды, теперь я это признаю. Хотя это не оправдывает его поступка. Я дал ему шанс покончить дело по справедливости, даже предлагал выкуп. Но ему не хватило духу дать отпор Генриху, поэтому он заслуживает всех тех несчастий, которые ему предстоят. Но когда дойдет до взвешивания грехов, Леопольдовы признают простительными, а вот Генриховы – смертными.
Алиенора не успела ответить, потому что к ним подошел архиепископ Зальцбургский в сопровождении улыбающегося мужчины и двух юнцов примерно одного с Отто возраста. Прелата Ричард поприветствовал любезно, но при виде его спутников выразил такую искреннюю радость, что королева удивилась, узнав, что это Хадмар фон Кюнринг, австрийский тюремщик ее сына, а также Фридрих и Лео фон Бабенберги. Следя за приязненным разговором между ними, женщина ощутила радость при мысли, что не всегда Ричарда в плену окружала враждебность. Позабавило ее и то, что сыновья герцога явно находились под обаянием легенды о Львином Сердце – едва ли Леопольд рад этому обстоятельству. Обоих мальчиков она нашла вполне симпатичными и решила написать об этой встрече Констанции, обнадежив ее тем, что Фридрих произвел на нее хорошее первое впечатление. Хотя герцогиня Бретонская ей не очень-то нравилась, Алиенора отправила на чужбину слишком много собственных дочерей, чтобы остаться совсем безразличной к переживаниям Констанции по поводу Эноры.
Атмосфера в зале была столь дружественной, что королеву убаюкало обманчивое чувство безопасности, как будто она присутствовала на каком-то обычном придворном приеме. Все изменилось с ревом труб, возвестивших о приходе императора Священной Римской империи. Как только Генрих вошел в зал, Алиенора ощутила, как в помещении заметно похолодало. Но когда Ричард вывел ее вперед, почтила Гогенштауфена улыбкой, в которой не было ни намека на ее желание видеть его истекающим кровью у ее ног на застеленном сеном полу. Император ответил ей со слегка настороженной любезностью, поскольку по встрече в Лоди уже знал ей цену. Его супруга вошла следом, и Алиенора почувствовала острый приступ жалости к Констанции д’Отвиль. При знакомстве в Лоди они угадали друг в друге родственные души: птицы с подрезанными крыльями в мире, где только мужчинам дозволяется парить. Алиенора ощущала несчастье и понимала несчастье этой женщины как немногие, потому что сама некогда прошла по тропе, на которую ныне судьба завела Констанцию. В Лоди она пряталась за толстой броней подобающего сану императрицы ледяного высокомерия; теперь этот доспех пошел трещинами, различимыми только для острого глаза английской королевы. Встретившись взглядом с женой Генриха, Алиенора вдруг поняла, что им с Ричардом расставлена ловушка.
Когда Генрих повернулся к помосту и положил руку на плечо Констанции, вынуждая следовать за ним, словно против ее воли, Алиенора потянула сына за рукав, привлекая его внимание. Но предупреждение было излишним. Ричард смотрел на нескольких человек, только что вошедших в зал, и королева находилась достаточно близко, чтобы почувствовать его реакцию: Ричард поджал губы, на скулах у него заходили желваки.
– Видишь вон того щеголя в зеленой шапке, матушка? – спросил он. – Это Робер де Нонан, брат епископа Ковентрийского.
Этих слов было вполне достаточно: хотя Алиенора не знала брата Нонана лично, ей было известно, что это преданный сторонник ее сына Джона. Она тешила себя надеждой, что даже если Генрих замышляет подлость, в нее не окажется вовлеченным Джон. Хотя ей слишком часто приходилось видеть, как ее сыновья обращаются друг против друга, подражая братской «любви» между Каином и Авелем, последнее предательство Джона оказалось самым болезненным, потому как на кону теперь стояли не только земли или короны. Если Джон и Филипп победят, Ричард умрет во французской тюрьме, будучи обречен терпеть адские муки до последнего своего вздоха.
Усевшись на помосте – Констанция расположилась рядом, застыв словно каменная – Генрих кивком подозвал сначала Ричарда, а затем Робера де Нонана и его спутников. Те медленно двинулись вперед, и проходя мимо английского короля, бросали на него враждебные взгляды. Когда Ричард и Алиенора тоже подошли к возвышению, император поднял руку, взывая к тишине.
– Сегодняшний день должен был стать днем, когда мой дорогой друг, король англичан, обретет свободу. Но произошло кое-что непредвиденное. Французский король и граф Мортенский предложили большую сумму, если его заточение продлится по меньшей мере до Михайлова дня, а если король будет передан им, обещают заплатить нам полную сумму выкупа за него. Следуя личным своим симпатиям к королю Ричарду, я бы с ходу отверг эти предложения. Но увы, я вынужден действовать как император, а не как друг. Я обязан рассматривать любую возможность пополнить казну империи и обеспечить наш поход, призванный добыть корону Сицилии для моей возлюбленной супруги.
Ричард был ошеломлен. Даже в худшие минуты он не допускал, что Генрих осмелится нарушить договор в Вормсе, исполнять который поклялся своей бессмертной душой, под которым поставил печать во имя Святой Троицы и поручителями коего выступили крупнейшие вассалы и клирики империи. Он почувствовал, как ладонь матери сжала его плечо, ее пальцы стиснули его мускулы: хотя Алиенора не понимала латыни, зато хорошо знала язык тела своего сына. Повисшая в зале тишина была неестественной, полной – остальные присутствующие были потрясены не меньше Генриха.
А тот, похоже, упивался собой.
– Я желаю, чтобы все происходило открыто, без секретов. А потому прошу английского короля лично прочитать предложение, дабы у него не возникало сомнений в его содержании.
Он щелкнул пальцами, и когда ему в руку поместили развернутые свитки, с улыбкой передал их Ричарду.
Король механически взял пергаменты. Пока его глаза пробегали по строчкам, архиепископ Руанский наскоро переводил речь Генриха Алиеноре. Письма действительно были от Филиппа и Джона, и пока Ричард читал, что в них предлагалось, и прикидывал, как эти предложения отразятся на его судьбе, оцепенение уступало в нем место отчаянию и кровожадной ярости.
Смяв письма в кулаке, он швырнул их на пол, под ноги Генриху. Но прежде, чем он успел заговорить, мать зашептала ему на ухо:
– Постой, Ричард! Подожди! – Она стискивала ему руку с такой силой, что ей удалось оттянуть его назад от помоста. – Оглянись! – Голос ее дрожал, но в глазах сверкал зеленый огонь. – Посмотри!
Он повиновался и сразу понял, что имела королева в виду. Почти все до единого немцы в зале смотрели на Генриха так, будто тот вдруг признался, что он Антихрист. Не было пока сказано ни единого слова, но выражение ужаса и отвращения на лицах не оставляло сомнений, что эти люди думают о припасенном напоследок сюрпризе своего императора.
– Пусть сначала выскажутся они, – прошипела Алиенора. – Дай немцам разобраться самим.
– Государь император! – Новоизбранный архиепископ Кельнский подошел к возвышению. Адольф был примерно сверстником Ричарду, мужчина в расцвете сил. И даже будучи князем церкви, сейчас он напоминал скорее солдата, вооружившегося для битвы со злом. – Прежде чем будут приняты какие-либо решения, мы должны обсудить с тобой это дело.
Генрих на дух не переносил Адольфа фон Альтена, и на краткий миг это чувство отразилось не его лице.
– Я не вижу такой необходимости, господин архиепископ.
– А я вижу. – Это заявление прозвучало из уст архиепископа Майнцского, который выступил и встал рядом с Адольфом.
– И я тоже, – громко произнес Леопольд и присоединился к прелатам.
За ним следовали потрясенные сыновья и архиепископ Зальцбургский. К этому времени все недавние мятежники-бароны влили свои голоса в нарастающий хор протестов. Когда собственный дядя Генриха, граф Рейнского палатината Конрад тоже поддержал возражающих, император неохотно уступил и согласился встретиться с ними через час в доме каноников при соборе.
Прилив чистой, неразбавленной злости прошел, и Ричард снова овладел своими эмоциями.
– Это постыдное предложение, трусливое и презренное. Оно сделано отчаявшимися людьми, которым не хватает духу выступить против меня на поле боя. Как понимаю, мне нет нужды напоминать собравшимся в этом зале, что мой малодушный братец так и не принял крест, а французский король порушил священный обет, а затем злоумышлял против меня, пока я сражался за Христа в Святой земле. Впрочем, у меня нет сомнений, что мой дорогой друг император никогда не совершит ничего, что нанесет урон его чести и чести империи.
Последнее слово осталось за Ричардом. Генрих встал и вышел из зала, и только порывистость походки выдавала его гнев. Министериалы потянулись за ним. Забытая в кутерьме, Констанция устало откинулась на спинку кресла и закрыла глаза, благодаря Бога за то, что Генрих наконец-то перегнул палку. Проходя мимо, немецкие бароны и клирики, кипя от возмущения, заверяли Ричарда, что это предложение никогда не пройдет, а затем спешили вслед императору. Наконец зал опустел за исключением англичан и приставленной к Ричарду стражи.
Епископ Батский суетился, он потел и божился, что не знал и не ведал про этот умысел, но никто не обращал на него ни малейшего внимания. Лоншан заявил, что намерен посетить этим вечером заседание сейма и выступить в поддержку своего короля, и Ричард не сомневался – этот своего добьется. Встревоженный бледностью бабушки, Отто помчался разыскать для нее вина. Саварик наконец перестал оправдываться, усмиренный сердитым взглядом Ричарда. Андре протолкался через толпу и встал рядом с Ричардом, но ему хватило ума понять, что никакие слова не успокоят сейчас его кузена. Со временем остальные тоже поняли это, и на некоторое время все умолкли.
* * *
День тянулся медленно, как будто само время оцепенело от предательства германского императора. С наступлением темноты часть из набившихся в палаты Ричарда людей отправилась в город на поиски ужина и ночлега, но у матери и друзей пленника аппетита было не больше, чем у него самого. После ухода из большого зала Ричард едва ли произнес хоть одно слово. Он или сидел, ссутулившись, на оконном сиденье, или расхаживал по комнате. До него можно было дотянуться рукой, но Алиенора ощущала, как расстояние между ними увеличивается с каждым медленно тянущимся часом, поскольку сын не желал делиться с ней внутренними своими терзаниями. Он обмолвился только, что еще одного года в тюрьме у Генриха не выдержит, и что испугало ее, так это явная серьезность этого заявления. Андре и те, кто вместе с королем пережили кораблекрушение, бегство и плен, тоже восприняли это так: по крайней мере, только так могла Алиенора истолковать их помрачневшие лица и угрюмое молчание. Она сомневалась, что кто-то из них сможет помочь ей укрепить дух сына, если дело примет скверный оборот. Они, эти слепые рабы мужского кодекса чести, охотно отдадут за него жизнь, но в более тонком деле они не помощники. Алиенора всегда удивлялась, что дважды побывав замужем и вырастив четырех сыновей, она так и не смогла постичь загадочное устройство мужского ума.
К вечерне прозвонили уже несколько часов назад. Отто неохотно ушел, когда стало ясно, что его маленький брат не в силах больше бодрствовать. Фернандо забавлялся некоторое время, играя с попугаем Ричарда, но наконец тоже отправился в кровать. Из клириков остался только архиепископ Руанский, а большинство из рыцарей последовало за Гуго ле Брюном, когда тот заявил, что намерен найти таверну, девчонку и напиться вдрызг. Морган, с присущей валлийцам предприимчивостью, исчез на время и вернулся со слугой, нагруженным кувшинами с вином и немецким элем. Ричард осушил два кувшина, но все равно казался Алиеноре пугающе трезвым. Ей подумалось, что во многих отношениях ее сын очень похож на своего отца. Королева пыталась припомнить хотя бы один раз за долгие годы ее брака, когда Генрих был бы во хмелю, и в этот миг дверь отворилась, и в комнату ввалился Лоншан.
Вид у него был такой усталый, что даже архиепископ Руанский, не любивший канцлера, решил подвести его к стулу. Лоншан ощетинился и отстранился, слишком гордый, чтобы принять помощь врага.
– Никакого решения не принято, сир, – выдавил он. – Жадность застила Генриху глаза и он не способен узреть правду: Филипп и Джон никогда не соберут столько денег, сколько обещают. Я указал на то, что годовой доход Франции вдвое меньше английского, а все имеющиеся у Филиппа деньги нужны ему на кампанию в Нормандии. И напомнил императору, что все богатые имения Джона в Англии конфискованы, и он и гроша не вложит в качестве своей доли от этой отвратительной сделки.
– И он прислушался к тебе, Гийом? – спросил Ричард, переходя прямо к сути.
– Думаю, я зародил в нем зерно сомнения, сир. Но его упрямство под стать его заносчивости, и я опасаюсь, что для него это уже больше дело принципа, чем денег. Но тут он одинок. Все прочие: три архиепископа, епископы Вормса и Шпейера, герцоги Брабантский и Лимбургский, маркиз Монферратский, даже Леопольд и собственный дядя Генриха и его братья настаивают на исполнении принятых им на себя в июне в Вормсе обязательств. Сдается мне, его братья просто наслаждаются редкой возможностью посмотреть, как он изворачивается, но остальные воистину взбешены. В его пользу выступил один только граф Дитрих, но поскольку все уверены, что у того на руках кровь убитого епископа, его слова не произвели на совет никакого впечатления. Архиепископ Адольф яростно напал на Генриха, и впервые в жизни я наблюдал, как это бескровное пресмыкающееся выказало настоящую ярость. Архиепископ бесстрашно заявил ему, что «империя и без того пострадала от недостойного заключения благороднейшего из королей», и предупредил Генриха, что этим новым поступком тот навсегда запятнает репутацию страны.
Впервые со времени утреннего предательства Ричард улыбнулся.
– Дорого бы я дал, чтобы видеть это. Адольф фон Альтена – хороший человек, он стоит сотни таких, как Генрих. Но как думаешь, возьмут ли несогласные верх?
– Не уверен, – признался канцлер после долгих колебаний. – Когда все уходили спать, Генрих продолжал возражать. Императоры привыкли, чтобы все выходило по их воле, и не одобряют противоречия со стороны нижестоящих. Но совет проявляет не меньшую твердость. Поутру мы продолжим заседать. Пока же сказать мне больше нечего.
– В таком случае, тебе лучше поспать, – сказал Ричард. – Ведь впереди у тебя еще один трудный день. У всех у нас, – добавил он, посмотрев на мать, вид у которой был не менее изможденный, чем у канцлера.
Алиенора не стала спорить. Встав, она пересекла комнату, поцеловала сына и пожелала ему добрых снов, после чего отправилась в собственные палаты. Вот только спала она той ночью плохо. Как и все их соратники.
* * *
Следующий день стал днем ожидания. Алиеноре было бы легче, если бы Ричард топал ногами и ругался. Его молчание казалось одновременно неестественным и тревожным. Она начала понимать, что на его долю выпала борьба, от которой судьба ее уберегла – схватка с глубоким чувством стыда. У нее было шестнадцать долгих лет на размышления о последствиях своих поступков. Королева страдала от сожалений, угрызений совести, даже вины за ту роль, которую ей довелось сыграть в отчуждении между ее мужем и сыновьями. Но ей никогда не пришлось корить себя за необходимость принять то, что нельзя изменить и с чем нельзя бороться.
Видя устремленный в никуда печальный взгляд Ричарда, Алиенора подавила вздох. Мужчины и женщины, похоже, живут в двух разных мирах – настолько по-разному смотрят они на вещи. Быть может, причина в том, что женщины с колыбели привыкают к ограничению своей свободы, отсутствию независимости? Даже королева обязана подчиняться мужу, и осмелившуюся восстать ждет скорое и суровое наказание. Безвластие – вот естественный удел большинства женщин. Зато для знатного мужчины, особенно такого, как ее сын, это состояние нестерпимо и позорно. Такую рану исцелить тяжелее, чем телесный недуг. Но она поклялась, что найдет способ, если только им удастся переиграть это чудовище на германском троне.
Лоншан возвратился только под вечер. Его сопровождали архиепископ Руанский, участвовавший во втором дне работы совета, а также архиепископ Кельнский. Именно последний взял слово.
– Дело сделано, – сообщил он с улыбкой. – Генрих согласился исполнять условия договора в Вормсе и…
То, что Адольф хотел сказать еще, утонуло в криках и смехе собравшихся в палатах людей. Ричард не смеялся, но когда он встал и подошел к вестникам, на губах его сияла улыбка.
– Спасибо тебе, – только и сказал он, потому как знал, что если есть человек, который позволил этому свершиться, то это Адольф фон Альтена.
Мысли Ричарда озвучил Лоншан.
– Главная заслуга принадлежит архиепископу. Он не позволил себя запугать и был красноречив как ангел.
– Скорее как законник, – с усмешкой заметил Адольф. – Я напомнил императору, что если Вормское соглашение можно с такой легкостью преступить, то так можно поступить и с другими договорами. В том числе и с подписанным в Кобленце, где был положен конец мятежу.
Ричард посерьезнел.
– Я благодарен тебе так, что не могу найти слов. Но сегодня ты нажил врага на всю жизнь.
Улыбка Адольфа не дрогнула.
– Я придерживаюсь мнения, что Господь судит нас по нашим врагам. И когда наступит Судный день, я с гордостью назову своих.
Он сделал паузу и извинился перед Алиенорой, что не успел поздороваться с ней. А затем продолжил:
– Мы не могли уступить в этом, потому что на кону стояла репутация всей империи. Думаю, Генрих в конце концов понял это. А еще нам помогла его одержимость Сицилией. Не знаю, дошел ли до тебя слух, но говорят, что сицилийский король занедужил с самого Рождества. Генрих сгорает от желания начать войну, и поэтому решил отступить и сохранить остатки своей полинявшей гордыни.
Ричард знал, что к этому придет:
– И какую цену предстоит мне заплатить в угоду спасения этой гордыни?
Его не порадовало, когда трое вестников переглянулись перед тем как ответить.
– Император требует дополнительных заложников, – сказал Лоншан. – Которых будет удерживать до тех пор, пока ему не уплатят десять тысяч марок. И он настаивает, что среди них должен быть архиепископ Руанский.
Ричард нахмурился и заверил прелата, что соберет выкуп сразу, как только вернется в Англию. Вглядываясь в лица своих соратников, он подметил, что архиепископ и канцлер не так безмятежно радуются победе, как Адольф.
– Чего еще он хочет? О чем вы еще не сообщили мне?
Лоншан попытался было заговорить, но не смог. Архиепископ Руанский хранил молчание, избегая встречаться с королем взглядом. Поняв, что остается только он, Адольф произнес мрачно:
– Тебе это не понравится, милорд Ричард. Генрих поклялся, что не отпустит тебя до тех пор, пока ты не принесешь ему оммаж за Английское королевство и свои владения во Франции.
В комнате послышался рев – это рыцари Ричарда разразились гневными и негодующими возгласами. Но голос короля перекрыл шум.
– На это я никогда не соглашусь! – рявкнул он. – Никогда!
Все находившиеся в палате, за исключением трех прелатов, немедленно поддержали этот клич. Гнев, который Ричард сдерживал минувшие два дня, теперь выплеснулся лавой ругательств и угроз, таких яростных, что сам воздух в помещении, как казалось, стал жарче. Алиенора наблюдала слишком много вспышек анжуйского темперамента, чтобы впечатлиться этой, и поэтому спокойно дождалась момента, когда ее сын остановится, чтобы перевести дух.
– Я переговорю с королем наедине, – сказала она.
Ричард резко развернулся в ее сторону, отрицательно качая головой, но она рассчитывала, что он не станет возражать ей прилюдно, и оказалась права. Когда присутствующие потянулись к выходу, королева попросила канцлера и двух архиепископов остаться, а также сделала знак Андре, хотя судя по его собственной гневной реакции на особую помощь от него надеяться не приходилось.
– Я не соглашусь на это, какие доводы ты не приводи! – резким тоном, который никогда не позволял себе в разговорах с ней, сказал Ричард как только дверь закрылась. – Стать вассалом этого подлого сучонка? Да скорее лед загорится, а пламя замерзнет!
– Ричард, это не имеет никакого значения…
– Не для меня!
– Ты сделаешь это по принуждению, а церковь не признает законными такие клятвы. Не так ли, господа?
Она обращалась к прелатам, и те подтвердили, что таков канонический закон и заверили Ричарда, что принесенный при таких обстоятельствах оммаж не свяжет его никакими обязательствами.
Король снова покачал головой.
– Ну как вы не понимаете? – с укором спросил он, переводя взгляд с церковников на мать. – Если я соглашусь на это, мои подданные перестанут меня уважать. Да и сам себя я уважать не смогу.
– Ричард, есть одна вещь, которой ты можешь не бояться потерять – это уважение твоих подданных, – нетерпеливо заявила Алиенора. – Стоит тебе попросить, и они пойдут за тобой в ад и обратно.
– Тебе не понять. Женщины никогда этого не поймут.
– Может быть. Но неужели ты готов пожертвовать всем, чтобы защитить свою гордость?
– Тут не в гордости дело. Это вопрос чести.
– Ты не запятнаешь честь, сделав это. Ты совершишь поступок, достойный короля. – Она подошла ближе и посмотрела ему в глаза: – Подумай, что произойдет, если ты отвергнешь требование Генриха. В лучшем случае он продолжит удерживать тебя в плену в расчете выбить из тебя согласие. Но он не только беспринципен, Ричард. Он невменяем. Ни один разумный человек не повел бы себя так бессовестно, не совершал бы свои преступления столь неприкрыто. Он опьянен собственной гордыней, и если ты не дашь ему сохранить лицо, то невозможно даже предположить, что Генрих выкинет.
Не дав Ричарду шанса ответить, Алиенора оглянулась на Адольфа:
– Можешь ли ты с уверенностью утверждать, милорд архиепископ, что Генрих не вздумает отвергнуть решение сейма и передаст моего сына французам?
– Разумеется не могу, госпожа. Я согласен с твоей оценкой императора. Этот человек опасно непредсказуем. Его стремлением выбить из короля Ричарда еще больше денег руководила алчность. Но трудно предположить, на что может он пойти, если не дать ему шанса сохранить лицо.
Алиенора положила ладонь на руку Ричарду.
– Подумай, на что обречешь ты свое королевство и норманнские области, если не сможешь вернуться, чтобы защищать их. Филипп неизбежно поглотит Нормандию. Затем наступит черед Анжу, а быть может даже Пуату. От империи твоего отца вскоре останется одно воспоминание.
Ричард смотрел на нее и молчал. Он никому не рассказывал о том странном сне в Трифельсе, когда слышал во тьме камеры знакомый хрипловатый голос: «Сохрани мою империю. Не позволь труду всей моей жизни развеяться по ветру».
Алиенору ободрило хотя бы то, что сын вроде как внемлет ей.
– Нам обоим известно, что Джон не сможет с успехом противостоять французам. Он не трус, но редко обагряет меч кровью и так и не снискал себе репутации на поле брани. Не исключено, что он вовсе не станет драться за Нормандию, ограничившись островным королевством. А что, как ты думаешь, будет это означать для англичан? Король, который не заслуживает уважения – это король, которому никто не станет подчиняться. Разбойники будут смеяться над Королевским миром, местные феодалы погрязнут в междоусобных войнах, как это было во время правления Стефана. Помнишь, как описывают ту эпоху в хрониках, Ричард? Ее называют временем, «когда Господь и все его святые спали».
Ричард попытался высвободиться, но не мог вырваться из ее хватки, не причинив ей боли.
– Ты требуешь от меня слишком многого, матушка.
– Не мне предъявлять тебе требования, дорогой мой сын. Ты ведь был помазан священным елеем в день своей коронации. Ты наместник Божий на земле, ты клялся защищать церковь, вершить справедливость и выказывать милость народу Англии. – Упоминание о данной во время коронации клятве наводило на мысль о другом священном обете, который он дал, и Алиенора бесцеремонно воспользовалась этим фактом, хотя горячо надеялась, что на деле ему этот обет исполнять не придется. – Есть еще кое-что, что ты обязан иметь в виду. Твой канцлер обмолвился, что ты обещал вернуться в Святую землю и отвоевать Иерусалим. Ты сумеешь выполнить обещание, только если обретешь свободу и восстановишь мир в Анжуйской империи.
Ричарду нечего было возразить матери, и он с мольбой посмотрел на кузена.
– Ради Бога, Андре, объясни ей, почему я не могу сделать это.
Вид у де Шовиньи был потерянный.
– Я не могу, Ричард… Я понимаю, что ты чувствуешь, потому что чувствую это сам. Но твоя мать убедила меня. У тебя нет выбора.
Архиепископ Кельнский счел, что настало время вмешаться.
– Королева Алиенора весьма красноречиво изложила все доводы, и я прошу тебя прислушаться к ним, милорд король. Уверяю тебя, что принесенный по принуждению оммаж ничем тебя не свяжет. Генрих не получит от него никакой выгоды. В отличие от тебя.
– Что ты имеешь в виду?
– То, что в стремлении сохранить лицо Генрих слеп к последствиям своего требования. Едва принеся ему оммаж, ты становишься самым могущественным и знатным вассалом империи. Вообрази, что произойдет в случае скоропостижной смерти Генриха. Сына у него нет, и даже если бы был, корона передается по праву избрания, а не наследования. Во время выборов следующего императора Священной Римской империи ты получишь право голоса, и твое мнение способно повлиять на других. Не исключено, что тебе могут и корону предложить, – добавил Адольф и усмехнулся. – Теперь у Генриха будет мысль, которая не даст заснуть ему ночью!
Ричард еще не был готов увидеть иронию в этой ситуации. Пока он мог думать только о том, через что ему предстоит пройти завтра: опуститься на колено и принести клятву верности и чести человеку, которого он презирает, которому желает смерти. Отвернувшись, король сел на ближайший стул и его сгорбившиеся плечи подсказали Алиеноре, что она победила. Его страдания разрывали ей сердце, но свобода сына значила больше. Королева надеялась, что со временем он тоже это поймет. И даже если нет, жалеть не стоит. Нет ничего, на что она не пошла бы с целью вырвать Ричарда из лап Генриха. Ничего.
* * *
Существует широко распространенное поверье, что древнеегипетские астрологи отметили определенные дни как неудачные, в которые нельзя начинать новое дело или позволять лекарям отворять кровь. Четвертое февраля было одним из таких неблагополучных египетских чисел, но для Алиеноры то был благословенный день, потому как в третьем часу после восхода солнца ее сын обрел свободу. Она была удивлена и смущена, ударившись в слезы, когда это наконец свершилось. Но присутствующие были очень тронуты видом рыдающей от счастья престарелой матери в объятьях Львиного Сердца, а Генрих счел ловким маневром с целью склонить общественное мнение в пользу Ричарда. Проснулся император в прескверном настроении, потому что даже принесение Ричардом оммажа не избавило от горького привкуса поражения. Его слегка развеселил Марквард фон Аннвейлер, сказав, как разъярен будет французский король, узнав, что Ричард принес императору вассальную клятву за Нормандию и Анжу. При мысли о том, что он теперь стал сюзереном английского короля, на устах Генриха заиграла улыбка.
Алиеноре от этой улыбки стало дурно: хотя на лице у Ричарда ничего не отражалось, она знала, что эта издевка Генриха многие годы не сотрется у него из памяти. Церемония была формальной, расписанной заранее. Ричард преклонил колено и поклялся императору в верности и преданности. Затем вручил Генриху кожаную шапку как символ своего вассалитета. Генрих торжественно принял шапку, а затем возвратил ее Ричарду вместе с тяжелым золотым крестом в обмен на обещание ежегодной уплаты пяти тысяч марок. Алиенора знала, что из этой суммы Генрих не увидит и фартинга. Оглядывая зал, она заметила, что немецкие союзники рады видеть прославленного короля вассалом Священной Римской империи, а вот вассалы самого Ричарда выглядели так, будто наблюдали за казнью на виселице. Королева утешала себя тем, что худшее теперь позади, хотя прощание с заложниками обещало быть болезненным.
После принесения оммажа Генриху, настал черед Ричарда принять оммаж от одиннадцати немецких баронов и прелатов взамен на денежные бенефиции: ежегодные выплаты с доходов английских и нормандских маноров. Он сказал Алиеноре, что устроил союз с целью окружить и отрезать французского короля, а также чтобы вознаградить людей, оказавших ценную помощь в его освобождении. Но королева не осознавала всего значения этой коалиции, пока не увидела, как много выдающихся и влиятельных мужей вошло в лигу, образованную Ричардом против Филиппа. Тут были архиепископы Кельнский и Майнцский, избранный епископ Льежский, герцоги Брабантский и Лимбургский, граф Голландский, маркиз Монферратский, а также яркий образчик циничного (или реалистичного) политика Балдуин, старший сын графа Фландрии и Эно, в прошлом преданный союзник французского монарха. Даже Леопольд Австрийский и дядя Генриха Конрад, граф Рейнского палатината, и его брат герцог Швабский принесли Ричарду оммаж за английские фьефы.
Алиенора внимательно наблюдала за императором. Если Генрих и был обеспокоен количеством своих вассалов и родичей, клявшихся в преданности английскому королю, то вида не подал. Не стоило забывать, что эти клятвы давались при условии salva fidelitate imperatoris — соблюдения верности императору. Для Алиеноры это действо стало свидетельством того, что франко-германский союз, выкованный отцом Генриха Фридрихом Барбароссой безнадежно и окончательно похоронен, и она взирала на то, как ее сын принимает оммаж у своих новых вассалов в приливе материнской гордости – Ричард сумел достичь такого дипломатического успеха, будучи пленником!
Первым шагом Ричарда в качестве свободного человека стало важное поручение, данное Со де Брейлю, одному из своих вассалов. Ему предстояло отправиться в Святую землю и заверить Генриха Шампанского, племянника Ричарда, что король вернется в Утремер и исполнит свой обет, как только отомстит врагам и восстановит мир в своих доменах. В награду за услугу король пожаловал Со де Брейлю земельный надел стоимостью в сорок фунтов.
Вторым делом он вызвал к себе епископа Батского и потребовал, чтобы тот вошел в число затребованных императором дополнительных заложников. Саварик заявил, что почтет это за честь, поскольку ему очень хотелось убедить короля в своей непричастности к вероломному поступку Генриха. А вот с братом епископа Ковентрийского все прошло не так гладко. В отличие от более хитрых спутников, Робер де Нонан не старался держаться в тени. Напротив, он словно привлекал к себе внимание и расхаживал по залу, задевая рыцарей Ричарда. И наконец попался ему самому на глаза.
На зов государя де Нонан явился не сразу, и почтил короля быстрым поклоном, неохотно признавая его ранг. Некоторое время государь молча смотрел на него.
– Ты счастливчик, сэр Роберт, – произнес он наконец ледяным тоном. – Я намерен дать тебе шанс исправиться. Я прощу тебе твое предательство, если ты согласишься стать одним из заложников.
Приближенным Ричарда это не понравилось, они явно не считали такого негодяя достойным милости. Но к их удивлению, Нонан не выказал благодарности за такое снисхождение.
– Я не стану заложником за тебя, – заявил он, с вызовом глядя на Ричарда. – Мой сюзерен – граф Мортенский, и я служу только ему.
Глаза Ричарда сверкнули.
– Как пожелаешь, – сказал король. Потом обернулся и кивнул кузену. – Арестуй этого человека за измену.
– С превеликим удовольствием, монсеньор, – отозвался Андре.
Его рыцари без особой деликатности выволокли Нонана из зала, под хлопки и насмешки людей Ричарда. Лоншан с наслаждением наблюдал за этой сценой, надеясь, что вскоре и епископа Ковентрийского постигнет та же судьба.
* * *
Констанция искала Алиенору с целью сказать, что Генрих не уважил ее просьбу о совместном содержании Отто и Вильгельма. Отто останется при императорском дворе, тогда как Вильгельма включили в число семи заложников Леопольда, которые поедут вместе с австрийским герцогом в Вену. Алиенора была благодарна за предупреждение – теперь можно будет известить Отто, и внуки не будут захвачены врасплох. Ричард подарил Вильгельму своего попугая, к великой радости мальчика, и бабушка надеялась, что диковинная птица послужит малышу утешением, когда его разлучат с братом. Отто принял новость с присущим ему стоицизмом, а Балдуин де Бетюн, которому тоже предстояло ехать с Леопольдом, обещал приглядеть за Вильгельмом. Алиенора злилась на Генриха, но поделать ничего не могла.
Распрощавшись с заложниками и с Констанцией, надолго задержавшейся в зале после ухода мужа, Ричард помедлил в дверях, наслаждаясь моментом – теперь за ним не следовала немецкая стража. Глянув через плечо, он перешел с французского на более безопасный lenga romana:
– У меня такое ощущение, что мы оставляем тут еще одну заложницу.
Посмотрев на Констанцию, Алиенора согласилась с сыном.
На внутреннем дворе было людно, поскольку сопровождавшая их свита была огромной: фрейлины Алиеноры, рыцари Ричарда, воины, лорды, епископы и аббаты, приехавшие вместе с королевой из Англии, а также приближенные архиепископа Кельнского и герцога Брабантского. Эти двое намеревались пересечь вместе с Ричардом Германию, поскольку не слишком верили в охранную грамоту, выданную Генрихом.
Алиенора старалась предугадать все желания сына. Она отказалась от плавания по реке, уверенная, что после долгого заточения Ричард захочет поехать верхом; нашла коней для мужчин, конные носилки для себя и своих женщин, сыну же приобрела резвого серого скакуна, при виде которого у короля лицо озарилось улыбкой. Хотя в последние месяцы узник мог позволить себе хорошую одежду, мать позаботилась обеспечить его достойным монарха гардеробом. И заверила, что английские корабли будут ждать их прибытия в Антверпене.
Но вот кое о чем мать запамятовала, а это Ричарду требовалось как воздух. Зато Андре не забыл, и пока Ричард стоял рядом с новым конем и нашептывал ему ласковые слова, чтобы подружиться с питомцем прежде, чем сесть в седло, кузен подошел, держа в руках большой холщовый мешок.
– Думаю, тебе это пригодится, – сказал он, открывая мешок, из которого показались ножны из испанской кожи.
Забросив за спину полу плаща, Ричард застегнул пояс, а затем вытащил меч из ножен. Он с первого взгляда понял, что его выковал превосходный оружейник: тридцатидюймовый клинок и покрытый эмалью эфес напомнили ему меч, врученный матерью во время его инвеституры герцогом Аквитанским в пятнадцать лет. Он восхищался его сбалансированностью, взглядом любовника ласкал тонкое стальное лезвие. Глядя на кузена, де Шовиньи подумал, что наконец-то видит перед собой прежнего Ричарда.
– Андре, знаешь, сколько времени прошло, с тех пор как я в последний раз держал в руках меч?
Рыцарь покачал головой.
– Один год шесть недель и три дня.
На миг их взгляды встретились, затем Ричард вложил меч в ножны, взобрался в седло и дал приказ трогаться в путь.
* * *
Немецкие союзники превратили возвращение Ричарда домой в триумфальное шествие. Король и Алиенора три дня гостили у архиепископа в Кельне, где их угощали шикарными пирами и услаждали их слух пением лучших в Германии миннезингеров. Четырнадцатого февраля они побывали на мессе в большом соборе. Английские хронисты злорадно отмечали, что архиепископ намеренно выбрал службу, совершаемую в августе в день Св. Петра в Цепях, вступительный гимн к которой начинается со слов: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода»[25]. Реакция на это германского императора историкам неизвестна.
Ричард отблагодарил Кельн, издав указ, освобождающий тамошних купцов от уплаты аренды за их торговое подворье в Лондоне и от прочих местных сборов и дарующий им право продавать свои товары на всех английских ярмарках и следовать собственным обычаям. Поскольку Англия была крупнейшим поставщиком шерсти в город на Рейне и главным рынком сбыта для кельнских тканей, вин и предметов роскоши, эти привилегии были встречены с восторгом. Архиепископа восхваляли за союз с английским королем. И хотя тогда об этом еще никто не догадывался, в последующие годы их дружба принесет выгоду даже еще большую.
Выехав из Кельна, путешественники оказались во владениях герцога Брабантского, и снова находили радушный прием в каждом городе и в каждом замке. В конце февраля они прибыли в принадлежащий герцогу порт Антверпен. Здесь стояли на якорях английские корабли. Распрощавшись с герцогом и Адольфом, Ричард пять дней провел на реке Звин. Погода была неблагоприятной, и король воспользовался задержкой, чтобы разведать воды устья и бухточки на островках: он проявлял живой интерес к морскому делу и был уверен, что если франко-фламандское вторжение состоится, вражеский флот отплывет именно отсюда. Ветер наконец сменился на попутный, и двенадцатого марта корабли распустили паруса, подняли якоря и взяли курс на Пролив. На следующий день они достигли порта Сэндвич. Минуло четыре года с тех пор, как нога Ричарда в последний раз ступала на английскую землю.
О дальнейших событиях читатель узнает из книги
«Последний рубеж».
Примечания
1
Древнее название Гибралтарского пролива. – Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Арн отмеряет время по световым часам дня, тогда как Ричард по привычному нам исчислению.
(обратно)3
Брэ и шоссы – некое подобие подштанников и штанов в Средневековой Европе.
(обратно)4
Кто это? (нем.)
(обратно)5
Малик-Рик – прозвище, данное сарацинами Ричарду.
(обратно)6
Притчи, 16:18.
(обратно)7
Послание к Галатам, 6:7.
(обратно)8
«Истина в вине» (лат.).
(обратно)9
Ораторий – в католической церкви так называется молитвенное помещение, в которое доступ открыт лишь определенным лицам, в отличие от открытых всем верующим церквей.
(обратно)10
Средневековая настольная игра, прообраз шашек.
(обратно)11
Премонстранты – члены средневекового монашеского ордена, основанного в 1120 г. святым Норбертом Ксантенским в аббатстве Премонтре.
(обратно)12
«Большое спасибо» (нем.).
(обратно)13
Должностное лицо в средневековых немецких городах, на которое возлагалась административная, военная и судебная власть.
(обратно)14
В католическом богословии к главным (смертным) грехам относятся: гордыня (тщеславие), алчность, зависть, гнев, похоть, чревоугодие, лень или уныние.
(обратно)15
Квинтин – столб для рыцарских упражнений с копьем.
(обратно)16
«Совершенными» (лат.).
(обратно)17
Отсылка к «Песни песней» Соломоновых, 2; 15: «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете».
(обратно)18
Евангелие от Матфея 7: 15.
(обратно)19
Иеремия 14:15.
(обратно)20
Псалмы 36:35.
(обратно)21
Доброй удачи! (лат.).
(обратно)22
Любовь побеждает все (лат.) – строка из «Буколик» римского поэта Вергилия.
(обратно)23
Консуммация (от. лат. consummatio – довершение) – термин, употребляемый в католических странах для одной из составляющих брака, а именно первого осуществления брачных отношений.
(обратно)24
«Плохая Франция! Рим!» (лат.).
(обратно)25
Деяния святых апостолов 12:11.
(обратно)


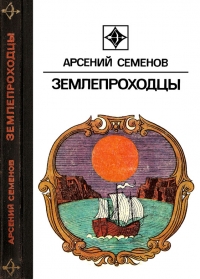

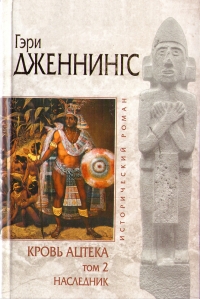
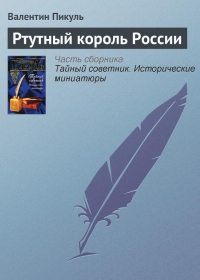
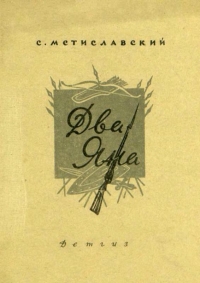
Комментарии к книге «Капкан для крестоносца», Шэрон Кей Пенман
Всего 0 комментариев