Повествования разных времен
Светлой памяти незаменимой моей
Татьяны Сергеевны Бобковой-Хотимской
РЕКА — ЗОЛОТОЕ ДОНЫШКО Повесть
Помни, что все руководящее тобою таится внутри тебя самого.
Марк АврелийБыло это давненько, многое с той поры переменилось на нашей земле. Но не все, о ком здесь речь пойдет, ушли за пределы познаваемого, не все они перемерли. Иные — по сей день еще живы среди нас, хоть и не так теперь выглядят, как в описанные времена. А коли живы — стало быть, помнят…
Оно порой полезно — и себе и другим: вспоминать да помнить.
НА БЕРЕГАХ
У Реки — старинной казачьей реки, носившей в разные времена различные имена, правый берег высокий, он отражается в воде. А другой берег низкий, в воде не отражается.
На высоком берегу растет пойменный лес, местами деревья подступают к самому обрыву и отгораживают одну от другой прибрежные поляны, поросшие травами столь высокими, что головы́ пешего человека над ними не увидишь. В теплые безветренные сумерки выходят на эти поляны волки. И поют свой вечерний гимн. О том, что волка ноги кормят, что волков бояться — в лес не ходить, что как волка ни корми — все в лес смотрит. И о прочих изобретенных людьми предрассудках. О бесконечных волчьих заботах и о только с виду бесполезной волчьей доле. Сначала басит, как сирена на катере рыбоохраны, рослый седой волк. Затем принимается подпевать ему своим нежным контральто светлоглазая волчица — подруга надежно верная, которую однажды избрал он себе и отвоевал — именно ее, никакую не другую, один раз и навсегда. А вслед за ней подают голос и бурые переярки, детки подросшие, — визгливо подтявкивают. Затем внезапно все обрывается. Будто и не было никакой песни, а так — почудилось только…
Вот что любопытно, кстати. На левом, низком берегу тоже иногда появляются волки, пришедшие из близких отсюда степей. Но с виду они несколько другие: шерсть пожелтее и размерами помельче. Причем, если правобережному лесному волку не составляет особого труда спуститься с обрыва, быстро — задрав остроносую морду — пересечь могучее течение, выбраться на песчаный пляж, отряхнуться от воды и погулять среди ивняка, всюду оставляя следы своих мощных лап, — то степной волчишка предпочитает своего левого берега не покидать. И впрямь, что за радость, едва выбравшись из воды, тут же карабкаться — неведомо зачем — на осыпающуюся под лапами крутизну?
Между прочим, на берегах Реки не только волки различаются. Скажем, если обычная змея, неласково названная гадюкой, на правом берегу — серая, то на левом — исключительно коричневая.
А ведь если вдуматься, подобная разница не только у всевозможной живой твари прослеживается. Ведь и у нас, людей, даже из одного роду-племени, а встречаются и такие и этакие. Как бы «правобережные» и «левобережные», ибо и в нашей общей судьбе есть своя единая Река, у которой тоже два берега — праведный и неправедный… Только, в отличие от упомянутых волков, люди с берега на берег чаще перебираются — в обе стороны, всяк по-своему…
Автофургон и две палатки, одноместная да двухместная, — вот и весь лагерь отряда научной экспедиции — стояли на одной из правобережных полян, над песчаным крутояром, простроченным, будто из крупнокалиберного пулемета, четким пунктиром щурочьих гнезд. Быстрые щурки, посверкивая голубыми перьями под яростным здешним солнцем, во множестве взмывали к небу, исчезали в его высотах и вновь пикировали вниз, к земле.
Научная экспедиция, в состав которой входил, в частности, и этот небольшой отряд, призвана была дать скорые и в то же время достаточно продуманные, достаточно ответственные рекомендации по поводу устройства гослесополосы. Полоса эта — в соответствии с рожденным в те годы великим планом преобразования природы — должна была протянуться как раз вдоль Реки, дабы первой принять на себя удары губительных восточных суховеев. Задумано было, что и говорить, лихо, дерзостно. В полном соответствии с гремевшим в ту пору девизом, призывавшим не ждать от природы каких-либо добровольных милостей, а без промедления и оглядки отнимать у нее все, что только возможно. Силком отнимать, даже не пытаясь договориться по-хорошему. Не узнать получше природу, которая — если вдуматься — человеку не столько мачеха, сколько родная мать. Не спросить ее уважительно, нет, но — покорить, пригнуть, сломить… А природа-то, она ведь и добрая, и щедрая, и не всегда такая уж скрытная. Но на жадное нетерпение, на грубое обращение может, разгневавшись не на шутку, ответить так, что после не обрадуешься…
Работы велись на правом берегу, тоже в степи, которая начиналась за пойменным лесом, сразу поднявшись от его опушки на еще один уступ — местами выше роста человеческого. А купаться в нестерпимую жару ездили на левый берег, там вмиг обсохнешь и еще поджаристее станешь, полежав на нетронутом белесом песочке. Переправлялись на большой плоскодонной бударе. Коллектор Донат — из местных — упирался веслами в плотную волну, лихо табанил, первым выскакивал на бережок. И тут же примечал:
— Глядите, след чудной какой. Большой, а в нем другой, поменьше.
— Прибылый за волчицей топал, — авторитетно пояснял Гуртовой — дипломник-практикант издалека, стягивая с себя купленные на рынке в Городе брезентовые сапоги, пышные бриджи и китель, когда-то белый, с надраенными пуговицами. Одевался дипломник по первой послевоенной моде — как бывалый фронтовик, хотя к недавно отгремевшей войне какого-либо прямого отношения не имел, и вины его в том не было: возрастом не вышел, не успел — ни понюхать, ни послушать. То же, впрочем, и Донат, разве что наряжался попроще — во что придется.
Гуртовой, скинув с себя свое столь боевое одеяние, решительно кидался в воду и, ритмично выбрасывая смуглые руки, вымахивал на середину Реки. Здесь его сносило течение, а он снова и снова возвращался к прежней точке, кувыркался, нырял, орал с удовольствием:
— Ого-гей! Дона-ат! Ла-асточкин! Догоня-а!..
Шофер Ласточкин деловито приступал к стирке комбинезона. Вот он-то был постарше и всю войну — от звонка до звонка, как говорится, — проколесил по фронтовым дорогам, не выпуская баранки из немеющих от напряжения рук. Не считая, правда, тех случаев, когда пришлось оставить в придорожном кювете свою с треском полыхающую трехтонку или с осколками немецкой мины в предплечье и в бедре ждать повторной операции, бессчетных перевязок, переосвидетельствования и выписки — годным к нестроевой.
Донат, вздрагивая, осторожно входил в холодную воду, прыгал на мелком месте, наконец решался, нырял, долго шел под водой и выскакивал, отфыркиваясь, на середине Реки, рядом с Гуртовым.
— Фр-р-р! Вода… У-бр-р! На дне ребра какие-то…
— Корова, наверное… Поплыли к лагерю?
— Айда!
В лагере их, продрогших, встречал начальник отряда Петр Христофорович, прозванный Семафорычем, хотя прозвище это ему, похожему на неваляшку, никак не подходило. Вокруг Семафорыча, жизнерадостно мотая тонким негнущимся хвостом, резвилась пегая Альфа — дочь какого-то знатного импортного пойнтера. Здесь уместно бы поведать, что Семафорыч был крупным ученым-генетиком, известным не только в своей стране, но и за рубежом. Однако, хотя на земле, в небесах и на море вторая мировая война закончилась, — в науке война только разгоралась, и наш Семафорыч оказался в числе тех, кто потерпел хотя и временное, но тяжкое поражение. Обвиненный во всех мыслимых и немыслимых грехах, он — в отличие от иных своих менее стойких либо более наивных коллег — не стал ни отрекаться, ни каяться, лишился профессуры, кафедры и лаборатории, но ученое звание сберег и отправился на далекие берега Реки — начальником миниатюрного отряда вышеупомянутой научной экспедиции. Но даже здесь, вдали от полемической суеты, никак не мог излечиться от глубочайшей обиды, то и дело принимаясь брюзжать:
— Ну, будет совещание в Городе. Ну, выступлю. Ну, выскажусь. А что изменится? Средства — фантастические! — уже вложены, технику пригнали, задействовали… Пашут полосу — в три ряда, вчера мы с вами видели. Сажать двухлетние дубки, которые в этой почве не приживутся, как их ни сажай — хоть квадратно-гнездовым, хоть кулисным методом. А главное — вдоль давно выросшего, готового леса, пойменного! Который хотя и ниже расположен, а пологом своим все равно выше тех обреченных саженцев. Его бы, этот готовый лес, устроить, в порядок привести, хватило бы одной десятой всех отпущенных средств…
Или — продолжая, видимо, какой-то свой неоконченный спор с неким далеким отсюда оппонентом:
— Мы, между прочим, тоже диалектику учили не по Гегелю! Точнее, не только по Гегелю, у меня вон в палатке «Диалектика природы» Энгельса имеется, с собой взял… Вы что же, полагаете, если ген никем до сей поры не познан ни визуально, ни на ощупь, то его, стало быть, не существует вовсе? Идеалистическая выдумка, не было того?! Выходит, если при нынешнем, отнюдь не наивысшем уровне развития оптики чего-то нельзя лицезреть, то сие непременно от лукавого?..
Брюзжал он при всех, чаще — за ужином, когда расслаблялся. Донат и Ласточкин мало что понимали в услышанном. Гуртовой же, судя по всему, понимал. Но не возражал и не соглашался. Это практикант умел — не проявить себя никак.
— Серьезный парень, — то ли одобрительно, то ли просто уважительно отзывался о практиканте Ласточкин. Донат же никак не отзывался вовсе. Может, у Гуртового решил поучиться?
Что умел и чего не умел Гуртовой — трудно было сказать. Свои прямые обязанности исполнял исправно. Умел и лопатой и веслом орудовать, ставить палатку, вообще физической работы не чурался. На коне, когда требовалось, держался недурно — Донат оценил. А один раз на вспашке полосы помог трактористу заглохший мотор оживить — тут уж Ласточкин отдал должное. Еще умел Гуртовой одним метким ударом топора свалить молодой серебристый тополь либо напрочь отсечь голову усатого здоровенного сома, попавшего ночью на перемет.
Со стороны же поглядеть, работа у них была — не бей лежачего. Семафорыч указывал Ласточкину, где остановить автофургон, Гуртовой успевал первым перемахнуть за борт и открыть дверцу кабины, откуда сначала выскакивала Альфа, а вслед за ней вываливался коротконогий Семафорыч, поддерживаемый расторопным практикантом. Посовещавшись тут же с начальником, Гуртовой отмерял широкими шагами расстояние и указывал, где рыть. Донат и Ласточкин подходили с лопатами (иногда за черенок брался и Гуртовой), принимались неторопливо выбрасывать на специальный кусок фанеры вырытый грунт, слой за слоем, Гуртовой же замерял и записывал глубину.
— Стоп! — командовал он затем и вместе с Семафорычем ковырялся в выброшенной на фанеру комковатой почве. Ни одна букашка, ни один червячок не уходили из-под их проворных пальцев. Жучки — «сухой материал», упорно называемый Ласточкиным «сухое материало», — отправлялись сначала в специальную морилку, стеклянную банку с притертой пробкой и парами хлороформа внутри. Оттуда их, уморенных, после вытряхнут, осторожно рассортируют и вместе с этикетками уложат рядками на ватных «матрасиках». Твердые проволочники, ложнопроволочники и мягкие, жирные личинки хрущей тут же отправлялись в пробирки с формалином или спиртом. Гуртовой надписывал и распределял этикетки, а Донат аккуратнейшим образом, посапывая от старания, складывал их в особые ящики, после чего снова брался за лопату и бережно рассыпал по опустошенной уже фанере следующий слой грунта.
И так — весь рабочий день, одно и то же, одно и то же. Поначалу Донат не принимал такого дела всерьез: казалось — забава, зря только землю тревожить. Вообще-то он знал слесарное дело, которое в данном случае оказалось вроде бы ни к чему, а платили в этой экспедиции щедро, и — нанявшись — решил отработать здесь весь полевой сезон до конца. Семафорыч же будто почуял сомнения своего коллектора, хотя на работе они никак не сказывались, и однажды за ужином, когда бывал особенно разговорчив — то ворчливо, то шутливо, то по-серьезному приветливо, всяко — поведал, что и для чего они здесь делают, к чему землю роют да букашек собирают. Обращался не столько к Гуртовому, сколько к Донату и Ласточкину.
— Вы себе представьте, друзья, — говорил Семафорыч, — что все мои опасения не подтвердятся. И ко всеобщему удовлетворению высаженные на гослесополосе дубки и тополечки да прочие деревца и кустики приживутся. Приживутся и начнут расти. Поначалу, как всякие малыши, еще слабенькие. Дуб ведь когда еще настоящим дубом станет! Он медленнее других растет. А тут на него, малолетнего, неокрепшего, всякая нечисть набросится. Она ведь всюду имеется в резерве, нечисть всякая прожорливая, ей только условия создай — проявится тотчас. Вот и набросятся личинки хрущей, проволочники — тоже, кстати, личинки, только — других жуков… Вот набросится вся эта подземная мелочь на молодые корешки саженцев…
— Так что же, — прервал начальника Донат, — мы с вами всех личинок повыкапываем? Да тут целый полк потребуется…
— И полк не поможет! — воскликнул тот, улыбаясь. — Даже трех дивизий недостаточно, друг мой. Есть другие методы борьбы. Но чтобы применить их с толком, надо знать: где именно и какая именно нечисть сосредоточилась, где и какая опасность грозит саженцам. Узнать это — наша с вами задача. Узнать, определить все по возможности и сообщить своевременно. И порекомендовать: где высаживать, где не высаживать, где какую породу, где одни меры принять, где другие. Вот ради чего мы здесь и трудимся, друзья мои…
Когда растолковали таким образом Донату, зачем и для чего под солнцем спину гнет, — легче стало ему к концу дня распрямлять свой усталый хребет.
Начинать работу старались пораньше, пока не припекло. А Донат, как назло, именно под утро засыпал на всю глубину, будто терял сознание. Гуртовой поступал с ним просто: выволакивал к Реке вместе со спальным мешком, ногами — в воду, где маялась на кукане рыба вчерашнего улова. И стоял — руки в боки, умытый, причесанный, в сверкающем пуговицами кителе. Пуговицы и волосы были у него цвета почти одинакового — светло-золотистые. Щурил Гуртовой левый глаз, будто целился, и улыбался по-волчьи криво, не выпуская из намертво сжатых крепких зубов папиросу. Наблюдал, как одуревший Донат выжимает из своего спального мешка мутную холодную воду.
Вскоре выбирался из своей одноместной палатки Семафорыч, морщился приветливо навстречу встающему солнцу и, наскоро сделав короткими ручками несколько простеньких упражнений, спрашивал:
— Мне пригрезилось? Или опять волки Альфу будоражили?
— Сковородка у костра опять облизана, Петр Христофорович.
— Ну и нахалы! Сковородку пускай себе лижут, отмывать легче. Только бы песика моего не слопали. Любимейшее их лакомство.
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ
По воскресеньям Семафорыч непременно объявлял выходной. Сам, правда, сидел в своей маленькой палатке, писал что-то, пересчитывал жучков, аккуратными рядами темневших на белых «матрасиках», возился с пробирками. Остальные были свободны.
Для Доната свобода от работы всегда была как бы даже в тягость. Не потому что так уж любил вкалывать, нет, в этом смысле он считал себя не лучше, не хуже большинства других. Тяготила неприкаянность, некуда было девать себя. Родни у него, выросшего из подкидышей-детдомовцев, никакой так и не обнаружилось. Даже не ведал, откуда родом — то ли из казаков, то ли из иногородних. Теперь это особого значения не имело, многие давно перемешались, но Донату приятно было думать, что деды его — из лихих казаков, без которых в России ни одна война не обходилась, а дальние пращуры, не исключено, гуляли на стругах Разина и под водительством самого Пугачева. Окончив «ремеслуху» и приобретя соответственно не столько знания, сколько навыки, уже после Победы отслужил он положенный срок в армии, в саперных частях — очищал от мин леса на Брянщине. После вернулся к родной Реке, но нигде не осел — так и мотался, летом в палатках всевозможных экспедиций, зимой же на койках рабочих общежитий в Городе, где ни на одном заводе подолгу не задерживался — ни на механическом, ни на арматурном, ни на машиностроительном. Хотя работал везде без дураков и ни с кем не цапался, но гнала его с места на место какая-то нутряная непоседливость. Может, и впрямь от неугомонных пращуров унаследованная? Однако казаки прочно сидели на своей, с бою добытой и потому особо любимой, земле правобережья Реки, а если уходили в дальние походы и не оставляли своих косточек в землях дальних и чуждых, то неизменно возвращались к родимому краю, в свою станицу, под кров своего дома. У Доната же ни земли своей, ни станицы, ни дома не было — только Река, к которой тянуло всегда и отовсюду…
Ласточкин по воскресным дням либо копался в моторе машины, либо развешивал на шпагате под солнцем свою долю рыбы.
— Тебе, Донат, лафа, — говорил он. — Ты один, вольный казак, сам себе хозяин. А у меня целый колхоз дома, всех накормить — задача на четыре действия. Вот и привезу я им рыбки, и старым и малым, пущай повеселятся.
— Оно конечно, — соглашался Донат. — При своей-то, хотя и казенной, машине отчего не привезти? Гляди только, другим хоть малька оставь.
— Тебе все шуточки… Да ведь рыба еще не вся перевелась, и на нашу долю хватит и другим останется.
Рыбой в ту послевоенную пору, надо сказать, Река и впрямь была богата. В том числе и — «красной». Если с вечера ставили от берега к берегу перемет на семь — девять крючков с живцом, то к утру сажали на кукан не менее двух великолепных осетров, иногда — здоровенного сома, не одного увесистого сазана (их и в старицах полным-полно было, впору бреднем выгребай). А судака, хоть самого крупного, вообще за рыбу не считали. Однажды, еще в начале сезона, когда базировались в низовьях, даже белугу изловили — чуть будару не опрокинула…
По воскресным дням после сытного обеда (опять же, уха да рыба с кашей), оставив в лагере начальника и шофера, Гуртовой и Донат уходили через пойменный лес в ближайшую станицу — к дяде Милитею.
По оставшимся еще с гражданской войны неубранным развалинам каменной церкви и множества домов можно было определить, что население станицы изрядно подсократилось. А таких жилищ, как у бакенщика Милитея, осталось — по пальцам перечесть. Дом у него — высокий, крыша — железная, бревна — ровные. Крепкие деревянные ворота и свежеобмазанная саманная изгородь закрывают от чужих праздных глаз обширный двор, увешанный гирляндами разделанной рыбы, уставленный разных размеров бреднями и другими снастями, похожими на старые свернутые знамена. Изнутри ворот висит старинный медный рукомойник — с чистой студеной водицей: перед едой лицо ополаскивать, этот давний обычай соблюдался здесь неукоснительно. Посреди двора — большой стол с длинными лавками по бокам, артель усадить можно. А народу в доме — никого, лишь — фотографии на стенах. На давних, более четких — лихие бородатые казаки, с длинными оголенными шашками, вытянулись перед фотографом, как перед начальством, позируют. На недавних, похуже качеством — лица, роднее которых нет на свете… Жена, друг незаменимый, — на кладбище, под стародавним вязом, надо будет крест подправить: покосился… Сын — в армии, служит исправно, казачьей чести не роняет, только у боевого коня его вместо копыт колеса… Брат родной — в тайге прибайкальской, под конвоем, за чужие грехи страдает безвинно… А дочь — в Городе, на фабрику устроилась, давненько не навещала. Может, замуж собралась, внучат готовит? Тревожно за нее… «Не боись, совладам», — взбадривал себя давней казачьей приговоркой. А все одно невесело на пустые лавки глядеть, вот и рад Милитей гостям.
Приходил с бахчей дядя Ивовий, такой же бородач, как и Милитей. Приносил невиданную в других краях «дыню-огурец» (пока зеленая — была она, как здоровенный огурец, и по виду и по вкусу, а созрев — превращалась в желтую сладкую дыню). Приходили Донат с Гуртовым. Их тут же заставляли ополоснуть лицо. Практикант выставлял флягу экспедиционного ректификата — разбавляли его чистой колодезной водой. Милитей подавал к столу свежую черную икру — из только что пойманного метрового осетра. Попадались, впрочем, осетры и побольше.
— Не, что там попусту зявать, — ворчал Ивовий, — измельчала красная рыба, не та, что была. В верховья уходит, решетки-то нету.
— Какой такой решетки? — интересовался Гуртовой.
— Была когда-то такая железная, до самого дна, — вздыхал Ивовий, а Милитей разъяснял:
— Еще при царе, при каком — не скажу, не знаю. А знаю, что под самым Городом установили казаки ту великую решетку. Всю реку перегородили, и впрямь до самого дна, от берега и до берега.
— А зачем? — допытывался Гуртовой.
— Как зачем? Чтобы красная рыба из нашей казачьей земли в верховье не уходила. Мелюзга да судаки в ту решетку проскакивали, а добрая красная рыба при нашем казачьем войске оставалась. И кормила нас — ешь не хочу! Еще и на продажу шла, по немалой цене. Не обижала нас Река. Так и звалась: Река — Золотое Донышко. И мы ее берегли, в обиду не давали…
— Порядок был! — подхватил Ивовий. — Даст команду наказной атаман по старицам сазанов бить острогами — сколько их там били, не счесть! А то дозволит из самой Реки красную рыбу снастями брать — брали. Но исключительно указанной снастью, исключительно в указанные сроки, никак не иначе. С умом! И не переводилась рыба в Реке.
— А браконьеры? — спросил Гуртовой.
— Браконьеры? — Ивовий переглянулся с Милитеем, усмехнулся. — Мы и слова такого чудного не слыхали прежде.
— А с неслухами обходились просто, — уточнил Милитей. — Гуляли вдоль берега патрули, по два верхоконных. Заметят, что какой-нибудь неслух неположенной снастью ловит иль в недозволенный час, — без лишнего зяванья, не слезая с коней, согреют его нагайками, чтоб не простыл, да поедут себе дальше вдоль бережка. И никакого тебе товарищеского суда, никакого взятия на поруки, никаких увещеваний да бумажной волокиты…
— И был порядок! — заключил Ивовий. — Оттого и жили, можно сказать, не бедно. Какая рыба в Реке водилась! А какие бахчи были! Сейчас разве бахчи? Так — одно воспоминание… За поливом следили потому что! А теперь… все порушено, еще с гражданской.
— А вы в гражданской участвовали? — не отвязывался дотошный Гуртовой.
— В гражданской? — Ивовий помолчал малость и без особого желания ответил: — Участвовал, в сторонке не сидел. И Милитей в сторонке не сидел, не положено казаку в сторонке сидеть, когда дело в разгаре. Только молоды были, неразумны, не разбирались что к чему. Да и которые постарше, даже те в столь небывалой заварухе не одну промашку допускали…
— Ну чего ты вертишься? — вскипел вдруг Милитей. — Чего ускользаешь? Людям правду надо говорить, не вертясь и не ускользая. Пущай знают. Сумеют — сами разберутся. А правда наша с Ивовием была простая. На Дону да на Кубани, там казаки раскололись, одни — за белых, другие — за красных, третьи — сами за себя. Потому что жили по-разному, одни — богаче иного атамана, другие — хоть в батраки нанимайся. А у нас несколько по-другому. Бо́льшая часть зажиточно жила — при Золотом-то Донышке. Да вы сами посудите. На одного только казака приходилось едва не восемьдесят гектар земли…
— Ну, это так считалось, — возразил Ивовий. — На семью — гектар двадцать…
— Разве мало? — продолжал Милитей. — Если с умом хозяйство вести. А красная рыба в Реке — кто сочтет, сколько ее на душу доставалось? Вот и суди, нужна была нашим казакам революция? Ни к чему, выходит. Оттого почти все наши станичники не за Комдивом пошли, а супротив него. Оттого еще в двадцатом году наше казачье войско объявили несуществующим. Донцов, кубанцев — тех оставили…
— А вы Комдива видали, дядя Милитей? — подал наконец голос и Донат.
— Мне не довелось. Вон Ивовию посчастливилось.
— Да уж! — Ивовий неопределенно мотнул бородой. — И не один раз. Боевой был Комдив, ничего не скажу…
Тут Гуртовой достал из кармана кителя старую гильзу и показал старикам — те повертели, поглядели, вернули. Ничего не сказали.
— Где нашел? — поинтересовался Донат.
— В старом окопе, где вчера работали. Где пригорочек.
— А, это где белый камень, справа от дороги, — сообразил Донат. — Да там много окопов. Может, в них части Комдива отбивались? В музей бы, что ли, передать, который в Городе…
— Знаю я эти окопы, — невесело заметил бакенщик. — В них наши станичники от конницы Комдива отбивались. У него своя конница была, не хуже казачьей… Ну-ка, покажи еще гильзу.
Гуртовой охотно передал. Милитей повертел ее, царапнул ногтем. Вернул, заметив:
— Да, от нашей трехлинейки. И не ржа на ней — кровь. Давняя кровь казачья…
— А что? — встряхнулся вдруг Ивовий. — Ведь, бывало, и наше казачество бунтовало. Со Стенькой Разиным ходили? Ходили. С Емельяном Пугачевым ходили? Ходили! Видали в Городе над Рекой церковь белую — вдали от пристани? В ней, говорят, Пугачев венчался… А более ста лет назад — помнишь, Милитей, нам рассказывали? — тоже взбунтовались казаки. Когда ввели временное Положение о службе. Ничего, однако, тогда хорошего не вышло — прислали войска, поприжали казачков. А еще через полста лет ввели новое Положение, не лучше прежнего. Чтобы наказному атаману казак подчинялся только в боевых делах, а во всех прочих — общему начальству. И вместо дистанций учредили станицы, до трех десятков станиц. И что же? Опять поднялись казаки. И опять совладали с ними. И не одну тысячу — самых боевых — выселили с берегов родимой Реки в далекие пески азиатские. По сей день там наши девки славятся — и статью, и красотой облика, и норовом. Наши девки — таки-ие! Вот приедет Милитеева дочка из Города — сами увидите…
— Будет зявать! — оборвал Милитей болтовню товарища. — В стаканах пусто и в горле сухо…
Пировали допоздна. Зявали, то есть пели во всю силу голоса и дыхания старинные песни. Дядя Ивовий затягивал:
Поехал каза-ак на чужби-ну далё-око На вер- ном коне-е на свое-ом вороно-о-о…И не кончал еще тянуть последнюю ноту, а остальные уже угрюмо гремели:
Он край свой роди-имый наве- ки поки-инул, ему не верну-уться в оте-еческий дом!Песня будила задремавшего на холмике коршуна — птица встряхивалась, чуть приоткрыв глаза, укладывала поудобнее крылья на спине и снова засыпала.
На утренней заре, когда Река закипала от плеска играющей рыбы, расходились: Милитей — к своей бударе, проверить бакены; Ивовий — на бахчи, где обитал до зимы в шалаше: Донат с Гуртовым — опять через лес — в лагерь на берегу, над крутояром.
А ГУРТОВОЙ…
Наконец приехала из Города в отпуск Милитеева дочка Граня, не девка — королевна. В первую же встречу — в ближайшее воскресенье — увела Доната и Гуртового в местный клуб на танцы. Там она танцевала все с Гуртовым, а Донату лишь улыбалась издали: гляди, дескать, как мы здорово выкаблучиваем, и радуйся за нас. Донату и впрямь радостно было видеть, как Граня улыбается — и зубами, и глазами. Но лицо ее то и дело скрывалось на поворотах за кителем Гуртового, длинные пальцы практиканта цепко впились в ее обтянутую тонким ситцем талию, а брезентовые сапоги под пышными бриджами топтались по-петушиному вокруг легких Граниных ног. Не стерпел Донат, ушел из клуба, вернулся к бакенщику. По дороге, в еще не закрывшемся сельмаге, прихватил бутылку «черной головки» — славилась в ту пору такая, плохо очищенная от сивухи и самая дешевая, запечатанная темным сургучом.
Усевшись за длинный стол на Милитеевом дворе, пил нагревшуюся за день вонючую дрянь — не закусывая, молча…
— До чего, говорю, дочка у Милитея нарядная! — дядя Ивовий лез великолепной своей бородой в Донатово ухо. — Женись ты на ней, не пожалеешь. Портниха она!
«Почему портниха? Она в Городе ткачихой работает. Ткачиха… Значит, портниха?.. А Гуртовой…»
— Женись, Донатушка! — шумел Ивовий. — Слушай меня. Хороша девка, не пропадешь с ней. Портниха, как-никак!
«А Гуртовой…» — Донат уронил лицо. Старики захлопотали над ним.
А Гуртовой, провожая Граню с танцев, взял ее под руку, затем обнял. И отметил про себя, что она даже для приличия никак не противилась. Шли не торопясь, кругами по окраинам станицы, чтобы всячески продлить прогулку. Чтобы отвлечь и закрепиться на завоеванном плацдарме перед новым броском, он все говорил да говорил. Рассказывал о гослесополосе, о научной экспедиции, об их отряде. Пересказывал где-то вычитанное о здешних краях, увиденное в городском краеведческом музее, услышанное от Ивовия и Милитея по воскресеньям, от Семафорыча за ужином в будние дни. Она прислушивалась, вопросов не задавала.
— Знаешь ли, Гранечка, — говорил Гуртовой, — что Город, где ты работаешь, образовался не сразу там, где он теперь? Давным-давно, еще в конце шестнадцатого века, километров на пятьдесят повыше по Реке, здешние казаки основали свой городок. Но в начале семнадцатого века не сумели отстоять его — городок дотла разорили налетевшие из степи кочевники. И тогда казаки поставили новый городок — чуть пониже, где в Реку впадает Приток. Где теперь Город. И мост через Приток. А через Реку моста в Городе пока нет. Но скоро будет, многое в Городе появится. Потому что великий план преобразования природы и гослесополоса…
Граня слушала. Внимательно и молча. А Гуртовой, прижимая ее к себе все крепче, вдохновенно продолжал:
— Именно здесь был центр крестьянской войны, затеянной Пугачевым. А когда Пугачева казнили, Екатерина Вторая издала указ: переименовать и Город, и Реку, и самое здешнее казачество. Для предания всего случившегося полному забвению, так и было сказано в ее указе…
— И как ты все это помнишь! — подала наконец голос Граня.
Изумление ее, он почувствовал, было искренним, без какого-либо недоверия, без какой-либо насмешки. Прижимать ее, разгоряченную, было приятно. Вдохновленный Гуртовой продолжал, задействовав все резервы своей эрудиции:
— В конце прошлого века сюда подвели железную дорогу — от самой Рязани до Города. И сразу же начала процветать прибыльная торговля, расти промышленность. Кроме казаков, иногородних и кустарей-одиночек, в Городе появился рабочий класс, немногим меньше тысячи. Еще до революции, то есть когда нас с тобой и на свете-то не было, а родители были моложе нас теперешних, в Городе насчитывалось более сотни промышленных предприятий. Небольших, правда. Большие заводы и фабрики появились уже при Советской власти, которая объявилась здесь сразу же после Великого Октября, — Совет рабочих, крестьянских и казачьих депутатов. Правда, одновременно объявило себя властью и так называемое Войсковое правительство, опиравшееся на зажиточных казаков. А в начале девятнадцатого года в Город вступили части Красной Армии. И после, вместе с жителями, почти четыре месяца выдерживали осаду сильных белоказачьих частей…
Тут он дерзко подумал: «А сколько продержится, сколько выдержит мою осаду эта экзотическая казачка? Если тоже четыре месяца — пожалуй, многовато. Придется по возможности форсировать штурм». Говорить такое вслух, разумеется, не стал — продолжал щеголять эрудицией. Она все слушала, неотрывно глядя теперь в его лицо и редко моргая. Ни разу не попытавшись освободиться от его неслабеющей руки.
Но при первой же попытке Гуртового поцеловать ее — тотчас увернулась и выскользнула. Отбежала и остановилась, теперь недоверчивая вся. А он отметил, что все-таки остановилась, не убежала вовсе. Может, просто боялась одна в наступивших сумерках идти? Не похоже… Ладно, решил он, там видно будет. И подошел непринужденно, заговорив еще о чем-то, и даже сумел снова взять под руку. Но обнимать не стал и целовать на сей раз больше не пытался, Пока дошли до деревянных ворот, похоже, совсем успокоилась. И вдруг огорошила:
— А ведь я даже не знаю, как тебя звать. Доната все так и называют — Донатом, а тебя почему-то по фамилии.
— В детстве звали по имени, — он усмехнулся, как всегда, кривовато, по-волчьи. — Санькой звали. Теперь же… Фамилия — Гуртовой — выговаривается легче, чем Александр.
— Ты и есть Александр. Санька… и впрямь не подходит почему-то. Как же мне тебя звать? Сашей? У нас на фабрике бригадирша Сашка. Не годится… А можно Шуриком?
— Хоть горшком назови, — отшутился он, — только в печку не ставь.
Граня засмеялась охотно, быстро провела пальцами по его тщательно выбритой щеке и, не дав опомниться, мигом исчезла за прорезанной в воротах дверцей — только засов изнутри скребанул коротко.
ПОЛОСАТЫЙ БЫЧОК
Пока шел в темноте через лес к лагерю, таща Доната (коллектор упился вдрызг), припомнилось детство военной поры.
…Санька Гуртовой, успев окончить до войны семь классов, был вместе с матерью эвакуирован (их город сильно бомбили, но до оккупации дело не дошло: враг забуксовал на подступах и продвинуться далее не смог). Жили в совхозе, мать работала в конторе — секретарем-машинисткой, а Саньку определили в полевую бригаду.
Бригадир у них был дед. Неухоженная борода вразброс, короткие, выше щиколоток, штаны, длинная просторная рубаха навыпуск — все развевалось, будто из самого деда ветер рвался. С утра пораньше вырастал он перед бригадой веющим пугалом и, как атаман перед разбойничками, приосанившись, разевал однозубый рот:
— Ждорово, мериканчы!
Раньше он проще здоровался…
Они в совхозе разнорабочие, а если по терминологии тех военных годов — чернорабочие. Опять же, хоть горшком назови — в печку не ставь. А в печке, как знать, может, и прохладнее, чем на копнежке в полдень. И — как ни тесно в той печке — а спину, наверно, не так сводит, как после сбора падалицы. Вроде бы детская забава — червивую падалицу собирать. Да не успеешь разогнуться — вали на спину мешок, под завязку полный, и тащи второй собственный вес через всю обширную территорию совхозного сада-огорода. Не дотащишь, уронишь — подать некому. Дождешься товарища, а тот сам из последних сил пальцами в мешковину вцепился, прямой угол изображает.
Вся бригада — подростки. Длинные, коротышки, всякие. У кого голосок еще только режется. А у Климова натуральный бас установился, позавидуешь. Сидит Климов на траве, разбросав крепкие ноги и упрямо нагнув коричневый в серых волосках затылок, что-то строгает. Взял вот обломок дерева и делает из него, что сам захочет…
— Сегодня чего будет? — ни к кому не обращаясь, спрашивает Санька, раз за разом зевая.
— Чего скажут, — отвечает сухонький Ставцев, валится на спину и глядит на проснувшееся солнце, глядит не мигая, блестящими в густых ресницах глазами.
Галя, сестра Климова, вчера сказала Ставцеву: «Зачем парню такие глазки немытые? Отдал бы нам». Санька слышал — и с того момента все не мило, ничего делать не хочется.
Теперь, вспоминая все это, давнее, зло и упорно волоча темным лесом размякшего Доната, Гуртовой подумал, что Галя Климова была первой в его жизни влюбленностью. Чистой. И не похожа была на Граню. А которая из них красивее, которая лучше? Трудно сказать. И не все ли равно? Скорей бы лагерь!
Дим Димыч, старший агроном того приютившего их с матерью совхоза, рассказывал об отце. Они вместе служили, в первое же лето войны отца убило, а вскоре после того Дим Димычу оторвало левую кисть. Выйдя из госпиталя, он разыскал семью своего погибшего однополчанина, пристроил жить и работать здесь, в совхозе. Подарил Саньке свою старую гимнастерку и сапоги. Санька любил военную одежду — в ней он сам себе казался мужественным, сильным. До войны он, правда, был сильнее, сейчас от недоедания отощал, ощущал себя хиляком, меньше верил в себя. Рукава дареной гимнастерки приходилось подворачивать, а носки сапог задирались, как у клоуна. Раньше Саньку все это не смущало, но с тех пор как Галя Климова однажды, непонятно зачем, подмигнула ему…
— Не шпать! Вштавай, подымайша, рабочий народ!
Это дед. И начинается еще один день. Такой же нескончаемый, как вчерашний и завтрашний. Как сама война…
Сегодня будут разбрасывать суперфосфат. Дед выдает каждому по ведру, показывает кучки сероватого порошка. Кто свою разбросает — пой, гуляй.
— Шоревнование! — провозглашает дед.
Саньке, конечно, достается самая дальняя и самая большая куча, похожая на лилипутский Казбек (представление об этой уникальной горе Кавказа основывалось лишь на известной картинке папиросной коробки). Да с такой горой белесого удобрения и до ночи не управиться!..
Руки немеют от тяжелого ведра, суперфосфат щиплет потные ладони. Пробегает мимо Ставцев с полным ведром, скалит белые зубы. Чего он такой довольный?
Следом за ними движутся женщины с сапками и окучивают картошку, смешивая заодно с землей разбросанный суперфосфат. Они поют молодецкую, не женскую песню:
При знакомом табуне-е конь гулял на во-оле.В строгом порядке стоят коренастые яблони. Ровными рядами выстроились меж по-праздничному белых стволов кусты картошки. Боевой цепью наступают женщины. Лихо надвинуты на лоб косынки, дружно взлетают в крепких руках сапки.
И-эх! Вдарю шпорами в бока-а, конь летит стрело-ою…Вырывается вперед Галя Климова. Поглядывает на Саньку непонятными глазами. Лицо у Гали смуглое — и синие глаза кажутся совсем светлыми. Санька слышит ее выплескивающийся из хора голос.
Галю догоняет ее мать, тетка Климиха, теперь они идут рядом, впереди остальных. Лоб и скулы тетки Климихи — в морщинах, икрастые ноги — в набухших жилах. И Галя когда-нибудь станет такой же? А тетка Климиха была раньше как Галя?..
Санька, похоже, последним закончит сегодня. И Галя увидит это. А если — первым? Тоже заметит?
А ведро с каждым разом все тяжелее, все чаще приходится менять руку…
После работы дед, как всегда, выстраивает свою бригаду и говорит речь. Вечер тихий, ветра нет, но развевается выгоревшая рубаха, развевается дикая бурлацкая борода. Торжественно, витиевато говорит дед о помощи тыла фронту. Отмечает, что молодец сегодня Гуртовой: первым выполнил задание. Что соревнование всегда себя оправдывает, но соревнование в России и конкуренция в Америке — понятия различные. Любит дед политграмоту! А сегодня его и вовсе заносит. Приплетает к чему-то кризис тридцатых годов, потопленную в океане пшеницу. Будто в школе этого не проходят! Затем, насупясь кудрявыми бровями, назидательно поднимает палец:
— А вы! Вы, как те мериканцы! Пять… нет, шешть, шем ведер шуперфошфата… Мериканчы!
Он кричит, сбивается, не сразу поймешь его. Значит, кто-то закопал в сторонке изрядную долю своей порции. Чтобы не таскать…
Дед допытывается: кто?! Бригада скучно молчит…
У самого дома Саньку догоняет Климов. Останавливает. Басит неторопливо:
— Завтра иди к Дим Димычу, просись в сторожа. Скажи, по болезни живота.
— Зачем это?
— А затем, что в бригаде нашей тебе лучше не оставаться. В бригаде я тебе вывеску портить буду.
— Ну и бей! — кричит Санька и, поперхнувшись вечерней голодной слюной, долго не может откашляться.
— Дурачок, — печальным голосом говорит Климов. — Каждый день ведь бить буду.
— Деду скажешь? — не глядя, спрашивает Санька.
— Сегодня бы сказал.
— А сестре скажешь? — не дыша спрашивает Санька.
— Дурачок ты…
Назавтра его переводят в сторожа.
А дед, появляясь по утрам перед своей бригадой, кричит бодро:
— Ждорово, мериканчы!
…Бывают такие собаки полосатые — будто грязная зебра. А полосатого быка Санька видит впервые. Редкой породы бычок. Вот и захотелось тетке Климихе, чтобы ее Зорька родила диковинного полосатого теленка. Сегодня непростое воскресенье: Климихе дали отгул. А вообще-то в военное время выходные дни не положены. И Санька — на посту.
Раздобыла где-то Климиха этого бычка, привела в совхозный парк — дубовую рощу. Привязала его цепью к стволу того дуба, что к тропке поближе, и отправилась за своей Зорькой.
Бычок звенит себе цепью, гладит копытом землю, пробует короткими рогами дубовую кору. Если пройдет сейчас мимо Дим Димыч и увидит такое издевательство над деревом…
Поручено Саньке Гуртовому дело почетное и ответственное: сторожить эту самую дубовую рощу, посаженную не то при Екатерине, не то при Елизавете, а возможно, еще при Анне Иоанновне. Старший агроном говорит, что роща (она же — парк) — это гордость совхоза. Что хотя дубы и не дают яблок, а дают лишь желуди да чернильные орешки (тоже, кстати, не пустяк) — дело вовсе не в том… Короче, пусть Санька считает себя часовым при особо важном объекте. Со всеми вытекающими последствиями. И особенно пусть следит, чтобы в роще не пасли скотину. Которая сожрет и вытопчет весь подрост — и не будет тогда никакого естественного возобновления.
Бычок подроста не жрет и не топчет. Потому что привязан. Но — делать ему, видно, нечего — бодает и бодает дерево. От скуки, должно быть. А отвечать-то Саньке!
Хорошо тому, кто сад сторожит: сиди себе в шалаше да кусай яблоки. Если что — собака голос подаст, а на крайний случай даже старая фроловка есть. У Саньки же — ни ружья, ни собаки, не говоря уж о яблоках. Шалаша тоже нету. Есть лишь хворостинка — коров из парка гонять.
Население здесь хитрое: приведут своих кормилиц в рощу, как детей — в ясли, а сами — на работу, ищи их там. И скотине хорошо: под копытами — травка, сверху — не припекает, сбоку — не поддувает. А каково сторожу? Выгонит Санька коров одну за другой на дорогу — те встанут поперек в великой растерянности и мычат, мычат, бедные. И правда, куда им деваться? Санька и рад бы не гонять их, пускай бы себе паслись. Но часовому, охраняющему объект особой важности, так рассуждать не положено.
А быка попробуй-ка выгони! Его еще отвязать надо, тоже — задачка. Бычок молодой, задиристый, рогом так и чешет, вон как успел попортить ствол. А рядом — тропка, по которой старший агроном часто ходит. И тетка Климиха куда-то запропастилась. Да и что ей Санька сказать сможет? Галя узнает после, засмеет.
От хворостины в данном случае толку чуть, лучше бросить ее. Все ближе, ближе подходит Санька к бычку. Теперь совсем близко. Тот перестает бодать дерево, смотрит выжидающе. Нехорошо как-то смотрит. И дышит громко, как больной. Цепь достаточно ли крепкая? Да и завязана кое-как, Санька подходит еще ближе. Бычок дергает ухом. Он теперь запросто достать может. Уйти бы, пока не видит никто… Санька подходит вплотную к дереву и, заставляя себя не глядеть на бычка, отвязывает цепь. Бычок вздыхает. Санька вздохнуть не решается…
Теперь они медленно идут по тропке к выходу из парка. Санька не оглядывается и старается, по возможности, не очень натягивать цепь. Он слышит, как позади топает бычок. Послушно топает. И сопит, будто собирается поддеть сзади да никак не соберется. Теперь уже никуда не денешься. Бросить цепь — еще хуже.
Вот наконец барак, в котором живут Климовы. Хоть бы Гали не было дома. А то ведь могли и двоим отгул дать. Впрочем, пусть будет дома! Пусть выглянет и увидит, как ведет он полосатое чудовище. Подумаешь, бык! Да он мог бы таких быков объезжать, как мустангов! И вообще мог бы не возиться, позвать Дим Димыча или еще кого — и пришлось бы тетке Климихе платить штраф. Так-то!
Выходит навстречу тетка Климиха, ведет свою Зорьку. Увидав их, бычок останавливается, натягивает цепь. Санька очень хочет отпустить эту цепь. Он чувствует, что побледнел.
— Здравствуйте. Куда его? А то в парке нельзя. Штраф…
У него забирают бычка. Нельзя, нельзя показывать, как легко сразу стало!
Его зовут в дом. Может быть, там Галя? Он еще ни разу не бывал у них. Но нельзя, нельзя показывать, как хочется войти! И Санька уходит. Он возвращается на свой ответственный пост — сторожить объект особой важности.
Где-нибудь в Испании он был бы тореадором, пускай бы Галя посмотрела тогда на него. Но ничего, он когда-нибудь станет маршалом. Если война не кончится, его год призовут раньше положенного, он попадет на передовую, совершит подвиг, заменит в бою раненого командира, сам, раненный, останется в строю… Потом училище… повышение в звании… академия… Он непременно дослужится до маршальских погон! А Галя к тому времени будет… нет, его женой она не будет, это было бы слишком здорово, так не бывает. Она выйдет за Ставцева, и у них будет целый выводок детей, черноглазых, в папашу. А маршал Гуртовой в полной форме, при орденах, с адъютантами, на трофейной машине, приедет в этот совхоз. Его все будут встречать и чествовать. Дим Димыч, совеем уже старенький, произнесет речь. Мать, тоже старенькая-старенькая, будет вспоминать своего погибшего мужа и гордиться сыном. А Галя тайком придет к нему и станет плакать, жаловаться на свою несчастливую со Ставцевым жизнь. Но он скажет ей… А что он ей скажет?..
К концу дня в рощу приходит Климов.
— Надоело дубы сторожить?
— Наше дело такое, — солидно ответствует Санька.
— Айда с нами на курсы трактористов. Ускоренные, третий класс поначалу дадут. Специальность все-таки. И в армии пригодится.
— Надо подумать, — безразличным голосом говорит Санька.
— Подумай, — Климов усмехается. — Завтра первое занятие.
…Перед уходом на работу мать будит Саньку.
— Завтрак на столе, не засни опять. Вещмешок я тебе уложила. И не лезь больше на рожон. Как с быком тогда. Медали за это не дают.
Наскоро коснувшись лица мокрой ладонью и таким образом умывшись, Санька стоя завтракает. Надев затем вещмешок, он выходит из дома, запирает дверь, кладет ключ в условленное место.
Идти надо долго. Сначала по большаку, затем свернуть на проселочную дорогу. А там — полевой стан. Вместе с Санькой шагают Климов и Ставцев. Климов идет впереди — виден его коричневый в серых волосках затылок. Санька отстает, спотыкается. Вещмешок неудобный какой-то. Кажется, будто сидит в нем увесистый толстяк в тянет за плечи: «Стой, не ходи!» Но идти надо. Долго идти.
— Устал? — оборачивается обогнавший его Ставцев. — Давай мешок.
— Мне не тяжело.
— Вижу! А мой совсем легкий. Давай.
Санька отдает вещмешок. Теперь легче. Но на душе кисло…
Старый колесный ХТЗ не слушается. Мотор то и дело глохнет. А когда Санька хочет включить первую скорость, трактор пятится назад.
— Эй! Задавишь! — кричит Ставцев, соскакивая с плуга.
— Разве это трактор? — ворчит Санька. — Старая рухлядь! Вот на ЧТЗ бы…
Огромный гусеничный ЧТЗ ведет Климов. Когда Санька предлагает поменяться, тот удивленно поднимает выгоревшие брови:
— Чего выдумал! К машине привыкать надо.
Ночуют в фургоне, вместе с настоящими трактористами. Тесно и холодно. Все пропахли керосином. Шумят, рассказывают анекдоты, гогочут. Неужели они не устали, не хотят спать? Наконец Саньке вроде начинает что-то сниться. Что-то очень интересное, но неуловимое. Сон только-только начался. Какой-то страшно интересный сон… И вдруг:
— Подъем!
Где-то кричат петухи: «Кукуру-уза-а! Кукуру-узу-у!»
Кто-то уже завел мотор, разогревает. Саньке хочется хоть чуточку постонать, покряхтеть. Но стыдно. И левый глаз почему-то плохо раскрывается. Опух, что ли?
После душного фургона утренний воздух кажется особенно чистым, дышать бы и дышать. Только очень уж холодно.
Санька долго не может завести мотор. Подходит бригадир.
— Чему вас только учили? Вот что, пацан, садись-ка на прицеп. А ты, черноглазый, сегодня баранку крутить будешь.
Ставцев садится за руль, а Санька кое-как усаживается на неудобной раме плуга. Плуг тоже старый, без сиденья.
Летит пыль из-под колес трактора, прямо в лицо. Дерет глаза, на зубах скрипит. Санька кашляет.
— Дыши носом, — оборачивается Ставцев. — Я вчера тоже так…
— Эй, черноглазый! — окликает его бригадир. — Не вертись! Куда борозду увел?
Ставцев выравнивает трактор и больше не оборачивается.
На повороте в конце гона надо поднять лемеха. Санька изо всех сил тянет рычаг. Что такое? Может быть, плуг неисправен?
— Крепче тяни! — кричит вездесущий бригадир. — Мало каши ел!
Наконец рычаг поддается. Но вот поворот кончен, надо снова опустить лемеха. И снова ни с места.
— Останови, черноглазый! Вхолостую гонишь!
Сизый от натуги, Санька кое-как опускает лемеха и больно ударяется коленкой о металлическую раму.
Солнце высоко уже, печет без поблажек. Приходится снять гимнастерку. Монотонно гудит трактор. Выползает из-под лемеха вывороченная земля. Пласт за пластом. Пласт за пластом…
— Эй, заснул? Подымай!
Этак и под плуг свалиться недолго. Скорей бы перерыв…
Никто не замечает уходящего на рассвете Саньку. Далеко, очень далеко идти. Оттуда ближе было… Вещмешок еще тяжелее почему-то. Будто уже не один, а два толстяка тянут за плечи: «Стой, не ходи!»
Подходя к поселку, Санька слышит гудок — время обеда. Значит, мать будет дома. Что он ей скажет?
Загребая сапогами пыль, бредет он по поселку. Лицо горит. Может, он заболел? А что, если заболеть? Ведь это так просто — незаметно постучать пальцем по градуснику.
На другом конце улицы появляется Галя Климова, с коромыслом. Санька быстро сворачивает за ближайший дом и бежит какими-то задворками. Лают собаки. Бьет по спине вещмешок. Бьет по ребрам сердце. Заметила его Галя или не заметила? Санька останавливается, проводит руками по мокрому лицу. Кажется, не заметила.
Он подходит к знакомой калитке. Может быть, мать уже пообедала и ушла? Хорошо бы… Нет, она еще дома.
— Ты заболел? Случилось что-нибудь?
— Нет… Так, по делу…
— Грязный ты какой… Есть хочешь?
Санька сегодня не завтракал. Мать ставит перед ним картошку с горячим молоком.
— Я тебя застану вечером? Или сегодня обратно пойдешь?
— Заночую, — угрюмо отвечает Санька.
Хлопает дверь, мать ушла. А что он скажет ей завтра? А что он скажет Гале? И тетка Климиха спросит про сына…
Поев, Санька разувается, ложится на койку, с удовольствием вдавливает лицо в мягкую подушку. Ему ничего не снится.
Когда он просыпается, в комнате еще светло. Добросовестно тикает будильник. Скоро придет с работы мать. Встать бы… Ноги болят очень. Если бы сегодня пришлось пройти еще столько же…
Санька долго лежит с открытыми глазами. На стене — портрет отца, давний, сбереженный матерью. Отец на этом фото совсем молодой еще, в темной кожаной куртке и светлой буденовке.
Дим Димыч рассказывал, как пробивались они в первые недели войны из окружения. День и ночь шли. По дорогам и без дорог. Их вел испытанный командир — полковник Гуртовой, Санькин отец. «Не спать! — раздавался его голос, когда кто-нибудь выходил из колонны и, шатаясь, отклонялся в сторону. — Под ноги!» Бойцы знали, что их командир спал не больше всех, если не того меньше. Но мало кто знал, что от долгой ходьбы вскрылась у командира старая рана — подарочек басмача…
Санька встает. Натягивает сапоги. Оставляет матери записку.
Боль в ногах не прошла. И вещмешок не стал легче. Успеет ли он засветло дойти до стана? Солнце уже окунается в невидимое море за горизонтом. Не успеет… Санька до предела вдыхает остывающий воздух, поправляет врезавшиеся в плечи лямки и прибавляет шагу.
Ему слышится, как позади послушно топает полосатый бычок.
…Вот ведь что вспоминалось почему-то Гуртовому, пока дотащил до палаток совсем раскисшего Доната. Оставил его под звездами. Ночь теплая, не пропадет.
Выкурил папиросу, завел часы на руке, скинул сапоги и китель. Послушал, как храпит в своем фургоне Ласточкин, усмехнулся и полез в палатку, До рассвета оставалось еще часа два.
ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ И ПОСЛЕ
Через неделю Гуртовой был у Милитея без Доната. Не забыл ополоснуть лицо, без напоминания — старикам понравилось. Как всегда, принес ректификат, а дядя Ивовий, как всегда, притащил «дыню-огурец». И кричал в ухо теперь уже Гуртовому:
— Гляди, какая у Милитея дочка! Женись на ней, не пожалеешь. Портниха она!
Граня тут же вскочила, выбежала за ворота.
— Гляди, убегла! Застыдилась! — Ивовий замотал бородой, закашлялся. — А ты женись давай, не тяни!
— Вам-то что? — с неожиданной досадой сказал Гуртовой. — Вон дядя Милитей отец, а молчит.
— Так ведь на свадьбе погулять охота! — воскликнул Ивовий. — А вдруг не дождусь, не доживу?
— Будет зявать! — мрачно и трезво оборвал Милитей, аккуратно наполняя граненые стаканы. — Держим?
— Держим!
— А ты не кряхти, когда пьешь. У нас кряхтеть не полагатса.
Гуртовой закусил, вытер выстиранным в Реке платком губы, поднялся из-за стола, поблагодарил, покинул двор. Прошел по улице, в темном закутке за старым амбаром отыскал Граню, взял за плечи — вырываться не стала. Молча целовал ее. Привычно, как перед тем многих прочих…
Граня уткнулась доверчиво в китель, прихватила зубами пуговицу и — не разжимая зубов, едва слышно:
— Ты не такой, как другие… Я таких не встречала… Хорошо тебе со мной?
И такое Гуртовому не однажды слыхать приходилось. Сговорились они все, что ли, одни и те же слова произносить?
После он приходил к ней и в будни, после работы. А вскоре Граня сама уж прибегала к нему, поближе к лагерю. Они встречались у знакомого серебристого тополя, садились на самом краю обрыва, смотрели на воду.
— Гляди, Шурик! — говорила Граня. — Звезды в реке плавают.
Гуртовой с удовольствием обнимал ее.
Было время, любил и он смотреть на звезды. И представлять себе, как где-то — через миллионы столетий пути — в неведомой галактике тоже живут существа, похожие на людей. Порой он даже мечтал. Мечтал, чтобы они — наверняка более развитые и разумные — поскорее посетили бы нашу планету, вправили бы мозги непутевым землянам… Думал и о том, есть ли предел вселенной, а если есть, то что же за этим пределом… И куда бы ни забрасывала его судьба, отыскивал в местных библиотеках все, что удавалось отыскать по астрономии, читал и даже конспектировал. Но в какой-то момент охладел к небесным проблемам и, поступая в вуз, решил избрать себе профессию к земле поближе. Теперь осталось закончить практику, написать и защитить диплом, а там — не исключена аспирантура, есть такая перспектива…
— Что шумит? — вскидывалась Граня. — Пароход скачет?
Здесь — видно, с давних времен монополии коня — обо всех видах передвижения, кроме пешего, говорили «скачет». Пароход — «скачет», автомашина — «скачет», самолет — и то «скачет»…
— Гляди, — некстати же хотелось ей болтать! — Вон огонек на мачте, все ближе, ближе… Впереди парохода вода как зеркало, а позади взбаламученная вся. Как я… Растрепал ты меня всю…
Пароход проходил. А Река долго еще не могла успокоиться, улечься поудобнее, все расшибала да расшибала волну о берег.
— Гляди, Шурик! Волны какие. Рождаются и умирают, рождаются и умирают. Слушай, как Река дышит. Все ровнее, ровнее…
— Где вычитала такое?
— Нигде. Я не люблю читать, — призналась она просто. — Я больше слушать люблю. Ты поначалу так интересно рассказывал… Надоела я тебе?
Он тут же принялся заверять ее и доказывать, что нет, не надоела нисколько. Душой при этом не кривил.
«У НАС ДЫМИТЬ НЕ ПОЛАГАТСА»
Однажды утром Семафорыч объявил, что в степь они на сей раз не поедут, землю копать не будут, а спустятся на бударе километров десять по течению и там обследуют пойменный лес. Где, по некоторым сведениям и признакам, должен быть очаг тополевой пяденицы — невзрачной бабочки, гусеницы которой могут в дальнейшем, перейдя на гослесополосу, сожрать всю листву неокрепших саженцев.
Гуртовой подумал, что полезно будет отметить этот момент в дипломной работе, придав ей, таким образом, еще большую актуальность и многогранность. Произнеся мысленно слово «многогранность», он по созвучию тотчас вспомнил о Гране. И с некоторым удивлением отметил, что прежде к подобным ассоциациям склонен не был.
— Обратно супротив течения придется, — вздохнул озабоченно Ласточкин, предпочитавший мотор и колеса.
— Будем грести попеременно, — утешил его начальник. — Нас четверо крепких мужчин, проблемы не вижу.
— Не боись, совладам! — добавил Донат, щегольнув любимой приговоркой здешнего казачества, не раз слышанной им от дяди Милитея. Тем паче, что и в своем казачьем происхождении сомневаться не желал.
Ветра в то утро не было, Река не волновалась. Будара легко шла вниз по спокойной воде. Солнце, едва взойдя, палило без жалости — скинули рубахи, покрыли головы, кто чем: Ласточкин и Гуртовой — фуражками военной поры, Донат — кепчонкой, а Семафорыч смастерил себе тюбетейку из носового платка, завязав узлами все четыре конца. Играла под ними рыба, резвились над ними стрижи да щурки, а в самой вышине сопровождал их сокол-чеглок, то замирая на месте и быстро-быстро трепеща крыльями, то ныряя к вершинам прибрежных деревьев. Кое-где правый берег, подмытый бессчетными волнами, оползал, обваливался, скидывая в воду деревья, кусты и травы. У одного такого оползня приметили выводок игравших под солнышком забавных лисят, тихо подплыли поближе — те хоть бы что. Самой лисы не увидели: затаилась где-то рядом. Чуть подальше, за крутым поворотом спугнули барсука, спустившегося к воде напиться.
Поворотов по пути было — не счесть.
— Река наша до самого устья вертится восьмерками, — сообщил Донат, пошевеливая веслами. — В каждое третье, а когда и в четвертое половодье прорвет берег и течет по-новому. А от прежних восьмерок остаются старицы, полные сазанов.
— Понятно, — отозвался Семафорыч. — Почвы здесь на берегах мягкие, легко размываются.
— А правду ли говорят, — подключился к разговору Гуртовой, — что на том месте, где Комдив утонул, теперь пойменный луг и козы пасутся?
— Именно! — подтвердил Донат. — Река-то с той поры в сторону ушла, А на прежнем берегу, над лугом, обелиск поставлен.
— Надо будет побывать там, — решил Семафорыч. — Непременно и при первой же возможности… Ну, похоже, где-то здесь нам высаживаться. Где бы причалить поудобнее…
Высадившись у правого берега, вбив кол поглубже и привязав к нему будару, углубились в лес. Здесь росли преимущественно серебристые тополя, сомкнув живописные кроны.
— Сказка! — восхищался Семафорыч. — Не удивлюсь, если какое-нибудь языческое чудище из-за стволов выглянет. А ведь лес-то, похоже, не такой уж старый, не более полувека. И обратите внимание, правый берег здесь не такой уж высокий.
Наблюдательный Гуртовой подобрал высохшую ракушку; показал начальнику. Тот повертел находку и заключил:
— Давняя. И, похоже, мы с вами идем по дну бывшего русла.
— Только пяденицы что-то не видно, — заметил Гуртовой. — Листва целехонькая.
— Да, очагом здесь и не пахнет, — согласился Семафорыч. — Пройдем подальше, там должны быть осокори, на них — вероятнее… Как бы там ни было, а места интереснейшие. Все время жду какого-нибудь чуда. Встретим Бабу Ягу в избушке на курьих ножках — ей-ей, не удивлюсь. А у вас, друзья, нет такого ощущения? Или только у меня одного фантазия разыгралась?
Никто, однако, не ответил на столь щекотливый вопрос начальства. Но через пару минут, как запоздалый ответ, раздался изумленный возглас внезапно остановившегося Доната:
— Стойте! Глядите! Что это?! Справа…
Справа от них, не сразу заметные среди тесно стоявших стволов, уходили вверх и там терялись в густых серебристых кронах ряды чуть изогнутых ржавых конструкций, оживленных какими-то вьющимися травами.
Первым к таинственным предметам приблизился Гуртовой, даже пальцем потрогал.
— Да, железные…
Ошеломленные, ходили вокруг да около, ничего не могли понять.
— А ведь это… Знаете, что это? — осенило наконец Семафорыча. — Это скелет! Гигантский скелет.
— Скелет?! — испуганно отозвался Ласточкин. — Чей?..
— Ископаемого ящера? — предположил Донат.
— Железный? — усомнился Гуртовой.
— Ну да, железный, — подтвердил Семафорыч. — Рукотворный. Это скелет, точнее — остов парохода. Затонувшего именно в этом месте, давным-давно, когда Река протекала здесь. А после ушла в сторону. И сквозь скелет, то есть остов парохода, проросли деревья пойменного леса. Чем не чудо, друзья? Ведь не обмануло меня предчувствие!..
В тот же вечер, когда вернулись, Гуртовой, повстречавшись с Граней, рассказал ей о необычной находке. Та передала отцу. Через день бакенщик лично приплыл на своей бударе к лагерю, где был встречен и принят со всяческим почетом.
Вот что поведал дядя Милитей, слыхавший эту историю еще от своего отца.
Еще задолго до революции некий преуспевший в делах астраханский купчина обзавелся собственным пароходом. Выйдя на нем из дельты Волги и пройдя вдоль берега Каспия, достиг он устья Реки, вознамерившись подняться вверх против течения, чтобы доплыть таким образом до самого Города и преуспеть в своих торговых делах более прежнего. Человек он, надо полагать, был достаточно сметливый и практичный, но почему-то не догадался согласовать свои дерзкие замыслы с наказным атаманом казачьего войска. Тогда, возможно, все обошлось бы иначе… А надобно заметить, что, в отличие от нынешних времен, в ту пору ни один пароход по Реке не ходил. Не исключено, что тот купчина как раз и рассчитывал стать первым зачинателем нового пароходства. Рассчитывал, да не все просчитал… Гуляли вдоль правого берега казачьи верхоконные патрули. Вдруг слышат за поворотом шум необычный и видят над деревьями дым густой. Погнали коней в сторону шума и дыма — глядят: скачет по реке трубастое чудище, баламутит чистую воду, коптит чистое небо. Рыбу и птицу распугивает. Осерчали казаки и подожгли незваного гостя. Так он, сгоревший, на дно и пошел. Так там, на дне, навсегда и остался. А то бы вдоль всей Реки красную рыбу распугал… Однако не сомневайтесь: казаки — тоже с понятием, не какие-нибудь нехристи. Всех людей с парохода во главе с хозяином успели бударами на бережок переправить, ни одна живая душа не сгорела.
— Тут еще вот ведь какое дело, — завершил бакенщик свой рассказ. — Казачество наше по преимуществу старообрядцы. Говорим не «спасибо», а «спаси Христос». Крестимся двумя перстами. Перед едой лицо ополаскиваем. Кошку в доме держать любим, а собаку не жалуем. И дыму никакого не терпим. А пароход, знать, дымил вовсю, вот казачки и осерчали. У нас дымить не полагатса!
Тут дядя Милитей умолк и подмигнул Гуртовому. И тот понял. Вспомнил, что когда впервые пришел, еще вместе с Донатом, на Милитеев двор и вытащил было из пачки папиросу, — тотчас же был строго предупрежден хозяином:
— У нас дымить не полагатса!
С той поры в гостях у Милитея не закуривал. Хотя после спиртного тянуло неодолимо. Терпел.
ЩЕНКИ И ВОЛКИ
В народных сказках Патрикеевна всегда хитрющая, а волк — дурак дураком. Надо полагать, оттого, что на лисьей мордашке — усмешка хитрая. Но волк ей в хитрости не уступает нисколько. Порой даже превосходит рыжую куму.
Исключительно неглупый зверь, надо сказать. И, опять же, известная поговорка «Человек человеку — волк» нуждается в серьезном пересмотре. Дай бог иным двуногим жить в таком же согласии, так же поддерживать друг друга в общем деле и в семейной жизни, как это делают волки.
Что такое обычная летняя волчья стая? Неточное в данном случае название. Ибо речь идет об одной лишь семье: отец, мать да несколько переярков. На следующий год переярки откалываются, обзаводятся — кому как посчастливится — собственной семьей, а на их место подрастают младшие, вчерашние малыши. Одинокие волки — неудачники, больные или бешеные — изгоняются из стаи не от злого чувства к слабейшему, а от доброго желания уберечь остальных, чтобы не множилось число больных и несчастных. С точки зрения вооруженного наукой и техникой человека, это — звериная безнравственность. Но с точки зрения вооруженного лишь одноразовым комплектом зубов зверя, это — гуманно.
Итак, волчья «стая» — немногочисленная дружная семья. Лишь в особых случаях — будь то зима небывало лютая, война у людей, голодуха повальная — собираются волчьи семьи в огромные настоящие стаи, о которых столько страстей порассказано, письменно и устно.
Если судить по справедливости, то трудно сыскать более верного супруга и более заботливого отца, чем «серый разбойник». Когда наступает пора отлучать волчат от материнского молока, а прокормиться самостоятельно они еще не могут, волк-отец становится как бы вторым их кормильцем. Добыв с превеликим трудом и риском еды — не более потребного, насытив себя и накормив связанную заботой о малышах единственную и неизменно любимую свою подругу, он съедает затем дополнительную долю мяса. И вскоре отрыгивает ее, наполовину переваренную, — волчата специально тормошат отцовское брюхо, чтобы скорее получить столь своеобразное, но необходимое им диетическое питание. Без помощи своего верного супруга волчице не выкормить, не вырастить, не воспитать волчат. Безотцовщина у этих зверей не в моде, а ежели и случается, то — как правило — по вине человека. И зря полагают люди, будто, убив прежде всего волчицу, тем самым только и губят волчат, зря за шкуру волчицы больше денег платят охотнику. Без волка-отца детенышам тоже не выжить…
Донат знавал одного охотничка, который тем и зарабатывал, что волков вдоль Реки отстреливал. Заработает свои кровавые рубли — тут же пропьет, с женой спьяну подерется, а проспавшись — снова ружьишко с гвоздя снимет, собаку кликнет и — на промысел. Когда изведут всех волков у Реки — чем займется?.. Умудрялся этот дядя приманивать волков на собственную собаку: привяжет ее с вечера к дереву, а сам — в засаду. Собачонка дрожит, бедная, скулит на весь темный лес — голодные звери на ее скулеж и приходят. Себе на погибель, губителю — на опохмелку. Очень уж уважают волки мясо собачье. Дальний родственник, как-никак… Известны случаи, когда отчаянный волк в сани вскакивал и прямо из рук человека собаку выхватывал.
Так надо ли удивляться, что Семафорыч, находясь в столь близком с волчьим логовом соседстве, всячески оберегал свою породистую Альфу. От волков-то уберечь пока удавалось, а вот… Короче говоря, ухитрилась проказница собачка не к месту и не ко времени ощениться. Щенки, по всему видать было, породы ее импортной достойны не оказались. Да то не их вина…
Собрали чрезвычайное совещание. Единогласно постановили: пока не привыкла, топить всех в Реке. Иначе все равно волкам достанутся, только страданий больше — и самим, и матери.
Решать-то было не так уж трудно, а вот кто возьмет на себя роль царя Ирода? Чтобы никого не обижать, решили тянуть жребий. Сложили в кепку Доната четыре листочка — три тополиных да один терновый.
Добряк Семафорыч даже взмок, бедняга, пока тянул. И вытянул тополиный.
— Надо, значит, надо! — бодро заявил Гуртовой, улыбнулся по-волчьи, прицелился глазом, хоть сейчас готовый любой приговор в исполнение привести. Но тоже вытащил тополиный. Такой же лист достался и Ласточкину. И ничего не оставалось невезучему Донату, кроме листочка тернового.
Альфу увезли на машине подальше, а Донат собрал маленьких слепышей в свою злосчастную кепку, из которой горький жребий вытянул, и вышел на опушку, к самому крутояру.
Вокруг молчали кусты непролазные, все тот же зловещий терновник, и чудилось Донату, что оттуда следит кто-то за каждым его движением. Внизу необратимо текла Река, ветра не было, вода не буйствовала, двигалась спокойно.
И скорей, скорей, стараясь не вглядываться и не рассуждать, Донат размахнулся, закинул первого щеночка подальше от берега, к середине Реки. Вслед за ним — другого, третьего… Всех до единого! Щенки погружались не сразу, долго еще уносились по течению, один за другим, хвостиками кверху, как поплавки… И долго еще видны были — будто живые, колыхались на поверхности воды…
Ночью Донат не мог уснуть: только закроет глаза — страшные те поплавки видятся, как вниз по Реке уходят, не желая тонуть. Он терпеливо лежал, не смыкая век, стараясь не ворочаться, не мешать уснувшему Гуртовому. Из автофургона доносился спокойный храп Ласточкина. Семафорыч то ли спал, то ли нет в своей палаточке, там же держал и Альфу.
Наконец, весь измаявшись, начал было Донат задремывать. И тогда то ли приснилось, то ли наяву, но кто-то жалостно заскулил поблизости. Альфа? Нет, она не так скулила. Это — щенячий скулеж, никаких сомнений. Щипнул себя Донат — нет, не спит он, не снится ему, а на самом деле, отчетливо, нестерпимо скулят где-то рядом щенки!
Что за наваждение? Души невинно убиенных явились к нему, злодею, с укором? Или собственная душа не совладала, свихнулся от пережитого разум, вот и чудится? Но отчего — уж это четко так слышно — в соседней палатке Альфа забеспокоилась, подала голос, а Семафорыч вроде уговаривает ее?
Пробудился Гуртовой, вздохнул, приподнялся на локте.
— Что такое, Донат, что?
— Слышите?
— Слышу. Будто щенки скулят.
— Значит, вправду скулят! Стало быть, не пригрезилось мне…
И Донат не вытерпел далее, выскочил из спального мешка, ударив мягко головой натянутый брезент палатки.
Послышался голос начальника:
— Вы тоже не спите? Что за скулеж? Альфа наружу рвется, с трудом держу…
Наутро, изучив следы и поразмыслив, определили: подползала ночью к лагерю волчица, она-то и скулила по-щенячьи, собаку выманивала. А в полусотне шагов, на склонах заросшего оврага, ждали в засаде четыре переярка.
КОНЬ ПОД ЛУНОЙ
Вороного этого коня, с высокой холкой и покатым крупом, Гуртовой не раз встречал, когда наведывался в соседнюю станицу к лесничему — то договариваться о горючем, то передавать подписанные Семафорычем результаты обследований и ставить круглые печати на актах, подтверждающих тесную связь науки с производством. До станицы, где была резиденция лесничего, от лагеря было такое же расстояние, как до станицы, где стоял дом бакенщика, только идти надо было под другим углом. А между обеими станицами всего-то было не более трех километров — сущие пустяки.
Обычно вороной пасся стреноженный на лужке, за оградой лесничества и доверчиво тянулся к Гуртовому, приносившему то сахару, то морковки. Брал осторожными губами поднесенное на раскрытой ладони лакомство. Неторопливо, с хрустом грыз.
Гуртовой представлял себе, как можно выглядеть на этом красивом животном, как одобрительно глядели бы старые казаки на безупречную посадку приезжего практиканта. Откуда и к чему им, старикам, знать, что Гуртовой обучился верховой езде еще будучи второкурсником, когда посещал конноспортивную секцию?
…Пришел он, помнится, туда впервые, стараясь не показать необоримой робости перед крупными, непривычными непарнокопытными. Старался вспоминать полосатого бычка. На вопрос старенького тренера, сидел ли когда-нибудь на лошади, небрежно ответил:
— Приходилось.
В кирпичной конюшне его встретили пацанята-энтузиасты, сами напросились:
— Дядя, можно мы оседлаем?
У Гуртового от души отлегло: подойти к огромному, беспокойно поворачивающемуся в тесном деннике рыжему жеребцу было не легче, чем когда-то к привязанному цепью быку. Опасался: начнет чудовище метаться… От пацанят жеребец, однако, метаться не стал и вскоре — оседланного, взнузданного, покорного — вел его Гуртовой через обширный двор к овальному зданию манежа, теперь снова уверенный в себе.
В манеже тренер выстроил смену — лошадей десять, посоветовал Гуртовому подтянуть на две дырки левое стремя, затем скомандовал:
— Внимание! Повод! Облегченной рысью-ю…
Все двинулись друг за другом вдоль стенок, некрасиво подскакивая в седлах. Один лишь Гуртовой на своем рыжем — ни с места. И сколько ни колотил сапогами гулкие бока животного, толку не добился.
— Дайте же ему почувствовать ваши нежные мужские ножки! — откровенно издевался тренер, превосходно зная, что за лошадку подсунул хвастливому новичку. — Пятку вниз! Шенкелями, шенкелями работайте!
Гуртовой не успевал убирать пот с лица, выдыхался, но жеребец стоял как вкопанный, лишь головой взмахивал.
— Лошадь не мотоцикл, — резонерствовал тренер. — Здесь не то что педаль нажать да поехать. Вот вы сказали, приходилось ездить. Так в чем же дело-то?
— Да чудной он какой-то, — пробормотал незадачливый ездок.
— Нет плохой лошади, — наставительно изрек тренер, — есть плохой наездник. Слезайте-ка. Давайте повод. Проверю, в чем тут загвоздка.
Старик легко вознесся в седло — рыжий упрямец тут же сотворил изящную свечку и, весело задрав хвост, помчался по кругу, все резвее и резвее.
— Лошадь не виновата, — резюмировал тренер, возвращая Гуртовому повод. — Пожалуй, вам целесообразнее начать с азов, а?
Посрамленный новичок признал, что да, действительно, целесообразнее с азов.
Но через год занятий Гуртовой получил разряд…
И сейчас, толкуя с лесничим насчет вороного, он чувствовал себя вполне уверенно. Столковались легко — в один из погожих воскресных дней Гуртовой получил желанного коня в наилучшем виде: с подстриженной гривой, в нарядном — с надраенными бляхами — оголовье, под лоснящимся строевым седлом.
Прежде всего прискакал в лагерь — показаться. Всполошил Альфу.
— Знаю этого коня, — сказал Донат. — Лесничего конь. Полукровка, от трофейного производителя.
— Высокий, — одобрительно заметил Ласточкин.
А Семафорыч даже голову набок склонил, любуясь. И предложил запечатлеть столь изумительный объект на фотопленке.
— Хотя то, что я попытаюсь зафиксировать, — говорил начальник, нацеливаясь камерой, — было бы достойно даже кисти Сверчкова или резца Лансере…
Сфотографировавшись в различных ракурсах — то на фоне Реки, то на фоне деревьев, Гуртовой погнал коня по знакомой дороге. И как раз после заката, когда небо над головой стало прохладно-малиновым, а над горизонтом все еще горячо желтело, явился, будто из старинной песни, озаренный вечерним светом. Влетел в распахнутые деревянные ворота Милитеева двора, осадил вороного, легко соскочил и небрежно бросил повод изумленному хозяину.
Погодя, ближе к полуночи, когда Граня вышла проводить, вел коня в поводу, другой рукой обнимал озябшую подругу, и вороной послушно топал за ними. Дорога видна была хорошо, освещенная круглой декоративной луной, издавна вдохновлявшей на заунывные песни разноименных поэтов и безымянных волков.
ВОЗМУЩЕНИЕ
С очередного совещания в Городе начальник на сей раз вернулся мрачнее, чем Река в непогоду. За ужином даже не побрюзжал, как бывало. Молча и второпях съел свою порцию, первым встал из-за стола и удалился в свою палатку. Следом туда же нырнула чуткая Альфа, уныло поскуливая.
Не успели вымыть в Реке посуду, как Семафорыч снова появился — с какими-то газетами в руках, ткнул их Гуртовому:
— Читайте! Там, где отчеркнуто. Вслух! Чтобы все слышали.
Гуртовой загасил окурок папиросы, прижав его к стволу ближайшего тополя. Развернул газету, нашел помеченное, прочитал молча. Взглянул на Семафорыча, пожал плечами:
— Стишата какие-то… Ну и что?
— А вы читайте, читайте, вслух! Областную газету надо читать. Даже стихи, да! Стихи в газете — всегда на злобу дня. Валяйте, не стесняйтесь!
И Гуртовой принялся читать — без выражения, всячески давая понять, что делает это весьма неохотно и только лишь по настоянию начальства. Даже Донат сообразил, что читаемые практикантом стихи — не что иное, как подражание другим, известным каждому со школьных лет. Но коль скоро областная газета такое подражание сочла необходимым опубликовать, стало быть — неспроста. Гуртовой тем временем читал — монотонно, бесстрастно.
Мистер Твистер стал интуристом, но оказался большим скандалистом. Этого мистера Твистера так нам описал знаменитый Маршак. Мы вам покажем другого туриста — из недобитых еще вейсманистов. Космополитом его назовем, готовым покинуть отеческий дом. Есть в нашем крае такая штука. Если вас одолеет скука и вы захотите за счет государства изведать черты допотопного барства, — здесь для вас в одну минуту в казенной палатке устроят каюту, в казенной машине катать повезут и «красную рыбу» к столу подадут…— Совсем как у нас, — засмеялся Ласточкин.
— Так ведь это про нас и речь! — воскликнул Семафорыч. — Точнее, про одного меня. Потому что никого из вас, друзья, недобитым вейсманистом не обзовешь никак. А вот меня — можно. И, судя по всему, даже нужно. Читайте дальше!
Гуртовой закончил:
Есть в нашем крае гнездо паразита — «научной работой» безделье прикрыто. И про сего паразита, понятно, мистеру Твистеру слышать приятно.— Одного не пойму в этом пасквиле, — недоумевал Семафорыч. — С какой стати мне еще и космополитизм припаяли? Только потому, что довелось побывать за рубежом? По заданию Советского правительства, между прочим! Или оттого, что вынужден был оставить свою столичную квартиру, свою библиотеку, своих домочадцев и поселиться здесь, в портативной палатке? Так тоже ведь не по собственной прихоти! И вообще… Читайте дальше!
— Здесь больше нет, — Гуртовой протянул ему газету.
— У вас в руке еще один номер, ищите в нем. Жанр тот же и подпись та же — какой-то Булавкин. Наверняка псевдоним. Нашли? Читайте!
И Гуртовой прочитал еще одно стихотворение, все так же подчеркнуто неохотно. Если первое называлось «Турист», то следующее было озаглавлено «Мухин и мухи». Донату врубились в память такие услышанные строки:
…Мирные настали годы. Честно трудится народ. Новые растут заводы. Наблюденье за природой Мухин между тем ведет. Говорит он: «Неприятно строить коммунизм без мух. Пятна мух весьма занятны, и в тех пятнышках, понятно, виден ген — бессмертный дух. Вот на крылышке у мухи видно темное пятно, — заявляет важно Мухин. — В годы тяжкие разрухи появилося оно. Мы пахали и трудились — снова расцвела страна. В результате мы добились, что у мухи появились на крыле все три пятна!»— Ну что? — вопросил Семафорыч, выхватывая из рук Гуртового обе газеты. — Скажете, и это не про меня? Хоть я и никакой не Мухин. Но если сей, с позволения сказать, пиит изменил собственную фамилию, то долго ли изменить заодно и мою?
— Узнать бы его настоящую фамилию, — промолвил задумчиво Гуртовой. — Кто бы это мог быть? Ведь писателей в Городе не так уж много, и не все они поэты…
— А если это столичный автор? — возразил Семафорыч. — Ведь и такой вариант не исключен. В столице, скажем, почему-либо не напечатали, то ли конкуренция велика, то ли поэтический уровень невелик. Да мало ли версий, с какой стати мозги сушить! Не много ли чести?
— А если попытаться узнать в редакции? — предложил Гуртовой.
— Так они вам и скажут, как же! — Семафорыч невесело хмыкнул. — Разве что у вас там какая-нибудь знакомая?
— Какой-нибудь знакомой у меня там нет.
— Что же касается высмеянных здесь мух, — продолжал кипеть Семафорыч, — то речь идет не о назойливой и вездесущей муска доместика Линнеус, которую я и сам терпеть не могу. Речь идет о безобидной плодовой мушке дрозофиле, подвижнице науки, ныне оклеветанной искусственно остепененными невеждами и авантюристами. Предрекаю: когда-нибудь дрозофила будет не только реабилитирована — более того, ей поставят памятник, как уже поставлены подопытным собакам и обезьянам. И если я не доживу до той светлой поры торжества справедливости, то каждому из вас, друзья, дожить желаю. От души желаю! Тогда вспомните мои нынешние слова…
На том разговор выдохся. Повозмущавшись еще недолго, начальник объявил отбой. А то ведь рано вставать. Сам он, как позднее выяснилось, в эту ночь не заснул ни на часок хотя бы.
ОСЕННИЕ ДОЖДИ
Лето выдыхалось. Налетали порывы холодного ветра, темнела вдруг Река, а за степью уже видны были передовые цепи северных туч. Ветры пригоняли их все больше, все ближе, остывающую землю все чаще забрасывало не то дождем, не то снегом, и облетали с осокорей мертвые листья. По ночам кричали гуси, казарки, а днем видны были над поймой плывущие на разной высоте вереницы, шеренги, клинья, они колыхались, обгоняли друг друга, как по команде внезапно сворачивали где-то над лесом, там, где сворачивала и невидимая за деревьями Река.
Отпуск у Грани кончился, она собралась обратно в Город.
— Нескладно ты гостила, дочка, — прорвало Милитея, дотоле безропотного.
Полевые работы в отряде завершились. Свернутые палатки и спальные мешки, втиснутые в чехлы, были погружены в кузов и размещены между ящиками с трофеями обследований и прочим имуществом. Семафорыч уехал поездом. Донат уволился. А Гуртовой и Ласточкин с автофургоном задержались в Городе — закончить оформление всяческой документации. С Донатом, однако, не встречались.
Гуртовой разыскал Граню (она снимала комнату у одинокой учительницы) — виделись ежевечерне. Он все откладывал отъезд, хотя с делами давно управился. Наконец, возвратясь однажды на рассвете, растолкал тяжко храпевшего в фургоне шофера:
— Ласточкин! Увози… Прямо сейчас… Скорей!..
Тот продрал глаза, взглянул на небывало жалкое лицо практиканта и молча засуетился.
Через час они уже выехали из Города. Еще через час их настигли губительные для местных дорог многодневные осенние дожди. То и дело приходилось вытаскивать, толкать натужно рыдающую машину. Гуртовой не щадил себя, толкал и толкал, размазывая по мокрому лицу грязь, летевшую из-под буксовавших колес…
Зимой он раза два написал Гране. От нее получил пять писем с грамматическими и синтаксическими ошибками, ласковых, наигранно веселых, без единого укоряющего слова. Адреса своего Гуртовой на всякий случай не дал, она ему писала до востребования.
Адрес был им предусмотрительно оставлен лишь в редакции областной газеты. Для пересылки гонорара, причитающегося за два опубликованных стихотворения, подписанных псевдонимом Булавкин.
В ГОРОДЕ
— Я же не люблю тебя, Донат. Нисколечко.
— Знаю.
— Как же ты… как же ты можешь? Неужто мог бы так?
— Могу? Я без тебя не могу, Граня. Мертвый я без тебя.
— Ништо! Другую найдешь, не хуже. С ней и оживешь.
— Если не ты, то никто, — и повторил с тихим упорством: — Мертвый я без тебя.
— Я тоже не живая, Донат. С тобой, без тебя ли, все одно. Ох, до чего же все одно!..
Донат терпел. Ждал. Верил — сам не знал во что. Надеялся — на что неведомо. Может, полагал, переболит у нее, оживет она, очнется? Так отчего бы им тогда не пройти одной тропкой? Рядышком пройти, до самого конца. Да назад не оглядываться…
Не раз пытался, принуждал себя мыслить и решать иначе. Не получалось.
После того лета, расставшись с Семафорычем, он воротился в Город — к Гране поближе. При проходной завода по ремонту сельхозмашин прочитал объявление, что слесаря требуются. Оформился, в общежитии койку дали. Зарабатывал, правда, не густо, хотя старался и ничем не проштрафился. Да много ли ему надо… на себя-то одного хватало. А ежели на двоих? Что ж, тогда и сообразит чего-нибудь. А пока — ни к чему.
По вечерам после дневной смены он надевал единственный свой городской костюм. И приходил к Гране, трезвый, тихий, с отмытыми от смазки и ржавчины ладонями.
Хозяйка, старая учительница, у которой квартировала Граня, отвечала на его неизменно вежливое приветствие неизменно сурово, но тоже вежливо, в разговор никак не втягивалась, и ему все казалось — серчает она. А за что серчает — уразуметь не мог. Старушки — народ нелегкий, не всяк и не всегда сумеет угодить им.
Граня же улыбалась ему приветливо, а глаза — не первый месяц уж — оставались без улыбки. Просто, будто был он ей брат иль какой другой родич, говорила:
— Посиди, отдохни пока. Сейчас чулок вот доштопаю, после чайком побалуемся. Скидывай пиджак-то…
Поначалу Донат стеснялся, оставался в пиджаке, затем попривык, стал вешать его на спинку стула. И сам садился на тот же стул, неглубоко, осторожно, долго пристраивал усталые руки на смущенно сдвинутых коленях. Не знал, главное, куда глядеть.
На одну стену глаза направишь — там проклятущее фото, цветным карандашом подмалеванное: Гуртовой на вороном коне, подбоченился, поводья одной рукой натянул, улыбается по-волчьи криво, щурит прицельно левый глаз, взирает на Доната сверху вниз. А позади — Река за кустами видна. Это его Семафорыч так сфотографировал. Сминал Донат напрягшимися пальцами свои наутюженные брюки, молчал. А чего скажешь? Граня здесь в комнате хозяйка, кого на стенку вешать — ее право.
У другой стены стояла деревянная кровать с красочными картинками, маслом на спинках изображенными: вода, ивы, лодка с парочкой. Застелена она была накидкой белой с кружевным подзором. Над кроватью, на стенке висел трофейный немецкий ковер: горы в елках, два оленя рогами сцепились намертво, ни один не уступит, а важенка за кусточком выжидает — чья возьмет. Знал Донат, что Гуртовой перед отъездом бывал здесь, в этой комнатке с деревянной кроватью под белой накидкой… Да только не было, так считал Донат, в том Граниной вины, ежели судить по справедливости. А справедливость он уважал более всего прочего. Жаль ему было Граню до невыносимости, и так тянуло утешить, приголубить, поцеловать переставшие улыбаться глаза ее! Не смел и пытаться.
А что не посмел хоть разок с Гуртовым помериться, как те два оленя на коврике… вот чего не собирался прощать себе. Никогда! Пускай бы Граня прокляла его тогда, нелюбимого, помешавшего, пускай навсегда от себя отлучила бы, пускай! Страшно даже подумать, как смог бы жить, не видя ее хоть изредка. Но пускай! Пускай бы так, только бы… эх, отвадил бы Донат того гастролера в непоздний час — смеялись бы сегодня очи Гранины! Пускай не для Доната, но смеялись бы…
И вот сидит он на краешке стула, мается, куда свой взор ни кинет — все беда. Одно остается — на саму Граню глядеть, хотя и сладко и страшно это. Наблюдать, как она чулок свой прозрачный чинит. Смуглые руки темнее чулка, ловко действуют, проворно. Поди, и у ткацкого станка они такие же — красивые, быстрые, сноровистые.
«Женись, Донатушка! Слушай меня. Хороша девка, не пропадешь с ней. Портниха она!..»
«Почему портниха? Она в Городе ткачихой работает. Ткачиха… Значит, портниха… А Гуртовой…»
Как сделать, чтобы не думать о нем, не помнить?
Где-то теперь дядя Ивовий? Не в шалаше ведь, не на бахчах, где все давно собрано. Стало быть, в дом перебрался. Может, хворает?
А дядя Милитей? Все приговаривает: «Не боись, совладай!» Да одному тоже, поди, невесело.
— Ну, вот и управилась, — Граня улыбнулась гостю, опять приветливо и опять без радости в глазах. — Сейчас чаю приготовлю, с печеньем пить будем. Твое печенье-то. С прошлого раза. Я не все съела, не думай.
Он улыбнулся ей. Добрая улыбка у Доната, открытая. Улыбается Донат — у Грани на душе тихо становится.
— Айда, подсоби-ка мне, — просит она.
И Донат неловко помогает ей накрыть стол чистой скатертью. Непривычное это дело для его рук. И великая радость для него — помогать Гране, А в радости Донат всегда неловок.
КАРАКЫЗ
— Донат, расскажи чего-нибудь, — попросила однажды Граня.
Ну, не умеет он рассказывать, не умеет. А Гуртовой — умел. И она слушала, еще как слушала! Ну, куда ему до Гуртового? А — отчего? Чем Донат хуже, чем? Что, не было казаков в Донатовом роду, не на Реке он вырос? Ради Грани неужто не совладает? Не боись, совладай!
И вдруг будто прорвало Доната.
Поначалу принялся вспоминать, как довелось ему однажды на левом берегу в степях работать. Тоже в экспедицию на полевой сезон нанялся, но в другую — противочумную, все сусликов в степи изводили…
— Жалко зверьков, — заметила Граня.
— Жалко, — согласился Донат. — Но от них-то чума и начинается, вот ведь как.
— Не знала.
— И я не знал. На суслике блоха заводится, а в ней микроб чумы сидит… Не скучно тебе про такое слушать?
— Нет, не скучно. Про что хочешь говори. Мне интересно.
Умела Граня слушать. И ему оттого, хоть и впервые, хоть непривычно, а не тягостно было рассказывать. Получалось вроде.
Рассказал, что там, в степях левобережных, живут не казаки, а казахи. И сколько-то слов он по-казахски тем летом выучил, а им это нравилось. Джахсы — хорошо, джаман — плохо. Болды — хватит, рахмат — спасибо. Кыз — девушка… Те казахи, с которыми он общался, чабанами были, скотину пасли — овец, коров, верблюдов. А сами — все на конях. Летом в юртах жили, кочевали. На зиму оседали в саманных зимовках. Зимой в степи — бураны снежные, морозы лютые. А летом — жара нестерпимая, и ветер горячий…
Рассказывал Донат и будто вновь увидел. Вокруг — степь, раскаленная вся. На горизонте — озера, деревья растут прямо из воды. Но то не Река, она в другой стороне. Подъедешь — никакой воды нет, а вместо большого дерева окажется маленький столбик, оставленный изыскательской партией. Под ногами коня — то такыры в паутине трещин, то серебристые пятна низкорослой полыни. И не верится, когда едущий рядом с тобой казах уверяет, что на юге его республики высятся горы в хвойных шубах и ледовых шлемах, а в долинах сады цветут. Как не поверить? Даже в школе по географии проходили… Но оттого не верится, что когда едешь под степным немилосердным солнышком, представляется, будто по всей земле — только такая степь. Даже про недалекую отсюда Реку в тот момент забываешь… И, поднявшись, невысоко, летит впереди твоего коня орел, будто дорогу показывает. Да в горячем темно-синем небе — сколько-то едва приметных точек. Не то такие же орлы, не то грифы, которые не меньше орла, а кормятся исключительно падалью. У каждого — своя добыча. И у людей — разве не так же?..
— Ох, Донат, до чего же ты складно рассказываешь! Не знала я тебя…
Он и сам себя не знал.
— Может, хватит на сегодня?
— Не, рассказывай еще. Хоть до утра.
— А не выспишься, клюнешь носом у станка — руку покалечишь?
— Не боись. Я могу подолгу не спать. Помру — тогда отосплюсь. А пока живу… Ты говори, Донат, рассказывай!
— А знаешь, Граня, когда ехал на коне через степь, зявать пытался. Наши казачьи песни припоминал. Только веселые не получались. «Как на горке снежок идет» никак не давалась. Все просилось что-нибудь протяжное, задумчивое. Оттого, знать, у казахов все песни такие, других от них ни разу не слышал. Вот помню, остановился как-то в юрте у чабана на ночлег. Покуда женщины свежий айран готовили, хозяин достал свою старую домбру и долго-долго пел, заунывно так. Желал сделать гостям приятное. Только я ни слова не понял.
— Жалко, — вздохнула Граня. — Интересно бы знать, о чем он пел.
— А мне после рассказали, — соврал зачем-то Донат и увидел, как обрадовались ее глаза. — Это старинная история. Вроде сказки.
— Ой, расскажи! Донатушка, милый, пожалуйста! — и она подсела к нему так близко, как никогда прежде.
— Грань… Тебе нравится такое девичье имя — Каракыз?
— Чудно́е. А что, есть такое имя? У казашек?
— Казахи любят называть девушек светлыми, добрыми именами. А Каракыз — значит, черная девушка. Недоброе имя…
— А если девушка злая?
— Не знаю, Грань… Конечно, всякие бывают девушки. Имена тоже всякие бывают.
— Откуда взял такое имя? Признайся, так звали казашку, которую ты любил?
— Не любил я никакую казашку. Никого никогда не любил. Одну только… — тут он сам себя осадил. — А имя это из той сказки.
— Расскажи давай! Ты ведь хотел рассказать, — Граня подсела еще ближе, глядела нетерпеливо, вздернув темные брови. И ему вдруг подумалось, что брови ее — как крылья сокола. Сколько раз видел, а не замечал…
Тут что-то небывалое, невозможное произошло с Донатом. Все, что говорил дальше, — будто и не он, а за него кто-то, его горлом, его голосом. Само собой получалось…
В давние-предавние времена, еще до нашествия Чингисхана, на левом берегу Реки не было степи. Прямо от Реки, как на правом берегу, начинался лес. И никто не знал, где тот лес кончается. И аулы казахов были не в степи, а в лесу. В одном из таких аулов жили три батыра. Турсунбек, угрюмый и гордый. Раимбек, веселый, беззаботный. И еще один — Доутбек. Друзья эти никогда не ссорились и соблюдали непременное правило: все добытое на охоте делить между собой поровну. Нарушить такое правило — означало бы убить дружбу. А убийство дружбы — величайший грех. У любого народа.
Однажды, охотясь в лесу, Доутбек заехал на неведомую поляну и увидел там очень красивую девушку, непохожую на девушек его народа, никогда ему такие не встречались. У нее были брови, как крылья сокола. Старики говорили, что девушки с такими бровями живут по ту сторону Реки, на правом берегу. Но Доутбек никогда там не бывал и девушек таких не видел.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Меня зовут Каракыз, — сказала она. — Я заблудилась и устала.
— Садись ко мне в седло. Меня зовут Доутбек.
— Нет, ты мне дай коня, он отвезет меня и вернется к тебе.
— Мой конь и двоих выдержит, а я помогу тебе найти дорогу, буду охранять тебя. Ты мне не доверяешь?
— Я верю тебе, Доутбек. Твои глаза не лживые. Но и ты мне верь. Если желаешь мне добра, сделай, как я сказала.
Тогда он слез со своего коня и передал ей камчу и повод. Помогая подтянуть стремена, спросил:
— Увижу я тебя еще, Каракыз?
Но девушка не ответила, стегнула коня камчой и ускакала. Только к вечеру вернулся конь к хозяину. Уже затемно вернулся Доутбек в аул. И все рассказал своим друзьям: они никогда ничего друг от друга не утаивали.
— Эх ты! — Раимбек весело рассмеялся. — Такую добычу упустил!
— Не говори глупые речи! — сердито сказал Турсунбек. — С женщинами, да к тому же правобережными, лучше не связываться.
А Доутбек в ответ ничего не сказал. Он взял домбру и запел. О прекрасной девушке с бровями, как крылья сокола. Ведь казахи всегда поют о том, о чем в этот час думают. Никогда еще друзья Доутбека не слыхали от него такой песни. А он пел и сам удивлялся, откуда только такие слова берутся. И пел еще лучше. Наверно, Каракыз была колдуньей и околдовала его. Пока пел Доутбек, задумчивым стало беззаботное лицо Раимбека, подобрело суровое лицо Турсунбека. И оба невольно разделили мечту своего друга о таинственной красавице Каракыз. А где рождается мечта, там рождается и желание достичь этой мечты.
И, верные своей дружбе, своему незыблемому обычаю — все делить поровну, все трое отправились на поиски девушки, а там — пускай она сама выберет, кто из них ей по душе.
Много дней и ночей ехали они по лесу. Колючий терновник рвал одежду, рычали невидимые хищные звери. Мошка залепляла глаза, слепни мучили лошадей. Кони дрожали, не желали идти вперед, пришлось спешиться и тащить их, упиравшихся, за собой.
Вдруг откуда-то сверху, из темных ветвей, раздался насмешливый хохот. То ли птица так смеялась, то ли какая-то нечистая сила. Обезумевшие кони оборвали поводья и убежали. Кто знает, добрались ли они до аула. Не исключено, что были перехвачены волками или другими хищниками.
А невидимый насмешник в ветвях продолжал хохотать, будто издевался над упустившими своих коней батырами. И не выдержал такого смеха гордый Турсунбек, прижал ладони к ушам и закричал:
— Не могу я стерпеть, когда надо мной смеются! Что угодно, только не это! Не нужна мне, осмеянному, Каракыз!
И ушел Турсунбек обратно, вслед за конями, покинул друзей, нарушив обычай. Но смех тотчас прекратился.
Два оставшихся батыра пошли вперед и вскоре вышли к песчаному берегу Реки, как раз к перекинутому на другой берег подвесному мосту. Отсюда видно было, что на том, на правом берегу тоже был лес, подступавший к самой воде. Но правобережный лес горел, пламя до неба поднималось.
Ступили батыры на заколебавшийся под их шагами мост, дошли до середины его и остановились: дым разъедал глаза, не давал дышать; горячий встречный ветер, бессчетные искры обжигали лицо; запахло паленым — это загорелись брови, усы и волосы. И не выдержал Раимбек.
— Зачем приду я к девушке обгорелый, как головешка! — закричал он. — Не нужна мне Каракыз!
Плюхнулся с моста в зашипевшую под ним воду и поплыл обратно. Но пожар при этом не прекратился.
Тогда вдохнул Доутбек побольше воздуха, закрыл лицо руками и решительно двинулся вперед, в огонь. Сразу стало нестерпимо больно — рукам, голове, всему телу. Но Доутбек не остановился.
Он прошел через огонь и наконец почувствовал, что пожар — позади, за спиной. Он несколько раз подряд хватанул ртом воздух — воздух был свежий и чистый. Он отнял руки от лица и раскрыл глаза.
И увидел перед собой Каракыз.
— Это ты, Доутбек? — соколиные крылья ее бровей удивленно взлетели. — Еще ни один батыр не мог пройти в мои владения.
Она насмешливо посмотрела на его изорванную, наполовину сгоревшую одежду. На обгоревшее некрасивое лицо, которое все-таки узнала… И подумала, что если прошел к ней этот, то сможет пройти и другой, еще лучший, более красивый. Подумав так, отвернулась равнодушно и пошла прочь. А когда все же оглянулась — ведь девушки всегда любопытны, — Доутбека не увидела. Куда он подевался — неведомо.
Но ни один батыр так больше никогда и не пришел к Каракыз.
…Донат замолчал и поглядел ка Граню — ее лицо было совсем рядом, так близко, как никогда прежде.
— И об этом пел тот казах в юрте? — недоверчиво спросила она.
— Нет, — признался Донат. — Не об этом.
— Значит… Значит, ты все это сам придумал?!
Донат не ответил, опустил голову.
Тогда она подняла его лицо теплыми ладошками. И поцеловала. И тут же, ошалевшего, вытолкнула из комнаты:
— Уходи!
ТАМ ВИДНО БУДЕТ…
Первые дожди смывали последний снег. Возвращались на привычные гнездовья птицы. Ломала постылый лед Река. Раздумывала, менять ли русло в это половодье, повременить ли до следующей весны.
— Как отпуск проведешь? — спросил Донат, глядя то на Граню, то на стену, освобожденную от треклятого фото.
— Не знаю, у нас еще график отпусков не утрясли, — она вздохнула, пригорюнилась. — Не знаю, Донат.
— А к себе в станицу?
— Надо бы. Да отчего-то душа противится. И отца жалко, один он там. Брату еще целый год служить, приедет ли на побывку и когда — ничего не пишет. Не знаю, не решила еще. Подумать надо.
— Скажи, когда надумаешь.
— Зачем? — притворилась она, хотя чуяла, куда он, настырный, клонит.
— Может… может, надумаешь, я тоже отпуск возьму… Айда вместе куда подальше?
Граня помолчала. И чуток не тем голосом, каким сказала то же самое в первый раз, теперь повторила:
— Так я же не люблю тебя, Донат. Аль забыл?
— Хотел бы забыть.
— Ну, так?..
— Ну, так… — теперь он помолчал и наконец выдал: — Ну, так я один! Один за нас двоих, за обоих… Понимаешь? Одной моей любви на нас обоих хватит!
— Чудило ты! — она рассмеялась звонко, как бывало когда-то, и глаза ее теперь оттаяли, заблестели весело, как Река, скинувшая лед. — Ну и чудило! Ладно, погоди, там видно будет.
Когда в тот вечер вернулся Донат в общежитие, не спавший еще балагур-сварщик с соседней койки изумленно присвистнул:
— Ого! Ты гляди-ка! Ты что, сосед? Аль сто рублей нашел? Аль именинник ты сегодня? Хоть одно, хоть другое — так и так обмыть надо!
— Ладно, там видно будет, — ответил загадочно Донат, не замечая, что повторяет Гранины слова. — Закурить найдется?
— Ты ж не курил, казаче!
— Разговеюсь. А после опять не стану.
Еще через сколько-то времени, в солнечный воскресный день, Граня согласилась пойти с Донатом в кино, билеты он взял еще накануне.
Встретились загодя, чинно прогулялись под ручку по Большой улице, вдоль невысоких — в два-три этажа — светлых домов, построенных здесь еще до революции. Вдоль тесно насаженных по краям тротуаров старых деревьев, теперь молодо зеленевших. Такие же старые деревья окружали внутри ограды сохранившуюся нарядную церковь разноцветного кирпича с устремленными в небо каменными шатрами колокольни и центрального двухъярусного купола. Теперь в ней был краеведческий музей. А новый кинотеатр, с ковровым узором над входом и яркими клумбами перед ним, был тут же, рядом. И до начала сеанса оставался еще час.
— Айда в музей? — предложил Донат.
— Айда, — согласилась она. — Только дай еще пастилку, если осталась. Уж очень я пастилку уважаю. Правда! Или всю съел?
— Еще есть, помятая только, — он протянул ей кулек.
— Пускай помятая, лишь бы сладкая. Себе тоже возьми, а то что же все мне одной.
В музее они долго стояли перед фотографией Комдива — усы, папаха, все знакомое, еще с детства. А повыше висела большая картина, где Комдив изображен был на белом коне, в черной бурке, впереди своей лихой красной конницы.
— Гляди-ка! — обратила внимание Граня. — На картине и на фото лица ведь совсем разные. Будто не один и тот же человек. Верно?
Донат поглядел, согласился. Подивился ее наблюдательности. Затем сообразил: на картине-то не сам Комдив нарисован, а тот артист, который в кино его сыграл.
— Верно! — и Граня подивилась его сообразительности.
Для забавы заглянули в книгу отзывов. Последняя запись гласила:
«Мне в музее все очень понравилось. Но я забыл дома очки. В другой раз не забуду, приду с очками и разгляжу все как следует».
Посмеялись.
Посмеялись было и у витрины, где при огромном ископаемом бивне увидели маленькую надпись:
«Ребры мамонта».
Но Граня внезапно оборвала смех и, потупясь, тихо призналась:
— Я ведь тоже с ошибками пишу.
И глаза ее при этом стали такими же невеселыми, какими были в прошлом году. Тут же помрачнел и Донат.
Даже кинокомедия, которую посмотрели в тот день, не развеселила их.
— Не заходи ко мне сегодня, — сказала Граня, когда довел ее до дома. — Извини… За пастилу и кино спасибо… Ну, не серчай, Донатушка, не надо! Там видно будет…
Отпуска свои в то лето они провели врозь.
Граня все же пожалела отца, перемогла себя, пожила у него, подсобила по хозяйству. В клуб на танцы так и не пошла, хотя приехавший на побывку брат и два его товарища из той же станицы звали ее не раз.
Донат по профсоюзной путевке съездил в дом отдыха, тосковал там, на танцы тоже не ходил, но раздобрел — Граня после все дразнила, смеялась, называла генералом.
К Новому году ей, как передовику производства, дали комнату в новом жилом корпусе, построенном фабрикой. На тридцать первое декабря пригласила она Доната, двух подружек из цеха и еще ту строгую старушку учительницу, у которой столько времени квартировала.
Приехал погостить и Милитей. Он галантно ухаживал за девчатами (где только обучился?), и особенно за старушкой, которая с первой же рюмки стала совсем не строгая и даже веселее всех молодых, вместе взятых. Она уже сплясала барыню, уморилась и хохотала, кокетливо поглядывая на Милитея. А тот, развлекая ее, вспоминал невозвратимые былые времена. Увлекшись и распалясь, говорил все громче — будто не в тесной городской комнатенке, а на своем просторном дворе.
— Наше казачье войско, — обращался он преимущественно к учительнице, — еще до первой мировой выставляло ежегодно, знаете сколько? Ежегодно, по мирному времени, мы выставляли три конных полка, во сколько! Три конных полка, это шешнадцать сотен! Да еще одну гвардейскую сотню. И две степные команды. Всего — до трех тысяч казаков!..
Старушка изо всех сил старалась слушать по возможности внимательно, но то и дело отвлекалась, тут же спохватывалась и снова изображала неослабный интерес. Хотя ясно было, что никакой существенной разницы между гвардейской сотней и степной командой она не разумеет.
— А когда началась первая мировая, — продолжал, ничтоже сумняшеся, Милитей, — наше казачье войско выставило втрое более прежнего! Девять конных полков, это полсотни сот… Ну да, я правильно говорю, полсотни сотен! И столько же особых да запасных сотен. И гвардейскую сотню. Да еще полевую батарею. И две степные команды. Десять с половиной тысяч наших казаков пошли защищать Россию! Мало разве?..
Слушая отца и глядя на бывшую свою хозяйку, Граня потешалась, подмигивала Донату, который сидел степенно, улыбался сдержанно, а сам готов был хоть сей же час все каблуки свои о новый пол отбить. «Ладно, там видно будет», — звучали и звучали в его душе давно сказанные обнадеживающие слова. А то ведь без обнадеживающего слова вообще никакая жизнь человеческая невозможна.
Проводили старый год, встретили Новый, заодно и новоселье отметили.
Милитей налил всем по новой и, не садясь обратно, поднял свой стакан (другой посуды не признавал):
— А еще, дочка, есть у меня к тебе просьба. К тебе и к гостям твоим. Вот… Ну, стало быть, чтобы в этом новом твоем жилье… чтобы, как оно говорится, и жизнь новая… Счастливая жизнь чтобы была здесь у тебя! За это! Держим?
— Держим! — первым отозвался Донат и так решительно, так охотно и поспешно проглотил свою долю, что зорко следивший за ним бакенщик расчувствовался, пустил одинокую слезу и полез лобызаться.
— Ну, папаня! А не хмелел ведь, только тверезым тебя и помню.
— Старый стал, дочка. Прости уж, — Милитей вздохнул нелегко, снова налил — только себе и Донату. — Слышь? За нее, за дочку мою! Держим?
— Держим!
КОЛЮЧКИ РЖАВЫЕ
И они поженились. Жили тихо. Пока без детей.
Былого старались не трогать. Старались… А былое — оно цепкое. Ты его, как ржавую колючую проволоку, что с нелегких времен пересекла тропку, обойти пытаешься, а оно нет-нет да и зацепит своей колючкой, через все материи до живого доберется, хоть сколько-нибудь крови на волю выпустит…
Пришел как-то Донат с работы позднее обычного, то ли сам притомился более нормы, то ли погода перемениться надумала, а ничто не радовало и ничего не желалось. Граня встретила, как всегда: улыбнулась приветливо, дотянулась до жесткой его щеки, поцеловала бережно.
У Доната душа тотчас ожила и вернулась на место. Господи! Надо же! Никто никогда не встречал его так, никому никогда так не нужен был. И ведь не кто-нибудь, не лишь бы кто-нибудь, такого — сколько угодно, но такое ему ни к чему. Нет, именно она, сама Граня, без которой… Да что там толковать!
— Айда, умывай лицо, сейчас кормить тебя буду, — и заторопилась, захлопотала. То выбегала из комнаты на кухню, то обратно прибегала — и над чистым столом от еды теплой пахучий пар пошел.
А Донат глядел не на еду. Он глядел на ее кофточку, пеструю, тонкую, безрукавную. Глядел на ее руки, красивые, быстрые. И отчего-то глядел не по-доброму, не так, как обычно бывало. Упершись глазами в половицу, спросил чужим голосом:
— Далеко ль собралась?
— Не дальше всегдашнего, — она посмотрела удивленно. — Ты что, забыл, я же в ночной смене сегодня.
— Стало быть, забыл. Память отшибло… А лучше бы и впрямь отшибло!..
— Ты чего, Донатушка? Не захворал ли?
— Душа захворала.
— А ты ешь, пока не остыло. Душа и поздоровеет.
— Пойду лицо сполосну, — он поднялся со стула и, не поднимая глаз, вышел.
Когда воротился, Граня уже сидела за столом, жевала торопливо да на часы поглядывала.
— Торопишься?
— Ага. У нас теперь, знаешь, еще строже стало. Мужикам, тем и за прогул ничего такого. Опасаются, как бы не ушли, других-то не скоро сыщешь. А с нашей сестрой — стро-ого!.. Ты ешь давай, остынет ведь. Чего глядишь на меня так?
— Давно не видал, соскучился, — он вздохнул не всей грудью, отломил хлеб. Положил. Взял ложку, принялся есть. Бросил и ложку, глядел в упор на жену. — Не мерзнешь? Без рукавов-то.
— У нас все так ходят. В цехе, знаешь, жарко как? А руками подвигаешь и вовсе упреешь. Вентиляцию обещали новую. Так, сам знаешь, обещанного три года ждут.
— Знаю, — он опять принялся было есть и снова бросил ложку. — А нельзя… а нельзя так придумать? Чтобы не уходить тебе на ночь глядя.
— Кабы можно было… Да чего это ты сегодня? Как подмененный… Намаялся, поди? Айда, ложись и отдыхай себе. К утру приду, никуда не денусь. А ты спи.
— Как же, спи! Муж — спи, а жена где-то…
Когда гневается Граня, брови над потемневшими глазами клином сходятся.
— Я, что ли, виновата, что у нас ночная смена? Слава богу, хоть на твоем заводе нету. И то! Когда ты в своем цехе дежуришь в ночь под праздник, я ж ничего не говорю!
— А что ты можешь говорить? — несли Доната невидимые злые кони, и не держал он поводьев в руках, бросил поводья. — Ты, может, и рада. Без меня-то хоть отоспишься. Да что я! Я-то не помешаю… да еще под праздники…
— А кто же помешает? — она встала из-за стола.
— Тебе виднее.
— Дурак ты, Донат! Дурак! И я еще хуже дура, что связалась с тобой!
Ушла Граня. Дверью в сердцах ударила. До утра ушла, а ты тут хоть зубы сгрызи!.. Двинул Донат сам себя кулаком в лицо — боли не почуял, только во рту солоно стало да голова закружилась. Заплакать — и то не получилось, лицо сжалось, а слеза не пролилась. Хуже нет, когда слеза внутри остается.
Зажмурил глаза, увидел: цех, ряды станков, как в киножурнале показывают, и — красивые руки Гранины, рукавами не закрытые. И — пальцы, к ее рукам прилипшие, мужские, чужие, наглые. Как у Гуртового были… Далеко Гуртовой, а не хочет уходить из памяти, вцепился. Все у него цепкое, и пальцы тоже… Ну, на фабрике-то, положим, никакого Гуртового нет. Но не одни ведь ткачихи в ночной смене там, есть и наладчики, и прочие, кому начальство не то что прогул — любой грех отпустит… Откуда знать Донату, что там и как? Не проверял! А как проверишь? Не пустят его на фабрику, к тому же ночью. К собственной законной жене, а не пустят — ночью-то!.. Вот так и живи.
И опять перед глазами такое, что дышать нечем. И нет, не придумали еще такого лекарства — остановить эту му́ку.
За какие грехи? Чем провинился он? Перед кем и в чем повинен?
А кто сказал, будто нет лекарства? Есть оно, есть! И рецепта не требуется…
Дальше — что? Дальше — мрак и мерзость. И — ничего другого…
— Не жила с пьяницей, — сказала Граня после, — и жить не стану.
И ушла к той старой учительнице, у которой прежде обитала.
Неделю оставался Донат один. На заводе ему задним числом и на несколько дней вперед отгулы оформили, за предпраздничные ночные дежурства (ради отгулов сам и напрашивался). С каждым днем все больше тянуло смирить гордыню, пойти в знакомый дом, где живет та старушка, где с нею снова Граня. Прийти и сказать: «Прости ты меня, Христа ради! Прости дурака, если можешь! Не прикоснусь больше к тому лекарству, никогда не прикоснусь!»
На девятый день переборол он себя, смирил. Встретил жену у ее проходной.
Они пошли рядом молча, не прикасаясь друг к другу. Со всех сторон — позади, впереди, справа и слева — шли люди, преимущественно женщины, шла отработавшая смена. Шли кучно, никуда не деться. Не мог Донат в тесноте людской сказать то, что просилось. И не знал, куда сейчас свернет Граня — к ним, домой, или к той старушке.
Может, услыхала она, как задержал Донат свое дыхание? Свернула к их дому. И ничего уже не надо было притихшему Донату, только бы шла вот так рядом, только бы…
— Только бы видеть тебя!.. Когда прихожу… Когда ты приходишь…
Этого он не удержал в себе, сказал, когда вошли в комнату. И ничего больше не смог сказать. Потому что она кинулась к нему, прикипела. И, оба измаявшиеся, они неведомо как долго стояли, обнявшись, молча плакали оба и не убирали слез. Кого им тут было стыдиться? Никого, кроме них двоих, тут не было…
Несчастнейшие те двое, которым в нелегкую годину негде и никак невозможно только вдвоем остаться, без кого бы то ни было еще. Не всем дано понять это.
Так вот и жили они вдвоем, Донат и Граня, без кого бы то ни было еще.
Милитея схоронили: угорел в бане. Дали телеграмму в воинскую часть — чтобы сына к отцу на три дня отпустили. Положили старого казака рядышком с его женой, чтобы никогда им больше не разлучаться. Донат выпрямил давний покосившийся крест, покрасил белилами. На поминках дядя Ивовий разрыдался до того безутешно — насилу остановили. За Граню опасались: все кругом в слезах, а она — будто каменная. Зато после прорвало ее, как Реку в половодье, и не на один день, не на одну ночь…
А жизнь продолжалась. Не для всех — только для оставшихся. Только всегда ли оставшиеся помнят об ушедших? Всегда ли спрашивают их, когда спросить больше некого?
Временами, когда кто-нибудь из двоих, чаще — Донат, не успев удержать злых коней-невидимок, не сумев обойти обрывок ржавой проволоки с колючками, вспоминал все же Гуртового, — негромко ссорились. И тогда Донат снова принимался за свое лекарство, а она опять уходила от него. После мирились, в который раз. И слава богу, детей при том покамест не было. А может, и не слава богу?..
В конце концов, чтобы не мучить больше друг дружку, покинули Город, комнату вернули фабрике, разъехались по разным станицам, по возможности не близко расположенным. Затем Донат обратно воротился в Город, где вновь пристроился и со временем даже жилье себе исхлопотал. После чего принялся время от времени писать ей, звать к себе. В письмах все обещал да зарекался.
НА ПРИСТАНИ
Его угловато-сутулую фигуру все чаще видели на пристани Города. Появлялся он под вечер, после рабочего дня. Подходил к допоздна не закрывавшейся буфетной стойке, наскоро отправлял в кадыкастую глотку стакан дешевого вина и уходил к самому дальнему кнехту. Садился на него, подпирал небритую щеку костлявым промасленным кулаком и подолгу глядел порозовевшими глазами на Реку, на другой ее берег, на увязавшее в дальних плавнях распаренное солнце.
Милиция не трогала его, были бы все такие смирные. Знали о нем, что звать Донатом, что к речному делу никакого отношения он не имеет, а работает слесарем на одном из новых заводов Города и проживает в недавно выстроенном при этом заводе поселке. Один раз для порядку спросили у него документы — все оказалось при нем: заводской пропуск, паспорт с пропиской и военный билет.
В один из таких вечеров сидел Донат, пригорюнившись, на своем дальнем кнехте. Низко сновали стрижи, воздух над Рекой тяжелел. Где-то включили радио. Грустный мужской голос не то пел, не то просто говорил под музыку:
Вспоминай обо мне, пой о нашей весне, о счастье песню пой, мой друг.Донат скривился жалобно, проглотил подкатившую слезу и, ни к кому не обращаясь, простонал:
— Бросила… Бросила меня. Не будет ей счастья, никогда не будет! А мне и подавно…
Поднялся, ушел прочь и после долго не появлялся на пристани.
Вновь появился он погожим воскресным днем, уже под самый конец навигации. Подстриженный и выбритый. Из-под нового светлого плаща китайской фирмы «Дружба» белела чистая сорочка, синел галстук, и оказалось, что глаза его — тоже синие-синие.
— Тебя и не узнать, милый, — буфетчица лихо сверкнула золотым зубом и серьгами. — Как всегда? Или, может, чего покрепче? Похоже, праздник у тебя нынче…
— Не буду! — остановил ее Донат. — У вас на уме все план да выручка. А убыток? Его тоже считать надо… Какие конфеты посвежее?
— Все свежие, лапушка. Сознательный какой стал, надо же!.. Есть шоколад сливочный, пастила развесная…
— Во-во! Шоколад само собой. А главное — пастилу. Ну, полкило. Кулек-то найдется?
Выйдя из буфета, он направился к расписанию и долго изучал его. Взглянул на большие висячие часы, затем — на свои, сверил. Подошел к излюбленному дальнему кнехту, уселся, аккуратно подвернув полы плаща. Вынул из кулька мягкий припудренный брусок пастилы — не донеся до рта, положил обратно.
Вверх по Реке шла самоходная баржа с известняком. Солнце собралось заходить — известняк казался нежно-розовым, как та пастила, которую купил Донат. Таким же розовым виделся вдали и обычно белый храм, в котором якобы венчался Пугачев.
Солнце прикоснулось к окоему, стало непривычно большим. Донат повернулся к Реке и к закату боком, начал глядеть на берег, тоже розовый сейчас — песчаный откос, старинные приземистые склады, высокий недостроенный Дом культуры. Медленно, с верблюжьим достоинством, поворачивались над недостроенным домом краны, один дразнился вылинявшим розовым флажком. «По воскресеньям вкалывают, — отметил Донат, глядя на краны. — И допоздна. Неужто в шесть дней по восемь часов управиться нельзя? Война-то закончилась, не первый год. Да и не было ее здесь, на Реке. Здесь только гражданская была, Доната тогда еще на свете не было. А все — авралом, все — не как у людей. За что же тогда Комдив сражался, за такой вот бардак? Не стал бы за такое сражаться! А может, был бы сейчас жив Комдив, были бы живы те многие другие, кто за новую жизнь себя не щадил… может, тогда и сама эта новая жизнь, при них-то, оказалась бы малость иной, малость получше — порядку бы побольше было? А то, когда порядку маловато, справедливости откуда взяться?» Никогда прежде такое в голову ему не приходило. Узнала бы Граня — удивилась бы…
Тут он нахмурился, вздохнул нелегко, снова сверил часы.
Внизу, у самой воды, скучала водовозная кляча. Она была сивая, но солнце и ее, старую, щедро выкрасило розовым — на прощание. Равнодушными сонными глазами лошадь уставилась на свои разбитые копыта.
Донат взглянул на свои черные ботинки — начищены, блестят, как новые. Затем еще раз посмотрел на часы. Теплоход опаздывал.
Да, с той поры Река — Золотое Донышко немало воды своей прозрачной унесла в далекое море. Может, и русло не раз сменила в половодье, оставив новые старицы. И вновь обнажавшееся при этом дно речное, возможно, молодым лесочком зарасти успело.
Многое позабылось с той поры, а кое-что никак не забывается.
Вспоминать да помнить, повторяю, полезно. Да только все ли подряд? Бывает ведь такое, чего лучше бы не вспоминать. Никогда. Однако есть и нечто иное, забывать которое не надо. Нельзя его забывать, потому что…
СКАЗАНИЕ О ТУЧКОВЫХ Рассказ
Личность создается средой и событиями, но и события осуществляются личностями и носят на себе их печать — тут взаимодействие.
А. ГерценРасскажу то, что знаю о двух судьбах.
В списках декабристов нет имени Александра Тучкова, есть лишь племянник его Алексей. Но если бы не пал Александр Тучков в Бородинской битве… Как знать, быть может, и жена его Маргарита тоже, наряду с другими, отправилась бы вслед за близким человеком в далекую Сибирь?..
1
За год до славного дела на Неве, когда имя молодого князя Новгородского Александра Ярославича уже известно было за пределами его владений, прибыл в эти владения некто Михаил. И отдал в дружину княжескую сына своего Терентия. Летом 1240 года, сражаясь за Русь, витязь Терентий пал на берегах Невы. Праправнук Терентия Борис прозван был Тучко-Морозовым, а сыновья последнего значились уже как Тучковы…
Когда в начале прошлого столетия нависла над Россией зловещая тень в характерной треуголке, пятеро братьев Тучковых — сыновей инженер-генерала, начальствовавшего над пограничными крепостями, — сами стали генералами русской армии, и четверо из них приняли непосредственное участие в баталиях. И менее чем за три недели боев трое из них выбыли из строя: один был тяжело ранен и пленен, а двое пали на Бородинском поле. Узнав о судьбе сыновей своих, Тучкова-мать лишилась зрения. Врач-окулист установил свой диагноз: паралич глазного нерва. Уверял, что сие — излечимо. Но она от услуг его отказалась, заявив, что смотреть ей теперь уже не на кого…
Когда Александру Тучкову минуло одиннадцать, записали его штык-юнкером в знаменитый бомбардирский полк, созданный еще Петром Первым. Как и старшим своим сыновьям, генерал Тучков прочил младшему карьеру военного. Но, разумеется, маленький штык-юнкер на первых порах воспитывался в родительском доме. Год спустя Тучков-отец зачисляет двенадцатилетнего сына в свой штаб флигель-адъютантом. Через пять лет юноша становится капитаном 2-го бомбардирского батальона, затем проходит службу в различных артиллерийских частях: 6-й артиллерийский полк, 12-й артиллерийский полк, 1-й артбатальон… Вот он уже подполковник, через год — полковник, а всего-то ему двадцать два…
Успехи Александра радовали близких. Блестящие перспективы, головокружительная карьера — все это могло бы опьянить и не только молодую голову. Но голова Александра не вскружилась. И проявилось тут одно его свойство, не раз потом выручавшее в боях: не покоряться пассивно Фортуне, поступать по-своему, принимать решения быстрые, смелые, верные и от решений незамедлительно переходить к действиям.
Александр прерывает столь блистательно начатую военную карьеру. Он чувствует, понимает, что надо больше знать, больше видеть. Надо побывать в различных странах Европы, подняться повыше и взглянуть пошире. А вернуться к службе, если понадобится, никогда не поздно.
Не исключено, что немалую роль в принятии такого решения сыграла и несчастливая поначалу любовь, о которой скажу позднее. Но, думаю, не этот фактор был все же главным.
В начале третьей зимы девятнадцатого века молодой человек расстается с полковничьим мундиром и выезжает за границу. Педантичная Германия, всколыхнувшаяся Франция… всюду он стремился узнать побольше, узнать такое, чего не узнал бы, оставаясь в России. Ведь в мире столько любопытного, полезного, а жизнь у человека одна и долго ли продлится — неведомо, так ежели есть хоть какая-то возможность побольше интересного, нужного прочесть, услыхать, увидеть — пренебрегать такой возможностью негоже.
В Париже ему удалось попасть на заседание Трибуната. Как раз в тот день, когда консула Бонапарта избирали в императоры. Непроизвольно зарождались мысли, которым не хотелось давать воли — до того страшили своей непривычностью. Мысли о народе и его вождях, о сменяющих друг друга порядках либеральных и деспотических. Кем считать новоиспеченного императора? Узурпатором власти, не более? Или весьма способным в делах войны и политики наследником потрясшей не столь давно Европу Французской революции? Но до какого предела способен народ верить демократической демагогии своих вождей? Разве совместимы иные посулы корсиканца с тем, что сейчас происходит? В одном из двух — либо в посулах, либо в нынешней церемонии — явно наличествует ложь. Но тот, кто прав, не нуждается во лжи. И все его нововведения, столь встревожившие многих монархов и вызвавшие особую озабоченность российского двора, — все это не более как бумажные листья искусственной демократии, прикрученные ржавой проволокой к живому дереву общества.
В отличие от многих своих коллег-военных, Александр Тучков никогда размышлений на темы политические не страшился. Ибо от политики в конечном счете зависели судьбы Отчизны. И это было достаточной причиной, чтобы пытаться разобраться в происходившем.
Делясь впечатлением от посещения Трибуната, Александр писал родным:
«Казалось, что трибун Карно возразительную речь свою произнес под сверкающими штыками Наполеона. Туманно и мрачно было на его лице, но голос его гремел небоязненно».
Кто знает, какими путями продвигалась бы история, если бы в те нередкие моменты ее развития, когда стремление к безвластию неизбежно порождало единоличную деспотию, когда в борьбе за свободу народ обретал диктатора, — если бы в такие моменты, сколь бы мрачны и туманны они ни были, не гремел бы небоязненно хоть чей-нибудь голос… Кто знает, как без этих небоязненных голосов сложились бы судьбы народов? И знал ли молодой Александр Тучков, слушая небоязненный голос трибуна, что событие, свидетелем которого он оказался, в недалеком будущем окажет влияние и на его судьбу? Вероятно, всего предвидеть не мог, но — многим интересуясь и во многом ориентируясь — способен был не так уж мало предполагать.
2
Теперь оставим ненадолго Александра. Познакомимся с другим человеком.
В те давние времена детей в семьях бывало множество. А в этой семье было семеро — три мальчика и четыре девочки. Но более всего родители любили Маргариту — девочку роста выше среднего, стройную, с лицом не бог весть каким красивым. И скулы больно широки, и подбородок упрямо к губам подтянут, и нос горбатенький. Но у нее были очень выразительные желто-серые глаза под темными бровями. Маргарита любила музыку, многие пьесы она сама исполняла весьма недурно. Голос же у нее, когда пела, покорял всех. Бралась ли Маргарита за книгу — бывало, часами не оторвешь. А если нет книги в руках — егоза, непоседа, шалунья. И уж коли увлечется чем-либо, увещевать, отговаривать бесполезно. Чуяли родители, что такой она и останется в любом возрасте.
Когда минуло Маргарите шестнадцать, решено было, что пора ее «пристраивать». Хочешь не хочешь, а пришлось строптивой девчонке выезжать с маменькой в свет. Внешне — не придерешься, предлоги все благовидные, но развитым умом и неопытным сердцем девушка почувствовала: сватовством пахнет. И трепетала при одной лишь мысли, что приглянется какому-нибудь старому, но знатному, страшному, но богатому. Как в романах, которые читала. Что делать тогда? Смириться? Либо уж лучше… нет, страшно!.. И когда все чаще приглашал ее на танец и все чаще начал бывать у них в доме отменной выправки молодой кавалергард, и услышала Маргарита, что всюду говорят о нем одно лишь лестное, и увидела маменькино к нему особое расположение, — вздохнула с облегчением, решила: что ж, могло быть куда хуже… И сыграли свадьбу. Шумную. Хмельную. С многочисленной родней и обильным столом. Как положено. Маргарите все было непривычно, все в новинку. И не хотелось ничего загадывать, хотелось не думать, не тревожиться. Как будто лежишь на воде, раскинув руки, глядишь на звезды непонятные, и несет тебя неведомо куда…
Но брак этот не был счастливым. Кавалергард оказался человеком развратным и эгоистичным.
Маргарита перестала читать и музицировать, теперь не слышно было в доме ее пения. Смеяться же, казалось, никогда и не умела. И все думала, что самое лучшее теперь для нее — не жить больше. Умереть хотелось, и чем скорее — тем лучше. И, конечно, хорошо бы сделать это как-нибудь так, чтобы не слишком страшно, не слишком больно. И чтобы произошло это само собой, без ее участия, а то — грех…
Прогуливаясь однажды по аллее городского сада после визита к одной из весьма многочисленных своих приятельниц, мать Маргариты вдруг насторожилась. В дальнем конце аллеи она заприметила тонкую фигуру дочери. И рядом, на расстоянии непозволительно близком — незнакомого офицера, почти мальчика с виду.
Судя по всему, молодые люди также заметили, что они теперь не одни здесь. Видно было, как Маргарита устремилась было прочь, но офицер удержал ее и горячо доказывал что-то — вероятно, убеждал не унижать себя бегством, не скрываться, коль скоро их заприметили. Такое предположение вызвало у матери чувство уважения к таинственному спутнику дочери. Однако она, разумеется, тотчас подумала, как дурно может быть истолковано подобное поведение замужней женщины из приличной семьи.
Приблизившись, она увидела, что офицер этот отнюдь не богатырского сложения. И невольно сравнила его фигурку с атлетической комплекцией зятя-кавалергарда, явно в пользу последнего. Едва кивнув офицеру и обращаясь исключительно к дочери, строго спросила:
— Как такое понимать, душенька? Дома я вижу тебя с одним, здесь с другим, мне незнакомым…
Маргарита покраснела и смешалась. Офицер же молвил голосом почтительным, но твердым:
— Тот, кого вы наблюдаете дома, и тот, которого видите здесь, — лицо не одно и то же. Позвольте представиться. Полковник Тучков, Александр Алексеевич.
После чего, сославшись на дела служебные, он откланялся, оставив Маргариту наедине с матерью.
Выслушав от матери множество упреков, в которых упомянуты были и добрая репутация семьи, и честь женщины, и мнение света, и некоторые заповеди, а также мораль, нравственность, долг, обязанности и многое тому подобное, юная женщина ответила так же лаконично и твердо, как говорил только что полковник и как никогда прежде не смела она говорить с матерью:
— Он неравнодушен ко мне, однако относится вполне уважительно. Иной привязанности к жизни у меня сейчас нет.
Разводы в те времена были редкостью. Но привязанность к самой любимой из дочерей и опасение за дальнейшую ее судьбу оказались сильнее прирожденной гордыни и благоприобретенных предрассудков. Выслушав Маргариту, родители потребовали от зятя незамедлительного прекращения каких бы то ни было сношений и в дальнейшем какого бы то ни было напоминания о своей персоне. К тому времени, надо сказать, репутация кавалергарда в полку также изрядно пошатнулась из-за каких-то нечестных поступков.
Как только Александр Тучков узнал о благополучном разрешении бракоразводного дела, он без колебаний, без промедлений, по всей полагающейся форме посватался. Но… С такой же решимостью, с какой родители помогли дочери избавиться от кавалергарда, они потребовали от новоявленного жениха, чтобы он оставил в покое Маргариту и всю их семью.
— Горя и унижения мы перенесли более чем достаточно, — говорила ее мать. — Повторно ошибиться и вновь пережить подобное… Нет, это было бы свыше наших сил. Поймите нас правильно, любезный полковник. Вы еще молоды, перед вами, насколько мне известно, немало заманчивых перспектив. У вас есть время и возможность успокоиться, одуматься и построить свою судьбу без участия в ней Маргариты. Поверьте, полковник, что мы желаем вам одного лишь добра. И не гневайтесь.
Никакие слезы и мольбы Маргариты родительских сердец на сей раз не тронули.
Полковник Тучков считал соображения родителей Маргариты справедливыми, поскольку направлены они были, по его впечатлению, исключительно на благо дочери. Но и отказаться от столь внезапно возникшего чувства он не находил в себе силы, хотя успел, невзирая на возраст, заслужить репутацию человека весьма волевого. Его не покидало непривычное ощущение, возникшее еще при первой встрече с Маргаритой в доме приятеля-однополчанина. Едва увидев ее тогда, Александр Алексеевич ощутил внезапно, что женщина эта ему не чужда, что она таинственным образом связана с его судьбой и отныне так или иначе будет присутствовать во всей его жизни и оказывать на всю его жизнь постоянное влияние. Как он ни противился этому ощущению, оно — быть может, даже именно от такого сопротивления — не исчезало, а, наоборот, усиливалось.
Получив отказ, Александр Алексеевич старался занять себя полезным чтением нужных для службы и для общего развития книг. И немало преуспел в пополнении и без того весьма обширных своих знаний. Но одно другого не вытесняло. Он то и дело невольно оказывался в местах, где ранее встречался с Маргаритой, — и отвлечь его от воспоминаний уже ничто не могло.
Он предпринял путешествие за границу. Но ни расстояния, ни уходившие из жизни годы не освобождали от воспоминаний о единственной в его судьбе женщине. Его тянуло обратно в Россию. И все это, вместе взятое, теснейшим и сложнейшим образом переплетенное — Россия, Маргарита, — все это, вероятно, и было для него тем чувством Родины, которое так обостряется на чужбине.
Возвратился он с намерениями ясными и твердыми. Отнюдь ни на что не надеясь, а потому лишь, что не смог поступить никак иначе, он снова обратился к Маргарите и ее родителям с прежней просьбой. И не счел для себя унизительным, при всей своей немалой, всем Тучковым присущей гордости. Ибо смирить гордыню не для своей материальной выгоды, а ради любимого человека, — такое не зазорно.
На сей раз ее родители не устояли перед невиданным постоянством непонятного им военного, не устояли перед небывалой настойчивостью дочери. Уж так и быть, согласились…
3
Когда полковник Тучков собрался в первый свой поход, молодая жена решила сопровождать его. Александр Алексеевич, видно было, обрадовался такому проявлению верности, но пересиливало чувство тревоги за Маргариту. Однако она настояла на своем. С детства привыкшая к домашней роскоши и комфорту, теперь с изумившей всех легкостью, с этакой даже веселой беспечностью она переносила любые неудобства бивачной жизни.
Научилась держаться на лошади, не только амазонкой, но и по-мужски, в строевом седле. И порой, когда не было особой угрозы со стороны неприятеля, полковник разрешал ей сопровождать себя в конных рекогносцировках. Маргарита тщательно упрятывала косу под воинский головной убор, переодевалась денщиком и, уверенно придерживая натянутым поводом упрямую лошадь, следовала, не отставая, за Александром Алексеевичем.
Ее живость, веселый нрав, постоянно проявляющаяся доброта по-своему дополняли некоторую суровость и сдержанность полковника. Никогда не отказывала она в посильной помощи обращавшимся к ней с различными просьбами офицерам и солдатам, которые, в свою очередь, проявляли трогательную заботу, всемерно стараясь облегчить молодой женщине тяготы и неудобства походного быта.
Немало нищеты и горя народного насмотрелась Маргарита в походах. Ничего подобного ей доселе не только видеть, но и слышать о таком не доводилось. Печальные картины страдания человеческого неизменно пробуждали в ней стремление не только посочувствовать, но и помочь. Так, когда встречались на пути голодающие селения, она, сколько могла, наделяла крестьян хлебом и деньгами, всегда находя в этих своих стремлениях понимание и поддержку со стороны Александра Алексеевича.
Никогда прежде даже издали не наблюдавшая такого обилия крови, не видавшая ни изуродованных лиц, ни искалеченных тел, она находила в себе мужество и умение, неутомимо перевязывая раненых. Ухаживала за ними, исполняя все нелегкие обязанности сестры милосердия. Ни раны, ни стоны, ни мертвые уже не страшили ее в той мере, как это бывало с непривычки на первых порах.
Всего страшнее оказались для Маргариты часы бессильного ожидания во время сражений. Где-нибудь в расположенном поблизости от поля брани селе с ужасом прислушивалась она к оглушительным выстрелам и противоестественным крикам. Представляла себе Александра Алексеевича тяжело раненным либо убитым… Но вот умолкали звуки боя, прекращалась пальба, и слышался наконец приближающийся хор барабанов, спокойный, уверенный, возвещавший благополучное возвращение воинов. Не в силах более ждать в неведении, Маргарита выбегала на дорогу. И тотчас узнавала всадника, гарцующего впереди колонны. И не было больше затрудняющей дыхание тревоги, не было страха.
А вот как вел себя молодой полковник в первом своем бою. Это было у Гродно. Александра Алексеевича Тучкова 4-го послали во главе двух батальонов гренадер на подмогу атакованному неприятелем князю Щербатову. Стойкость и храбрость, проявленные молодым командиром, были отмечены командованием. В донесении говорилось, что полковник Тучков «под градом пуль и картечей» действовал смело и рассудительно, как на ученье. За этот бой Тучков 4-й был награжден орденом. Вторую боевую награду он вскоре получил, отличившись в жаркой схватке в составе авангарда под командованием Багратиона. К этому времени Тучков 4-й уже командовал Ревельским мушкетерским полком. Под умелым руководством нового своего командира ревельцы не раз выдерживали губительный огонь и натиск неприятеля. Особенно трудные, кровопролитные бои разгорелись в конце мая 1807 года у Анкендорфа. С рассвета до трех часов пополудни держался полковник Тучков со своими ревельцами. Сам Наполеон прибыл на поле боя, обеспокоенный безуспешностью своих атак. Русские полки, в том числе и Ревельский, яростной штыковой контратакой опрокинули неприятельский центр. Через три дня ревельцы, теперь уже находясь на правом крыле, в течение многих часов — до позднего вечера — удерживают свои позиции, невзирая на ощутимую многочисленность атакующих. Удерживают до того переломного момента, когда выдохлась и, обессилев, умолкла последняя неприятельская батарея. Эти выигранные часы позволили русским войскам организованно отступить, переправившись вплавь через водный рубеж. И, лишь получив соответствующий приказ, в полном порядке, не покидая на поле ни одного из своих раненых, последними отступили славные гренадеры Тучкова 4-го, награжденного за новый подвиг третьим орденом. Об этих боях Александр Алексеевич писал своему старшему брату Николаю:
«Невзирая на ядра, картечи и пули, я совершенно здоров. Я участвовал в двух кровопролитнейших битвах. Особенно жестока была последняя, где, в продолжение двадцати часов, я был подвергнут всему, что только сражения представляют ужасного. Счастье вывело меня невредимым из боя…»
Современники, боевые товарищи, неоднократно наблюдавшие молодого командира в деле, единодушно отмечали, что в самых критических ситуациях он оставался неизменно хладнокровным (внешне, во всяком случае), решения принимал быстро, распоряжения его отличались четкостью, продуманностью и, как правило, оказывались верными. Не раз видели его и с ружьем в руках, подающего пример даже бывалым воинам. В мирной же обстановке, по свидетельствам знавших его, это был воспитанный молодой человек весьма радующей глаз наружности, с душой благородной, чувствительной и возвышенной. Его нередко видели сидящим в задумчивости, во власти одному ему ведомых мечтаний. В такие минуты он, казалось, не замечал происходящего вокруг. Но стоило только кому-либо завести разговор о судьбах России, о нескончаемых войнах, выпавших на ее долю, — Александр Алексеевич, словно пробудившись, тотчас вступал в беседу, горячо отстаивая свои суждения. И в суждениях своих опирался на обширные знания.
Всего тридцать один год минул Тучкову 4-му, когда присвоили ему звание генерал-майора. Царствующий тезка его Александр I удостоил героя милостивым рескриптом, в котором говорилось:
«Отличное усердие ваше и ревность к службе, оказанные вами в нынешнюю… кампанию, коими вы, руководствуясь при выступлении из Кеми, с порученною вами колонною, сделали переход через глубокие снега, до пятидесяти верст, при великой стуже, но, невзирая на сие, через хорошее смотрение ваше и наблюдение строгой дисциплины, усталых и умерших от холода не было, и войска попечением вашим, соблюдая порядок, приобрели в неприятельской земле любовь всех жителей, поставляют Меня в обязанность изъявить вам через сие Мою признательность и совершенное благоволение, с коим пребываю вам благосклонный».
Вежливо обращаясь к подданному, любезный монарх не писал «вы» с заглавной буквы, как это принято теперь между людьми благовоспитанными, зато без ложной скромности начинал с заглавных букв местоимения первого лица: «Меня», «Мою»… и т. д. В те времена подобное воспринималось как нечто закономерное и обсуждению не подлежащее и вряд ли кого-либо шокировало.
Через некоторое время мундир нашего героя украшается четвертым орденом — «В воздаяние отличного мужества и храбрости…». Его назначают командиром бригады в 3-й пехотной дивизии генерала Коновницына. Теперь под началом генерал-майора Тучкова 4-го — два полка: Мурманский и Ревельский. На смотру в мае 1812 года дивизия Коновницына, включая и бригаду Александра Алексеевича, была поставлена в пример всей армии…
4
Война!
Барклай вынужден был отступать к Витебску. Обстановка сложилась тяжелейшая. Тучков 4-й получает приказ: обеспечить сообщение с Бабиновичами, что имело для русской армии немалое значение. Для проведения этой трудной и ответственной операции в распоряжение молодого военачальника поступают не только два егерских полка, но также придаются двенадцать кавалерийских эскадронов, казачий полк да еще шесть орудий конной артиллерии. Безотказный Тучков 4-й, как всегда, вновь оправдывает надежды, успешно выполняет приказ и возвращается к своей бригаде под Витебск. И весь день находится со своими полками под губительным огнем неприятельской артиллерии, невероятным напряжением сил сдерживая сильнейший натиск Наполеона. Не успевают солдаты прийти в себя — снова сражение. На сей раз — под Смоленском. Здесь Тучков 4-й неколебимо стоит на защите Малаховских ворот, ни шагу назад не делая без приказа.
Впрочем, ход войны 1812 года описан достаточно. Сейчас речь идет лишь о том, что имеет прямое отношение к судьбам Александра Алексеевича и Маргариты.
Куда бы ни направляла военная судьба Александра Алексеевича, молодая подруга не оставляла его, мужественно делила с ним походные тяготы и заботы. В 1812 году он получил приказ выступить из Минской губернии к Смоленску. Дороги были скверные, полки двигались медленно, тяжело. Маргарита ехала в дорожной карете, придерживая мотающуюся от неимоверной тряски головку маленького сына. Однако то, что способны перенести взрослые, может оказаться чересчур непосильным для малыша, не умеющего еще ходить. К тому же чувствовалось приближение решительных баталий. И по настойчивому совету Александра Алексеевича решено было, что, проводив мужа до Смоленска, Маргарита уедет с сыном в Москву, к своим родителям, и там будет терпеливо дожидаться счастливого исхода войны.
Под Смоленском ночевали в душной избе, постелили на полу сено, спали одетыми. Наутро должны были расстаться. Надолго ли? Бог весть…
Дух в избе был тяжкий. Маргарита никак не могла уснуть. Наконец забылась. И привиделась ей не то бумага в раме, как будто картина выцветшая, не то стекло оконное — тоже в раме деревянной. И то ли по бумаге, то ли по стеклу потекли вдруг струйки алой крови (такого цвета кровь она видела, когда пуля порвала у одного солдата жилу под ухом…) — струйки, стекая, расположились рядами букв — написано было не по-русски. Она застонала жалобно, тонким детским голосом, затем вскрикнула, пробудилась, вскочила на ноги. А перед глазами алели все те же буквы. И не сразу растаяли…
Встревоженный Александр Алексеевич бросился к жене, обнял ее, бледную, дрожащую, ласково гладил растрепавшиеся волосы. Придя немного в себя, она рассказала ему свой сон.
— Просто твои нервы переутомились, — Александр Алексеевич говорил спокойно, ровно. — И в избе душно. Постарайся уснуть, все будет ладно. Спи, родная…
Его голос успокаивал, она перестала дрожать, снова легла, закрыла глаза. И тотчас снова увидела ту же рамку, те же кровоточащие нерусские слова… Снова вскочила, теперь уже не могла ни уснуть, ни избавиться от тревоги.
В ее семье после передавалось из поколения в поколение предание о вещем сне. Люди в ту пору были набожны и суеверны. И кто знает, что в том предании верно, а что невольно добавлено и смещено? Быть может, прав был Александр Алексеевич, полагавший, что сновидение ее — не более как плод нервного переутомления. Постоянная тревога за близкого человека, соприкосновение с кровавыми подробностями войны, да к тому же еще и усталость после тяжелого пути, и духота в избе — все это вполне может рассматриваться как предпосылка к «вещему» сновидению. А последовавшая вскоре гибель Александра Алексеевича может быть объяснена самой его профессией воина и жестокостью сражения, в котором не один он сложил голову. И вместе с тем кто может доказать, что не могло иметь места какое-либо предчувствие?
5
Хорошо известно про дело при Бородине 26 августа 1812 года. На старой Смоленской дороге, за деревней Утицей, стояла бригада Тучкова 4-го, входившая в состав 3-й дивизии Коновницына, в свою очередь состоявшей в корпусе, которым командовал старший брат Александра Алексеевича — Тучков 1-й. Когда в шесть часов утра огромные силы неприятеля обрушились на левое крыло войск Багратиона, затем были все же остановлены, но через час снова атаковали, — на подмогу поспешила дивизия Коновницына. Напряжение и ярость побоища у Семеновских флешей, казалось, достигли апогея, когда подошедшие полки 3-й дивизии с ошеломляющим боевым кличем атаковали и опрокинули врага.
Тучков 4-й действовал в центре, на средней флеши. И вдруг заметил, что один из его полков — Ревельский — не выдержал ядер и картечи, ослабил натиск и дрогнул. Пошатнулось знамя в руках раненого знаменосца. Еще немного — и контратака сорвется. И тогда уж неприятель наверняка получит возможность нанести новый, гибельный для наших войск удар. Привыкший быстро оценивать обстановку, принимать решения скорые и единственно верные, привыкший незамедлительно переходить от решений к их выполнению, молодой командир не потерял невосполнимого времени на сомнения и колебания. Выхватив у не успевшего опомниться, ошалевшего от боли знаменосца отполированное солдатскими ладонями древко, генерал-майор, не оглядываясь, устремился вперед, навстречу угадывавшимся в дыму неприятельским рядам. Уверенный, что ревельцы не подведут его. И ревельцы не подвели, последовали за своим генералом, за своим знаменем… Но, наращивая скорость движения вперед, наращивая громкость дружного боевого «ур-ра-а-а!», увидали ревельцы, что возглавлявший их любимый командир резко, с разбегу остановился, запрокинул голову, будто от удара в лицо, и вслед за тем упал навзничь, а вокруг него с грохотом и шипением вздыбилась от множества ядер почерневшая земля. И в то время как одни, подхватив знамя, продолжали стремление вперед, другие — их было меньше — столпились вокруг упавшего командира, прикрывая его от новых ядер собственными телами…
На другой день, находясь на биваке при городе Можайске, заместивший выбывшего из строя Тучкова 1-го генерал Коновницын писал своей жене:
«Наконец вчерась было дело генерального сражения, день страшного суда; битва, о коей может быть и примеру не было… Я командую корпусом. Тучков ранен в грудь. Тучков Александр убит. Тучков Павел прежде взят в плен…»
6
Видел я одну старинную гравюру — портрет Тучкова 4-го. Но именно таким представлялся мне всегда Андрей Болконский.
Давайте рассуждать. Князь Андрей пал со знаменем в руках под Аустерлицем, а Тучков — под Бородином. Тучкова убило, а Болконский лишь на время почувствовал себя убитым, когда упал со знаменем. Кстати, смертельно ранен князь Андрей был в той же Бородинской битве. Но не это главное — главное в знамени, которое подхватил молодой командир, увлекая за собой солдат. А заменить место подвига и отсрочить смерть героя, не говоря уже о замене имени и придании образу собирательных черт, — на то воля писательская. Не так ли? В двухэтажном каменном здании гостиницы Спасо-Бородинского монастыря останавливался Лев Николаевич. Вряд ли миновали его рассказы о подвиге Тучкова 4-го. И быть может, сознательно либо даже подсознательно, писатель использовал сведения об Александре Тучкове, когда создавал своего Андрея Болконского. Правда, в том списке имен собственных, который приведен в Полном собрании сочинений Льва Толстого, изданном Академией наук, никакой Тучков не значится…
И еще. Изображенный в знаменитом стихотворении Лермонтова «Бородино» безымянный полковник очень многими чертами схож с генерал-майором Тучковым 4-м. «Рожден был хватом…» «Слуга царю — отец солдатам…» «Сражен булатом, он спит в земле сырой…» И — горячий его призыв… И — сверкающие глаза… Многое тут подходит. А то, что не генерал, а полковник, что не ядро, а булат… Да ведь речь-то о произведении поэтическом. Так что же из этого следует? Не спешите! Мало ли их было, подобных героев-командиров, павших в Бородинской битве? Сто шестьдесят шесть офицеров и шесть генералов… Почему же непременно Тучкова 4-го должен был избрать поэт прототипом своего полковника? Опять же, не спешите! Здесь любопытно вот что. В первом варианте стихотворения, называвшемся «Поле Бородина», полковник не упоминался. Там фигурировал некий «вождь», отнюдь не «сраженный булатом». Не исключено, что Багратион или сам Кутузов. И в его уста первоначально были вложены слова: «Ребята, не Москва ль за нами? Умремте ж под Москвой, как наши братья умирали!» В окончательной редакции эти же слова произносит уже полковник. Но откуда он взялся вдруг? Насколько собирателен этот образ? Был ли у него прототип? Известно, что Лермонтов изучал материалы Бородинского сражения. И не исключено, что в их числе не раз находил упоминание имени Александра Тучкова 4-го. Можно предположить, что на впечатлительную натуру поэта подвиг молодого военачальника мог оказать немалое воздействие. И, как знать, не сказалось ли это на новом варианте стихотворения? Возможно ведь такое? Почему нет? Не докажешь. И не опровергнешь. Так или иначе, а подобные предположения, однажды навестив нас, не скоро оставляют в покое…
7
Что было дальше с Маргаритой? Благополучно добравшись с сыном до Москвы, она узнала, что родители покинули древнюю столицу и уехали в Костромскую губернию. Казалось бы, самым благоразумным для нее было бы следование туда же. Но, не желая чрезмерно отдаляться от мест, где находился муж, стремясь в наикратчайшие сроки получить от него известия, она решила остаться в наполовину опустевшей Москве. Сняла небольшую квартиру и поселилась там с сыном. Письма от Александра Алексеевича получала довольно часто. Написаны они были, судя по всему, второпях, но неизменно отличались ласковостью и спокойствием. После таких писем она и сама успокаивалась, насколько было возможно, и с нетерпением ждала новой весточки.
Потом писем долго не было…
Первого сентября был день именин Маргариты. Приехал отец из-под Костромы, явились немногие гости. Все только и говорили о состоявшемся на днях генеральном сражении при Бородине. Давно не получавшая от мужа вестей, Маргарита едва держалась. И когда неожиданно вырос на пороге еще один гость, в промокшем плаще, грязных сапогах, угрюмый, небритый, осунувшийся, весь пропахший конским потом и пороховым дымом, узнала она в нем своего брата, шепотом крикнула:
— Убит!!!
Отец и брат едва успели подхватить ее.
Временное отступление нашей армии да и собственное тяжелое состояние не позволили Маргарите отправиться тотчас на злосчастное Бородинское поле, чтобы отыскать тело супруга. Лишь в конце октября, когда неприятель вынужден был убраться восвояси, Маргарита, кое-как придя в себя, отправилась на Бородинское поле. Друг семьи генерал Коновницын прислал ей подробную карту местности. Инок Колоцкого монастыря вызвался сопровождать ее.
Десятки тысяч разлагающихся трупов жуткими темными холмами усеяли бранное поле и заражали окрестный воздух невыносимым смрадом. Возвращавшиеся из лесных укрытий к своим дотла разоренным жилищам крестьяне пытались было приняться за погребение павших, но это оказалось практически неисполнимым: слишком много потребовалось бы могильщиков. И земские власти, не видя иного выхода, распорядились трупы сжигать. Осеннее низкое небо над пламенем огромных костров. Сырой холодный ветер раздувал огонь, разносил по окрестностям густой зловонный дым. Медленно продвигались по зловещему полю две фигуры в черных одеждах — инок и молодая вдова. Да разве отыщешь здесь кого-либо из погибших, разве опознаешь останки, изуродованные до неузнаваемости? Разве может долго выдержать чувствительная женская натура эти ужасы?
На другой день повстречался им раненый солдат Ревельского полка. Как же было ему не узнать молодую супругу своего любимого командира? И он рассказал… От полка осталось немного — заново формировать придется. А о том, как погиб Александр Алексеевич… да, солдат был при этом. И он продолжал свой рассказ невеселым сорванным голосом. Сперва генерал лишился обеих рук. Упал. Подбежали к нему, подняли, понесли. Не прошли и десяти шагов — новое ядро оторвало ноги. Четвертовали, можно сказать… И еще одно ядро ударило в самую грудь…
Маргарита стойко выслушала все эти подробности.
Вскоре отыскался другой очевидец. Этот рассказывал несколько по-иному: раненного картечью командира положили на носилки, понесли — и тут прямым попаданием его разорвало на части, раскидало во все стороны, теперь не отыщешь…
Она выслушала и этот рассказ.
И продолжала поиски. Инок шел с факелом впереди, следуя ее указаниям. Осторожно обходили угадывавшиеся в полумраке тела в полуистлевших лохмотьях, оторванные конечности, отделенные от туловищ оскаленные головы. Завидя труп, лишенный конечностей, вдова, не показывая ни страха, ни отвращения, нагибалась и тщательно осматривала его. На одном нашла образок — вздрогнула: почудилось, что знакомый. Нет, только почудилось… Всю ночь бродили. Не нашли. Под утро она потеряла сознание.
Много дней она бредила в сильном жару. Солдаты ошиблись!.. Александр не убит, он — в плену!.. Нет, он бежал из плена, он бродит где-то здесь! Надобно встретить его!.. И среди ночи она бежала прочь от дома, бежала по свежевыпавшему снегу — встретить!.. Наконец поверила, смирилась. Решила посвятить жизнь воспитанию сына, ради него надо было взять себя в руки, заставить себя дышать, есть, спать.
Три года спустя Маргарита возвратилась под Бородино и поселилась в небольшом деревянном домике рядом с Багратионовыми флешами. И принялась за постройку памятника на месте гибели Александра Алексеевича — первого памятника на Бородинском поле. Порой не хватало средств, не могла рассчитаться за дрова, необходимые для обжигания кирпича, — находились отзывчивые люди, выручали… Прожила здесь вдова все оставшиеся дни свои. За доброту и скромность местные жители ее любили. Памяти единственного друга своего оставалась верна до конца.
В 1839 году вдова героя основала — в память о подвиге, близ исторического поля русской славы — женский Спасо-Бородинский монастырь, где, кстати, изобретен был и выпекался не черствеющий подолгу и потому удобный в дальнем странствии бородинский хлеб, неповторимого вкуса, популярный у нас и поныне.
Те, кто бывал на Бородинском поле, видели бледно-розовый гранитный обелиск — дань уважения гренадерам Муромского пехотного полка, сражавшимся в составе бригады, которой командовал генерал-майор Тучков 4-й. А рядом — часовня-мавзолей, с куполом, портиком, белыми колоннами, воздвигнутая силою великой женской верности на месте последнего подвига Александра Алексеевича…
Не правда ли, достойнейший пример? Пример верности Отчизне. Верности любимому человеку. И одно другому отнюдь не противопоставимо.
Да, Тучков 4-й не стал декабристом, не дожил. И Маргарита не разделила участи княгини Волконской. Но именно такие командиры выводили своих солдат на Сенатскую площадь. Именно такие подруги шли в ссылку вслед за декабристами. И если бы Александр Тучков не погиб в 1812-м, он, мне кажется, не остался бы в стороне от событий 1825-го. Право, так могло быть…
НОКТЮРН БОРОДИНА Рассказ
Принимай возможно полное участие в деле своего и общего совершенствования.
В. Соловьев
Из свободомыслящих, но не нигилист.
А. БородинПеред рабочим столом — окно. За окном — липы, березы и вязы, зеленое вытесняется желтым, а вершина оранжевой кроны клена пламенеет боевым багряным стягом. И видятся под таким стягом сомкнутые ряды щитов червленых. Не нынешних игрушечных, пластмассовых, из «Детского мира», а — тех, давних, суровых, воспетых все еще неведомым автором дружинного эпоса…
Прямой, как древко копья, ствол сонной лиственницы. По стволу, вниз остроклювой головкой, снует серый поползень, озабоченный. Вот спугнул его одинокий грач, прилетевший и усевшийся на протянутую в сторону ветку. Не осталось на той ветке нежной пожелтевшей хвои — одни темные шишечки. И — черный грач. Он издает чудны́е звуки, пытается говорить по-человечьи, старается поведать мне, что не намерен никуда улетать на зиму, что решился и отрекся от кочевого обычая предков — стал оседлым. Что ж, ему виднее. Со своей ветки…
Высказался и замолчал общительный грач, покинул ветку лиственницы, улетел — недалеко. Теперь слышно, как ветер шумит неровно в близком отсюда лесу, как уныло подвывает в далеком поднебесье самолет, как нежно попискивают где-то совсем рядом непоседливые синицы.
И все эти любезные душе целительные звуки внезапно перекрываются бесцеремонным голосом собрата по профессии, возникшего под окном. Он добрый малый, но слишком уж неизменно бодренький, чересчур назойливо шумливый. Утомляют меня такие, и не верю я их рекламному бодрячеству. Куда от них деваться?
— Это что, — вопрошает, — уже бабье лето?
— Нет, еще девичья осень, — неуклюже пытаюсь отшутиться. И разъясняю серьезно, что когда бабье лето — небо голубеет, солнце не за тучей, летучая паутинка на лице оседает, а нынче ничего этого нет, день пасмурный.
Разочарованный таким моим ответом, бедняга отчаливает из-под окна. Дай бог ему писать поярче да печататься почаще. И — найти себе более отзывчивых собеседников.
А мне сегодня хочется побеседовать с героем не нашего времени. С героем давно минувших дней. И не потому, что якобы вознамерился трусливо бежать от непростых неотложных наших дел сегодняшних. Отнюдь! Наоборот даже…
На пластинке, с одной из двух ее сторон, значится: «А. П. Бородин. Ноктюрн». Включаю проигрыватель, устанавливаю пластинку и осторожно опускаю звукосниматель на завертевшийся диск…
1
В Петербурге осень дает себя знать рано. Неуютный ветер обещает принести не первые тучи и первые заморозки. А пока, невзирая на ветер, небо еще ясное, и невысокое солнце празднично отражается в золоте куполов Исаакиевского и Казанского соборов, Александро-Невской лавры, шпилей Адмиралтейства и Петропавловки. Похоже, вот-вот засверкают под тем же солнцем трубы военного оркестра, зазвучит мужественный марш… Бородин прислушивается. Нет, что-то не слыхать пока. А хотелось услышать.
Они и мужественные, и в то же время грустные, русские военные марши, исполняемые духовыми оркестрами. В этом необычном, неповторимом сочетании мужества и грусти — душа и судьба народа. Душа, определенная и сформированная судьбой. Но позвольте! Разве не свойственно русской душе, помимо мужественной грусти, и безудержное веселье? Разве в самые нелегкие годины своей судьбы разучался народ смеяться?
Ну, разумеется, никто не спорит: не о том — тоже, кстати, высмеянном! — дураке речь, который рыдал на свадьбе и смеялся на похоронах. И не о тех господах нигилистах, которые не смеются весело, а лишь сумрачно усмехаются. Не по душе они Бородину, так называемые нигилисты. Ну что за варварство такое, что за крайность — все подряд рушить, все сплошь отрицать! Не оставить для современников и потомков ни веками созданных духовных ценностей, ни нравственных традиций, ничего? Ничего святого не оставить? Что же в таком случае останется человеку? Озвереть при внешнем человекоподобном облике? А затем и всякое внешнее человеческое подобие тоже утратить? Нет, не по душе сие Бородину.
Да и в разных литературных сочинениях, опять же. Читал он их немало. Есть среди них достойные, спокойно и ясно написанные, где все — в строгой завершенности, все — в гармонии, и жизнь несуетливо созерцается в ее реальной, естественной простоте. Нет, отнюдь не то реально и органично, что встречается в жизни досадного и даже омерзительного. Если пьяные мужики ругаются по-матерному — так это черт знает что! Сие — противоестественно! Ибо противоречит самой натуре человеческой. И живописать подобную мерзость в изящной словесности, как это делает, скажем, вполне уважаемый господин Щедрин в своих «Благонамеренных речах»… Чего ради, спрашивается? Обличить порок? Так сей порок и не скрыт, не прячется, он сам себя на каждом шагу обличает. Век бы его не видеть и не слышать!
Но Бородин себя сатириком не мыслит. Он — никак не сатирик, хотя пошутить и посмеяться всегда не прочь. Но — без яда, без злорадства, вот ведь в чем суть! Он — не сатирик, он, скорее, — поэт, певец возвышенного… Да и вообще никакой он не литератор, хотя порой балуется стихосложением. А баловство это — слагать стихи — в старину вообще входило в перечень непременных рыцарских добродетелей. И музыка для него — быть может, тоже баловство досужее. Хотя досуг этот порой немалого труда требует… Но он не композитор, нет. И не желает никакой известности, не стремится хотя бы приблизиться своею популярностью к славе великого Глинки, что бы там ни утверждал Стасов. И не намерен соперничать с Мусоргским, у которого все так смятенно и мятежно… Бородин — ученый, ученый-химик, вот его призвание! И кое-что на этом научном поприще ему удается. Уже, можно сказать, удалось. Опубликован не один труд по органической химии; получено первое фторорганическое соединение — фтористый бензоил; разработан метод получения бромзамещенных жирных кислот; исследованы реакции альдольной конденсации… Не зря был он поначалу вольным слушателем Медико-хирургической академии, не напрасно — будучи уже доктором медицины — провел три года за пределами Отечества, расширяя и совершенствуя свои знания. Он адъюнкт-профессор по кафедре химии — вот в чем его главный повседневный труд, вот где и чем полезен он своему народу. А музицирование — второстепенное занятие, любимый досуг всего-навсего. Досуг, приносящий душе известное удовлетворение, успокоение, отдых от утомительной житейской суеты…
Эх, жаль, так и не дождался он военного оркестра, не услышал желанного марша! В эти последние солнечные дни уходящей осени что-то не солнечно на душе у Бородина — как в непогоду над Финским заливом. Отчего бы?
2
Уж неделя, как покинул он Житово, где проводил лето. Хорошо было там, в гостях у природы. А здесь… Нет, не соскучился он по своей полуночной столице, подольше бы ее не видеть!
В Академии наук обстановка — хуже не бывало. Что ни день, что ни час — отвлекают бессчетные комиссии, не дают спокойно трудиться. Досаждают чинуши всяческие, ни черта полезного делать не умеющие и другим не дающие. Развелось их, однако… Но признайся сам себе честно, Бородин: не их ли выводили за ушко да на солнышко столь нелюбезные тебе сатирики? Не только Щедрин. А тот же Гоголь? Но Гоголь — явление особое. Да, он высмеивал, еще как едко высмеивал! И он же — воспевал, еще как вдохновенно воспевал великую душу русскую, богатырскую, способную не по крови, а по духу породниться! И даже в смехе его беспощадном — слеза горючая, боль безутешная. Любил он Русь. А возможно ли любить без слезы и без боли?
Но ты — не Гоголь. И не Глинка. Хотя любишь Россию, ей-ей, не меньше. И стараешься служить ей, служить ее многострадальному народу в меру скромных сил своих, в меру своего разумения. Всегда ли удается?
Вот, скажем, курсы женские, любимое твое детище. Чем плохо, казалось бы? А не сегодня завтра прикрыть их могут. Новый военный министр считает, видите ли, «неудобным» содержать их при своем ведомстве. А что в них «неудобного», что обременительного, в курсах этих? Или даже в столь невинной затее углядел бдительный министр нечто крамольное? Теперь ведь всюду ищут крамолу. Чаще — там, где ею и не пахнет. Боятся? Стало быть, боятся. Иначе бы не искали так ретиво и так невпопад.
А чего бояться-то? Кучки полубезумных крикунов-нигилистов? Что ж, опасаться их, понятно, следует: отрицая всё и вся, недолго и до злодеяния докатиться. Но ведь народ за ними не пойдет, как бы ни страдал. А кричат-то они, между прочим, от имени народа. Только народу от такого крику не легче. И давно известно: в любителях вещать именем народа никогда недостачи не было. Еще со времен Катилины, если не ранее того. А где нынче в Третьем Риме тот Цицерон, который дерзнет и сумеет обличить нынешних последователей Катилины? Не видать и не слыхать.
Но, может, вовсе не крикуны-нигилисты породили растущий не по дням, а по часам великий страх перед крамолой? Может быть, первопричина такого страха — боязнь потерять незаслуженные привилегии, непомерную роскошь и вседозволенность, лишь раздражающую и возмущающую исстрадавшегося простолюдина?
Не перевелись ведь бесчинствующие за счет казны последыши князя Владимира Галицкого, кредо коего было: пожить всласть, ведь на то и власть. А страшился ли князь Галицкий крамолы? Нет, не страшился! Ибо умел, одной рукой отнимая у народа дочерей для утехи и надругательства, другой рукой своей подносить народу зелье хмельное. Вот и славили его до хрипоты скоморохи типа Скулы да Ерошки. Чего же было страшиться Галицкому? Одного только: князя более сильного, за которым — дружина.
Выходит, нынешним Галицким не нигилистов надобно страшиться, а государя, за которым — войско? Тогда к чему искать крамолу вдали от государева двора? Так что же полезнее для многострадальной Руси, что излечит ее от извечной хвори, порождавшей развращенных Галицких и ответные кровавые бунты, где первым делом гибли не виновные, а случайно под горячую руку подвернувшиеся? Что для нас лучше? Вече Новгородское? Сенат Римский, окончившийся деспотизмом Суллы? Конвент французский, породивший Бонапарта? Парламент западный, явно не для России пригодный? Или все же — просвещенный монарх типа Марка Аврелия и Владимира Мономаха, который сумеет не злоупотребить данною от Бога властью, а употребит ее на благо народа, на защиту его от обнаглевших Галицких? Такому монарху и крамола никакая нипочем…
А сейчас что в империи деется? То и дело студенты исчезать начали. Поодиночке и целыми группами. Бесследно. Сколько раз ни пускался Бородин в розыски слушателей своих, всегда одно и то же выяснялось: арест! Иной раз удавалось выручить: с его именем считались. А бывало, что и не удавалось. И так после муторно, так тягостно на душе, подчас даже лекции читать желанья нет…
Но что, если среди его студентов, которых выручить не удалось, как раз те самые нелюбезные ему нигилисты? Не верится. А кто поручится?
Ну да, возможно, он и не вполне последователен в своих суждениях. Возможно… Но достижима ли абсолютная, непогрешимая последовательность в подобных вопросах? Ведь речь-то идет не о методике химического эксперимента, не о количественном анализе сложного вещества! Речь идет о сложнейших политических явлениях. Тут адъюнкт-профессор Бородин — пас…
3
Уж вечереет. И уходит за дома недолгое петербургское солнышко. Света зажигать не хочется. А чего же хочется? Быть может, чтобы вошла неслышно Катя. И подошла неспешно. И коснулась бы его нежными пальцами, такими издавна знакомыми, такими навсегда родными…
Не войдет. Она все еще в Москве. Жить без своей родни не может! А — без него? А он — без нее?.. Вот сейчас она — далеко от него. Как будто, на первый взгляд, и забот поменьше. Но до чего же тоскливо! А князю Игорю, вдали от своей голубки-лады, так же тоскливо было? Или — чуток поменьше (побольше — немыслимо)? Тоска — не овес, не отмеришь.
Сейчас, когда Катя далеко, Бородин видит ее совсем юной. Как много лет назад, в далеком отсюда Гейдельберге. Помнится, явился он к ней тогда впервые во главе целой делегации — просить прибывшую из родной России молодую пианистку сыграть им что-нибудь. А она, выслушивая общую просьбу, смотрела на одного него, удивленно и внимательно, будто искала в чертах его лица что-то очень нужное для себя, но пока все никак не находила.
После они не раз бродили вдвоем по узким тихим улочкам, под старыми липами, меж аккуратных тесных рядов островерхих зданий. Частенько уходили в ближайшие горы и там, никем не видимые, никем не слышимые, все беседовали, беседовали. Преимущественно — о музыке. Она рассказывала о Листе, о Шумане. Бородин тогда ничего почти не знал о них.
Когда во время таких прогулок встречались им крутые подъемы — он галантно предлагал ей помощь, но Катя с необъяснимым упорством отказывалась, решительно отводила протянутую руку, одолевала подъем самостоятельно. Бородина обескураживало, огорчало столь явное и, главное, незаслуженное недоверие. Откуда было знать ему, что на первых порах, наслушавшись от праздно болтливых экзальтированных дам всевозможных восторженных отзывов об импозантном молодом человеке, Катя представляла его себе этаким легкомысленным ловеласом. Но терпеливость, выдержка — лучшее зелье от неоправданной подозрительности. И когда она, не выдержав, поведала ему наконец о причине своей суровой сдержанности, — оба долго смеялись, и до чего же легко, до чего хорошо им в ту пору было!
Вскоре, изо всех сил стараясь не проявить волнения, Бородин однажды произнес нелепейшую, по его мнению, фразу:
— А знаете, матушка Катерина Сергеевна! Ведь вы… ведь вы мне спать не даете…
— То есть как это? — изумилась и вновь насторожилась она.
— А так вот, представьте себе. Не даете спать… своими рассказами о Шумане, своею игрой его шедевров.
И он тяжко перевел дыхание, хотя они в этот момент не поднимались, а — наоборот — спускались с горы. Она не ответила, усмехнулась загадочно. Однако именно в тот день впервые сама протянула ему руку, и одного этого было достаточно, чтобы он снова не сумел уснуть до самого утра.
Затем они встречались в садике, примыкавшем к одноэтажному дому с крутой черепичной кровлей. Звезды — и яркие, и едва угадываемые, неисчислимые — одни только глядели на них меж недвижимо темневших древесных крон. Ветра не было. Приятно пахли росшие у изгороди розы.
Иногда, покинув садик, они брели куда-то в темноте, под сводами старинных аллей, мимо сумрачных средневековых башен и стен, все дальше, к горам. Молчали уснувшие на ветвях птицы, молчали никогда не пробуждавшиеся камни. И не мнилось, не представлялось даже, что они двое — не одни единственно живые существа в этой молчаливой мгле. И не мыслилось, что когда-нибудь возможно что-либо иное. Хотелось, чтобы не было тому конца, чтобы их уединение продолжалось вечно.
Еще тогда Бородин почувствовал, поверил, а сегодня — столько лет спустя — знает, не сомневается: одна лишь Катя, только она, как никто другой, способна понять его. И — поддержать. А потребуется — простить, даже в тех случаях, когда сам себе не прощает. Нелегко ей, бедняжке, и рядом с ним и вдали от него. Но рядом все же полегче… Голубка милая, прилетела бы поскорей!.. Услышать бы негромкое постукивание ее доброго, чуткого сердечка… Такой и представляет он себе Ярославну, только такой.
Как близко, как понятно ему теперь состояние разлученного со своею ладой, плененного князя! Так же, как Игоря, изматывают Бородина бессонные ночи, когда томишься, не находя исхода. Как жаждет измаявшаяся душа свободы — не для дикого разгула, не для безудержного беснования, но дабы трудом праведным, ничем не стесненным, искупить свои невольные провинности, чтобы завершить задуманное и незавершенное. Сколько доброго, нужного народу и Отечеству мог бы он сделать еще! Старался бы, во всяком случае. Но разве не старается? Разве так уж не свободен он? Разве — подобно иным своим студентам — под арестом? Разве — подобно князю Игорю — в плену у недруга? Кто и что гнетет? Кто, где и чем мешает?
И крыша над головой, и хлеба вдоволь на столе, и близкие — при нем (кроме Кати, но приедет же она, в конце-то концов!). В почете, в уважении тоже недостатка не испытывает. Ни в чем, выходит, недостатка нет! Однако неспроста душа томится. Чего-то, знать, недостает. Чего? Свободы, опять же? Но где же, в чем же твоя неволя, Бородин? Впору бы явиться сюда сейчас хану Кончаку и вопросить, хитровато прищурясь:
— Сознайся, разве пленники так живут? Так ли?
4
Уж сколько лет, как ждет своего часа затеянная опера «Князь Игорь»! А надобно ли возвращаться к ней? Ведь и Второй квартет до сей поры не закончен. Многое не сделано. Удастся ли? И все ли начатое надо непременно завершать? А ежели не то и не так начато, не то и не так задумано?
Весь опыт своей души, все, на что только способен, старался он вложить в задуманную оперу. И что же? Мало ли опыта накоплено душой? Мало способности отпущено от роду?
Уже после написания своей Первой симфонии, все неудержимее стремясь к созданию в музыке полотен эпических, монументальных, Бородин принялся искать подходящий сюжет для оперы. Найти помог Стасов — подсказал: а «Слово о полку Игореве»? Не придерживаться его буквально и дотошно, не иллюстрировать музыкальными картинками, а принять как отправную точку исканий и дерзаний. Ох, до чего же по душе пришлась подсказка! И боязно стало, сомненье одолело: по плечу ли? Что ж, волков бояться — в лес не ходить. Надо попробовать, приняться, а там — видно будет.
И принялся, да как принялся! Все, что так или иначе относилось к замыслу, читал и перечитывал. В этом снова помог все тот же Стасов: доставлял Бородину из Публичной библиотеки различнейшие летописные тексты, выполненные разными авторами переложения «Слова» со старославянского, всевозможнейшие научные трактаты. Прочел эпические русские песни, «Мамаево побоище», «Задонщину». Читал все, что только доступно было, из тюркского фольклора — дабы получше постичь душу половецкую. С той же целью изучил записи мотивов песен тюркских и угро-финских народов, собранных и в Средней Азии, и в Венгрии. Тут немало подсобил поэт Майков, тоже, кстати, по-своему пересказавший «Слово…». Немало истинного удовлетворения испытал Бородин в самом процессе этой предварительной работы. Но…
Но через год, и не сразу, а постепенно, исподволь, удовлетворение сменилось сомнением. А сомнение едва не довело до отчаянья.
Не раз пытался сделать хоть сколько-нибудь номеров из подготовленных материалов. Ничего не получилось.
Послушал «Пророка» в Мариинском театре — засомневался пуще прежнего: сама по себе задуманная опера, не драматическая в строгом смысле, представилась чем-то неестественным. Мало, мало здесь драматизма, мало сценического движения! Хотя, казалось бы, для самой музыки такой сюжет куда как благодарен. Ошибочное трактование сюжета со стороны драматической и сценической может сказаться лишь впоследствии — тогда уж дела не поправить.
А где гарантия, что сам такой сюжет придется по душе публике? Нет такой гарантии. Скорее всего, публике никак не понравится. А где гарантия, что вообще поставят подобную оперу? Опять же, нет гарантии. Ну, а ежели и состоится постановка, то сколько же с нею связано будет суеты, досадных мелких хлопот, возни с организацией репетиций, сколько выбивающих из колеи недоразумений — с дирекцией, с исполнителями…
Нет у него для всего этого ни времени лишнего свободного, ни прирожденного уменья, ни опыта в подобных делах. Это же вообразить невозможно, сколько труда и времени придется затрачивать на сочинение и музыки и либретто, а в результате — вполне возможное фиаско!..
К тому же, знает Бородин себя, он по натуре лирик, симфонист. Вот симфонию бы… А опера — бог с ней на самом деле! Ну, куда ему с оперой связываться? Нет, надобно повременить с такой большой затеей. Лучше, как и прежде, писать себе на досуге, что само напросится…
Года три не прикасается он к материалам и заготовкам начатого было «Князя Игоря». А музыкой тех времен душа уж заразилась, никуда не денешься — и, вместо отставленной оперы, сочиняется «Богатырская симфония». Сочиняется урывками, в досужие часы, которых стало еще меньше: неизмеримо больше сил и времени отдает теперь Бородин научной, преподавательской, общественной деятельности. На этом поприще, как полагает он, больше пользы можно принести России и ее народу.
А музыка… Она, конечно, не дает себя забыть. Порой как еще напоминает о себе! Но он — адъюнкт-профессор химии, прежде всего!
5
Порой так все же хочется отдать себя музыке безраздельно, заняться ею по-настоящему, как она того заслуживает и требует. Но некогда перестраиваться, не всегда хоть на время это удается. Даже в немногие часы досуга душа не скоро от житейской суеты отвлечься может. Вот в чем недостает ему свободы! Вот что роднит его с плененным Игорем. Плененный Кончаком, предательски заброшенный Бородиным, бедняга князь по сей день тоскует по далекой своей Ярославне…
Придешь домой — после того, как, при всячески высказанном к тебе уважении, все же не отдали арестованного студента — а до́ма-то… А дома-то — ни лица Катиного, ни голоса ее успокоительного, ни радости отвлекающей, ни попросту покоя потребного.
То неполадивших домочадцев мирить приходится. А из-за чего хоть не поладили? Как правило, дело выеденного яйца не сто́ит. Зато сто́ит немалой траты нервов…
То зачем-то, не спросясь хозяина, ремонт затеяли. Неужто от новых обоев жизнь в этом доме легче и счастливее станет? Ежели и впрямь так — что ж, он готов признать свою ошибку, согласиться. Но ведь не так оно, не так!
Бородин проходит в свою комнату и устало опускается на диван. Непроизвольно прижимает ладонь к ребрам — там затаилась боль, рвется на волю неровными толчками.
Заболеть бы поосновательнее, что ли? И тогда пропади пропадом все ремонты и родичи, все чинуши и жандармы! Он заболеет и уйдет от них, уйдет в милое сердцу царство мелодий. А сейчас… сейчас уйти бы от этих опостылевших запахов, что доносятся с улицы. От чьих-то пьяных воплей за окном. Уйти! Куда? Не в монастырь же…
Бородин перестает поглаживать ложбину между ребрами, приглаживает свои обвисшие на концах усы. Наверное, у половцев были такие же.
Он глядит на замысловатый узор туркестанского ковра. Видит в изгибах и формах орнамента нечто напоминающее фигуры воинов и коней. А может быть, это вовсе не люди и не кони, а цветы и птицы? Или драконы и единороги? Скорее всего, пожалуй, — эфесы сабель и ручки кувшинов.
Бородин встает с дивана, подходит к окну. Теперь тихо, не слыхать пьяных воплей. Спит за окном Петербург. Спят за стеной помирившиеся домочадцы. Все спят. Кроме него.
Ночь. Поздняя ночь. Не такая, как была когда-то, в далеком отсюда Гейдельберге. Та была так давно, вся растворенная в чистоте горного дыхания. Та ночь никогда не повторится. Никогда больше. Н и к о г д а…
Он подергивает, чуть смещает плотный занавес. Чтобы ни просвета, ни единого лучика грядущей вскорости утренней зари не проникло бы сюда. Неторопливо, утомленной походкой, направляется к высокой конторке, зажигает свечу. Пламя ее не трепещет: нет движения в воздухе.
Сесть бы сейчас за фортепьяно, положить — не глядя — пальцы на привычные клавиши. Забыться в звуках, рожденных воспоминаниями. Но тогда он разбудит домашних. Нельзя!
Бородин достает чистую нотную бумагу и стоя пишет.
…Умолкла знакомая музыка. Нервно, как нога пациента под легким ударом врачебного молоточка, подпрыгнул звукосниматель и завис недвижимо. Пластинка нехотя прекратила свое вращение. Я выключил проигрыватель, подошел к, окну. Там, за стеклами, был не Петербург — там был пригород другой столицы. И — совсем другое время. Другая осень.
СЛОНЫ БРОСАЮТ БРЕВНА Повесть
Независимость и самоуважение одни могут нас возвысить над мелочами жизни и бурями судьбы.
А. ПушкинНет, все это было не в Индии и тем паче не в Африке. Не во времена древнего Карфагена, где в войске Ганнибала, как известно, служили также слоны. Не в современном зоопарке и даже не в цирке. Вообще-то, ни одного настоящего слона — четвероногого и с хоботом — читатель здесь не встретит.
НАБРАНО ПЕТИТОМ
Набрано петитом:
«Коллектив газеты… выражает глубокое соболезнование сотруднику редакции В. М. Терновому в связи с постигшим его горем — кончиной матери».
Когда в последний раз навестил ее — так тяжко было глядеть на знакомое лицо. С самого начала детства, с начала жизни знакомое. А теперь искаженное отечностью до неузнаваемости. То самое лицо, которое когда-то так любил и целовал отец… А если бы отец не погиб в сорок третьем, дожил бы до сего времени и увидел теперь ее лицо — т а к и м?..
В тот последний раз мать была не в силах говорить, только тихо гладила руку сына своей рукой, всегда такой ласковой, а сейчас вспухшей и перебинтованной после уколов. Он представил себе, как вонзаются иглы шприцев в эту руку, такую не чужую…
Терновой глядел на мать, а спину и затылок беспокоили глаза остальных старух, лежавших в этой четырехместной палате, таких же обреченных и беспомощных. Они давно уже привыкли к сыну своей подруги по несчастью, просили его то няню позвать, то выйти на пару минут, то воды подать. А он привыкнуть не мог. Не в силах был смотреть на них, неудержимо тянуло поскорей вырваться из этого адского помещения, названного богоугодным словом «больница». И вырывался, с ощущением саднящей грусти и непреходящей досады — на себя, на неумолимые законы природы, на ограниченность своих возможностей.
Бывает грусть возвышенная, тихая. И бывает грусть досадная, неспокойная. После каждого посещения больницы Терновой испытывал грусть досадную. Понимал, что мать вынуждена была оставаться здесь, не могла вослед за сыном вырваться отсюда. А он-то, чем он мог ей помочь? И все же… И все же минута, проведенная им здесь, была для нее хоть каким-то, более чем относительным облегчением.
«Какая прелесть ваш сынок», — говорили ей старухи, говорили без зависти. Все они были одинокими и бескорыстно радовались его приходу.
Гораздо чаще палату навещала Аня, жена Тернового. И обслуживала всех четверых, заменяя единственную на весь этаж нянечку, которую не всегда докличешься. Сама она была учительницей классов, занимавшихся только в первую смену, поэтому вторую половину дня, если не было педсоветов, методобъединений и профсобраний, проводила в больнице, у постели свекрови, а тетрадки и дневники проверяла уже после, засиживаясь допоздна, хотя вставать ей приходилось к первому уроку и еще полчаса добираться до школы в потрескивающем от перегрузки автобусе. Маленького Виталика забирал из детсада Терновой, а в те дни, когда задерживался в редакции, приходилось договариваться с соседями. Но как быть, если придется отправиться в очередную командировку? Ведь таковая не за горами. Спецкору газеты нельзя подолгу без выездов…
«Какая прелесть ваша жена, — говорили ему несчастные старухи. — Как она ухаживает за вашей мамой, родная дочь так не сумела бы». И Терновой в который уже раз всей душой преклонялся перед этой невесть за какие заслуги внезапно доставшейся на его долю женщиной, у которой прекрасным оказалось не только лицо…
«И мама у вас такая тихая, терпеливая, — продолжали старухи. — Так нам жалко ее…» Тут они совсем по-детски плакали, а он не знал, куда девать себя.
И в то последнее посещение, когда мать молча гладила его руку, будто просила еще остаться, еще побыть хоть немного, — он тогда, как на грех, особенно спешил: надо было провести партсобрание (ждали представителя райкома), подписывался его материал (с трудом невероятным добытый и с еще большим трудом пробитый на полосу — если бы не поддержка Главного, ничего бы не вышло), Терновому позарез нужно было поскорее вернуться в редакцию, а бессильная рука матери все не отпускала. Но он так спешил… Встал со стула, бережно положив ее забинтованную кисть на одеяло, наклонился, коснулся губами седых волос на виске. И ушел. Даже не оглянулся в дверях.
Это было их последнее свидание, на другой день ее оперировали. Оказалось — поздно. Да и возраст…
Терновому все чудится, что мать — где-то там, в холодном нежилом морге, недвижимая, молча, не имея сил подать голос, зовет его, без надежды, все зовет и зовет… Он слышит ее голос, ослабевший и ласковый ее голос недавнего времени, когда она еще могла подойти к телефону в больничном коридоре и позвонить ему на работу. Теперь она уже не может позвонить, никогда не сможет, а он слышит: «Здравствуй, Витенька… Здравствуй, сынок… Я не помешала тебе?..»
Изо всех сил Терновой сдерживает то, что помимо воли поднимается к горлу и глазам. Он один сейчас в своем кабинете, его никто не видит. Сдерживается просто по привычке. И никак это не удается…
ЗАВЯЖЕМ С ПОНЕДЕЛЬНИКА
В сто девятой комнате располагались двое. Каждый сидел за своим двухтумбовым столом, заваленным рукописями, гранками и полосами. У каждого на столе стоял телефонный аппарат. У Кузьмицкого — черный и блестящий, как «Волга» Главного. У Петра Пичугина же телефон был безлико-серый, и когда он держал захватанную трубку у своей до лоска выбритой тугой щеки, унылый цвет трубки контрастировал с жизнеутверждающим румянцем его физиономии.
Вороной телефон Кузьмицкого подал голос — тот снял трубку, болезненно перекосил чересчур правильное и чересчур бледное лицо (не дают, дьяволы, покоя ни на минуту!), отозвался неприветливым тоном чрезвычайно занятого бюрократа:
— Да! Редакция слушает!
Пичугин, вдумчиво вычитывающий прессовую полосу, неторопливо поднял глаза, светлеющие на смугло-багряном лице. Остановил спокойный взгляд на гримасничающем Кузьмицком.
— Нет, сегодня никак, — отбивался тот, вздыхая натужно и изо всех сил стараясь не взорваться. — Нет, не могу, версточный день… Нет, не надо, я сам позвоню. Ну, пока, извини… Нет, не звони, я сам. Ну, целую тебя, целую!
Последние слова он выдавил с невероятным усилием.
Пичугин сочувственно осклабился.
— В брошюре одного полковника иностранной разведки, — начал он не спеша и назидательно, — изданной у нас еще в годы войны, едва ли не каждая глава заканчивалась предупреждением: остерегайтесь женщин!
— Женщины! — Кузьмицкого передернуло. — Невозможно работать!
Затем несчастный извлек из ящика стола какую-то измятую шпаргалку и, заглядывая в нее, набрал номер. Лицо его стало предупредительно-любезным.
— Харитон Матвеевич? Добрый день, это Кузьмицкий… Спасибо… Что-что? Плохо слышно, гудки какие-то… Как жизнь молодая? По-старому, Харитон Матвеич… Да, несомненно… Конечно, понимаю… Но мы планируем в ближайшие номера… Разумеется, Харитон Матвеич… Пожалуйста, Харитон Матвеич… Непременно передам, спасибо. Она тоже просила вас всячески приветствовать… Всего доброго, ждем с нетерпением. Всего доброго, Харитон Матвеич! — Кузьмицкий швырнул трубку, вытер платком высокий лоб. — Навязался на мою шею… Кретин недоделанный! Напишет левой ногой…
Пичугин, снова углубившийся было в чтение, решительно подписал прессовую полосу, отодвинул ее. Потянулся, блаженствуя.
— А не пора ли нам, пан Кузьмицкий, пообедать? В четыре ведь летучка. По дороге в буфет сдадим пресс.
— Погоди, Петушок. Сейчас только врез сочиню, сдадим вместе с прессом. Пока будем питаться, наберут. Минут десять, ладно?
— Индийские слоны… — Пичугин сладчайшим образом зевнул в голос и продолжал наставительно: — Так вот, индийские слоны, которые таскают бревна, народ исключительно организованный. Как наступит время обедать, слон бросает свое бревно незамедлительно. Где застигнет его обеденный перерыв, там и бросает. А случается, осерчает и в погонщика бревнышком запустит. Но такое — редкость. Слоны — ребята дисциплинированные.
— Слоны! — Кузьмицкий скосоротился. — Ведь ни черта же мне не заплатят за этот врез. Хоть бы пятерку подкинули. Какому-нибудь люмпену за одно шевеление пальцем на бутылку кидают, а тут… Кстати, сколько я тебе должен?
— Нисколько. Квиты.
— Ну да?
— Остерегайтесь женщин, пан Кузьмицкий. Ранний склероз и затяжной маразм, никудышная память, а на последней стадии затрудненная речь и дрожание конечностей — вот до чего доведет вас выносливейшая половина рода человеческого.
— Сам, что ли, убедился? А что ж не упомянул преждевременного облысения? — огрызнулся тот, но тут же взглянул на Пичугина виновато и преданно, по-собачьи. — Ты не обиделся, Петушок? Извини, не сердись. Сейчас пойдем, потерпи. Еще две строки отпечатаю на «собаке»…
«Собакой» газетчики называли бланк, на котором оформлялась первая страница идущего в набор материала. Штамп в верхней части бланка предусматривал множество всяческих виз — редактора, зама, зава, бюро проверки, секретариата, бог весть кого там еще. Под визами — на свободном месте — начинался текст. Однажды Пичугин, шаля, намалевал на этом оставленном для текста чистом месте веселого щенка — собака на «собаке»! Долго любовался своим шедевром, хмыкал удовлетворенно, затем показал Кузьмицкому и сотруднице их отдела Лере Краюхиной. Та не оценила, даже не улыбнулась. Пичугин насупился, решительно скомкал шедевр и бросил в корзину…
Кузьмицкий остервенело гонял каретку пишущей машинки. Там что-то заедало, бедняга нервничал, торопясь, шипел и чертыхался.
— Отдал бы Крошке Кэт, — посоветовал Пичугин. — Ее прямая обязанность. А мы бы пока подзаправились.
— Крошка! Ты что, не знаешь? Это полдня ждать одну страницу. И в каждой строке по три опечатки. Не выношу ее! Эту идиотскую манеру — боязнь говорить в полный голос. Будто горло болит или кто-то спит неподалеку. Надоедает переспрашивать. Новый вид жеманства! Держат же такую детку!..
— Для украшения предбанника. Скоро будет выставка декоративных пород секретарш, наша Катенька получит золотую медаль… Ну, кончил, что ли? Пошли, пошли! А то не успеем до летучки. Все надо делать вовремя, пан Кузьмицкий. Работать, спать и особенно — питаться. При холостяцком образе жизни режим питания — первая заповедь. Иначе — язва двенадцатиперстной.
— Уже, Петушок. Второй год.
— Поздравляю. Значит, с курением пора завязывать. Завяжем с понедельника, а?
— Сегодня у нас что, четверг? У тебя какие?
— «Вечерние».
— Дай одну…
ДВЕ ЛОШАДИ
(Сочинение Аркадия Котикова, внештатника, речь о котором еще впереди)
Солнце игриво настроено. Посветит, улыбнется, затем подзовет облачко и спрячется. Ненадолго. И опять выглядывает.
Васильки задумчиво синеют у дороги. Шелестит рожь сухим голосом. Еще крылья стрекозы шелестят похоже…
— Растешь, выколашиваешься, поспеваешь, — сокрушается рожь. — А кому достанешься? Хлеб-то едят все. Иной раз попадешь в зубы такому прохиндею — так бы и встала поперек горла!
— Ты права, рожь! — случайно затесавшийся овес перестает кланяться василькам и возмущенно трясет серебристым колосом. — У нас тоже не без этого. Помню, когда дед мой еще у агронома в почете был…
Добросовестно дует ветерок. И овес рассказывает историю, поведанную ему еще дедом. Тот слыхал ее от похожей на пчелу мухи-журчалки. А журчалке нажужжал все это знакомый шмель, частенько бывавший на выпасном лугу и знавший все новости.
Вот эта история. Стояли в денниках две лошади, серая и гнедая. Серую запрягали каждый день, без выходных, без праздников. А гнедую не беспокоили. Строптива потому что была. Запряжешь, бывало, — в постромках, лягаясь, запутается. Седлать ли начнешь — надует, хитрющая, живот, покуда подпругу затягивают, — пальца не просунешь. А после выдохнет воздух — и сползаешь набок с седлом вместе. Короче, хлопотная была лошадь, не хотел никто с ней канителиться, предпочитали больше на серой выезжать. А овес-то ели обе…
Однажды, не то от старости, не то от непосильной клади, серая лошадка споткнулась. Упала. Заржала грустно. И не встала больше.
Делать было нечего, пришлось волей-неволей взнуздать гнедую. А она — визжать, ногами бить, кусаться. Близко не подойдешь. Так и не далась. Уж конюх хлестал ее, хлестал. А что толку хлестать-то? Она, что ли, виновата?
Ветер притих, задумался. И колосья умолкли. Все сказано.
МАДОННА В ЛАЙНЕРЕ
— Красивый дом будет!
— Наверно.
— Не наверно, а наверняка. По индивидуальному проекту! — Видавший виды пожилой таксист свернул в переулок и покосился неодобрительно на сумрачного пассажира. Может, больной? Не похоже, не старик, хотя и с бородой, так теперь ведь все молодые с бородами-то. И с виду здоров, как пятиборец. Одет прилично, лицо интеллигентное вполне, а слова лишнего не вытянешь. Может, не русский? Да нет же, когда садился — говорил чисто. Правда, и глаза, и волосы, и борода по-южному черные. А что, разве у русских не бывает?.. Может, просто характер такой, молчаливый. А может, с утра не в духе. С женой, скажем, поругался. Или на работе неприятности. Да мало ли… Что ж, придется одному за двоих разговор вести — и таксист продолжал:
— Теперь все дома в центре только по индивидуальным проектам. Давно бы так! А то понаставили контейнеров на попа, не город получился, а… слов цензурных, извиняюсь, не хватает… Жаль проехали, там на ограде даже надпись была — насчет индивидуального проекта. И фамилия архитектора. Чудная такая, не то Бородач, не то Бородулин… Вы не обиделись? Я не к тому, что вы с бородой, вам очень даже идет… Правда, там фамилия такая… Сейчас опять на проспект выедем, на том участке покрытие меняли, вот и пришлось в объезд… Правда, не обидел я вас? Извините, если что не так сказал.
— Нет, что вы, все нормально.
Таксист вздохнул неудовлетворенно и, сосредоточившись, обогнал слева огромный автобус, тоже спешащий к аэропорту.
А пассажир упрямо молчал, напряженно глядя перед собой, будто сам сидел за баранкой и боялся отвлечься. Видать, и впрямь то ли характер у него от роду необщительный, то ли настроение, как у проигравшегося.
Начался дождь, дорога заблестела. Таксист — теперь он все делал молча — включил «дворники». Настроение же у пассажира испортилось окончательно. Не было печали, теперь еще этот дождь! Хоть бы улететь по расписанию, а то прибудешь затемно, никто не встретит…
Что-то без энтузиазма летел на сей раз Виктор Максимович Терновой в очередную командировку — по сигналу с места. Какое-то явно «тухлое» дело, на расстоянии, по одним лишь запросам и ответам, не разобраться. Придется распутывать весь гнилой клубок на месте, да так, чтобы нити не оборвались. И так не хотелось расставаться с Аней. Что ж, не в первый, не в последний раз. Но год от года все труднее…
Иногда достаточно одного незначительного везения, чтобы на душе просветлело. Повезло: невзирая на дождь, вылетели по расписанию.
Слаженно пели турбины, машина шла на большой высоте, за бортом было, пожалуй, минус сорок, в салоне же — теплынь, хоть пиджак снимай. Внизу, под напряженно подрагивающим, блестящим от замерзшей влаги крылом видно было то далекую в дымке землю, то близкие нагромождения ослепительных облаков. Терновой прикрыл глаза и предался размышлениям. Ему всегда нравилось размышлять во время такого вот пассивного полета, высоко над суетой сует земного бытия. Наплывали невесть отчего самые нежданные воспоминания. Следом — произвольные думы. Сейчас, например, вдруг подумалось, что его как такового вообще могло не быть, никогда, нигде, а был бы кто-то другой. И этот другой тоже ощущал, осознавал бы себя, как ощущает и осознает свое существование он, Виктор Терновой. Да, никакого Виктора Тернового вполне могло бы не быть, если бы не отец и мать, именно те, его, а не чьи бы то ни было, не другие.
Отца нет с ним давно, очень давно. А теперь не стало и матери…
Припомнилось, что родители потеряли друг друга вскоре после начала войны. Как теряли друг друга очень многие в ту пору. Об этом столько сказано, и у них все было так похоже на других… Разве что забавный такой эпизод. Отец послал запрос в специально созданное тогда бюро, в ставший неожиданно всюду известным тыловой город Бугуруслан: нет ли сведений о его семье? И сообщил на всякий случай номер своей полевой почты. Номер этот каким-то чудом долго оставался без изменения, и месяца через два из Бугуруслана прибыл наконец ответ. Бюро любезно сообщало майору Терновому, что не располагает какими-либо сведениями о месте нахождения… майора Тернового!
Сейчас вдруг почудилось, что отец где-то рядом. Быть может, глядит через двойное стекло иллюминатора. И взглядом спрашивает: «Как поступишь, сынок?»
Когда человека нет с нами, это не значит, что он ушел весь. Он может продолжаться в детях, внуках. Но не все ушедшие оставляют детей и внуков. И не каждому дано посадить дерево, построить дом, написать книгу. И все же бессмертие есть, бессмертие духовное. Когда остаются добрые деяния и доброе влияние ушедшего — в памяти живых, в их сердцах. Когда мы произносим слово, совершаем поступок — не забудем подумать: а как к этому нашему слову, к нашему поступку отнесся бы ушедший? Ведь именно в этом — его бессмертие! Оно зависит от нас.
Значит, бессмертна именно душа человеческая? Идеализм? Но скажите, пожалуйста, кто бы вы ни были, материалисты, идеалисты, дуалисты… Скажите: почему идея должна непременно подчиняться законам, принципиально отличным от законов движения материи? Разве идея и материя живут, существуют порознь, в разных измерениях, и законы их существования несовместимы? Ведь именно идеалисты, насколько помнится со студенческих времен, утверждали подобную несовместимость. А если идеалисты не правы и несовместимости нет, значит, идея, как и материя, не появляется из ничего и не исчезает бесследно, а лишь видоизменяет форму своего бытия, переходит из одной своей ипостаси в другую? Закон сохранения… идеи?!
Тут Терновой подумал, что слишком мало он все-таки знает. Что когда вернется, надо будет порыться в философских первоисточниках. Хоть и сдавал когда-то «диамат» на пятерку, ко разве этого достаточно на всю жизнь? Недавно довелось вычитать у Джавахарлала Неру: «Мудрец сознает, как мало он знает, только глупец воображает, что знает все». Нечто подобное, только по-своему, когда-то говорил и отец.
Ощущение незримого присутствия отца возникало у Тернового не раз. Однажды сказал об этом матери, еще когда жива была. Она, помнится, лишь заплакала в ответ. С тех пор не тревожил ее больше подобными откровениями, щадил. А с кем поделишься таким? Не с каждым ведь, не с первым встречным. Делился только с Аней. Делился всем, чем только возможно, добрым и недобрым, радостным и огорчительным, без утайки. Только с ней…
И вспомнилась другая командировка, давняя. Тоже летел самолетом. Но сидел в кресле у прохода, а ближе к иллюминатору расположилась молодая женщина с дошколёнком — оба с одинаково латунными и одинаково подрезанными волосами. Терновой отдал им свои леденцы (сам в этом отвлекающем средстве не нуждался, но с подноса взял, чтобы не обидеть стюардессу). А затем… Затем другими голосами запели турбины, зажглись предупреждающие табло: машина пошла на посадку. Женщина в соседнем кресле дремала, опустив лицо, прикрытое свесившейся латунной прядью. Малыш спал, положив светлую головку на колени матери. «Мадонна в лайнере»… Да, так и намеревался тогда Терновой назвать ее, упомянув в начале той статьи, которую напишет, отчитываясь за командировку. Откуда было знать ему в тот момент, что ни в одной своей публикации, нигде и никогда, ни разу не упомянет он ее, повстречавшуюся на поднебесной высоте… А самолет все снижался. Заложило уши — пришлось дважды сглотнуть. Салон вдруг резко накренился и ушел из-под ног. Соседка Тернового вскрикнула негромко и подняла лицо — даже в испуге прекрасное, как у мадонны.
— Что… это что? Падаем?!
Мальчик тоже вскинулся — с вытаращенными глазами и разинутым ртом, будто из воды вынырнул. В салоне раздались встревоженные голоса, звали стюардессу, кому-то потребовался пакет… Терновой крепко придерживал плечо женщины, другой рукой гладил голову мальчика, уговаривал:
— Ничего, все в порядке. Мы не падаем, не бойтесь. Просто пилоту стало невтерпеж, и он сбросил сразу более двухсот метров высоты. Это не опасно, только неприятно немножко. Но все уже прошло, все в порядке…
А сам думал раздраженно: «Надо бы узнать фамилию командира корабля. Балласт ему возить, а не людей! Кстати, обязаны были объявить фамилию — почему не объявили? Впрочем, черт с ним, с этим неизвестным пилотом!..» Успокаивать женщину с малышом, понятно, старался другим тоном, никак не проявляя раздражения и тревоги. Видимо, его голос и впрямь успокоил их, оба глядели доверчиво. А когда люди доверяются, им всегда можно помочь.
После дотошный Терновой все-таки поинтересовался командиром корабля. И поблагодарил его — от имени всех пассажиров, — умудрившегося благополучно посадить машину, невзирая на внезапную опасную помеху.
Вот так он впервые встретил свою Аню. «Мадонну в лайнере»…
Как там они сейчас без него, вдвоем с Виталиком? Не впервые ведь, но каждый раз, когда дюралевые крылья уносят Тернового далеко от близких, неизбежно овладевает беспокойство за них. Хорошо еще, если на сей раз будет возможность позвонить.
ШТОРМ
(Сочинение Аркадия Котикова, о котором еще будет сказано)
Три дня и три ночи море пыталось — удар за ударом — разбить каменную челюсть берега. И — прибой за прибоем — швыряло в него собранные отовсюду обломки неведомых скал и неизвестных кораблей.
Белые чайки не могли ловить рыбу. Черный баклан не решался приблизиться к выгнутым гривастым шеям волн. Крабы не осмеливались выбраться из своих убежищ. Люди боялись покинуть берег.
На четвертые сутки шторм прекратился — и все море, до самого размытого в тумане горизонта, было плоским, как молоко в блюдце.
— Это потому, — уверяла чайка, — что я наконец поймала рыбу.
— Это оттого, — сказал баклан, — что я смело приблизился к воде и нырнул.
— Конечно! — разглагольствовал краб. — Стоило мне покинуть убежище — и, пожалуйста, никакого шторма.
— Вот вышел я в море, — хвалился человек, — и полный порядок, полный штиль, никакой полундры.
Только ветер никак не напоминал о себе. А ведь именно поэтому и не было больше шторма.
АНЯ
Уж не первый год, как в судьбе Ани все изменилось. Да нет же, не изменилось — только началось. С непростительным запозданием. А все, что было до, — это было нечто кошмарное, нереальное, будто не с ней, а с кем-то другим, в случайной книжке вычитанное.
Вспоминать не стоит…
Но ведь от той, кошмарной, нереальной жизни до, от нее остался вполне реальный и отнюдь не кошмарный Виталик. Ее маленький Витюшка, которого удалось наконец уложить спать.
Теперь у нее их двое: Витюша Маленький и Витюша Большой. Это не имеет значения, что один Виталий, а другой Виктор. Для нее оба — Витюши. И оба — самые родные, самые незаменимые. И все чаще ловит себя на ощущении, что Витюша Большой — и впрямь отец Витюши Маленького. Рассудком понимает: неправда, нелепость. Но душа воспринимает и решает по-своему. А Маленький не страдает от противоречий души и рассудка — и душой и рассудком все понял и все решил: называет Большого «папой». И за это она особенно признательна Виктору.
Порой кажется, что Виктор был с ней всегда, с незапамятных времен, еще с младенчества. Когда отец осторожно гладил свою малышку по щеке — это была не только рука отца, но и рука Виктора, и сильная и не грубая, и жесткая и такая ласковая. Такая не чужая. Когда отец бережно целовал свою малышку в пробор на темени — это были не только губы отца, но и губы Виктора. Такие не чужие. А после…
После вторглось в ее судьбу нечто совершенно чужое. Более того, чуждое. Но остался с той недоброй поры Виталик, уж никак не чужой… И в ту же недобрую пору умер отец. И вскоре вслед за ним — мать. Сестры повыходили замуж — разъехались по всей своей великой стране, кто куда, изредка писали — к праздникам и ко дню рождения. Единственный брат убыл за пределы своей великой страны и там, на чужбине, погиб — как принято теперь писать, «при исполнении интернационального долга».
Где же был Виктор в ту нелепую пору? Почему так запоздал появиться? Почему столько лет — врозь? Как хорошо им теперь вместе и как плохо врозь! А сейчас он снова улетел в командировку… Но они все равно вместе. Навсегда! Теперь — навсегда. Иногда ему удается позвонить. Может, сегодня позвонит? И она услышит его чуть низкий, чуть глуховатый голос, искаженный расстоянием и перегруженной аппаратурой, но все равно узнаваемый, неповторимый, самый родной из всех голосов. От звучания его голоса, от прикосновения его руки всегда так спокойно, так безмятежно становится на душе…
Аня кончила мыть посуду, осторожно — чтобы не греметь, не разбудить сына — установила тарелки и чашки на ажурной алюминиевой сушке.
Неслышно вошла в комнату, не включая свет, постелила себе. Виталик на своей кроватке лежал тихо, посапывал. Вроде бы и впрямь уснул? Хотя притворяться — мастер.
Здесь в их единственной комнате на троих и кабинет и спальня одновременно. Общие книги на полках. Общий рабочий стол.
Когда-то здесь жил Виктор с матерью. Потом появилась Аня с Виталиком — их не хотели прописывать. Не хватало метража на стольких. Но помогла редакция. Тогда же подали заявление на двухкомнатную, тем и ограничились. Хлопотать за себя Виктор не любитель. А недавно свекровь умерла… Стало посвободнее. Относительно, конечно. Но жаль Виктора — переживает молча, виду не показывает, да от нее-то не скроешь…
Аня включила настольную лампу, наклонив абажур — чтобы свет не падал на Виталика, взглянула на портрет Виктора, прошептала:
— Ну, что ты? Зачем хмуришься? Все хорошо, родной, я жду тебя.
Нет, сегодня он уже не позвонит. Предупредил: позднее одиннадцати вечера звонить не будет. Чтобы не будить Виталика и не сбивать ее первый сон, если, паче чаяния, ляжет пораньше. Но раньше полуночи она еще ни разу не ложилась. Сейчас — уже двенадцатый. Значит, не позвонит. Его слово — железное, не раз убеждалась.
Аня достает пачку дневников из портфеля, принимается проверять и делать пометки — красной пастой.
Вот дневник Тамары Уваровой. Трудная девочка… Похожа на мальчишку с косичками. Говорит она низким голосом, глядит в упор исподлобья, но хохочет звонко и неудержимо, уж никак не по-мальчишески. Учится она неплохо, но… «Трудная девочка!» — говорят учителя на педсовете. «Тяжелый ребенок!» — вздыхает мать на родительском собрании. Однажды во время урока у Тамары упала ручка под парту. Аня в это время стояла спиной к классу, писала на доске даты рождения и смерти Поэта. Обернувшись, увидела, что Уварова терпеливо держит поднятую руку, ждет. «Что случилось, Тамара?» Та встала и попросила разрешения поднять ручку. «Я ее случайно уронила». Тронутая такой дисциплинированностью, Аня поспешно закивала: «Конечно, конечно, подними». Та подняла и вдруг, без всяких видимых причин, фыркнула и захохотала, уронив голову на парту. Как раз в тот момент, когда Аня принялась рассказывать о страданиях затравленного Поэта в канун роковой дуэли. Пришлось прерваться. «В чем дело, Уварова? Что с тобой?» — «Ни в чем!» — и девочка захохотала еще громче. «Томка, как ты разговариваешь!» — не выдержал кто-то в классе. Аня, опешившая, сказала — по возможности спокойно и строго: «Уварова, ты мне мешаешь вести урок, выйди, пожалуйста, из класса. Успокоишься — вернешься». — «Не выйду!» — «Томка, выйди! — шипели со всех сторон ученики. — Хуже будет». — «А вот не выйду! — разозлилась та. — Что мне будет?» Тогда Аня решительно подошла к дверям, распахнула их и — уже не сдерживая волнения, перейдя на «вы» (признак крайнего нерасположения к ученику): «Вы мне в дочки годитесь, Уварова! Но я не поленилась, открыла вам двери. А теперь — оставьте класс, не мешайте работать!» «Выйди, Томка!» — потребовал класс. Та, не торопясь, встала, медленно прошла к дверям, обернулась: «Я выхожу только ради класса, не ради вас. Двери я и сама могла открыть, не стоило трудиться». Класс тихо охнул от негодования. А Уварова изо всей силы хлопнула дверью и уже в коридоре — слышно было — громко разревелась. А ведь Аня ничего плохого ей не сделала, никогда… Помолчав, придя в себя, она негромко продолжила рассказ о последних днях Поэта… В тот вечер их задержали: из общества «Знание» прибыл лектор — долго и занудно пересказывал позавчерашнюю газетную информацию. Из школы вышла затемно и сразу же — под проливной дождь. Едва успела раскрыть зонт, как подбежала сплошь промокшая Уварова: «А я жду вас, жду… Разрешите обратиться? (Совсем по-солдатски как-то, не по-девчоночьи.) Я очень жалею… Я… Пожалуйста, извините меня!.. Вам было очень неприятно… Я…» И снова разревелась, горько-прегорько. Трудная девочка. Но эта — еще но самая трудная…
— Ма-а-а!
— Что с тобой, Витюшик? Приснилось что-нибудь?
— А я не спал…
— О, господи!.. Что с тобой?
— Мам…
— Ну, что, что?
— Мам, я не хочу спать.
— Надо уснуть, милый… Будь мужчиной и прояви мужскую волю. Как папа говорит. Скоро он вернется…
— А папа когда вернется? Скорей бы!
— Спи, милый, спи…
— Что это он все уезжает да уезжает от нас? Один папа насовсем уехал, а этот… Все уезжает и уезжает. Он не уедет насовсем? А, мам?
МУЖСКАЯ ВОЛЯ
(Сочинение Аркадия Котикова, о котором в конце концов все же будет поведано. Потерпи, читатель, еще немного! Ну, прояви мужскую волю. Даже если ты — не мужчина. Сам знаешь, теперь такое время: будь ты хоть девушкой, а мужскую волю проявить изволь…)
Бычок неторопливо жует. Задумывается. Расставляет круглые уши и жалобно мычит:
— М-мама! М-мне м-маму!
Но мама не слышит. Она вместе с другими коровами пасется за лесом на пойменном лугу. Очень зеленый этот луг. Как хочется туда! До чего опротивела эта вытоптанная поляна среди усыхающих сосен!
Бычок дергает веревку, за которую он привязан к колышку. Веревка не поддается. Старый вол в таких случаях говорит:
— Не уступай! Прояви мужскую волю.
Бычок считает себя мужчиной. Он проявляет мужскую волю. Колышек вылетает из земли. Бычок задирает хвост, нелепо взбрыкивает и мчится в лес. Колышек на веревке, подпрыгивая, следует за ним.
— Вот что значит телячий восторг, — авторитетно изрекает белый петух, глядя вслед бычку. Три курицы прислушиваются к мудрым словам петуха, перестают разгребать пыль и томно покудахтывают:
— Конечно! Как же!
Они за всю свою жизнь видели только этого петуха. И потому считают его самым умным.
Паренек, пасший стадо, готовился к переэкзаменовке по тригонометрии. Он так увлекся синусами и косинусами, что не заметил, как в стадо пришел бычок.
Подойдя к матери, бычок произнес свое жалобное «м-мама» и чихнул. Мать посмотрела на него и перестала жевать. Она не знала, что педагогичнее — рассердиться на сына или приласкать его. А бычок недолго стоял возле матери — это не подобает мужчине. Напустив на себя побольше важности, он побрел в сторону. Заметил неподалеку речку. Захотел пить.
— Куда ты? — окликнул его, жуя, большой черный бык, лежавший на траве.
— На водопой, — с достоинством ответствовал бычок.
— Сейчас не ходи, скоро пойдем все вместе.
— Но ведь я сейчас хочу пить.
— Не ходи, — настаивал бык. — Здесь топкий берег. Засосет.
— Не засосет, — самоуверенно возразил бычок.
Он решил проявить мужскую волю и не соглашаться.
— А я тебе говорю, что там топко, — стараясь сдерживаться, повторил бык.
— А я не верю, — ответил бычок.
— Вот был у нас прошлым летом один такой упрямец, — вмешалась подошедшая пегая корова. — Помнишь, бык? С белым лбом. Тоже не верил. А когда засосала его топь — уже поздно было. Погиб.
И она шумно вздохнула, покачав рогатой головой.
— Так что же вы от меня хотите? — беспечно засмеялся бычок. — Ведь я еще не погиб. Вот когда погибну, тогда поверю.
И направился к топкому берегу, волоча за собой веревку с колышком…
ПОКА НЕ ПАЛАТЫ — ПАЛАТКИ
На площади у аэропорта Тернового ждал «рафик». Водитель — мощный парень с девичьим лицом и значком боксера-перворазрядника — предупредительно открыл дверцу, приветливо улыбнулся:
— С приездом! Кейс кладите на заднее сиденье, чтобы не мешал. Располагайтесь поудобнее. Не успеете моргнуть, как будем на месте. Локтев ждет вас.
«Рафик» так рванул, что Терновому показалось, будто на какой-то миг машина вздыбилась и взбудораженно заржала. Стрелка показывала более восьмидесяти в час. Справа, вдоль новой бетонированной дороги, тянулись обгоняемые ими тяжелые самосвалы и автоприцепы, груженные громоздкими железобетонными панелями, цементом, щебнем, кирпичом. Навстречу мчались такие же машины, только — порожние, за новым грузом. Подъезжая к станции, Терновой заметил не менее полусотни солдат и множество студентов из стройотряда, разгружавших длинный состав. Тут же трудились автокраны, не менее десятка.
Управляющий трестом Локтев, рослый и светлоглазый, в сопровождении внушительной свиты спортивного вида парней, крепко пожал прибывшему руку.
— Как долетели, Виктор Максимович? Не устали? Что предпочитаете, сперва отдохнуть или…
— Сперва делом займемся, — сказал Терновой.
— Извольте, — бесстрастно согласился Локтев. — Тогда пойдемте, поглядим нашу стройку. Кейс, если не нужен, можно в машине оставить, никуда не денется.
— У нас тут, между прочим, ни одного случая воровства, — заметил один из свитских.
— Как и положено на такой стройке, — не без гордости добавил другой.
Было прохладно и в то же время солнечно. Небо пересекали белые следы невидимых самолетов. Туда, в пересеченное линиями голубое небо, уходила непривычно большая, похожая на телевышку недостроенная труба, увенчанная замысловатой ажурной конструкцией — там, на далекой от земли высоте, то и дело вспыхивали ярко-сиреневые кометы электросварки, сыпались вниз и не долетали красноватые искры. Самих монтажников не было видно.
На одной из стройплощадок был установлен большой транспарант с надписью:
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО — ОТВЕЧАЮТ!
Терновому понравилось.
— А не то чтобы один за всех вкалывал, пока те на солнышке греются, — прокомментировал Локтев. — И не всем за одного стенкой стоять, если прогулял с перепою. Но каждый в ответе за коллектив, и коллектив в ответе за каждого. Вот такие тут у нас порядки, Виктор Максимович, можете описать у себя в газете, пропагандировать наш опыт, так сказать…
— Порядки хорошие, — согласился Терновой. — И положительный опыт пропагандировать надо, спору нет. Хотел вот только уточнить. Каждый за с е б я тоже отвечает? Или только за других?
— А вы как полагаете? — парировал Локтев. Свита понимающе засмеялась.
Они подошли к палаточному городку, более напоминающему кочевой табор. Здесь было тесно, грязно, неуютно. На палаточных шнурах сушилось белье, неподалеку виднелась большая свалка отходов. Оттуда и от наскоро сколоченной длинной уборной тянуло хлорной известью.
— Не успеваем убрать своевременно, — Локтев тяжко вздохнул. — Машин вроде много, а все нехватка… Пока хоть хлоркой посыпаем, чтобы всякие там микробы не разводились… Конечно, вижу ваши глаза, дорогой Виктор Максимович, понимаю ваши чувства. Понимаю и разделяю. Но не все сразу, не сразу и Москва строилась. Палат белокаменных предложить строителям пока, увы, не можем. Приходится смотреть в глаза реальности. Пока не палаты, а палатки.
Свита оценила каламбур — негромким оживлением.
— Первым делом, — продолжал управляющий, — надо план выполнять. Сами знаете, Виктор Максимович. Объекты должны быть готовы в срок, хоть кровь из носа. И никаких дополнительных средств нам не отпустят. Разве что вы в своей газете намекнете, поддержите… А в палатах каменных — в конце концов и их возведем! — когда-нибудь поселятся рабочие будущего объекта, и таким образом проблема удержания кадров будет решена…
— А пока суд да дело, что сегодня говорят строители?
— Спросите у них. Возможность общаться с народом у вас будет неограниченная. Мы, не то что другие, корреспондентов никак не регламентируем. Смотрите сами, что и где хотите, пишите, что считаете нужным. Пожалуйста, хоть сегодня же вечером, когда вернется народ в свои палатки, приходите сюда, потолкуйте с ребятами.
— Ребята у нас сознательные, — добавили из свиты. — Особенно студенты из стройотряда. Понимают, что не на турбазу прибыли.
Терновой тут же решил, что надо будет нынче вечером непременно навестить этот неприглядный табор, послушать, что его обитатели скажут. И, приняв такое решение, никаких каверзных вопросов Локтеву больше не задавал. Пускай себе думает, что прибывший корреспондент — лопух доверчивый.
ВЫ СЛЫХАЛИ?
— Вы слыхали? — с этими словами вкатывается обычно в сто девятую внештатный корреспондент Аркадий Котиков. Неугомонный, как ртутная капля из разбитого градусника, он перекатывается от стола к столу, затем усаживается на диван, тут же вскакивает и, не прекращая движения, шумно выкладывает новости.
— Вы слыхали? Как?! Еще не знаете? Все уже знают…
Более половины котиковских новостей — вранье несусветное. Никто бы не удивился, если бы он вдруг сообщил, что Крошка Кэт едет отдыхать по путевке в район Бермудского треугольника, а Зав ложится на операцию по омоложению. Но сочиняет Котиков так вдохновенно, так искренне верит в собственные враки, так ярко и убедительно расписывает им же изобретенные детали, что слушать всю эту дребедень — изысканное удовольствие. От чего бы порой ни испортилось настроение — снял ли стружку Главный, подвел ли автор, дома ли нелады, но послушаешь минут десять Котикова — и все приходит в норму. За что его и любят. Угощают лучшими сигаретами. Волокут в буфет и поят кофе. А иные простаки ссужают ему бессрочно от рубля до трешки. Не оказалось бы завтра Котикова, уехал бы он куда-нибудь или в другую сферу перешел бы — как пусто, как невесело стало бы тотчас без него! Несчастные те коллективы, в которых нет своего Котикова, многое теряют. И когда его неизменно жизнерадостное, не по возрасту детское губастое личико, такое малюсенькое под текинской папахой курчавых волос, просовывается в дверь сто девятой, — один лишь сумрачный Маяковский на прикнопленном к стене портрете не растягивает рта до ушей. А ведь, надо полагать, Владимир Владимирович, будь он жив и здесь, вполне понял бы и оценил сей феномен, имя которому — Аркадий Котиков…
Но сегодня, вкатившись в сто девятую, Котиков почему-то не произнес своего традиционного «Вы слыхали?». Чем-то изрядно озабоченный, он молча направился к столу Кузьмицкого. Не спросив даже разрешения, повернул к себе черный телефонный аппарат, снял трубку и набрал номер.
— Алло? Это бухгалтерия?.. Извините.
Снова набрал.
— Бухгалтерия?.. Простите, не вешайте трубку! Это два ноль девять тридцать пять сорок семь?.. Извините… Что за дьявольщина! Правильно набираю…
— Неправильно, Аркадий, — грустным голосом заметил Пичугин. — В том-то и дело, что неправильно…
— Как?! Я набираю два ноль девять…
— Цифры-то правильные, не спорю. Но зачем ты, гениальная душа, не отнимаешь пальчика после каждой цифры? Зачем крутишь диск обратно?
— Чтобы быстрее.
— Вот именно это и неправильно! Тише едешь — дальше будешь. Диск сам должен возвращаться, автоматически! Сам! Для того там и пружинки вставлены.
— Какие еще пружинки? — Котиков был явно не в духе и начал заводиться. — Не вижу никаких пружинок.
— А они внутри, — пояснил Пичугин. — Снаружи их и впрямь не видать. И от скорости возврата диска зависит, какая цифра наберется. А ты эту скорость меняешь, и вместо набранной девятки получается восьмерка.
— Надо же! А ты не придумываешь?
— На твои прерогативы, Аркаша, никогда не посягал. И не посягну. Ты попробуй-ка, позвони еще разок. Только дай диску волю, пускай сам возвращается на исходную.
— Попробуй, — поддержал Кузьмицкий. — Попытка — не пытка.
— Пытка, братцы, пытка! — непонятно к чему выкрикнул Котиков, однако от попытки не отказался — набрал номер по правилам. — Алло! Это два ноль девять тридцать пять сорок семь?.. Бухгалтерия?.. Скажите, пожалуйста, сегодня по счетам будет выплата? После двух? А Котикову выписано? Взгляните, пожалуйста…
Выслушав ответ, бедняга совсем скис. Даже трубку забыл положить на место — отчетливо слышались бесстрастные короткие гудки.
— Черт знает что! Я же все сдал в срок… Братцы! Кто выручит? До послезавтра, а?
— Много ли надо?
— Ну, хоть полсотни. Ну, на худой конец десятку.
Кузьмицкий порылся в карманах, вытащил мятую трешку.
— Все мое богатство, только разменяй в буфете, верни хоть рубль.
Котиков трешку взял и выжидающе смотрел на Пичугина, раскрывшего кошелек-«подковку».
— Рад бы в рай, да грехи не пускают, — произнес тот со вздохом. — Есть даже пятерка, но, извини, самому нынче нужна. Жена поручила по дороге домой в кулинарии фарш купить.
— Жена поручила… — задумчиво повторил Котиков. — Жена поручила… Жена… Вот у меня, братцы, жена… Представляете? Все наши деньги всадила в новую каракулевую шубу. А ведь у нас есть еще две нестарые. Из цигейки и синтетическая… Это же никаких моих заработков не хватит, ни левых, ни правых! Может, еще найдется хотя бы червончик, а? Поищите получше, братцы! До послезавтра, железно…
— На твой вопрос у меня… — Пичугин поглядел внимательно на несчастного внештатника, помолчал и закончил: — У меня к тебе, Аркаша, два вопроса.
— Валяй! — разрешил сбитый с толку Котиков.
— Вопрос первый. Твоя жена сама выбирала себе эту шубу?
— Конечно.
— И вопрос второй. Ты сам выбирал себе эту жену?
Кузьмицкий прыснул. Котиков приуныл еще больше.
— У Лермонтова, — назидательно продолжал вредный Пичугин, — в лучшей из его юношеских поэм «Измаил-Бей» есть такие строки: «Не женися, молодец, слушайся меня». Вот пан Кузьмицкий послушался, и ничего, даже трояк ссудить способен…
— А у Гоголя, — огрызнулся вдруг Котиков, — в его не худшей повести из цикла «Миргород» описан некий Иван Иванович, расспрашивавший нищенку, очень ли она голодна. Вместо того, чтобы молча помочь!
Пичугин побагровел и насупился: устыдился.
Через пару минут отходчивый внештатник признался, что нет у него никакой жены. И не было. Никогда. Почему? На такой правомерный вопрос ответить вразумительно не сумел.
ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ
(Сочинение Аркадия Котикова, чуть было не опубликованное в журнале «Юный натуралист»)
В зоомагазине даже днем горят лампы дневного света. Их свет не похож на дневной. Может быть, они так называются потому, что горят днем? Или это только в зоомагазине?..
Толпятся мальчишки. Попадаются и взрослые. Чей-нибудь дедушка, понимающий в птицах. Папа, понимающий в рыбах. Или сестра, не понимающая ничего. А мальчишки, конечно, все понимают.
Рыба-телескоп подплывает к стеклу аквариума. Большая, пузатая. Глядит на мальчишек выпуклыми глазами. Лениво шевелит плавниками. И говорит медленно, внушительно:
— Не считайте ворон, все равно всех не сосчитаете, Не пейте много воды, все равно всю не выпьете. Не ковыряйте в носу, все равно…
И так далее.
Человеку несведущему кажется, будто рыба-телескоп только открывает и закрывает рот. Но разве что-нибудь услышишь в таком шуме? Однако мальчишки прекрасно понимают почтенную рыбу.
В высокой клетке порхают волнистые попугайчики. На клетке — табличка с оскорбительной надписью: «1 шт. — 12 руб.».
Несмотря на «12 руб.», попугайчиков осталось только три. Зеленые Щелкан с Туком да розовая Пуговка.
Мундиры Щелкана и Тука украшены золотыми воротниками с черными точками. На воротнике Щелкана шесть точек, а у Тука только две. Зато Тук — поэт. Вот и сейчас читает он Пуговке свои стихи:
Ты, как облачко с утра, Вся из пуха и пера.Пуговка слушает невнимательно и поглядывает на сидящего поодаль Щелкана. Ах, какой он, право, этот Щелкан! Посидеть бы с ним на одной жердочке. Ведь, как ни говори, целых шесть точек на воротнике!
И Пуговка, оставив опечаленного Тука, перелетает на жердочку к Щелкану. Но он даже не смотрит. Все не может забыть свою голубую подружку, которую забрал толстый мальчик в коротких штанах… Но ведь розовая Пуговка тоже красивая птичка, ей даже стихи посвящают! Якобы невзначай, она задевает крылышком неприветливого Щелкана. Тот, ни слова не говоря, перелетает на жердочку к Туку.
— Подумаешь! — обижается Пуговка, независимо поводит крылом и с безразличным видом принимается чистить свои розовые перышки. А сама нет-нет да и взглянет украдкой в сторону Щелкана.
— Почему Пуговка не ценит тебя? — спрашивает Щелкан товарища.
— Зато магазин всех нас ценит, — шутит невесело Тук и косится на оскорбительную надпись. — Эх, Щелкан! Было бы у меня много черных точек на воротнике, кто знает… Быть может, понравился бы Пуговке.
Щелкан ничего не ответил и задумался.
Ночью, когда все спали и даже радио молчало, он открыл глаза и зевнул. Размял правое крыло, затем левое. Правую лапку, затем левую. Тихо начал передвигаться по жердочке к сетке. И наткнулся на что-то теплое. Это оказался Тук.
— А? Что? — пробормотал поэт спросонок, поерзал-поерзал и затих.
Щелкан сдержанно вздохнул:
— Уф! Чуть не разбудил…
Наконец он добрался до сетки. Кое-как просунул голову. Затем попытался протиснуть крылья. Ничего не получилось. Может быть, поискать другое отверстие, пошире? Щелкан хотел вытащить голову обратно и с ужасом почувствовал, что голова ни с места. Ни туда, ни сюда. Застрял!
Неужели придется вот так торчать до утра, пока не придут на помощь люди? То-то будет издеваться и хохотать несносный дрозд из соседней клетки. А чижи не устанут тараторить о его позоре, покуда их не продадут. И главное, он не выполнит то, что задумал… Щелкан чуть не заплакал от досады.
А что, если попробовать так? Сначала одним крылом и лапой вперед. Больно — терпи. Еще вперед, еще… И Щелкан вырвался из клетки. Радостный, он закружил в темноте по магазину и ударился головой о потухшую лампу дневного света. Лампа тихо зазвенела. Щелкан притаился. Нет, никто, кажется, не проснулся.
Глаза Щелкана уже привыкли к темноте. Он пробирался все ближе к кассе. Там есть то, что ему нужно. Щелкан хорошо знал содержимое кассы, он не раз наблюдал со своей жердочки за работой кассирши.
Вдруг он остановился и в страхе замер. Прямо перед ним расправил гигантские крылья орел-бородач. Люди говорили, что бородач уносит больших животных. А маленького попугая он запросто проглотит. Щелкан не шевелился. И орел не шевелился. Да ведь это чучело! Какое все страшное ночью…
В кассе Щелкан нашел баночку с черной краской, обмакнул в нее кончик правого крыла. Хитро усмехнулся. И отправился в обратный путь…
Когда Пуговка поутру взглянула на Тука, она не поверила своим глазам: на золотом воротнике поэта красовались восемь черных точек!
— Ничего удивительного, — объяснил Щелкан. — Тука повысили в звании. С чем его и поздравляем.
Пуговка быстро перепорхнула на жердочку, где сидел растерянный Тук, и, не сводя глаз с восьми черных точек, ласково сказала:
— Можно мне посидеть с тобой на одной жердочке? Я хочу послушать твои стихи.
НЕ СЛАДКА ЧАША СИЯ
Часа за три обошли всю стройку.
— Теперь пора и подкрепиться, — безапелляционно заявил Локтев и пригласил Тернового в бесшумно подкативший «рафик». Уместилась вся свита, гостя усадили рядом с водителем.
По свежеасфальтированной дороге въехали в близлежащий соснячок и неожиданно очутились у двухэтажного строения, облицованного нездешним розовым камнем, сверкающего большими цельными стеклами окон в изначально потемневших медных рамах. В стеклах отражались высаженные вокруг голубые ели, краснолистные клены, еще какие-то декоративные деревца. Аккуратно подстриженные зеленые лужайки чередовались с живописными цветочными клумбами. Над одной из таких клумб порхали, играя меж собой, две ярко-оранжевые бабочки.
Терновой подумал, что здесь, всего вероятнее, клуб либо административный корпус.
— Пока вместо гостиницы для приезжих вроде вас, — сказал Локтев. — А вообще-то наш собственный однодневный профилакторий. О здоровье рабочих, как видите, все же заботимся. А то, признайтесь, вы уже бог весть что подумали после палаточного городка. Что, не так разве?
Войдя в увешанный дорогими картинами холл, они ступили на великолепный широкий ковер, затем спустились по боковой лесенке в подвальную часть, где — освещенный интимным светом бронзовых бра — красовался обилием бутылок и закусок просторный стол, накрытый накрахмаленной белой скатертью.
Терновой призадумался. Он достаточно насмотрелся горя и слез, прежде всего детских и женских, порожденных пьянством. И считал последнее величайшим злом — быть может, по числу пораженных бедой и горем семей занимающим даже второе место после такого зла, как война. Журналист Виктор Терновой не раз выступал против этого невероятно живучего зла, выступал на полосах своей же газеты. Он не был безвольным конформистом, и когда требовалось, умел твердо отказываться от предложенной чарки. А на стандартные провокационные подначки вроде «ты что, не мужчина?», отвечал с усмешкой, что не испытывает потребности доказывать себе и другим явную аксиому… Однако на сей раз понимал, что если здесь, сейчас твердо отказаться — тотчас спугнешь хлебосольных хозяев, они уйдут в глухую защиту, и тогда вся командировка впустую, сигнал не подтвердится, придется только нахваливать либо вовсе отмолчаться.
За столом, кроме Локтева и Тернового, уселись еще спортивные парни из свиты (какой-то зам, какой-то пом, какой-то пред) и водитель-боксер. Прислуживали похожие на кинозвезд Машенька и Глашенька — одна бойкая, гибкая, с коротко остриженными черными волосами, облегающими голову, как купальная шапочка, другая же неторопливая, спокойная, с красивой россыпью золотистых локонов на полных открытых плечах. Обе откровеннейшим образом подмигивали гостю, касались его ненароком то так, то этак, называли просто Витей, а он — осознавая, как все это мерзко и недопустимо, — старался думать и помнить об Ане, только о ней, но образ ее как-то не уживался в его памяти со здешней обстановкой, и ничего не удавалось с собой поделать — глазел то на юркую Машеньку, то на плавную Глашеньку.
После очередного тоста (Терновой давно потерял им счет) Машенька пожелала выпить с гостем на брудершафт и под громкое одобрение пирующих весьма энергично приступила к осуществлению своего желания. А Глашенька тем временем взгромоздилась на колени водителя. И все это было не то в тумане, не то в дыму табачном.
— За Витю и Машу! — весело кричал голос невидимого почему-то Локтева. А Терновой пытался отшутиться, с усилием заставляя непослушные губы и язык выдавать слова без запинки. Напрягал едва ли не последние резервы опыта и воли, ибо осознавал, что никоим образом нельзя ему сейчас терять контроля над собой. Потому что — дело ясное — охмуряют и спаивают его неспроста. Тут можно — он чует это! — на такой след напасть… Но — не подавать виду, не спугнуть! Быть может, даже прикинуться вдрызг пьяненьким, не показывать, что мысль-то работает трезво. Главное, не потерять самоконтроля, не расслабиться, ни на миг!
При виде наполненной рюмки и от неотвязного запаха спиртного накатывала неудержимая тошнота. Ох, нелегкий же ты, хлеб журналиста! Не сладка чаша сия…
ЧИСТЮЛЯ
(Сочинение Аркадия Котикова)
У четырехлетней лошадки Чистюли золотистая шерсть и белые носочки на тонких ногах. Ее отец был чистопородным донским скакуном. Чистюля очень гордится своим благородным происхождением. Пасется всегда в стороне от табуна. А когда другие лошади начинают кататься по траве, она презрительно морщит верхнюю губу:
— Фрр! Какие невоспитанные!
Ее раздражает выступившая на спине соль. Хочется лечь на траву и покататься. Но Чистюля терпит.
Табун возвращается с водопоя. Лошади идут ложбиной, где никогда не просыхают большие лужи и пахнет сыростью. Впереди — участок грязи со следами колес грузовика. Полузатопленные в черном месиве, лежат ветви, доски — их подкладывал под буксующие колеса бедняга-водитель. Чистюля не может смотреть на все это, ее мутит. Она закрывает глаза — так идти приятнее. Справа есть сухая тропка, лошади сворачивают на нее. Но Чистюля не видит тропки. Она угождает в самую грязь, пугливо отскакивает в сторону, но попадает в старую позеленевшую лужу. Летят брызги. Носочки Чистюли перестают быть белыми.
Озорному жеребцу Червонцу, которого Чистюля всегда обижает, хочется злорадно заржать. Он раздувает ноздри. Но подружка выглядит так жалко… И Червонец делает вид, что ничего не случилось.
ВЫСОКИЙ ПОДВАЛ
Как рыбаки выволакивают из заросшей старицы разбухший бредень с рыбешкой и водорослями, так две школьницы — одна субтильная, другая не по летам дебелая — вытащили из дверей редакции большую рваную сетку с макулатурой. За ними чинно следовал конвой одноклассников — руки в карманах, носы кверху. Пачка пожелтевших старых номеров, связанных бумажной бечевкой, вывалилась из сетки и тут же была лихо выбита на угловой бравыми конвоирами.
В этот же момент к дверям редакции подкатила серая «Волга» и высадила вальяжного немолодого дядю с несколько старомодным буланым портфелем.
Хлопнула дверца. Еще раз хлопнула — покрепче. Зажглись зачем-то и тут же погасли фары. Там, где только что стояла «Волга», быстро таяло сизое облако. Будто пыхнули большой сигаретой.
Это прибыл сам Харитон Матвеич. И принес в своем буланом портфеле материал, давно обещанный Кузьмицкому.
Величаво вступил он в предбанник Зава. Приложился к ручке секретарши.
— Добрый день, Катюша! Каждый раз, глядя на вас, убеждаюсь: вы самая красивая девушка в редакции. — Затем кивнул деловито на двери Зава: — У себя?
— На редколлегии вы посидите они скоро кончат, — Крошка Кэт затараторила едва слышно, будто по секрету, и без пауз. — Изумительный у вас галстук Харитон Матвеич я так устала нужна путевка да вы присаживайтесь нет ли у вас сигареты спасибо чудесные сигареты откуда вы такие достаете не знаю где добыть путевку хорошо бы в Юрмалу…
— Я еще загляну, — он ловко перебросил портфель из руки в руку, подмигнул снисходительно и вышел столь же величаво и торжественно, как перед тем вошел.
В коридоре гость встретил Краюхину, решительно подхватил ее руку, поднес ко рту.
— Добрый день, моя красавица! Каждый раз, когда вас вижу, думаю — вот самая очаровательная женщина в газете…
— Вы принесли нам материал? — деловито осведомилась Краюхина и тоном сотрудника, причастного к планам начальства, доверительно сообщила: — Давно ждем. Планируем в номер. Сейчас на редколлегии наверняка идет разговор.
— Я свое дело сделал, — он скромно пожал широкими плечами пиджака. — Меня, кажется, будет теперь вести этот… как бишь его… Кузьмищев, что ли?
— Кузьмицкий.
— Да-да, Кузьмицкий, совершенно верно, он звонил мне. Славный паренек, не правда ли? Загляну к нему. А с вами, надеюсь, еще повидаемся сегодня?
— Разумеется, Харитон Матвеич, — она одарила его многообещающей и в то же время ни к чему не обязывающей улыбкой. — Полагаю, вы автор не только Кузьмицкого?
— Ваш! — пылко воскликнул автор. — В первую очередь и навсегда ваш!
После чего решительно направился к сто девятой, толкнул дверь и с громким приветствием вошел. Пичугин, подняв от бумаг румяное лицо, кивнул коротко. Кузьмицкий же привстал и вымученно улыбнулся.
— А, Харитон Матвеич! Здравствуйте, рад вам. Принесли? Вот и чудесно! Присядьте, пожалуйста.
Автор сел. Подмигнул покровительственно Пичугину. Водрузил на обтянутые отутюженными брюками не по-мужски круглые колени портфель и вытащил из него сколотые скрепкой листы.
— Вот, прошу любить и жаловать… Писал, как умел. Надеюсь, не хуже, чем прежде, а? — Хохотнул самодовольным баском. — В общем, смотрите сами, читайте, правьте, сокращайте, коли надо, — по-божески, конечно! — и сдавайте в набор. Вам тут виднее, что и как, а я, сами понимаете, соображаю, что к чему…
Пока автор болтал, Кузьмицкий полистал рукопись.
— У вас тут на целый подвал, Харитон Матвеич.
— Высокий подвал! — уточнил тот и многозначительно нацелил в зенит палец, короткий и крепкий, как ствол гаубицы.
Кузьмицкий спросил, откуда в тексте цитаты, пометил ссылки на полях. Добавил, как бы извиняясь:
— Для бюро проверки, Харитон Матвеич. Невыносимо дотошные девицы у нас там.
— Знаю, знаю, хороший мой! Не первый раз. Дотошность — не порок, я и сам дотошный. Что? Не так разве, а?
И снова хохотнул барственно.
Когда автор ушел, Кузьмицкий дал себе волю:
— Идиот! Дегенерат! Дебил в костюме! Ни черта же не умеет писать! Не умел, не умеет и никогда не сумеет! Не дано!
— Не дано? — переспросил Пичугин. — И не надо.
— Каламбуришь? А тут не каламбур, тут пародия просится.
— Пародировать бездарность, пан Кузьмицкий? Нет, сие невозможно. Бездарность сама по себе пародийна, — Пичугин глядел сочувственно. — А чтобы не выглядело чересчур неприлично, для этого и существуем мы с вами. Причешем, добавим, убавим. Где надо — переставим. Как поступал маршал Людовика Пятнадцатого? Правый фланг — налево, а левый — в середину. Еще и Зав наш ручку приложит, Чеканюк — как ответсекретарь — порезвится, а повезет — так и курирующий зам уже в подписной полосе соизволит воткнуть какую-нибудь отсебятину. Надо же их, бедных, понять по-человечески: хочется ведь им, богом обойденным, принять хоть какое-то участие в творческом процессе… Короче, как говорит наш Виктор Максимыч, один с пером — семеро с топором. Для талантливого автора топоры эти — казнь лютая. А для Харитона Матвеича — сервис. И придется вам, пан Кузьмицкий, оным сервисом заняться.
— Нет, ты послушай! «Явственно чувствуется»… «Художнически переосмыслить»… «Где-то в разгар трудовой страды»… Где-то! Ну и стиль!.. — Тут Кузьмицкий начал выдавать такие нестандартные ругательства, что даже видавший виды Пичугин изумленно выпятил нижнюю губу. Кузьмицкий же, продолжая возмущаться и сквернословить, принялся править рукопись. Но, дойдя до середины второй страницы, швырнул ручку.
— К растакой-то прабабке! Не буду вести! Столбца на это дерьмо жалко, не то что подвала…
— Высокого подвала, — подлил масла в огонь Пичугин.
— Высокого, да! — бушевал взбунтовавшийся Кузьмицкий. — Это же… Да наша буфетчица лучше напишет, не сомневаюсь. Нет уж, увольте, я этой бодяге ходу не дам. Хва! Есть у нас профессиональная гордость, в конце-то концов?!
— Нету, — флегматично отозвался Пичугин. — Затерялась где-то. Поиски продолжаются.
Кузьмицкий схватил стакан, выплеснул прямо на пол остатки воды, поднес к сифону, нажал — зашипело, но не полилось.
— Черт — всю вылакали! — он поставил стакан, едва не разбив. Затем оглянулся затравленно, кое-как сгреб листы рукописи и с ними выскочил из сто девятой.
— А он, мятежный, просит бури, — Пичугин поглядел ему вслед, озабоченно покачал головой. — Но спасательного пояса не попросил.
Зав, дабы избегнуть какого бы то ни было конфликта, не стал спорить с явно взбесившимся Кузьмицкий и передал материал в нежные и безотказные руки Краюхиной. Благо автор — фактически всегда был именно в ее руках, и зачем попал к беспокойному Кузьмицкому — непонятно. Краюхина покорпела над привычным текстом, потрудилась и «довела до кондиции».
Увидав в секретариате и прочитав свежие гранки, завизированные Краюхиной, Кузьмицкий ворвался к ней в кабинет и, не реагируя на встретившую его приветливую улыбку, закричал с порога:
— Ты скажи! Нет, ты мне растолкуй! Есть у нас профессиональная гордость?
— Не понимаю. Что с тобой?
— Есть или нет?!
— Конечно, — Краюхина вскинула свою красивую голову, сбросив волнистую челку на кукольный лоб. — Без профессиональной гордости мы не могли бы… Да ты сядь. Сядь, пожалуйста. И объясни толком, что стряслось? Чего ты так распсиховался?
— Хорошо, я сел, — Кузьмицкий швырнул себя в кресло, но тут же вскочил. — Я спрашиваю! Для чего я отказывался вести этот материал? Для чего? Каприз, думаешь? Нет! А — чтобы не занимать целый подвал…
— Высокий подвал.
— Тьфу, наваждение! Сговорились вы все, что ли?.. Чтобы не занимать подвал, к тому же и высокий, материалом явно дрянным. Явно вредным даже.
Краюхина насторожилась:
— Что усмотрел ты в нем вредного?
— Бездарность! И — бездумность. Ни одной собственной мысли! Ни одного собственного слова! Что может быть вреднее в нашем деле?
— Ты полагаешь, все должны быть непременно первооткрывателями? — она равномерно покраснела и стала не такой привлекательной. — Я, например, не считаю себя способной создавать неологизмы, сочинять разные там афоризмы и каламбуры. Русский язык достаточно богат…
— Вот именно!
— Так неужели нельзя без словотворчества?
— Нельзя! Именно потому, что русский язык богат. Богатство надо сберегать и приумножать. И не допускать девальвации. Вот почему словотворчество, а точнее, творческий подход к слову, — это в нашем деле… без этого не обойтись! Я не говорю о словотворчестве блатном или бюрократическом — тут, к сожалению, никакого удержу.
— Не знаю. Я не нашла у Харитона Матвеича ничего блатного. А ты нашел?
— Нет, не нашел, — признался Кузьмицкий, но тут же снова ринулся в атаку. — А канцеляризмов ты тоже не нашла у него? Потускневших от частого употребления газетных штампов, не заметила?
— Не знаю, чего ты цепляешься? Я честно делаю свое дело…
— Не честно, Лерка! В том-то и штука, что — не честно!
— Ты отвечаешь за свои слова?
— Если бы честно, ты бы тоже отказалась. И Пичугин, не сомневаюсь, отказался бы. Все бы отказались, пошел бы другой, лучший материал, газета бы только выиграла.
— Хочешь обидеть такого автора, как Харитон Матвеич? Полагаешь, теряя таких авторов, газета выигрывает?
— Т а к и х? Безусловно!
Тут вошел Пичугин.
— Чего он так расшумелся, мать? Слоник бревнышко бросает? Пошли в буфет, пан Кузьмицкий, я занял очередь. Пойдем с нами, мать. И тебе веселее, и нам приятнее…
Материал, заказанный Кузьмицким по рекомендации Краюхиной и по поручению Зава, написанный Харитоном Матвеичем и отредактированный, опять-таки, Краюхиной, был все же опубликован и действительно занял высокий подвал. На полтора десятка читательских писем, в которых выражалось возмущение низким уровнем публикации, пришлось отвечать Пичугину. Отвечать на такие письма он умел, как никто другой. Он соглашался с читателями, благодарил за критику и обещал, что редакция учтет замечания в дальнейшей своей работе.
Кузьмицкий с Лерой почти не разговаривал, лишь сухо здоровался. Дня два, не более того.
ВОСПОМИНАНИЕ О СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ
Его отвели в небольшую уютную комнату.
— Отдохни здесь, Витя, а вечером увидимся, — сказал Локтев. — Ты молодец, ты наш! Отдыхай.
Когда все вышли. Терновой запер дверь изнутри, испытывая лишь одну неодолимую физическую потребность: поскорей лечь и закрыть глаза. Он второпях разделся, скользнул под одеяло, ощутил приятную свежесть чистой постели, и это было его последним в тот момент явным ощущением.
Проснулся от телефонного звонка — аппарат, оказалось, стоял тут же, у изголовья, на тумбочке. Рядом с керамической вазой, из которой высунулся большой цветок белого пиона, лохматый и круглый, похожий на мордочку болонки. Терновой протянул руку и снял трубку.
— Алло, Витя! — послышался бодрый голос Локтева. — Отдохнул?
— Да, спасибо.
— Как самочувствие?
— Отличное.
А голова болела неотвязно, во рту было мерзко, и при одной лишь мысли о запахе спиртного вновь подкатывала тошнота.
— Ты молоток, Витя! — кричал в трубку Локтев. — Ты наш, ты всем очень понравился. Ты меня понял? Всем! Мы с тобой тут во как поживем, не пожалеешь! Сейчас пригоню машину, поедешь ко мне домой, поужинаем. В семейной обстановке, так сказать.
«А, чтоб ты пропал со своим ужином!» — подумал Терновой и спросил непринужденно:
— Кейса моего не видал?
— У меня твой кейс, не беспокойся. Все в целости-сохранности. Так приезжай, мы ждем…
Конечно, этот вечер потерян, в палаточный табор ему сегодня не попасть, со студентами стройотряда не встретиться. А завтра… А до завтра управляющий и его спортивные парни проведут необходимую подготовку, успеют. Не поехать к Локтеву, отказаться? Нельзя: главное — не спугнуть!
Оно полезно иногда — не спугнуть. А бывает, полезнее наоборот — припугнуть как следует. Смотря с кем дело имеешь.
Прихотливая штука — цепь ассоциаций. За каждым ее поворотом — неожиданное воспоминание. Вот и сейчас вдруг отчего-то вспомнилось, как в прошлом году, еще при матери, в их доме делали капремонт. Без выселения. Тот самый, который с мрачным юмором называют «стихийным бедствием».
Сначала, помнится, явились предвестники бедствия. Их было четверо. Громила с татуировкой на огромных руках оказался жэковским инженером, голос у него был тихий, изъяснялся исключительно вежливо. Некрасивая, с мужской нижней челюстью, девушка представилась как техник-смотритель — никогда не выйдет замуж, подумал Терновой, какая-то особая печать на лице, но затем углядел обручальное кольцо… что ж, как говорил Цицерон, человеку свойственно ошибаться, а глупцу — настаивать на своей ошибке… Толстяк с добродушно-беспечной, как у диснеевского поросенка, физиономией в курчавых бакенбардах назвался прорабом. И еще пришла представительница общественности — кокетливая старушка в мелких седых кудряшках. Все они с многозначительным видом заглядывали в какой-то потрепанный план, вымеряли что-то рулеткой и, тихо посовещавшись, ушли, ничего толком не сказав.
Еще через неделю с утренними газетами вынули из почтового ящика измятый обрывок тетрадного листка в клеточку. Разностильными угловатыми буквами, напоминавшими древнюю клинопись, было начертано:
«Завтра будте дома придут делат римонт».
Назавтра не пришел никто.
А еще через два дня явились слесаря и сварщики. И начали бить кувалдой по батарее отопления — стук и звон пошел по всей квартире, кусками отваливалась штукатурка, в солнечном луче заклубилась рыжая пыль.
Случайно оказавшийся на сей раз дома Терновой спросил:
— А не проще ли, ребята, резануть сваркой?
— Проще пареной репы, хозяин! — осклабился сварщик в грязно-выцветшем негнущемся комбинезоне и вязаной лыжной шапочке над развернутыми, как у насторожившегося бычка, ушами.
— Да ну, баллон еще тащить! — другой, высокий, косолапый, бросил кувалду, закурил, стряхивая пепел на подоконник. — Сегодня мы только старые уберем, а то завтра за нами машина придет, грузить будут.
— А новые когда? — поинтересовался Терновой.
— Новые? Когда привезут.
— Лежат же во дворе.
— И все-то вы, хозяин, замечаете… То других размеров, негабаритные. По ошибке завезли.
— А габаритные когда завезут? — не унимался дотошный «хозяин».
— Хрен его знает. Может, сегодня. А может, через две недели.
Терновой даже головой мотнул, до того непривычно и противно было возникшее ощущение полнейшей младенческой беспомощности. Похоже, намечавшуюся командировку придется отложить. И — спешно оформить положенный отпуск, который все еще никак не удосужился использовать. И Ане отдых испортил: все свои каникулы провела в городе. Хорошо, хоть Виталика удалось пристроить: детский сад на дачу вывезли; каждое воскресенье навещали его; парень вытянулся и загорел за лето, а главное — по дому соскучился. Это очень даже неплохо, когда по дому скучают…
Терновой вздохнул и спросил унылым голосом:
— Ну, и как же?
— А чего как?
— Договоримся, может?
— Может, договоримся.
Наконец вроде друг друга понимать начали.
— Сколько кинешь?
— Ну, сколько, чтобы не обидно?
— Ну, на бутылку.
Столковались. Противно и унизительно! Но как быть? Альтернатива — где она?
А те тут же быстренько приволокли голубой баллон с черными шлангами. Другим уже, услужливым тоном посоветовали:
— Газетки-то свои уберите подальше, а то, не ровен час, искра попадет. Вот на прошлой неделе были мы в одном доме…
Споро и аккуратно разрезали трубу за трубой, пыхтя выволокли старые радиаторы — за ними по всему полу пролегли ручьи почерневшей прошлогодней воды.
— Не беда, ваши хозяйки приберут, это легко отмывается.
Получив обещанное, спросили, нет ли еще трояка — одолжить.
— До завтра, а? А то — пообедать… А завтра, не сомневайтесь, мы новые радиаторы добудем, тут же и установим. Завезут не завезут — найдем, это уж наша забота. А то и правда, чего вам зря мучиться…
Пол после них Аня отмыла с превеликим трудом. Мать все порывалась помочь, но допущена к подобной работе не была.
Назавтра, лишь к вечеру, когда мать прилегла отдохнуть, Аня накрывала стол к ужину, а Терновой и Виталик помогали ей в этом нехитром деле, явился тот, который в лыжной шапочке. Шапочка, правда, теперь сползла на сторону, задержанная оттопыренным ухом. Разило от гостя метра на два, не меньше, голову он держал напряженно, покачивая, как недавно родившийся. Слова выдавал с превеликим усилием.
— Вас… — он пристально посмотрел на Аню. — Тебя… как звать? Я ничего, извиняюсь… А радиаторы мы завтра, как штык!.. Хозяин, не сомневайтесь! И ее… она ваша супруга, я вижу… я ее уважаю, не сомневайтесь! И вас, мамаша, тоже уважаю. Я буду шеф вашей квартиры… Слово шефа — закон!.. Сказал, значит, все!..
Пока не дали ему еще трешку, не уходил.
Назавтра они не показывались. Не видать их было еще полторы недели. В конце концов Терновой обнаружил их во дворе соседнего дома, где тоже шел капремонт. Отводили глаза, извинялись, божились. А что он мог им сделать? В том-то и проблема… Когда дело касалось всяких прочих безобразий, спецкор Терновой был хватким и цепким. Но тут касалось его лично, тут он чувствовал себя безоружным. И все же в конце концов потерял остатки терпения — явился к Главному и все изложил.
— Что ж вы раньше-то молчали? — упрекнул Главный.
Из редакции позвонили в городскую инстанцию. Дело сдвинулось было, но на полпути опять застряло. Теперь, уже не как частное лицо, а как представитель прессы, Терновой чувствовал себя привычно и уверенно. Он разыскал прораба с бакенбардами, предъявил спецкоровское удостоверение и разъяснил популярно, что будет наложено вето на прогрессивку, которая, кстати, не за горами. Прораб тут же прислал людей, в один день нашли и поставили новые радиаторы. Правда, когда после — перед началом отопительного сезона — пустили для пробы воду, в трех местах протекало. Пришлось снова разыскивать и уламывать, обещать и грозить. Помогло, увы, лишь последнее…
Да, при иных обстоятельствах припугнуть — не без пользы. Но сейчас — с Локтевым — наоборот, его нельзя спугивать.
И пришлось поехать не к палаткам стройотряда, а на квартиру управляющего — ужинать в «семейной обстановке». И снова пить, подавляя усилиями воли утомительные приступы дурноты. И — говорить комплименты хозяйке дома. И — слушать детские стишки в исполнении шестилетнего отпрыска. И — рассказывать про своего Виталика, которому тоже через год в школу… До чего же одиноко было Терновому в этой «семейной обстановке»! Самое тяжкое одиночество — среди чуждого многолюдья.
А поздней ночью, когда вернулся в ту же отведенную ему комнату и мечтал об одном лишь — выспаться, раздался осторожный стук в дверь. И — отчетливый шепот:
— Витенька! Ты спишь? Это я, Маша это. Ты меня слышишь? Открой, а?
— Завтра, Маша, завтра.
— Открой, дело есть…
В общем-то, Терновой был достаточно уверен в себе, мог бы и впустить сию девицу. Пожалуй, именно от нее можно немало выведать про этот так называемый профилакторий и прочие делишки… Однако, все же…
— Ты открой, Витенька!
— Я устал, Маша. Завтра.
И тут же подумал, что глупейшим образом упускает редкую возможность, другой не подвернется. А она все скреблась:
— Открой хоть на минутку! Я чего скажу-то…
«НУ-НУ»
(Сочинение Аркадия Котикова)
Много болот осушил человек. Но еще много надо осушать. Да следить, чтобы новые не заводились.
В одном неосушенном болоте обитала дикая свинья. Любила заседания в мутной пресной воде. К слову сказать, дикие свиньи по вкусу почти не отличаются от домашних, кто пробовал — знает.
Однажды старая лосиха решила посоветоваться со свиньей по вопросам зимнего питания. Свинья ведь животное всеядное, должна разбираться в таких вопросах. Кроме того, лосиха давно знала эту свинью, еще поросенком помнила. Маленький такой был тогда поросеночек, полосатенький, суетливый… От воспоминаний лосиха вздохнула. Хороший был поросеночек, воспитанный, вежливый. Какой-то он теперь? Вспомнит ли старую лосиху, у которой однажды по ошибке потребовал молока? Глупенький был…
А теперь перед лосихой был не поросенок — взрослая свинья. И отнюдь не маленькая. Только глаза маленькие, все остальное — большое. А глаза недобрые. Не узнает, наверное, безрогую лосиху…
— Вам что?! Покороче!
— Да мне… — Лосиха робеет. — Вот… Собственно говоря…
— Зайдите завтра! — перебивает свинья. — Сегодня не до вас. Тут сестра опоросилась, понимаете. Некогда мне. Ясно?
И, отвернувшись от обескураженной лосихи, свинья погружается в ржаво-зеленую воду. Мутную воду. Пресную.
А через два часа раздается треск ветвей — и перед свиньей предстает сам сохатый. Собственной персоной. Разгневанный.
— Лосиха в слезах! Почему? Погрязли?! На чистую воду!!!
У сохатого большие ветвистые рога. Авторитетный профиль. Он недвусмысленно сопит. И свинья делает свое рыло по возможности любезным.
— Присядьте. Не волнуйтесь. Успокойтесь.
Сохатый отдувается.
— Стоит ли расстраиваться из-за пустяков? — ласково похрюкивает свинья. — Все уладим, все будет сделано. Ваши замечания, так сказать… Изучим, учтем… Благодарны…
— Ну-ну… — произносит сохатый. И уходит.
А что «ну-ну»?
СВОЯ ЛЕЙБ-ГВАРДИЯ
— Вы член партии, Юрий Харитонович?
— Пока комсомолец. А что, старо выгляжу?
— Разве члены партии должны старо выглядеть? Вот я, например?
— Ну, что вы! Я вас, простите, не воспринимаю как члена партии. Вы для меня прежде всего женщина. Которой еще не скоро доведется выглядеть немолодо. Быть может, даже никогда…
— Выходит, я рано умру?!
— Исключено! Красота — бессмертна.
Краюхина ничего не смогла с собой поделать — покраснела. Она глядела на приятное личико этого чрезвычайно находчивого и воспитанного, с иголочки одетого и безукоризненно причесанного парня, о котором давно была наслышана. И все пыталась вспомнить, где же она его видела. Ведь видела, несомненно!
Аспирант Шилов пришел в редакцию, и в частности, к Краюхиной, отнюдь не «с улицы», не «самотеком». Его отцом был не кто иной, как сам Харитон Матвеич Шилов — постоянный и желанный автор газеты. Стало быть, после защиты его сыном диссертации место в штабе редакции будет обеспечено. Причем далеко не последнее место, кандидату наук негоже быть простым репортером или младредом. А пока что ему надо вступить в Союз журналистов, нужны соответствующие публикации — за этим он теперь и явился.
Мальчик отнюдь не наивен — Краюхина не только слышала его комплименты, но чувствовала, с каким интересом он разглядывает ее всю, делая это без той нередкой среди нынешних мужчин наглой откровенности, которая вызывает лишь отвращение и досаду. Парень перспективный, через каких-нибудь полгода защитится, поддержка ему обеспечена, и глупо было бы с ее стороны упустить возможность тоже как-то поддержать его. Давно пора бы ей подумать о своей лейб-гвардии в этой редакции.
Своя лейб-гвардия! Давняя мечта Краюхиной. Но лишь те мечты хороши, считала она, которые претворяются в жизнь. Давно хотелось, например, приручить Пичугина — толстяк явно влюблен в нее, даже не старается скрывать. А что у него жена да детей целый воз и маленькая тележка, так никто на их права не посягает. Речь идет лишь о самом невинном удовлетворении естественного женского тщеславия, а добавлять к украшенной золотым шнуром форменной фуражке своего мужа еще и золотые рожки она вовсе не собирается. Неужели непонятно?.. Но Пичугин — при всей своей внешней покладистости — ужасно строптив. В то время как его закадычный друг Кузьмицкий — наоборот — покладист при наружной строптивости. А вот кто поистине прирожденный лейб-гвардеец, так это Терновой. Только не знаешь, с какой стороны подойти к нему. Недавно — была у нее по линии месткома такая возможность — предложила включить его в список внеочередников на новую квартиру, в этом квартале должны дом принять. А то лежит его старое заявление без движения. При том, что все-таки — секретарь партбюро, к тому же один из лучших спецкоров. А он, выслушав ее предложение, взглянул задумчиво так и спросил, сколько в редакции остро нуждающихся. И — все ли они будут удовлетворены в ближайшем году. Дитя наивное? С бородой-то… Не дитя, отнюдь не дитя. Просто человек из девятнадцатого века. Так и сказала ему. А в ответ услыхала:
— Спасибо за комплимент, Лера.
Пыталась вразумить его, дурака неглупого:
— Всех не переждешь, Виктор! Не забудь, мы ведь и общественную деятельность учитываем. Ты же у нас, так сказать, один из капитанов команды…
— Вот-вот! — перебил он, не дослушав. — А капитан, как известно, в случае бедствия покидает корабль последним. А не вне очереди.
Поди потолкуй с таким! Но явившийся к ней сейчас мальчик явно из другого теста испечен.
— Что ж, Юрий Харитонович, — быстро соображая что говорить, Краюхина в то же время не переставала вспоминать, где же он ей все-таки встречался. — Давайте начнем сразу со статьи. Не с репортажа, а со статьи. Вот нам нужна такая тема…
Выслушав ее внимательно, Шилов заметил:
— Да, тему вы мне подкинули актуальнейшую.
— Уж стараюсь… Так что статья пойдет с колес. А там, лиха беда начало, сообразим и провернем еще что-нибудь. И ко дню вашей защиты все уже приметят нового автора — Юрия Шилова. И заодно с кандидатским дипломом получите журналистский билет.
— Надеюсь, раньше. Ведь после защиты не менее трех месяцев будет ВАК утверждать… Да, а какой срок и какой объем?
— Делайте страниц семь-восемь, для газеты это не так уж мало. А срок… Чем скорее, тем лучше для нас.
— И для меня, — он улыбнулся приветливо, но сдержанно. Затем, едва заметно поколебавшись, спросил как бы между прочим: — Лера, вы смотрели новую постановку «Пигмалиона»?
Ее малость покоробило фамильярное обращение по имени — мальчишка ведь еще! Однако решила не придавать значения. В конце концов, нынче многие молодые люди не ощущают возрастной дистанции, да и она еще, слава богу, не старуха. О чем уже шла речь сегодня… К тому же, на шалости своей лейб-гвардии положено смотреть сквозь пальцы.
— Нет, Юра, — она решила называть его тоже по имени. — Еще не смотрела.
— Сейчас трудно попасть, даже по удостоверению. Но я смогу вам помочь в этом деле… Через неделю принесу статью, а насчет билетов позвоню послезавтра. Всего доброго, Лера, спасибо…
— Не за что.
— Как это не за что! А за внимание? Внимание теперь дороже любой валюты… Да, чуть было не забыл! Папа просил передать вам привет.
— Благодарю. Ему от меня тоже. Не забудете?
— Передам непременно. Он очень тепло отзывался о вас.
— Что ж, приятно слышать. А вы на своего папу мало похожи.
— Я весь в маму. Говорят, хороший признак: счастливым буду… Ну, пойду, не буду вас отвлекать от работы. А то, как в том анекдоте…
— В каком? — Все свойства женской натуры, включая и любопытство, не были чужды Краюхиной. И Шилов это усек.
— Да слыхали, наверно. Насчет разницы между англичанином и французом.
— Нет, не слыхала. В чем же разница?
— Англичанин уходит не прощаясь, а француз, прощаясь, не уходит… Но я русский — прощаюсь и ухожу.
«Все-таки пижон!» — подумала Краюхина, когда Шилов ушел. И вспомнила наконец: эту смазливую рожицу она видела недавно в одном зарубежном журнале, в разделе мод, у манекенщика.
МОРСКОЙ ЭТЮД
(Сочинение Аркадия Котикова)
Любопытная, между прочим, жизнь на дне морском.
Ползают медлительные крабы, грозно шевелят клешнями. Никуда не торопятся, следят за порядком. Завидя крабов, морские звезды кокетливо извиваются.
С морскими звездами соперничают восседающие на камнях и раковинах красивые актинии. Они похожи на цветы и не двигаются с места. А зачем им передвигаться, ежели еда сама в рот приходит?
За утонувшим якорем живет каракатица. При виде чего-либо нового, неведомого, она, как известно, пятится. Потому, вероятно, что у нее в жилах чернила текут. Слегка водой разбавленные. Чуть что не так — за чернильной завесой укрыться можно. Сквозь такую завесу и сама каракатица не видна, и на опасность глядеть не так вроде бы страшно. Оттого-то и чувствует себя здесь каракатица, как рыба в воде.
Кстати, о здешних рыбах. Рыба-кузовок, например, частенько надувается и становится вдвое больше. Она уверена, что нет в море рыбы важнее. Но такого же мнения о себе были две поджарые зубастые рыбы, которые весьма чудно назывались по-латыни, но теперь для простоты обозначены в народе живоглотами. Каждый живоглот считал, что без него море высохнет. Ихний спор перешел в драку. Но покуда к месту поединка прибыли дежурные крабы, выяснилось, что живоглоты успели сожрать друг друга. Но море после этого почему-то не высохло.
И рак-отшельник доволен этим обстоятельством. Он прячет свое дряблое брюшко в красивой раковине, построенной другими. Радуется, что его не съели зубастые живоглоты и не вытащили из раковины придирчивые крабы. Стало быть, именно к нему на раковину и переселится молоденькая актиния. Она ведь не дура…
ГОРНИЧНАЯ
Входя в комнату, Машенька споткнулась о порог. И, пожалуй, могла даже упасть, если бы не мгновенная реакция Тернового — успел подхватить ее.
Но не успел вслед за тем отстраниться — она тотчас прильнула, якобы невзначай, вся теплая, трепетная…
Одно помогло: успел, успел все же подумать об Ане. Не просто подумать, а — увидеть ее лицо, услышать ее голос, ощутить ее всю. Неповторимую. Незаменимую — никем! И сразу эта прильнувшая к нему привлекательная Машенька, от которой только что едва было не потерял управление собой, стала чуждой. Нежеланной. Неприемлемой. И теперь только учуял, что пахнет от нее недавно выпитым. Когда — от женщины, это вдвойне неприятно.
Взяв горничную за плечи, отстранил от себя — не грубо, но решительно, преодолев ее некоторое сопротивление. Тогда она, якобы уступая его силе, попыталась опрокинуться на койку. Удержал, усадил на стул, единственный в этой комнате. Усмехнувшись, заметил добродушно:
— Спотыкаться о порог — плохая примета.
— А пошел ты со своими приметами! — ее черные зрачки глядели озлобленно и растерянно.
— Куда же мне идти отсюда?
— Могу уточнить! Если сам не догадался.
— Догадался, Маша, — Терновой перестал усмехаться. — Я, видишь ли, догадливый. И уточнять не надо. Не люблю, когда женщины ругаются.
— Не любит он… А что ты вообще любишь?
— Многое. Чистоту, например.
— Здесь что, не прибрано разве? — Машенька, сбитая с толку, огляделась вокруг. — Еще утром прибрала вроде…
— Спасибо. Но я о другой чистоте. Понимаешь?
— Усекла, — ее яркие губы однобоко скривились, будто собралась всплакнуть да передумала. — Не такая уж дурочка… Хочешь сказать, ты — из чистеньких, а мы — из грязненьких. Все ясно! У матросов нет вопросов.
— Но к матросам есть вопросы. — Терновой снял пиджак со спинки стула, на котором сидела Машенька, вся напрягшаяся, когда его руки приблизились. Накинув пиджак себе на плечи, сел на койку, потер пальцем переносицу. — Ты ведь хотела сказать мне что-то? Говори, я слушаю.
— Хотела пожелать спокойной ночи! — выкрикнула она с вызовом и вскочила со стула. — Выпусти-ка меня отсюда! Поди успел запереть…
— Дверь не заперта, вон ключ в ней торчит. Можешь идти, не держу. Но ты… Ты присядь-ка, не бойся. Один только вопрос задам, захочешь — ответишь, нет — неволить не стану.
Он рассчитал верно — женское любопытство сработало:
— Ладно, так и быть уж… Какой там еще вопрос?
— Вопрос у меня, на первый взгляд, простой. Ты… ты по своей воле постучалась ко мне? Или подсказали?
— Я против своей воли ничего не делаю! И в подсказках не нуждаюсь!
Опять слишком вызывающе выкрикнула. Неправдоподобно вызывающе. И, помолчав недолго, Терновой сказал, негромко и укоризненно:
— Не надо меня обманывать, Маша. Очень прошу тебя, не надо.
Она опешила, взглянула непонятно, покачала головой. Пригладила ладонью черную купальную шапочку своих коротких волос. Еще раз качнула головой. И вдруг разревелась. Непритворно. Громко. По-детски.
Он налил ей воды из графина, подал. Послушно выпила, постукивая зубами о стакан. И — все еще всхлипывая:
— Спасибо… Извини…
Увидев, что она ищет в рукавах кофточки и не может найти носового платка, он достал из кейса свой и протянул:
— В употреблении не был, возьми.
— Спасибо, — Маша вытерла глаза, негромко высморкалась. — Я завтра выстираю, отдам.
— Оставь себе, у меня их много. Чаю крепкого хочешь? Есть кипятильник и пакет растворимый.
— Поздно уже, тебе отдыхать надо. Пойду я… Извини… — Она закрыла заплаканное лицо тонкими дрожащими пальцами и сквозь эти пальцы тихо промолвила: — Я не думала… Ты не такой, как все…
— Откуда тебе знать, какие в с е? Многих ли ты видела?
— Больше твоего! — огрызнулась она.
— Прости меня, Маша. Это я просто так пошутил. Неумно и пошло пошутил.
— Господи! — воскликнула она и снова помотала головой. — Есть же счастливые!..
— Ты о ком?
— О твоей жене, о ком же еще! Извини. Пойду я…
— Ничего, Маша. Будет и у тебя счастье. Вот увидишь.
— Нет, Витенька, не будет. Я знаю.
— Это тебе сейчас так кажется. Мне, бывало, иногда тоже казалось. Даже точку поставить хотелось. Да-да, представь себе… Но… Был когда-то, давным-давно, персидский царь Кир. Не слыхала?
— Кир? Нет, не помню. Не проходили, наверное. Не знаю.
— Неужели и Кира из программы выбросили?.. Так вот, Кир этот был великим полководцем. Но, в отличие от других, он не угнетал народы завоеванных земель, а — наоборот — освобождал их от угнетателей, с уважением относился к их святыням и обычаям. И потому многие страны не только не оказывали ему сопротивления, но даже добровольно открывали ворота городов его войскам и присоединялись к нему…
— Интересно рассказываешь. А — к чему?
— А к тому, Машенька, что Кир этот, по свидетельству древнегреческого писателя Ксенофонта, однажды сказал: счастье доставляет тем больше радости, чем больше потрудишься, прежде чем достигнешь его.
— Интересно. Только нет, Витя, нет! Не будет мне счастья, сколько ни трудись, не будет! Ничего же ты про меня не знаешь…
— Не знаю. А ты расскажи.
И она рассказала. Рассказывала долго и сумбурно. Когда ушла, начало светать.
Заснуть хоть на пару часов Терновой так и не сумел: мешало услышанное. Цены ему не было, услышанному в эту неспокойную ночь от Машеньки, горничной так называемого «профилактория».
СЕНО
(Сочинение Аркадия Котикова)
Сено лежало на лесной поляне, теплое, душистое. Уже пора дождей приближалась, а его почему-то не убирали.
Прыгали в сене кобылки, стрекотали без умолку:
— У кузнечиков длинные усы, а у нас короткие. Мы не кузнечики, мы кобылки. Передаем концерт по заявкам исполнителей…
Заслышав тяжелый топот, кобылки притихли, попрятались.
— Вот я и прискакал, — сказал сам себе появившийся на поляне конь. — Насилу отбился от табуна. До чего мне наши лошади надоели, век бы их не видел!
Он хлестнул себя хвостом, отгоняя назойливых слепней. Затем услыхал пряный аромат, раздул ноздри. И потянулся к сену, ласково пофыркивая. Но вдруг уши коня тревожно задвигались туда-сюда. Никак, волк! — и, вспугнутый, конь ускакал, так и не отведав сена. Но это оказался не волк, а вполне цивилизованная овчарка. Обычно ее называли «немецкая», но однажды, засомневавшись почему-то, переименовали в «восточноевропейскую». Так или иначе, а ей удалось сорваться с цепи, и теперь, довольная, она бегала по лесу. Обрывок цепи волочился за ней, звеня и пугая местных зайцев.
От множества новых запахов у овчарки слегка кружилась голова. Здесь, на поляне, она решила отдохнуть, облюбовала себе сено и улеглась, изрядно примяв его. Понюхала. Разочарованно чихнула.
— Ничего интересного. Трава как трава. Да еще сухая.
Овчарка зевнула сладко и, положив морду на лапы, закрыла один глаз. Услыхав чьи-то шаги, хотела было залаять, но, убедившись, что это всего-навсего знакомый осел, раздумала.
— Добрый день, овчарка.
— Привет, осел! Как жизнь молодая?
— Молодая… Скажешь тоже. Как схожу на рынок, да за водой, да по дрова, — после так спину ломит, что молодым себя никак не чувствуешь. Надо быть ослом, чтобы так вкалывать.
— Есть небось хочешь? — участливо спросила овчарка.
— Еще бы! А ты не будь собакой на сене, отойди в сторонку. Сама не ешь — дай другим.
— Пожалуйста, сказал бы сразу, — и овчарка перешла на другой конец поляны. Там нашла она в траве старую кость и принялась глодать ее, зажав между передними лапами.
Осел долго стоял в глубокомысленном раздумье, вдыхая аромат сена. Какое оно, должно быть, вкусное! Он поворошил сено и совсем опьянел от замечательного запаха. Обойдя сено вокруг, вздохнул глубоко и представил себе, какое это наслаждение — после трудов праведных отведать душистого сена. От одного только предвкушения осел почувствовал себя молодым и счастливым. Оставалось лишь определить, с которой именно стороны приняться за дело, с наветренной или подветренной. Чтобы явственнее ощущать чудесный аромат…
Тем временем прибрел на поляну головастый бык. Увидал сено и сказал:
— О-о! Вот это да-а!
Засопел и уронил висевшую слюну на траву. Затем молча отшвырнул осла, сжевал все сено и, сыто рыгая, отправился к своему стаду.
Наблюдавшая эту сцену овчарка пожала плечами. Не понимала, что хорошего нашел бык в сене.
А каково было ослу?
ДОМА
— Папа приехал! Папочка приехал! — Виталик скакал и бесновался вокруг, сшиб поставленный под вешалкой кейс, а Терновой, освободив руки от кейса, бережно сжимал ладонями самое прекрасное в мире, самое родное лицо и без счета, зачем-то торопливо, целовал да целовал самые любимые глаза. Как же истосковался он по этому лицу и этим глазам, с каким день ото дня нараставшим нетерпением ждал этой блаженной возможности видеть их, касаться, целовать… А глупые, жалкие неудачники — поколение за поколением — накалывают себе лживые, невежественные слова: «Нет в жизни счастья». Впрочем, не надо о них так, он им ничего дурного не желает, ему сейчас хочется быть очень добрым. И пускай всем будет хорошо. Всем, кто заслужил. А он, Виктор Терновой, заслужил ли он той высочайшей награды, которую присудила ему Аня, прильнувшая сейчас самозабвенно и доверчиво, произнося время от времени одно и то же:
— Витюша… Мой Витюша…
Наконец высвободилась с немалым усилием и — другим уже, более обыденным голосом сказала:
— Ты, наверное, хочешь вымыться с дороги? Или сначала поесть?
— А у нас горячую воду отключили! — поспешил доложить Виталик, но тут же взлетел к потолку, едва не задев головой светильник, и снова взлетел, и снова. Пока не умудрился вцепиться ручонками в бороду Тернового — так, что подбрасывать его стало непросто.
Аня, глядя на них, смеялась своим негромким смехом и весело скомандовала:
— Всем — руки мыть! Горячая вода — в большой кастрюле и в ведре. Сейчас поедим, потом папа вымоется, а потом…
— А потом суп с котом! — выкрикнул Виталик услышанное на стороне.
— Вот ты его и съешь, — заметил Терновой, переобуваясь в домашние туфли.
— Сам съешь! — вконец разошелся малыш, тут же получил символический шлепок от матери и отчаянно заревел.
— Без тебя он совсем от рук отбился, — пожаловалась Аня. — Прямо никакого удержу. Слава богу, вернулся ты…
За столом сидели мирно и тихо. После всех позитивных и негативных эмоций да после сытной трапезы Виталика сморило — его тут же уложили. Заснул малыш мгновенно и без притворства.
— Ночью спать не будет, — забеспокоилась Аня.
— Будет, — уверенно возразил Терновой.
Швырнув на спинку стула полотенце, которым вытирала ложки и вилки, она порывисто бросилась к нему.
— Прибыл… Витюшенька мой… Самый любимый…
— Ты — самый любимый… Анюшенька…
— А ты сможешь что-нибудь написать?
— Смогу, конечно. Писать есть о чем. Пропустили бы на полосу…
Чуть погодя она попросила его рассказать о поездке. Терновой всегда ей рассказывал, подробно, охотно, вдохновенно, а она слушала так, как будто истосковалась по человеческой речи. Но на сей раз что-то не склеилось. Не хотелось, противно было говорить ей про опостылевший запах спиртного, про бесталанную горничную, про всю ту мерзость, которую пришлось разгребать — по долгу службы…
— Шестой подвиг Геракла, — ответил он со вздохом. И замолчал.
— И удалось тебе очистить Авгиевы конюшни? — спросила она, отодвинувшись и напрягшись.
— Очистка еще впереди. Если редакция совладает. Я сделал только рекогносцировку. И, если по правде, то — никакого подвига.
— А я тут, пока тебя не было, совсем кольца не снимала.
— Я тоже.
— Сегодня снимем.
Это был их ритуал. На ночь снимали друг у друга обручальные кольца и клали их — непременно вместе! — в миниатюрную медную кружечку-сувенир, привезенную однажды Терновым из поездки в Латвию. Поутру вновь надевали друг другу кольца — как в день обручения. Одинокому кольцу лежать в кружке не полагалось.
Терновой с удовольствием вымылся. Аня приготовила достаточно горячей воды и поливала ему. С не меньшим удовольствием надел чистую сорочку, выстиранную и выглаженную все той же Аней. Он сам сумел бы выстирать и выгладить, но то, что о нем позаботилась именно Аня… Разве это объяснишь?..
— Витюша… Нет, не скажу! А впрочем… Ты не хочешь рассказывать, я же чувствую. Такого еще не было…
Он молчал.
— Витюшенька, — продолжала она. — Послушай меня… Если бы я тебя не знала, если бы не была в тебе уверена, я бы подумала… Ну, что ты молчишь?! Скажи хоть что-нибудь!
Его совесть была чиста перед ней. Но как об этом сказать? Казалось бы, так просто.
— Понимаешь, Ань… — начал было. И умолк. Не получилось.
— Я ничего не понимаю, — призналась она. — Поначалу ты приехал такой, как всегда. А сейчас… ты не такой, как всегда. Почему? Не понимаю… Господи, дура я! Ведь я дура, Витюша…
Он молча замотал головой, протестуя.
— Не спорь! Это ты сам себя убедил, будто жена у тебя умная. А я не умнее других. Которые ревнуют сдуру. И я ревную. Да-да, представь себе!
— Но к кому? — он так округлил глаза, изумился так искренне, что она рассмеялась с облегчением и положила лицо в его ладони. Погодя, сказала тихо:
— Вот теперь ты мне ответил. И я успокоилась. И все-таки я глупая, как последняя двоечница из восьмого класса, есть у нас одна такая… Ты спросил, к кому я ревную. Да мало ли у вас интересных женщин в редакции! Та же Краюхина, например. А? Говорят, будто она даже влюблена в тебя.
— Кто говорит? Какая-нибудь профессиональная сплетница? Кто персонально?
— Не все ли равно? Говорят… А что, не так? Откуда тебе знать, влюблена в тебя Краюхина или нет?
— Да у нее муж то ли полковник, то ли генерал! И живут они душа в душу.
— А если бы муж был сержант? А если бы жили не душа в душу? Тогда — что?
— А ничего. Это их личное дело. Но хотел бы я знать, кто та стрекотуха, которая разносит сплетни обо мне?
— И не стрекотуха вовсе, — Аня усмехнулась не шибко весело. — И вообще не женщина. Мужчина. Заходил тут в твое отсутствие…
— Мужчина?! — он вскочил с дивана-кровати, на которой они сидели. — В мое отсутствие?!
— И ты ревнуешь, оказывается? — Она откинулась на спинку дивана, расхохоталась звонко. — Ну, два сапога — пара! Ох, и дураки же мы с тобой, Витюшка…
Он снова уселся, снова обнял ее, но соображал, соображал напряженно, вычисляя методом исключения, кто бы это мог быть.
— Неужели этот… Неужели Аркашка?
— Ну конечно, Котиков. Принес отдавать десятку. Такой забавный… Ведь ссужал ты ему десятку?
— Было дело, давно списал ее. Странно, что он вспомнил и вернул, редчайший случай… И это он тебе наплел? Нашла кому верить! Аркаша славный малый, но ни одному его слову верить нельзя. В редакции все знают…
— И Краюхина тоже знает?
— Далась тебе эта Краюхина! Ну да, она внешне — ничего, многим нравится. Но я-то здесь при чем?
— А при том, что из всех тех многих ей нравишься именно ты. И Котиков не наврал. Потому что, я знаю, ты можешь нравиться женщинам. По себе знаю… И хорошо, что она не ездит с тобой в командировки. Ведь могли бы послать, а? Витюша-а! А ведь ты мне так ничего и не рассказал об этой поездке. Нет, сейчас не рассказывай! Сейчас я хочу просто побыть с тобой, вот так… Я так соскучилась, так соскучилась!..
— Я — тоже…
По всей квартире развешаны рукописные листовки с цитатами. Еще с той немыслимой поры, когда Ани и Виталика здесь не было, когда Терновой вообще не догадывался об их существовании, даже не подозревал, что вскоре они войдут в его судьбу — навсегда. Ане листовки понравились — он не стал их убирать, только частично заменил и перевесил.
Над рабочим столом ничего не менялось — по-прежнему звучат набатные слова Герцена: «Если мы все будем сидеть сложа руки и довольствоваться бесплодным ропотом и благородным негодованием, если мы будем благоразумно отступать от всякой опасности и, встретив препятствие, останавливаться, не делая опыта ни перешагнуть, ни обойти его — тогда долго не придут еще для России светлые дни». И — тут же — пророческие слова Неру: «Ныне весь мир поставлен перед выбором, который никогда еще не возникал для него в прошлом. Это — выбор между самоуничтожением человечества и возможностью для него сохранить свое существование». Над диваном-кроватью — из Платона: «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное». И — чуть поодаль: «Кто отказался от излишеств, тот избавился от лишений» (Иммануил Кант). А над кроваткой Виталика: «Буду делать хорошо и не буду плохо» (В. Маяковский). Виталику же была адресована и висевшая на кухне листовка с цитатой из «Юности честного зерцала»: «Над ествою не чавкай, как свинья, и головы не чеши, не проглотя куска не говори». Аня поначалу опасалась, что малыш обидится. Но Терновой рассказал ему про великого государя-реформатора, про его противоречивую и в то же время цельную натуру. Про его незабываемые благодеяния и злодеяния. Рассказал, разумеется, в тех пределах и в такой форме, которые были доступны малышу. И Виталик оправдал надежды — воспринял поучение весело, с присущим каждому нормальному ребенку чувством юмора. И потому усвоил суть цитаты естественнее, и легче, нежели — какие-нибудь скучные назидания. Аня, как педагог новой генерации, понимала это, терпеть не могла занудной шкрабской сентенциозности, оценила педагогический успех мужа и была убеждена, что из него вышел бы отменный педагог, если бы… Если бы в системе просвещения были наконец созданы достаточно престижные условия для мужчин. И, конечно, если бы он не был уже не менее хорошим журналистом. Школа, полагала она, немало приобрела бы в лице Виктора Максимовича. Но понимала, что и газета много потеряла бы в лице Виктора Тернового.
А главное, главнее всего, она так страшилась потерять его когда бы то ни было. И так была счастлива, что вновь обрела его после недолгой разлуки, совсем недолгой. Ведь люди, очень близкие люди — подумать страшно! — на многие месяцы и даже на годы разлучаются.
— Ты — до́ма. Хорошо как!..
— Анюшенька моя…
СЛЫХАЛИ, ДА?
— Вы слыхали? Слыхали, да? Уже подписан приказ, я сам видел. Еще вчера подписали, все знают, все только об этом и говорят. Во всех отделах судачат, бросают дела, забывают пообедать. Номер может выйти с запозданием на четыре часа. Или вовсе не выйти, если Главный не примет меры. Никто не работает, все обсуждают эту новость. Мне уже из Дома журналистов звонили, справлялись, правда ли. Все, куда ни зайдешь, только и говорят об этом…
— Да о чем же?
— Как?! Вы еще не слыхали, не знаете? Странно…
— Не томи, Аркаша!
— Краюхина ничего вам не говорила? Вот хитрюга! Ведь уходит она.
— Лерка уходит?! Врешь ведь, признайся.
— А какой мне смысл врать? Она сама мне сказала, еще утром, в предбаннике у Главного. Я как раз заходил продлить удостоверение. Говорит, на учебу, на высшие курсы… Она, я знаю, давно хлопотала. Два года проучится, получит повышение — запросто! И вытолкнет на пенсию вашего Зава, а сама вместо него… Или вообще уйдет из газеты, найдет себе местечко поспокойнее и подоходнее. А что? Ведь интересная женщина, правда? Ее там наверху опекает кто-то, факт! Кажется, брат мужа.
Никто не удивился, когда выяснилось, что у мужа Краюхиной отродясь не было ни одного брата — только сестры, что ни на какую учебу она не уходит и даже не собирается.
ЛЕТУЧКА
Дежурным докладчиком на сей раз назначили Краюхину.
— Руководство газеты, — начала она, — говорит нам правильные вещи. И призывает работать лучше. Мы охотно ссылаемся на эти призывы, но тут же поступаем наоборот. Почему? А потому, что нужны не бесконечные призывы, а оргвыводы…
— Во дает! — шепнул Кузьмицкий, ни к кому не обращаясь.
— Поскольку сегодня обозреваются три номера, — продолжала Краюхина, — а регламент не возрос втрое, то… То, сами понимаете, за недостатком времени какие-то материалы я не упомяну. Но это не значит, что я их считаю недостойными внимания. Итак… Весь предыдущий номер порадовал меня. Порадовал обилием острых, критических материалов. В этом я вижу лицо всего номера. Я даже подсчитала, что таких материалов — крупноформатных и некрупноформатных — всего в номере девять…
— Хорошее число! — крикнули с места.
— Да, немалое, — не поняла она. — Для одного номера вполне достаточно… Меня, правда, смутило сообщение о пожаре. Не знаю, надо ли непременно указывать, что именно два дома сгорело? Зачем так уж пугать читателя? Пускай бы себе думал, что сгорел один дом или полдома. Разве недостаточно? Насчет подвига прохожего — это хорошо. Можно бы даже портрет дать. Не догадались или не успели? Чувствуется и достаточный пафос борьбы с пьянством, но о человеческих жертвах… Не уверена, что была такая уж необходимость обобщать… Здесь же, кстати, хотя материал не шибко острый, но сама по себе информация интересная, нужная, — я говорю об интервью с председателем райисполкома. Одно только мне здесь неясно. Не знаю, умышленно это или случайно, только я нигде не нашла фамилии того нашего корреспондента, который задавал вопросы. Вопросы, правда, не больно оригинальные. Но, вероятно, поскольку это все же интервью, то все оно сделано не без участия этого неизвестного автора. Я не знаю причин, по которым он не упомянут… Когда я смотрю на всю первую полосу в целом, мне нравится один из квадратиков, где по диагонали написано: «Актуальный диалог». Квадратиков вокруг достаточно, а глаза прежде всего останавливаются на этом. Именно он привлекает внимание. Потому что по диагонали. Мне кажется, что здесь найден какой-то хороший ход. Что и требуется на первой полосе…
Начав задиристо и многообещающе, она теперь говорила занудно и монотонно. В зале начался шумок, здесь и там раздалось покашливание.
— Гора родила мышь, — пробурчал разочарованный Кузьмицкий.
Докладчица добросовестно расхваливала одни материалы, весьма доказательно и в то же время спокойно критиковала другие, после чего, взглянув на часы, принялась закругляться, теперь — в несколько патетическом ключе:
— У нас производство, товарищи! И производство, я бы сказала, особое. Мы находимся на передовой, на линии огня…
— Во дает Лерка! — снова оживился Кузьмицкий, обращаясь теперь к сидящему рядом Пичуги-ну. — И заметь, Петушок, она критиковала только женщин.
— Как по-латыни, каюсь, запамятовал, — колбасного оттенка губы Пичугина зашевелились рядом с бескровным ухом Кузьмицкого. — А по-русски звучит так. Человек человеку волк, ученый ученому еще волчее, а женщина женщине наиволчейшая.
— Лерка и есть волчица, — Кузьмицкий нервными пальцами достал сигарету из купленной в буфете новой пачки, но вспомнил, что в конференц-зале не курят, сунул обратно. — Натуральная волчица! Глаза зеленые и светятся.
— Не зеленые, а серые, — уточнил Пичугин и добавил, вздохнув отчего-то: — А волосы под светлую мебель.
— Завтра перекрасится, будут под красную мебель, — брюзжал Кузьмицкий. — Прогресс химии, НТР! Если бы люди произошли не от приматов…
Тут на них строго уставились очки председательствовавшего сегодня Чеканюка, ответсекретаря. Его лицо под редким ежиком коротких полуседых волосков, не по возрасту свежее, стало значительным. Что ж, товарищ председатель, можно и потерпеть, помолчать. Молчание — знак внимания.
Сидевший в президиуме рядом с Чеканюком секретарь партбюро Терновой, прибывший на днях из очередной командировки, тоже взглянул на заболтавшихся друзей, но лишь смешливо сощурился. Пичугину даже показалось, что Виктор Максимович подмигнул им по-свойски.
— А по поводу упомянутых мною проколов и ляпов предлагаю поставить вопрос перед редакторатом! — Краюхина решительно тряхнула светлой волнистой челкой и, вскинув красивую голову, сошла с трибуны. Расположившийся в первом ряду Главный повернул к ней лицо, крупное, энергично-суровое, вздернул изумленно широкую бровь под тонкой золоченой оправой, покачал массивной головой. Ничего не сказал.
ДВА ДОМА И ПРОХОЖИЙ
(Сочинение Аркадия Котикова — по следам газетной информации и под впечатлением от редакционной летучки)
Стояли рядышком два дома. В одном гуляла свадьба, а в другом — просто пьянствовали. И тот, где просто пьянствовали, загорелся.
Шел мимо человек, увидал огонь, кинулся в дом — детей спасать. А ему:
— Куда детей наших тащишь? Ты!
— Так вы же горите! — вскричал прохожий. — Чего ждете? Мне одному всех ваших детей никак не вытащить!
— Еще чего? — насмешливо отозвались хозяева.
— А еще, — не понял их наивный прохожий, — стройтесь цепочкой до самого колодца, ведра с водой передавать…
— Будет тут еще всякий командовать! — возмутились пьянствующие, они же и горящие. — Иди-ка ты… своей дорогой!
И недвусмысленно объяснили, популярно так, куда именно ему отправляться.
Но прохожий, разумеется, туда не отправился, куда его посылали. А побежал в соседний дом, где свадьба гуляла, — за подмогой:
— Соседи ваши горят! Дети погибнут!
— А начхать нам и на соседей и на детей ихних, — отвечали ему. — У нас скоро, глядишь, свои детки появятся. Так, что ли, молодые? Го-орько!.. А ты не смущай нашего веселья всякими страстями. Лучше садись с нами да выпей за молодых, вина и закуски на твою долю хватит.
Однако прохожий — чудак экий! — не стал пить да закусывать. Он поспешил обратно в горящий дом — детишек вытаскивать.
Да только не всех их успел вытащить, сам угорел до беспамятства. А тут еще ветер переменился — перекинулось пламя на другой дом, где свадьба в самом разгаре была, — все занялось там, от новых занавесок до фаты невестиной…
Оба дома сгорели. Дотла. И немало людей погибло сдуру. А чудак-прохожий, что он один-то мог? Смутить веселье — только и всего. Ну, может, пару малышей вытащил, прежде чем угорел…
Гнать надо таких подальше! А то лезут без спросу не в свое дело, еще командовать пытаются… Гнать их, куда Макар телят… и так далее! Чтоб не мешали веселиться народу! Что, не так разве?
НОВЫЙ ИНСТРУКТОР
С новым инструктором райкома Терновой познакомился дня за три до нынешнего партсобрания.
Перед тем их инструктором не один год была женщина, похожая более на манекенщицу, нежели на партработника. Поговаривали, что — несостоявшаяся актриса. Однако похоже было, что — вполне состоявшаяся жена кого-то из сильненьких. Впрочем, одно другого не исключало… С ней Терновой держался корректно, не более того. Ладу не было. Порой эта райкомовская дамочка чем-то напоминала Краюхину, раздражала страшным сочетанием самоотверженности с ограниченностью мышления. Приходилось изо всех сил сдерживаться: все-таки — женщина, а он был «человеком девятнадцатого века» и другим быть не умел.
Теперь будет полегче: новый инструктор — каким бы ни оказался — все же мужчина. Помоложе Тернового. Глядеть приятно: лицо интеллигентное, небольшие солдатские усики, модный костюм на спортивной фигуре. В разговоре не раскрылся, был достаточно вежлив и приветлив, острые углы обходил, на задиристые реплики отвечал молчаливой улыбочкой — понимай, мол, как знаешь.
И вот он прибыл на партсобрание. Предупредил, чтобы в президиум не сажали. Расположился в первом ряду — между Главным и Чеканюком. На их попытки заговорить откликался вежливо и односложно — те поняли, отстали.
Терновой открыл собрание. Повестка была перегруженной: сначала прием в партию, затем — персональное дело (утеря билета), отчет второго зама о политзанятиях и, наконец, разное.
Пока добрались до этого «разного», измотались изрядно. Раздались голоса, предлагающие перерыв. Терновой уговаривал не расслабляться, поскорее закончить. Инструктор сидел с беспристрастным лицом, демонстративно не вмешивался.
Поставили на голосование — незначительным большинством голосов постановили не прерываться.
Передав председательские функции Чеканюку, Терновой вышел на трибуну.
— Хочу воспользоваться присутствием представителя райкома, — начал он, — и высказать то, что за глаза говорить негоже.
Все насторожились. Что еще затеял Виктор Максимович? С ним не соскучишься…
— Хочу воспользоваться тем, — повторил Терновой, — что в работе нашего собрания принимает участие новый инструктор райкома. Как человек новый, он не должен принимать то, что услышит, непременно на свой счет. А услышит он упреки в адрес райкома. И, надеюсь, передаст их..
— А вы как секретарь бюро не пытались высказать эти упреки в рабочем порядке? — прервал на правах председателя Чеканюк и демонстративно взглянул на часы. — А то народ устал…
— Не надо говорить от имени народа, — огрызнулся секретарь. — А если кто-нибудь вообще устал от пребывания в партии, — дело, между прочим, нелегкое и требует немало времени…
— Выкладывайте свои упреки, Виктор Максимович, — подал с места голос инструктор. — Пусть собрание послушает, это полезно.
«Проявился, наконец-то! — подумал Терновой. — И, похоже, неплохо проявился. Но не будем торопиться с выводами, на первых порах все бывают хорошими, все ищут популярности, заигрывают с людьми, играют в либерализм».
— Выкладываю, — охотно отозвался он. — Упрек первый. На этой неделе райком снова затребовал от нас десять человек на овощную базу…
— Не только от вас, — снова подал голос инструктор. — Даже от станков людей отрываем.
— Даже!.. Спору нет, рабочий у станка — фигура почти незаменимая. Даже дефицитная, по нынешним-то временам. И впрямь отрывать его от станка негоже, это не делает чести райкому. Но в газетной редакции что, тунеядцы вкалывают? На износ, между прочим, не от звонка до звонка! Или буржуи здесь в зале сидят, которым полезно жирок порастрясти? Заводской цех план не выполнит — к концу квартала наверстает. Ну, лишат тринадцатой зарплаты на худой конец. А не выйдет завтра газета — что скажет райком? ЧП!
— Вам хорошо известно, Виктор Максимович, — снова проявился инструктор, — положение с овощами. Сгниют на базах — и рабочим, и журналистам нечего будет есть! Откуда прикажете взять людей?
— Откуда? — Терновой разгорячился, за интонациями не следил, предупреждающих взоров и жестов Чеканюка не замечал. — Неужели без подсказки райком сам не догадался? Да вылезьте из служебных «Волг», прокатитесь по району на общественном транспорте, прогуляйтесь пешочком — для здоровья полезно! Поглядите, что в вашем районе творится — не в соседнем, в вашем. Не по сводкам и отчетам, а — глазками! Берусь даже помочь — наметить маршруты и подсказать точки. У одних только винных прилавков алкашей и тунеядцев более чем достаточно — заставьте их работать. На законном основании, между прочим! Проверьте, хотя бы выборочно — соблюдение паспортного режима — улов гарантирую. Или милиции и дружинникам не по зубам нынче такая операция? Или на овощных базах работа требует особой квалификации, алкаши и тунеядцы не осилят?
— А вы поднимите этот вопрос у себя в газете, — инструктор явно оживился, подобрался весь, будто конь, почувствовавший шенкеля волевого всадника. — И укажите конкретные точки. Мы прореагируем.
— Что ж, это можно, — отозвался Терновой. — Только нам бы хотелось дать на полосу и другой материал. О достойном распространения опыте нашего райкома, который не только реагирует на подсказки прессы, что само по себе тоже неплохо и не всюду встречается. Но который и сам находит больные места в своем районе и обращает на них внимание прессы и — при ее поддержке — находит и осуществляет решение.
— Ну, Виктор Максимович! — инструктор улыбнулся (похоже — чтобы скрыть раздражение). — Вы прямо-таки атаковали свой райком. Но признайтесь, разве от нас не поступают к вам никакие указания?
— Поступают, — согласился Терновой. — И довольно часто. Вот о них-то я и намеревался также сказать. Вот, например, позавчера прибыло указание. Заполнить присланную анкету — о политучебе коммунистов редакции. Кстати, за весь нынешний учебный год ни один представитель райкома не побывал ни на одном занятии наших кружков и семинаров. Понимаю, это — хлопотно, тем паче — после рабочего дня. То ли дело составить анкету! Весьма, я бы сказал, диссертабельную…
В зале зашумели — Чеканюк постучал карандашом по графину с водой, призывая к тишине и порядку. Тишина воцарилась не сразу — лишь после того, как выступающий поднял руку и, чуть усилив голос, продолжил:
— Да, диссертабельную, я не оговорился. Получив ответы на все сто семьдесят шесть вопросов, вполне можно состряпать кандидатскую диссертацию.
— Именно сто семьдесят шесть? — недоверчиво спросил Чеканюк. — Может, сто семьдесят пять или сто семьдесят семь?
— Именно сто семьдесят шесть, я считал. Могу, если желаете, сегодня же после собрания дать вам эту анкету. Проверьте! А вдруг я ошибся и там на один вопрос больше или меньше. Ведь это в принципе изменит суть дела, не так ли?..
— Виктор Максимович! — укоризненно окликнул Главный. — Поменьше бы эмоций, поближе бы к делу.
— Хорошо, постараюсь еще ближе к делу. Так вот, без всяких эмоций, спрашивается: сколько требуется времени, чтобы ответить на все сто семьдесят шесть вопросов анкеты?
— Вы бы изучили ее повнимательней, — заметил инструктор. — И поняли бы, что вашей организации не на все вопросы надо отвечать.
— А сколько потребуется времени, чтобы внимательно изучить все сто семьдесят шесть вопросов? Даже если по три минуты на каждый вопрос, то есть не очень внимательно, то всего получится… — Терновой быстро вытащил блокнот, ручку, принялся писать цифры и доложил, потрясая раскрытым блокнотом: — Вот, извольте! Только на изучение — более пятисот двадцати минут. То есть не менее восьми с половиной часов. Полный рабочий день с гаком!
— Но на составление анкеты, согласитесь, кто-то затратил еще больше времени, — не сдавался инструктор.
— Конечно! В свое служебное время. Выполняя свои прямые обязанности. А как быть с нашими прямыми обязанностями? Когда их выполнять, если заняться анкетой райкома? Разве в Уставе не сказано, что коммунист обязан повышать производительность труда и совершенствовать свою квалификацию? Тот же райком спросит с нас, если перестанем выполнять свои профессиональные обязанности или начнем выполнять их из рук вон плохо. Но зато изучим анкету и ответим на ее вопросы. Любопытно, а когда и как намерен райком обобщать полученные данные? Из стольких организаций! Здесь, простите, сам черт ногу сломит. Если не вооружить черта современной ЭВМ. В чем тут, на мой взгляд, загвоздка? Нет сомнения, каждый коммунист, в том числе и товарищи из райкома, согласен с тем, что неоднократно осужденное партией бумаготворчество не заменяет живой работы с людьми…
— А вы сами, как журналист, чем занимаетесь? — подкусил инструктор. — Тоже профессионально. Прокатом стальных листов или творчеством на бумаге?
— Не надо путать божий дар с яичницей! — резко ответил Терновой. — Вы не хуже меня понимаете разницу между работой над номером газеты и работой над подобной анкетой.
— Хорошо, я доложу в райкоме все, что услышал от вас, — сухо отозвался инструктор.
— Вот об этом-то я и просил в самом начале, — напомнил Терновой.
И тут, никем не прошенный, на трибуну поспешно выбежал немолодой завотделом, где работали Краюхина, Пичугин и Кузьмицкий. Пожевав, по своему обыкновению, губами, он заявил, обращаясь исключительно к инструктору:
— Я очень взволнован и прошу извинить… Я не ожидал… Я знаю Виктора Максимовича как исключительно сознательного и дисциплинированного коммуниста, дающего всем нам пример, так сказать… И вдруг сегодня… Я ушам своим не поверил! Я полагаю, что здесь просто сказалась человеческая усталость. Наша профессия действительно не из легких. И от имени партсобрания, от имени всей нашей организации я хотел бы извиниться перед представителем райкома. И заверить, что мы… что собрание не разделяет и не поддерживает всего того, что сказал только что Виктор Максимович. Я прошу считать все это лишь досадным недоразумением.
Аплодисментов не было. Всем хотелось поскорей уйти.
Когда расходились, Главный подошел к Терновому, взял за локоть, сказал с невеселой усмешкой:
— Ну, чего вы завелись, Виктор Максимович? Чего надеетесь добиться? Пришлют еще одну комиссию по проверке, только и всего. Или надеетесь обойтись без райкома? Полагаете, не нужен он вам, сами с усами?
Через неделю позвонил инструктор. Сказал, что считает выступление Тернового весьма дельным, в духе времени. О чем и доложил секретарю. Который просит Виктора Максимовича прибыть для беседы назавтра к семнадцати ноль-ноль. Если, конечно, Виктор Максимович сможет в такое время.
Терновой ответил, что сможет. И что хотел бы потолковать по душам не только с секретарем, но и с инструктором. Чтобы получше узнать друг друга. Работать-то придется вместе.
— Разумеется, Виктор Максимович, — ответил тот. — Таково и мое желание. Мне бы не хотелось выглядеть в ваших глазах этаким, знаете, козлом, которого поставили во главе овец. И вы — не овцы, и я не козел, уж поверьте.
— Козел скорее я, — засмеялся Терновой. — Если судить по бороде… Что ж, давайте договоримся, когда вам удобнее. Могу я к вам подъехать, а еще лучше бы — вы ко мне.
Они договорились. Беседа по душам состоялась. И не одна.
— Побольше бы таких инструкторов, — сказал Терновой Ане после одной из тех бесед. — Побольше бы. А то…
И не договорил. Но Аня, как видно, поняла.
КОЗЕЛ НА МОСТУ
(Сочинение Аркадия Котикова)
Как известно, во главе овец часто ставят козлов. Тех самых, о которых сказано: «Пусти козла в огород…»
Текла река. И висел через реку мост. Деревянный, железом обитый, дождем омытый, солнцем прогретый, ветром продутый. Скрипучий.
Пришли к реке овцы. Впереди — козел. Увидел воду и решил первым делом напиться. А овцы с ходу — на мост. Бодро застучали копыта, терпеливо заскрипели балки, — и все стадо перебралось на другой берег. Не дожидаясь вожака! Это было, по меньшей мере, нарушением дисциплины. И, во всяком случае, несоблюдением субординации. А главное, мост мог бы провалиться — и тогда козлу пришлось бы переправляться вплавь. На подручных средствах. Которые бывают весьма несподручные…
Козел стоял на берегу, напившийся, всеми брошенный. Тряс попеременно то бородой, то хвостом. И задумчиво вертел ушами. «Быть может, — думал он, — мои овцы уже не овцы? Бредут сами по себе, и вожак им ни к чему…»
И не очень уверенным голосом — ме-ке-ке! — дал козел стаду команду вернуться на исходные позиции. Но не по мосту, а вплавь. На подручных средствах.
Овцы подручных средств искать не стали, послушно погрузились в холодную воду, задрали головы, задвигали ногами. Поплыли.
Теперь козел очень уверенным голосом приказал снова — ме-ке-ке! — форсировать водный рубеж. Тем же манером. И овцы снова поплыли, обреченно блея. Будто и моста-то никакого нет, а так — выдумка, нарисованное что-то…
Вожак же ихний затопал себе неторопливо по мосту, напевая популярную песенку о сереньком козлике, покачивая в лад рогатой головой. Вышел преспокойненько на противоположный берег и встал там, как памятник самому себе.
А из воды, дрожа и брызгаясь, выбирались намокшие овцы. Многие из них простудились, две даже утонули. Но их встречал свой собственный козел, великолепный, ни с кем не сравнимый. Он бодро — ме-ке-ке! — приветствовал их. И можно было вновь следовать за ним. В огонь и в воду. На пастбище и на бойню. Не задумываясь.
Однако, когда путь пересекла еще одна водная преграда, через которую также был перекинут мост, — овцы задумались. Впервые. Но козел об этом не знал. Как не раз бывало, он снова приказал им плыть. И был крайне изумлен, услыхав в ответ:
— Хорошо, мы поплывем. И выплывем. Но ты плыви первым, а мы уж — за тобой.
Покачал козел головой, покрутил задумчиво ушами и хвостом, вздохнул без удовольствия и — ме-ке-ке! — повел все стадо по мосту. И мост не провалился.
«СВЕЖАЯ ГОЛОВА»
Уж который день гроза все собиралась. По замутненному небу беспорядочно рассредоточились ленивые облака. Выглянув из настежь распахнутого окна своего кабинета, Краюхина заметила: одно облако, самое большое, потемнело и снизилось.
Еще с утра она направилась к Заву — согласовать обзор читательских писем. Их Зав — ветеран журналистики, неглупый, эрудированный, когда-то весьма дельный, был однажды раз и навсегда напуган неприятностями за какой-то давно забытый промах. И с той поры, прежде чем завизировать какой-либо острый критический материал, непременно вопрошал: «А тот, кого вы здесь критикуете, он… он случаем не родня кого-либо из сильных мира сего? А? Вы уверены? Вы проверили? Может, еще разок проверить, а?..» А на вопросы для него неожиданные неизменно отвечал: «Я… я не готов». Редакционные остряки прозвали его «антипионером»: всегда не готов! И уверяли, будто произнес он эту сакраментальную фразу еще в далекой юности — на рандеву с возлюбленной. И никто из этих остряков не знал, что были в жизни Зава четыре года, когда он ко всему всегда был готов и ничего не страшился, ибо иным фронтовому репортеру быть не положено. Не ведала этого и Краюхина — она знала человека т е п е р е ш н е г о. И потому понимала, что к вопросу о задуманном ею читательском обзоре антипионер окажется «не готов». Но решила хотя бы не обходить его — для приличия, для соблюдения субординации (этому армейскому словечку, как и многим подобным, ее научил муж). Понимая все это, она решительно вошла в «предбанник».
Крошка Кэт, придерживая худощавым плечиком телефонную трубку, в то же время виртуозно, будто смычком, обрабатывала длинной маникюрной пилкой края своих узких и длинных ноготков, покрытых темным лаком цвета запекшейся крови. На вопросительный взгляд вошедшей ответила едва слышно, будто по секрету:
— Его еще нет.
— А не звонил, скоро будет?
Та лишь пожала плечиком, едва не уронив трубку, после чего продолжала свой прерванный телефонный разговор — вполголоса и очень быстро:
— Так вот здесь отвлекли представляешь просто изумительно организовали а-ля фуршет я ничего кроме коньяка не пила хотя приготовили великолепный глинтвейн Нюсик добыл бутылку «Длинного Джона» у его жены это новая с Луизкой он разбежался изумительная фирменная кофта мне обещали такую же только другого цвета я просила морскую волну это мой цвет такая досада была с ужасной головой мой мастер только сегодня вышел после больничного надо будет отпроситься…
Оставаться в «предбаннике», слушать про Нюсика, Луизку и глинтвейн было глупо. Краюхина направилась в сто девятую.
Там Кузьмицкий с лицом совершенно больным досасывал чадящую сигарету, правил рукопись. Пичугин же возлежал безмятежно на диване, облокотясь и скрестив полные ножки, глаза его приветливо улыбались остолбеневшей у порога гостье.
— Позирую, — объяснил он ей. — Маха одетая. А Франсиско куда-то вышел.
— Какой еще Франсиско? — не поняла Краюхина.
— Гойя, мать. Франсиско Гойя.
— При чем тут Гойя?
Пичугин помрачнел, встал с дивана. Посмотрел в окно, где и небо тоже помрачнело. Закурил не спеша. Подошел к Кузьмицкому, заглянул рассеянно через плечо.
— А вот этой фразы я бы, право, не выбрасывал.
— На кой она? — Кузьмицкий выплюнул окурок, попал в корзину. — Все то же самое сказано раньше.
— У тебя бумага в корзине загорится. Загаси окурок-то… А фразу восстанови. Ей-ей, восстанови. Ты в ритм вслушайся — нельзя, никак нельзя выбрасывать! Хуже ведь получится. А худшее — враг хорошего, как говорим мы в отличие от французов… Вот и Лера подтвердит. Ты, мать, прочти с самого начала, яснее будет.
Пока она читала, Кузьмицкий набрал номер.
— Будьте добры, попросите, пожалуйста, Асю…
Пичугин, посапывая и дымя, поедал затосковавшими глазками нависшую над столом волнистую Лерину челку.
— Ну, до завтра, Асенька. Целую! — Кузьмицкий положил трубку, озабоченно наморщил высокий лоб. Потащил, не глядя, из лежавшей под рукой вскрытом пачки еще сигарету.
— По-моему, — сказала Краюхина, выпрямившись, — эта фраза совершенно лишняя. Никчемушное повторение сказанного.
— Никчемушное? — когда Пичугин сердился, лицо его так набухало, что становилось жутко. — Отчего же никчемушное? Без этой фразы весь абзац, яко обре, погибоша. Да ты вслушайся, мать, в музыку текста! Это же очерк, а не информашка какая-нибудь.
— При чем тут музыка? — опять не поняла она. — Ты же сам сказал, это очерк. А не опера.
Пичугин раздосадованно пожал плечами. А Кузьмицкий посмотрел на красивую Леру, на огорченного товарища, улыбнулся внезапно:
— Ты прав, Петушок. Предельно прав. Просто я не выспался.
И, энергично действуя жирным черным карандашом, он восстановил злополучную фразу.
— Беспринципный соглашатель! — Краюхина даже ногой притопнула. — Это называется уйти в песок!
— Лучше уйти в песок, чем всплыть среди дерьма, — изрек Кузьмицкий.
— Кретин! — обозвала его прекрасная гостья и поспешно покинула невоспитанную сто девятую.
Может, Зав уже прибыл наконец?
Крошку Кэт она застала в той же позе — плечо зажало телефонную трубку, только с маникюром было покончено.
— Катенька, будь добра, отвлекись. Не приходил?
— Только что… У себя… Извини опять отвлекли а еще была красная икра мне оказывается противопоказано кислотность сегодня весь день с утра изжога изумительный фильм великолепная игра вечером сольное катание мне подарили прелестный пеньюар морская волна это мой цвет сегодня отпрошусь к мастеру вообще было очень мило пришли Козликовы и Есиповичи организовали а-ля фуршет…
Когда, возвращаясь от Зава, Краюхина открыла дверь своей комнаты, тотчас зашелестели встревоженно бумаги на ее столе. Горячим сквозняком втянуло множество тополиного пуха. Он парил у самого пола и под потолком, накапливался в углах, располагался на бумагах и пристраивался в волосах. С комариной настырностью лез в глаза. И пишущую машинку всю забило — печатать стало невозможно, надо было закрыть ее своевременно.
А за окном все темнело и темнело, становилось однотонным и неясным, как на плохом фотоснимке. Лишь загоралась и гасла маленькая желтая луна мигалки на перекрестке, да, покачиваясь на высоких столбах, нерешительно набирали силу люминесцентные фонари.
Краюхиной нездоровилось. Поташнивало. Жестокий невидимка больно шуровал в глубине черепа. Проходя по коридору — опять к Заву, завизировать гранки в номер, — она чуть было не отключилась. Если бы не прислонилась к стене, могла бы упасть. Крошка Кэт, вместо того чтобы отпроситься к парикмахеру, вынуждена была поехать в аптеку (это четыре остановки троллейбусом, поскольку ближайшая на учете, а редакционный медпункт не работал: фельдшерица ушла в декрет, замены пока не нашли) и принесла всевозможные таблетки от головной боли. Таблетки не помогли. Зав отправлял ее домой — вы же нездоровы, детка! — Краюхина не соглашалась: спасибо, но это от духоты, грянет гроза — станет легче, к тому же она сегодня «свежая голова» и не хочет подводить секретариат…
«Свежая голова» — это в газете такой дежурный по данному номеру, который должен вычитывать уже готовые, под прессом находящиеся полосы, подстраховывая редакторов и корректоров. «Свежая голова» может и призвана заметить не то чтобы какую-нибудь опечатку (это все же заметит и подправит корректор) или неточность формулировки (здесь виднее редактору), — нет, именно «свежей голове» положено обратить внимание на потерянный либо перекочевавший в соседнюю колонку абзац. Не допустить, чтобы открытие электростанции состоялось в семнадцатом веке. И проследить, чтобы очерк о юннатах не был помещен под рубрикой «Борьба с зеленым змием», поскольку любовь к зеленому другу несовместима с любовью к зеленому змию… Вот что такое «свежая голова».
— Ну какая ты «свежая голова»? — увещевал ее Пичугин, когда, истомясь от духоты и головной боли, решила простить и снова навестить сто девятую. — Как говаривал булгаковский буфетчик Андрей Фокич, второй свежести. Что, помнится, возмутило мессира.
И опять Краюхина не поняла Пичугина, а когда он терпеливо расшифровал ей свою реплику и укоризненно заметил, что Булгакова надо бы все-таки знать, — тотчас возразила:
— Что ж, я, по-твоему, Булгакова не знаю? Но фетишизировать его, как ты… Да, Булгаков не лишен был литературного дарования. Но не всегда умел художнически осмыслить…
— Художнически осмыслить? — перебил ее Кузьмицкий. — Канцелярит Шилова-старшего!
Ну, чего задирается? Нашел время.
— Шла бы ты, мать, домой, — сочувственно советовал Пичугин.
— Я не могу подводить секретариат.
— А ты и не подведешь, — он поглядел доброжелательно, тут же снял трубку своего бесцветного аппарата. — Семь четыре… Вера Викентьевна? Пичугин это. У нас тут Лера занемогла что-то… Да, знаю, что «свежая голова». А не беда, могу и я посвежачить нынче… Сидим до полуночи? Огорчительно. А буфет-то до скольких?.. Вот и превосходно! Так присылайте полосы прямо ко мне, в сто девятую.
Краюхиной немоглось, все стремилась вмешаться в этот разговор, пыталась даже отобрать трубку. Но Пичугин величественным жестом каждый раз отстранял ее руку. Теперь же, когда все было решено и когда она порывисто поцеловала его в румяную упитанную щеку, — никаких таких отстраняющих движений себе уже не позволил.
— Идиллия! — Кузьмицкий откинулся в кресле, страдальчески наморщил лоб и в то же время от души улыбнулся. — Трудовой энтузиазм, товарищеская взаимовыручка, и все целовались!
— Завидно? — куснула Краюхина.
— Еще бы! — Кузьмицкий продолжал морщить лоб и улыбаться. — Через час я сматываюсь, а он за одни лишь красивые глаза будет загорать здесь дай бог до двенадцати. Если не до двух.
— Ты забыл о диване, — Пичугин зевнул равнодушно. — Пока дождусь пресса, прилягу и — бабасеньки.
— А мне-то почудилось, — Кузьмицкий начал править какие-то гранки, — что ты и так весь день кемарил.
— Померещилось, пан Кузьмицкий. Привиделось.
— Галлюцинации! Дойдешь тут…
Кузьмицкий брюзжал, фыркал и ёрзал, правил гранки. Пичугин, стоя посреди комнаты и выпятив чичиковский животик, ласкал Краюхину блестящими глазками, увещевал:
— Вот видишь, все и уладилось. Езжай-ка, мать, домой.
— Дел много, — упрямилась та.
— Дел всегда немало, правда твоя. Да вот здоровьице-то у тебя одно. Одно-единственное, другого не выдадут.
— Подсчитано, — мрачно добавил Кузьмицкий, — что по смертности в молодом возрасте первое место делят летчики и журналисты.
— Я останусь, — не сдавалась Краюхина. — Мне лучше. Правда, Петенька. Не вру.
— Домой, мать, домой! В кроватку. Бабасеньки.
— Останусь, — твердила она. — Буду, сколько смогу.
И осталась. Одну прессовую полосу они вычитали вместе, это было около десяти. Гроза все еще медлила. А в половине одиннадцатого Пичугин вызвал неотложку. Приехали, измерили Краюхиной давление.
— У меня никогда такого не было, — удивилась она. — Может, аппарат неисправен?
Редакционная машина отвезла ее домой.
Наутро пришел к ней лечащий врач, выписал больничный на три дня. На второй день она явилась в редакцию — работать.
СЕМЬ ЗАПОВЕДЕЙ
В редакции, на стенах кабинета Тернового, как и дома у него, красовались всевозможные листовки и плакаты-самоделки. Так, на одном из них изображен был обливающийся потом очкарик-автор, вспарывающий пером, как сохой, целину чистого листа, а за ним — крушащие свежую борозду-строку — разные люди со всевозможными топорами: неандерталец с притороченным к палке камнем, девица в джинсах с туристическим топориком, стрелец с бердышом. И — надпись, славянской вязью:
«Один с пером — семеро с топором».
Под этой недвусмысленной картинкой прилажен был еще лист бумаги — со столь же недвусмысленными и на ту же тему цитатами — под шапкой «Редактор тоже хочет есть»:
«…Возненавидел редакторов, ненавижу их сейчас и буду ненавидеть до конца жизни… Материал попадал на стол к помощнику редактора, и тот начинал вертеть фельетон в руках и прежде всего искал в нем какой-нибудь преступной мысли по адресу самого советского строя. Убедившись, что явного вреда нет, он начинал давать советы и исправлять. В эти минуты я нервничал, курил, испытывал желание ударить его пепельницей по голове»
(Михаил Булгаков). Весь в поту, статейки правит, Водит носом взад-вперед: То убавит, То прибавит, То свое словечко вставит, То чужое зачеркнет… Вот притих, уставясь тупо, Рот разинут, взгляд потух. Вдруг навел на строчки лупу, Избоченясь, как петух. И, последнюю проверку Применяя, тот же лист Он читает Снизу кверху, А не только Сверху вниз. (Александр Твардовский)И это, пардон, в кабинете секретаря партбюро редакции! А что? Разве Булгаков и Твардовский — не советские писатели? Пускай один — беспартийный, зато другой — коммунист, а главное — оба, ей-ей, сделали для расцвета социалистической литературы больше, нежели десятки и далее сотни других, не смевших посягать на авторитет и прерогативы иных горе-редакторов. Так ответил однажды Терновой кому-то из посетителей…
На другом листке нарисован был стреноженный Пегас, понурый, и надпись гласила:
«На стреноженном коне далеко не ускачешь».
На все эти картинки обычно пристально поглядывал, захаживая к Терновому по какому-нибудь делу, Чеканюк. Но вслух ни разу не прокомментировал.
Если же кто-нибудь, придя в кабинет, усаживался в гостеприимное кресло, то непременно замечал перед собой еще один листок, прикнопленный к боковой стенке секретера.
Семь заповедей посетителю
1) Не покушаться на жизнь, здоровье и творческую индивидуальность.
2) Не посягать на книги, время и деньги.
3) Не плевать на пол и в душу.
4) Не тянуть резину.
5) Не жевать мочалу.
6) Не толочь воду в ступе.
7) Не предлагать борзых щенков.
Сейчас эти заповеди изучал, сидя в кресле и держа на коленях импортный «дипломат», кандидат филологических наук, член Союза журналистов, новый сотрудник газеты — старший редактор Юрий Шилов, явившийся к секретарю партбюро Терновому, от которого некоторым образом тоже придется зависеть… Изучая заповеди, посетитель заодно разъяснял хозяину кабинета, что — будучи пока еще членом ВЛКСМ — принес прикрепительный талон, чтобы встать на учет…
— Прикрепительный отдадите Вере Неверовой из бюро проверки, она у нас комсомольский вожак, — сказал Терновой. — С ней же договоритесь о поручении.
— Конечно, — согласился Шилов. — Тем более, что год поработаю и собираюсь подавать в партию. Но… но, быть может, не так сразу… с поручением-то?
— Так и в партию ведь не сразу… А почему надо ждать с поручением?
— Ну… все-таки… я еще не всех знаю, не адаптировался…
— Вот и узнаете, выполняя поручение. И вас узнают. Лучший способ адаптации. Тем более, что вы не впервые в редакции и не с другой планеты прибыли. А дел у нас невпроворот, и людей не густо… В аспирантуре у вас какое поручение было?
— Стенгазету редактировал.
— Превосходно! У нас она как раз захирела, сапожники без сапог… Хотя, если поразмыслить, после рабочего дня на лесосеке еще дома колуном махать…
Шилов подумал, что — вопреки ожиданиям — разговаривать с секретарем партбюро ему несколько утомительно: то и дело ждешь чего-то внезапного. Что ж, и он тоже не лыком шит…
— Простите, Виктор Максимович, чуть было не забыл… Вас интересует «Библиотека мировой литературы»?
Тернового интересовала мировая литература. И он печалился, что прозевал в свое время подписку на упомянутую Шиловым «Библиотеку». Вот вышел там недавно «Фауст» Гёте. А попробуй-ка достань. Разве что на «черном рынке»… Терновой возмущался: серятину безликую щедрыми тиражами выпускают, полки прогибаются от этой затоваренной продукции, а литературу бессмертную словно сквозь зубы цедят. Экономия бумаги? Экономия — дело святое, да на чем именно экономить — вот вопрос… И процветает не книготорговля, а спекуляция хлебом духовным.
Говорить все это вслух Терновой, разумеется, не стал. Лишь ответил коротко: да, интересуется шедеврами мировой литературы.
И тогда произошло чудо.
Гость раскрыл свой волшебный «дипломат», достал оттуда новенький томик и торжественно положил на стол перед изумленным хозяином. Причем именно «Фауст»!
— Это вам, Виктор Максимович.
Но Виктор Максимович молчал непонятно.
— От меня, — уточнил Шилов.
Тот по-прежнему смотрел вопросительно.
— На память, — Шилов невольно начал чуть суетиться. — Для первого знакомства, так сказать.
— На память… — повторил Терновой, выходя из оцепенения. — Для первого знакомства…
— Да-да, именно!
Терновой, нестерпимо глядя в упор, спросил внезапно:
— Юра, вы Гёте?
— Я… я Шилов, — осторожно улыбнулся молодой человек, как бы давая понять, что шутка оценена и условия игры приняты.
— Значит, не Гёте. Жаль… Тогда зачем же?
— Вы меня обижаете, Виктор Максимович, — быстро оправившись, Шилов перестроился и перешел в контратаку. — Что же тут плохого? Просто в знак… на память… Книга — лучший подарок!
— Книга — лучший подарок… А вы уберите эту хорошую книгу, Юра. И не обижайтесь. Ведь вы не Гёте, так? Вот когда подарите мне с в о ю книжку…
— Своей еще нет.
— Еще… Стало быть, предвидится? Значит, надо надеяться, будет? Вот тогда — свою! — и подарите. И автограф изобразите. Возьму с удовольствием и скажу спасибо.
— Вы не правы, Виктор Максимович. Разве друзья дарят вам только свои книги? Скажем, в день рождения?
— Сегодня у меня не день рождения. А друзья… Когда дарят свои книги, это действительно лучший подарок. Не усмехайтесь, я понимаю, хотите сказать, что не все мои друзья пишут книги. Конечно, не все. Я говорю не о сослуживцах, не о товарищах по работе, их много. Я говорю о тех немногих друзьях, близких друзьях, с которыми есть что вспомнить, с которыми не один пуд соли съеден. Они даже не в нашей газете работают, и вообще журналистов среди них не так уж много.
— Значит, — Шилов сделал крайне огорченное лицо, — вы мне попросту отказываете.
— Мне не доставляет удовольствия отказывать, — строго заметил Терновой. — Если говорю «нет», значит, есть основания. А книжку-то все-таки уберите, не забудьте.
— Что ж, не повезло, — Шилов вздохнул, убирая книгу в свой «дипломат». — Одним везет, другим не везет…
— Чепуха, Юра! Извините за резкость. Все эти извечные ссылки на везучесть, невезучесть… они порождены стремлением к безответственности.
— Извините, пожалуйста, Виктор Максимович! — в душе Шилова раскатилась барабанная дробь, сигналящая ретираду. — Я ведь ничего такого не думал, не хотел… Вы ведь, надеюсь, ничего такого не подумали?
— Нет, зачем же! Ведь вы не борзых щенков предлагали. Стало быть, седьмую заповедь посетителю не нарушили… Жду вашей книги, Юра, в а ш е й. И желаю успеха. Что же касается комсомольского учета и поручения, то… если сами тушуетесь… так и быть уж, я подскажу Неверовой насчет стенгазеты.
Выйдя от Тернового, Шилов мысленно выругался грубейшим образом. Чистоплюй несчастный! Строит из себя девственницу!..
— Что это у нас личико недовольное? — раздался рядом ласковый голос Пичугина. — Аль обидел кто? Нехорошо новеньких обижать, нехорошо.
— Да нет, не то! — Шилову никак не удавалось войти в колею. — Так, пустяки.
— Ну, ежели пустяки!.. — Пичугин, добродушно ухмыляясь, развел руками. — А то, может, я подсобить смогу, коли беда пустяшная? Как здешний старожил. Могу, к примеру, показать, где у нас буфет. И даже — где туалет.
— Спасибо, я уже знаю. В буфете вашем, кстати, кормят отвратительно. Разве бефстроганов так делают? И подливка невкусная.
— Не скажите! Я, знаете ли, сам гурман, однако питаюсь в нашем буфете с удовольствием. Со временем и вы привыкнете к здешним харчам. Было бы мясо, а подливка приложится… Вообще же, если что потребуется, скажите, не церемоньтесь. Чем смогу, помогу.
А может, подумал вдруг Шилов, действительно — добрая душа, решил опекать новичка? Опомнившись уже немного от тяжкого единоборства с Терновым и начиная соображать получше, он взял Пичугина за пуговицу распахнутого на выпяченном животе пиджака и спросил доверительно:
— У вас нет ли связей в других редакциях, не газетных? В журнале там или в издательстве? А?
— Есть, как не быть. А на какой предмет, позвольте полюбопытствовать?
— На предмет внутреннего рецензирования, — впрямую ответил Шилов. — Как член Союза журналистов…
— Все мы члены Союза журналистов, — непонятно к чему заметил Пичугин и для чего-то рассказал: — Прошлым летом вывез я семью на отдых, в пансионат, где можно с детьми. И получился у меня с директором разговор на басах. Нам, видите ли, предложили не тот номер, который в путевках был указан, а похуже. Ну, я давай своим журналистским билетом, как гранатой, размахивать. А директор, хитрющий такой старик, лишь усмехнулся и говорит: «Эх, голубчик, голубчик! Что мне ваш Союз журналистов? Вот если бы Центросоюз…»
Шилов хмыкнул: дескать, шутка оценена. Затем сказал:
— Вернемся к нашим баранам, как говорили древние. Так что там насчет рецензирования? А то… очень уж деньги нужны. Недавно, правда, подписал договор на документальную книжку, двадцать листов, массовый тираж. Об одном большевике, герое трех российских революций. Но пока только аванс дали…
— Двадцать пять процентов?
— Ну, именно! Не жирно ведь, верно? А тут как раз немалые расходы предстоят. Бывают, знаете, такие обстоятельства…
— Бывают, — согласился Пичугин. — У вас много ли детишек?
— Я холост. Пока, естественно. Ибо, как говорил наш основоположник, ничто человеческое мне не чуждо… Но хочу, понимаете ли, другую «тачку» купить, последней модели. А нынешнюю, более устаревшую, после загнать. Понимаете?
— Понимаю, понимаю, — кивнул Пичугин. — Как не понять?
И подумал, что если на этой неделе ему не уплатят за внутреннюю рецензию на рукопись графоманского романа о неоцененной любви и оцененном рацпредложении, — до получки им с женой не протянуть: вчера купили малышам — всем троим — по новому пальто к зиме. Растут малыши прогрессивными темпами, то и дело вырастают из старых одежонок. В долги же влезать — хуже нет. Вот и приходится загружать себя всякими сверхурочными делами. И дела эти, надо сказать, очень даже мешают работать.
Дела мешают работать?.. Надо будет продать сей парадоксальный афоризм отделу юмора.
— Я буду иметь вас в виду, — сказал он Шилову, ничего конкретного не пообещав.
РЕМЕЗ И КОТ
(Сочинение Аркадия Котикова)
Пышноголовая ива наклонилась над самой водой, глядит на свою лохматую прическу. Смотрит, смотрит в зеркало водяное и видит — в серебристой листве непонятное что-то. Рукавичка не рукавичка, кисет не кисет, величиной с ежа. А это крошечный ремез свой домишко подвесил.
Все синицы ремезу родичи. И он считает себя синицей, и всем говорит об этом.
— Никакая ты не синица, — дразнит его соседка щурка. — У тебя и синего-то нет ничего. Одно серое да коричневое.
— Ну и что? — возражает ремез. — Вот у тебя синего хоть отбавляй, а ты, однако, не синица.
— Подумаешь, счастье какое, синицей числиться! — и щурка стремительно взмывает от воды к небу, такому же лазурному и сияющему, как ее грудка.
— Пижонка ты! — ворчит ей вслед рассерженный ремез. — Один вред от тебя, пчелоедка! А синицы вредных букашек уничтожают. Вот. И я тоже вредных букашек уничтожаю. Потому что я тоже синица.
Тем временем вышел из лесу к воде бывалый кот. Сорока, если только можно ей верить, кое-что сообщила о нем. Якобы однажды приплыли сюда на лодке рыбаки, и с ними был этот кот. Заночевали рыбаки на берегу и с рассветом уплыли дальше. А кота позабыли. Долго кричал он, бедный. Наконец понял, что криком горю не поможешь, поймал лесную мышь, съел ее и остался в здешних краях навсегда. Так говорит сорока.
Кот подошел к воде, напрягся весь и начал быстро-быстро черпать языком, брезгливо фыркая.
— Отвратительная вода, — заявил он, напившись. Попятился и тщательно отряхнул слегка замоченные лапы. Затем зевнул, потянулся и с удовольствием провел когтями по стволу ивы. Поднял голову и увидел гнездо ремеза. Рукавичка не рукавичка, кисет не кисет, величиной с ежа.
— Хороша у тебя квартира, ремез, — сказал кот. — Теплая, мягкая. Что-то она мне напоминает… Ну да, вспомнил! Когда я жил у людей, довелось мне порвать старую ватную подушку. Так в той подушке было нечто подобное.
— Спасибо на добром слове, — отозвался польщенный ремез, появляясь в окошке. — Из всех синиц только я умею такой дом строить.
«А вот я не умею», — подумал кот, но промолчал. Он решил подождать: ведь ремез рано или поздно должен улететь за своими букашками — тогда надо будет занять эту уютную квартирку. Там, наверно, и съестное найдется. Яйца или, скажем, птенцы. Вкусно! Но если вернется ремез? Впрочем, что он коту сделает, такой малыш?
— Всего хорошего, ремез, — сказал кот. — Пойду мышей искать.
А сам за кусток зашел и притаился.
Как только ремез улетел, хитрый кот одним прыжком очутился возле ивы. Быстро взобрался по стволу. Полез дальше. Ветки гнулись под его тяжестью. Он уже добрался было до гнезда, уже лапу протянул и когти выпустил… Тонкие ветки, на которых висело гнездо, качнулись и сразу выпрямились. Раздался плеск. По воде пошли круги.
Кот не любил воду и не умел плавать. На его счастье, здесь, у берега, было неглубоко. Он кое-как выбрался, мокрый, дрожащий. И ушел в лес.
С той поры кота на берегу не видали. Сорока говорила, если только можно верить сороке, будто он очень болен. А отчего болен, не сказала.
ЗА СТОЛИКОМ В БУФЕТЕ
— Не возражаешь? — спросила Краюхина, приближаясь с подносом к столику, за которым Терновой допивал компот, вылавливая вилкой (чайные ложки уже вторую неделю как из буфета таинственным образом исчезли) размякшие сливы и сплевывая косточки в опустошенную тарелку, где ничего не осталось от биточков с вермишелью.
В ответ на ее вопрос он лишь поднял брови да красноречиво выпятил нижнюю губу — дескать, о чем разговор! И помог переставить с подноса на столик тарелку с такими же биточками, блюдце с примятым эклером и надтреснутую чашечку с черным кофе.
— Спасибо, Виктор. Молодец, что сбрил бороду, так гораздо симпатичнее. Взять тебе кофе?
Он отказался, не уточняя причин, однако — Краюхина отметила это и оценила — тянул с допиванием своего компота, явно не торопясь покинуть буфет и оставить ее за столиком в непривычном одиночестве. Она любила обедать в компании, преимущественно мужской (своя лейб-гвардия!), но сегодня задержалась (то ждала подписную полосу, то затянувшийся телефонный разговор с вышестоящей профсоюзной инстанцией) — все лейб-гвардейцы успели заправиться. Хорошо еще, успела ухватить этого, отнюдь не худшего, даже — более того… Так что, можно считать, сегодня сравнительно повезло. А вот вчера… Это даже невезением не назовешь.
Вчера после работы пришлось заглянуть в гастроном и кулинарию — в двух всего руках (почему у человека не три хотя бы?..) две полные полиэтиленовые сумки с картинками (рассчитанные на 3 кг каждая, но в каждой — не менее пяти) плюс еще импортная дамская сумочка, также битком набитая. В часы пик в метро было не протолкнуться, такси поймать не удалось, с трудом изловила какого-то частника-левака. И когда добралась наконец до своей квартиры, встреченная уже вернувшимся со службы, но еще голодным мужем, с ужасом обнаружила: сумочка оставлена в машине. Знать, совсем одурела в редакции, а после еще — сутолока в кулинарии и гастрономе да охота на легковой автотранспорт. Даже номера машины не удосужилась запомнить! Муж тут же, сжевав на ходу кусок принесенной ею колбасы, отправился вместе с ней в ближайшее отделение милиции, где у них без особого энтузиазма приняли заявление и утешили: а вдруг тот левак-частник окажется честным, порядочным человеком — надо подождать…
— А если нет? — возразила она. — Пока ждем, только время упустим!
Лишь на днях смотрела очередную серию «Следствие ведут Знатоки» — понимала, что время упускать нельзя. Но дежурный милицейский капитан этого почему-то не понимал, и вообще далеко ему было до энергичных Знатоков…
Муж, однако, тоже настроился благодушно (съеденная колбаса, видать, подействовала!) и повторял вслед за дежурным, что все образуется, что честных людей больше, чем нечестных и тому подобное. Она видела: дорогой супруг просто обленился и не горит желанием действовать поактивнее. Небось у себя в пехотном училище с курсантов и подчиненных офицеров жестче требует, чем с этого капитана! Сама виновата: избаловала, приучила, что кроме службы — никаких забот и хлопот. Была бы она домохозяйкой, а то ведь… Прежде говаривали: «Она за его спиной, как за каменной стеной». В данном же случае можно сказать наоборот: он за ее спиной, как за каменной стеной.
— Виктор, потрогай мою спину.
— Зачем? — спросил недоуменно Терновой, сплевывая последнюю сливовую косточку.
— Что за мужчины пошли! — воскликнула Краюхина. — Привлекательная женщина сама разрешает притронуться к себе, а они… Потрогай и скажи, каменная у меня спина или нет.
— Не дури, Лера. Заведомо могу предположить, что не каменная. А в чем дело-то, что стряслось?
Сбегать от нее он, судя по всему, не торопился (и на том спасибо!) — рассказала ему все, отодвинув тарелку с недоеденными остывшими биточками и принимаясь за подтаявший эклер.
— Какая марка машины? — спросил Терновой.
— «Лада».
— Цвет?
— Светло-серый.
— Да, очень редкий цвет, — угрюмо проворчал он. — А где именно и в какое время ты его подцепила?
Она припомнила и ответила охотно, с надеждой. Собеседник был больше похож на Знатоков, чем тот капитан и ее собственный супруг.
— А что было в сумочке?
— В том-то и дело! Удостоверение, рублей двадцать с мелочью и, главное, рукопись статьи, хотела дома поработать. Ну, еще всякая дамская косметика, как положено.
— А копия той статьи осталась?
— В том-то и дело! Автор неопытный, прислал только один экземпляр. Что теперь будет, Виктор?
— Без паники, Лера. С твоим адресом в сумке ничего не было?
— Нет, только удостоверение.
— Значит, если честный человек, должен вернуть в редакцию, — размышлял вслух Терновой. — Если захочет связываться. А если не захочет? Отдаст в стол находок. Тоже хлопотно… А если вообще не… Выходит, все зависит от него? А не от нас?.. Стоп, минуточку! А на рукописи были какие-нибудь авторские координаты? Если неопытный, должен был проставить.
— Были, Виктор, хорошо помню. И адрес и телефон.
— Значит, если частник не редиска, может выйти и на автора? Не исключено и такое. Фамилию автора помнишь?
— Не очень.
— А вспомнишь, если увидишь?
— Конечно.
— Материал проходил через отдел писем?
— Да.
— Значит, на всякий случай, погляди у них регистрацию всей почты за соответствующий отрезок времени. Споткнись о фамилию, которую вспомнишь, и срисуй координаты.
— Виктор, ты — ты гений! — Она чмокнула его в щеку. — Ты — Шерлок Холмс! Ты Томин и Знаменский…
— И даже Кибрит, — усмехнулся Терновой. — Но это — лишь одна из версий, не заклинивайся на ней. А сумочку свою опиши-ка мне. Цвет, фасон и так далее.
— Ну, такая коричневая. Точнее — бежевая. Все на молниях, и кармашки на молниях.
— Ремешок длинный, через плечо?
— Можно и так и этак, там пряжка.
— А номер отделения милиции, куда заявляла?
— Ой, забыла. Сейчас позвоню мужу, спрошу.
— Спроси. И скажи мне — возьму под контроль.
— Спасибо, Витенька! — она снова чмокнула его.
— Пока не за что, — Терновой машинально взял со столика бумажную салфетку и вытер выбритую щеку, чем несказанно оскорбил Краюхину.
«Эх, Витька, Витька! — подумала та. — Завидую твоей Анечке. Соображает ли она, какое сокровище отхватила?»
Если бы Терновой услышал такой вопрос, наверняка ответил бы, что он не бог весть какое сокровище, но что они с Аней соображают, кто есть кто.
РЫЖАЯ ПАПКА
(Сочинение Аркадия Котикова, прозвучавшее в исполнении автора едва ли не во всех комнатах редакции)
— Какого цвета была ваша папка? — спросил капитан, сверля меня проницательными серыми глазами.
— Рыжая, — ответили.
— Рыжие бывают лошади, — наставительно заметил капитан, глубоко затянувшись, и профессиональным жестом протянул мне пачку.
— Спасибо, не курю, — поблагодарил я.
Капитан нажал какую-то кнопку и куда-то что-то произнес.
— Есть! — ответил кто-то где-то.
Капитан удовлетворенно усмехнулся и, прищурив левый глаз, выпустил два кольца табачного дыма. Я с уважением следил за тающими под потолком кольцами и проникался уверенностью в том, что капитан непременно разыщет мою рыжую папку. Не могла же она исчезнуть бесследно.
— Ничто в природе не исчезает бесследно, — сказал капитан, будто прочитав мои мысли. — И не возникает из ничего. Это еще Ломоносов раскрыл. Наш Михаил Васильевич…
— И всё-то вы знаете! — непритворно поразился я.
— Наша служба такая, — капитан скромно сверкнул озорными серыми глазами и выпустил к потолку три кольца табачного дыма. Затем встал из-за стола, прошелся по кабинету неслышной походкой, подошел к большому окну и сильным, но незаметным движением отдернул тяжелую штору. За окном горели огни большого города и отражались в горящих серых глазах капитана.
— Сколько авторских листов было в рукописи? — спросил он в упор, внезапно отвернувшись от окна.
— Десять, — не успел соврать я.
— Как обозначили жанр?
— Повесть. Детективная повесть.
— Неточно! — капитан укоризненно покачал рано поседевшей головой. — Могли бы назвать романом, десяти листов достаточно. Тем более — детектив…
В то время зазвонил один из пяти телефонов, капитан взял трубку, лицо его стало сосредоточенным, непроницаемым, спокойным, твердым, отмобилизованным. В голосе послышались металлические нотки:
— Продолжайте наблюдение! Держите связь! Выезжаем!
Я хотел было спросить, куда именно выезжаем, но вовремя спохватился, сообразив, что подобный вопрос был бы, мягко говоря, неуместен. Ибо в данном месте задавать вопросы — прерогатива капитана.
Капитан сам вел машину, ловко обходя неповоротливые автобусы с экскурсантами и бестолковые автомобильчики «частников». Регулировщики улыбались нам, козыряли и давали «зеленую улицу». Капитана здесь знали все…
— Как вы здорово водите машину! — искренне восхитился я.
— По долгу службы, — капитан застенчиво пожал широкими плечами, виртуозно обошел на повороте мчавшуюся колонну пожарных машин и резко затормозил у здания популярной газеты «Вечерний звон».
— Вы им рукопись предлагали? — осведомился он. — Нет еще? Напрасно! Ждите в машине.
Через пять минут он вернулся и протянул мне… рыжую папку!
— Капитан, дорогой! Я не нахожу слов… Но… Позвольте, что это?! Это не моя рукопись!
— Как же не ваша? — возразил капитан. — Цвет папки совпадает? Совпадает. Жанр? Детективная повесть. Объем? Десять авторских листов. Все совпадает! И могу вас еще обрадовать, редактор собирается ее печатать. С продолжением.
Но, увы, рукопись все-таки оказалась не моей. Только очень похожей.
Капитан не сдавался. Он напряженно думал, вцепившись сильными и тонкими, как у пианиста, пальцами в баранку руля.
— Теория вероятности… — бормотал он, жадно выкуривая сигарету за сигаретой. — Теория относительности… Альберт Эйнштейн… Архимед… Эврика! Едем дальше!
И мы снова помчались по улицам и площадям, по проспектам и переулкам. И прибыли в редакцию «тонкого» журнала «Невесомое чтиво». И там, тоже в рыжей папке, лежали, опять же, десять листов детективной повести! И только фамилия автора была не моя: вместо Беллетристикова — какой-то Скороперышкин. Рукопись пришлось вернуть редактору, и она тут же пошла в набор.
А мы с капитаном поехали дальше. Наконец он выкурил последнюю в пачке сигарету и остановил машину. Я пошел с ним. В кабинете главного редактора «толстого» журнала «Поток» мы увидели рыжую папку. В ней мы обнаружили верстку десятилистной детективной повести. Но и эта повесть была не моя…
И вот я снова в кабинете капитана. Тяжелые шторы задернуты, огней большого города не видно. Не виден и огонек сигареты, потухшей во рту у капитана. Но видны азартные огоньки в его серых глазах, утомленных профессиональной бессонницей. Часы бьют полночь.
— Время детское, — шутит неунывающий капитан, явно вкладывая в эти слова какой-то дополнительный неведомый мне смысл, и загадочно добавляет: — Что ж, остается проверить еще одну версию. Мои добровольные помощники уже давно идут по следу.
Он нажимает какую-то кнопку. В ответ раздается звонок, загорается сигнальная лампочка. После чего в кабинет входят двое: огромная овчарка и маленький пионер.
Тот самый знаменитый Барс, который раскрыл сто тридцать три с половиной уголовных преступления! Тот самый Боба Примерных, который лично задержал и разоружил тринадцать и три десятых опасных рецидивистов!
Боба улыбался и гладил собаку. Собака улыбалась и держала в зубах… рыжую папку!
Это была моя папка! В ней была моя рукопись!
— Но как же?.. — я не находил слов.
— Все очень просто, — охотно объяснил капитан, озорно поблескивая серыми глазами, начиная новую пачку и выпуская пять колец табачного дыма. — Боба Примерных учится в одном классе с вашим сыном Вовой Беллетристиковым. Вова рассказал Бобе, что сам написал детективную повесть. Что папе, то есть вам, понравилось. И что папа, то есть вы, обещали эту повесть напечатать. Правда, под своим именем, чтобы легче было пробить. И на полученный гонорар купить Вове мопед, о котором он мечтал еще с пеленок. Именно поэтому Вова отнес рукопись Бобе, чтобы тот проверил, нет ли грамматических и синтаксических ошибок…
— Зачем? — воскликнул я. — Ведь это забота даже не редактора, а корректора!
— Не волнуйтесь, — голос капитана подействовал на меня успокаивающе. — Ваш скорбный труд не пропадет, как сказал поэт. Пристроим вашу повесть. Наши возможности, сами понимаете…
Я не понимал одного: почему капитану до сих пор не присвоили звания полковника?
А капитан тем временем начал действовать. Он нажал еще какую-то кнопку и вызвал своего помощника — моложавого лейтенанта, влюбленно глядевшего в дымящийся рот своего начальника. Последний отдавал приказания скупо и четко, вежливо и непреклонно:
— Вы, лейтенант, к завтрашнему утру выясните, каковы в этом году тиражи наших популярных журналов. И доложите. А ты, Боба, вместе с Барсом, завтра к полудню проверишь, какие журналы лежат в киосках нераспроданными. И доложишь.
— Есть! — отозвались хором лейтенант, Боба и Барс.
— Предложу в субботний номер на последнюю полосу, — заявил Котиков после прочтения своего опуса в сто девятой.
— Удачи тебе, старичок, — благословил добряк Кузьмицкий.
— Скоро сказка пишется — не скоро печатается, — сумрачно изрек Пичугин. — Не хочу быть Кассандрой, но Чеканюк забодает.
БОЖИЙ ДАР И ЯИЧНИЦА
— Извини, отвлеку ненадолго, — сказал Чеканюк, входя к Терновому и усаживаясь в кресло. — Второй заповеди не нарушу, обещаю. Во-первых, только что звонили из райкома, к тебе пробиться почему-то не смогли…
— Да, было занято. Междугородная.
— Я так и предположил. Просили передать, что завтра в пятнадцать тридцать собирают секретарей первичных организаций.
— Спасибо, — Терновой сделал пометку в настольном календаре.
— И второй вопрос, — продолжал посетитель, протягивая несколько сколотых машинописных листов. — Прочти, пожалуйста. Желательно сейчас, при мне. Затем обменяемся суждениями.
Это оказалась «Рыжая папка» Котикова. Читая, Терновой не раз улыбнулся.
— Ну, и как тебе сие развязное сочиненьице? — спросил Чеканюк, получая рукопись обратно. — Можно, по-твоему, засылать подобное в набор?
— Отчего же? В субботний номер, на последнюю полосу. Вполне.
— Вон как? Не ожидал от тебя, не ожидал.
— Чего?
— Не ожидал такой… такой политической близорукости. Неужели ты не видишь, что это в лучшем случае безыдейное зубоскальство? В лучшем случае! — Чеканюк потряс рукописью — один лист откололся и спланировал на пол, пришлось поднимать. — Все эти намеки на популярные журналы!.. Так охаивать нашу прессу…
— Ну, так уж и охаивать! — не согласился Терновой. — Между прочим, как раз в нашей центральной прессе не столь давно и не раз критиковались иные популярные журналы.
— Читал. Но то совсем другое дело. А тут…
— А тут просто другой жанр, и только. Вы не хуже меня знаете, у нас достаточно авторитетных документов, призывающих критиковать недостатки. И в частности, на страницах газет.
— Кто же спорит? Но одно дело принципиальная критика. И другое дело — беспринципное критиканство. Надо же отличать божий дар от яичницы!
— Вот-вот! — Терновой старался сдержать вспенившееся в душе раздражение. — Отличать божий дар от яичницы, именно! Никак не научимся улавливать разницу между равнодушным обывательским зубоскальством и гражданственным небезразличием к недостаткам. Ради перестраховки, на всякий случай, спешим объявить любую критику критиканством. Как же! Лучше вовсе не напечатать и не нести ответственности, чем пропустить на полосу нечто непривычное. А вдруг придется отвечать?
— Ты что же, — Чеканюк зачем-то снял очки и близоруко вперился в собеседника, — против ответственности за публикуемые материалы?
— Наоборот, я за еще бо́льшую ответственность. И не только за опубликованный материал. А за неопубликованный — тоже.
— Не понимаю. Поясни, будь добр.
— Да очень просто. Вот «Рыжая папка» Котикова. Вы боитесь отвечать, если завизируете и зашлете в набор. А не боитесь отвечать, если не пропустите и завернете автору?
— Не боюсь. Нисколечко. Что автор мне сделает? Этот беспартийный внештатник, этот болтун…
— Этот внештатник и болтун поставляет, однако, неплохие материалы. Он же, черт возьми, талантлив! А талант, как известно, есть народное достояние…
— Знаю! Не хуже тебя знаю. Но будь автор хоть гением, я обязан следить… Как ответственный секретарь редакции. Как коммунист, наконец!
— Я тоже, к слову, не беспартийный. И не какой-нибудь левый эсер или кадет. Однако ничего предосудительного в материале Котикова не вижу.
— Очень жаль, если не видишь! А я вижу. Вижу, помимо всего прочего, пасквиль на наши правоохранительные органы. И, по-твоему, должен дать добро на такой пасквиль?
— Да какой же это пасквиль на наши… — Терновой снова и снова, с возрастающим затруднением, заставлял себя разговаривать корректно. — Это же литературная пародия. Пародия на плохие детективы. Всего-навсего! У нас ведь даже рубрика такая есть в субботних номерах. И «Рыжая папка» в самый раз туда просится. Или под рубрикой «Пародии» будем печатать панегирики и мадригалы?
— Просится, говоришь? — Чеканюк усмехнулся и водрузил очки обратно на переносицу. — Пусть просится. А я такую просьбу удовлетворять не намерен. Я намерен поставить вопрос о соответствии Котикова высокому званию советского журналиста. Более того, о привлечении его к ответственности за клевету на нашу прессу и правоохранительные органы. По соответствующей статье Уголовного кодекса! Шел к тебе за поддержкой, как к секретарю партбюро. А ты… Жаль! Весьма жаль…
Терновой откликнулся не сразу. Сдержаться! Не сорваться, не сыграть в поддавки! Первым побуждением было указать Чеканюку на дверь. Но что этим докажешь, чего добьешься? Кому докажешь? Чеканюку? Самому себе? Да, охоту обращаться к себе с подобными делами отобьешь. Да, так было бы легче. Но — кому легче? Опять же тебе. А — ни в чем не повинному Котикову? Ведь слова Чеканюка — не пустая угроза… Поставить вопрос на бюро, на партсобрании? Что ж, это идея. Осадить демагога и склочника всегда полезно, если сделать это законным путем и продуманно. Но такое происходит не сразу, не с первого захода. Сопротивляться Чеканюк будет яростно и умело, борьба может оказаться затяжной. И каков бы ни был ее окончательный исход, беззащитный бедняга Котиков тем временем так или иначе пострадает. Как же быть? Скорее надо придумать что-нибудь, пауза длится непозволительно долго…
— Вы недавно обращались в наше бюро. — Терновой заговорил несравненно спокойнее, нежели перед тем. — По поводу вашего предстоящего шестидесятилетия и персональной пенсии. Просили поддержки и ходатайства. Так ведь?
— Да, просил, — подтвердил Чеканюк несколько растерянно, явно не готовый к такому повороту разговора.
— Так я вам обещаю. Слово коммуниста даю. Если в ближайшее время с внештатным корреспондентом Котиковым произойдет хоть какая-нибудь неприятность… Тогда персоналки вам не видать. До КПК дойду!
— Не слышал! Не слышал твоих слов! — Чеканюк вскочил с кресла и стремглав вылетел из кабинета.
Вот и нажил себе еще одного недруга, подумал Терновой. А у кого их нет, всяческих недругов?
ГУСАК
(Еще одно сочинение Аркадия Котикова)
Купили в соседнем хозяйстве гусака. Жирного, породистого. Пустили его на птичий двор. Утка глянула и сказала селезню:
— Почему у тебя такая короткая шея? Счастливая гусыня!..
Селезень подошел вразвалку к гусаку и, шаркнув перепончатой лапкой, произнес:
— Приветствую вас.
Тот пробормотал что-то и продолжал обрывать пыльную траву. Вежливый селезень стоял в недоумении.
— Чего уставился? — прошипел гусак и крепко щипнул его.
— Какое хулиганство! — загалдели куры. — И что мужчины смотрят?
Подзадоренный ими петух распетушился и начал наскакивать на гусака:
— Вот я тебе покажу! Вот я тебя!
Гусак щипнул петуха за гребень. Да так, что выступила кровь.
— Послушайте, милейший! — обратился к гусаку всеми уважаемый индюк. — Хотя ваши предки и спасли Рим, но надо вести себя приличнее.
Гусак, ничтоже сумняшеся, щипнул и почтенного индюка.
— Да что же это такое! — воскликнул цыпленок. — Этак он всех нас защиплет.
И бросился наутек. На всякий случай… А гусак посмотрел свысока на птиц и усмехнулся:
— Что вы мне сделаете? Ни-че-го! Я хозяину нужен. Ясно? Хочу — щипну, захочу — помилую.
Наутро гусака поймали и унесли в столовую. Вездесущий воробей заглядывал в окно и уверял, будто видел гусака ощипанным.
«МЕШАЮТ ЛИ КЛЕЩИ ПОЛЕТУ?»
«Мешают ли клещи́ полету?» — так называлась статья спецкора Виктора Тернового.
«Мы-то полагали, — писал он, — что мелкие паразиты — клещи, блохи и прочие, незаметные, затерявшиеся в нарядном оперении птиц, никак не мешают последним летать. Но мы не учли, что вся эта неприметная нечисть разносит всевозможные болезни и высасывает кровь, ибо способна существовать лишь за счет чужой теплой крови, которой сама лишена. И если таких паразитов разведется много (а они весьма плодовиты и размножаются очень быстро), то — по свидетельствам ученых-орнитологов — птица может ослабеть, в результате чего высота и скорость ее полета снижаются…»
Статья, однако, была посвящена отнюдь не проблемам зоологии. Речь шла о конкретной стройке, о массовом энтузиазме и бескорыстном героизме молодых строителей, об их трудовых подвигах… Но при чем тут клещи́ и прочие паразиты? А при том, что в статье говорилось также о компании карьеристов и стяжателей, которую возглавляет управляющий трестом Локтев. Об очковтирательстве и махинациях, о десятках тысяч народных рублей, истраченных на комфортабельный «профилакторий», обслуживающий исключительно «избранных», в то время как большинство строителей лишены элементарных жилищных и даже санитарных условий. Не умолчал спецкор и о разнузданных оргиях, которые устраивали Локтев и К°, вовлекая в них обманом и шантажом некоторых слабохарактерных девчат. Речь шла о том не только материальном, но и моральном ущербе, который наносят подобные «клещи» обществу. Они особо опасны потому еще, что умудряются присосаться к большим и здоровым коллективам, примазаться к значительным свершениям, прикрыться торжественно громкой и безупречно правильной фразой.
Вот о чем была статья. Она вызвала бурную полемику на редколлегии и на летучке, отдел писем едва справлялся с лавиной читательских откликов.
Через некоторое время Тернового вызвал Главный. Взглянул, по своему обыкновению, чрезвычайно строго, вздернул вельможно бровь. Помолчал. Наконец заговорил тем негромким голосом, от которого иные сотрудники начинали заикаться. Терновой, правда, не заикался и вообще не трепетал, не бывало такого случая. Ему даже как-то симпатичен был этот суровый Главный, который, судя по всему, отнюдь не был хамлюгой либо мизантропом, но стеснялся проявлять свои добрые чувства и сам себя заставлял играть роль грозного шефа, полагая, видимо, что и для людей и для дела так будет лучше. Похоже, нелегко ему такая роль давалась, потому порой и перегибал палку.
— Присядьте, Виктор Максимович. Мы с вами ликовали, оказывается, преждевременно. Получен официальный ответ с места. Вот, ознакомьтесь.
Терновой прочел:
«Критика признана в основном правильной… Обсуждено на заседании… Обращено внимание на недопустимость… Указано принять дополнительные меры… Обращено внимание на недостаточность… Управляющему стройтрестом т. Локтеву строго указано, однако, принимая во внимание его чистосердечное раскаяние, производственные успехи, деловые качества и заслуги… Поведение водителя микроавтобуса Путлищева обсуждалось в коллективе… Принимаются меры по дальнейшему усилению контроля…»
— Прочитали?
— Да.
— Удовлетворены?
— Нет.
— Еще бы!.. Но это не все. Я предвидел такой ответ. И, не дожидаясь его, позвонил нашему куратору — посоветоваться. И связался со следственными органами…
— Здорово!
— Ничего не здорово! Мы с вами поторопились, спугнули противника. Надо было повременить с публикацией. Теперь Локтев и иже с ним сумели так обработать свидетелей, включая и девиц, что те все начисто отрицают. Растранжиренные же денежки раскидали по другим статьям, кое-что изловчились сактировать, списать…
— Но там была слишком большая сумма.
— Все предусмотрел ваш Локтев. По его же иску возбуждено уголовное дело против главбуха, по обвинению в растрате. — Главный усмехнулся невесело. — Бросили боярина Матвеева на копья стрельцам…
— Однако!
— И это еще не все, Виктор Максимович. На вас пришли оттуда две «телеги». В одной утверждается, будто вы занимались вымогательством взятки, грозясь в противном случае опубликовать разгромную статью. Восемь подписей! Другая — с одной подписью, но… Короче, некая Мария Кляхина, горничная профилактория, возмущается приезжавшим журналистом, который, будучи в нетрезвом состоянии, затащил ее в свой номер, принуждал к сожительству и даже пытался изнасиловать. Что скажете?
Терновой промолчал.
— Вот такие прекрасные отклики получили мы, Виктор Максимович. Один другого краше. И, ничего тут не попишешь, придется расхлебывать. Разберемся на редколлегии и…
— И дадим ход всяким сплетням?
— А что вы предлагаете? Сделать вид, будто ничего не произошло? Сами ведь вляпались, недооценили противника. Я тоже виноват, увлекся, не снимаю с себя вины.
— Вас-то во всех смертных грехах не обвиняют, — проворчал Терновой.
— Откуда вам знать, в чем меня обвиняют? — Главный снова усмехнулся криво, дернув бровью. — Ну, а что вы можете предложить, конкретно?
Терновой молчал, затем ответил:
— Вооружить спецкоров.
— Что-что?! Вы соображаете, ч т о говорите?
— Соображаю. Я говорю не о пистолете Макарова. А — о портативном магнитофоне, о негромоздкой фото- и даже кинокамере. Была бы у меня с собой эта элементарная техника, я бы знал сейчас, что вам ответить, что предлагать конкретно.
— Не все умеют обращаться с этой техникой, — возразил, несколько успокоившись, Главный. — А пристегивать каждый раз фотокора и кого там еще… Да, мы это практикуем иногда, но вводить в систему… Нет, слишком дорогое удовольствие!
— Сейчас едва ли не каждый второй школьник запросто обращается с этой техникой. И каждый профессиональный журналист обязан в совершенстве владеть ею. Как солдат — личным оружием. Кто не умеет — обучить…
— А вы-то сами умеете?
— Когда-то баловался на досуге. Но практики, понятно, маловато. А вменить бы в обязанность да снабдить материальной частью… Разве это такая уж неразрешимая проблема? Мы чуть ли не в каждом номере пишем об НТР, к месту и не к месту, а сами работаем на уровне начала века.
— Не такой уж низкий уровень, между прочим.
— Согласен.
— И на том спасибо. — Главный иронически хмыкнул. — А то знаете, Виктор Максимович, добиться вашего согласия подчас, когда упретесь… Даже мне не всегда удается! Вот смотрю я на самых разных людей. И прихожу к выводу, что все они делятся на четыре категории. Скажем, бестолковые, но послушные, с такими работать трудно, однако можно. Толковые и притом послушные — это редкостные натуры, идеал, можно сказать. Есть еще бестолковые да к тому же непослушные, с такими наплачешься. И наконец, толковые, но непослушные, вроде вас… Ладно, поговорили по душам, хорошего понемножку! Идите, продолжайте работать. А я еще подумаю, как тут быть… Идите.
КЛЕВЕТА
(Тоже сочинение Аркадия Котикова)
Осел гуляет по дороге и дышит свежим вечерним воздухом. Справа и слева все распахано. А вдоль дороги трава растет. Не много ее, конечно. Но для одного осла вполне достаточно.
Осел щиплет траву. Неторопливо прядает ушами…
В ноздрю залетел комар. Осел чихнул.
— Будь здоров, — раздалось где-то поблизости.
— Будь здоров, — повторили совсем рядом.
Осел внимательно поглядел на высокие стебли молочая. Увидел гусеницу с человеческий палец. Такая же зеленая, как молочай, только по бокам замысловатые узоры. А сзади рог торчит. И не поймешь, где же все-таки у нее голова, спереди или сзади. Осел знал, что гусеница плохо воспитана и никогда не скажет «будь здоров». Но никого больше не было видно.
Тут комар залетел в другую ноздрю. Осел снова чихнул.
— Будь здоров, — и на дорогу выбежал суетливый перепел, похожий на слишком большого воробья и слишком маленькую курицу.
— Спасибо, — ответил осел. — Добрый вечер. Как живешь?
— Как живу? Так себе.
— А что? — и осел глубокомысленно пожевал губами. — У тебя какие-нибудь неприятности?
— Как всегда. Все кругом перепахали, прятаться негде. Хорошо еще, я бегать привык. За день где только не побываешь.
— Да-а, — многозначительно протянул осел и вздохнул, выражая тем самым свое сочувствие.
— По пути, — продолжал перепел, — я повстречал зайцев. Не тех, что за оврагом, а тех, что возле бахчи. Они о тебе говорили, осел.
— Что же они про меня говорили?
— Да, как сказать… Неловко вроде, — замялся перепел. — Я ведь не сорока какая-нибудь.
— Если скажешь, вместе пойдем пить, — пообещал осел. — Я знаю здесь неподалеку хорошую лужу. Никогда не высыхает.
— Пить пойдем! — обрадовался перепел. И рассказал, что зайцы говорили, будто у него, осла, длинные уши.
Осел долго не мог опомниться. В начале он молчал, тупо уставившись на перепела и отвесив губу. Затем топнул ногой, крутнул хвостом и начал громко возмущаться.
Какая дерзость! Какая наглая ложь! С утра до ночи работаешь, как ишак, приносишь пользу. А эти вредители лесополос, куцехвостые бездельники, косоглазые болтуны… Эти облезлые трусишки осмелились говорить, что у него длинные уши!
Немного успокоившись, осел заявил перепелу:
— Если увидишь этих гнусных клеветников, передай им известную человеческую пословицу: «Ври, да знай меру». Передай, что они валят с больной головы на здоровую. Это у них длинные уши, а не у меня. Так и передай!
Услышав от перепела все, что было сказано ослом, зайцы запротестовали.
— Неправда, ложь, враки! — верещали они, перебивая друг друга и стуча лапами. — Неслыханная клевета! Мы ежеминутно рискуем жизнью, гибнем от лисы и филина, от собаки и человека. А этот зажравшийся упрямец, эта безмозглая карикатура на лошадь смеет утверждать, что у нас длинные уши! В то время как именно у ослов длинные уши, это известно любому зайчонку.
— Спать пора! Спокойной ночи, зайцы, — сказал перепел и скрылся в траве.
Но зайцы всю ночь кричали и стучали лапами, проклиная длинноухого клеветника-осла.
А осел спал неспокойно, часто вздыхал, переступал с ноги на ногу. Ему снились длинноухие клеветники-зайцы.
ЗОНТ БЕЗ ДОЖДЯ
Зав снова и снова перечитывал гранки, никак не мог сосредоточиться, уразуметь, в чем тут закавыка. Устал…
Эту статью вел Шилов-младший. Он ее задумал, он ее согласовал, он подыскал солидного автора, с именем, заказал… И вдруг — на тебе! Вместо того чтобы, как водится, бороться за появление своего материала на полосе, сам же затормозил. На планерке статью поставили в номер, набрали оперативно. А Шилов не стал подписывать гранки, попросил Зава прочитать еще раз — «опытным глазом», как изволил выразиться этот шустрик. Ну, что он здесь углядел, что? Вызвать бы да спросить. Чего, казалось бы, проще? Но Заву не хотелось показывать, что так и не сумел разобраться, что «опытный глаз», судя по всему, малость подслеповатым стал. Ни к чему давать пищу всякой кулуарной болтовне, которая и до ушей Главного донестись может… Но, с другой стороны, если сделать вид, что статья пригодна (она, право же, ничем не настораживает), подписать… Нет, нет, рисковать нельзя, мало ли что… Образно говоря, лучше зонт без дождя, чем дождь без зонта… Не дай бог, окажется, что рядовой редактор углядел, а его начальник проглядел. Эрго, редактора — погладить по головке, а начальнику — дать по шеям! Выходит, куда ни кинь — везде клин! Надо на что-то решиться…
Решившись, старик попросил Крошку Кэт вызвать Шилова.
Тот явился без излишнего промедления, но и без особой поспешности. Проходя предбанник, подмигнул Крошке, то ли дружески, то ли покровительственно. Вошел к Заву с лицом приветливым, но непроницаемым. Вошел спокойно и непринужденно, однако без какой-либо наглости и развязности.
— Вы меня звали?
— Да, Юрий Харитонович, звал. Садитесь, пожалуйста. Я прочитал еще раз эту статейку, более внимательно. Что ж, конечно… — Зав пожевал губами, не зная, что же говорить дальше: так и не успел придумать. — Конечно, я бы не решился утверждать, что она безукоризненна. А?
Жестокий Шилов молчал, глядя на Зава предупредительно, словно бы заранее соглашаясь с любыми его суждениями. Дескать, начальству виднее. Но в том-то и дело, что никаких внятных суждений у начальства не имелось. И, явно понимая сей прискорбный факт, вредный малый помочь своему начальнику почему-то не желал. Выручил же старика, как обычно, его многолетний житейский и редакционный опыт.
— Так что же именно хотели вы мне сказать, Юрий Харитонович? Какой момент смущает вас тут более всего?
«Перехватил инициативу, старый хрен! — подумал Шилов. — Но не беда, игра продолжается, часы не остановлены. Я-то знаю, чего хочу, а он не знает, и в этом мое преимущество». Подумав так, он принялся бережно втолковывать Заву, что некоторые факты, еще вчера казавшиеся бесспорными, сегодня нуждаются в дополнительной проверке (Шилов знал, что Зав, этот «антипионер», который всегда «не готов», в то же время «всегда готов» приветствовать какую бы то ни было дополнительную перепроверку). Намекнул насторожившемуся старику, будто все дело, мол, в том, что из неких авторитетных источников, с которыми он, Шилов, связан узами личной дружбы, стало кое-что известно… Ну, а назвать источники он пока, к сожалению, затрудняется — со временем назовет и надеется, что Зав поймет его недоговорки правильно… Статья же, спору нет, перспективная, но все-таки лучше не слишком торопиться. Семь раз отмерь…
— Правильно! — поддержал Зав, радуясь благополучному исходу разговора и всей этой истории со статьей. — Семь раз отмерь, это я всегда так говорю, и себе и другим. Лучше зонт без дождя, чем дождь без зонта!
— Отличный афоризм! — Шилов изобразил всяческое восхищение. — Ваш собственный?
— Да, как-то придумал в редкий час досуга. Можете даже использовать, дарю.
— Спасибо, — не стал отказываться Шилов, но тут же оговорился: — Только при одном условии.
— Каком же?
— Если позволите сослаться при этом на вас. А то присваивать чужие находки и выдавать за свои… Не люблю и не умею!
«А ведь неплохого сынка воспитал Харитон Матвеич!» — подумал умиленный Зав.
Шилов же нагромоздил под занавес еще парочку туманных намеков, снова напугав успокоившегося было, а теперь вконец запутавшегося старика. И добился того, чего хотел: в очередной номер статья не пошла, а сроки ее дальнейшего продвижения зависели теперь исключительно от него самого.
СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ
После успешной беседы с Завом, довольный собой и вообще жизнью, Шилов позвонил автору все той же статьи.
— Лев Палыч? День добрый, это Шилов потревожил вас. Спешу обрадовать, статья уже набрана… Нет, в этот номер не удалось, я настаивал, но… Нет, нет, к материалу претензий особых не имеется. Тут просто обычные объективные сложности: борьба за место на полосе, нюансы межотдельских взаимоотношений и тому подобное… Я понимаю и сам хочу, чтобы поскорее… Конечно, понимаю! Но вы ведь не новичок в этих делах, вы ведь знаете, что не я один решаю, коллегиальность — никуда не денешься… Вот именно! Это вы очень точно подметили. Впрочем, не огорчайтесь. Я же позвонил, чтобы порадовать вас, а не огорчать. Главное, материал набран, а это уже какая-никакая гарантия… Согласен, не абсолютная. Но существуют ли вообще абсолютные гарантии? Даже абсолютной истины, говорят, до сих пор не нашли… Да, вы правы, мы отвлеклись. Но, Лев Палыч, поверьте, я делаю и буду делать все необходимое. Буду, буду форсировать и в ближайшие дни позвоню. Непременно позвоню! Как видите, я держу вас в курсе… Спасибо, ничего. Есть, правда, кое-какие суетные заботы, но у кого их нет… Дело-то, собственно говоря, немудреное, да вот не знаю, с чего начать… Нет, нет, мне неловко злоупотреблять вашим временем… Ну, спасибо, Лев Палыч, совет-то мне как раз не повредит. Я тут, понимаете, вознамерился новую машину купить… Как?! Разве вы свою продали? Зачем же?.. А, понимаю, понимаю. А я, видимо, еще не созрел для столь мудрого решения, ха-ха… Вот именно!.. Да забота, повторяю, пустяковейшая. Просто жалко новую игрушку под брезентом держать… Да, вы очень точно сравнили, как к живому существу, буквально так. А тут еще зима на носу и… В том-то и загвоздка, что конь будет, а конюшни для него нет!..
Еще заказывая статью, Шилов достоверно знал уже, что автор, то бишь Лев Палыч, известный журналист, свою машину гробанул непоправимо (а всех уверял, будто продал) и обзаводиться новой пока не собирается. Но главное — остался у него свободным отменный гараж и неподалеку от центра. Расчет оправдался: отзывчивый автор охотно пошел навстречу своему редактору. Просто так.
— Просто так?! — восклицал удивленным голосом редактор. — Как же это, Лев Палыч? Неудобно мне…
— Удобно, удобно, дорогой Юра, — ласково ворковал автор. — Как коллега коллеге. Как человек человеку, наконец. Разве вы забыли, что человек человеку у нас — друг, товарищ и брат?
— Ну, огромнейшее спасибо вам, Лев Палыч! Я просто… растроган, чрезвычайно растроган. Уж очень, знаете, хотелось, чтобы лошадка зимовала, как говорится, в тепле и сытости… Ну, о деталях договоримся, я в любом случае на днях позвоню вам. Надеюсь, с добрыми вестями… Да, чуть не забыл! Наше руководство очень просит вас написать нам страничек семь-восемь к предстоящей знаменательной дате…
Шилов наврал: никакое руководство ничего не просило. Но он смекнул, что знаменательная дата не за горами, что такой материал к ней не сегодня завтра потребуется, а он, как окажется, пожалуйста, уже заказан. Автору с именем. Шилова похвалят за инициативу и оперативность. И Лев Палыч будет все же как-то компенсирован. Причем, все — по закону, гонорар — не взятка, каждому — по его труду…
В ответ на внезапное предложение Лев Палыч поначалу немного пококетничал, сослался на исключительную занятость.
— Знаю, что вы очень заняты, — обрабатывал его Шилов. — Но я помогу вам сэкономить время. Подготовлю разработку — найдите, кстати, кого-нибудь, на чье имя выписать счет за нее. Да, прикину основу, сделаю болванку — там сами посмотрите. Договоримся, одним словом! Проблемы здесь нет.
Он хотел еще извиниться, что сперва заговорил о гараже, а затем уже о знаменательной дате, материи, так сказать, более высокой… И объяснить откровенно: мол, сами понимаете, своя рубашка ближе к телу. Однако воздержался.
РВЕНИЕ
(Сочинение неистощимого Аркадия Котикова)
Всем известно, что у всякой медали две стороны. Эту избитую истину обычно вспоминают к месту и не к месту (как и на сей раз). Частенько добавляют при этом, что человек, дескать, замечает более яркую сторону. Но, скорее всего, он замечает ту, которую хочет замечать.
Усадьба, о которой пойдет речь, в отличие от медали, имела все четыре стороны. Но нас интересуют лишь две. Правая и левая.
Мимо правой проходила тропинка. Мимо левой тоже. По тропинкам проходили люди. То справа, то слева. А за высоким забором слышался собачий лай.
Собак у хозяина было множество. Все они проявляли достойное рвение. То ли потому, что хотели сорваться с цепи. То ли потому, что вознаграждались объедками с обильного хозяйского стола. Самые ретивые имели отдельную будку.
Лохматый Брехло лежит у своей индивидуальной будки. Дремлет. Рядом валяется полуобглоданная кость. Подкрадывается куцехвостый Рвач. Все ближе, ближе… Хватает кость и опрометью мчится прочь.
Брехло приоткрывает один глаз и лениво басит:
— Положи кость на место.
— Какую кость? — притворяется Рвач.
— Ту, на которой ты сидишь. Думаешь, не видно?
— Я сижу на собственных костях, — пытается шутить Рвач.
— Вот я сейчас проверю, что крепче, — рычит Брехло, — твои собственные кости или мои зубы!
И он открывает второй глаз.
Теперь бедному Рвачу не до шуток. Украденную кость приходится вернуть.
Брехло закрывает оба глаза и снова дремлет. Он больше не сердится. На месте Рвача он поступил бы так же.
Вдруг раздается голос хозяина:
— Ату! Ату!
Это тревога. Брехло вскакивает. Сонливости как не бывало. Шерсть дыбом. Он готов растерзать всякого. Кого прикажут.
Хозяин указывает на прохожего, идущего по правой стороне. Как на грех, оттуда подул ветер и запорошил хозяину глаза. Он не может разглядеть прохожего и еще пуще злится:
— Ату его! Ату!
Все собаки добросовестно тявкают. На разные голоса. Прохожий в смущении останавливается.
Но ветер переменился. Хозяин разглядел прохожего. Узнал его. Закричал:
— Нельзя! Свой! Фу!
И указал на другого прохожего, шедшего по левой стороне:
— Ату!
Толкаясь, сбивая друг друга с ног, в превеликом усердии шарахнулись собаки в противоположную сторону. Ринулись всей гурьбой на прохожего. И затявкали не менее яростно. Им не привыкать!
Вечером, когда утомленный Брехло заснул покрепче, Рвач все же утащил у него кость. Из-под носа.
БЮРО ЗАСЕДАЕТ
Партбюро заседало, как всегда, в кабинете Главного. Разместились кто на диване, кто на стульях. Диван и стулья недавно были обиты новым темно-коричневым кожзаменителем — под цвет самой мебели. Хозяин кабинета, входивший по традиции в состав бюро, скромно уселся в кресло для посетителей, отключив предварительно пульт и предупредив, чтобы без особой нужды не соединяли. Его место за столом занял Чеканюк — тоже член бюро, ныне почему-то взявшийся открывать заседание, хотя обычно это делал Терновой. Может, Виктор Максимович опять в отъезде? Нет, не в отъезде, вон он здесь же, присутствует. Странно…
Никто не знал пока, что Чеканюк предварительно согласовал всю эту раскладку именно с Терновым, который почему-то не стал возражать.
Сейчас, сняв очки, Чеканюк приблизил глаза к каким-то бумагам, размеренно поводя лицом слева направо и обратно.
Закрыли фрамугу (сквозило) и постановили не курить.
Наконец Чеканюк оторвал лицо от бумаг, нацепил очки и медленно оглядел присутствующих, останавливая внимательный взгляд на каждом.
— У нас на повестке три вопроса, — начал он деловито.
С первыми двумя вопросами разобрались легко и скоро, третий же оказался настолько необычным и непредвиденным… Чеканюк сообщил, что речь пойдет о моральном облике не только члена партии, но и секретаря партбюро, спецкора Тернового, Виктора Максимовича.
Многие, ничего не ведая, недоуменно переглянулись. Во-первых, не умещалось в сознании: Терновой и… аморалка?! Во-вторых, все-таки секретарь, сами выбирали…
— А имеем ли мы право, — спросил кто-то, — обсуждать секретаря на своем бюро? Или это прерогатива райкома?
— Прошу говорить обо мне как о члене нашей первичной организации, — угрюмо отозвался Терновой. — Это не исключает разговора на бюро райкома.
Он сидел в стороне, выпрямившись и положив пальцы на колени, в позе известной статуи Рамсеса II. Не мигая глядел на Чеканюка, приступившего к сообщению по третьему вопросу. И думал о том, что правильно поступил, согласившись с явно провокационной затеей своего недавно приобретенного недруга. Ибо, во-первых, тот явно не ожидал такой покладистости, истолковал ее как слабость и теперь наверняка зарвется. А во-вторых, не сможет приписать секретарю партбюро еще и зажима критики. Теперь все будет зависеть от других членов бюро: пусть разбираются и решают.
Зачитав официальный ответ на статью о «клещах» и выдержки из тех двух писем, о которых уже говорил Терновому Главный, Чеканюк принялся комментировать:
— Конечно, товарищи, дело серьезное. Мягко выражаясь. Вымогательство взятки, равно как и насильственное побуждение к сожительству, относится к деяниям, уголовно наказуемым. И, как ни горестно мне это произносить, считаю необходимым… я считаю, что мы должны быть готовы к выполнению своего долга и передаче дела не только в райком, но и в соответствующие органы…
Тут члены бюро зашумели:
— О чем вы толкуете!
— Виновность-то еще не доказана? Стало быть, презумпция…
— А что, авторы этих «телег» подали в суд?
— Тише, товарищи!
— Надо бы выслушать Виктора Максимовича, — заметил Главный негромко, но, как всегда, все его услышали.
— Пожалуйста, — Чеканюк повернулся к Терновому и — подчеркнуто вежливо: — Бюро слушает, что скажет Виктор Максимович.
Тот встал, завел руки за спину, сцепил там, за спиной, пальцы. Начал не сразу, все терпеливо ждали. Тихо было в кабинете, лишь отбивали такт необратимого времени электронные часы на столе Главного да, будто порывы ветра, шумели за окном проезжающие по улице машины.
— Что хочет услышать бюро? — заговорил наконец Терновой. — Либо подтверждение, либо опровержение?
— Здесь мы будем спрашивать, — вкрадчиво напомнил Чеканюк, приглаживая короткий седеющий ежик. — И выслушивать ответы.
— Я не спрашиваю, я отвечаю. В зачитанном письме сказано, будто я вымогал взятку. Доказательств, однако, нет. Я же заявляю, что не вымогал. Но у меня тоже нет доказательств. В другом письме сказано, будто я покушался на горничную. А я говорю, что ничего такого не было…
— И тоже нет доказательств? — перебил Чеканюк.
Бюро опять всколыхнулось.
— Ну какие тут еще доказательства?
— Экспертизу, что ли? Смех и грех!
— Если понадобится… — начал было Чеканюк, но шум усилился. — Тихо! У кого есть вопросы к товарищу Терновому?.. Нет вопросов? Тогда позвольте мне. У меня возникли два существенных вопроса. Я бы сказал, весьма существенных. Во-первых, был ли спецкор Терновой во время командировки, то есть при исполнении служебных обязанностей, в нетрезвом состоянии? И во-вторых. Знает ли семья Тернового о его… ну, скажем, приключениях? Или он почему-либо предпочитает скрывать?
— На последний вопрос я отвечать отказываюсь.
— Правильно! — поддержал кто-то с дивана. — Молодец, Виктор!
— А на первый? — настаивал Чеканюк.
— А на первый отвечу. Да, я был и в нетрезвом состоянии.
— Тогда разрешите третий вопрос. — Чеканюк оживился, даже щеки порозовели, похоже было, что сам процесс задавания вопросов доставляет ему какое-то физиологическое удовольствие. — Это вопрос не только к товарищу Терновому, это вопрос ко всем. И — к самому себе. Может ли, спрашивается, человек, будучи в нетрезвом состоянии, помнить, приставал он к женщине или нет?
В который раз возник всеобщий шум, но сразу прекратился, как только заговорил Главный.
— Надо внести наконец ясность, — сказал он. — Не понимаю, почему этого не сделали в сообщении? Что это такое? С каких это пор бюро обсуждает чуть ли не персональное дело своего секретаря без согласования с райкомом? Кстати, собиралось бюро предварительно, принимало соответствующее решение? Нет, насколько мне известно. Или я пропустил какое-нибудь заседание? Советовалось бюро с райкомом? Поручало Чеканюку председательствовать и делать сообщение? Тоже нет. Да и в курсе ли был сам секретарь бюро?
— В курсе, — ответил с места Терновой.
— Ну, Виктор Максимович! Вы просто… Да вы что, товарищи, не соображаете? Не о нравственности Тернового надо ставить вопрос, а — об акции нашего печатного органа и о резонансе на эту акцию! Ответственный секретарь редакции каким-то образом — я еще разберусь в этом — получает и оглашает известные пока только редакторату два склочных отклика, но почему-то ни словом не упоминает о нескольких хотя бы читательских откликах, поддерживающих нашу акцию. А таких поддерживающих писем было не несколько, их было много, об этом сообщалось и на редколлегии и на летучке.
Главный налил воды из сифона в стакан, принялся пить, — в безмолвной тишине слышно было, как булькает у него в горле. И продолжал, чуть громче обычного:
— Я тоже хотел бы задать вопрос — всем и самому себе. Есть у нас своя принципиальная позиция в обсуждаемом сегодня вопросе? Подготовлен этот вопрос для разговора? Далее. К сведению тех, кто еще не знает, хотя это давно уже секрет Полишинеля. А если кто знал да забыл, напоминаю. Затеянное сегодня так называемое дело Тернового неотделимо от его статьи «Мешают ли клещи́ полету?». Именно на эту статью отклики зачитывались здесь только что. Даже в сообщении статья была упомянута. И тут же почему-то забыта. Еще раз напоминаю тем, кто забыл, что Виктор Максимович вылетал по заданию редакции на известную вам стройку. У нас имелись сигналы с места о неблагополучном положении дел на этой стройке, мы действовали в контакте с достаточно авторитетными органами. Задание у нашего спецкора было чрезвычайно сложное и деликатное, чрезвычайно ответственное. Скажу больше. Никто не упрекнул бы Тернового, если бы он заявил, что сигналы не подтвердились. Никто не спросил бы с него за это. Он мог привезти прекраснодушнейший позитивный очерк, безоговорочно позитивный, у всех бы от сердца отлегло, автора похвалили бы и поощрили. И, я уверен, не было бы тогда ни этих кляуз, ни столь неприятного для всех нас разговора…
Голос Главного звучал все громче. Он встал с кресла и неспокойно расхаживал от стола к окну и обратно, будто головастый ягуар по тесной клетке.
— Неужели, — воскликнул с несвойственным ему пафосом, — вы, газетчики, никогда в своей практике не сталкивались с такой формой зажима и отфутболивания критики? Опорочить и оклеветать критикующего — это же… старо! Старо и примитивно! Однако живет, все еще не сдохло почему-то. Неужели не сталкивались? Сталкивались, и не раз! Не раз наша газета, вся наша пресса давала отпор подобным попыткам, когда к нам обращались за помощью честные люди, наши читатели. А здесь… здесь дело касается уже не читателей, попросивших у газеты содействия и защиты. Дело касается самой газеты. Ее представителя. Нашего товарища по оружию, выполнявшего задание редакции. Вот ведь в чем вопрос! А мы тут… Виктора Максимовича мы знаем достаточно и не первый год. И я удивляюсь, до чего же легко поверили мы тем, кого только вчера выводили на чистую воду! До чего же легко лишаем мы доверия того, кому вчера так доверяли! Доверяли настолько, что избрали его секретарем партийного бюро! Не более и не менее!.. Да, на любое пришедшее письмо надо отреагировать, даже на заведомо и явно кляузное. Да, надо разобраться и принять решение — это наша святая обязанность. И редколлегия тоже будет разбираться. Но, я подчеркиваю, р а з б и р а т ь с я. А не разводить склоку!.. Против хапуг и растратчиков из стройтреста надо возбудить уголовное дело, товарищ Чеканюк! А не против разоблачившего их спецкора. Их же, кстати, надо бы привлечь к ответственности за ложный донос, по соответствующей статье Уголовного кодекса… У кого на поводу мы пошли сегодня? У кого на поводу идете вы, товарищ Чеканюк? Очень хотелось бы узнать…
Тот сжался, моложавое лицо под седоватым ежиком зарделось сплошь.
— Извините, если я сказал слишком резко, — закончил Главный, усаживаясь обратно в кресло для посетителей. — Но давайте же не забывать, что мы на партийном бюро, а не… У меня все. Кто будет вести заседание?
— Я не считаю возможным, — Чеканюк пожал плечами и вышел из-за стола.
— Мне сегодня нельзя, — глухо и будто бесстрастно сказал Терновой.
В конце концов предложили выполнять эту функцию хозяину кабинета.
— Кто хочет высказаться? — спросил он, проходя за свой стол.
— Разрешите? — Чеканюк поднял руку, как ученик на уроке. — Конечно, товарищи, все мы безоговорочно признаем принцип демократического централизма. И я подчиняюсь решению большинства. Более того, признаю свою ошибку, надо было посоветоваться с райкомом…
— И с членами бюро, — строго заметили с дивана.
— И с членами бюро, — покладисто повторил Чеканюк. — Но разрешите мне внести одно предложение. Шила, как говорится, в мешке не утаишь, и разговорчики по редакции уже стелются, у меня есть сведения. Независимо оттого, виновен ли товарищ Терновой и в какой мере, а тут уж… Вы, надеюсь, меня понимаете?
— Пока не очень, — сурово отозвался Главный.
— Ну, как говорится, то ли его кто-то ограбил, то ли он кого-то ограбил. Я считаю, что на фоне всей этой истории товарищ Терновой не может оставаться секретарем партийного бюро. Это, сами понимаете, не способствует авторитету… престижу, так сказать…
— Что вы предлагаете? — снова прервал его Главный, на правах председательствующего.
— Я предлагаю досрочное переизбрание. Разумеется, согласовав с райкомом…
И снова — шум.
— Ну, это уж слишком!
— А в бюро оставить?
— Что же, срочно собирать всех коммунистов редакции?
— Позвольте, товарищи! — неуемный Чеканюк опять по-ученически поднял руку. — Внеочередного партсобрания созывать не потребуется. Потому что мы не выводим Тернового из состава бюро. Мы только освобождаем его от обязанностей секретаря, выбираем другого товарища…
— Кого персонально?
— Ну, это мы должны будем сообща решить. И, повторяю, согласовать с райкомом…
— Я уже говорил с инструктором, — заявил вдруг Терновой. — И прошу освободить меня от обязанностей секретаря. Заявление мое в райкоме.
Всеобщий шок. Долгая пауза. Наконец — едва слышный голос Главного:
— И что же райком?
— Райком пока против.
После недолгих и небывало громких дебатов решили вопрос отложить. Как явно неподготовленный.
ЗЕРКАЛО
(Сочинение Аркадия Котикова)
Съели гусеницы всю хвою у сосен. Сквозь вершины запекло солнце. Жарко стало в лесу. Шел по лесу человек, скинул пиджак, взял на руку. А из кармана зеркальце выпало. Бесшумно упало на мягкую лесную подстилку и лежит. С солнышком перемигивается. Лесных обитателей смущает.
Прискакала любопытная лягушка, заглянула в зеркало. А оттуда на нее — страшное, ротастое, пучеглазое. Испугалась лягушка, задышала часто-часто. И лапки протянула.
Спустился по стволу вниз головой поползень, заглянул — все в порядке. И поднялся обратно — уже вверх головой.
У ястреба глаза зоркие. Заглянул с высоты в зеркальце, заметил соринку в перьях. Вытащил ее, бросил на ветер и еще выше поднялся над соснами. Оттуда, с очень большой высоты, он видел, как прихорашивается перед зеркальцем белочка. Но не стал ей мешать. Ну ее! Она смолой пахнет…
Забрел в лес осел. Он живал среди людей и знал многое такое, чего другие не знали. Заметил зеркало и сказал:
— Ага! Я знаю, это такая штука, которая показывает, каков ты есть. Ну-ка, интересно…
Но, увидев свое отражение, осел страшно разгневался.
— Эта стекляшка искажает истину! — кричал он. — Разве я таков? У этой стекляшки получается, будто любая лошадь красивее меня! Но я не верю всяким… осколкам! Я сам знаю себе цену!
Утешив себя таким образом, осел двинулся было дальше. Но увидел мертвую лягушку и задумался.
— Все ясно! — сказал он наконец. — От подобных предметов лесным обитателям один вред.
И ударил по зеркалу копытом.
Суеверные люди говорят, будто, если разбивается зеркало, — быть беде. Но не будем суеверны.
МЕТАМОРФОЗЫ
— Вы слыхали? — в дверях сто девятой возникает странная голова Котикова. Но никто, как бывало прежде, не улыбается. Пичугин и Кузьмицкий оторопело таращатся на уже вкатившегося и заметавшегося от стола к столу внештатника.
— Был папуас как папуас, — произносит наконец Пичугин. — Теперь — как баба племени масаи. Ты это сам?
— Сам себя не оболванишь, — охотно поясняет Котиков. — Парикмахер помог.
— Мелко нахулиганил, что ли?
— Не было этого, ничего не было… Выпадать стали, каждое утро на подушке штук тридцать. Решил побрить, чтобы корни укрепились, говорят — самое действенное средство, лучше каких бы то ни было косметических… Слыхали, а? Ваш Зав на пенсию уходит. А вместо него — кого бы вы думали? Сейчас молодые кадры на выдвижение идут. И вашим Завом теперь будет Шилов. Не верите? Сам видел проект приказа.
На сей раз Котиков не соврал. В тот же день ту же новость сообщила Краюхина. Сообщила без энтузиазма.
— Радуйся, мать, — сказал ей со вздохом Пичугин. — Твоя креатура. Растишь и пестуешь руководящие кадры.
— Не издевайся, — грустно ответила она. — Сама теперь не рада.
— Молодым везде у нас дорога… — пропел, фальшивя, Кузьмицкий и скосоротился. — Нет хуже, чем под началом у скороспелки. Хоть уходи…
Побагровевший Пичугин промолчал.
Тут заскрипел давно потерявший голос черный телефон — Кузьмицкий, брезгливо морщась, взял трубку.
— Слушаю!.. О-о, это ты… это вы, Юрий Харитонович?.. Да, слыхали, как же! Значит, будете у нас отцом-командиром? А мы… Еще бы! Разумеется! Поздравляю от имени всех…
Презрительно смерив Кузьмицкого взглядом, Краюхина покинула сто девятую.
Пичугин, жуя и досасывая сигарету, все так же молча поглядел на захлопнувшуюся за Лерой дверь, отвернулся и уставился в окно.
БЕЛАЯ ВОРОНА
(Сочинение Аркадия Котикова)
Это у животных бывает — когда среди темных сородичей вдруг появляется светлый до белизны. Называют таких оригиналов альбиносами и утверждают, что и видят они хуже других и еще что-то у них не так.
И вот в одной вороньей стае был такой альбинос. Все вороны, как отродясь положено, были серые с черным. А эта вся была белая, как чайка, даже еще белее, потому что — в отличие от чайки — у нее не замечалось ни единого темного перышка. Нигде.
Летала эта белая ворона со своими серыми собратьями, каркала, кормилась, короче — жила. И все привыкли к тому, что она белая.
Но однажды ей надоело быть белой вороной. Она выкрасилась и стала серой — как все. Только к этому никто привыкнуть не мог.
СТРЕСС
Шилов ковал железо, пока горячо: принял бразды правления без колебаний и проволочек (опять же, газетное дело такое: на колебания и проволочки времени не остается). И — не прошло месяца — уже снимал стружку с доставшегося ему по наследству Кузьмицкого.
До чего же тихий и приятный был совсем еще недавно голос у Юрия Харитоновича! Не голос — бальзам, не тембр — хвойная ванна. Кто бы мог тогда предположить, слушая тот первоначальный его голос, что спустя некоторое время от вельможного шиловского окрика задрожат и зазвенят, словно камертоны, лампы дневного света в редакционном коридоре?
— Ч т о вы мне подсунули? Что?!
А Кузьмицкий ничего такого особенного не «подсунул» — ну, забыл обозначить на «собаке» два абзаца и один «фонарь», дело вполне поправимое, и на старуху бывает проруха. Доживет Шилов до сорока с гаком — еще и не такое наколбасит. А может, не наколбасит? Может, он из какого-то другого материала изготовлен? Более современного и прочного…
— Ч е м вы думали, я спрашиваю? Ч е м?!!
Надо же так не щадить голосовых связок!
Не хватает у Кузьмицкого духу осадить этого дерзкого мальчишку, выскочку, щенка… Щенок! Ишь как лаем захлебывается, того и гляди — тяпнет. Зубастый!
Кузьмицкий стоит посреди коридора перед новоиспеченным своим начальством, бледный, с неубранной влагой на высоком лбу, совершенно не понимает уже смысла обрушенных на него воплей, бормочет что-то невнятное в свое оправдание. Перед кем?! Противен сам себе Кузьмицкий предельно.
А как раз в этот момент проходит по коридору Терновой. Поравнявшись с ними, останавливается и — задушевно так — окликает:
— Юрий Харитонович? Алло, Юра! Что за шум, а драки нету?
Тот притихает незамедлительно, юлит, ссылается на стресс.
— У всех нынче стресс, — замечает Терновой. — И у Кузьмицкого, и у меня. Так что же? Будем все орать, кто громче? Может, соревнование устроим — на приз имени Гаргантюа?
Но Шилов умеет быстро приходить в себя и теперь отвечает увереннее:
— А у вас, Виктор Максимович, не бывает разве, что не можете сдержаться? У вас, насколько мне известно, тоже не рыбья кровь.
— Не рыбья, это точно. Все бывает, Юра. К сожалению, бывает. Но спросите вот у Кузьмицкого, он давно в редакции, пусть скажет, повышал ли когда-нибудь Терновой голос на подчиненных, на зависимых, на более слабых. Он вспомнит и скажет, если бывало такое.
Кузьмицкий молчит. Не знает, куда деваться. Уходить неудобно, а оставаться свидетелем поединка — как-то глупо. Строки из Шекспира в гудящей башке звучат: «Ничтожному опасно попадаться меж выпадов и пламенных клинков двух сильных недругов».
— Говорите, не могли сдержаться? — продолжает Терновой, уже не так задушевно, все жестче и жестче, теснит Шилова, загоняет в угол. — Со мной-то сдержались, однако? А — с Главным? Сдержались бы, не сомневаюсь. Только с безответным подчиненным — никак?
Тут Кузьмицкий набирается решимости и уходит к себе в сто девятую.
Шилов с той поры обращается к подчиненным с подчеркнутой предупредительностью. Слишком подчеркнутой.
Спустя еще какое-то время отколол номер Пичугин: подал заявление с просьбой перевести его в любой другой отдел. Либо — уволить.
— Что еще за капризы? — вздыбился Главный. — Развели детский сад!
— А жить-то на что будешь? — спрашивал участливо Кузьмицкий. — Семью как прокормишь?
— На внутряшки[1] теперь больше времени останется, — ответил Пичугин. — По заданиям буду ездить почаще. Вон Котиков живет же как-то. Редакций у нас навалом, а безработных нет в принципе.
— Зря ты все же, Петушок. Подумай еще, а?
— Слоны бросают бревна, пан Кузьмицкий.
Вакансий в других отделах не нашлось — Пичугина освободили «по собственному желанию».
ИНАЧЕ — НЕ ЖИЗНЬ
Занудный выдался денек.
С рассвета завел свою заунывную песню дождь — неопределенный и неистощимый. В транспорте толкались мокрые нахохленные люди. Под карнизами домов теснились мокрые нахохленные птицы.
У Тернового, недавно переболевшего тяжелым гриппом (а ведь ежеутренне холодной водой до пояса окатывался, но нынешние вирусы чихали на всякую помогавшую прежде закалку: чихнет на тебя некто в городской толчее — и готово, будь ты хоть «моржом»), все еще то и дело кружилась голова, препротивно кружилась.
И, как назло, не вытанцовывалось с очередной статьей, недоставало какого-то необходимого факта — последнего штриха, как говорят, но какого именно — определить не удавалось.
По дороге домой с трудом сдержал себя, чтобы не вышвырнуть из троллейбуса долговязого обормота, без умолку засорявшего уши пассажиров примитивными пошлостями. В другое время усмирил бы его, но сегодня сам себя пощадил, уж очень болела и кружилась голова.
Подходя к дому, взглянул по привычке на красовавшуюся неподалеку реставрированную колокольню — ее гордый силуэт на фоне свинцово-медного заката призван был тешить душу, травмированную засилием безликих новостроек. Но на сей раз Терновой даже не оценил увиденной красоты. Скорей бы добраться до своей квартиры, прилечь и закрыть глаза — будто песком запорошенные…
Но у самого подъезда — эх, не успел проскочить! — его перехватил старик сосед. Обычно тихий и приветливый, а сегодня чем-то взбудораженный, он принялся жаловаться на каких-то своих родственников:
— Сам-то я высокого образования не имею. А они, вы только подумайте, Виктор Максимович, а они очень даже некрасиво поступают. Нехорошо, не по-советски! Как сказал Некрасов в своей басне. Помните? Про свинью неблагодарную. Да, свиньи они неблагодарные! Так и написал в своей басне Некрасов. Вот я и говорю…
Терновой не стал обижать старика напоминанием, что басню «Свинья под дубом» написал все же Крылов, а Некрасов — никакой не баснописец. Слушал, стараясь не выражать нетерпения. Этому нелегкому искусству — терпеливо выслушивать — научился в редакции, беседуя с различными посетителями, когда дорога каждая минута, а посетитель того не разумеет и, дорвавшись, донимает нескончаемой исповедью. Именно так донимал его сейчас несчастный старик сосед, говорил долго и страстно, не в силах сам затормозить. Слушая его, Терновой на миг невольно прислонился спиной к двери подъезда — та поддалась, приоткрылась со стоном, как бы впуская его. Тут он не устоял перед искушением — торопливо и невнятно извинившись, ввалился в подъезд и скорее — к лифту.
Виталик уже спал (надо же, как задержали сегодня пресс второй полосы!). Аня возилась на кухне, развешивала только что выстиранное белье, не поместившееся на сушке в тесном совмещенном санузле. Она стояла на табурете и тянулась поднятыми, обнаженными по локоть руками к натянутой под потолком прозрачной леске.
«Вот я и дома, наконец!» — подумал Терновой с облегчением.
— Давай вместе, — он поставил рядом другой табурет, взгромоздился без обычной ловкости и тут же почувствовал, как все сдвинулось и закачалось перед глазами. Но совладал, даже виду не подал, не пожаловался. Достал из мокрой кучи в тазу свою же майку, встряхнул, закинул на леску, выровнял.
Аня почему-то не повернула к нему лица, скрытого непослушно свесившимися латунными прядями четко подрезанных прямых волос.
— Не надо, я сама.
Сказала так непривычно сухо, так враждебно даже, что он не смог уже справиться с очередным приступом головокружения и поспешно, неуклюже сшагнул с табурета.
— Что случилось, Ань? — спросил встревоженно.
— Ничего особенного, — тем же чужим голосом ответила она, поправив съехавший набок фартук и продолжая развешивать белье. — Сейчас дам тебе поесть.
— А ты ужинала?
Она не ответила, спрыгнула с табурета, с несвойственной ей резкостью громко задвинула за шкафчик опустевший таз и, все так же не показывая лица, захлопотала у газовой плиты.
Он подошел было к ней, как обычно подходил по возвращении с работы, — увернулась, будто от постороннего.
— Да что стряслось?!
— Не кричи на меня. Садись ужинать.
— Я не стану ужинать, пока не скажешь, что случилось.
Тогда она откинула наконец волосы и повернула к нему лицо. Это было ее и ничье другое лицо, самое близкое каждой своей навсегда знакомой черточкой, но в то же время такое непривычно отчужденное сейчас в необъяснимом гневе.
Заговорила она не сразу, а после долго не могла остановиться, замолчать. И когда в конце концов оборвала себя на полуслове, стало нестерпимо тихо. Потрясенный, Терновой не знал, что сказать в ответ.
…Самый безотказный вид информации — сплетня. Традиционная, бессмертная, черт бы побрал ее энтузиастов! Нету для нее преград, нет на нее управы. И нет для нее ничего святого и запретного…
Кто же удружил? Не хотелось грешить на болтуна Котикова, почему-то чувствовал, убежден был: не он, не Котиков на сей раз постарался. Не стал Терновой допытываться и доискиваться, каким именно путем и через кого конкретно проведала Аня о том нашумевшем деле, о злополучном заседании бюро, о последующей редколлегии и предшествовавших «телегах». И насчет горничной — тоже… Главным сейчас было не то, кто там персонально разболтал и кто дальше на хвосте разнес. Главным было то, что говорила ему только что Аня.
Грязь отвратительная, сказала она, унизительно и противно говорить, но ведь он сам настоял на разговоре. Что ж… Теперь ей все понятно, а если что-то неясно ему — так и быть, можно объясниться. Во-первых, она привыкла, что оба они всегда делились друг с другом всеми своими новостями, добрыми и недобрыми, а на сей раз он почему-то не поделился, скрыл, узнала случайно, а не узнала бы — так бы и жила обманутой… Во-вторых, как ей было не вспомнить первой их встречи, тогда в самолете… и она тогда сразу же так поверила в него, так доверилась ему… и вскоре такая ошеломляющая близость, внезапная, нежданная… И теперь вдруг дошло: ведь он и в тот раз тоже был в командировке. Значит, привык развлекаться подобным образом в своих разъездах! А она-то вообразила, будто с ней только одной у него так получилось. Дуреха несчастная, сама виновата!.. А в-третьих, не так уж сложно сообразить, что он не чувствует себя ничем особо связанным, потому что Виталик — не его… И — как же теперь жить вместе дальше? Как? Когда утеряно самое необходимое — доверие…
Да, она права: когда нет доверия — все остальное ни к чему. И ни к чему доказывать, что Виталик для него — частичка Ани и уже поэтому не чужой, что — «связанность» тут ни при чем, потому что оба они не из-под палки и не по расчету оказались вместе и не ищут так называемой «свободы» один от другого. Не говоря уж о том, что как ни подло оставлять своего ребенка, во сто крат подлее оставлять чужого, после того как сделал его своим. Ни к чему втолковывать, что если бы он был одним из тех, которые ищут в командировках амурных приключений, то с какой бы стати он тогда предложил Ане навсегда войти в его судьбу… Конечно, можно было понять логику ее сегодняшних рассуждений, но нетрудно было бы доказать, что в конечном счете никакой логики а них нет. Но нужно ли теперь доказывать, объяснять? В конце-то концов, все объяснялось просто: скрыл, потому что не хотел посвящать в мерзкие детали, не хотел будить нелепые подозрения, травмировать, уподобляться тем эгоцентричным садистам, которые нарочно разжигают в близком человеке ревность, расписывая детально, что было и чего не было. И действительно ведь ничего такого не произошло! Но как было сказать об этом Ане, можно ли, нужно ли было говорить, неизбежно расписывая при этом т а к и е подробности? К чему же доказывать что-то теперь, словно бы оправдываясь? Хвастать своей стойкостью и верностью? Нелепо!
Конечно, Терновой мог бы сейчас объяснить Ане всю ту историю. Сумбурная исповедь Маши в ту ночь оказалась для него неоценимым подспорьем в разоблачении шайки Локтева. После той беседы с ней знал наверняка, где именно и с чего начинать поиски. Нет, спецкор Терновой ни разу нигде не сослался на свидетельства бедной горничной, ни разу не упомянул ее, не выдал. Но потом, уже после отъезда, после опубликования статьи, локтевцы, отчаянно защищаясь, судя по всему, еще крепче сплели и окрутили несчастную — она, слабая, не выдержала. И подписала явно не ею сочиненную кляузу…
Надо ли объяснять? Именно сейчас? Почему не раньше?
Да, он хотел, намеренно хотел все это скрыть от Ани. Чтобы, опять же, уберечь ее от неприятных подробностей, могущих вызвать невольные подозрения. А в результате? А в результате сделал больно самому близкому человеку… Стоп! Почему? Значит, она не верит ему?.. Еще раз стоп! Это он не верил в нее, когда скрывал. Да, виноват он, в любом случае, при всей своей невиновности!
Но как же теперь жить дальше? Ну, как?!
Только — на доверии. Альтернативы — нет. Иначе — не жизнь.
— …Иначе — не жизнь! Ань… Ты веришь мне?
— Хочу верить, очень хочу! Но не знаю, ничего не могу с собой поделать. Не знаю…
ПОДУМАТЬ НАДО
Почему-то именно Тернового пожелал Чеканюк к себе в замы, как только газете дали такую штатную единицу. Что это? Попытка примирения — после поражения в открытой конфронтации? Перед близким юбилеем и в надежде на персональную пенсию?..
Терновой гуляет с Виталиком по городскому парку. Солнечное декабрьское воскресенье. По первому неплотному снегу прогуливаются молодые пижоны, хвалясь отечными сапогами — «дутышами», недавно вошедшими в моду. У всех пижонов лица — беззаботно-равнодушные. Лица баловней.
Аня сегодня с утра в своей школе: на воскреснике по уборке помещений.
— Папа! — Виталик теребит Тернового за рукав. — А почему в нашей школе сегодня нет воскресника?
Вопрос простой. А поди-ка, найди ответ.
— Не знаю, сынок. Это надо в школе спросить.
— Спроси. Ладно? А нам вчера Людмила Львовна читала стихи про муравья и стрекозу. И потом спрашивала, кто кому понравился. Светка Чернова сказала, что стрекоза. Потому что она веселая.
— Кто веселая? Стрекоза или Светка?
Виталик заливается дребезжащим, как у козленка, смехом. Он всегда смеется охотно. А вот Аниного смеха давно не слышно. Со времени того неприятного разговора на кухне. Поначалу казалось, что она — отходчивее.
— А ты что ответил? Тебе кто понравился?
— Я сказал, что мне понравился муравей. Потому что он трудолюбивый.
…Чеканюк сам обратился к Терновому. Как ни в чем не бывало. Подумай, дескать, предложение заманчивое: скоро уйду на пенсию, а ты к тому времени войдешь в курс, освоишься и станешь ответсекретарем. Хватит по командировкам мотаться, и вообще надо расти.
Те же аргументы привел и Главный. Добавив, что лично заинтересован иметь такого ответсекретаря, как Виктор Максимович.
Спору нет, аргументация — не отмахнешься. И предложение — весьма заманчивое. Но… работать в непосредственном подчинении у Чеканюка? Такое даже представить себе трудно. И ничего хорошего тут не получится. Чуть что не так — и конфликт похлеще прежнего, непоправимый. А если все же набраться выдержки? Терпеть-то не так уж долго ведь. Зато после…
— Папа, а когда мы с тобой пойдем на лыжах?
— Как только снег плотнее ляжет.
— И мама с нами?
— Непременно.
— А если у нее опять будет воскресник?
— Ну, не на каждой же неделе.
— А ты не уедешь в командировку? Не уезжай.
Не уезжать — значит принять предложение Чеканюка.
— Не уедешь, папа? А? Не уедешь?
Терновой так и не ответил, только на миг ласково прижал к себе головку в смешной шапочке, которую связала Аня. Когда только успела? Принялась было и мужу свитер вязать, да так и оставила на полпути. После того разговора на кухне. В котором никто из них не был виноват.
А виноват был все тот же Чеканюк. Установлено точно. И — после всего! — идти к нему в замы?!
— Ты мне не ответил, папа, — не успокаивался Виталик. — Ты не уедешь? Ты ведь не хочешь уезжать от нас? Скажи!
Вон как вопрос повернут! Новый ракурс. Или — рецидив чего-то старого, давнего, Терновому толком неведомого?
— Никуда я от вас не уеду, сынок. С чего ты взял? Ну, а если в командировку, ненадолго…
— Я не хочу! Ни насколько! Я хочу всегда быть с тобой!
— Мне тоже хочется всегда быть с тобой. И с мамой. Но ведь на работе не всегда делаешь только то, что хочется.
И не скажешь малышу, что больше всего хотелось бы сейчас вообще уйти с этой работы. Хоть на вольные хлеба. «Бросить бревно», как говорил толстяк Пичугин. А между прочим, вполне реально сейчас — перейти в журнал, куда как раз недавно приглашали. Членом редколлегии, возглавить отдел публицистики. Оно и спокойнее (относительно, конечно), и пресловутый рост, опять же. А главное, подальше от источника всех тех сплетен, которые и рад бы забыть, да не забываются… И — поменьше поездок, которые с годами даются все труднее. Заикнулся было главному — тот и слышать не пожелал. Тогда (нашла коса на камень!) написал заявление, но Главный отказался завизировать: пускай райком решает, вы ведь, Виктор Максимович, еще и секретарь нашего партбюро, помимо всего прочего, а лично я категорически против вашего ухода из газеты.
В райкоме же сказали: «Опять заявление?! Что ж, по закону вы вправе уйти, у нас кадры не закрепощаются. Но кроме прав, вы знаете, есть и обязанности, а у членов партии — тем более».
И вопрос остался открытым.
Как же быть? Сидеть меж двух стульев — негоже. Меж двух стульев надо стоять. Но — на чем стоять, вот вопрос…
Солнце пригрело, снежок под ногами перестал скрипеть, начал подтаивать. Мимо провели миниатюрного пуделя — будто из черного каракуля, а быстрые мохнатые лапки — как на колесиках. Игрушка! Песик, натягивая поводок, с любопытством обнюхал Тернового и Виталика. Убедившись, что оба — люди хорошие, послушно последовал за своим хозяином.
— Папа, давай заведем себе такого?
— А гулять с ним по утрам кто будет?
— Я. Буду, вот увидишь! Еще до школы.
— И в школу не опоздаешь? Или с собой на урок приведешь?
Виталик задребезжал было козленком, но тут же призадумался и не вполне уверенно повторил:
— Я буду гулять с ним. И научу ранец носить.
— Пойдем-ка домой, сынок. Мама уже, наверное, пришла и ждет нас.
— Ну, пойдем, — милостиво согласился Виталик и тут же спохватился: — А собачку?
— Подумать надо.
О многом надо было подумать, не только о собачке.
Они вышли из парка, пересекли дорогу и направились в сторону видневшейся отсюда колокольни — к дому. Где ждала их Аня. Он решил посоветоваться с ней, сегодня же. Но перед тем надо было и самому принять какое-то принципиальное решение. Ну, хотя бы проект решения. Вот что предстояло нынче Виктору Максимовичу Терновому.
БРОНЗОВКА
(Сочинение Аркадия Котикова, чудом пробившееся на газетную полосу)
Родилась она от Сплава и Меди. Я назвал ее Бронзовкой.
Она бежала веселой рысью. Но оставалась слева на шкафу, как раз над лежбищем увесистых словарей. Она вся была золотисто-бурой масти, подобно своим братьям и сестрам, водруженным над трибунами ипподрома и на цоколях памятников. В комнате, которую она заняла, неподвижно висел табачный туман, но ее хвост и грива вздымались, будто на резвом степном ветру. Она изогнула сильную, но податливую шею и, кокетливо отвернув интеллигентную морду, нацелила в потолок чуткие уши. Она бежала непринужденно и неутомимо. И все время была видна на том же привычном месте — на книжном шкафу.
А я, не находя себе места, шагал и шагал, то туда, то сюда, вдоль теряющих темно-рыжие клочья краски досок пола. Длинные, прямые и узкие, как беговые дорожки, доски тяжело прогибались подо мной, хотя вес у меня жокейский — меньше шестидесяти. И стекла сотрясаемого моей ходьбой шкафа часто и звонко стучали. Причем трудно было определить, стучат ли это сами стекла или стучат копыта Бронзовки.
Я подошел к шкафу, сдвинул безликое стекло и выдернул из тесноты потускневшую книгу. Раскрыл ее наугад и сразу увидел: не то, что мне нужно. Опять не то… Книга снова заняла свое место в тесном строю. Стекло, шипя от усилия, вернулось в исходное положение. И больше не стучало.
И я больше не шагал по комнате. Я сел к столу, погасил перегоревшую лампу и зажег спичку. Огонь сразу же перебрался на кончик сигареты и, ароматно чадя, неторопливо двинулся ко мне.
Хорошо курить, когда погашен свет. В темноте огонек сигареты чувствует себя самостоятельнее, нужнее. И проку от него больше.
— Конечно! — Бронзовка фыркнула (наверно, от дыма), глаза ее засветились. — Поставь меня где-нибудь на площади, рядом с продавливающим землю памятником, — там ты и не заметишь меня, издали я покажусь тебе не то кошкой, не то комнатной собачкой. И не заметишь, что моя рысь вернее и легче, в то время как мой брат на пьедестале движется подобно мастодонту. А здесь, на шкафу, я для тебя не кошка и не собачка, ты признаешь во мне лошадь. И даже временами любуешься моим экстерьером. Думаешь, я не заметила? Мы, лошади, все чувствуем…
Я улыбнулся, растроганный, подошел к ней и благодарно провел ладонью по металлически-холодной холке. Затем, почему-то успокоившись, вернулся к столу.
Не мешало бы все же включить свет. И закончить одоление двадцатисемилистовой рукописи. Хотя с первых же двух страниц мне все было ясно. Ибо на первой странице «Эльвира в свои юношеские годы росла круглой сиротой», а на второй странице уже «их груди слились, руки сжались в объятьях и лица застыли в поцелуе». Пути к Парнасу неисповедимы!.. Но надо бы заставить себя прочитать все шестьсот сорок восемь с половиной страниц… Дабы аргументированно объяснить старейшему начинающему автору, что Парнас — не для таких самородков, что литература недостойна его самобытных мыслей и неповторимых словосочетаний. И сделать это надобно к среде, так как не позднее пятницы нужно сдать счет. Иначе уже к следующей пятнице мы с Бронзовкой не позволим себе полакомиться овсяным печеньем…
— А повесть-то готова? — спросила Бронзовка, переходя на шаг.
— Мне бы еще недельку поработать, — просительно ответил я, отодвигая чужую рукопись и разметав по столу свои листы. — Видишь? Совсем немного осталось.
— Ну-ка… — Бронзовка потянулась мордой через мое плечо, затем пессимистически наморщила верхнюю губу. — Очень уж мрачно. Никто не пропустит. Забодают!
— Но я сделаю счастливый конец.
— Хеппи энд? Фр-р-р! Никому не понравится. Зарубят!
— Я сумею сделать так, что… Нет! Ни черта я не сумею! Потому что, пока я вынужден читать этого графомана, писать я не могу. Понимаешь? Не могу!
— Но ведь у тебя есть готовый рассказ, — напомнила мне моя милая лошадка, незаметно превращаясь не то в музу, не то в личного секретаря. — Отнеси его в толстый журнал.
— Носил! Они сказали, что для толстого журнала это слишком тонко.
— Отдай в «Вечерний звон». Там быстро печатают и неплохо платят.
— Ни за что! Сам себя не узнаешь после…
— Да, однако, — Бронзовка вздохнула безрадостно и встала, опустив голову, как стреноженная. — Киселем подкову не согнешь.
Она хотела было щипнуть травы, но ее губы нашли лишь горькую пыль, давно покрывшую книжный шкаф.
— Хочется плакать — принимайся ржать, — сказала она.
И заржала тихонечко. И тогда на шкафу, из пыли, утоптанной бронзовыми копытами, поднялась сочная, как свежий огурец, трава. Я поднялся из-за стола и очутился по пояс в этой высокой степной траве. Стены комнаты ушли далеко-далеко, к туманному лесу, за которым виднелись бесконечные шеренги гор. Потолок поднялся неслышно, как аэростат. Раскололся на отдельные куски, как раскалывается плывущая льдина, — и вот уже эти куски, притягивая сигаретный дым и смешиваясь с ним, белыми облаками бесшумно заходили по небу, густо-голубому, как околыши летних фуражек.
Рядом со мной, подняв голову, энергично сбивая хвостом настырных слепней, стояла Бронзовка. Она глядела на меня с нетерпеливым ожиданием, как бы досадуя на мою нерешительность. И я взнуздал ее. И поднял с места в галоп. И мы поднялись высоко и быстро, как на реактивном самолете.
Да, у моей лошади были крылья. Как у Пегаса. Но Пегас — мифический конь. И только мифическому герою Беллерофонту удалось его взнуздать. Но у каждого коня могут вырасти крылья, если всадник поверит в это. Я поверил в то, что Бронзовка может стать крылатой, — и у нее появились крылья.
Я бросил поводья, доверяя своей крылатой лошадке. Она вывезет! Но как только я бросил повод, Бронзовка повернула ко мне умную морду и предупредила:
— На коня надейся — сам не плошай.
— Но куда же нам скакать? — спросил я в замешательстве.
— Скачи туда, где ты нужен.
А где я нужен? Хорошо Бронзовке, она нашла свое место. Именно там, где она нужна. А я? И я увидел, что передо мной — пропасть.
— Перед преградой выше хвост! — крикнула Бронзовка.
Я не понял ее. Я подумал, будто должен заставить ее преодолеть страх и перенести меня через пропасть. Я легонько стегнул ее.
— Непонятого не стегай! — и она обиженно фыркнула. — Дал бы лучше сахару.
Но от великолепного полета у меня уже вскружилась голова. Я вообразил себя Беллерофонтом, укротившим Пегаса. Забыл, как Пегас в конце концов сбросил зазнавшегося Беллерофонта. И я нагло изрек, подражая афоризмам Бронзовки:
— Кому кнут, кому пряник.
И тут же едва не вылетел из седла. Но, кое-как удержавшись, заметил наставительно:
— Брыкать ногами — не значит скакать!
На сей раз Бронзовка решительно сбросила меня. Перед расквашенным своим носом я увидел серую пыль, зеленую траву, оранжевого жука и конец золотого повода. И услышал откуда-то сверху снисходительный голос Бронзовки:
— Вылетев из седла, не упускай повод!
Мне удалось ухватить ускользающий повод, я вцепился в него сначала одной рукой, затем обеими, пытался даже дотянуться до него зубами.
Бронзовка волокла меня по жесткой земле долго и неумолимо. Мне казалось, что я потерял сознание, потому что ободранное лицо и руки уже перестали болеть. Но повода я не упускал!
И наконец я с трудом расслышал — очень плохо было слышно, как бывает, когда уши залиты водой:
— Если ты не встанешь сам, никто за тебя этого не сделает.
И я встал. И тут же сел. За стол. И начал писать.
Когда напишу то, чего другой не напишет, — тогда уж примусь за рукопись графомана…
Скачи туда, где ты нужен! Перед преградой — выше хвост! И если ты не встанешь сам, никто за тебя этого не сделает.
Бронзовка бежит непринужденной рысью. И остается на моем книжном шкафу. Теперь я знаю, у нее могут вырастать крылья. Если я верю в это.
ЭПИЛОГ, ИЛИ СОН ПЕТРА ПИЧУГИНА, РАССКАЗАННЫЙ ИМ САМИМ
А Главный был в моей газете, ничего не скажешь, голова! Главный — голова?.. Тавтология.
И дошел до меня, казака вольного, слух: дескать, уходит Главный из редакции — на повышение. Что ж, повышение — дело доброе. Ежели никакого зла за собой не тащит…
Вслед за тем получаю я конвертик на дом, а в конвертике — приглашеньице. От нового Главного. Извольте, мол, глубокоуважаемый товарищ Пичугин, явиться. То ли с вещами, то ли без оных. И явиться пред ясны очи — кого бы вы думали? Самого товарища Тернового, Виктора Максимыча! Вот ведь кто новым Главным-то оказался. Ну, дела-а!.. Не соскучишься.
Что тут делать, как тут быть? Решил явиться.
Принял меня Виктор Максимович ласково, сам навстречу из-за стола поднялся, ручку пожать изволил, в креслице усадил. И заметил сочувственно:
— Отощал ты, брат, однако. А ведь какой был богатырь! Знать, не сытно на вольных-то хлебах?
— Не хлебом единым, — сказал я.
— Предпочитаешь сухих акрид?
— Волка ноги кормят, — ответил я уклончиво.
— Левой ногой, что ли, пишешь? — хмыкнул он и тут же, напрямик: — А приручить волка?
— Приручить-то можно, говорят. Но, как после ни корми, все в лес будет посматривать.
— А все-таки? Серый волк ведь верно служит?
— Служить бы рад…
— Прислуживаться не придется, это я обещаю. Так что же, подумать надо? Или…
— Под Шилова не пойду, — заявил я со всей возможной твердостью.
— И не надо. В издательство уходит Шилов… Вот и зову — на его место.
— Уж больно лестно, — говорю, подрастерявшись малость. — Поразмыслить бы…
— Даю на размышление двадцать четыре часа. Засекаю время.
Поразмыслив, решил я не ломаться. И, надо сказать, правильно сделал.
В тот день, когда приказ оформляли, посчастливилось мне быть свидетелем весьма редкостного диалога. Между новым Главным и Крошкой Кэт. Эту смазливенькую попрыгушечку он почему-то не выгнал, а — наоборот — из отдела к себе перевел. Тоже на повышение, выходит. Но никаких немытых мыслишек по сему поводу я себе позволить не могу. И другим не советую. Ибо нет для того оснований. И быть не может… Так вот она только что какого-то дедулю не очень вежливо спровадила, а «Эхо» не переключила, забыла. И в кабинете Главного все было слышно, что в предбаннике деется. Я же как раз именно в предбаннике находился, дожидался, когда Крошка приказ отстукает. И вижу: дверь из кабинета — настежь, на пороге — Виктор Максимович, брови грозные, очи гневные. И — задушевно так, как он один умеет:
— Катюша, у вас есть отец?
— Есть. А что?
— Вы его любите?
— Я бабушку люблю! — с таким, знаете, вызовом.
— А кто у вас бабушка?
— Пенсионерка.
— Пенсионерка… Вот придет она, бабушка ваша любимая, в учреждение. В собес, допустим. И там ей нахамит кто-то. До слез обидит! Что бы вы сделали такому человеку?
— Загрызла бы!
— Загрызла… Людоедка вы, Катя, я и не знал. А вас кто загрызет за то, что нахамили старому человеку? Ведь и его, возможно, внуки любят, как вы — свою бабушку. А?
— Извините, пожалуйста, Виктор Максимович, — едва слышно прошелестела Крошка, не поднимая очей.
— Виктор Максимович извинит, ему что… Догоните того старика, он хромой — далеко не ушел. Догоните! Извинитесь перед ним. Не формально, а от души. И так, чтобы расслышал. А то у старых людей слух слабый бывает, слуховой нерв изнашивается от многолетних шумов житейских и прочих… Ну, что вы смотрите? Или тоже слух ослабел, не расслышали? Не теряйте же времени! Это — служебное задание, вернетесь — доложите об исполнении.
Тут, услыхав столь примечательный диалог, я окончательно перестал сомневаться, решил поднять свое заброшенное бревнышко и тащить его добросовестно, сколько потребуется.
Вот ведь какой реалистический сон приснился мне намедни.
Примечания
1
Внутренние рецензии. (Прим. автора.)
(обратно)
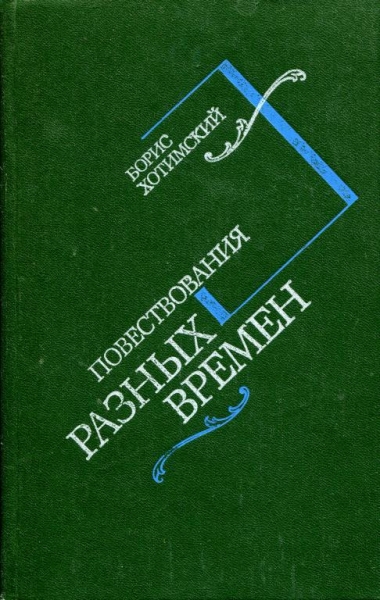



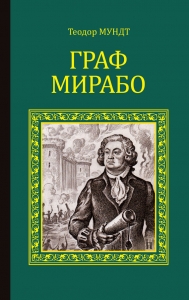
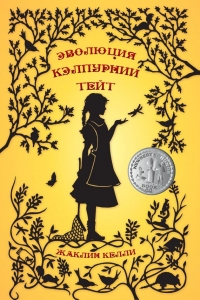

Комментарии к книге «Повествования разных времен», Борис Исаакович Хотимский
Всего 0 комментариев