ТОДОР ХАРМАНДЖИЕВ
СПАРТАК — фракиец из племени медов
РОМАН
"СВЯТ" София
1990
Перевод сделан по изданию: Тодор Харманджиев. Тракиецът от племето меди. Младостта на Спартак
Издателство "Народна младеж". София, 1980.
© Тодор Харманджиев, 1980
© Художник Цвятко Остоич, 1990
© Перевод. Виктор Викторов, 1990 с/о Jusautor, Sofia
СПАРТАК — ЗНАЧИТ СВОБОДА
Древний Рим — это величественное, но безвозвратно ушедшее от нас прошлое. Тем не менее, сознаем мы это или нет, он живет и поныне как одна из главных составных частей духовного фундамента современной цивилизации. Многие понятия и подходы, заложенные в основу политики, культуры, морали и других областей функционирования нашего сегодняшнего мира, уходят своими корнями в глубокую древность и особенно в эпоху Древней Греции и Древнего Рима.
В истории Древнего Рима особо следует выделить I в. до н. э. Это был исключительно динамичный период, исполненный значительных событий. Начав свое существование приблизительно в VIII в. до н. э. как город-государство, Рим постепенно подчинил и объединил вокруг себя весь Апеннинский полуостров. Процесс объединения завершился к середине III в.до н. э. С тех пор началось трудное, но неуклонное самоутверждение Рима как наиболее могущественного государственного образования древности. К I в. до н. э. в его подчинении находились все важнейшие европейские части античного мира (вся Западная Европа, Балканы, Средиземноморье), а также обширные области Северной Африки и Малой Азии. Основным методом завоевательной политики Рима было внесение разногласий между его реальными или потенциальными противниками, их изоляция и разгром поодиночке согласно пресловутому принципу "Разделяй и властвуй!" Присоединенные к Риму огромные территории были поставлены им в сложную систему подчинения — от положения полного бесправия местного населения до различных типов договорных и союзнических отношений, но при гарантированном политическом главенстве Рима. Конечной целью было путем открытого и завуалированного грабежа и политических махинаций обеспечить дальнейшее обогащение Рима. Именно его огромное богатство лежало в основе его исключительной по тем временам военной мощи.
В то же время для внутриполитической обстановки в Риме были характерны социальные столкновения и конфликты. В I в. до н. э. Рим находился в своего рода переходном периоде. Республиканская форма правления почти исчерпала себя и через диктатуры Гая Мария (начало II — конец I в. до н. э.), Корнелия Суллы (83-79 гг. до н. э), Гая Юлия Цезаря (49-44 гг. до н. э.) римское общество уверенно нащупывало путь к установлению единоличной монархической системы правления — империи. Эти трое диктаторов были сильными, одаренными, интересными личностями, но не отличались особой щепетильностью в отношении норм общественной и личной морали. Они были выдающимися полководцами, а Цезаря, не погрешив против истины, можно даже назвать военным гением. Подобными качествами обладали в той или иной степени сподвижники Цезаря по триумвирату и его соперники Гней Помпей Великий и Марк Лициний Красс, а ими далеко не исчерпывается перечень знаменитых государственных и военных деятелей, политиков, ораторов, людей искусства, который оставила нам римская история того драматического периода. В этой плеяде незабываемых личностей особым для нас ореолом окружен образ раба-гладиатора, фракийца из племени медов Спартака.
Говорить о Спартаке значит говорить о рабах или, иными словами, — о свободе.
Для всей истории Рима характерны быстрые перемены, но при исключительной динамике его развития структура его экономической основы — рабовладельческий способ производства — оставалась почти неизменной или развивалась в принципиальном отношении чрезвычайно медленно. Рабы были в Риме самыми бесправными, хотя и наиболее необходимыми существами. Их можно было увидеть повсюду — в поле, на рудниках, в ремесленных мастерских. Они были домашними слугами. Среди них имелись учителя, художники, скульпторы, музыканты, врачи. Их трудом создавалась немалая часть несметных богатств римского общества, на основе которых развивалась духовная культура и военная мощь Рима.
Рабство существовало почти повсеместно еще до становления Рима, так же как и еще долго после его падения. Было ли оно закономерным, необходимым, исторически обоснованным явлением — это вопросы большой науки, и не только исторической. Однако, в рабстве как явлении заключена некая парадоксальность в экономическом, политическом, культурном и морально-психологическом аспектах. По своему статуту рабы были всего лишь одним из видов орудий труда. Согласно древним авторам, они были "говорящими орудиями" в отличие от инструментов и рабочей скотины. Но даром речи наделены те, кто может мыслить и чувствовать, то есть люди. Именно эти человеческие качества раба находились вне контроля его господина, хотя физически раб был в полной зависимости от него. По чисто психологическим причинам раб, как правило, ненавидел своего господина. Неверность — суть его всегдашнего поведения, единственный способ самовыражения; высшая ее степень — бунт. Эта психология рабов была хорошо известна еще в древности, и их настроения часто, и не без успеха, использовались умелыми политиками в своих целях. В условиях непрекращающейся внутренней и внешней борьбы Рима одна или другая враждующая сторона непременно обращалась за помощью к рабам, обещая им освобождение. Так, например, после расправы со своими противниками, Сулла предоставил свободу десяти тысячам рабов, и эти освобожденные рабы, наделенные гражданскими правами и получившие название "корнелии", стали одной из самых надежных опор диктатора в Риме.
Но тот, кто может бороться и умирать за чужое дело, еще с большей убежденностью и самоотверженностью пойдет на это во имя своего собственного освобождения, поэтому бунты и восстания рабов сопутствовали истории Рима с глубокой древности. Некоторые из этих социальных взрывов обладали большой мощностью. Так, рабы, восставшие в 138-132 гг. и в 104-101 гг. до н. э. на острове Сицилия, сделали даже попытку образовать свои царства. Однако, ни одно из восстаний рабов в древности не может сравниться по своей роли и значению с восстанием Спартака.
Восстание под руководством Спартака началось с бунта гладиаторов. Гладиаторы представляли собой категорию рабов, игравших одну из самых унизительных ролей в Древнем Риме. Зрелище умиравших в бою на сцене людей ценилось там очень высоко и устраивалось часто. Этими людьми и были гладиаторы. Они сражались и умирали на больших и малых общественных аренах и даже в частных домах, чтобы доставить удовольствие богатым и бедным римлянам, наслаждавшимся этим жестоким зрелищем. Побеждать или погибать эффектно считалось особым искусством, поэтому гладиаторов обучали в специальных школах. В 74 г. до н. э. в одной из таких школ в городе Капуа был раскрыт заговор гладиаторов. Однако семидесяти человекам удалось убежать и скрыться на горе Везувий. Их предводителем был Спартак.
Согласно сведениям, дошедшим до нас с того времени, у Спартака еще до бунта была богатая биография. Он был наемником в римских легионах, но убежал оттуда — и, вероятно, не в поисках спокойной жизни, ибо позднее оказался в плену у римлян. Как правило, пойманных дезертиров приговаривали к смерти, но, видимо, благодаря прекрасным физическим данным Спартака не казнили, а сделали гладиатором. На этом поприще проявление силы, смелости, умение вести бой для рабов были обычными буднями, так сказать, профессиональной жизнью. Очевидно, у Спартака эти качества намного превышали средний уровень, потому что он не только уцелел, но и получил свободу и стал учителем фехтования в школе в Капуа. Новое его положение было несравненно лучше прежнего. Несмотря на это, Спартак возглавил заговор рабов, что свидетельствует не только о его свободолюбии, но и об остром чувстве социальной справедливости в отношении тех, чью судьбу он недавно разделял.
О том, что Спартак был личностью необыкновенной, можно судить и по высказываниям о нем древних латинских авторов. Для них рабство было обычным явлением, а рабы — презренными существами. Но все они единодушны в оценке бывшего раба-гладиатора. Один из них — Салюстий — называет его "великим силами и тела и души" Другой — Плутарх — пишет следующее: "Спартак, фракиец из племени медов, — человек, не только отличавшийся выдающейся отвагой и физической силой, но по уму и мягкости характера стоявший выше своего положения и вообще более походивший на эллина, чем можно ожидать от человека его племени". Сказанное о личности Спартака, очевидно, отвечает истине, но вряд ли оправдано пренебрежительное отношение к его фракийскому происхождению.
Фракийцы еще со второго тысячелетия до н. э. населяли центральную часть Балканского полуострова приблизительно на территории сегодняшней Болгарии, но и далеко за пределами ее нынешних границ. Они постоянно соприкасались с наиболее значительными европейскими очагами культуры и политического могущества — Грецией, Македонией и Римом, но смогли развить и свою самобытную культуру, отличавшуюся высоким уровнем. Фракия славилась также тем, что была родиной мифического музыканта Орфея. Фракийцам была известна и идея государственного устройства. Среди них возникали, хотя и ненадолго, государственные объединения. В I в. до н. э. Фракия была покорена Римом. То обстоятельство, что именно фракиец возглавил восстание рабов, нельзя считать случайностью. Вероятно, Спартак принадлежал к элите своего племени и имел не только военное образование.
Свое боевое мастерство и находчивость Спартак показал еще в самом начале бунта. К укрепившимся на Везувии гладиаторам быстро стали стекаться рабы из соседних имений. Благодаря возросшей военной силе Спартак сумел отразить атаку посланных из Капуи отрядов. Лишь после этого на борьбу с ним был послан трехтысячный отряд во главе с Гаем Клавдием Глабром. Вот что рассказывает древний автор: "Клавдий осадил их на горе, взобраться на которую можно было только по одной узкой и чрезвычайно крутой тропинке. Единственный этот путь Клавдий приказал стеречь; со всех остальных сторон были отвесные гладкие скалы, густо заросшие сверху диким виноградом. Нарезав подходящих для этого лоз, гладиаторы сплели из них прочные лестницы такой длины, чтобы те могли достать с верхнего края скал до подножия, и затем благополучно спустились все, кроме одного, оставшегося наверху с оружием. Когда прочие оказались внизу, он спустил к ним все оружие и, кончив это дело, благополучно спустился сам. Римляне не заметили того, и гладиаторы, обойдя их с тыла, обратили пораженных неожиданностью врагов в бегство и захватили их лагерь
После этой победы приток беглых рабов к Спартаку увеличился неимоверно. Бунт гладиаторов перерос в мощное восстание. Спартаку удалось сплотить огромную массу рабов и превратить ее в организованную по римскому образцу армию, численность которой колебалась от 60 до 120 тысяч человек. Легионы повстанцев непрестанно одерживали победы, военный гений Спартака был неоспорим. В течение трех лет все более многочисленные войска знаменитых римских полководцев одно за другим терпели поражения. Восставшие рабы испытывали частичные поражения лишь в тех случаях, когда из-за разногласий в руководстве некоторые командиры отделялись со своими войсками от основных сил Спартака. Именно их и настигала гибель.
Спартак дважды пересек в длину почти весь Апеннинский полуостров. Прочтем что говорит об этом древний автор. "Спартак, — пишет он, — стал уже великой и грозной силой, но как здравомыслящий человек ясно понимал, что ему все же не сломить могущество римлян, и повел свое войско к Альпам, рассчитывая перейти через горы и, таким образом, дать каждому возможность вернуться домой — иным во Фракию, другим в Галлию. Но его люди, полагаясь на свою силу и слишком много возомнив о себе, не послушались и стали опустошать Италию". Как мы видим, чтобы вывести рабов из Рима, Спартак сначала направился к Северной Италии и достиг Мутины, где в 72 г. до н. э. снова одержал победу. Путь к Альпам был открыт, но Спартак неожиданно повернул назад. Вероятно, принять такое решение его заставили новые разногласия в руководстве восстанием.
От Мутины Спартак двинулся к Средней Италии, на пути разбивая войска римлян. В Риме первоначальное пренебрежение к восстанию рабов сменилось паникой и страхом за само существование Рима. Таких чувств римляне не испытывали со времени наступления войск Карфагена под руководством легендарного Ганнибала. Но здравомыслие не оставило Спартака. Он знал, что даже если ему удасться взять Рим, многочисленные римские армии, находившиеся в провинциях, в том числе и армия Гнея Помпея, вернулись бы, чтобы его уничтожить. Поэтому Спартак продолжил свой путь на юг Италии. Он договорился с киликийскими пиратами, что они перевезут на своих кораблях его войска на остров Сицилию, но пираты ему изменили.
Тем временем римский сенат назначил главнокомандующим войсками известного и впоследствии Марка Красса, предоставив ему неограниченные полномочия. Красс укрепил дисциплину в римских войсках, не остановившись даже перед древним, давно уже не применявшимся наказанием — децимацией, когда в одной из воинских частей были убиты позорным способом по одному воину из каждого десятка.
В это время Спартак направился к Брундизи (Юго-Восточная Италия). Неизменно руководствуясь мыслью об обеспечении свободы доверившимся ему вчерашним рабам, он намеревался погрузить там свою армию на корабли и перевезти ее в Грецию. Но на пути в Брундизи, в Апулии, его встретили главные силы Красса. Наступил час решительного сражения. Это было в 71 г. до н. э. Древний автор описывает эту битву кратко, но выразительно: "Перед началом боя ему (Спартаку) подвели коня, но он выхватил меч и убил его, говоря, что в случае победы получит много хороших коней от врагов, а в случае поражения не будет нуждаться и в своем. С этими словами он устремился на самого Красса; ни вражеское оружие, ни раны не могли его остановить, и все же к Крассу он не пробился и лишь убил двух столкнувшихся с ним центурионов. Наконец, покинутый своими соратниками, бежавшими с поля битвы, окруженный врагами, он пал под их ударами, не отступая ни на шаг и сражаясь до конца".
После гибели Спартака его армия распалась. Войска Красса и возвратившегося из Испании Помпея подвергли беспощадному истреблению остатки повстанческих частей. Были схвачены около шести тысяч беглых рабов, и все они были распяты вдоль дороги, ведущей из Капуа к Риму. Так, распятие, еще до того как стать эмблемой христианской религии, стало уделом шести тысяч человек, боровшихся за свободу.
Оценка этого самого крупного восстания рабов в древности многозначна. Восстание Спартака имело огромное значение и непосредственно в тот период времени, и в более далеком будущем, и в рамках античной истории, и в истории человечества вообще. В любом случае рассуждения о том, мог ли Спартак завладеть Римом или нет, не представляют серьезной ценности. Все действия Спартака свидетельствуют о том, что он прекрасно сознавал, что Рим не может быть сокрушен. Спартак не ставил своей целью и создание государства бывших рабов, опирающееся на новые формы угнетения, не желал и для себя титула царя, как бывало во время других восстаний рабов. Его главной заботой было вернуть свободу рабам, находившимся под его руководством.
Свобода — вот ключевой момент для понимания природы этого восстания. Именно люди, охваченные стремлением к свободе, могли потрясти самое могучее государство и сознание его граждан в один из наиболее цветущих периодов его развития. Это не были в состоянии сделать ни внешние враги, ни внутренние властолюбцы, обладавшие несравненно большими возможностями в военном отношении. И еще. Стремление к свободе — самая сокровенная мечта, постоянная основа и двигатель истории человечества. Свобода — высочайшая и вечная человеческая ценность. Поэтому имя и дело Спартака были и будут одним из самых ярких ее символов в борьбе против рабства и тирании.
Стойчо Грынчаров
Спартак — фракиец из племени медов
1.
Светало. Редкая летняя дымка курчавилась над зелеными берегами Стримона, над густым ивняком, поднимавшимся как будто прямо из воды. В имении Метока, находившемся недалеко от реки, — и в доме, и в помещениях для слуг, и в просторном дворе с постройками для скота работа шла уже полным ходом.
Конюхи, которые вывели лошадей из конюшен, гребнями расчесывали свалявшиеся на конских животах космы, щетками счищали пыль со спин, пока они не начинали лосниться на солнце.
Овчар с рыжеватыми встрепанными волосами, стоя возле узкого выхода из кошары, пропускал овец — по одной. Дояр, сидя на трехногой деревянной табуретке, подтаскивал каждую овцу к себе и ставил над ведром с надоенным молоком. Загребая ладонью немного молока, он быстро смачивал овечьи соски, чтобы откупорить отверстия в них, и выдаивал полное вымя. После этого легонько подталкивал овцу и протягивал руку к следующей. Овцы постепенно собирались на огороженной плетнем круглой площадке, где овчары оставляли их, дожидаясь, пока не высохнет роса на ближнем выгоне.
Козопасам предстоял более долгий путь к пологим холмам, поросшим высоким кустарником. Там козы, стоя на задних ногах, передними, словно руками, легко наклоняли ветки и губами срывали с них сочную листву, оставляя голые прутья. Когда они спускались на землю, на их шеях позвякивали звоночки.
Скотники деревянными вилами собирали и выбрасывали из хлевов солому, служившую подстилкой для скота. Вечером она была чистой и сухой, а к утру становилась влажной и красноваторжавой, ее относили и складывали в дымящиеся кучи.
Козье стадо давно скрылось за лесистыми холмами.
Под крышей дома было несколько гнезд ласточек. Временами оттуда доносилось радостное щебетанье птенцов, как раз в тот момент, когда взрослые ласточки возвращались с полными клювами.
Спартак, сын Метока, проснувшись, слушал птичий щебет, как бывало в детстве. Потом, стряхнув остатки сна, вспомнил, что только вчера он вернулся домой из тех мест, где несколько лет учился. В честь его приезда в городском доме отца было устроено веселое пиршество. А под вечер, оседлав одного из отцовских коней, Спартак поскакал в имение. Дед Спарадок допоздна не отпускал внука.
Открыв глаза и глянув на освещенный солнцем верхний угол противоположной стены, юноша понял, что уже довольно поздно. Он сбросил покрывало и проворно спрыгнул с постели, как привык это делать в годы детства и ученичества. Вышел на террасу, оперся о деревянные перила. Утренний ветерок легко играл огненно-золотистыми прядями его волос, спадавших почти до плеч. Пробивавшийся на верхней губе и щеках нежный пушок делал розовую кожу более темной, сообщая красивому, одухотворенному лицу затаенную мужественность.
Все здесь было ему знакомо. И сейчас он радовался, что перед ним снова родные просторы. Взгляд его синих глаз становился то задумчивым, когда он вспоминал прошедшие годы, то радостным, когда он смотрел на то, что его сейчас окружало. Фруктовые деревья в неглубоких лощинках согнули почти до земли отяжелевшие ветви, на которых плодов было больше, чем листьев. Выше, на открытых склонах, лоза прятала в пышно разросшейся листве еще незрелые виноградные грозди.
Все способное рождать, радовало изобилием.
На холмах, в долинах — всюду совершалось таинство созревания. Пологий склон доходил внизу до самого Стримона с его широкими излучинами. Высокие деревья по обоим берегам реки бросали тень на спокойные воды, и они казались местами зелеными, местами синими. Дальше река текла между просторными заливными лугами, поблескивая на солнце. За лугами, у подножия невысоких холмов, простирались темно-зеленые густые леса. А за лесами синели горы, затуманенные знойным маревом.
Глядя вокруг, Спартак как бы вбирал в себя всю эту красоту, открывавшуюся взору.
Вернувшись в комнату, он быстро оделся и спустился по каменной лестнице во дворе.
Светлый хитон из легкой шерстяной ткани легко спадал почти до бедер, обнажая правое плечо и руку. Перехваченный в талии узкой полоской более темной материи, он подчеркивал статность юноши, который недавно вышел из отроческого возраста и уже вступил в пору истинного возмужания.
Спартак направился к летней кухне.
Служанка, которая занималась приготовлением завтрака, поспешила поднять кувшин холодной воды, чтобы полить ему на руки. Но он приветливо кивнул ей, взял кувшин и отошел к ветвистой старой лозе. С удовольствием плеснул себе в лицо и повернул к хлеву. Оттуда вышла пожилая женщина с полным ведром молока. Еще мальчиком Спартак знал, что она умела надоить от любой коровы больше молока, чем другие доярки, могла расположить к себе самое упрямое животное. Увидев юношу, женщина остановилась на пороге и улыбнулась ему той самой улыбкой, которую он помнил с детства. Он подошел к ней, поклонился и заглянул в ведро с только что надоенным молоком. Чистейшая белая кипень поднималась, образуя что-то вроде купола. Женщина захватила немного пены указательным и большим пальцем и нарисовала на лбу юноши какой-то знак, как делала это, когда он был совсем маленьким и она по утрам встречала его у хлева с полным ведром.
Он наклонился, взял у нее ведро и досыта напился.
Потом двинулся дальше. Ни одна из собак не залаяла на него. Самая старая подбежала к нему и стала ласкаться, показывая остальным, что это — свой. Да они и без того уже видели, что вчера он вошел во двор не так, как входят чужие.
У навеса, где стояли телеги, пожилой работник тесал спицы, а рядом на стержне вращалось деревянное колесо; обод его был уже собран из нескольких дуг, но еще не стянут.
За домом, в приземистом открытом помещении старая работница расчесывала гребнем шерсть, а рядом с ней другая, совсем юная, ткала. Спартак, не останавливаясь, только чуть замедлив шаг, наблюдал издали, как она ткет. Она тоже, не прекращая работать, краешком глаза поглядывала на юношу.
С задней стороны кухни, под навесом, пожилой мужчина снимал шкуру с заколотого молодого барашка, который висел на крюке вниз головой. Другой рубил дрова на колоде возле амбара с пшеницей. Третий переносил на плече балки, укладывая их у стенки сарая.
Пестрый теленок выбежал из хлева, смешно подбрасывая задние ноги. Под одно из стропил хлева был поставлен чан для сбора дождевой воды.
Спартак шел босиком, и ему приятно было чувствовать под ногами слегка нагретую сыроватую землю.
За длинным амбаром терся спиной о ствол яблони-скороспелки грязный поросенок. Раньше времени созревшие червивые плоды мягко шлепались на землю. Поросенок тут же съел все свалившиеся яблоки, потом порылся пятачком в том месте, где они упали, и, ничего не найдя, медленно отправился к свалке. Там потревожил стайку воробьев, которые сновали по выброшенному из хлева дымящемуся конскому навозу и выбирали из него ячменные зернышки. Поросенок не собирался никому мешать, но своим приближением отогнал их на время. Впрочем, на широком дворе было еще чем поживиться и не только воробьям. Чуть поодаль, в куче прошлогодней соломы рылись куры. Они разбрасывали солому ногами, выклевывая из нее все то, что находили съедобным. Одна из собак налетела на них, они разбежались в стороны и тут же собрались снова, как только собака умчалась.
Спартак вышел со двора и пошел по недавно скошенному лугу. Кое-где пробивалась молодая трава. Он шел медленно, походкой молодого аиста, делая то длинные, то короткие шаги — стараясь ступать туда, где травы было побольше, и она была шелковистомягкая — в других местах темнели кротовые или муравьиные насыпи и осиные гнезда; трава там была более жесткой, и даже колола босые ступни. А ноги у Спартака были изнежены: в школе он отвык ходить босиком.
Навстречу ему шел дед Спарадок. Он возвращался с лесной поляны, куда отправился еще до восхода солнца. Ступал он медленно, держа в правой руке палку. На локте левой руки качалась корзина, по-видимому, не очень тяжелая. Подойдя поближе, дед шевельнул локтем и улыбнулся:
— Вот, набрал дикого лука. Он придаст барашку приятный вкус. Добавим к нему и других приправ. А сейчас пойдем перекусим.
Пока они ели, в большой яме позади кухни, где жгли дрова, набралось уже много раскаленного жара; уголья были величиной с крупный орех.
Старик мелко порезал лук, перемешал вместе с другими травами и нарубленными внутренностями ягненка, посолил это крошево и начинил им баранью тушку. Потом обернул ее еще влажной шкурой. Разрыл кострище в яме, обложил барашка со всех сторон сначала самыми крупными, а потом более мелкими угольями, а сверху тщательно засыпал горячей золой. Потом обернулся к Спартаку:
— Сейчас пусть барашек печется, а мы с тобой можем заняться своими делами. Что ты собираешься делать?
— Да ничего особенного... Хочу побродить по рощам вокруг Стримона. Посмотрю на места, где когда-то ходил с пастухами, помогал им собирать разбежавшихся коз.
Спарадок шутливо заметил:
— Смотри, не заблудись. Ты же давненько здесь не был... Да помогут тебе добрые боги!
Солнце уже начало понемножку припекать, когда Спартак вышел со двора через деревянные воротца, от которых начиналась тропинка, ведущая к реке. Она вилась через виноградник, потом спускалась к лощинке с фруктовыми деревьями к долине Стримона. Там, в низине, по берегам реки молодо зеленел ивняк.
2.
Нет, он не забыл тропинок своего детства. Он спустился через лес к реке, потом поднялся на поросший густыми рощами склон. Словно и не прошло столько времени с тех пор, как он бродил здесь с козьими стадами. Он любил тогда отдаляться от пастухов, пропадал в лесных чащобах, но всегда знал, как найти дорогу обратно. Потому что там, где были пастухи, были и козы с звоночками.
Но на этот раз он увлекся и зашел по ту сторону больших лесистых холмов, где никогда не бывал раньше, потому что стада туда не заходили.
Он долго шел через густой лес, под развесистыми арками — кронами дубов. То тут, то там стали появляться просветы, сквозь которые виднелось синее небо. Еще немного — и лес кончится. Дорожка неожиданно устремилась вниз по обрывистому склону, петляя среди густого кустарника. За крутым поворотом неожиданно открылась небольшая тенистая полянка, поросшая высокой травой.
Спартак увидел под огромным дубом чешму[1] из белого камня. Перед чешмой спиной к Спартаку стояла тоненькая девушка. Очевидно, она только что пришла: ставила пустой кувшин на выложенное ровными плитками днище чешмы. Сверху, из деревянной трубочки струилась вода, стекавшая в каменное корытце. Из корытца по желобку вода лилась в тонкий ручеек, бегущий в лощинку.
Услышав шаги Спартака, девушка обернулась и бросила на него быстрый взгляд. Ее глаза показались ему сине-зелеными — может быть потому, что в них отразились и небо, и зелень деревьев, плотно обступивших полянку.
Если бы Спартак заметил девушку издалека, он бы смутился, что находится рядом с незнакомкой в таком уединенном лесном уголке. Но сейчас, когда он совершенно неожиданно оказался в трех-четырех шагах от нее, у него уже не было времени думать, как поступить.
— Что ты тут делаешь? — спросил он полушутя, полувсерьез, хотя этого можно было и не спрашивать.
Девушка, отставив в сторону кувшин, снова повернулась к нему, чтобы разглядеть его получше:
— Разве ты не видишь — я пришла за водой.
На ее лице не было ни тени смущения, потому что она сказала чистейшую правду. Если бы она хотела хоть немного схитрить, ей не удалось бы скрыть неловкость перед незнакомым юношей, который неведомо откуда появился здесь.
Спартак подошел поближе.
— Позволь, я помогу тебе.
Он взял кувшин и подставил его под струю воды.
Наступило молчание. Еще чуть-чуть, и оно стало бы неловким. Девушка нашлась первая.
— Я тебя прежде не видела.
— Я никогда не приходил сюда.
— А сейчас зачем пришел?
— Посмотреть на девушку, красивее которой я нигде не встречал.
Он сказал больше, чем можно было сказать незнакомой девушке, но туг же понял, что не сделал ничего плохого. Потому что девушка спокойно, даже с каким-то веселым вызовом ответила:
— Ну тогда... смотри.
Приглушенно журчала вода, обливая стенки кувшина и не попадая в горлышко. Спартак поправил кувшин и ответил, подхватывая шутку:
— Подожди, налью воды, и тогда нагляжусь.
Он посмотрел на девушку. Его вдруг пронзила сладкая дрожь. Запинаясь, он проговорил:
— Ещё немного, и кувшин наполнится.
Он мог отставить кувшин в сторону, но предпочел подать ей в руки. И оказался лицом к лицу с девушкой, близко-близко.
Глядя ей прямо в глаза, он сказал:
— Позволь мне проводить тебя.
Она опустила голову:
— Я тебя не знаю.
— Это верно. Я в первый раз пришел сюда. Но мы ведь можем познакомиться. Как тебя зовут?
— Родопида.
— Так я и буду звать тебя. А как зовут твоего отца?
— Реметалк.
— Реметалк?.. Богатый Реметалк... о котором говорят, что у него много виноградников, много садов... и хорошие кони.
Она потупила взор, и глаза ее из темно-синих стали светло-зелеными.
— Разве в вашем доме не служанки носят воду?
— Они сейчас ткут.
Он поднял руку, словно собираясь произнести заклинание или приветствие, и вымолвил полушутя, полуторжественно:
— Хвала добрым богам, что ваши служанки сегодня ткут, иначе я бы не встретил благородную красавицу, пришедшую к чешме за водой.
Он смотрел на нее, улыбаясь. Она выдержала его взгляд и спросила, не столько из любопытства, сколько, чтобы подзадорить его:
— А ты что тут ищешь?
Он подошел совсем близко к ней:
— Сам того не ведая, я нашел то, что можно найти только случайно. Значит, так мне на роду написано. Увидев тебя, я могу сказать, что не напрасно плутал здесь. Видно, мне было суждено прийти к этому источнику.
Она опустила глаза.
— Зачем ты так шутишь со мной?
— А разве не верно, что я нашел тут тебя?
Она попыталась сделать вид, что ей безразличны его намеки.
— Как ты меня нашел, так и потеряешь, когда я уйду отсюда.
Взгляд его сделался задумчивым, хотя он постарался выглядеть по-прежнему беззаботно-веселым:
— Ты уйдешь, но я тебя не потеряю. Потому что буду думать о тебе. А ты разве не будешь думать обо мне?
— Зачем?
— Ну... мы ведь теперь знакомы.
Она хотела взять кувшин, но он быстро подхватил его и пошел впереди, предоставив ей следовать за ним.
Ветви кустарников касались его лица, и от этого ему казалось, что его ласкают чьи-то невидимые руки.
Вскоре они вышли на узкую каменистую тропку.
Она остановилась.
— Там наверху наш дом.
— Я не вижу его.
— Он за этими вязами.
Спартак не знал, что ответить. Как будто между ними возникла вдруг какая-то пустота. Надо было расставаться. Она сказала:
— Я должна идти.
Он вздрогнул:
— Докуда тебе донести кувшин?
— Поставь его здесь.
Он помедлил.
— Побудем еще немного вместе.
— Нельзя. Сверху нас могут увидеть.
— А ты не хочешь?
— Не надо.
Он опустил кувшин и повернулся к ней:
— Дай мне руку.
И не дожидаясь, взял ее за руку.
— Вот мы еще лучше знакомы. И будем встречаться.
Взгляд ее затуманился, губы задрожали, сжались и словно стали тоньше.
Спартак продолжал:
— Ведь это хорошо, если мы будем встречаться?
В ее ответном взгляде были и тревога, и успокоение, и затаенность, и откровение, и застенчивость, и преданность... И она засмеялась — нервно, несдержанно, хотя и приглушенно. Он, как будто того и ждал, — ответил ей тем же. Но за этим внезапным смехом они не старались скрыть вспыхнувшее чувство друг к другу.
Она смолкла первая, не отнимая руки. Их взволнованная жизнерадостность сменилась таинством спокойной взаимности. Для них открылась сокровенность переживаний, которые возникают у девушки и юноши, когда они вдруг встречаются друг с другом и понимают, что любят и любимы.
За поворотом послышался топот копыт. Родопида вздрогнула:
— Это наши слуги, ведут коней на водопой.
Она заторопилась.
Спартак сжал кисть ее руки:
— Ты боишься, что нас увидят вместе?.. Увидят, что мы говорим друг с другом?..
— А ты хочешь, чтобы они сказали моему отцу, что видели меня с чужим человеком?..
— А если твой отец узнает об этом, он тебя накажет?
— Лучше, если он ничего не узнает.
Спартак легонько притянул девушку к себе. Она попыталась высвободиться из его рук, но поняла, что не сможет, и строго глянула на него;
— Отпусти меня!
Он перестал ее удерживать:
— Но завтра в это же время ты придешь сюда, ладно? Я буду ждать тебя.
Сверху на каменной дорожке показался конюх, который вел на поводу коня. За ним шли кони без недоуздков, а сзади — второй конюх вел еще нескольких коней.
Родопида подняла кувшин и, не оглядываясь, быстро зашагала в гору.
Первый конюх пропустил ее, подошел к Спартаку и внимательно оглядел его:
— Ты как сюда попал?
— Не твое это дело расспрашивать меня.
— А твое дело шататься по чужим местам? Проваливай отсюда, коням мешаешь.
— Уж больно худые твои кони. Ходишь за ними плохо или овса жалеешь.
Конюх разозлился:
— Ты мне не господин, чтобы указывать, как за ними смотреть.
— Я не указываю, а говорю только, что кони худые.
Подошел второй конюх. С неприязнью посмотрел на Спартака. Потом спросил первого:
— Что он тебе сказал?
— Говорит, что кони наши худые.
Второй обернулся к Спартаку:
— Ты смеешься над нами! Видно хочешь, чтобы тебя отдубасили. Тогда не будешь так говорить о конях Реметалка.
— А не хотите ли сначала посмотреть, как я оттаскаю их за хвосты, словно овец, и уложу у вас на глазах?
Конюх рассмеялся:
— Первый же конь швырнет тебя на землю, и ты выплюнешь зубы, чтобы не болтать чепухи.
Спартак глянул на него насмешливо, подошел к коням и остановился позади самого упитанного. Потом схватил за хвост, намотал его на руку, выставил вперед правую ногу, а левой крепко уперся в землю и дернул коня за хвост. Конь лягнул с такой силой, что Спартак неминуемо выплюнул бы все зубы, если бы не откинулся назад, насколько это было возможно. Не дожидаясь, когда конь повторит свой удар, Спартак дернул его за хвост и так крутанул, что тот отлетел в сторону и повалился на правый бок. Отпрыгнув влево, Спартак еще раз дернул коня за хвост и перевернул его на левый бок. Испуганное животное быстро вскочило на ноги и встало как вкопанное, чуть подрагивая.
Конюхи в полной растерянности вытаращили глаза.
Спартак поддразнил первого:
— Ну что скажешь? Может, еще попробовать? Вон сколько у тебя коней.
Слуга быстро поднял руку, чтобы предотвратить новую попытку:
— Ну, раз ты этого одолел... самого сильного... Ты, наверно, конюх у кого-нибудь из здешних хозяев? Видно, что знаешь толк в лошадях.
— Да, с тех пор как родился, только тем и занимаюсь, что коней за хвосты таскаю и укладываю.
Нельзя было понять, правду он говорит или издевается над конюхами. А потом, чтобы показать, что не хочет больше с ними разговаривать, повернулся и не спеша пошел прочь.
На обратном пути Спартак шел сквозь густой незнакомый лес, которому, казалось, не было конца. Лес шептал ему что-то, чего никто другой не мог слышать, потому что эти слова предназначались одному Спартаку. В нем вдруг пробудилась какая-то великая сила, которая, как он чувствовал, поможет ему достичь всего, чего он пожелает. Сделать такое доброе дело, которому он сам будет радоваться, а другие — удивляться.
Впервые в жизни он испытывал чувство к девушке. Про себя обещал отдать ей все, что имеет, все, что может принести ей радость, все, что сделает мир краше.
Неожиданно для себя он открыл, что есть на свете необыкновенная девушка. Он успел узнать ее еще прежде, чем увидел. А сейчас ему посчастливилось ее встретить, и он понял, что давно уже искал именно ее.
Родопида пришла к нему из какой-то прекрасной неизвестности, в которой жила до сегодняшнего дня в этом незнакомом лесу, у белокаменной чешмы.
Через синие оконца в листве деревьев, в которые виднелось небо, врывались солнечные пчелы с прозрачными, как живое золото, крылышками. Лес был полон зеленой прохлады, тенистых тайн. Лесная тишина обволакивала Спартака, шепот листьев успокаивал его.
3.
Развязав сандалии, Спартак сидел под навесом летней кухни. Дед Спарадок успел заметить его, когда он входил через воротца. Медленно подошел к внуку:
— Ты задержался, однако... Ну да ладно, сейчас угощу тебя на славу. Ты, наверно, здорово устал и проголодался... Далеко ходил?
— По ту сторону реки, за большие холмы.
— Ого! Туда да обратно — дорога длинная... Но... для твоих лет это ничего.
— Красивы наши места. Идешь себе, идешь, и все дальше тянет...
Старик вздохнул:
— И я походил в свое время... а теперь уж не могу, как прежде... Хорошо хоть усадьбу еще обхожу. И радуюсь тому, что вижу. Виноградники у нас, сады замечательные! Полям конца-края нет! Луга широки, трава, как шелк! Леса — любо-дорого смотреть, а уж бродить по ним — сам знаешь, каково! И дичи сколько хочешь, и какой хочешь. И рыбы в реке — хоть решетом загребай. Весной, когда она икру метать идет — кишмя кишит, вода в реке поднимается.
— Помню в детстве: пойдем со слугами, наберем голыми руками полные корзины рыбы, да на спину. Принесем домой, она еще живая. Самые верхние хвостами бьют, плавниками шевелят.
— Верно! Ты любил со слугами время проводить. Отец тебя не пускает, а ты всегда найдешь способ удрать. И я сколько раз его обманывал, когда он о тебе спрашивал... Ну да что это мы с тобой разболтались... Давай лучше барашком займемся...
Старик разрыл кочергой золу на кострище, вытащил барашка, положил на большой противень. Стряхнул золу с подгоревшей шкуры, разорвал ее на куски и отшвырнул в сторону.
— Это — собакам.
Перекинул барашка на другой, чистый противень:
— Отнеси его в трапезную, поставь на стол, пусть остынет немного, горячий очень. Достань расписные кубки. Я схожу в погреб за вином.
Вскоре он вернулся с высоким кувшином, поставил его рядом с противнем:
— Это самое лучшее. Откупорил бочонок этим утром. Он — с той поры, как ты учиться ушел... Для тебя хранил.
Старик засучил рукава, разрезал барашка на куски. От начинки и нарезанного, хорошо пропеченного мяса шел пар.
— Вкусно пахнет, — подмигнул старик. — Еще умаемся с тобой, пока с ним расправимся. Но прежде попробуем винцо — пока есть не начали. Потому как при хорошей пище и кислятина за вино сойти может. Знаешь, пословица такая есть: "На девушку смотрят, пока она не умылась, вино пьют на пустой желудок".
Наполнили кубки. Отпили немного.
— Ну, что скажешь?
Старик ожидал похвалы. Спартак знал это, но сказал сдержанно:
— Недурно.
Дед понял, что он шутит, но притворился обиженным:
— А разве может быть дурно? — Помолчал и кротко добавил: — А сейчас давай отведаем барашка.
Отщипнул ломоть хлеба, взял кусок мяса, съел и облизал пальцы.
Спартак последовал его примеру.
Ели молча. Только протягивали руки к противню.
Старик, у которого не было верхних зубов, предпочитал куски с нежным жиром — такое мясо легче глотать. Он брал кусок двумя руками, с наслаждением надкусывал и долго жевал. Время от времени украдкой поглядывал на своего сотрапезника, и этого было достаточно, чтобы не спрашивать, нравится ли тому еда. Перед тем, как снова протянуть руку к противню, быстро вытирал пальцами усы и бороду и тихо вздыхал от удовольствия.
В конце концов не выдержал и спросил внука:
— Ну, каково?..
Спартак поднял руки, словно хотел сказать, что пора остановиться, потому что если слишком увлечься, неизвестно до чего можно дойти.
— Твой барашек с ума может свести. В таких случаях не знаешь, чем это может кончиться.
Старик добродушно подмигнул:
— Такого барашка можно и в глиняной посудине печь. Тоже вкусно будет. Но так, как я сделал — куда лучше, а?
— Да, ты прав.
— А знаешь почему?
— Потому что на жару он лучше тушится.
Правильный ответ понравился Спарадоку, но он сказал:
— Но не только поэтому.
Он хотел еще что-то сказать, но Спартак перебил его:
— И еще... потому что... когда барашек в собственной шкуре, он... печется медленнее, и становится нежнее.
— Верно, но чтобы мясо стало вкусным, должно быть еще кое-что.
— Хорошо пропеченное, оно сохраняет при этом и всю свою сочность.
Старик был удивлен такими познаниями внука:
— Правильно!
И спросил:
— А почему мясо сохраняет сочность?
— Потому что из него ничто не испаряется, и оно не высыхает.
— Верно! А лучше всего это может оценить человек, который, вроде меня, остался без верхних зубов.
— Это может оценить и тот, у кого есть верхние зубы!
— Мне еще мой дед говорил когда-то, что барашек или козленок, когда его завернешь в собственную шкуру и посыпешь мелким жаром, печется сам по себе.
— А мне никто не говорил, но я это знаю, — признался Спартак.
— Ну?! Откуда же?
— Я видел, как готовят овчары и козопасы.
— Ну?!
— А иногда я и сам помогал им в этой работе, так вот до всего и дошел.
Удивленный услышанным, старик смотрел на него во все глаза.
Спартак продолжал объяснять:
— Если не приложишь к чему-либо рук, не будешь знать, как это делается. Я это от тебя самого не однажды слышал.
— Именно так!
— А какие пиры мы устраивали с козопасами и с овчарами! И сколько раз я возвращался вечером домой, наевшись до отвала, а ты удивлялся, почему я не хочу ужинать...
Старик провел ладонью по лбу:
— Значит, все эти россказни про волков, которые уносят ягнят или режут козлят — ваши выдумки?
Спартак опустил глаза, молча признавая свою прежнюю вину:
— Надо же было как-то оправдаться перед тобой за пропажу, когда ты замечал, что в стаде не хватает ягненка или козленка.
Старик передернул плечом — от запоздалого сожаления за тогдашнюю свою недогадливость:
— Ну и разбойники!
Спартак улыбнулся:
— Все же ты видел от нас и хорошее. Разве мы не набрали волчьих шкур на шубу, которую ты сшил себе, перед тем как я ушел учиться!.. Согревала же она тебя зимой!
— Верно! Еще как согревала. Вот я и думал, что вам пришлось повозиться с этими волками...
— Не так уж трудно было. Мы их ловили капканами, и ямы рыли тоже. Ну, известное дело — иногда и в бой с ними приходилось вступать.
— Ты мне как-то рассказывал, что однажды палкой перебил волку передние ноги, а овчар прибежал и добил его.
— Было такое.
— И правда, что вы однажды вырвали из волчьей пасти ягненка, когда волк почти удушил его?
— И это правда. Волка мы тогда упустили, но ягненка все равно пришлось съесть — волк уже успел перегрызть ему горло. А с одним матерым волком мне пришлось здорово повозиться. Я совал ему в пасть палку и отшвыривал его, он отскакивал и тут же бросался на меня, не давая мне времени замахнуться для нового удара. Наконец мне удалось перевернуть его на спину и треснуть палкой по животу, а потом — по морде.,. И еще несколько раз пришлось ударить — ты ведь знаешь, волки легко не умирают.
4.
Летняя ночь была так тиха, что, казалось, можно было услышать, как месяц плывет по небу, вспарывая небесное полотно.
Спартак и его дед Спарадок сидели на террасе.
Спартак, задумчиво наклонив голову, слушал рассказ старика. И смотрел на далекие силуэты светлеющих горных вершин, на прибрежные склоны, на долины, куда лунный свет словно бы стекал с небес, растворяясь в темных лесных зарослях.
— Нимф больше всего бывает летом, в такие ночи, как эта, — продолжал Спарадок. — Они выходят из лесов и стараются подойти поближе к людям. И все ищут одиночек. Тогда им легко сделать с человеком все, что захотят. Могут заманить тебя в чащу, откуда и дороги назад не найдешь. А повернешь обратно — и они за тобой, и снова тебя завлекают. Я это все от деда знаю, он мне рассказывал. Но когда тебе другой рассказывает, можешь подумать, что тут что-то приукрашено. А я сам это испытал. Ночь была — вот как сейчас. Запряг я коня и поехал вниз, на ту сторону Стримона, по торговым делам, один день пути отсюда. Дело как дело... торговали мы торговали, спорили-спорили, ели, пили... Угощали меня хорошо... А потом говорят: "Тебе далеко до дому, застанет тебя темень в дороге, останься лучше переночевать". А я не слушаю... "Поеду, — отвечаю, — договорились мы назавтра с одним купцом встретиться, он меня ждать будет, не приеду — подумает, что его обманываю". И поехал. Но посколько ел-пил больше меры, да еще телега укачивала, начал я подремывать, А конь дорогу знает, умная скотина, сам идет без всякой указки. Привязал я поводья к повозке, лег на спину и решил выспаться, пока до дому доберемся. Вдруг меня словно подбросило. Проснулся я, смотрю — конь стоит на спуске. Уперся передними ногами в самую кромку берега, еще немного — и сползет в воду вместе с повозкой и со мной. А внизу — глубоко, и месяц — со дна светит, будто в реку упал. Что тут будешь делать! Слез я с повозки. Молодой был, сильный. "Стой, — говорю коню — словно он меня понимает, — сейчас я помогу тебе". Не знаю, понял он меня или просто умный был. Схватился я двумя руками за дрогу[2] и говорю: "Давай, назад!" Пошло у нас на лад, выбрались на более пологое место, тут мой конь как ударит задом повозку! Едва меня не повалил! Но я на него не рассердился. Даже сказал ему: "Богатырь!" и погладил по шее. Вывел его на дорогу, вскочил на повозку и поехали мы дальше. И опять стало клонить меня в сон, лег я на дно и пустил коня. И через какое-то время проснулся. И все повторилось снова — еще немного и сползли бы мы в воду с обрывистого берега. Только на этот раз конь крепче упирался передними ногами, и мы легко вытащили повозку. Снова тронулись в путь, и в третий раз то же самое... И тогда я сказал себе: "Довольно спать. А то неровен час — и в воду свалишься". Глазом не моргнул, пока петухи не пропели. И с дороги мы больше ни разу не сбились. Не поверишь, трижды могли утонуть с конем вместе... Да, бывают такие чудные ночи... Ведет тебя что-то не туда, куда надо, на погибель ведет. Но есть и добрая сила — охраняет тебя, чтобы не пропал. А добрая сила сильнее лихой, всегда приходит на помощь, когда уж совсем невмоготу.
Старик помолчал немного и продолжил:
— Еще об одном чуде расскажу тебе. Сам не видел, но дед мой о нем рассказывал — а это все равно, что я видел сам. Подняло его однажды среди ночи. Почудилось ему, какие-то звоночки тренькают, будто целое стадо в кошаре топчется. Встал, прислушался — тихо. Но что-то его словно толкнуло выйти. Открыл дверь, поглядел — вся кошара изнутри светится, точно луна туда зашла. Подошел он к кошаре, глядь — а все овцы в круг собрались, стоят, как собаки, на задних ногах. Посередине — большой костер, и в нем красивая девушка, волосы у нее до пят спускаются... вся так сверкает... а рядом с ней волк, пасть разинул, язык высунул и дышит тяжело, как усталая собака, пробегавшая целый день, и тоже на задние лапы встал и не шевелится, только бока вздымаются и опадают, как мехи...
Спарадок передохнул и неторопливо заговорил снова:
— Когда я был молод, как ты, я тоже любил со слугами время проводить. Чего только мы не вытворяли! Но и научился я тогда многому. И на охоту мы ходили, и на Стримоне по целым дням я пропадал; заберешься, бывало, куда-нибудь под ивняк, пошаришь под корягами, каких только рыб оттуда не вытащишь! Разведем костер на берегу, напечем рыбы и наедимся всласть — куда вкуснее, чем дома. А все потому, что сами еду готовили.
Однажды ночью — помню, светло было, как сейчас, — надумали мы с самым верным отцовым конюхом взять по коню и отправиться пасти их при луне куда-нибудь на край леса. У меня было два моих собственных коня. Один белый, я его любил больше других, другой — черный. Отец разрешил взять. Сели мы на коней, без седел, взяли и по одеялу из козьей шерсти — на траву положить. А то ночью холодная роса выпадает. Я скачу на белом коне, конюх — на черном, и мчимся мы с ним к большому лугу, что перед лесом, на этом берегу Стримона.
Конюхи не давали мне ездить на черном. Называли его бешеным. Иногда не успеешь узду покрепче схватить, как махнет он туда, куда ни один конь не забирался, или вдруг остановится, и начнет так беситься, что любой седок с него свалится, как спелая груша с дерева. О черном говорили, что ночью, когда все спят, на нем вихри скачут — целый день они прячутся в лесной глуши, а в полночь выходят побеситься на резвом коне. Пасется он где-то или в стойле привязан — все равно, найдут они его и тешатся до зари. Утром смотришь — грива так закручена, что расплести ее невозможно. Потому что каждая прядка в отдельности каким-то особым узлом завязана — и не поймешь, где начало, а где конец. А кроме того, две-три прядки вместе таким же узлом скреплены. По этим узлам сразу было видно, что ночью на коне вихри бесновались, и он до сих пор в себя не пришел. Подойдешь к нему, заглянешь в глаза — и такое в них увидишь, что самого дрожь возьмет: то молния в них сверкнет, то кровью они нальются, и конь тогда начнет крутить головой, верхняя губа у него выворачивается, обнажая зубы... Потом прижмет уши и заржет — легонько так, но чувствуешь, что сейчас он кинется на тебя и укусить даже может. Или на задние ноги поднимется... И лучше не шевелись, а то так тебя ударит копытом в грудь, что не поднимешься больше, затопчет насмерть. И все же... и все же что-то заставляет тебя подходить к нему и заглядывать в его глаза, хотя и знаешь, что в любой момент он тебя убить может, и надо успеть отскочить назад, чтоб в живых остаться.
Ну так вот, отправились мы с нашим конюхом пасти коней в лунную ночь. Доскакали до луга. Забили в землю колья, привязали коней крепкой веревкой и оставили пастись. А сами спать легли. Луна очень яркая была. Закрыл я глаза, зажмурился, никак не могу уснуть. И вдруг послышались женские голоса. Далеко-далеко. И звуки свирели: тилли-тилли, тилли-тилли! То приближаются, то удаляются, то совсем пропадают... И снова: тилли-тилли, тилли-тилли. Что с конями стало! Натянули веревки — вот-вот оборвутся, — кружатся, как на току, вокруг кольев, да с такой силой, что сейчас колья вырвут из земли. Белый подбежал ко мне, нагнул голову, ткнулся мордой мне в ладонь, пыхтит, ровно сказать что-то хочет. Уши к голове прижал, а из ноздрей паром пышет. Понял я, что страшно ему, да что я сделать могу? Погладил его. Успокоился он немного, отошел от меня. А черный и вовсе не подходит. То залетит в круг, к самому колу кинется, то от него метнется — и прыгает, словно на луку взлететь хочет, земля дрожит под копытами. Шею выгнул и вдруг как подпрыгнет, да всеми четырьмя копытами о землю — хлоп, словно колодец выдолбить хотел. Ветра никакого нет, а хвост развевается! Кажется, кто-то невидимый сидит на коне лицом к хвосту и размахивает им. Меня заколотило от страха. Растолкал я конюха: "Вставай, говорю, слышишь, кто-то на свирели играет?" Он сел, прислушался. А свирели как-будто удаляться стали, но я все равно слышу: тилли-тилли, тилли-тилли. Все тише, слабее, пока совсем не пропали. Белый конь быстрой, но спокойной рысью кружил вокруг кола, натянув веревку и подняв голову, черный же дико подскакивал, мотая головой из стороны в сторону, словно хотел ударить что-то невидимое. Порой он неожиданно останавливался, подпрыгивал, и всеми четырьмя копытами бил о землю.
Я поднялся и хотел идти вслед затихающим голосам и звукам свирели. Но конюх шепнул мне: "Не надо! Еще заманят тебя в какую-нибудь пропасть". Понял я, о чем он говорит. Волосы у меня встали дыбом, но я заупрямился: "Хочу посмотреть, как они меня заманят!" Сделал я несколько шагов, звуки стали громче, яснее. Понял я, что и вправду хотят меня завести куда-то. И решил, что не стоит с этим связываться. Вернулся к коням. Вот такое чудо со мной случилось. Рассказал я обо всем деду, он и говорит: "Эго бывает в мае, когда на лугах цветы расцветают. И при полной луне...
5.
Путь к лесу, в котором Спартак расстался вчера с Родопидой, был далеким, но нетрудным.
Он первым пришел к чешме.
Ночью выпала роса. Деревья радовали свежей зеленью. Родившийся на заре ветерок с детской жизнерадостностью ласкал все, чего касался.
Спартак сидел в тени большого платана и следил за поворотом дороги, по которой должна была прийти Родопида. Завидев ее, он вскочил и побежал ей навстречу.
— Ты уже тут! — сказала она.
Ему казалось, что он знает ее голос много лет. И то, что происходит с ними, началось уже давным-давно — может быть, еще до того, как они появились на свет. Вот только встретились они сейчас, чтобы уже никогда не расставаться.
Иногда бывают мгновения, вбирающие в себя многие годы. Мгновения, обещающие бесконечность времени и постоянство чувства. Когда они наступают, их едва ли можно правильно оценить. Ко когда они проходят, забыть их невозможно.
— Ты уже тут!
Так могла сказать только девушка, которая давно знала, чем она станет для тебя, и сама ждала этой встречи. Потому что они давно уже были созданы друг для друга и предназначены друг другу той таинственной и доброй силой, которая устраивает людям эти случайные встречи.
— И ты уже пришла, — повторил он то, о чем оба думали. Это был единственно подходящий ответ на ее слова.
Они помолчали, слушая, как струится вода из чешмы.
Она первой прервала тишину:
— Но кто ты?
Он улыбнулся:
— Я тот, кто давно тебя искал и только сейчас нашел. И понял, что ты намного прекраснее, чем я думал и что станешь для меня единственной в жизни.
— Откуда ты?
— Из города.
— И мы из города. Но почему я тебя никогда не встречала?
— Потому что я уже несколько лет там не был.
— А где ты был?
— Отец послал меня учиться. И поэтому я не мог тебя встретить раньше. И хорошо, что сейчас тебя нашел. Что ты такая, какой я нигде никогда не видел. Что я могу прийти сюда к тебе, а ты — ко мне. Что мы сможем видеться, когда захотим.
— А ты не вернешься туда?
— Я закончил учение и приехал сюда насовсем... И никогда не подумаю уехать отсюда снова. Потому что здесь ты.... Если мы будем вместе, мне ничего больше в жизни не надо.
— Ты будешь помнить меня, если мы перестанем видеться?
— Как это "перестанем видеться"? Почему?
— Все может случиться.
Спартака озадачили ее слова, но он сделал вид, что принял это за шутку.
— Что ты хотела этим сказать?
— Люди встречаются и расстаются. А когда перестают видеться, то могут и забыть друг друга. Человек должен уметь забывать...
Спартак не мог понять, весело ему или грустно.
— Ты шутишь и над собой и надо мной. А лучше будет, если мы сейчас вместе погуляем по лесу. И я отведу тебя туда, где нет места грустным шуткам, где все — взаправду. Потому что птицы не умеют лгать, деревья не могут хитрить, зверята играют в чехарду и не знают ни грусти, ни забвения.
Он повел ее по лесной тропинке. Она слушала его, смотрела вперед и ни о чем не думала. Они шли медленно, чтобы лес не окончился так скоро. Они хотели продлить эти минуты, и это зависело только от них. От того, когда они исходят этот лес, которому нет конца и края. Им должно хватить здесь места и времени, чтобы пережить радости, которых они никогда прежде не испытывали.
Спартак остановился. Он задумчиво смотрел вперед, туда, где стволы деревьев исчезали в зеленом таинстве листвы. Родопида повернулась к нему.
Он спросил ее:
— Может, пойдем дальше?
— Мне страшно.
— Отчего?
— Не знаю.
— Ты должна бояться только одного — что можешь стать нимфой.
Она весело взглянула на него:
— Этого я не боюсь.
— Потому что ты уже сейчас принадлежишь к богам.
— Я им скажу, что принадлежу тебе, и они меня поймут.
Он взял ее на руки и понес.
Спартак осторожно шел между могучими стволами деревьев, словно боялся разбудить кого-нибудь — может быть, где-то совсем близко прячется невидимый зеленый бог лесов, может быть, он наблюдает за ними...
— Куда мы идем?
Он наклонился к ней:
— Туда, где еще никто не бывал.
Она замерла в его руках. Если лесу нет конца, то не будет конца их дороге...
Приподнявшись, она попыталась заглянуть ему в лицо, словно хотела прочесть там то, что и без слов было ясно. Потому что есть и такие прекрасные истины.
— Но скажи мне, куда ты несешь меня?
Их лица почти касались друг друга:
— Туда, где мы будем одни, и, быть может, еще зеленый бог лесов. Я опущу тебя у какого-нибудь родника, и когда ты глянешь в него, вода станет еще чище и прозрачнее от твоего взгляда.
Она вздрогнула:
— Мне страшно.
— Чего ты боишься?
— Я боюсь бога лесов.
— Да, мы вошли в его владения. Но мы ничего у него не возьмем. У него так много деревьев, а мы присядем в тени одного, и когда уйдем отсюда, оставим ему это дерево.
— Я не потому боюсь его. Он станет нам завидовать, потому что мы любим друг друга, а разве не завидуют таким, как мы?
Спартаку вдруг показалось, что кто-то невидимый наблюдает за ними из каждого лесного уголка. Смотрит с вершины какого-нибудь дуба, куда они идут, следит за каждым шагом, каждым движением. Или глядит на них через какой-нибудь просвет в чаще, ополоснув лицо в чистом ручье, потому что только чистыми глазами можно смотреть на него и на Родопиду.
Зеленый бог лесов!
Он своим дыханием колышет листву и птичьи перья.
Он сидит на каждой ветке. Смотрит с каждого дерева, шепчется с каждым листком.
Зеленый бог лесов! Властелин всех лесных тайн.
Да, он, конечно, завидует сейчас Спартаку. Потому что тот, кто несет на руках Родопиду, заслуживает зависти. Она обнимает его за шею, и он чувствует ее дыхание, ощущает биение ее сердца и трепет ее души. Она сказала ему, что без него ей будет очень трудно, и он верит ей, потому что так оно и есть.
Лес молчит, прячет свою улыбку, свою красоту, свою нежность.
Она крепче обвила его шею руками.
— Будет ли этому конец?
— После каждого конца в нашей жизни будет новое начало.
— Позволь мне всегда быть с тобой.
— Ты всегда будешь со мной.
Между деревьями появился просвет, стало светлее.
Кончились лесные таинства.
Кончилось прекрасное путешествие в неведомое.
Кончилось уединение.
С ветки спорхнул дятел и как будто разбрызгал в синем воздухе желтые, зеленые и красные капли.
Спартак высоко поднял девушку на руках.
Он был убежден, что в последний раз несет ее туда, где она будет без него, и что на следующий день снова вернется к нему, чтобы не исчезать больше никогда.
На опушке он опустил ее на землю.
Оставалось еще немного времени, чтобы посмотреть друг на друга, помолчать. Потому что пора уже было расставаться.
Лицом к лицу, совсем близко, они уже и сами не понимали, грустят ли они от того, что им надо расставаться или радуются, что завтра встретятся снова...
В глазах у Родопиды появился влажный блеск, но она улыбнулась:
— Я не должна плакать, правда?
— Если только от радости.
— Но почему от радости — и слезы?
— Потому что нам надо расстаться. Но пусть это расставание будет последним.
Он через силу улыбнулся, потому что и ему было грустно.
— Ничего, — добавил он, — до завтра не так уж долго ждать.
Он нежно провел рукой по ее волосам.
Эта ласка должна была остаться с ней, как невидимый венец любви. С этим она уйдет, чтобы ждать завтрашней встречи. С этим она явится к своему отцу, когда они вместе предстанут перед ним.
Он сказал:
— С завтрашнего дня нам нечего таиться... Пойдем вместе к твоему отцу, и я буду просить тебя у него.
6.
Ему не хотелось идти домой... ведь здесь, в этом лесном уголке, еще осталось что-то от недолгого пребывания Родопиды. Ее образ словно еще витал здесь, неуловимый, невидимый — и в то же время реальный, осязаемый.
Спартак постоял, думая о девушке. Встреча с ней еще не стала воспоминанием. Трудно было поверить, что только что они стояли рядом... так распорядилась сама судьба. Неужели это окончилось?.. Ушло?.. И больше никогда не вернется?..
Он пошел вдоль русла реки — туда, где берег порос ивняком, дубами, платанами. Там, где кончалась эта лесистая полоса, далеко вокруг простирались заливные луга. Трава на них была уже скошена, и тут и там, словно огромные островерхие шапки, стояли стога только что убранного сена. Через вершины стогов были крест-накрест переброшены связанные по две длинные жерди. Они держали стог и мешали ветру уносить еще не слежавшееся сено.
Спартак побродил немного вдоль лесистой каемки луга и пошел к чешме. Только сейчас он почувствовал жажду.
Подойдя к каменистой тропке, он увидел, что сверху по ней спускаются два конюха Реметалка, но не те, которых он видел вчера. Конюхи вели серого в темных пятнах коня. Пятна эти были словно нарисованы, они напоминали раковины улиток или мидий, а некоторые походили на отпечатки сильно прижатых пальцев, в середине темные, по краям бледные. Каждый из конюхов намотал себе на руку один из поводьев. Жеребец, удерживаемый с обеих сторон, ступал мелкими нервными шажками. Он часто вздрагивал, готовый в любое мгновение вырваться из рук своих мучителей или спрыгнуть со скалы вместе с ними. Но и они чувствовали намерения коня и были начеку, чтобы в нужный момент повиснуть на поводьях. Конь часто останавливался, спотыкался, топтался на месте и сердито фыркал, недовольный тем, что не может понестись, куда хочет, а вынужден подчиняться ненавистным, но крепким рукам.
Спартак не мог сдержаться:
— Что это за конь, которого надо вести вдвоем? Разве один не может с ним управиться?
Старший по возрасту конюх ответил:
— Таков уж конь... Попробуй с ним поладить.
Спартак медленно подошел к коню и посмотрел прямо ему в глаза. Юноше показалось, что из них так и брызжет еле сдерживаемая ярость. Раздувшиеся ноздри чуть не лопались от накопившегося гнева. Ох и показал бы им конь, на что способен! Если бы не эти сильные руки!
Жеребец снова рванулся, но конюхи его удержали. Он дернул головой, словно хотел сбросить с себя уздечку. Потом попытался подняться на дыбы, но конюхи повисли на поводьях. Жеребец сник — как будто примирился с невозможностью вырваться.
Спартак продолжал смотреть в глаза коню, пытаясь расположить его к себе. Животное поняло намерения человека, но это давало ему еще больше оснований для недоверия, для враждебного отношения к чужаку.
Ноздри его снова раздулись, из них вырвались струи горячего пара. Спартак дружелюбно улыбнулся и попробовал погладить коня по лбу, наполовину прикрытому тяжело нависающими космами. Жеребец сердито тряхнул головой, гордо отказавшись от ласки незнакомца. Но Спартак не сразу отнял руку — животное не должно было даже подумать, что он опасается его недружелюбного отношения, — и сказал:
— Не надо так! Посмотришь, мы еще станем друзьями.
Конь гневно фыркнул.
Спартак обернулся к конюхам:
— Оставьте мне его ненадолго, и увидите, что он не так страшен, как кажется.
Младший удивился:
— Как это мы тебе его оставим? А если упустишь, что мы тогда скажем хозяину?
— А если не упущу? Как ваш хозяин узнает, что вы давали мне его подержать?
Он никому, кроме нас, не позволяет водить его на водопой.
— Каждый, кто хотел его оседлать, оказывался на земле,
— добавил старший.
— Он только одному из наших людей разрешает на нем ездить,
— пояснил младший.
— Значит, только одного признает достойным. — Спартак сделал вид, что серьезно воспринял сказанное конюхами. И отошел чуть в сторону, чтобы конюхи подумали, что он больше не настаивает и упрашивать их не собирается. И тут же неожиданно вскочил на коня. Изумленное и раздосадованное животное, охваченное испугом и яростью, встало на дыбы, и конюхи опять повисли на поводьях. Конь дергался в стороны, рвался вперед, отскакивал назад, задирал голову и гневно тряс гривой. Но ему не удавалось отшвырнуть конюхов. Спартак крикнул им:
— Дайте я его погоняю по полю! Он смирится, когда устанет.
— Он убьет тебя, — испуганно крикнул старший. А младший запричитал:
— Хозяин нас запорет до смерти!
— Оставьте коня! Бросьте поводья!
Пока они втроем препирались, жеребец несколько раз пробовал вывернуться, и то поднимался на дыбы, то обрушивался передними ногами на землю, словно хотел вколотить в нее что-то. Спартак еле удерживался на его спине, пока, наконец, конюхи не отпустили поводья, и он не завладел ими.
Разъяренное животное попыталось стряхнуть с себя дерзкого седока. Но он, защемив ногами бока жеребца, словно сросся с ним. Конь стремглав рванулся вперед, промчался сотню-другую метров и остановился как вкопанный, но Спартак не перелетел через его голову, как следовало ожидать. Тогда жеребец пал на колени и перевернулся, чтобы подмять под себя всадника. Но Спартак сумел отскочить в сторону, дождался, пока конь снова встанет на ноги, и вспрыгнул ему на спину. Ударил его пятками. Жеребец прижал уши, словно они мешали ему вспарывать воздух, и полетел вперед с такой силой, что гриву его отшвырнуло назад, будто бешеный встречный ветер хотел навсегда сдуть ее с лошадиной шеи.
Спартак перестал бить коня пятками в бока. Он предоставил ему лететь столько, сколько тот выдержит и туда, куда захочет, следил только за направлением. Конь почти не касался земли. Он несся, точно соревновался с ветром, кто окажется быстрей в это солнечное летнее утро.
Это был уже не конь, а вихрь, несущий смелого человека, дерзнувшего доверить ему в стремительном полете свою жизнь.
Конь спускался в низины, стремительно взлетал на невысокие холмы, подобно лодке в разбушевавшемся море, когда она то ныряет в пучину, то поднимает кверху нос на гребне волны.
Пока Спартак несся верхом на жеребце, он чувствовал себя всемогущим и думал, что может совершить все, что пожелает, зная при этом, что никому не причинит зла.
Доскакав до конюхов, конь резко остановился и нервно передернулся. Спартак спрыгнул с него и чуть-чуть коснулся рукой его шеи. Усталое животное почувствовало ласку и ответило на нее, опустив голову и потеревшись мордой о ладонь человека.
— Берегись! — крикнул старший из конюхов, — укусит!
— Он кусается?
— Еще как!
— Это он только пугает. Правда? — Спартак обернулся к жеребцу и, проведя рукой по холке, поднес ладонь к морде, и тот снова потерся губами о руку человека.
Конь был весь в мыле. Из ноздрей его вырывались струи горячего пара.
7.
Спартак шел через лес, но даже не чувствовал, что возвращается домой оттуда, где оставил девушку с лучистыми глазами. Невидимые струны, протянувшиеся от дерева к дереву, играли что-то такое, чего он никогда прежде не слышал. И сами деревья как будто вслушивались в то, что звучало вокруг. Это не было просто незнакомой мелодией, от которой остается лишь память. Это было какое-то состояние леса. Может быть, его душа бродила где-то здесь, между деревьями. А они стояли прямые, стройные, и даже листва на них была неподвижной. Словно деревья присутствовали при рождении некоего чуда.
То, что произошло с ним в этом лесу, в котором он встретил Родопиду, было ему прежде незнакомо, никогда им не испытано, никогда ранее не пережито. Это было началом неведомого ощущения, которое теперь постоянно поддерживало его уверенность в том, что и она так же изумлена и взволнована встречей с ним; что и она никогда уже не перестанет думать о нем, будет хотеть его видеть, говорить с ним; что, может быть, и она, вернувшись в свой дом, слышит сейчас тот же тихий лесной шум, ту мелодию, которая следует сейчас за ним от дерева к дереву.
Вечером приехал из города Меток, отец Спартака.
После ужина он сказал сыну:
— Я говорил с правителем. Он хочет взять тебя к себе на службу.
Спартак ответил не сразу.
— Не надо было спешить, отец. Я хочу остаться тут, в имении.
Меток нахмурился.
— Пристало ли тебе быть тут, с овчарами, пастухами, конюхами... Ученый юноша предпочитает жить со скотниками, со слугами... Я тебя посылал учиться, чтобы ты стал большим человеком. А тут и мы с дедом можем справиться.
— А мне больше нравится здесь, чем в городе.
И вот он снова в лесу.
И снова — те же самые звуки.
Они исходили от густой листвы, пробирались меж стволами из зеленых тайников лесных глубин, шли оттуда, откуда приходила девушка с изумрудными глазами, которые темнели, когда она опускала веки.
Эти звуки говорили больше, чем слова — они говорили не только то, что могла бы сказать она, но и то, что хотел бы услышать он.
Ее образ витал в тех местах, где они были вчера. Ведь здесь оставались их следы, а под зелеными куполами дубов жили слова, звучавшие совсем недавно.
А может быть, разлученные, они еще больше стремятся друг к другу, и мысли их преодолевают пространства, дали. И этому можно верить еще больше, чем словам, которые иногда могут и обмануть. К тому же слова исчезают, а пережитое в молчании остается с тобой навсегда.
Благословен тот час, в который встречаются двое, самой судьбой предназначенные друг другу. Час, в который выявляется прекрасная истина...
Но на этот раз лес был пуст.
В этот день Родопида не пришла к источнику.
Ему некого было носить на руках.
И снова Спартак сидел в тени большого платана и смотрел на тропинку, по которой она приходила к чешме. Вот уже несколько дней он напрасно ждал ее в те часы, когда она могла прийти за водой.
Но сегодня, наблюдая за поворотом, он заметил, как спускается к реке конюх Реметалка, тот, которого он встретил в самый первый раз. Виделся он с ним и позже, когда безуспешно ждал Родопиду. Они мельком обменивались взглядами, и Спартак ничего не мог узнать из того, что его интересовало. Сейчас конюх был один и, по-видимому, направлялся к нему. Действительно, он приблизился к Спартаку и вежливо поклонился:
— Мой господин Реметалк послал меня за тобой.
Спартак вздрогнул. В первый момент он хотел даже спросить, зачем его приглашает Реметалк, хотя, как юноша из знатного рода, он вполне мог ожидать почетного приглашения. Но, подумав, что неудобно узнавать от слуги, почему ему оказывает такую честь отец Родопиды, Спартак сказал только:
— Спасибо благородному Реметалку.
8.
Слуга шел рядом со Спартаком и время от времени украдкой поглядывал на него сбоку.
Дорога была узкой, по краям поросшей кустарником. Наверху, на склонах холмов раскинулись виноградники, ниже, в защищенных от ветра ложбинках, прятались тенистые сады и огороды.
Спартака тяготило неловкое молчание, но он не знал, о чем говорить со слугой. Он представлял себе, как встретит его отец Родопиды, и волновался.
Показалась ограда имения — высокая каменная стена, за которой виднелся плотный ряд деревьев с оплетенными лозой стволами. Слуга постучал в деревянные ворота, и ему открыли.
Он поспешил войти первым, чтобы сторожевая собака поняла, что у человека, который идет за ним, нет дурных намерений по отношению к хозяину. Собака, правда, зарычала, но слуга замахнулся на нее, давая понять, что ее усердие в данном случае излишне. И в знак доверия и расположения к незнакомцу собака приветливо завиляла хвостом.
Шагах в двухстах от ворот белело каменное двухэтажное здание с деревянной террасой. Там, на низком трехногом стуле, сидел сам хозяин. Он внимательно рассматривал Спартака, пока тот пересекал двор. Слуга оставил гостя и подошел к хозяину:
— Я привел его, господин.
Спартак медленно приблизился к террасе и поднял руку в знак приветствия:
— Спасибо благородному Реметалку за то, что он оказал мне честь быть принятым в его прекрасном доме.
Хозяин смотрел в землю, словно был недоволен приветствием гостя. Это озадачило Спартака. Разве он выразился недостаточно учтиво?
Реметалк не замедлил разрешить его недоумение. Он медленно поднял голову и сказал:
— Ты очень обманываешься, парень, если думаешь, что тебе окажут честь в этом доме.
Спартак от неожиданности не сразу понял смысла этих слов. Но вряд ли это была шутка, — так шутить человек может лишь с близким знакомым.
— Но тогда... зачем ты меня пригласил?
Реметалк загадочно усмехнулся:
— И тут ты ошибаешься, если думаешь, что я тебя пригласил.
— Но... ты же послал за мной слугу.
— Я послал его привести тебя сюда.
— Ты хочешь этим сказать, что я не гость в твоем доме?
— С чего ты взял, что можешь быть, моим гостем?
Спартак пытался по выражению лица хозяина разгадать столь непонятное отношение.
— Извини меня, благородный Реметалк, — сказал он спокойно и с достоинством, — но... клянусь бессмертными богами, я не понимаю, зачем тогда я здесь?
Хозяин ухмыльнулся:
— Сейчас ты поймешь.
И он кивнул одному из двух слуг, стоявших недалеко от террасы. Тот сунул в рот два пальца и свистнул. Из-за дома тут же выбежало больше тридцати человек и окружили Спартака. Он мгновенно понял, что сейчас произойдет, но не подал виду. Не сводя взгляда с отца Родопиды, он спросил:
— Ты хочешь мне показать, благородный Реметалк, как много у тебя слуг?
— Да, парень, и ты сейчас увидишь, как они послушны.
— А что ты прикажешь им сделать?
— Отхлестать тебя прутьями. Мало тебе такой чести?
— Наоборот — столько человек против одного...
— Хватит и двоих для этого дела. Тебя, наверное, никогда не били.
— Это будет первый и единственный раз в моей жизни.
Резким жестом Спартак сбросил с себя хитон. Статный, хорошо сложенный, он стоял, расставив ноги, с порывистой готовностью встретить предстоящее ему испытание, чтобы выказать свое презрение и к тем, кто будет наносить ему удары, и к тому, кто это затеял.
Реметалк был озадачен. Может быть, он даже колебался, не отказаться ли от своего намерения. Для него уже не могла стать удовольствием расправа над юношей, который приготовился встретить ее с таким достоинством. Это не было рисовкой или притворной решимостью. Это был душевный импульс, присущий мужчине, который способен превратить позорное издевательство над собой в торжество человеческой доблести.
Но Спартак противопоставил себя ему, хозяину этих слуг. Хотя бы за одно это, за то, что он унизил господина перед слугами, надо унизить его самого перед этими слугами. Потому что они уважают не доблесть, а грубую силу.
— Начинайте! Чего смотрите! — прикрикнул Реметалк на тех двоих, что стояли ближе всего к Спартаку. Слуги достали из-под лестницы приготовленные заранее прутья и начали хлестать Спартака. Прутья свистели в воздухе, с силой опускаясь на его плечи и спину. Он спокойно принимал удары и своей необычайной выдержкой еще больше распалял слуг Реметалка. Вскоре все его тело покрылось красными полосами.
— Довольно! — крикнул Реметалк. — Я велел его отхлестать, а не забить до смерти.
Спартак поклонился:
— Спасибо благородному Реметалку за достойный прием в его доме.
— Ты мне нравишься, — усмехнулся Реметалк. — Ни разу не охнул, не крикнул.
Спартак поднял брошенный хитон, отряхнул от пыли, накинул на себя:
— Зато слуги твои мне не нравятся.
— Почему?
— Не умеют пороть. Ни одного прута об меня не сломали.
— Может быть, ты хочешь, дерзкий парень, чтобы я велел повалить тебя на землю и обломать о твою спину не одну, а двадцать палок? Тогда, наверно, мои слуги тебе понравятся.
— Нет, этого не будет.
— Думаешь, я только пугаю тебя?
— Нет.
Реметалк покусал длинный ус:
— Рассчитываешь на мое благородство? Я ведь могу проявить и милосердие.
— Ты уже показал, каков ты есть. А я не так наивен, чтобы рассчитывать на благородство, которого у тебя нет...
— Тогда... поскольку ты в моих руках... уж не от богов ли ты ждешь помощи? Погляди на этих молодцов, — он показал на слуг.
— На что ты можешь рассчитывать, глупец?
— На себя, — Спартак спокойно глядел на Реметалка и тем еще больше разозлил его. Безрассудство Спартака выглядело с его точки зрения совершенно необъяснимым.
— Ах, вот как! — Реметалк дал знак слугам и закричал:
— Хватайте его!
Слуги бросились на Спартака, но он успел опередить их и неожиданно оттолкнул ладонями того, кто кинулся на него первым. От сильного и внезапного удара слуга отлетел назад и упал, увлекая за собой товарищей. Но, проложив себе дорогу, Спартак не побежал, а перескочил через упавших и спокойно направился к воротам.
Реметалк, ошарашенный тем, что разыгралось на его глазах, быстро пришел в себя, вскочил со стула, выпрямился, как военачальник, который разгневался на свое воинство, отступившее перед дерзким врагом, и яростно замахал руками на слуг, находившихся в полном замешательстве:
— Все за ним! Держите его! Эй, скотники, хватайте его!
Скотники уже ждали Спартака у ворот, раскинув руки. Но, приблизившись к ним, он неожиданно для всех повернул направо и побежал вдоль забора. Слуги злорадно смеялись ему вслед
— забор был настолько высок, что только сумасшедший попытался бы через него перепрыгнуть. Пока Спартак бежал вдоль забора, он лихорадочно думал: "Вы бежите за мной, потому что вас много. Я бы показал вам сейчас, как со мной тягаться, если бы попалась хоть какая-нибудь палка... потому что голыми руками... против трех десятков... Только бы найти палку..."
И вдруг, пробежав еще шагов пятьдесят вдоль стены, он увидел впереди кучу камней, — их вырыли весной из земли, когда сажали новые фруктовые деревья. Были там камни с кулак, и с баранью голову, и еще крупнее. Рядом валялась большая лопата. Спартак тут же прикинул, как этим воспользоваться:
"Ну, теперь посмотрим, кто кого!"
Он вернет их сейчас туда, откуда они его прогнали. Сейчас он увидит, как засверкают их пятки.
Спартак добежал до кучи камней, взобрался наверх и повернулся лицом к своим преследователям. Взялся за лопату двумя руками. И пока он размахивал ею, чтобы швырнуть в них, кто-то заорал благим матом: "Спасайтесь, он убьет нас!"
Слуги словно ждали этого предупреждения. Они повернули назад и побежали. Каждый думал, что лопата может угодить в него.
Поднялась суматоха, и хотя лопата свалила только одного, на землю полетели сразу несколько, потому что задние падали на передних.
Спартак не давал им опомниться. Он хватал камни и бросал вслед бегущим.
Не нужно было даже целиться, потому что слуг было много, и каждый камень попадал в чью-либо спину. Под конец Спартак выбрал здоровенный камень, повертел в руках и швырнул точно в двери коровника. Раздался грохот, дверь треснула. Всеобщий страх от этого только усилился. Еще несколько камней последовали за первым. Слуги, собиравшиеся было снова напасть на Спартака, уже не рискнули возвратиться на поле битвы. Один из камней перелетел через всех и упал прямо возле террасы, на которой стоял Реметалк.
Слуги остановились перед террасой. Спартак перестал швырять камни. Они смотрели на него издалека. Некоторые опомнились, пришли в себя после испуга.
— И что разбежались! — крикнул кто-то, — надо схватить его, ему же некуда бежать.
Они готовы были снова броситься к Спартаку, но их запоздалое рвение не понравилось хозяину. Он с изумлением следил за тем, что произошло столь быстро и неожиданно. Потом спустился с террасы и повелительно поднял руку:
— Стойте! Оставьте его!
И крикнул Спартаку:
— Иди, парень, через ворота. Даю тебе слово чести, что никто тебя больше не тронет. Пусть тебе покровительствуют добрые боги.
— Я верю твоему слову, благородный Реметалк, — ответил Спартак, — но отсюда мне ближе.
Перед тем, как уйти, он подумал было сказать на прощанье хозяину дома: "Ты поступил со мной коварно, и это недостойно тебя. Но будь себе сам судьей". Но он не произнес этого вслух и только поднял руку в знак прощанья. Потом повернулся и быстро побежал к забору. Забор был выше человеческого роста, но Спартак подпрыгнул так, что смог уцепиться за верхний его край. Подтянувшись на руках и помогая себе коленями, он сумел преодолеть высоту и, перебросив сначала одну, а потом другую ногу, спрыгнул на землю с той стороны.
9.
Работники стояли там, где их застал приказ Реметалка остановиться. Один из них вытер рукавом вспотевший лоб и сказал, задыхаясь:
— Хорошо справились, нечего сказать. Теперь хозяин с нами так же хорошо расплатится.
Они не смели подойти к нему. Но он. уже сам медленно приближался.
Плохого не миновать, его можно только отсрочить. Но и дожидаться его — никак не легче.
Хозяин шел не спеша, а страх наказания все более сгущался. Реметалк переводил взгляд с одного на другого. То, что он сдерживал свой гнев, не предвещало ничего хорошего.
Он совсем близко подошел к ним своей тяжелой походкой. На лице его ничего нельзя было прочесть. Только брови были слегка сдвинуты. Реметалк поднял голову.
— Ну,— с трудом проговорил он, — видели?
Никто не проронил ни слова, никто не попытался оправдаться.
— Как дело-то обернулось!
Все затаили дыхание.
— Здорово он вас напугал.
Ожидание становилось все мучительнее.
— Ничего вы не смогли ему сделать...
Он пошевелил усами:
— Я все видел.
Раз не спешит, это не к добру. Даже улыбается... может быть, для того, чтобы сделать такое, чего никто не ожидает.
— Ну... Что скажете?
Полное молчание.
— Как он вас оглушил лопатой!
Работники опустили головы.
— Вот как один человек может обратить в бегство три десятка. Но хвала и тому из вас, кто первым крикнул: "Спасайтесь! Он убьет нас!"
Слуги ожидали, что теперь он помянет "заслуги" каждого из них в этой свалке.
— Того, что случилось, — продолжал Реметалк, — никогда прежде у нас не бывало. Но и кто бы мог подумать, что он перепрыгнет через забор. Я же велел ему идти через ворота, а он — через забор.
Один общий вздох был ответом хозяину.
Он снова посмотрел на своих работников.
— Вы смеялись над ним, когда увидели его бегущим вдоль стены. А не надо было смеяться. Пока тот, кого вы преследуете, не попадет к вам в руки, не спешите радоваться. Потому что никогда не знаешь, что он может сделать для своего спасения. В другой раз пошире открывайте глаза.
Люди, опустив головы, только исподтишка переглядывались друг с другом.
Никто ничего не ответил хозяину. Все опасались выказывать радость по поводу того, что беда миновала.
Довольные неожиданным поворотом событий, слуги и работники разошлись, каждый занялся своим делом. Конечно, хозяин должен был хотя бы как следует отругать их за то, что они упустили Спартака. Когда они опомнились, им уже казалось, что они непростительно легко испугались незнакомца. Да, он был смелым и застал их врасплох, схватив лопату. Но как они могли так панически бежать? Их было более тридцати, а он один. И только потому, что их было много, они поддались такому испугу. Если бы их было трое и кто-нибудь сказал: "Да что вы, ребята, чего бояться, он же один", — наверняка двое других устыдились бы своей трусости. Но когда один из тридцати крикнул: "Он нас убьет!" — никто не сказал: "Да постойте же, он — один, а нас много!"
Для того, чтобы посеять панику среди сотни человек, достаточно двух трусов. Особенно, когда противник смел и решителен. И одного смельчака достаточно, чтобы рассеять страх у сотни трусов.
Внезапный страх не слушается доводов разума, не подчиняется никаким правилам и законам...
А иногда даже при хорошо подготовленной неожиданности и при почти равных силах может случиться и другое: тот, на кого нападают, вдруг сообразит, что противник не страшен. И своим самообладанием вызовет у противника страх, чья наглая самоуверенность приведет к позорному отступлению, если он рассчитывал только на неожиданность и испуг.
10.
Пробежав сотню шагов, Спартак понял, что больше ему ничего не угрожает, и опасаться нечего. Он обернулся, чтобы увериться в том, что его не преследуют, и зашагал дальше.
Дошел до излучины, где был перекинут деревянный мостик. Река здесь текла между обрывистых берегов в узком ложе, усеянном мелкой галькой и довольно крупными белыми и серыми камнями. Шагов двадцать ниже по течению она выходила из ущелья и разливалась вширь. Спартак разделся и бросился в воду, Прохладная вода уменьшила боль, которая жгла ему спину.
На плечах и бедрах остались красно-синие борозды от ударов. Он решил подождать, пока стемнеет, чтобы не давать дома никаких объяснений.
Неподалеку от дороги был лужок с огромным платаном. Спартак выбрался из воды, лег ничком в тени дерева и задумался. Зачем Реметалк, отец Родопиды, заманил его в западню и приказал слугам избить его? За такое вероломство он заслуживает того, чтобы Спартак снова его посетил, но на сей раз ночью. Нетрудно будет перелезть через забор, забраться в коровник или конюшню и поджечь солому, предварительно раскрыв двери, чтобы скотина могла выбежать. Не может же она расплачиваться за низкий поступок своего хозяина! Огонь не пощадил бы ни одной постройки. Какой пожар можно устроить во славу справедливых богов! И все — за счет Реметалка! Если бы... если бы только он не был отцом Родопиды. Девушки с лучистыми глазами, которые при спокойном взгляде — синие, а затененные ресницами — становятся зелеными, и из их глубины вылетают веселые искорки.
Реметалк поступил недостойно, это была подлая ловушка. Но ему ничего не грозит, хотя он вполне заслуживает расплаты за глупое удовольствие, которое позволил себе. Это будет первый и единственный раз, когда Спартак не расквитается со своим обидчиком. "Клянусь бессмертными богами, что это так", — сказал он. Реметалк попытался унизить его перед слугами и, наверно, перед Родопидой. Потому что она могла видеть через какое-нибудь окошко, как его стегали прутьями. Но она не должна думать, что он проявил беспомощность. Он же показал потом, что мог бы сделать с ними, если бы счел нужным защищаться. Тот, кто в состязаниях по фехтованию, укрощению коней и в скачках на колесницах всегда был первым, наверно, сумел бы в два счета разогнать слуг Реметалка. Надо было швырнуть на землю только первых двух, остальные стали бы удирать, сбивая с ног друг друга, как это и случилось позже. Но он сразу же решил поступить иначе — выдержать испытание, чтобы показать свое презрение и к тем, кто будет его бить, и к их хозяину.
Захваченный своими мыслями, и забыв о том, что он исполосован, Спартак перевернулся, чтобы улечься поудобнее, и тут его пронзила острая боль. Он подумал: "Реметалку просто повезло. Он должен благодарить Родопиду за то, что она — его дочь. Потому что иначе в эту ночь он мог бы стать нищим
В это же время Реметалк, сидя на террасе, все больше сожалел о случившемся.
— Не надо было так поступать с парнем.
Чем больше он вспоминал, как юноша вел себя, тем больше находил в нем достоинств. И в чертах лица, и в его выражении было нечто такое, что возбуждало к нему симпатию. И то, что он не пригрозил Реметалку отомстить, выдавало в нем человека благородного, наделенного чувством собственного достоинства.
Реметалку стало не по себе, что он незаслуженно оскорбил человека, который не сделал ему ничего плохого.
Он снова послал одного из слуг — найти Спартака и пригласить к себе. Если тот придет, Реметалк извинится перед ним. Но он вряд ли придет во второй раз туда, где был так низко обманут.
Реметалк снова подумал, что Спартак может ему отомстить, но тут же отбросил эти опасения — такой благородный человек не сможет совершить никакой подлости.
Реметалк встал и прошелся по двору. Он искал уединения, не хотел, чтобы его кто-нибудь видел — ни слуги, ни жена, ни Родопида. Ему казалось, что он не выдержит сейчас ничьих укоризненных взглядов. Очень редко случалось ему осуждать себя самого за неправоту. Как хозяин, он привык мыслить, что всегда прав, — что бы он ни делал, как бы ни поступал по отношению к другим. Сейчас его удивляло то, как этот юноша заставил его испытывать угрызения совести.
Он искал, чем бы заняться, куда заглянуть, чтобы не возвращаться в дом до обеда.
В этот день он даже не бранил работников, хотя далеко не все во дворе и на виноградниках делалось так, как надо.
Родопида, вероятно, наблюдала за тем, что произошло, из окна своей комнаты. И вряд ли считает, что отцу позволительно так поступать... Но как ей объяснишь, зачем он заманил сюда Спартака?
Он ожидал, что все будет совсем иначе. Если бы он сумел сделать то, что задумал, не нужно было бы ей объяснять, что Спартак для нее не подходит. Но сейчас тот выглядел в ее глазах не побежденным, а победителем, и уж лучше бы отец высказал ей все, что хотел, на словах.
Он долго тянул время, делал вид, что его занимают заботы по хозяйству. Идя домой, он молча спрашивал себя, не будет ли лучше, если не он, а жена объяснит Родопиде, что между ним и Спартаком произошло недоразумение, виновником которого является кто-нибудь из слуг. Или прямо сказать ей, что он представлял себе Спартака совсем другим, поэтому и решил проучить его за то, что тот дерзнул ухаживать за Родопидой.
Но дойдя до кухни, он успокоился и решил не вмешивать слуг в дело, которое касается лично его, Реметалка. И что лучше исправить ошибку, изменив свое отношение к Спартаку, чем неудачно схитрить.
11.
Вчера к Реметалку явился один из конюхов, которые водили коней на водопой. Он долго колебался, стоит ли вмешиваться не в свои дела, хотя этим мог лишний раз доказать хозяину свою преданность. Но мог и разгневать его, потому что неприятная новость никогда не сулит радости тому, кто ее приносит. Подумав, конюх все-таки решился:
— Хочу тебе сказать кое-что, господин.
Реметалк встретил его так, словно не собирался придавать значения тому, что скажет слуга, и скрыл свое любопытство за наигранным безразличием:
— Если у тебя есть что сказать — говори.
— А ты не рассердишься на меня за это?
Реметалк испытующе посмотрел на слугу:
— А разве есть за что сердиться?
Слуга потупился:
— Да нет, но... как тебе сказать...
Реметалк нахмурился: конюх пытается пробудить в нем любопытство, — то, что он как раз и не хочет выказывать. Слуга никогда не должен знать, как оценит хозяин его донос, и если даже он вознаградит его за верность, то это должно выглядеть, как хозяйская милость, а не как плата за усердие. Слуга хорошо понимал эту хитрость Реметалка, но притворялся наивным, да и ничего другого ему не оставалось делать, как играть с хозяином в эту игру. Тот хитрит, значит и этот будет хитрить. И все же, хотя его услуги в конечном счете бывали бескорыстными, он считал, что только выигрывает, будучи доверенным человеком хозяина. Но на этот раз его огорчило притворное равнодушие господина, ведь то, что он хотел ему сообщить, было связано с известным риском — хозяин мог действительно разгневаться в ответ на доказательства преданности слуги.
Реметалк нахмурился, разгадав его хитрость. Он понял, что слуга хочет обезопасить себя от неприятных последствий.
— Что значит "как сказать"?
Слуга помялся:
— Ну... не знаю.. Ты можешь и прогневаться...
Реметалк посмотрел слуге прямо в глаза. Он едва сдерживался, чтобы не проявить свое нетерпение. Постарался сказать как можно спокойнее:
— Говори!
Конюх однако счел нужным добавить, чтобы вышло, будто он заранее получил разрешение:
— Я должен тебе сказать, а ты решишь, стоит ли сердиться.
Реметалку была неприятна осторожность слуги, и он наконец не выдержал:
— Говори! Довольно увертываться.
— Несколько дней назад, когда я водил коней на водопой, я столкнулся с одним незнакомым человеком — никогда его не видел в наших местах...
Слуга запнулся. Реметалк смотрел на него с недоумением.
Что же тут такого? Стоило ли столько времени мямлить? И почему надо было предварительно спрашивать разрешение и заручаться обещанием, что за эту новость ему ничего не грозит?
Слуга продолжал:
— Он молодой, самого сильного твоего коня он может схватить за хвост и повалить на землю, как овцу, когда ее режут.
Реметалк снова нахмурился — кто же это может позволить себе такое обращение с его конями! Но когда он подумал, что слуга с такой осторожностью готовился рассказать ему об этом случае, что честолюбие конюха может быть так задето, он улыбнулся:
— И это все? И ты опасался, что это меня рассердит?
У слуги поначалу отлегло от сердца, его подбодрила благосклонная улыбка хозяина, но потом он снова смутился:
— Нет, это не все... Но... Ты, правда, не будешь сердиться?
Реметалк с еще более благородным выражение лица спросил:
— За то, что ты смотрел, как этот человек швырнул моего коня, и ничего ему за это не сделал?
— Есть еще кое-что...
Реметалк не переставал наблюдать за слугой, мысленно смеясь над его смущением. Конечно, надо дослушать его до конца, и Реметалк снова решил подбодрить слугу:
— Рассказывай что там еще?
Слуга вздохнул с облегчением:
— Перед тем, как столкнуться с ним... с этим человеком... я видел, что там... на тропинке, которая ведет источнику, с ним говорила Родопида...
С лица Реметалка сразу слетело выражение благодушия. На минуту он задумался. В общем-то, ничего особенного... Ну, встретил юноша девушку, заговорил с ней...
Он исподлобья взглянул на конюха:
— Это точно было?
Слуге стало легче от того, что миновала гроза, которой он опасался. Но в то же время его задело, что хозяин явно не придает значения этой новости. Наверно, хочет ее обесценить. А слуга надеялся, что выиграет в глазах хозяина, сообщив ему такую важную вещь. Он торопливо добавил:
— Я еще кое-что должен сказать тебе.
Тут уже Реметалк не смог скрыть своего любопытства:
— Что?
Слуга переступил на месте:
— Он держал ее за руки. Когда они увидели, что я иду сверху, тут же отпустил ее.
Реметалк терпеливо ждал:
— Ну и...
— Она вырвалась от него, схватила кувшин с водой и побежала вверх по тропинке...
Слуга делал вид, что колеблется, продолжать или нет, а Реметалк уже еле сдерживал злость от того, что тот медлит.
— Ну и дальше?..
— ... а незнакомец долго смотрел ей вслед.
У Реметалка чуть не вырвалось: "А она?" Но он вовремя сообразил, что неприлично говорить со слугой о том, как держит себя дочь с незнакомым молодым человеком. Потому что так, чего доброго, можно натолкнуться на подробности, которые затронут ее честь. И чтобы вытащить из слуги еще что-либо, не упоминая прямо о дочери, он перенес свое любопытство на незнакомца.
— Ну, а он... что... куда пошел?
Тут уж слуге выпал случай прихвастнуть своей находчивостью, и он не устоял перед искушением этим воспользоваться:
— Он стоял у меня на пути, и я сказал, чтобы он не мешал мне вести коней. Но он не послушался, и мы сцепились... И он на спор схватил самого сильного коня за хвост и повалил его.
Он тут же подумал, что не надо было снова говорить о шутке, которую проделал с хозяйским конем незнакомый юноша. Но Реметалк пропустил мимо ушей слова конюха об оскорблении лошадиного достоинства. Он думал о другом.
— После этого ты видел их вместе?
Конюх ожидал такой вопрос:
— Видел.
— Когда?
— На другой день.
— Опять там?
— Нет... Хотя, можно сказать, и там...
Реметалк молчал. Слуга немного удивился, что хозяин не стал уточнять место новой встречи его дочери с юношей. Может быть, его это не интересует? Но тогда пропадали важные подробности, которые хозяину следовало бы знать. Поэтому не дожидаясь нового вопроса, слуга выпалил:
— Они ходили в лес.
Реметалк вздрогнул, он вовсе не хотел услышать того, что сказал сейчас слуга:
— Откуда ты знаешь, что ходили?
В нетерпеливом вопросе слуга почувствовал больше обостренного любопытства, чем неудовольствия, и спокойно пояснил:
— Они возвращались не со стороны чешмы...
Реметалк не стал больше ничего выяснять. Но слуга на этом не остановился:
— Он нес ее на руках... Высоко поднял... как поднимают детей, когда хотят напугать. А на опушке леса спустил на землю, и они снова взялись за руки... и держались долго, дольше чем в первый раз. И еще говорили... только я не слышал о чем...
Реметалк насупился. Слуга знал больше того, что ему следует знать о поведении хозяйской дочери. Тут он перестарался. Потому что и преданность должна иметь свои границы.
Обычно вспышки радости или гнева проявлялись у Реметалка тогда, когда этого меньше всего можно было ожидать. Потому что помимо многих прав, которыми он обладал, у него было еще и право на произвол, которым он довольно часто пользовался. Он радовался или гневался, не считаясь с соображениями слуг. Его реакции не могли предугадать даже самые прозорливые угодники и льстецы.
Так произошло и на сей раз. Слуга уже предвкушал похвалу за усердие, давшее ему возможность раскрыть тайну свиданий Родопиды с незнакомцем, а вместо этого Реметалк мрачно спросил:
— Почему ты не сказал мне обо всем в первый же день?
Конюх, не ожидавший такого поворота событий, все же нашелся:
— Я думал, что они перестанут встречаться.
— Ты не имеешь права думать. Твое дело смотреть и говорить мне, что ты видел. А мое дело — думать, рассуждать и решать, как поступить. И ты столько времени молчал о том, что надо было сообщить мне сразу же! Ну ладно, после их первой встречи ты ожидал, что они перестанут видеться. А почему ты не сказал мне о второй?! Почему не пришел ко мне тогда же?
И опять у слуги было готовое оправдание:
— Но тогда пришли сватать Родопиду. Как же я мог тебя рассердить тогда, когда ты должен быть веселым?
Действительно, в тот день к Реметалку пришли сваты, чтобы вести с ним переговоры о выдаче Родопиды замуж за важного сановника. Он служил при дворе царя. Потому Родопида и не могла тогда выйти из дому, — ее не пускали к источнику, она все время должна была находиться при посланцах своего жениха. Так что слуга был совершенно прав, — в те дни нужно было щадить спокойствие и хорошее настроение хозяина. Но Реметалка нелегко было удовлетворить объяснением, которое наполовину оправдывало виновного.
— Но сваты уехали три дня назад, а ты пришел ко мне только сегодня. А мы еще удивляемся, почему Родопида перестала есть после того, как мать запретила ей ходить к источнику. Удивляемся, почему она молчит. Ты должен был прийти ко мне сразу же после отъезда гостей.
Но если господин всегда имеет возможность поставить слугу в трудное положение, слуга имеет право вывернуться любым способом — хитростью, унижением, обманом, лишь бы успокоить своего господина. И слуга сообразил, как ему выйти из затруднения:
— Я боялся, ты скажешь, что я сую нос в чужие дела.
Но Реметалк и тут нашел, как вывести виновного на чистую воду.
— Дела господина не могут быть чужими для слуги. Ты виноват, что столько времени молчал.
Реметалк задумался. Может быть, он придумывал наказание слуге.
— Ладно, посмотрим еще, как быть со всем этим... Скажи мне, что ты думаешь об этом юноше? Кто он?
— Он сказал, что служит конюхом у одного господина по ту сторону гор. Но сдается мне, что это не так.
— Почему?
— Не похож он на простого человека... как мы, конюхи. Да и молод слишком, чтобы так разбираться в лошадях...
— Только по одному этому нельзя судить, конюх он или нет.
— Есть и другое.
— Что другое?
— Речь его уж больно не похожа на речь конюха. Он назвался конюхом, чтобы разыграть меня. Но меня не так-то просто обмануть.
— Ты прав... обмануть тебя трудно... Ты тертый калач. Кто хочет тебя надуть, должен пуд соли съесть. Но... не будем гадать, кто он. Этот человек должен явиться сюда, ко мне. А сам он не придет. Так что ты должен привести его. И я прощу тебя за то, что сообщил мне о нем так поздно...
Слуга вздрогнул:
— Я не могу, господин.
— Сможешь, — вспыхнул Реметалк, давая этим понять, что не потерпит возражений.
— Ты его не знаешь... не видел, потому и не знаешь, на что он способен. Он же скакал верхом на этом звере, с которым никто из нас не может справиться. Вскочил ему на спину и гонял по всему полю.
— Вот именно потому я и хочу посмотреть на него.
— Он очень силен...
— Ты же не будешь с ним драться. Только приведешь его ко мне.
Слуга почесал в затылке:
— Это можно сделать... если нас пойдет несколько... Тогда мы схватим его, свяжем и приведем.
— Плохо ты меня понял. Я посылаю тебя не бороться с ним, связывать и тащить силой. Ты только позовешь его, и он пойдет сам.
— Ааа... Если так... А если он о чем-то догадается... И скажет, что не хочет...
— Ты ему скажешь, что я его приглашаю. Что хочу его видеть. Что у меня много коней для объездки, даже более диких, чем тот, на котором он скакал... Так что пусть приходит.
Реметалк нахмурился. Но слуга понял, что это только притворство. Потому что готовя кому-либо подлость, человек испытывает удовольствие, хотя и скрывает это. Но не дело слуги выяснять, о чем думает и что замышляет господин. Дело слуги — угождать своему хозяину.
Когда слуга пришел на то место, где рассчитывал найти Спартака, он уже знал, как себя вести, чтобы умерить свое участие в коварном замысле. Он решил пригласить юношу в имение, ничего не объясняя ему. В конце концов тот может и не спросить, почему вдруг ему оказано такое внимание. Так и вышло. Спартак не поинтересовался, зачем его зовет Реметалк. Он был польщен тем, что его пригласил столь знатный и самый богатый человек во всем этом краю — в долине Среднего Стримона. Все произошло так, как было задумано, хотя и закончилось совсем иначе.
С того дня Спартак перестал ходить во владения Реметалка, прятаться в роще и с надеждой смотреть на тропинку, ведущую к источнику. Незачем было ходить. Родопида никогда уже не появится там. И он ее никогда не увидит.
Спартак отправился к отцу в город.
— ... Зачем тебе ехать так далеко? — спросил его Меток.
— Я знаю, что понтийский царь Митридат принимает в свою армию чужеземцев.
— Ты хочешь пойти к нему на службу?
— Да!
— А что дальше?
— Я изучу военное искусство.
— Это тебе нравится больше, чем другие занятия?
— Даже если и не нравится, может когда-нибудь понадобиться.
— Разве у него мало своих людей, что он берет чужеземцев?
— Они ему помогают покорять земли, которые находятся за пределами его царства. Когда он предпринимает походы против других народов, ему бывают полезны люди, знающие язык этих народов, их нравы, обычаи... А когда эти чужеземцы верны Митридату, он назначает их своими наместниками на покоренных землях.
— И тебя интересуют чужие земли?
— Меня интересует только наша земля.
— Поясни.
— Наша земля может понравиться Митридату, потому что богата и красива.
— И ты считаешь что ему нужны верные люди для того, чтобы ею управлять?.. Считаешь, что он захватит нашу землю?
— Наши племена враждуют между собой, так что любой завоеватель может подумать, что ему не трудно будет нас покорить. А Митридат — самый могущественный из всех близких и далеких царей, которых столь сильно влекут чужие земли. И я не удивлюсь, что когда-нибудь и он позарится на наши богатства, если только его не опередит кто-либо другой.
— И ты собираешься помочь ему в этом деле?
— Я думаю, что если он захочет захватить нашу землю, я ему так помогу, что он в этом быстро раскается. В гости без приглашения не ходят. Клянусь справедливыми богами, которые нам покровительствуют, я сдержу свое слово.
Спартак склонил голову, как бы ожидая от отца благословения. Он стоял так, пока Меток не поднял правую руку и медленно опустил ее на плечо сына:
— Может быть, у тебя на душе какая-то тяжесть. Если это так, отнеси ее на чужбину и оставь там. И пусть твое возвращение будет радостным для тебя, для меня, и для всех нас.
12.
Крутые и пологие склоны холмов выглядели нарядно и весело. Под каждым кустом, возле каждого деревца, за каждым камнем красовалась чемерица. Теплый ветерок с юга шаловливо заигрывал с водами Стримона, которые мчались туда, откуда летел он. От растаявших горных снегов река разлилась, стала полнее и шире, тени деревьев, стоящих на ее берегах, плескались в воде. Далекие горные вершины казались ближе в прозрачном воздухе.
В такие ясные дни голубая линия горизонта выглядела тоньше и светлее.
Верхушки деревьев слегка покачивались, словно улавливая таинственные сигналы всегда желанной весны, уже начавшей свое праздничное шествие по всем пределам.
По горным склонам устремлялись к Стримону веселые ручьи. Они выныривали из низких туннелей, образованных сплетением веток, мчались по отлогим спускам, прятались в каменистых ложах, — порой белопенные, порой густокремовые, как сливки в топленом овечьем молоке, — игриво перекатывались на своих пышных мягких постелях из золотисто-зеленого мха.
На далеких горных отрогах, в глубоких урочищах — там, куда еще не долетел горячий эгейский ветер, — белели разорванные снежные клочья.
В долинах, в затененном свете спокойного дня с тихим шелестом свершалось последнее таинство проводов зимы.
Спартак возвращался из Боспорского царства. Несколько лет он прослужил в армии Митридата, постигая тайны и тонкости военного искусства. Он отличился в боевых походах, что стало предметом зависти молодых командиров, стремившихся не отстать от него в продвижении к более высоким военным должностям. Чужая зависть помешала ему подняться выше командира манипулы, хотя знания и способности вполне позволяли ему командовать когортой или даже легионом. Нежелание и неумение Спартака угодничать перед высшим начальством тоже препятствовало его повышению.
Но не по этой причине покинул Спартак армию Митридата. Его войско было сборищем представителей разных варварских племен, и в походах воинов больше воодушевляли не военные победы, а последующие грабежи и дележ добычи.
К заходу солнца Спартак добрался до имения. Там он застал отца, приехавшего из города, — нужно было встретить стада, которые возвращались домой с побережья Эгейского моря, где проводили зиму на вечнозеленых пастбищах.
К вечеру со стороны горных отрогов послышалось треньканье медных колокольцев.
По узкой каменистой дороге, петлявшей по крутым, поросшим лесом ущельям, длинной вереницей тянулись отары овец. Чем ближе они подходили к местам, где находились их кошары, тем чаще и громче блеяли овцы, выражая свое нетерпение.
Когда-то в детстве Спартак, заслышав звон, любил выбегать навстречу отарам и встречать их на той излучине, откуда Стримон устремляется вниз, и взору открывается широкая долина.
За ужином Спартаку показалось, что отец и дед чем-то обеспокоены. Он украдкой поглядывал на них, стараясь, чтобы они не заметили, что он за ними наблюдает.
— Овцы, по-моему, достаточно упитаны, да и у коров спины гладкие, — заметил Спартак, — пастбища были богатыми, хорошо перезимовал скот.
— Ты прав, — отозвался Меток, — плохо только, что это было в последний раз.
— Почему?
Спартак поглядел на своих сотрапезников. Отец промолчал, за него ответил дед Спарадок:
— Пеонцы не хотят больше пропускать наш скот через свои земли, а иначе на эгейские пастбища не попадешь. Они стали останавливать и караваны с пшеницей, которые мы отправляем в Элладу в обмен на маслины. И повозки с вином не пропустили. Ну да с вином проще — нальем в овечьи мехи и перевезем вьюками на лошадях и ослах по горным дорогам, объезжая по долинам Нестоса.
Спартак вопросительно взглянул на отца, который ел, избегая вступать в разговор, потом снова обратился к деду:
— Не поделили что-нибудь при пограничных спорах?
— Было дело, конечно, но мы им уступили. Потом они снова стали к нам придираться, а на днях прислали послов, которые передали, что пеонцы больше не будут пропускать нас через свои земли.
— Не надо было ссориться.
— Тут причина другая, — вступил в разговор отец. — Рим натравливает их на нас.
Спартак замер.
— Это плохо. А почему вы думаете, что их подстрекает Рим?
— Там, где Стримон впадает в море, высадилось римское войско. Наверно, римляне заключат союз с пеонцами.
— Заключат или нет, неизвестно, — возразил старик и провел рукой по усам и бороде, стирая с них жир. — Я думаю, они и нам что-нибудь такое предложат.
— Почему ты так думаешь?
— Их человек, прибывший из Рима, шепнул нашему правителю, что если нам нужна будет помощь против пеонцев, то они нам ее окажут.
Спарадок подкрутил ус:
— Это все равно... что зайцу говорить "Удирай!" а собаке — "Лови!"
Спартак задумался:
— А где же они пройдут?
— А им и не надо для этого ниоткуда приходить, — ответил Меток. — Если надо, к нам можно подойти с севера — с дентелетами они ладят, и те пропустят их через свою территорию. Но зачем им такой обходный путь? Сейчас они в устье Стримона и могут ударить прямо в спину пеонцам.
— Только для того, чтобы помочь нам? — спросил Спартак.
— Им это очень легко сделать.
— Странно только, с чего это вдруг они решили проливать свою кровь за нас.
— И меня это удивляет. Но так и было сказано нашему правителю: "Держитесь, мы вам поможем".
— А ты что думаешь об этом? Зачем они предлагают нам свою помощь?
— Прежде всего, чтобы натравить нас на пеонцев. А зачем — уж им-то лучше знать!
Этой ночью Спартак долго не мог уснуть.
В имении словно блуждало что-то невидимое, разнося повсюду необъяснимую тревогу. То вдруг громко звенел коровий колокольчик — это мотала отяжелевшей головой проснувшаяся корова. То дробно вызванивал овечий звоночек — какая-то овца вздрогнула сильно во сне...
13.
На Совете старейшин Спартак подробно рассказал о том, что видел и что узнал во время пребывания в Понтийском царстве. В конце беседы ему сообщили, что к медам прибыл посол понтийского царя Митридата для переговоров о заключении союза против Рима.
— Вовремя же прибыл этот посол, — сказал Спартак. — Как видно, при дворе Митридата хорошо знают, что делается в Риме. И чего же хочет от нас понтийский царь?
— Он просит пропустить свое войско через наши земли, чтобы встретить римлян, высадившихся в Элладе. Тем самым он не даст им идти к нам.
— И больше он ничего не просит?
— Он просит, чтобы мы помогли ему конницей и пехотой.
— А он сказал, кто будет кормить его войско?
— Об этом он не говорил, да и мы не спрашивали.
— Получается, что о пище для солдат он позаботится тут, на месте. Так уж у них заведено: куда они приходят, там и берут у людей то, что им нужно.
— Мы еще спросим об этом, — сказал самый старший в Совете старейшин. — Сегодня вечером и продолжим разговор. А пока что он принес от Митридата предложение стать его союзниками, вместе биться против римлян. Если не можем сразу ответить, он дает нам время подумать.
— Вы уже решили, что ему ответить?
— Если римляне придут сюда, нам будет трудно с ними справиться, потому что наши племена враждуют меж собой.
— И я так думаю. Если мы пустим на свою землю Митридата, они не станут срывать листья с фруктовых деревьев. Наверняка останутся целы наши дома... хлевы... курятники — все, что прочно стоит на земле. Солдаты Митридата не берут больше того, что могут съесть, унести на спине и в седле или увезти на повозке. Но беда в том, что их много — если каждый возьмет то, что ему под руку попадется, мы будем разорены... Я участвовал в нескольких понтийских походах и знаю, что происходит там, где проходит Митридат — как победитель, и как союзник.
Старейшины молчали.
— Митридат силен, — сказал немного погодя один из них, — он может прийти к нам и без приглашения. Зачем тогда предлагать нам союз и защиту от римлян?
— Но так же легче — войти без боя, не пролив ни капли крови. Таким способом он истоптал и ограбил уже не одно слабое царство. В его обычае — выбирать земли, которые ему нравятся, и предлагать союз тамошним племенам. Он входит как гость, потом располагается как хозяин, грабит людей и перебирается в другое место, где есть чем поживиться.
— Но если мы не согласимся пустить его, это сделают пеонцы.
— Он попытается обмануть нас всех поодиночке, если мы будем медлить и позволим ему выбирать, куда сначала идти. Пора уже понять, что всем нам угрожает одно и то же. Хуже всего будет тому, кто первым окажется на его пути, но и другим выпадет та же доля. Никому этого не миновать.
— Откуда же он ударит сначала?
— Откуда ни ударит — все равно. Он может пройти сюда и через Родопы и через долину Хеброса.
— Если мы дадим ему воевать с нашими племенами поочередно, он всех нас перебьет. Но если мы объединимся — поначалу хотя бы несколько племен, чтобы подать пример остальным, Митридат еще подумает, с кого начать, куда идти и вообще стоит ли с нами воевать.
— Заключить союз между нашими племенами будет нелегко. До сих пор мы еще ни разу не объединялись с соседями. Всегда существовала помеха этому.
— Но сейчас есть ради чего сговариваться. Потому что наши земли привлекают и Митридата, и римлян. Я думаю, что нельзя больше медлить, надо отправить послов к ближним и дальним соседям. И мы должны идти на взаимные уступки. Пока не поздно, нам нужно стать союзниками и вместе встретить опасность, откуда бы она ни шла.
— Но как же мы сможем договориться... скажем, с пеонцами, если они не хотят больше пускать наши стада на эгейские пастбища и наши караваны с товарами в Элладу?
— Они наказывают нас за то, что мы не помогли им отразить нападение ситонов. А когда на них нападут римляне, мы можем исправить свою ошибку.
Старейшины пожелали царскому послу доброго пути и обещали, после того, как они посоветуются с соседними племенами, начать общие переговоры с Митридатом.
А к пеонцам сразу же отправили гонцов с предложением заключить союз против любого врага, откуда бы он ни появился.
После продолжительных споров пришли, наконец, к согласию. Договорились также продолжать переговоры между медами и Митридатом, и между пеонцами и Римом для того лишь, чтобы оттянуть время и ввести в заблуждение и ту, и другую сторону.
Спартак отправился в имение, чтобы провести там лето.
Он шел пешком, выбирая самую прямую дорогу — мимо виноградников, через луга и пышные рощи, по заросшим терновником оврагам и ущельям с журчащими в них ручьями, под куполами высоких дубов-великанов. Войдя в знакомую лощину, он остановился возле источника, где под тенистым заслоном свисающего дикого винограда текла из деревянной трубки холодная струйка воды. Подставив ладони, он напился и снова двинулся по тропинке.
Подойдя к дому, он увидел деда Спарадока, который что-то мастерил, время от времени поглядывая на луг, начинавшийся за забором, не выскочит ли из ближайшей рощи лиса, не сунется ли к курам, которые копошились в траве, выискивая кузнечиков и муравьев.
У летнего дома было прохладно и в самые жаркие дни — он стоял в тени четырех больших вязов, росших по углам дома. По их ветвям вилась виноградная лоза, с которой свисали крупные грозди.
Спартак обычно вставал и отправлялся бродить по лесу, откуда возвращался со связкой фазанов — он умел стрелой сбить птицу на лету.
В полдень любил сидеть под навесом, разглядывая фруктовые деревья — их ветви отяжелели от плодов, от жары, от молчания.
На плодах тут и там уже появились первые краски созревания — золотисто-розовые или темно-красные пятнышки... Словно открывались бесчисленные глаза осени, которая щедро одаривает эту землю и ее тружеников фруктами и всевозможной другой благодатью.
Да, осень понемножку давала о себе знать. Легкий ветерок, разворошив листья на какой-нибудь ветке, обнажал засохший желтый лист. По вечерам сверчки вызванивали в траве свое серебряное "зрей, зрей!", словно напоминали виноградным гроздьям, что пора уже наливаться густой сладостью.
Осень обещала обильный урожай винограда, ясные дни и безоблачное небо, праздничное веселье с играми и песнями, с дробным девичьим смехом, с обильным угощением и мудрыми беседами стариков.
Римский легион, высадившийся с кораблей в устье Стримона, двинулся вверх по речной долине. Недалеко от первого поселения легионеров встретил военачальник пеонцев Садал со своим войском, собранным для совместного с римлянами сражения с медами. Войско пеонцев показалось римскому полководцу Помпедию Долабелле малочисленней, чем он ожидал по сведениям о приблизительной населенности этих мест.
— Маловато у тебя солдат, — сказал он Садалу.
— Если бы у меня их было много, я не нуждался бы в помощи Рима, — добродушно улыбаясь, ответил предводитель пеонцев.
Помпедий Долабелла обошел отряды, походившие больше на разношерстную толпу, и решил, что они не нужны ему даже как вспомогательные войсковые части. Садал с приветливой улыбкой пригласил его со всем преториумом на дружескую трапезу. Отказ римлянина прозвучал для Садала совершенно неожиданно:
— В походе римские командиры едят то же, что и солдаты, и никогда не принимают пищу отдельно от них.
Садал снова улыбнулся, на этот раз несколько смущенно:
— Сегодня мы... не подумали о солдатах.. Но я сейчас же распоряжусь, чтобы на завтра все необходимое было подготовлено.
Долабелла ответил:
— Это не понадобится ни завтра, ни в какой-либо другой день. Римский воин всюду, куда приходит, питается только ржаными сухарями и овсяной кашей...
Садал попытался возразить:
— Но здесь вы у союзников. Вы нас обидите, если откажетесь сесть вместе с нами за дружескую трапезу. Ты не хочешь уважить наше гостеприимство.
Долабелла снисходительно улыбнулся, после чего стал опять серьезен:
— Мы, римляне, наслышаны о фракийском гостеприимстве. Мы знаем, что его надо уважать. И чтобы ты не обиделся, что я отказываюсь от него, я объясню тебе причину. Я верю, что нам понравились бы ваши яства. Но ни я, ни мои солдаты не вкусили от ваших блюд, от вашего вина, от плодов вашей благодатной земли, пока шли сюда. Ты можешь послать своих конников и проверить, сорван ли на нашем пути хоть один плод с дерева, хоть одна гроздь с лозы.
Садал смотрел с откровенным недоумением. Он хотел, но не решался спросить, почему римские гости проявляют такое самоотречение там, где должны чувствовать себя как дома. Долабелла прочел в его глазах этот вопрос и продолжал, пряча улыбку:
— Наш солдат знает, что в походе он не имеет права посягать ни на что, и не только потому, что нельзя грабить и озлоблять население, но и потому, что испытано, проверено и доказано: только ржаные сухари и овсяная каша — пища, наиболее подходящая для солдата в походе. Только она не приносит вреда желудку и не вызывает эпидемий при любом климате.
— Я верю тебе, римлянин, — воскликнул пеонский военачальник, ошеломленный тем, что он услышал. И подумал про себя: "Эти люди опасны. Потому они и завладели миром
Долабелла продолжал:
— Лишь в одном мы воспользуемся вашим гостеприимством: вы покажете нам, где лучше разбить лагерь.
— Там, где вам понравится. Есть красивый лес по ту сторону реки, там можно хорошо устроиться в тени. Очень удобное место для отдыха.
— Нам не нужна тень, но нужна вода поблизости. Есть ли у реки луга?
— Есть.
— Тогда мы расположимся там... Мы не боимся нападения, потому что знаем, что мы — среди союзников. Но римский воин привык соблюдать режим, в который входит и обязанность разбить лагерь там, где его застал вечер, вырыть вокруг лагеря ров и сделать насыпь, пусть даже на это уйдет вся ночь.
Пеонский военачальник был удивлен, даже испуган тем, что римляне не тронули ни фруктовых садов, ни виноградников. Он не мог этого понять, ему казалось, что так не бывает.
А утром, покидая лагерь со своим легионом, Помпедий Долабелла сказал ему:
— Если даже меды не примут нас, как добрых друзей, нам вряд ли потребуется ваша помощь. Для нас достаточно знать, что вы наши союзники.
14.
Римское войско вступило на землю медов, когда перевалило за полдень.
Помпедию Долабелле не к кому было послать своего представителя с предложением, чтобы фракийское население миролюбиво встретило римских легионеров, потому что они несут ему порядок и спокойствие. Он выбрал место для лагеря и приказал сразу же выкопать ров — глубиной и шириной в три метра — и сделать насыпь такой же высоты.
Место для лагеря было выбрано исключительно удачно: равнина, а рядом приток Стримона с голыми берегами, очерченными тонкой каймой ивняка, вокруг — обширные луга. И лишь на горизонте — рощицы и фруктовые сады, где противник тоже не мог незаметно расположить значительные силы.
Перед заходом солнца из-за низких лесистых возвышений на том берегу реки показался небольшой фракийский отряд. Помпедий Долабелла подумал, что это разведка вражеского войска. И он приказал когортам, охранявшим главные ворота (таких ворот было четыре), построиться лицом к неприятелю, а всем остальным еще усерднее продолжать свою работу по устройству лагеря.
Появились еще три отряда, но и это не было той силой, которая заслуживала серьезного внимания и представляла бы угрозу для легиона.
Фракийцы приблизились и остановились в сотне метров от реки. Они расположились не лагерем, а открытым станом. Вид их не был угрожающим. Они только наблюдали. Как будто им было просто забавно смотреть, как римские воины копают ров вокруг своего лагеря. И лишь когда работа была почти закончена, появились, по-видимому, главные силы противника. Они заполнили все пустое пространство за рекой, что позволило приблизительно оценить численный состав медов.
Долабелла, изучая обстановку, думал:
"Они дождались, чтобы мы построили лагерь, и только тогда появились, чтобы показать нам, сколько их. Словно они собираются драться с нами честно. Но, может быть, они решили опровергнуть мнение, что любят нападать главным образом ночью? Или у них есть и другие отряды, спрятанные где-нибудь поблизости? И завтра они подождут, чтобы мы вышли на открытое место, и тогда нападут на нас?"
Он много слышал о коварстве фракийцев, об их умении устраивать противнику ловушки. И он удивлялся, что до сих пор они не напали из засады даже на арьергард, чего он очень боялся. Что же они замышляют сейчас?
Он предпочел не делиться с командирами когорт своими мыслями о том, что фракийцы способны на любой подвох. Пусть лишь для него остается загадкой их необычное поведение.
Едва римляне закончили укрепление насыпи с помощью кольев и поперечных связок, как стало темнеть. Фракийцы вели себя спокойно, не подавали никаких признаков того, что собираются нарушить спокойствие противника. Вероятно, они решили начать сражение на заре. Но нападать днем, да еще на открытом месте?! Это противоречило фракийской тактике...
Когда уже совсем стемнело, римские секретные посты заняли свои позиции, но не обнаружили ничего подозрительного. Некоторые из них расположились у самого берега реки, откуда можно было ожидать внезапного нападения фракийцев.
У всех главных ворот лагеря была выставлена усиленная охрана.
Воины легли спать.
Может быть, случайно вышло так, что войска встали лагерем одно против другого на берегах одной и той же реки? Может быть, нигде не было более удобного и более широкого плацдарма для размещения двух армий? Словно полководцы по молчаливому соглашению избрали это место для встречи, и у каждого из них были свои соображения остановиться здесь. Или правильнее — римский военачальник избрал этот берег, а фракийский предвидел, что лагерь будет находиться именно тут. Потому что он знал, что римляне выбирают для лагеря пространство у реки и на открытом месте. А поскольку известно, какое расстояние может преодолеть за день римская армия, вовсе нетрудно предположить, где она остановится к такому-то сроку.
Войска не знали друг друга, в войнах до сих пор не встречались, и было нормальным их взаимное уважение. Ибо если уже известный противник заслуживает уважения, потому что его воинские качества прошли проверку, то незнакомый тоже заслуживает уважения, как раз благодаря его неизвестности, делающей его загадочным и способным удивить какой-либо неожиданностью.
Помпедий Долабелла не раз командовал войсками в сражениях и знал, что никакая сила не могла расстроить ряды его воинов, нарушить боевой порядок римского легиона. Он хотел только одного: чтобы эта ночь в лагере прошла спокойно. А рано утром он поднимет отдохнувших воинов в бой с легко и сравнительно слабо вооруженным противником, о котором имелись сведения, что он может быть опасен только для армии с невысокой воинской моралью. Конечно, это не давало римскому полководцу оснований несерьезно относиться к противнику. Никакая самоуверенность не должна переходить в легкомысленную самонадеянность. Особенно по отношению к врагу, сведения о котором получены из третьих рук. Потому и сейчас Долабелла приказал принять все меры предосторожности и расставил сторожевые посты позади рва так близко, как сделал бы, организуя ночлег поблизости от любого другого, заведомо сильного противника. Ничего, что их разделяла река, бывшая весьма надежной преградой, исключавшей внезапность нападения.
Двум враждебным армиям оставалось лишь воспользоваться ночным отдыхом, чтобы утром со свежими силами начать сражение.
Приближалась полночь.
Мрак и тишина царили вокруг.
За стенами лагеря бодрствовали только секретные посты и часовые, расставленные вдоль глубокого рва. Внутри не спали когорты, защищавшие главные ворота, — воины находились в полной боевой готовности для отражения внезапного нападения противника. В самом центре лагеря не спала и центурионская стража перед палаткой преториума.
Расстояние между римлянами и фракийцами было столь ничтожным, что они могли бы переговариваться.
Фракийский военачальник Мукапор подошел к самому берегу реки. Вместе с ним были переводчики и Спартак, а сзади полукругом выстроились командиры отрядов. Мукапор обратился к переводчику:
— Скажи им, что я хочу говорить с их военачальником.
Переводчик крикнул:
— Эй, кто там есть... Пусть явится ваш предводитель, потому что мы хотим с ним говорить.
И снова наступила тишина.
Через несколько минут со стороны римского лагеря послышалось:
— Важно ли то, что хочет мне сказать ваш предводитель?
Мукапор положил ладонь на рукоятку меча и спросил переводчика:
— Что они говорят?
— Спрашивают, важно ли то, что ты им намерен сказать?
— Скажи ему, что с важными собеседниками можно вести только важные разговоры.
Дождавшись, когда переводчик переведет эту фразу, Мукапор добавил:
— Спроси его, зачем они пришли и что им нужно на нашей земле?
Переводчик перевел вопрос.
С той стороны послышалось:
— Что нам нужно, увидите завтра!
Мукапор только улыбнулся в темноте и велел переводчику передать:
— Обещаю, вы получите то, что вам нужно!
Он считал, что эта угроза имела вполне приличную форму и ее можно было воспринять только как добросовестное предупреждение.
После небольшой паузы римский предводитель попросил передать:
— Раз вы хотите знать цель нашего прихода, то я скажу: мы пришли посмотреть на вашу землю.
Мукапор положил руку на плечо переводчика:
— Спроси его, считают ли они удобным приходить в гости в пору сбора винограда?
С того берега ответили:
— Да, считаем, что удобно!
Мукапор повернулся к Спартаку.
— Спартак, что ему еще сказать?
— Скажи, что они могли бы подождать, пока будет готово вино, раз уж собирались к нам в гости.
Мукапор сделал знак переводчику.
С той стороны ответили:
— Мы не спешим, можем и подождать. Думаем, что нам будет здесь приятно.
Мукапор предоставил Спартаку продолжать разговор, соглашаясь с его ответами или вопросами кивком головы.
— Обычно гости на третий день наскучивают.
— Да, но это относится лишь к гостям, — ответили с римской стороны, из чего стало ясно, что там хорошо поняли намек. — Хватит ли у вас дерзости показать, что мы надоели?
— Да, если вы предпочитаете, чтобы вас встретили как нахлебников, а не как гостей.
— Это похоже на угрозу.
— Мы просто хотим вам объяснить, как встречаем тех, кто приходит к нам без приглашения.
Мукапор одобрительно похлопал Спартака по плечу:
— Отлично! Так и продолжай! Если бы я говорил с ними, я бы очень скоро пустил в ход ругательства, и разговор на этом бы закончился, а так мы лучше познакомимся, разберемся... кто чего хочет...
Противоположная сторона не хотела оставлять впечатление, что не умеет вести беседу, в которой вежливость граничит с надменностью — оба качества были одинаково присущи римским завоевателям:
— Хотите уверить нас, что вы — серьезный противник?
— Предпочитаю, чтобы вы сами в этом завтра уверились. Мечи убеждают лучше, чем слова.
— Тогда лучше лечь спать, чтобы завтра со свежими силами приняться за работу.
Когда обе стороны пришли к взаимному согласию на словесное перемирие, чтобы отдаться мирному сну, Мукапор пожалел, что они упустили возможность придать разговору законченность и произвести на римлян особое впечатление:
— Можно было бы послать им хорошенькую порцию ругани как напутствие ко сну.
Спартак возразил:
— Они ничего не поймут.
— Он мог бы им перевести, — указал Мукапор на переводчика.
— У них нет таких ругательств, — возразил тот.
И он объяснил Мукапору, что бранные слова, употребляемые римлянами, служат лишь для выражения злости на кого-то, но ими нельзя оскорбить, унизить человека, привести его в состояние подавленности. Латинский язык, в отличие от фракийского, беден для изъявления недобрых чувств.
Фракийский вождь отправил командиров к своим отрядам. И тотчас же начался отвод войск. Фракийцы двигались бесшумно, двумя потоками, туда, где их ожидали конники, каждый из которых держал на поводу по несколько коней. Пехотинцы садились на коня по двое. И уже через полтора часа фракийцы отошли от римлян на такое расстояние, которое те могли преодолеть лишь к полудню следующего дня.
Римские легионеры, построенные в боевом порядке, больше часа ожидали атаки фракийцев, центурионы и командиры когорт были начеку, — вот-вот раздастся яростный рев, обычно сопровождавший ночные атаки фракийцев. Озадаченный долгим затишьем, Помпедий Долабелла разрешил половине своего войска лечь отдыхать, а вторая половина в полной готовности ожидала начала битвы до сигнала побудки.
15.
Перед рассветом, еще в темноте, римский полководец отдал приказ разбудить воинов, чтобы они могли, сложив палатки, построиться для нападения — он хотел использовать преимущество внезапности. Но, поднявшись на насыпной вал возле одного из наблюдательных постов и взглянув в сторону фракийского стана, он не увидел ни малейших признаков человеческого присутствия на том берегу реки. А когда совсем рассвело, он понял, что фракийцы исчезли, словно их никогда там и не было.
Долабелла долго разглядывал окрестности, чтобы снова и снова увериться в том, что враг действительно покинул место расположения, и самодовольно улыбнулся:
— Всегда приятно, когда перехитришь врага. Особенно, когда он опасный. А эти варвары известны своим коварством.
К Долабелле подошел командир одной из когорт. Он тоже посмотрел на опустевший фракийский стан и спросил, не скрывая удивления:
— Что все это значит? Что ты об этом думаешь?
Долабелла ответил:
— Я думаю, что они считают нас настолько же наивными, насколько себя — хитрыми и мудрыми. Но сейчас мы предоставим им еще одну возможность получше узнать нас. И пусть себе воображают, что мы легко попались им на удочку.
— Но зачем им нужно было появляться здесь вчера?
— Они просто хотели сбить нас с толку. Мне уже ясно, что они и не собирались на нас нападать.
Значит... они играют с нами в прятки?
— Да, но в этой игре участвуют они одни, — ответил Долабелла, по-прежнему глядя на тот берег. — Пусть они прячутся, а мы будем заниматься своим делом.
Он думал о том, что таит в себе незнакомая местность, открывавшаяся его взору далеко впереди — лесистые горные отроги по обеим сторонам реки. Прикинув, что туда можно дойти до наступления сумерек, он продолжал:
— Эти хитрецы хорошо рассчитали, что там мы устроим лагерь, переночуем, а утром двинемся через ущелье. А они займут удобные для нападения места по обеим его сторонам. Наверняка они так считают... и, вероятно, уже радуются, что скоро мы окажемся в их руках. Все они обдумали, только одного не смогли предвидеть — что мы вообще не пойдем туда, где они нас ждут. Да, ловко подстроено, но... без нашего согласия...
Командир прервал его:
— Но как же... мы пройдем через ущелье?
— Мы остановимся по эту сторону гор — и ни шагу дальше!
— А зачем тогда туда идти?
— Мы там построим лагерь и укрепим его как следует. Поэтому, — продолжал Долабелла, — сейчас главная наша забота — выбрать удобное место для такого лагеря. Именно оттуда мы будем давать указания пеонцам, как поступать с медами...
— ... не доверяя полностью пеонцам.
— Я не был бы истинным римлянином, если бы им доверял. Но нельзя назвать истинным римлянином и того, кто для достижения своих целей не привлекает и тех, кому не доверяет. Пеонцы, которым мы поручим управлять медами, вначале будут нас обманывать — пока окончательно не убедятся, что Рим располагает достаточными силами для того, чтобы держать в узде фракийские племена. Власть их опьянит. И зная, что мы дали им эту власть, но так же можем легко отдать ее другому племени, они будут нам послушны. А привыкнут — так даже полюбят нас.
Он обернулся к лагерю. Все было уже убрано. Воины собирались вокруг своих центурионов.
Долабелла и командир когорты спустились с насыпи.
Помпедий Долабелла изменил свой приказ — вместо боевого построения когорты перестроились в походную колонну. Трубы и букцины протрубили поход.
Половина воинов спала в эту ночь совсем мало. Вечером им поручат более легкую работу по устройству лагеря, и они лягут спать раньше других. А чтобы они не клевали носом в походе, особенно в часы полуденного зноя, музыканты с пищалками, сделанными из бедренной кости орла, постоянно поддерживали ободряющей мелодией ритм марша.
Из-за особенностей рельефа легиону пришлось несколько удлинить свой путь, так что воины устали больше, чем при обычном дневном переходе. Остановились недалеко от реки, у рощицы. Впереди открывалась просторная равнина, за которой виднелись пологие голые возвышения, переходящие дальше в пересеченную местность с редким кустарником. С этой стороны не могло быть никаких неожиданностей. С трех остальных сторон тоже была равнина, но не столь обширная. Конная разведка осмотрела и мельчайшие ложбинки вокруг. Лучшего места для постоянного лагеря нельзя было и пожелать.
После короткого отдыха были определены границы лагеря и начались окопные работы.
Но не успели командиры отдать приказ о первой передышке, как с южной стороны показался всадник. Это был дозорный. Спрыгнув с коня, он сообщил, что появилась многочисленная вражеская конница. Вскоре топот множества копыт подтвердил его сообщение. Сразу же был дан сигнал тревоги.
Римских воинов охватил страх. Так перед летней бурей листва деревьев и высокие стебли луговых злаков еще издали чувствуют холодное дуновение приближающейся отвесной стены дождя. Усталые, ошарашенные неожиданным известием, они продолжали добросовестно выполнять указания командиров. Но их как бы оставила обычная уверенность в себе.
А на них неслись свежие силы противника, подстегиваемого яростью и нетерпением прогнать со своей земли непрошенных гостей.
Конница летела длинной и плотной колонной.
Долабелла сразу сообразил, что такой напор может сдержать только многослойная живая стена. Он приказал головным когортам быстро собраться и развернуться фронтом к противнику. А задним когортам построиться на месте резерва, чтобы их можно было использовать там, где потребуется в ходе сражения. Но отдав приказ, Долабелла тут же понял, что совершил ошибку.
Легионеры, уставшие от длительного марша и земляных работ, строились не очень проворно, несмотря на растущую тревогу. Между передними и задними рядами сразу наметилась пустая зона. Долабелла вздрогнул, подумав, что как раз сюда, в эту довольно широкую щель, может легко ворваться вражеская конница. Даже самый бестолковый военачальник обязательно воспользуется этой возможностью, ударит в спину главным силам, раздробит их ряды, у которых уже и времени не останется на перестроение, а тем временем резерв будет изолирован.
Конница, уже почти приблизившаяся к наспех выстроенным когортам, внезапно повернула направо. Пока последовал второй приказ встать лицом к оказавшемуся под угрозой левому флангу, она уже обогнула его и появилась в тылу у выстроенной боевой линии по всей ее протяженности. В пятидесяти шагах от римлян конница резко остановилась. С каждого коня спрыгнуло по два воина, вооруженных лишь короткими, слегка изогнутыми мечами и легкими щитами. На каждую пятерку коней оставалось по одному всаднику, который тут же уводил их с поля брани.
Третий приказ заставил повернуться римлян лицом к яростно мчавшимся на них фракийцам. Уже не оставалось времени на команду метать копья — пилумы. Этим оружием римляне пользовались перед самым началом сражения, когда противник был в десяти-двадцати шагах. Его назначение было пробить щит вражеского воина, вогнать в него тяжелый железный наконечник. Пилум весил около шести килограммов, так что потом щитом уже было невозможно пользоваться, и противник оказывался наполовину обезоруженным, и тут легионер начинал действовать мечом. На этот же раз римлян опередили, и сразу разгорелся рукопашный бой, в котором равных фракийцам не было. С ревом и проклятиями они налетали на римских воинов, яростно орудовали мечами, рубили, кололи. Часть фракийцев — хвост конной колонны — обрушилась на резерв римлян, и там тоже кипела битва.
Оба войска во многих местах вклинились друг в друга, перемешались; царила полная неразбериха. Такой способ ведения боя был чужд римлянам, но свойственен фракийцам. Сила римской армии была в сомкнутом строю, и в точном выполнении команд. Сейчас же шеренги были совершенно расстроены, и в наступившем беспорядке команды не достигали цели. В то же время боевая тактика фракийцев основывалась на ловкости и находчивости каждого отдельного воина, который хорошо знал, как нужно воспользоваться паникой в рядах противника.
Снова послышался топот множества копыт, и точно из-под земли выросли конные отряды пеонцев, которых фракийцы встретили дружным ликованием! А римляне? Будто какой-то неслышный сигнал повернул их к роще, подсказав, что только там можно найти спасение. И они в одно мгновение перестали быть бойцами. Им во что бы то ни стало нужно было достичь рощи раньше пеонской конницы...
Это была уже не битва, а беспорядочная рубка, убийство перепуганных людей, которыми никто не командовал. Они бежали прямо на противника, даже не пытаясь защититься от его ударов, ничего не видя и не слыша, они стремились туда, где, как им казалось, враг не может их настичь...
Меды уже закончили сражение и принялись проворно собирать добычу. Пеонцы довершали истребление беспорядочной толпы вражеских воинов, удовлетворяясь теми, кто попадал им под руку. В этой неразберихе удавалось избежать смерти лишь отдельным группам отчаявшихся беглецов и отдельным легионерам. Побросав оружие, они в панике метались, ища где бы спрятаться. Пеонцы уже не трогали их; заметив, что меды слишком усердно занимаются сбором добычи в римском лагере, они поняли, что если сейчас же не займутся тем же, то останутся ни с чем.
Только конники могли бы сейчас догнать беглецов. Но и они видели, что происходит на опустевшем ратном поле; если не поспешить, то придется возвращаться домой без вещественных доказательств своей победы. Поэтому они предпочли пощадить жалкие остатки римского войска, чтобы не отстать от товарищей по оружию.
16.
Во время боя Спартак со своим отрядом взял в плен весь преториум. Поручив самым надежным бойцам охранять пленников, он продолжал с остальными истребление объятых паникой врагов. Но как только другие командиры отпустили своих конников собирать добычу, и он не стал удерживать своих.
Если бы не стремление фракийцев опередить друг друга в сборе трофеев, вряд ли остался бы в живых хоть один римлянин, чтобы рассказать потом об этой резне, в которой были изрублены тысячи доблестных воинов, прошедших многие сражения и своей силой, боевым умением, своей непобедимостью вселявших страх везде, куда бы они ни приходили.
Во время дележа добычи меды и пеонцы сразу же поссорились. Меды награбили больше и считали, что так и должно быть, потому что их роль была решающей для достижения победы. Пеонцы, не отрицая их заслуг, все же доказывали, что меды в ходе битвы заняли большую часть поля сражения.
Мечи, копья, шлемы, доспехи, палатки, лопаты, мешки с овсом, ржаными сухарями и все, что можно было найти в лагере и снять с убитых легионеров, было принесено на место дележа и свалено в две кучи. Младшие командиры медов и пеонцев ожесточенно спорили между собой.
— Смотрите, сколько набрали вы, и что досталось нам, — кричал один из пеонцев.
— А вы не видите, сколько убито римлян там, где сражались мы, и сколько на вашем участке?
— Мы не виноваты, что так получилось. Они в суматохе бросились в нашу сторону, и вам оставалось только рубить, а мы должны были их удерживать, чтобы они не разбежались, — кто-то из пеонцев попытался приуменьшить заслуги медов.
— Кто сделал больше, тому и добычи больше. Кто вам мешал сделать столько же, сколько и мы?
— Есть договоренность между нашими военачальниками, сказал один из пеонцев, — о том, что добыча делится поровну.
— Но мы же истребили большую часть римского войска, — возразил кто-то из медов. Мы подбирали только то, что было там, где мы дрались. И это — наше по справедливости.
— Добыча общая, и теперь ее надо поделить.
— Посмотрим как вы будете делить то, что заработано чужим трудом...
— И по-вашему не будет! Мы вам не для того помогали...
В стороне от младших командиров стояли Мукапор и Садал. Они видели, что происходит между солдатами, и сами говорили о том же, хотя и спокойнее, приводя в доказательство своей правоты приблизительно те же доводы, что и младшие командиры.
Наконец Мукапор, чтобы склонить союзника к уступкам, сказал:
— Не будем больше спорить. Предстоят новые сражения. Римляне не простят нам гибели своих легионеров и снова вернутся. Вот тогда, даю тебе слово чести, большая часть добычи достанется твоим людям.
Садал подумал и ответил:
— Я не против. Только... Давай спросим моих командиров, согласны ли они ждать до тех пор.
Мукапор продолжал настаивать:
— Сначала надо, чтобы мы с тобой согласились, а потом уже можно спрашивать подчиненных. Нам легче договориться, потому что мы умеем вести переговоры. А они скажут: "Лучше синица в руках, чем журавль в небе".
Садал ухмыльнулся:
— И мне сдается, что они так скажут.
Спартак, наблюдавший со стороны за ожесточенным спором младших командиров, подошел к ним, поднял меч, чтобы водворить тишину, и сказал:
— Стоит ли спорить о вещах, которые не были ни нашими, ни вашими, а упали прямо с неба. И вместо того, чтобы разумно все это поделить, все мы словно с ума посходили, кидаемся друг на друга как псы. Что вы так ожесточились? Разве нельзя толком разобраться? И потом — взгляните на эти груды, — он показал на сваленную добычу, — да разве мы сумеем все это унести домой? На коней по уши навалим, на себя нагрузим и все равно еще останется. Зачем жадничать? Не лучше ли предоставить нашим военачальникам спокойно решить этот спор? Они разберутся. И то, что решат, пусть будет законом для нас.
Шум уменьшился.
Спартак подошел к Мукапору, сказал ему что-то на ухо и вернулся к своим бойцам, которые стояли, упершись ладонями в рукояти мечей, и не принимали участия в перепалке.
Посовещавшись, Мукапор и Садал подошли каждый к своему войску.
Садал сообщил, что решено разделить добычу поровну. Пеонцы встретили это известие шумным ликованием.
Меды молчали.
Мукапор подал знак своим командирам следовать за ним.
Они отошли в сторону. Мукапор подождал, когда воцарится тишина, и мрачно произнес:
— Не думайте, что мы в убытке. Ну что мы выиграем, если разрушим союз с пеонцами? И из-за чего? Из-за каких-то лопат и палаток, которые мы подобрали, только чтобы они не валялись, где попало?
Чтобы оправдать свою уступку пеонцам, он выразил свое пренебрежение к этим вещам почти добродушным ругательством и продолжал:
— Посмотрите как много вам достанется, даже если мы отдадим им половину всей добычи. И не лучше ли по-братски поделиться с соседями, чем разойтись, как враги? Они ведь не простят нам, если мы нарушим обещание разделить добычу пополам. А если мы отдадим им больше, чем они заработали, они это запомнят. И лучше уступить сейчас, чтобы они были нам должны, а не мы им. Пеонцы нам еще понадобятся. Вы же понимаете, что этим сражением война с Римом не закончится. Римляне не забудут, что здесь, на нашей земле, погиб их легион. Они снова придут к нам. И тогда? Представляете себе, что будет, если мы останемся одни? Сколько крови тогда прольется? Как только римляне узнают, что наш союз с пеонцами разрушен, они поспешат разделаться с нами поодиночке. А сейчас идите к своим людям. Объясните им, почему надо отдать пеонцам то, что не ими добыто. Да и разве мало того, что нам достанется? Если бы не кони, неужто мы бы унесли все это на своих спинах? Жадность тоже должна иметь границы.
17.
То, что произошло на поле сражения, было продумано и подготовлено еще летом после встречи медов с пеонцами. Тогда было решено, что пеонцы заманят римлян в ущелье, где на них нападут меды. Спартак молчал, хотя Мукапор время от времени поглядывал на него, желая знать его мнение.
Когда все разошлись, Мукапор спросил Спартака:
— Почему ты ничего не сказал на встрече?
— Потому что оставил это на потом.
— Ну, говори!
Напрасно мы готовимся напасть на римлян в ущелье. Они не такие глупцы, чтобы идти туда, где явно могут понести большие жертвы. Они предпочтут сначала вступить на земли пеонцев, чтобы принудить их к союзу, а потом с их помощью покорить нас. Поэтому мы должны предварительно договориться с пеонцами: пусть заманят римлян, а потом мы вместе нападем на них там, где они этого не ожидают. Пеонцы, наверняка, согласятся, если мы им предложим разделить добычу поровну.
Мукапор долго молчал, разглаживая усы и бороду, а потом пробормотал:
— Может быть, ты и прав... Только что, по-твоему, надо сделать?..
— Как только римляне ступят на нашу землю, надо дать им построить лагерь, а потом показать, сколько нас. Ночью мы уйдем, а они будут начеку и, по крайней мере, половина из них проведет ночь без сна. На другой день, когда они уже совершат дневной переход и устанут, мы застанем их врасплох, как только они начнут строить новый лагерь...
Меды, погрузив добычу на коней и взвалив остальное себе на спины, поняли, что их военачальники были правы, отдав пеонцам половину. Все отправились по домам, унося с собой трофеи.
А командиры отрядов собрались в главном селении племени, чтобы отпраздновать победу.
В преддверии залы, где обычно происходили пиршества или поминальные тризны, находились Мукапор, командиры отрядов, старейшины и совсем юные рядовые воины, особо отличившиеся в битве. Они ждали, когда охрана приведет Помпедия Долабеллу и его центурионов, которые должны были как почетные гости участвовать в пиршестве, устроенном в честь победы.
Наконец двери в залу отворились. Мукапор и его соратники вошли первыми и построились, пропуская гостей.
Несмотря на свое положение пленных, римляне шли, сохраняя обычную гордую осанку. Они сделали несколько шагов, остановились и бегло оглядели залу. На длинных столах были разложены караваи хлеба, стояли кувшины с высокими, тонкими горлышками и большие глиняные кубки, расписанные яркими цветами.
Мукапор при помощи переводчика обратился к Долабелле:
— Мне и моим соратникам будет приятно, если ты и твои помощники разделят трапезу с нами.
Помпедий Долабелла спокойно выслушал переводчика, глядя прямо перед собой, потом медленно повернулся к Мукапору: Но для меня и моих командиров участие в вашей трапезе не будет удовольствием.
Мукапор улыбнулся с добродушием гостеприимного хозяина:
— Мы уважаем ваши обычаи и не сердимся, что вы не хотите их нарушать. Но вы, как знатные гости, должны уважать и наше гостеприимство. Мы хорошо знаем, что римские военачальники, когда они на войне, едят только то, что едят их солдаты. Но сейчас вы не нарушите этот обычай, если сядете с нами за стол, потому что войска у вас уже нет.
Долабелла выслушал переводчика и вновь обернулся к Мука-пору:
— У нас уже нет войска, но наша честь не позволяет нам разделить на этой трапезе ваше торжество победы в битве, завершившейся для нас поражением.
Мукапор немного подумал и обратился к переводчику:
— Скажи ему, что эта битва произошла на нашей земле, но не по нашей воле.
Долабелла ответил:
— Да, но мы, римляне, воюем только на чужой земле и только по своей воле. И хвала богам, что это так.
Мукапор помолчал нахмурившись, потом сдержанно коснулся рукой плеча переводчика:
— Скажи ему, что на нашей земле каждая битва сопровождается угощением для нашего удовольствия и к неудовольствию тех, кто приходит к нам по своей воле, но без нашего согласия. Скажи еще, что на землю нашу они пришли без приглашения, но сейчас мы приглашаем их на трапезу. И что по этому случаю мы с радостью говорим им "Добро пожаловать".
Помпедий Долабелла снова обратился к Мукапору:
— Я уважаю твое гостеприимство и твои добрые чувства, но и ты должен понять мое нежелание участвовать в пиршестве, где прольется много вина, после того, как на поле брани пролилась кровь шести тысяч моих воинов.
Мукапор сдержанно поклонился Помпедию Долабелле, и переводчик бесстрастно повторил его слова:
— Я понимаю твою скорбь по воинам, павшим на поле битвы. Но там пали не только твои люди, но и наши. Мы почтим память всех — таков уж наш обычай. Ты и твои помощники могли бы увидеть, как мы едим и пьем в память об умерших и за здоровье живых. Мы и скорбим и одновременно утешаем себя. Но у вас другие обычаи, и мы их тоже уважаем. Ты и твои помощники будут есть и пить в другом месте. И чтобы тебе не было так горько от скорби, которая выпала на твою долю, пусть тебе будет сладко наше вино, наш хлеб и наши яства.
18.
Мукапор распорядился устроить богатую трапезу в одном из домов селения и пленных римских командиров отправили туда.
Потом он направился к столам с хлебом и вином, сопровождаемый своими командирами, как бы случайно прошел мимо Спартака, остановился и шепотом спросил:
— Хорошо я сказал?
— Лучше, чем можно было ожидать. Я опасался, что ты или выбранишь его или высмеешь, задетый отказом принять твое гостеприимство. А ты поступил, как истинный победитель: достойно и великодушно.
Мукапор улыбнулся одними глазами:
— Значит и мы, не учившиеся хорошим манерам, умеем поступать учтиво с римскими патрициями. А может быть, и к лучшему, что они отказались сесть с нами за стол. В их присутствии не раскроешь душу. Хотя мы и не виноваты, что они остались без войска, все равно им тошно. Так что сядем без них за братскую трапезу!
Мукапор направился к группе старейшин, которые его поджидали, и сел за их стол. Взял хлеб, разломил его на ломти и роздал сотрапезникам, сидевшим напротив и по сторонам от него. Они ответили ему тем же, и тогда он роздал хлеб сидящим на разных концах стола, оставив себе несколько кусков...
Пиршество началось.
Мукапор поднял свой кубок:
— Будем живы и здоровы! Хотел враг пировать, а пришлось горевать. Кто нас не любит, того наш меч погубит. Ваша воля, а наше поле. Биться не хотим, а поля не отдадим. Хвала Дионису!
Хвала Дионису! — отозвался эхом хор мужских голосов. На столах появились жаренные на вертеле крупные поросята, барашки, томившиеся под горячими угольями, противни с вареными курами, посыпанными красным перцем, сковородки с жареной рыбой.
Повара приносили блюда и ставили перед пирующими воинами. А те протягивали руки к яствам, выбирали кому что нравится, облизывали пальцы и аппетитно чавкали. Ведя друг с другом оживленную беседу, они ели не торопясь, без жадности, как люди, для которых обильная пища не редкость. Знали, что незачем спешить, потому что еды приготовлено больше, чем они могут съесть. В глиняные кубки лилось из кувшинов густое красное вино.
В глубине зала разместились музыканты. Они ели и пили вместе со всеми, чувствуя себя полноправными участниками этого воинского пира. Волынщик, пристроив под мышкой свою волынку, время от времени оглашал зал то рокочущими, то нежными и грустными, то веселыми звуками. Флейтисты надували щеки и перебирали пальцами клапаны своих сиринксов и свирелей, выдувая из дырочек серебристые нити мелодий. Другие музыканты осторожно ударяли одна о другую гладкие медные тарелки, словно открывали и захлопывали пустые кастрюли. Были и струнники, которые держали на коленях магадиды и перебирали натянутые струны. Мелодии то веселили, то печалили пирующих воинов. Песни сменяли одна другую по уговору музыкантов, по просьбам сотрапезников.
Лица людей цвели удовлетворением и добродушием. Взгляды постепенно становились кроткими, заволакивались умилением...
Время от времени песни и восклицания разгоряченной молодежи затихали, потом снова вспыхивал нестройный шум, заглушающий спокойную беседу пожилых воинов.
Неожиданно выскочили из-за стола двое юношей, остановились друг против друга и в руках у них блеснули короткие, кривые мечи.
Звон скрестившихся мечей был взаимным вызовом. Удары участились. Юноши отскакивали назад и бросались навстречу друг другу, стремясь поразить противника внезапным и коварным приемом. Каждый старался опередить другого: отразив сильный удар, отвечал не менее сильным, храбро кидался под новый удар, готовя противнику ловушку. Вначале это больше походило на игру, в которой каждому хотелось показать свою ловкость, свое умение. Но постепенно игра превратилась в настоящий поединок.
Мукапор встал. Поднял правую руку — это был знак прекратить борьбу. Тяжело дыша, юноши остановились.
— Выпейте, чтобы перевести дух, и отдохните, — велел им Мукапор.
Оба вернулись к столу и чокнулись друг с другом.
Мукапор подошел к Спартаку, сел возле него и дал знак виночерпию. Тот взял со стола два пустые кубка, наполнил вином и поднес военачальникам.
— Пока что это была только игра, — сказал Мукапор. — Они еще не пустили друг другу кровь! Тебе нравится?
— Ничего, — ответил Спартак и отпил из своего кубка.
— Они еще себя покажут!
Старейший из пирующих стукнул ножом по медному блюду. Юноши снова поднялись. Вышли в середину зала и встали в четырех шагах друг от друга. Старейшина снова стукнул ножом о блюдо. Юноши скрестили мечи, и поединок снова начался. Градом сыпались удары, пока один из юношей не выбил меч из рук противника. Но он тут же отбежал в сторону, чтобы тот снова мог поднять меч, и бой возобновился. При повторной схватке второй превзошел первого в ловкости и ответил ему столь же благородно позволил поднять выбитый меч.
Борьба продолжалась. Это уже не было игрой. Плечи и бедра бойцов были испещрены красными бороздами и пятнами.
Мукапор поднялся из-за стола, чтобы остановить поединок, но в этот миг один из них вонзил меч в бедро второго. Тот упал навзничь, словно его поразил удар молнии. Бой прекратился. Раненого унесли из зала, чтобы перевязать. Мукапор похлопал победителя по плечу.
До вечера еще несколько пар скрестили мечи на этом пиру, и кровь еще нескольких юношей пролилась во славу оружия медов.
Наконец Мукапор прекратил поединки:
На сегодня хватит. Ты ведь впервые участвуешь в нашей трапезе? — обратился он к Спартаку. — Что ты скажешь? Все ли у нас, как надо? Всего ли достаточно?
— Предостаточно и еды, и особенно пролитого вина и пролитой крови.
— Ну, что до крови... Ты еще мало видел... Сегодня они только поцарапались маленько... Ну и... покололи друг друга, конечно... Но никто никого нс укокошил...
— А что, у вас и это бывает?
— Конечно, бывает. Завтра увидишь...
— Разве пиршество не закончится сегодня?
— Еще много нажарено-наварено, — Мукапор самодовольно погладил бороду. — Сегодня всего не съесть... Бросать собакам — не дело. Вот утром и продолжим пир... Не переводить же добро...
— И сколько же... — Спартак запнулся, — это будет продолжаться?
— Для такого дела меры нет, — Мукапор улыбнулся. — Может, и управимся за два дня, как знать... На сколько сил хватит...
Как бы нам римляне не подготовили новую трапезу... — не договорил Спартак.
А Мукапор махнул рукой:
— После хорошей работы можно и повеселиться...
19.
На третью ночь сон, наконец, сморил сытых и довольных воинов.
Только Мукапор и Спартак оставались бодрыми и почти трезвыми.
Они сели на коней и поскакали в имение Мукапора. Спартак собирался переночевать там, а потом ехать домой.
Крупный желтый серп месяца четко вырисовывался на фоне ночного неба. Копыта коней выбивали на каменистой дороге неравномерную дробь, тут же растворяющуюся в притихшем полумраке. Удары копыт отсчитывали последние мгновения позднего лета.
Деревья у дороги стояли, будто в накинутых на плечи пастушьих бурках. Сверчки серебристым стрекотаньем воспевали южную ночь. Безмолвные долины отдыхали, нежась в прохладе.
Всадники прибыли в имение в полночь. Мукапор постучал в ворота рукояткой меча. Радостно залаяли собаки, но кто-то за оградой цыкнул на них, и они заскулили.
Ворота отворились. Кони вошли во двор, Мукапор и Спартак спешились, собаки тут же окружили их, виляя хвостами, и стали ласкаться к ним. Слуга отвел коней в конюшню, привязал к яслям, наполнил овсом торбы...
Мукапор и его гость поднялись по скрипучей деревянной лестнице на верхний этаж дома.
На верхней площадке их встретила пожилая служанка с оплывшей сальной свечой в руках.
Мукапор первым вошел в коридор, открыл дверь одной из комнат и пригласил Спартака войти.
Окно было открыто. Половина комнаты была залита лунным светом — казалось, что на полу постлано шелковое желтое одеяло.
Служанка разобрала постель, тихо вышла и бесшумно притворила дверь. Спартак лег и тут же заснул крепким сном. Проснулся он рано. Вскоре пришел Мукапор и пригласил его завтракать.
В просторной трапезной жена Мукапора и три его дочери только что накрыли на стол и отошли в сторону, ожидая мужчин.
Мукапор представил им гостя:
— Это Спартак, сын Метока, недавно закончил учение. Хоть и не довелось ему работать мечом столько, сколько мне, он все же умеет им орудовать так, что и я завидую!
Спартак покраснел, но быстро нашелся, что ответить:
— Храбрейший из храбрых преувеличивает. Но я не имею права возражать вождю племени.
Мукапор положил руку на плечо Спартака:
— Особенно в его доме, где ты гость, а он — хозяин!
Мукапор указал Спартаку на стул и разрешил жене и дочерям занять свои места.
Напротив Спартака села младшая, Мезанея, ей было около семнадцати лет. Она украдкой поглядывала на Спартака исподлобья. Он, обращаясь к другим, отвечал ей мимолетными взглядами, Это был своеобразный молчаливый разговор.
После завтрака Мукапор пригласил Спартака осмотреть имение. Они сели на коней и тронулись в путь.
На пологих склонах нежились под мягким солнцем позднего лета виноградники,
— Гроздья — с медвежью голову! — сказал Мукапор, — а вино такое густое — хоть ножом его режь! В прошлом году я много вина продал в Элладу. Там его любят и хорошо платят. Вот только пить не умеют,.. С водой мешают! Но... это их дело, — добродушно закончил он и направил коня вниз, в ложбинку, целиком засаженную фруктовыми деревьями.
— Словно голубки на ветвях, — указал Мукапор на яблони: плоды на пригнувшихся к земле, чуть не ломавшихся ветвях были словно опрысканы алыми, розовыми и желтыми каплями. Яблоки у меня могут лежать почти до лета.
Над другими грушами возвышалось старое грушевое дерево с растрескавшейся корой, с черным дуплом в верхней части ствола, а к его крепким, склоненным книзу ветвям, как будто кто-то привязал золотистые звоночки.
— Медвянки и у вас хорошо родят, — заметил Спартак.
— Красивый плод, вот только плохо — шершней привлекает. Вон в том дупле живут и зимуют. А яд их лютей змеиного.
Ложбинка до краев была наполнена густой тишиной, медовой сладостью воздуха позднего лета, ароматом спелых груш.
Выехали на уже сжатое поле, на котором стояли копны пшеницы.
Урожай был добрым, зерно — тяжелое, — сказал Мукапор. — Продержится осень без дождей — смолотим вовремя.
Мукапор остановил коня и загляделся на обрывистые зеленые склоны.
— Вот это все — до самых вершин — мои леса. А вот там — кошары. Но туда нам незачем ехать. Лучше спустимся к Стримону.
На лугу, окруженном с трех сторон молодым лесом, бродили куры. Мукапор с удовольствием смотрел как они толкутся на подраставшей после укоса траве, проворно выклевывая из нее букашек, червячков, кузнечиков, разоряют муравьиные кучи и осиные гнезда. Некоторые иногда поглядывали одним глазом на солнце, как бы удивляясь ему. И снова начинали шарить клювом по шелковой отаве.
— У тебя наверно и лисицам из тех рощиц живется неплохо, — пошутил Спартак.
— Таскают они кур, конечно, — ответил Мукапор, — но и расплачиваться за это приходится. Капканы ставим... Работник у меня цены ему нет, здорово лисьи шкуры выделывает, такие воротники шьет! Наденешь — словно теплый ветер шею обдувает.
На обратном пути Мукапор сказал:
Вчера на пиру ты был чем-то озабочен.
— Ты прав, Мукапор.
— Наверно, скорбел о погибших римских легионерах, — ухмыльнулся вождь.
— Есть кому скорбеть о них, и как раз это не сулит нам ничего хорошего.
Что говорить, сильный противник. Его и после поражения опасаться надо.
— Особенно после такого поражения, которого он никогда не забудет.
Да, римляне надолго запомнят эту резню. Пусть им будет наукой!
— Наука-наукой, но в покое они нас не оставят. Просто поймут, что против нас нужно приводить больше войска.
— Ну коли так... если им мало, пусть приходят... Они уже знают, как мы умеем драться на своей земле...
Не забывай, что и они умеют драться на чужой земле и не раз уже это доказывали. У них есть большие армии, которые они могут перебрасывать и по суше и по морю. Мы воюем только тогда, когда на нас нападают, а их легионы воюют постоянно, война — их ремесло.
— Что ты хочешь сказать? Что им легко будет разбить нас?
— Если все племена образуют одну державу, им будет нелегко.
— Это когда-то было... — вздохнул Мукапор. — А теперь развелось столько царей...
— ... которые время от времени находят поводы для ссор. И наверно, считают себя умными, когда им удается схватить малое, не понимая того, что упускают большое.
20.
Большую часть ночи Сулла провел в пьяной оргии со своими гостями, танцовщицами, мимами, шутами и музыкантами.
Утренняя ванна с искусным массажем и умащиванием тела маслами и благовонными мазями успокоила на время острый кожный зуд, от которого он очень страдал. Сейчас он отдыхал на своем ложе, облокотясь на подушки. На его бледно-сером лице появилось выражение спокойствия, удовлетворенности, даже редкого для него благодушия. Огненно-пурпурный цвет его греческой хламиды, изящно вышитой золотом и украшенной драгоценными камнями, контрастировал с синевато-стальным цветом его глаз, в глубине которых таилась настороженность и сосредоточенность.
Вошел слуга и доложил, что прибыл Помпедий Долабелла.
Сулла быстро поднялся с ложа:
— Сейчас же зови!
Теперь он нетерпеливо расхаживал по комнате.
В сопровождении слуги появился Помпедий Долабелла. Он шел медленно, почти торжественным шагом.
Сулла, не давая ему остановиться, указал на кресло. Он буравил его своими пронзительными глазками, в которых невозможно было ничего прочесть. Подождав немного, чтобы насладиться воздействием своего взгляда на вошедшего — в силе этого воздействия он не сомневался, — Сулла с деланным спокойствием сказал:
— Итак, ты вернулся.
— Без легиона, ответил Помпедий Долабелла с мрачной и лаконичной откровенностью. Он не ждал снисхождения, и незачем было загромождать излишними подробностями свои ответы, это ничем не помогло бы ему, лишь утяжелило бы его вину.
— Скажи мне всю правду, — голос Суллы звучал совсем тихо, но чувствовалось, что он еле сдерживает накопившийся гнев. Но он тут же потерял власть над голосом, потому что обостренное любопытство вытеснило все остальные чувства. Задыхаясь, он повторил:
— Расскажи, как дошло до того, чего не случалось ни в одном нашем сражении.
Помпедий Долабелла глубоко вздохнул, как бы пытаясь освободиться от напряжения первых мгновений встречи, и ему сразу стало легче говорить:
— Перед тем, как я расскажу тебе, что произошло, ты должен узнать, что этому предшествовало. Пеонцы приняли нас как союзники. Но когда я увидел их отряды которые должны были нам помогать в борьбе с медами, я понял что они просто хотят заманить нас в ловушку. Я решил, что они предоставили в наше распоряжение так мало воинов потому что где-то спрятали остальное войско.
Сулла перебил его:
— Ты рассудил правильно.
— Прибыв на землю медов, мы остановились, чтобы построить лагерь перед тем, как стемнеет. Я хотел, чтобы воины легли пораньше и хорошо отдохнули перед боем, который, как я ожидал, начнется утром.
— И здесь я не вижу ошибки, — промолвил Сулла.
— Незадолго перед заходом солнца появились отряды медов и стали на том берегу реки в ста шагах от воды, а мы были на таком же удалении по эту сторону. В полночь с их берега нас окликнули и стали спрашивать, что мы ищем на их земле. Начались взаимные пререкания. Я понял, что они хотят нас ввести в заблуждение, и приказал вдвое усилить защиту ворот.
— И это правильно.
— Всю ночь до рассвета я держал половину когорт в полной боевой готовности, а когда рассвело, увидел, что фракийский стан пуст. Фракийцы исчезли. Это меня удивило. Я решил идти дальше полдневным переходом, чтобы не утомить окончательно тех воинов, которые не спали. Я был убежден, что фракийцы ждут нас в ущелье, и хотя у меня не было никакого намерения идти туда, я все же выдвинул вперед разведку на большое расстояние во всех четырех направлениях.
Сулла нервно шагал по комнате:
— Дальше.
— Я собирался завершить переход к обеду, но разведка сообщила, что впереди есть очень удобное место для лагеря, и я продолжил путь.
Сулла обернулся:
И окончательно уморил недоспавших воинов? И дальше? Выставив сторожевые посты со всех сторон, мы начали копать ров.
Сулла едва скрывал свое нетерпение:
— Ну?
— Перед самым сигналом, должным возвестить о первом перерыве, прискакал разведчик и сообщил, что заметил противника. И почти сразу же появилась фракийская конница, мчавшаяся прямо на нас. Я успел развернуть две трети когорт длинным фронтом к ней. Но противник не ударил нас в лоб, а обогнул наш левый фланг и нанес удар в спину. Всадников оказалось вдвое больше, чем коней. Легионеры растерялись, они не успели даже метнуть свои пилумы. И произошло то, чего никогда не было ни в одном нашем сражении.
Сулла отошел к окну, постоял там и вернулся назад:
— Ты совершил ошибку, которую я не могу тебе простить. Заметив утром, что фракийцы исчезли, ты не должен был покидать лагерь. Надо было остаться в нем еще на одну ночь, чтобы воины хорошенько выспались. И только на следующий день двинуться в путь.
Сулла продолжал ходить по комнате. И вдруг резко спросил: Фракийцы отпустили тебя, не требуя выкупа? Или поставили какие-нибудь условия?
Взгляд Суллы и интонация, с которой это было сказано, выражали одновременно и насмешку, и неприязнь. Но Долабелла предпочел сделать вид, что не заметил этого:
Они даже не намекнули на что-либо подобное.
Какие великодушные эти твои фракийцы! А мы и не подозревали этого.
Долабелла выдержал гневный взгляд Суллы, а тот продолжал:
— Римский патриций должен считать оскорблением великодушие варваров.
Долабелла, не моргнув, ответил на вызов:
— Даже римский патриций не может не уважать благородное отношение к нему противника, пусть даже и варвара.
Сулла дал волю гневу:
— Благородное поведение фракийцев унизительно для нас! Этим они выразили свое удовлетворение победой. И как же не проявить уважение к римскому полководцу, который позволил им истребить целый легион!
Долабелла спокойно выслушал Суллу.
Будем же справедливыми, всемогущий Сулла, оценивая поступки врагов. Они, наверно, были довольны, что победили нас. Но они могли выразить свое удовлетворение и другим способом — по нашему примеру. Мы, властители мира, величие которых обязывает нас быть великодушными к побежденным, не удовлетворяемся одним только сознанием победы. Мы связываем знатных пленников и в таком виде ведем через весь Рим, всячески поощряя злорадство толпы. Это позорное зрелище называется триумфом победителя. И венчает его славу. Если нам, цивилизованным людям, умеющим ценить человеческое достоинство, когда это касается нас, прилично унижать других, то фракийцы, будучи варварами, должны были поместить нас в клетки, как пойманных зверей, и возить по своим селениям. А они держались с нами, как с людьми, которые попали в беду, не злорадствуя над нашим несчастьем. Чтобы нас никто не оскорбил, они ночами вели нас по дороге, в сопровождении почетной свиты, пока не достигли земли дентелетов.
Сулла помолчал и вынес свой приговор:
— Я недоволен тобой. Ты обязан был спасти моих воинов.
Долабелла сказал:
— Только бессмертные боги могли бы это сделать.
Сулла почувствовал, что его кожа снова начинает зудеть.
— Не слишком ли дерзко ты оправдываешься в гибели легиона, Помпедий Долабелла? По-твоему выходит, что и я бы их не спас? Так получается?
Долабелла предпочел притвориться, что не заметил в его словах еле сдерживаемого гнева и тихо ответил:
— Не трудно сейчас сделать меня виновником катастрофы. Но если бы ты был на моем месте... не знаю, что могло бы быть... и смог ли бы ты что-нибудь сделать... Фракийцы, неожиданно налетевшие на нас... это были не люди, это был вихрь, ураган, ломавший ветви и вырывавший деревья с корнем...
— Ты больше не мой военачальник.
Долабелла спросил:
— Следовательно... и ты больше не мой повелитель... Могу ли я тогда удалиться в свое имение в Лациуме?
— Можешь. И никогда больше не появляйся в Риме!
21.
Прошло около года. Римляне тщательно готовились к новому походу во Фракию. Они утвердили свое владычество над пеонцами, чтобы не последовало никаких неприятных неожиданностей с их стороны. И только тогда, заручившись поддержкой верных Риму фракийских вождей, вступили на землю медов. Первый римский лагерь был разбит вблизи Стримона, по обоим берегам одного из его крупных притоков. Римляне располагали месячным запасом овса и ржаных сухарей. Обеспеченные продовольствием и водой, воины, по-видимому, собирались надолго остаться здесь, что не сулило медам ничего хорошего. Нетрудно было предположить, что пришельцы намереваются создать здесь хорошо укрепленную базу, с которой будут посылать карательные отряды для усмирения этого неспокойного края, ибо, явившись на эту землю, они не ждали от ее жителей проявления добрых чувств.
На валу, окружавшем лагерный ров, в четырех углах были возведены наблюдательные башни, с которых днем местность далеко просматривалась. Ночью римляне выставляли секретные посты. Таким образом, неприятель не мог приблизиться к ним незамеченным.
Когда лагерь уже был построен, Мукапор с некоторым запозданием собрал военный совет, чтобы обсудить, как сделать присутствие римлян менее приятным. О взятии хорошо укрепленного лагеря не могло быть и речи.
После заседания совета Мукапор встретился со Спартаком наедине. Спартак сказал ему:
— Для начала нам нужны люди, которые умеют двигаться бесшумно.
Мукапор покрутил ус, раздумывая:
— Есть у нас, конечно, такие... Каждый, кто воровал кур или коней, знает, как к ним подбираться, чтобы ни писку, ни визгу...
— Если бы найти душ сто-двести...
— И тысяча найдется!
— Тогда нам хватит, чтобы покончить со всеми римскими секретными постами!
Пока римляне укрепляли свой лагерь, Спартак думал о таранах, которыми пользовались войска царя Митридата, когда надо было взять укрепленный город. Воины дотаскивали эти могучие сооружения до самых крепостных стен.
У фракийского войска не было таранов. Но их могли бы заменить десятиметровые лестницы, которые нижним концом закреплялись бы у края рва, а другим упирались бы в вершину насыпи. Двое держали бы лестницу внизу, чтобы она не раскачивалась, а несколько человек одновременно могли бы быстро взобраться на вал. Двухсот лестниц, приставленных к одной из стен, хватило бы для того, чтобы все войско медов за две-три минуты оказалось внутри лагеря.
Вокруг Стримона росло много верб и лип. Верхушки липовых стволов годились на продольные балки, а более тонкие вербовые ветви — на перекладины. За несколько дней можно было сделать нужное количество лестниц, ночью подвезти их на телегах поближе к лагерю, а там носильщики бесшумно доставят их прямо к месту.
К сожалению, план Спартака не удалось осуществить в точности так, как он был задуман. Ближайший часовой успел вскрикнуть перед тем, как ему перерезали горло. Сосед тихо спросил, что с ним. И, не получив ответа, спросил погромче.
Больше он уже не спрашивал, потому что и его обезвредили. Но и двух слов оказалось достаточно, чтобы дозорный с ближайшей башни подал сигнал тревоги, поднявший весь лагерь на ноги. Однако сигнал дозорного напомнил и нападающим, что нельзя больше мешкать. Они тут же, вместе с носильщиками стали приставлять лестницы к одной из стен насыпного вала. Римляне плотными рядами стояли перед четырьмя главными воротами. Мукапор послал против каждого из этих отрядов по сотне человек, чтобы криками и ревом отвлечь внимание римлян от стены, и осуществил нападение лишь с одной стороны.
В лагере зажгли факелы. В их свете ошарашенные легионеры видели, как скатываются с вершины насыпи и вступают в бой все новые и новые фракийские воины. Римские воины дрогнули, смешались. Центурионы попытались собрать их вокруг себя. И если бы меды хоть немного задержались, может быть, римляне заставили бы их отступить к захваченной стене. Но отряд Спартака, первым преодолевший насыпь, яростно вклинился в римские ряды. Несколько тысяч воинов, перепрыгнувших через ров, начали неистовую сечь. Наступила паника, которую никто уже не мог остановить.
Среди суматохи и давки в лагере слышны были только фракийские имена меды громко выкрикивали их, чтобы не перебить в темноте друг друга. Едва началась битва внутри лагеря, воины, отвлекавшие внимание сторожевых отрядов, немного отошли от ворот, чтобы не мешать римлянам бежать, и молча приканчивали их в темноте.
На заре гигантский четырехугольник лагеря походил на поле, где тысячи жнецов, пришедших на богатырскую жатву, оставили множество беспорядочно разбросанных тяжелых снопов.
22.
Очередная победа над римлянами, казалось, еще больше озаботила Спартака.
Он попросил Мукапора обратиться в совет старейшин и сделать все возможное, чтобы договориться о союзе с соседями для начала хотя бы с ближайшими.
Мукапор с трудом убедил старейшин уполномочить на это Спартака — как молодого, незнакомого другим фракийским вождям и не замешанного в старых распрях представителя медов со Среднего Стримона.
Спартак посетил земли племен, населяющих поречья Аксиоса, Понтоса, Астибоса, Нестоса, Хеброса, вплоть до Тонжоса, и говорил с их вождями.
Всюду его принимали хорошо, беседовали с ним, угощали вином, но ни один из фракийских вождей не согласился пойти на уступки своим соседям. Не было двух соседних царств без взаимных претензий. Как видно, Рим с помощью своих многочисленных агентов достаточно хорошо позаботился о том, чтобы вызвать разногласия между племенами.
Из своего долгого путешествия Спартак вернулся огорченным, но надежды все-таки не терял. Конечно, среди больших и малых властителей — царей и царьков были глупые, продажные, безвольные. Но когда над всеми нависнет общая опасность, быть может, они сумеют найти общий язык.
Не только долину Стримона, а всю Фракию Спартак ощущал своим отечеством. Во все времена она была единой здесь жили люди, говорившие на одном языке, имевшие одинаковые обычаи, одни и те же верования, одних и тех же богов. Да, Фракия была одна на всех, только властителей у нее было много. Но главная беда была не в том, что их много, а в том, что они не могли договориться между собой.
В этом году весна наступила рано. Она пришла вместе с теплыми ветрами, мутными потоками, стекающими с гор, первыми пастушьими напевами на холмах, где новая травка уже прокалывала своими стебельками влажную рыхлую землю. И с новостью, что на Иллирийском берегу высадилась римская армия.
Мукапора эта новость заставила крепко задуматься. Он предвидел, что если римляне вернутся во Фракию, то они не захотят использовать прежние пути. И все же он ожидал, что они высадятся на Эгейском побережье. Тогда бы он мог следить за их передвижением с помощью пеонских соглядатаев и заранее устроить им западню. Новое направление движения римлян не сулило медам ничего хорошего. Пройдя через земли своих союзников-дентелетов, римляне сразу же окажутся у границы медов. Верные римлянам опытные проводники проведут их по малоизвестным горным дорогам, и они могут появиться там, где их меньше всего ожидают, а не там, где меды могли бы подготовить им "хорошую" встречу.
Римляне переночевали недалеко от границы и появились незадолго до рассвета там, где заканчивались длинные горные отроги и открывалась широкая равнина с небольшими селениями, окруженными виноградниками и пшеничными полями. Идя ускоренным шагом и не встречая сопротивления, римляне довольно скоро оказались на земле медов. Войска медов были на расстоянии одного дня пути и могли встретить противника лишь к вечеру. К этому времени римляне успели построить лагерь, окружив его рвом и валом.
Ожидая, что на следующий день они продолжат путь по ущелью в направлении больших селений, Мукапор оставил там несколько небольших отрядов для того, чтобы постоянно беспокоить римлян, а главные свои силы расположил в виде широкой подковы перед выходом из ущелья на равнину.
Римская колонна после нескольких коротких схваток с этими отрядами сразу после полудня вышла на открытое поле и немедленно построилась в каре около места, избранного для очередного лагеря. Здесь было два легиона солдат войско, вполне достаточное для сражения с медами.
Как только римляне начали копать ров, Мукапор приказал Спартаку с большим отрядом конницы врезаться в самую гущу римлян и заставить их окружить отряд. И тогда Мукапор с остальными войсками образует вокруг врага второй обруч.
Когда Спартак достаточно глубоко вклинился в расположение римлян, те окружили его, использовав для этого треть своих когорт, а две трети выстроились для защиты от ожидавшегося нападения главных сил медов. Мукапор со своей пехотой, посаженной на коней, не заставил себя долго ждать, но он был встречен плотными рядами римской пехоты, которую он не смог расчленить, чтобы добраться до окруженного Спартака.
Тогда Мукапор, не думая о потерях, сосредоточил половину своего войска на одном участке, чтобы рассечь плотный обруч легионеров. Может быть, ему и удалось бы пробиться внутрь, но это оказалось бы гибельным для его армии. Потому что неожиданно у него в тылу появился целый вражеский легион. Быстрым обходным движением он окружал войско медов с двух направлений. Мукапору оставалось только опередить противника и вернуться на прежнее место, не дав ему замкнуть кольцо. Мукапор вынужден был оставить попытки спасти Спартака, ему надо было сохранить главные силы, потому что жестокий поединок с римлянами только начался и неизвестно сколько времени еще продолжится.
На этот раз римский полководец Деций Гортензий сполна отплатил медам за два крупных поражения римлян. Он заранее подготовил для них капкан. Одновременно с двумя легионами, с которыми он шел через ущелье, он тайно перебросил сюда еще один. Окольным путем, по крутым горным тропам его провели опытные проводники-дентелеты. Соглядатаи медов не смогли обнаружить римлян, потому что следили только за основной колонной.
Отряд Спартака был окружен со всех сторон, но Спартак и не думал сдаваться.
Римский военачальник Деций Гортензий с восхищением наблюдал за тем, как сражается Спартак. Выбирая слабые места в расположении противника, фракиец направлял туда своих бойцов, он наносил удары там, где не ожидали напора с его стороны. Мастерство Спартака путало римлянам все карты и расстраивало их ряды. Он принимал рискованные решения, которые в конце концов приводили к успеху. Он нападал там, где надо было защищаться и отступал там, где вражеских сил было мало, стараясь собрать побольше бойцов к намеченному им месту прорыва.
Но обруч вокруг него стягивался все туже и туже.
Используя остатки своего отряда, Спартак наносил отчаянные, но хорошо продуманные удары. Он яростно орудовал мечом. Сзади его постоянно защищали самые верные его соратники, а он рубил и колол врагов, нападавших на него с трех сторон.
Гортензий, наблюдая за ходом сражения, не переставал удивляться умению и сообразительности Спартака, его неожиданным маневрам.
За этими вспышками вдохновения чувствовался командир с прекрасно развитым воображением, с необыкновенной находчивостью и точным расчетом.
Этот человек мог устремляться на врага с порывистостью воина и мыслить с дальновидностью полководца. Он был достоин командовать не отрядом и даже не легионом, а целой армией. Гортензий решил, что фракийца надо взять в плен живым. Именно с таким приказанием он послал одного из своих контуберналиев к командиру когорты, с которой бился Спартак. Желание военачальника было исполнено, но оно стоило римлянам еще десятка отборных воинов.
Плотно окруженный со всех сторон, полностью исчерпав свои силы, Спартак вынужден был в конце концов сдаться.
23.
Деций Гортензий удобно расположился в своей палатке. Он имел вид человека, который превозмог тяжелую усталость и наслаждался сейчас покоем, наступившим после продолжительного душевного напряжения. Жесткие черты его лица были несколько смягчены спокойным задумчивым взглядом голубых глаз.
Вошел Спартак, сопровождаемый двумя контуберналиями, он не был закован в цепи, и не был связан так пожелал полководец.
Деций Гортензий смотрел на пленника, но взгляд его ничем не выдавал душевного состояния римлянина. Выражение лица его было совершенно бесстрастным. Внешним своим равнодушием он как бы хотел прикрыть истинный смысл происходящего.
— С удовольствием говорил бы с тобой по-фракийски, если бы знал этот язык, сказал Гортензий по-гречески.
Спартак вежливо поклонился, в чем римлянин не узрел никакой иронии, хотя этого можно было ожидать от противника, который, как он уже знал, обладает необычайной воинской дерзостью.
— Тогда мне придется говорить с тобой по-гречески, благородный Гортензий, — ответил Спартак, — но это едва ли доставит мне удовольствие.
Столь откровенно высказанное Спартаком опасение, что он не ожидает от своего плена ничего хорошего, произвело впечатление на римского военачальника.
Известно, что воина, попавшего в плен, ждут одни только неприятности, А у Спартака были достаточно серьезные основания опасаться особой расплаты за урон, нанесенный им римлянам. Не случайно он был отделен от других пленных и доставлен прямо к римскому военачальнику Деций Гортензий даже не нашелся сразу, что ответить, и лишь спросил:
— Ты знаешь, к кому тебя привели?
— Опасного противника надо знать.
— Я верю, что ты говоришь искренне, юноша. А откровенность исключает лесть. Ты знал обо мне, как о противнике, но слухам. А я узнал тебя в бою. Ты убил много римских воинов, которые своими мечами приумножали славу, величие и благоденствие Рима.
Спартак ответил:
— Но не мы пришли к вам, а вы — к нам, чтобы завладеть нашей землей.
Гортензий не стал возражать:
— Я призвал тебя, юноша, не для того, чтобы обсуждать, кто и к кому пришел. И не для того, чтобы спорить, кто прав и кто виноват, потому что это не наше с тобой дело. Мы воины, мы воюем, а не рассуждаем, — эту заботу берут на себя другие. А в войне имеет значение не кто прав и кто виноват, а кто сильнее, и кто — слабей.
— Правым всегда оказывается сильный.
Полководец поглядел на Спартака испытующе:
— А ты считаешь, что может быть иначе?
Спартак продолжил его невысказанную мысль.
— Но отсюда следует, что у победителя есть право поступать с побежденным по своему разумению...
— И это не повод для спора.
— ... и слабый должен принимать условия сильного, подчиняться ему.
Тонкие губы римлянина растянулись в подобие улыбки:
— Если ты шутишь, юноша, говоря о праве побежденного подчиняться победителю, то он располагает и другим правом — ненавидеть победителя. И это уже всерьез.
На лице Спартака промелькнула еле заметная ироническая усмешка:
— Действительно, этого права у него никто не может отнять.
Гортензий пропустил мимо ушей его ответ, продолжая начатую мысль:
— Ты наверно видел, как твои люди кусали цепи, в которые их паковали, чтобы отправить в Рим как рабов. И никто не будет мешать пусть себе грызут эти цепи... Вы, фракийцы, очень непокорный народ.
— Пусть это будет самое плохое, что противник подумает о нас.
— Чего ты ждешь от меня?
— Чтобы ты поступил со мной, как с побежденным.
И ты уверен, что я так поступлю?
Иначе и быть не может.
Тебе делает честь, что ты готов разделить участь побежденных. Но я видел, как ты сражался с нашими испытанными в боях легионерами. И могу представить себе, что ты способен совершить. Потому ты достоин участи пленника, который имеет особые заслуги перед родной землей.
Спартак почувствовал опасную двусмысленность в этих словах:
Долг перед родной землей превыше всего — и для меня и для тебя.
Ты прав! И кроме того: каждый получает по заслугам.
Спартак предпочел со сдержанной иронией выразить готовность встретить свой жребий. И то, что он ответил на неясный намек Гортензия, тоже можно было считать двусмысленным:
— Каждый имеет право принять плату за содеянное.
— И ты знаешь, что тебе полагается по праву.
— Только глупец может этого не знать, и только хитрец постарается сделать вид, что не знает.
— И что же, по-твоему, тебя ожидает?
— Воля победителя.
Римский патриций остался недоволен столь кратким ответом. Побежденный не проявляет ни смирения, ни дерзости, а только сдержанное достоинство, за что он заслуживает одновременно и гнева и уважения. И не знаешь, что предпочесть.
Гортензий кивнул головой:
— Ты прав... Не побежденный определяет свою участь, это дело победителя. Потому что у него всегда есть право отмерить побежденному то, что тот заслужил.
Спартак улыбнулся — в словах Гортензия он не почувствовал ни злорадства, ни благосклонности:
— Он имеет на это право, даже когда неправ.
Собеседники изучали друг друга, каждый старался сказать меньше того, что думает, и понять больше того, что сказано.
Римлянин продолжал:
— Так или иначе, что же ты думаешь получить?
— То, что велит сделать закон войны.
— Но иногда поступают и по законам чести. По законам войны тебе полагается то, что ты заслужил, убив сорок моих воинов. А по закону чести за это же самое можно отмерить совсем другое.
— Побежденный должен уважать право победителя.
На лице римского патриция появилось подобие улыбки:
— Ты мне нравишься,
— Я не старался заслужить твое благоволение.
— Да, это верно. Но если бы все фракийцы были такими как ты, я готов поверить, что мы бы с вами договорились.
— Опасаюсь, что вышло бы как раз наоборот, благородный Гортензий.
— И все же ты ошибаешься, если считаешь, что только храбрость противника достойна уважения.
— А на что иное может рассчитывать тот, когда на него напали, и он вынужден защищаться?
Гортензий почувствовал раздражение, что Спартак ни в чем не хочет с ним согласиться, но он умел владеть собой.
— Война, юноша, не только битва, но и умение ее выиграть.
— Вы выигрываете войну силой и умением. А мы можем противопоставить вам только желание защитить свою землю и свою свободу.
Деций Гортензий, не выражая своего недовольства словами Спартака, сдержанно сказал:
— Если у победителя нет необходимости проявлять строгость к побежденному, которого есть за что уважать, то и побежденный не должен отвечать на уважение дерзостью.
Спартак порывисто ответил:
— Пусть благородный Гортензий не считает мои слова проявлением дерзости. Если бы я промолчал о том, что подумал, это было бы недоверием к тебе и проявлением неуважения к твоему благородству.
Гортензию понравилось умение Спартака сохранять учтивость, даже будучи откровенным. И он решил ответить ему тем же, чтобы не показать, что навязывает свое мнение, пользуясь преимуществом своего положения:
— Запомни, юноша, что римляне не случайно стали властелинами мира. И Эллада не случайно стала провинцией Рима.
Он помедлил. Не потому, что колебался, говорить или нет дальше, а чтобы придать больше веса своим словам:
— Мы за короткое время воздвиг ли храм Юпитера, для которого камень, колонны и мрамор были приготовлены много лет назад, словно специально для нас. Мы, завоеватели, не отняли у эллинов их богов. Мы сделали их своими, оставив их в то же время и эллинам. Этим мы сохранили их религию. Мы завоевали землю Эллады, но позволили Элладе завоевать наши души. Ее цивилизация не только уцелела в наших руках, но к окрепла. Потому что мы придали ей ту масштабность, которую она сама никогда бы не приобрела, и покровительство, которое ниоткуда больше не получит.
Помолчав немного, он продолжал:
— Я не хочу, чтобы ты стал рабом. Я привезу тебя в Рим, ты увидишь, как живем мы, римские граждане. И ты поймешь, почему мы стали властелинами мира.
Удивленный и взволнованный, Спартак словно онемел на несколько мгновений. Потом сказал:
— Меня удивляет, что тебя тронула моя участь, благородный Гортензий.
Военачальник благосклонно улыбнулся:
— Когда я увидел, как ты своим мечом крошишь моих легионеров, я понял, что у тебя надежная рука, смелое сердце, отважный ум. И я сказал себе, что ты можешь быть полезным Риму.
Спартак не сразу решился ответить:
— Ты добр ко мне, благородный Гортензий, но подумай сам, как я могу служить Риму, когда я борюсь против вашего владычества, которое вы хотите утвердить на всей земле?
— Я знаю, что говорю, юноша. Когда ты увидишь, как живут в Риме, тебе там так понравится, что ты прогонишь свои сомнения. Ты будешь пользоваться нашим доверием, которое обяжет тебя отвечать нам верностью и преданностью.
— Значит, ты хочешь отделить меня от тех, кому я предводительствовал в бою?
— Не все так чувствительны, как ты, храбрый юноша, не у всех такое понимание долга, как у тебя. Будь уверен, многие твои соплеменники предпочли бы стать римскими легионерами, а не римскими рабами.
Голос его дрогнул, и Гортензий замолчал. Из этого не следовало, что он проникся сочувствием к судьбе пленных фракийцев, хотя Спартак подумал именно так. Ему стало грустно за себя, но еще больше за своих товарищей, которых он никогда больше не увидит.
Гортензию нетрудно было заметить, что радость Спартака при вести об обещанной ему свободе померкла от сочувствия к тем, кому предстоит быть проданными в рабство. Можно было попытаться отвлечь его от печальных мыслей, но римскому военачальнику не пристало проявлять такое внимание к душевному состоянию пленника. Достаточно того, что ему определили участь, которой позавидовал бы любой оказавшийся в плену воин. Этот фракиец должен быть доволен тем, что будет жить в Риме как свободный гражданин вместо того, чтобы работать где-нибудь на руднике...
Спартак не мог заглушить безмолвных укоров совести. Он осознал, наконец, свое положение — его минует участь тех, кто сражался под его началом. Но он не виновен перед ними, он не испрашивал себе никаких привилегий у римского военачальника.
Его охватила усталость. Безразличным тоном он сказал:
— Ты очень великодушен ко мне, благородный Гортензий.
— Я не считаю великодушием то, что приказал отделить тебя от других пленных. Я пощадил тебя, потому что ты можешь быть полезен нам иначе, чем твои соратники. Я надеюсь, что всемогущий Сулла согласится с этим.
Спартак вздрогнул:
— Ты собираешься просить за меня перед самим всемогущим Суллой?!
— Ты знаешь, кто такой Сулла?
Молва о нем разносится далеко за пределами римских владений.
— Да, образованный юноша должен знать о Сулле. В Риме ты узнаешь больше. Ты узнаешь наши нравы, наши законы, наши обычаи. Ты поймешь, что Рим велик не только могуществом своего оружия, но и своей справедливостью. Потому что у нас каждый используется там, где он более всего пригоден. Каждому находится место, которого он достоин.
— И каким же будет мое?
Где-нибудь... в каком-нибудь из личных легионов Суллы. А может быть, он приблизит тебя к себе. Это будет зависеть от тебя самого. От тебя требуется старание, от него — благоволение... Будь уверен: Рим умеет быть справедливым.
— Я верю в римскую справедливость, и прежде всего — твоим словам. — Спартак сдержанно поклонился, приложив руку к левой стороне груди.
Скажи, переменил тему разговора Гортензий, каким отрядом ты командовал? Частью когорты или легиона? Он спросил об этом не потому, что сам не разобрался, а чтобы проверить, насколько будет с ним откровенен пленник.
— Это соответствует вашему легиону, ответил Спартак и тут же добавил: Я не выдаю тебе тайны, и это не может иметь последствий для нашего фракийского воинства. Самое плохое для нас уже свершилось, и я не могу этого скрыть. А твое благородное отношение ко мне требует от меня откровенности.
— Будь уверен, храбрый юноша, задумчиво посмотрел на него Гортензий, — что я умею отличать предательство пленника, который ищет снисхождения, от откровенности побежденного, но не униженного противника.
И Деций Гортензий кивнул, давая понять, что беседа закончена.
Иди, юноша, отдохни. Для тебя приготовлена палатка. Там ты будешь ожидать нашего возвращения в Рим.
24.
В начале битвы с медами, наблюдая, как Спартак сражается и как командует своим отрядом, Деций Гортензий удивлялся и даже восхищался им. Позже он решил, что такой храбрец и необыкновенно способный командир должен быть непременно взял живым. Он заслуживает редчайшего исключения из закона, говорящего, что полководцами в римской армии являются только римские граждане.
После удачного завершения яростной схватки и пленения Спартака Гортензий подумал о том, что может подарить Спартака Сулле, который сумеет оценить такого исключительного человека. Сулла нуждается в людях, которые останутся ему верными при всех превратностях судьбы и военного счастья и не перебегут в стан противника, если тот окажется сильнее.
Сопоставляя свои наблюдения, Гортензий догадывался, что Сулла имеет намерение объявить себя диктатором и только ждет для этого благоприятного момента. Именно сейчас он нуждается в таких помощниках, которые не изменят ему и в тех случаях, когда обстоятельства окажутся не в его пользу. И поэтому Спартак мог быть необходим Сулле и не только в силу своих воинских качеств. Этот знатный фракиец не способен будет изменить своему благодетелю ни при каких несчастливых обстоятельствах, которые возможны в судьбе всякого военачальника. И дело тут не только в его очевидном благородстве: у него нет к тому же родственных связей с кем бы то ни было из вероятных претендентов на главенствующее положение в Риме.
Деций Гортензий потерял в битве половину легиона. Два с половиной легиона продолжали находиться на фракийской земле. Римляне нападали на селения медов, забирали мужчин и юношей, связывали их и сгоняли в основной лагерь. Там квестор Деция Гортензия составлял из них партии для отправки на ярмарки рабов. И каждый день из лагеря уходила колонна несчастных. Она шла к ближайшей пристани, откуда людям предстояло плыть на кораблях до Италийского полуострова.
Спартак жил в лагерной палатке под стражей. Целый месяц он наблюдал, как в лагерь приводили все новые и новые партии связанных фракийцев. Он смотрел на них издали, и ему казалась позорной его привилегия не быть связанным вот так же. Он был огорчен зрелищем, которое ему открывалось, и в то же время радовался, что среди этих людей не было военнопленных. Из этого Спартак заключил, что войско медов сохранено. Мукапор знает, где его можно скрыть, и ждет, когда придет время отомстить римлянам за порабощение родной земли. Селения будут опустошены, но раз есть кому бороться, не все еще потеряно. Римляне не могут овладеть всеми лесами и горами Фракии. И когда-нибудь они жестоко пожалеют, что пришли на эту землю.
Среди медов Гортензий так и не нашел того, кто смог бы стать римским наместником. Это его и злило и в то же время заставляло уважать непокорное племя. Отряды Мукапора скрывались в лесистых горных отрогах.
Договориться с пеонцами оказалось просто. Римским наместником у них был назначен зять Реметалка, фаворит изгнанного пеонского царя. Он очень легко согласился служить Риму, как служил до сих пор своему благодетелю.
И тут Деций Гортензий убедился в одной старой-престарой истине, которую узнал от своих предшественников, имевших богатый опыт покорения чужих народов: самым послушным слугой заморских завоевателей становятся самые преданные слуги своих властителей. Легче всего предают своих хозяев те фавориты, которых щедрее других одаривали милостями, почестями, материальными благами. Потому что эти люди привыкли к подаяниям. И рады получить их от любого, а особенного от того, кто может быть щедрее других.
Римляне не оставили у пеонцев своего гарнизона. Выказав тем самым доверие к ним, они рассчитывали крепче привязать их к римской колеснице, чтобы они не только оставались верны им, но и помогали умиротворять еще непокоренные племена.
А в одном сравнительно мало пострадавшем племени даже не понадобилось искать наместника — сам царь опередил своих фаворитов и согласился стать опорой римского владычества.
Половина римского легиона была оставлена у медов в постоянном, хорошо укрепленном лагере для поддержания авторитета римских наместников, пока они не утвердятся на вечные времена. А остальные два легиона под командованием Деция Гортензия двинулись к Иллирийскому побережью, чтобы на судах вернуться в Рим.
Перед тем, как отправиться на пристань, Спартак захотел в последний раз повидаться со своими плененными бойцами, которым предстояло быть проданными в рабство.
— И для них и для тебя будет лучше, если эта встреча не состоится, сказал Гортензий. — Потому что ты запомнишь их в жалком виде — закованными в цепи. Да и они... пусть они не знают, где ты, а думают, что благодаря твоей храбрости тебя постигла еще более страшная кара.
Это соображение удивило и тронуло Спартака. Он не ожидал от римского патриция такого сочувствия к противнику. Гортензий в очередной раз показался ему человеком, заслуживающим уважения.
Но Спартак еще искупит свою мнимую вину перед своими бойцами, он оправдает себя перед ними тем, что постарается облегчить их участь.
"Наше время еще придет, — подумал он, — племена наши, покуда они самостоятельны, разъединены. Рим, покорив их, тем самым объединит их, а потом.,."
25.
Гортензий удобно расположился в легком кресле под навесом на палубе корабля. Спартак устроился напротив.
Дул тихий попутный ветерок. Море сверкало под полуденным солнцем. Его поверхность была подернута легкой рябью, искрилась серебряными блестками, открывая глазу все оттенки синего цвета.
Спартак и Гортензий беседовали. Гортензий проследил за тенью чайки, скользящей по воде в сторону близлежащего острова, и, обернувшись к Спартаку, сказал:
— Мы уважаем фракийцев за храбрость.
— Вы доказали это тем, что пришли на нашу землю и начали с нами войну.
Гортензий сделал вид, что не понял намека, и продолжал:
— Ты, наверно, согласишься, что для нас было честью иметь дело со столь серьезным противником. Но подчинить вас оказалось невозможным. Известно, что и царям своим вы подчиняетесь только если сами того хотите.
— Это правда.
— А почему у вас так много царей?
— Они нужны для того, чтобы нам было удобно. Но уважать нас за это нельзя.
Гортензий вышел из-под навеса и солнце осветило половину его лица:
— Откровенно говоря, мне нравится, что ты так думаешь. До такой истины можно дойти лишь на собственном опыте.
— Горьким истинам невозможно научиться у других, каждый их открывает самостоятельно.
— Но неужели вам нельзя найти царя, которому все могли бы подчиняться?
— К сожалению, это так...
Гортензий понял недосказанное Спартаком:
— Ты видишь, что вы потеряли, но не видишь, что вы выиграете от нашего владычества во Фракии. Наше присутствие вы называете игом, а ведь мы собираем все ваши племена в единое целое, образуя тем самым один народ.
Спартак опустил голову:
— Может быть, ты и прав.
Гортензий сказал с категоричностью, не допускающей сомнений или возражений:
— Только время рассудит , кто прав. Ему принадлежит последнее слово. Несмотря на симпатии и антипатии тех, кто придет после нас, независимо от отношения к этому наших и ваших потомков.
Оба замолчали.
Спартак смотрел на спокойную игру солнечных бликов с чуть волнующимся морем. Он не хотел больше думать, это его только расстраивало, возвращало к тому, что он навсегда потерял, что осталось далеко позади, там, куда он больше никогда не вернется. И, может, так даже лучше, он не увидит руин на родной земле и не будет испытывать боли за тех, кто остался там со своей скорбью
Гортензий снова заговорил:
— Ты, юноша, должен запомнить одно: мы приходим в чужие края только для созидания.
В первых беседах с Гортензием Спартак был более дерзок в своих высказываниях, в нем говорила гордость плененного, но не покоренного фракийца, которую он хотел противопоставить римской надменности. Но когда он понял, что спор ведется между равными собеседниками, он перестал вести себя вызывающе, что, в общем-то, было бессмысленным. Он снова ответил:
— Может быть, и так.
Когда корабль подошел к пристани, Деций Гортензий произнес, как бы подводя итог сказанному во время плавания:
— Если мы хотим навсегда сохранить власть над миром, мы должны уважать этот мир, который достался нам во владение, потому как если мы станем презирать другие народы, они будут платить нам ненавистью. А легче и лучше превратить врага в друга, чтобы использовать его способности не силой, не унижением, а уважая его достоинство. Тогда он будет служить нам, не считая, что предает соотечественников. В Риме ты убедишься, что наша империя основана не только на силе, но и на законности и на справедливости.
Спартак оживился:
— Мне нравятся твои слова о справедливости, благородный Гортензий. Я только не могу понять, зачем Риму столько рабов?
Деций Гортензий словно ожидал этот вопрос, у него уже был готов ответ:
— Рабство, юноша, это не наше изобретение. Еще до нас другие люди сделали рабство необходимостью. Мы его только распространили в большей степени, чем это было до нас, потому что у свободного римлянина больше потребностей, а я именно его имел в виду, говоря о справедливости. Но это может относиться и к покоренным народам. При помощи грубой силы можно владеть людьми, пока она есть, и пока покоренный не стал сильнее. Но при помощи силы, которой управляет справедливость, владеть людьми можно вечно. Мы открыли свои двери для всего лучшего, что есть вокруг нас, для всего, чего мы не знали сами. Мы строим города, и это не эгоизм, ибо все, что мы создаем, останется людям, которых мы никогда не увидим. Может быть, нам присуща только одна разновидность эгоизма присваивать себе всю славу создания цивилизации, диктовать образ жизни другим народам. Вначале это совершается путем насилия, но если это будет в конце концов хорошо для других, то они или их потомки простят нас. Великие ценности не создаются без принуждения, без пролитой крови и пота.
26.
На другой день после возвращения из Фракии рано утром Деций Гортензий отправился верхом на виллу Суллы, находившуюся недалеко от Рима.
Сулла имел роскошный дом в Риме. Там он встречался с сенаторами и чаще — с командирами своих легионов. Но местом развлечений и отдыха от забот о судьбе республики была для него вилла. Там он проводил свои дни в размышлениях, а ночи в пьянстве, буйных оргиях в обществе избранных гостей и в окружении флейтистов, танцовщиц, шутов.
Путь проходил по красивой и плодородной местности, славившейся своим мягким климатом.
Деций Гортензий не однажды бывал тут. И всегда ему было интересно проезжать по этим местам.
Тут и там стояли стройные молодые деревца, настоящие красавцы, с шапками из сочной листвы, а спрятавшиеся в них невидимые птицы на разные голоса славили солнце, небо и красоту земли.
По одну сторону дороги до самого горизонта простирались разреженные зеленые полосы виноградников, по другую — лежала долина с оливковыми и апельсиновыми рощами. На самой кромке горизонта тонко прочерчивались в ясном небе прозрачного утра небольшие возвышения.
Вблизи дороги паслись коровы, за которыми никто не присматривал и коровы, и луга, по которым они бродили, принадлежали одному и тому же хозяину.
До виллы оставалось совсем немного — не более двухсот шагов, но ее еще не было видно. Она находилась в защищенном от северных ветров месте, в естественной впадине, откуда открывался вид на юг. Впереди, в просветах между ветвями громадных платанов, что-то белело. Целиком же увидеть виллу можно было, лишь подъехав к ней вплотную.
К дому вела кипарисовая аллея. Деревья выстроились в торжественной неподвижности и строгом молчании, показывая дорогу.
В пятидесяти шагах от дома Деций Гортензий спешился, передал поводья конюху-рабу и пошел по выстланной мраморными плитками площадке к главному входу.
Несколько мгновений оба смотрели друг другу в глаза. Сулла спросил первым:
— Доволен ли ты походом против медов, мой верный Гортензий?
Ни по его словам, ни по его взгляду нельзя было понять, находится ли он в добром расположении духа или за этим скрывается придирчивое любопытство.
— Что касается того, что мы приобрели, всемогущий Сулла, у нас есть основания быть довольными.
Сулла помолчал, скорее для того, чтобы придать больше веса второму вопросу:
— А что касается поредевших легионов? Оправдывает ли выигрыш наши потери?
— Порой мы приносим и вовсе неоправданные жертвы.
Сулла скрыл свое удовлетворение находчивостью Гортензия:
— Уважаю твою откровенность, благородный Гортензий, Ты оставил во Фракии немало воинов, но принес нам большую победу. Легионы свои мы пополним, но фракийцы никогда уже не вернут себе потерянную свободу.
— И рабы, которых мы привезли оттуда, стоят кое-чего, вдобавок к золоту и серебру, которое мы нашли там, — добавил Гортензий.
— А что ты думаешь о медах? Что это за народ?
— Когда я своими глазами увидел, с какой яростью они сражались с нами, я понял, что нам нелегко будет сделать их землю нашей покорной провинцией, а их самих — примерными подданными. Пройдет еще немало времени, пока мы их полностью усмирим.
По пепельно-серому лицу Суллы разлилось подобие улыбки:
— Не слишком ли ты их переоцениваешь? Меньше всего от тебя, завоевателя Фракии, ожидал я таких слов,
— Я просто постарался избежать ошибки, всемогущий Сулла. Но клянусь бессмертными богами, я не преувеличиваю, если скажу, что из всех известных мне народов самые гордые и непокорные — фракийцы.
— Если это так, наверно, большое удовольствие — укрощать таких варваров?
— Надеюсь, я доставлю тебе еще большее удовольствие, подарив пленника из знатного фракийского рода.
Сулла испытующе посмотрел на Гортензия:
— Я знаю твою способность правильно оценивать людей. Что дало тебе основание для столь высокого мнения об этом знатном фракийце?
— Вначале я заметил его в битве, которая решала судьбу его племени. Я наблюдал, как он командует и как сражается сам. Он умело направлял своих людей на наши когорты, подстраивал нам такие западни, и применял против нас такие военные хитрости, которые никому другому не пришли бы в голову. Если бы у фракийцев было еще несколько таких же командиров, кто знает, чего бы нам стоила эта победа. Его меч, как молния, сверкал в рядах нападавших на него легионеров, он положил вокруг себя не меньше сорока человек. Такой драгоценный подарок достоин только тебя, всемогущий Сулла.
— Ты правильно сделал, что приказал взять его живым. Но кто или что мне будет порукой, что этот знатный фракиец останется мне верен?
— Милость, которой ты его удостоишь.
— Какая-то вероятность в этом есть. Но не увлекаешься ли ты больше, чем следует, допуская, что у плененного врага может быть какая-то признательность к победителям?
— Противник, которого пощадили, тронутый великодушием победителя, будет гораздо вернее, чем облагодетельствованный фаворит, которого легко разбаловать.
— А не считаешь ли ты, благородный Гортензий, что знатный юноша фракийского происхождения, которому прислуживали, когда он был господином, вынужденный теперь прислуживать сам, может быть способен и на коварство?
— Не допускаю такой возможности, всемогущий Сулла, если речь идет именно об этом юноше.
— Но если фракийцы не испытывают к нам никаких добрых чувств, нельзя ли ожидать и от него затаенной неприязни или даже ненависти?
— Я видел их сам и насколько теперь знаю, они умеют яростно сражаться и с ожесточением относятся к своим врагам. Они хитры, умеют заманить противника в ловушку, они впадают в бешенство, когда орудуют своими короткими, кривыми мечами. Но как раз по той причине, что они бурно выражают свои чувства, мысли и переживания, они не способны лицемерить. Вероломство присуще тем, кто ловит удачу, рыская в темноте. А они умеют лишь с ревом налетать и сражаться с любым противником лицом к лицу. Притворяться они не умеют. Для этого им нужно провести несколько веков под чужим владычеством. Только тогда у них могут выработаться кавыки притворства, лукавства, коварства. Они привыкли или убивать или быть убитыми, побеждать или погибать. Храбрец не может быть подлецом.
Лицо Суллы на мгновение прояснилось. Но тут же он снова стал озабоченным. И сказал почти сухо:
— Я склонен поверить, что ты прав.
Но Гортензий не счел лишним добавить:
— В данном случае не нужно пренебрегать еще одним обстоятельством: человек, у которого нет никаких связей в Риме — ни родственных, ни дружеских, ни служебных — гораздо надежнее, чем человек благородного происхождения, связанный с тщеславными соперниками из влиятельных родов, с военачальниками, с претендентами на преуспевание.
Сулла бросил на него взгляд, в котором было больше любопытства, чем укора:
— Откуда идут столь пессимистические размышления? Особенно сейчас, когда у нас есть все основания быть довольными победой над сильным противником?
Гортензий ответил:
— Человек, даже когда он счастлив, должен задумываться и о том неприятном, что с каждым может произойти. Потому что военное счастье непрочно.
Сулла прикрыл глаза, может быть, для того, чтобы скрыть свое нежелание согласиться с этой малоприятной истиной.
— Действительно, благородный Гортензий, счастье — это нечто преходящее. Но именно поэтому мы заботимся, чтоб оно сопутствовало нам как можно дольше. А что ты имеешь в виду, напоминая мне об этом?
Гортензий высказал вслух только конец фразы, которую произнес мысленно:
— Ты должен иметь больше верных людей.
Сулла ответил, как бы возражая на то, о чем промолчал его преданный советник:
— Я рассчитываю на верность моих соратников. Они ведь тоже вкушают плоды моих побед.
Гортензий сдержанно поднял брови, тем самым смягчая возражение и в то же время делая свой ответ более убедительным:
— Верность, не испытанная при неудачах, еще не верность.
Сулла отвернулся, чтобы не выдать неприятного подергивания век, которое он ощутил при упоминании об этой опасной истине. Потом вновь обернулся к Гортензию:
— Даже если твой знатный и храбрый юноша понадобится мне, пусть бессмертные боги не пошлют Риму новых испытаний.
Он сказал это не только для того, чтобы опровергнуть предположения Гортензия, но и чтобы тот знал, что Сулла желает Риму гражданского покоя.
— И когда же ты покажешь мне своего знатного пленника?
— Как только тебе будет угодно принять его.
— Благодарю тебя, благородный Гортензий. Ты хочешь подарить мне то, что подарить может не каждый, и то, что не каждому может принадлежать...
— Не каждый может быть Суллой...
27.
Еще служа в армии Митридата, Спартак по слухам знал Суллу как покорителя многих народов и опустошителя их земель. Ему было известно, что Сулла внушает страх врагам, и не щадит побежденных.. Но когда Спартак впервые пришел к Сулле и остановился перед ним, чутье подсказало ему, что с этим римским патрицием надо держаться с обычным достоинством.
Сулла медленно поднял голову и посмотрел на Спартака своим тяжелым взглядом. В нем была и пронзительность, от которой трус должен был содрогнуться, и проницательность, которая могла смутить человека с нечистой совестью, и способность к молниеносной реакции, как у хищника, который измеряет расстояние до жертвы, определяя, где он ее настигнет при броске. Но сейчас Спартак почувствовал во взгляде Суллы только спокойное любопытство, которое располагало к откровенности. Кроме того, благородная осанка знаменитого своей суровостью римского патриция вызвала у Спартака безотчетное уважение к нему.
Сулле было известно, что Спартак не владеет латынью. Он заговорил с ним по-гречески, для него было удовольствием пользоваться этим языком:
— Мне сказали, юноша, что ты очень храбро сражался.
Спартак сдержанно поклонился:
— Я старался быть достойным противника, против которого должен был воевать. Это честь — соперничать с сильнейшим...
Спартак, вероятно, собирался сказать еще что-то, но Сулла прервал его, не устояв перед внезапным порывом:
— Мне нравится, юноша, что ты почитаешь за честь биться с римлянами.
Он не собирался спешить в этом разговоре, но нарушил свою обычную манеру соблюдать умеренность в проявлении чувств.
Спартак ответил:
— Так и должно быть, всемогущий Сулла. Чести можно противопоставить только честь, как силе — только силу.
— Ты хорошо объясняешь смысл войны. Но ты сражался не только храбро, но и яростно.
Спартак не почувствовал в голосе Суллы ни укора, ни намека на осуждение. Но если бы и почувствовал, то все равно ответил бы так же:
— Тот, на чьей земле происходит битва, всегда дерется яростно.
Сулла кивнул:
— Как противник, ты имеешь право так говорить. — Голос мрачного патриция стал тише. — Но я не просил тебя в этом признаваться. Я знаю, сколько моих воинов ты поразил своим мечом, прежде чем тебя взяли в плен.
— Они сражались достойно, — ответил Спартак. — Но это война: один убивает, другой падает, сраженный.
— Ты из знатного рода?
— Так считают там, где живет мое племя.
— Так буду считать и я.
Спартака удивили эти слова римлянина.
— Я признателен тебе за эту честь, всемогущий Сулла.
— Надеюсь, что я не обманусь, если буду на тебя рассчитывать.
Спартак ответил совершенно искренне:
— Мне не остается ничего иного, кроме преданности.
Эта грустная откровенность пришлась по душе даже такому суровому военачальнику, каким был Сулла:
— Я надеюсь, что юноша из знатного рода знает цену честному слову?
— Моя честь теперь — единственное мое богатство.
Сулла сказал достаточно многозначительно:
— Ты убедишься, что это богатство принесет тебе больше того, что ты утратил. Но я понимаю, как тебе сейчас трудно.
Спартак нахмурился. Он ответил не сразу.
— Нельзя жить одной памятью. У меня ведь есть и будущее.
Сулла тоже помолчал. Потом начал почти наставительно:
— Да, сейчас для тебя должно быть важно только будущее. То, что ты потерял — позади. То, что ты приобретешь — впереди. Оно придет не сразу, хотя ты уже очень скоро вспомнишь эти мои слова. Но ты должен все время ожидать большего, у тебя постоянно должна быть надежда. Ты никогда не будешь избалован, потому что не сможешь пользоваться выгодами, которые дает происхождение, родственные связи и привилегии.
Сулла был почти тронут судьбой юноши, которому не на что было рассчитывать, кроме собственных заслуг. Полководец хотел сразу же назначить его центурионом. Но подумав, решил не торопиться. Пусть чужестранец почувствует, что Сулла не очень-то щедр. Он сделает его сначала декурионом, а дальше будет видно.
Так держал себя при первой встрече со Спартаком Люций Корнелий Сулла, как его называли все, Счастливец, как он привык называть себя сам.
Это была очень целостная личность с самыми противоречивыми проявлениями характера, сложившегося из самых несовместимых черт.
Великий военачальник, когда имеет дело с сильным противником, и — мародер после победы, убивающий беззащитных людей, чтобы присвоить себе их богатства.
Лицемер и циник, хотя лицемерие и цинизм обычно не совместимы в одном человеке.
Он поклялся в верности республике как раз тогда, когда готовился уничтожить ее, провозгласив себя диктатором и заставив сенат подтвердить это законодательным актом. Предварительно в Рим были пригнаны на бой восемь тысяч пленных самнитов. Своей участью они предназначены были преподать сенаторам наглядный урок гражданского послушания. Резня происходила в цирке против храма богини Беллоны, в котором заседал сенат. Предсмертные крики и хрипение закалываемых самнитов помогли сенаторам быстро усвоить урок. И они проголосовали за предоставление Сулле права придать законную силу проскрипциям — спискам имен римских граждан, которых он собирался убить и присвоить себе их имущество. История потом назовет это гражданской междоусобицей, если понимать под междоусобицей резню, в которой одна сторона участвует с ножом в руке, а другая — подставляет под нож горло.
Убийство восьми тысяч самнитов среди бела дня возле храма почитаемой богини было совершенно не только ради удовольствия Суллы. По его замыслу оно должно было укрепить могущество Рима — властителя мира. С точки зрения Суллы, оно морально оправдывало и все последующие убийства знатных граждан, его противников. И поэтому было причислено к великим его деяниям.
Сулла был способен глубоко уважать что-либо и над этим же кощунствовать. Его военная палатка почиталась как святая святых, куда не должна была входить женщина, это было место размышлений перед сражениями, приносящими Риму победу. Но в ту же палатку после боя приводили комедиантов.
Аскет в походе, Сулла делил со своими воинами скромную пищу из ржаных сухарей и овсяной каши. А в мирное время он устраивал в своем триклиниуме роскошные пиршества, удивляя сотрапезников изделиями поваров, могущими удовлетворить чревоугодников с самым изысканным вкусом.
Неприступный диктатор во владетельном Риме и благодушный кутила на загородной вилле.
Убийца беззащитных противников и благодетель тех, кто помогал ему в самочинных расправах. Римская чернь — плебеи, бездельники, нищие — обожествляла его. Он устраивал для черни трехдневные празднества с обильным угощением. На празднествах он щедро раздавал одной рукой то, что собрал тысячами рук, захватив собственность своих врагов.
Вершитель великих подвигов и великих преступлений, если преступления можно назвать великими.
Почитаемый с раболепием и ненавидимый пламенной ненавистью.
Всемогущий человек, обладавший всеми присущими человечеству пороками.
Таков был Люций Корнелий Сулла, Счастливец.
Сулла был способен по достоинству оценить Спартака. Большой государственный деятель, даже если он тиран, способен замечать и уважать ценных для него людей. Он убивает слабых, тех, кого считает ненужным ему сбродом, и сильных, которые могут стать ему соперниками. Но он не уничтожает способных, когда уверен, что они могут быть полезны именно ему, и никому другому.
28.
Вскоре Спартак был назначен центурионом в один из легионов Суллы. Ему вменялось в обязанность обучить сто воинов и командовать ими.
Он ежедневно приходил в казарму и знакомился с отданными ему под начало людьми. Постепенно запоминал их имена, но говорить с ними пока еще не мог. Спартак едва знал те короткие команды, которые нужны были для обучения воинов применению оружия при нападении и защите. Один из легионеров, уже участвовавший в походах в Элладу, понимал по-гречески, но Спартак избегал пользоваться его услугами, чтобы скорее научиться латинскому языку.
Наступил праздник. Занятий в казарме не было.
Ранним утром ясного весеннего дня Спартак пошел погулять по городу.
С первого взгляда Рим поразил Спартака тем, что прежде всего бросилось ему в глаза: Форумом, Большим цирком, храмами, красивыми базиликами, лавками, рынками, белыми патрицианскими дворцами, расположенными на Палатинском холме среди пышнозеленых садов. Здания и деревья отчетливо вырисовывались в чистом воздухе.
Тихий ветерок, веющий с холма, разносил по улицам города благоухание белых цветов, распустившихся на вечнозеленых миртах, и тонкий аромат олеандров, одетых в легкие светло-розовые одежды, стыдливо прячущихся в тени высоких пиний.
Спартак шел, опьяненный праздником цветения, захваченный красотой этого, еще вчера незнакомого ему, мира.
Он смотрел вокруг и понимал только одно — все это никогда не станет для него своим. Все тут было для него чужое.
И празднично нарядные дворцы. И безупречно чистые улицы. И патриции с плавной походкой, с гордой осанкой, в тяжело спускающихся с плеч белых тогах, обшитых по краям пурпурным галуном. И матроны, обвитые невидимыми вуалями благоухания, с достоинством возлежащие на задрапированных шелком носилках, которые несли на своих плечах статные рабы.
В этом мире, где было просторно и чисто, среди торжественной красоты жили выхоленные, беззаботные люди, к которым относились слова: "Noli me tangere civis romanus sum". ("Не тронь меня, я — римский гражданин").
Потом Спартак понял, что и мастеровой люд, и бездельники, и неимущие говорили то же самое о себе в присутствии чужеземца или варвара. Им, правда, не хватало надменности патрициев, их высокомерия по поводу того, что они владеют богатством и привилегиями — бесспорным доказательством власти над людьми.
Но и римские граждане второго сорта имели основание называть себя властелинами мира. Они тоже были господами — господами над своей нищетой. Было у них и свое тщеславие — все-таки они не варвары. И своя, дарованная им привилегия: бездельничать, лентяйствовать, паразитировать на спинах народов данников Рима. И время от времени обжираться на общенародных трапезах по различным поводам, принимать эту милостыню от истинных властелинов мира.
После полудня Спартак поднялся на Эсквилинский холм. Он бродил по грязным улочкам, куда не проникал солнечный свет, потому что по обеим сторонам стояли высокие неприветливые восьмиэтажные здания без дворов, примыкавшие один к другому, с близко расположенными окнами, из чего можно было заключить, что комнаты в домах маленькие, тесные. Ясно было и то, что в этих домах, напоминающих огромные курятники, жили неимущие.
Это был бедняцкий лабиринт, кишащий детьми. Мужчины возвращались в эти вертепы только вечером — день они проводили в городе, выполняя мелкие поручения своих патронов, или поздно ночью, когда таверны уже закрывались.
Спартак без особого сочувствия смотрел на это безрадостное зрелище, понимая, что живущие здесь люди — соучастники угнетения, которое всемогущий Рим нес завоеванным странам и покоренным народам.
Он слышал оживленный говор на узеньких улочках, и ему казалось, что эти люди вряд ли осознают беспросветность и убожество своей жизни. По вечерам они собираются в мрачных, скудно освещенных харчевнях, чтобы пожаловаться друг другу на свои невзгоды, вместе позавидовать богатству своих патронов.
Не понимая языка, Спартак был одинок среди этого уличного шума. Но он не испытывал страданий от своего одиночества, у него не было желания общаться с этими людьми. Он был молод, силен, и не нуждался в близости и душевной опоре со стороны тех, кого не знал и не хотел знать. Ему достаточно было того, что он живет и может на что-то надеяться. Ему еще предстояло лучше узнать Рим.
И тот — с патрицианскими домами, в которых удобства, роскошь и изобилие изнеживают плоть, но ожесточают душу, поддерживая в своих владельцах высокомерие, чувство превосходства, сознание владычества над миром и постоянную готовность к жестокости.
И другой Рим — с лачугами бедняков, которые вследствие своей бедности, безделия и невзгод привыкли довольствоваться подаянием.
Деций Гортензий поверил в Спартака еще на корабле, пораженный его печальной искренностью. Тогда-то римлянин и открыл для себя, постиг умом и сердцем, что грустью невозможно прикрыть коварство или злобу.
А кроме того способный варвар привлекал его тем, что был каким-то удивительным исключением в его представлениях о чужеземцах, не владеющих латинским. Спартак притягивал душевной тонкостью, образованностью, благородством и необъяснимым обаянием личности.
После каждой беседы с фракийцем, Гортензию снова и снова хотелось встречаться и говорить с ним.
Вначале он считал, что Спартаку будет трудно полностью довериться ему. Но Спартак своим чистосердечием — он не умалчивал и о том, о чем мог бы умолчать, — все больше располагал к себе римлянина, и оба они все больше раскрывали себя друг перед другом.
Гортензий, во многом не соглашаясь со Спартаком, одновременно сочувствовал ему, как человеку, потерявшему то, что трудно забыть, если бы даже он и получил взамен нечто большее... Но римлянин не одобрял чувствительности фракийца, которая поддерживалась, вероятно, воспоминаниями об отцовском доме, о прежних друзьях, о покоренной Фракии...
Спартак ненавидел римлян как завоевателей и угнетателей, но он не мог не уважать Гортензия, как образованного и откровенного собеседника.
Благодаря Гортензию, Спартак постепенно стал перенимать то хорошее, что он находил в римских обычаях. Это было вполне естественно. В своем родном краю он провел лишь детство и часть юности. После тяжело пережитой разлуки с Родопидой он служил у Митридата. И по-настоящему полюбил Фракию, когда потерял ее. Фракия была для него прошлым — воспоминанием о детских забавах, бесхитростных домашних событиях, воспоминанием о Родопиде. С Римом же Спартака связало его новое военное поприще. Рим стал его действительностью, его настоящим.
Иногда в душе вспыхивала искорка надежды, что его пребывание в Риме — временное и что он еще вернется на берега своего Стримона.
Могущество Рима внушало ему уважение, но временами его тревожило сознание того, что служа Риму, он тем самым участвует в порабощении людей. В такие минуты его раздражало высокомерие этой нации, которая силой поддерживала свое могущество.
Он все больше убеждался в том, что высокая нравственность свойственна лишь тем, кто страдает от несправедливости.
Во Фракии он жил с чувством свободы и собственного достоинства, не сознавая этого. Там он не мог оценить по-настоящему эти сокровища души и сердца, он владел ими и не должен был за них бороться. В Риме он уже сознательно стал ценить свободу и человеческое достоинство, почувствовал их истинную цену только здесь, где рабство было сделано всеобщей необходимостью, на этом и держалось могущество Рима.
Он не осознавал своей любви к Фракии, когда она была свободной, гордой и спокойной. Но когда она осталась в далеком прошлом — непокоренной, но разоренной, осталась где-то там, куда он едва ли когда-нибудь вернется, он понял, что потерял. Он испытывал непреходящую тоску, которую воспоминания еще больше усугубляли.
В часы, свободные от занятий в казарме, он ходил по городу, с неослабевающим интересом изучал его, открывая для себя все новое и новое.
Он все лучше узнавал Рим. И все больше понимал, что такое цивилизация. И что создана она для того, чтобы делать более удобной и еще более богатой удовольствиями жизнь тех, кто только себя считает людьми, превратив множество человеческих существ в свою собственность, в рабов.
Он знал, что все замечательные римские постройки, радующие глаз, подавляющие своими размерами, массивностью и великолепием, сделаны руками рабов, населяющих свои муравейники; рабов, которых используют с жестоким умением и называют говорящими орудиями; рабов, у которых навсегда убита радость жизни.
Он понимал, что тот порядок, который вызывает уважение своей строгой безупречностью, основан на жестокости. Жестокость была здесь постоянным средством воспитания, средством предупреждения недозволенного, Она практиковалась как необходимость для закрепления права на роскошную жизнь одних и горькую нищету других. И все это считалось целесообразным и справедливым.
После бесед с Гортензием Спартак, оставшись один, обычно обдумывал то, что говорил римлянин, дополняя это тем, о чем он умолчал. И выходило, что Рим совершенно не верит в добрые чувства покоренных им народов. Он рассчитывает лишь на предательство, на вассальство, на угодничество — иными словами, на то, что проявили и некоторые фракийские вожди, доказав тем самым, что могут быть его верными друзьями.
Тот, кто несет цивилизацию варварам, присваивает себе право их угнетать, а им оставляет право испытывать недобрые чувства к угнетателям.
Но для римлян не имеют значения чувства, добрые они или недобрые. Имеют значение только принудительно установленные отношения господства и подчинения.
Спартак чувствовал себя хорошо только среди своих воинов, его заботили их интересы и судьбы — как и он, они были оторваны от своих близких.
Он быстро усвоил латинский язык — вначале настолько, чтобы понимать все необходимое. Своей общительностью и непринужденностью в общении он располагал к себе. О каждом воине он знал подробности, которые может знать только близкий человек. Спартак привязался к ним, видя в них прежде всего людей, а потом уже римлян.
А они видели в нем командира, который любит свое дело. Для них тренировка была не дрессировкой, а обучением. Спартак был для них и командиром, и учителем, и другом.
Его произношение отличало его от других командиров и повышало к нему интерес и симпатии людей.
Его знания в военном деле и разумная требовательность уже в первые дни создали ему авторитет среди солдат.
Командир когорты часто наблюдал за работой Спартака. Он приходил на занятия и присутствовал при упражнениях, которых никогда прежде не видел. А после одного из смотров он доложил легату, что солдаты из центурии Спартака — лучшие в легионе по фехтованию, и что каждого из них можно сделать декурионом.
Легат, не дожидаясь предстоящей битвы с марийцами, в которой можно было бы проверить командирские способности Спартака, назначил его командиром манипулы.
Палатин и Эсквилин разделяли римских граждан на две категории: богатых и бедных. А Большой цирк собирал их воедино: в толпу зрителей, одинаково восторгавшихся кровопролитием, нареченным цирковыми играми, которые устраивались для развлечения римлян. Здесь было полное равноправие патрициев и плебеев.
На арену, посыпанную толченым мрамором, чтобы он впитывал в себя кровь, парами выходили вооруженные гладиаторы. Под улюлюкание толпы они сражались друг с другом, пока один из них не падал смертельно раненный.
Однажды Деций Гортензий взял с собой Спартака в Большой цирк, где должны были состояться особенно интересные цирковые игры, встречались гладиаторы, побеждавшие на аренах многих городов полуострова.
И на этот раз половина из них вышла победителями. А в другой половине остались те, для которых этот выход на арену был последним. Служители-рабы баграми оттаскивали их тела по окровавленному белому песку к воротам смерти, чтобы освободить арену для следующей пары.
Сидя рядом с Гортензием, Спартак еле сдерживал свое отвращение. Но когда вышли из цирка, и Гортензий спросил его о впечатлениях, Спартак указал на ошибки тех, кто уже никогда больше не будет делать ошибок на арене. Однако он промолчал о чувствах, вызванных этим зрелищем.
Чтобы быть справедливым, Спартак мысленно сравнивал цирковые игры с теми кровопролитиями, которые совершаются на больших пиршествах во Фракии. И решил, что схватки фракийцев дают выход неудержимому буйству молодости, а цирковые игры в Риме — это человеческие жертвоприношения, только не богам, а толпе зрителей.
Это излюбленное публичное развлечение римских граждан усилило его презрение и к патрициям, и к плебеям.
Со временем, правда, Спартак стал лучше понимать и тех и других.
Ради своих воинов он старался вникнуть в жизнь римлян, глубже постичь их нравы и обычаи.
Он оценил могущество их державы.
И сказал себе, что учиться нужно только тому, что делает человека образованнее, благороднее и добрее.
29.
Едва стихнувшая война между Марием и Суллой вспыхнула снова.
Спартак со своей манипулой участвовал в этой войне на стороне Суллы.
Вначале он был склонен предположить, что марийцы борются за нечто лучшее, чем то, что он привык здесь видеть. Но вскоре убедился, что борьба идет только за то, чтобы стал еще более могуществен тот же Рим, властелин мира, завоеватель чужих земель, угнетатель других народов. И что та свобода, во имя которой Марий пошел на Суллу, была свободой не для рабов, а для тех, кто хорошо жил за их счет. Спартак перестал видеть различия между Суллой и его соперником, понял, что Марий будет не лучше Суллы, займи он его место.
И Спартак с увлечением наносил удары марийцам. Он мстил им, как римлянам, за жестокую расправу римских легионеров над медами, за разрушенные селения, за скованных цепями и проданных в рабство соратников.
Уже в первом сражении Спартак доказал, что легат не ошибся, поручив ему командовать двумя сотнями воинов. Его манипула совершала такие прорывы и вносила такую сумятицу в ряды противника, что ее действия решающим образом повлияли на исход боя.
Вскоре Спартаку поручили командовать когортой.
Отношение Спартака к приверженцам Мария была расценена как проявление преданности Сулле. Правда, Спартаку казалось не слишком достойным уничтожать ставших уже беспомощными врагов. Но наблюдая, как сами римляне расправляются с пленными соотечественниками, он понял, что их жестокость — раз и навсегда установленный образ действий, испытанная и хладнокровно применяемая система ведения войны и устрашения противника. И уже не считал, что слишком увлекается в расправе с поверженными противниками Суллы.
Марийцы, наученные поражением в минувшей битве, тщательно подготовились к следующей и вели сражение так, что дело могло завершиться катастрофой для сулланцев. Неожиданным: маневром, который не могла предвидеть ни та, ни другая сторона, Спартак спас от полного окружения и уничтожения целый легион, который действовал на фланге, находившемся под сильной угрозой. По оценке тех, кто руководил сражением, это была не случайность, а результат хорошо продуманных действий. Заслуга в положительном исходе сражения была высоко оценена легатом легиона, к которому принадлежала когорта Спартака. В качестве награды ему дали на откуп виллу знатного марийца, на земле которого произошла встреча двух армий. Ему также было поручено очистить окрестности виллы от врагов. Спартак направил три свои манипулы по определенным: маршрутам, а сам с несколькими воинами отправился на виллу.
Он вошел в атриум первым и приказал воинам осмотреть боковые комнаты. Сам же широко раскрыл двери в центральные помещения и оказался в конклаве.
То, что он увидел, заставило его остановиться. У мраморного столика, на котором стояла чернильница, сделанная из цветной раковины, и несколько флаконов, по-видимому, с благовониями, сидела женщина лет двадцати пяти, в светлом пеплуме, легко облокотившись одной рукой на столик и держа в другой веер из страусовых перьев. Возле нее находились две рабыни.
Казалось, она ожидала кого-то, на ее лице было выражение недовольства долгим ожиданием, что не предвещало вошедшему ничего хорошего. Спартак едва заметно вздрогнул, но не отступил, а продолжал стоять, пытаясь хоть как-то скрыть свою нерешительность.
Во взгляде патрицианки он читал холодное презрение и гордое равнодушие.
Она сказала:
— Ты можешь брать здесь все, что видишь. И то, чего не видишь — тоже. Только то, что во мне, твоим никогда не станет.
Спартак нахмурился:
— Этого мне и не нужно. Зачем мне твоя ненависть?
— Мстят не только ненавистью.
Голос ее был глубоким и сокровенным.
Спартак сурово посмотрел на матрону:
— Да, кроме ненависти есть еще презрение к нежеланному гостю, отвращение к жестокости других, примирение с бедой, которая приходит нежданно. И все, чем встречают нагрянувшего в дом врага, злодея, убийцу беззащитных людей.
В глазах патрицианки затрепетало что-то, похожее на удивление и недоумение. Ожесточение в ней притихло. Она забыла то, что хотела сказать, И против воли сказала совсем другое:
— Ты перечислил почти все, чем отличаетесь вы, люди Суллы, — начала она пламенно, потом вдруг остановилась и голос ее смягчился. — И все же я почему-то не могу себе представить, что и ты такой же, как все.
Что-то словно обожгло душу Спартака. Он сделал два шага и глухим голосом произнес, не отрывая взгляда от лица женщины:
— Ты не видела, что я делал как сулланец...
— Я хочу знать не о том, что ты делал, а о том, что ты собираешься делать здесь.
Справившись с волнением, она обернулась к рабыне, которая стояла справа, и, понизив голос, спросила на хорошем греческом языке:
— Удовольствуется ли этот полуроманизированный варвар тем, что находится перед его глазами, или захочет перерыть всю виллу?
Даже по тем нескольким словам, которыми Спартак обменялся с матроной, нетрудно было понять, что латынь — не родной ему язык, Он не замедлил убедить матрону, что это так — обратился к ней на изысканном греческом:
— Этот действительно полуроманизированный варвар удовольствуется бокалом сока, если не имеет ничего против гордая и высокомерная патрицианка.
Она вздрогнула, и этого нельзя было не заметить. Спартак подумал, что это произошло не от страха или смущения, потому что такие чувства не присущи ни патрициям, ни их женам. Это случилось, вероятно, от неожиданности — оказывается, варвар может говорить по-гречески совсем не хуже римской матроны.
Она шепнула что-то рабыне, которая стояла слева, и та быстро вышла. Потом снова обратилась к Спартаку:
— Сядь, чужеземец! — указала она жестом руки на кушетку у боковой стены. Он оглянулся, подошел и сел.
— Как ты попал в Рим? — чувствовалась, что патрицианка уже овладела собой.
— Это сказано верно: "попал Действительно, я здесь не по своей воле. Ты точно определила, что я варвар, поскольку для римлян варвары — все иностранцы, которые плохо говорят по-латински. А кому принадлежит эта вилла, в которой я имею честь находиться?
На ее лице появилась улыбка, в которой было и снисходительное высокомерие и легкое презрение:
— Разве это честь — войти в дом, не будучи приглашенным хозяйкой?
Он ответил с вызовом:
— Это честь для каждого, кто может войти сюда даже без приглашения, особенно, если он варвар.
Она посмотрела на него неприязненно:
— Скажи мне, что ты ищешь тут, и я тебе отвечу, найдешь ли ты это.
Спартак был ошеломлен ее дерзким спокойствием.
— Ответь прежде всего, кто ты?
— Я Лавиния, жена Квинта Медуллия.
— Кто этот Квинт Медуллий?
Матрона сделала гримасу, означавшую презрительное снисхождение:
— "Этот Квинт Медуллий" — из видного патрицианского рода и то, что ты его не знаешь, не мешает ему командовать легионом в Иберии против Сертория, самого опасного врага Суллы.
Спартак ответил скорее не на ее слова, а на ее скрытую издевку:
— До сих пор я знакомился преимущественно с теми патрициями, с которыми мне приходилось расправляться. Но хвала богам, придет время познакомиться и с остальными.
— Ты, наверно, и сюда пришел для расправы?
— Это моя обязанность — обязанность командира когорты из армии Суллы, которая преследует его врагов. Легат моего легиона сказал мне, что это вилла видного марийца.
— Он сказал тебе только половину истины.
— И половина... все же больше, чем ничто. Иными словами, я не напрасно пришел сюда.
— Иными словами... ты исполнишь свой долг так, как сочтешь нужным?
— Совершенно верно. Я всегда поступаю так, как считаю нужным.
— И чего следует от тебя ожидать?
— Тебе — ничего, благородная Лавиния... хотя я не знаю... почему жена легата и сулланца находится на вилле марийца.
Она опустила голову. Для Спартака это означало нежелание отвечать. Он продолжал:
— Ты можешь быть уверена, что хуже тебе не будет, если ты откроешь мне всю истину.
Лавиния вздрогнула:
— Если тебе нужно это знать, то я нахожусь тут, потому что я — дочь этого видного марийца.
Спартак подумал и решительно сказал:
— Можешь мне поверить, если он сейчас появится здесь, я не сделаю ему ничего плохого.
Она медленно подняла голову, которая словно отяжелела от внезапно охватившей ее усталости. И ответила печально, но с гордым самообладанием:
— Ему уже никто не может сделать ни плохого, ни хорошего.
— Значит, его тут нет?
Спартак смотрел на нее озадаченно.
— От него осталось только имя в проскрипциях Суллы.
Спартак растерялся:
— Но тогда... Назови мне хотя бы имя твоего отца.
— Помпедий Долабелла. Но... что может сказать тебе его имя? Ты, наверно, и не слышал о нем. Ты ведь не обязан знать всех римских патрициев.
Спартак вздрогнул, но тут же овладел собой и сказал тихо:
— Пусть иногда и варварам будет дозволено знать иных патрициев. Что же касается твоего отца... наверно, ты не поверишь, если я скажу, что мы с ним имели случай познакомиться...
Она недоверчиво покачала головой:
— Тебе нелегко будет убедить меня в этом. Откуда ты мог его знать?
— Мы с ним встретились там, куда он пришел со своим легионом без нашего приглашения.
— Во Фракии? Это было во Фракии?
— Теперь ты понимаешь?
— Это правда, что мой отец год назад был во Фракии. Но ты видел его сам?.. Вблизи?
— И это не должно тебя удивлять.
— Но как же вы могли видеться?
— Очень просто. Я со своим отрядом взял его в плен вместе с несколькими его трибунами.
Лавиния не могла сдержать своего удивления:
— Так это о тебе он мне говорил! Он рассказывал, что ты спас его от своих фракийцев, которые хотели его зарубить. Потом, когда ваш военачальник освободил отца, тебе было поручено проводить его до соседнего племени.
— Мы расстались с ним как друзья, и думаю, что я не ошибаюсь.
Она вздохнула:
— Ты не ошибаешься. Он много рассказывал о тебе. И ты должен поверить, что римлянин тоже может быть признателен тому, кто сделал ему добро. И я, Лавиния, его дочь, благодарю тебя за это.
— Видишь, благородная Лавиния, как чудесен мир! Мог ли я даже подумать, что окажусь на вилле человека, с которым меня связало необыкновенное знакомство, и встречу здесь его дочь? Какие могут быть чудеса!
Рабыня вернулась с подносом и поставила его на столике перед Спартаком.
— Наверно, этот напиток освежит тебя — холодный лимонный сок с медом, — сказала Лавиния.
Потом она пригласила Спартака на ужин. Отказ его был вежлив и убедителен, хотя он смягчил его маленькой шуткой:
— Благодарю тебя, благородная Лавиния, но в римской армии есть строгий обычай, о котором я узнал впервые от твоего отца.
На войне и в походе командир никогда не ест отдельно от своих воинов, и он может есть только то, что едят они. Я должен следовать этому обычаю, чтобы лишний раз доказать тебе, что я почти романизированный варвар.
— В таком случае... — помедлила немного Лавиния, — ужин будет отложен до твоего возвращения в Рим, когда закончится эта жестокая междоусобица. Там я смогу принять тебя в доме, который Сулла великодушно оставил мне, конфисковав по закону о проскрипциях все богатства моего отца. Дом этот — наследство моей матери. Это небольшая часть имущества моей бабушки, гречанки, вышедшей замуж за Муция Долабеллу, потомка старого патрицианского рода. В этом доме ты будешь хорошо принят, благородный варвар.
Спартак поклонился:
— Оставляю за собой право воспользоваться твоим приглашением, благородная Лавиния. Но как твой отец попал в проскрипции Суллы? Он же был его легатом.
— Вернувшись из Фракии, отец впал в немилость и удалился в свое имение в Лациуме, после чего перешел на сторону Мария.
В конклав вошел командир центурии, обыскивавшей местность в окружности виллы:
— Мы обошли все окрестности и никого не обнаружили.
— Хорошо, ты свободен.
Появился один из контуберналиев легата:
— Что нужно выносить для дележа? — спросил он с готовностью принять участие в этой работе.
— Здесь ничего не нужно трогать, — сказал Спартак и знаком отправил его обратно,
30.
Борьба с марийцами сопровождалась грабежом, обогащавшим Суллу и его приближенных. Кое-что перепадало командирам и воинам, которые участвовали в сражениях и карательных походах. Имущество раздавалось по заслугам и по справедливости, если можно считать справедливостью убийство людей, виновных только в том, что были врагами победителя.
Из награбленного достаточно перепадало и Спартаку. Это полагалось ему по закону, но он не хотел, чтобы его совесть обременяло добро, добытое окровавленными руками. Он тут же проматывал свою долю в тавернах, куда приводил и своих декурионов. А когда ему доставалось особенно много, он оделял воинов. А сам по-прежнему оставался беден. У него не было накопленного добра, к которому можно было бы добавлять приобретенное, как обыкновенно растет всякое богатство. Рос только его авторитет среди декурионов и солдат — между прочим и потому, что он никогда не прибегал к помощи хлыста, палки или грубого слова. Зато каждый его воин сражался за троих. Имя Спартака быстро обрастало славой. И вскоре он был уже произведен в командиры соединения из двух когорт.
Однажды Сулла вызвал Спартака на свою летнюю виллу в окрестностях Рима.
Диктатор, как обычно, выглядел суровым, но ему не удалось скрыть своего доброго расположения духа. На его лице даже появилось некоторое подобие улыбки.
— Я слышал, — сказал он, глядя прямо в глаза Спартаку, — что ты жестоко поступал с побежденными.
Спартак не отвел взгляда.
— Я поступал с ними так, как подобает поступать с врагами Суллы, — ответил Спартак.
Его ответ понравился диктатору, но он продолжил:
— Мне говорили, что иногда ты проявлял и великодушие.
Спартак не стал отрицать:
— Тебе говорили правильно. Но это произошло всего лишь раз. Тогда передо мной была римская матрона, жена твоего легата, которого она сама выбрала себе в мужья, и дочь твоего противника, которого она не выбирала себе в отцы. Вначале я узнал, что Квинт Медуллий твой военачальник, а потом, что Помпедий Долабелла — твой враг. Но если несмотря на все это ты удостоил своим великодушием его дочь, и я обязан был проявить великодушие по твоему примеру.
Сулла нахмурился:
— Ты хорошо сделал, что, помня о моем великодушии, проявил и свое. Но впредь знай, что там где я великодушен, ты не имеешь права поступать так же. Потому что я это делаю, желая иногда убрать моих вероятных врагов, а тебе не дано угадывать мои намерения.
— Понимаю, всемогущий Сулла.
— А сейчас, — продолжал диктатор, — я должен сказать тебе нечто другое. Мне сообщили, что ты проматываешь со своими декурионами и воинами все, что получаешь как награду за военные заслуги. Я не спрашиваю тебя так ли это, потому что знаю, что ты не станешь отпираться.
Спартак был смущен неожиданным поворотом беседы:
— Это так, всемогущий Сулла.
— Почему?
"Потому что у меня нет ни рода, ни семьи, ни близких. Незачем копить", — хотел ответить Спартак. Но сказал другое:
— У меня нет собственности. Потому я и отдаю свою долю декурионам и воинам. Они платят мне большим. Они мне преданы, и это помогает мне побеждать в сражениях. А если я обязан своими успехами их преданности, то это значит, что и они имеют право на часть моей добычи.
Сулла терпеливо выслушал Спартака, но не согласился с ним:
— Я могу тебя понять, но мне не нравится твоя беззаботность. Ты должен знать, что римский командир, чем больше богатств он приобретает, тем он больше привязан к Риму, тем больше заинтересован в его величии. С этого времени ты начинаешь откладывать большую часть того, что получаешь. Ты будешь делать это регулярно, чтобы я был совершенно в тебе уверен. Я не жду от тебя возражений. Предоставляю тебе возможность воспользоваться моим советом.
31.
Палатинский холм был озарен пестрым пламенем южной осени.
В листве фруктовых деревьев уже пылали огненные краски — началось пышное цветенье сентября. На ветвях, овеваемых легким ветерком, горели огоньки плодов. Казалось, что от этого ровного пожара становится теплей вокруг. Патрицианские дома с нежной чистотой своих фасадов выглядели нарядными в прозрачном воздухе и увлеченно всматривались своими окнами в торжественную тишину осеннего полудня.
Дом Лавинии находился в центре Палатина. Спартак стоял в конклаве у окна и смотрел наружу. Внизу лежал Рим: с его форумом, базиликами, храмами, дворцами, статуями консулов, полководцев, которым он был обязан своим величием, основанным на жестокости. И всем своим видом город молча говорил, что стоит на месте крепко и на вечные времена.
— О чем ты задумался, чужеземец? — спросила Лавиния, возлежавшая на своем ложе. Для нее Спартак давно уже стал ближе всех, кого она считала близкими, но она привыкла к этому обращению.
Он вздрогнул и обернулся к ней:
— Мне не о чем сейчас задумываться, моя Лавиния, это только так кажется.
Ему вдруг пришло в голову, что своим ответом он уводит красивую патрицианку от истины и тем самым становился ей ближе. Но она не поверила ему:
— Тогда... тебя, наверно, постоянно гложет какая-то мысль, которую, сам того не сознавая, скрываешь от других. Тебе не нравится Рим?
— Рим — красивейший из городов, которые я видел. Но особенно приятно моим глазам и моей душе, когда я смотрю на тебя, уроженку Рима.
— Но для тебя, вероятно, существует еще что-то, кроме меня. Ты смотришь на меня, но взгляд твой где-то далеко отсюда.
— Это потому что я сам издалека. А ты стала для меня всем на свете. У меня ничего не было, когда я тебя встретил.
Она приподнялась на локте, лукаво глянула на него и мягко спросила:
— А скажи, лестно тебе, чужеземцу, любить римскую матрону?
— Сначала было так. А потом... я уже не понимал, что со мной происходит, но думаю, что жизнь моя была значительно беднее до того, как я встретился с тобой.
Она снова опустилась на подушки и сказала ослабевшим голосом:
— Ты умен, чужеземец, и гораздо больше, чем это необходимо молодому человеку.
— Рядом с тобой, Лавиния, мне не нужны ни ум, ни богатство.
В его глазах и в голосе было столько искренности, что ему нельзя было не поверить. Но она не то, чтобы не верила его словам, просто ей хотелось еще раз испытать удовольствие от его признаний:
— Тебе не нужны ни ум, ни богатство? Ты, наверно, скажешь, что не стремишься и к славе? К почестям?
— Нет, не стремлюсь. Они для меня ничто. С тех пор, как я тебя встретил, мне не нужно ничего другого, кроме тебя. Потому что ты для меня дороже всего остального. Ты заменяешь мне все почести и богатства, вместе взятые.
Лавиния вздохнула. Жалостливая улыбка слетела с ее губ, и она прошептала так, словно опасалась, что кто-то совсем рядом может услышать то, на что только Спартак имел право:
— И ты для меня дороже всего на свете.
Он подошел и склонился к ней:
— Я верю тебе. Ибо, как мне кажется, твой голос не может говорить неправды.
Она снова приподнялась на локте:
— И мне достаточно твоих слов и твоего взгляда, чтобы верить тебе.
Спартак обнял ее. Поднял на руки, приблизил свое лицо к ее лицу, и сказал почти неслышно:
— Еще тогда, когда я впервые увидел тебя в конклаве твоей виллы, я подумал, что судьба свела нас случайно, но мы еще увидимся с тобой по взаимному желанию. Наша первая встреча произошла по воле судьбы, это был один из ее прекрасных капризов. Но все остальное зависело только от нас.
Муж Лавинии, Квинт Медуллий, командовал легионом армии Суллы, которая поддерживала римское владычество в Иберии. Лавиния не страдала от его отсутствия: она никогда не любила его. С виллы она вернулась в Рим гораздо раньше, чем намеревалась попервоначалу. Она выяснила, где живет Спартак, послала к нему свою рабыню и пригласила его к себе. С тех пор они встречались все чаще и чаще, они уже не могли жить друг без друга.
Борьба против приверженцев Мария приносила военачальникам диктатора немалые доходы. Спартак, помня требования Суллы, приобрел себе небольшой, но удобный дом и нанял вольноотпущенника.
В этот день Спартак должен был встретиться с Децием Гортензием по служебным и военным делам, которые их связывали. Он уже готовился выйти из дому, когда слуга сказал, что его хочет видеть какая-то красивая чужестранка, которая едва говорит по-латински.
В комнату вошла молодая женщина. Спартак сразу узнал в ней Родопиду. Взволнованная, она остановилась в нескольких шагах от него.
— Садись, — сказал ей Спартак и мягким жестом показал на стул возле столика.
Она словно не слышала его слов. Молча смотрела на него, потом вдруг подошла ближе. Голос ее дрожал, но она старалась не расплакаться:
— Я пришла сказать тебе, что тогда... что я уже была обручена... еще до встречи с тобой... Это была измена... но не тебе, а тому, кому отец обещал меня... Зачем все это случилось? Зачем?
— И я думал об этом, Родопида... Зачем мы тогда встретились? И зачем расстались?.. И в нашей встрече и в нашей разлуке я вижу вмешательство богов. Иногда и они могут быть несправедливыми... Но не нужно об этом вспоминать...
Он ласково провел рукой по ее волосам и легонько направил к двери, но она вдруг обняла его, обвила свои руки вокруг шеи. Словно хотела оставить ему на память невидимый венок своих чувств, сказать, что она никогда его не забывала, что сердце ее навсегда с ним...
Он молча смотрел ей в глаза, призывая на помощь все свои душевные силы; ему стоило огромного напряжения не сказать и не сделать ничего лишнего. Но это была сдержанность человека, испытавшего волшебное потрясение, охваченного какой-то магией.
Даже ветерок, который колыхнул занавеску открытого окна, сразу стих, чтобы не нарушать сокровенность этих минут и этих переживаний.
Еще несколько мгновений, и слезы в ее глазах высохли...
Когда-то в том сказочно прекрасном лесу они поверили, что связаны вечной взаимностью. А сейчас они поняли, как нелепо то, что безвозвратно ушло, все, что могло бы быть. И осталась только щемящая печаль по несбывшемуся. И теперь они молча прощались навсегда в неприкосновенной тишине этого осеннего утра.
Она отстранилась от него. Спартак спросил:
— Что ты делаешь в Риме?
— Мы приехали с мужем и проведем тут некоторое время. Он — римский наместник, с той поры, как пришли римляне и свергли пеонского царя. Он занят своими делами, а я хожу со служанкой по Риму, смотрю и всему удивляюсь... Вчера случайно увидела тебя, но ты спешил, смотрел куда-то в сторону и не заметил меня... А я пошла за тобой и узнала, где ты живешь. И вот пришла сегодня.
Проводив Родопиду, Спартак почувствовал вдруг огромное облегчение, магия потеряла свою силу над ним. И он, чтобы уверить себя, что действительно от нее освободился, сказал вслух:
— Чего только не случается на свете!.. Увидеться в Риме...
Фракия давно уже стала для него сном, который почти не повторялся. Но вошла Родопида — и родина снова ожила для него, с прохладным источником на лесной полянке, с тропинками, бегущими через фруктовые сады и виноградники, с той памятной, обжигающей печалью, когда девушка не пришла туда, где они дважды встречались...
И он осознал ту беспощадную истину, что навсегда лишился родины, навсегда ушел оттуда, где тепло очага согревает и руки, и душу, оттуда, где остались надежды, дерзания и счастливая бессонница юности...
32.
Спартак был послан в Элладу к Лукуллу командиром соединения из двух когорт.
При прощании Деций Гортензий сказал ему:
— Не нужно напоминать тебе, Спартак, что ты пользуешься доверием всемогущего Суллы. Не случайно он посылает тебя в Элладу, где у армии Лукулла достаточно серьезных дел с гарнизонами понтийского царя. Они засели в греческих городах и угрожают нашим владениям во Фракии и на всем полуострове. Ты лучше других знаешь тактику Митридата и его армий, а это сейчас очень важно. Ты будешь полезен там Сулле, и для тебя это — благоприятный случай отличиться и заслужить новое повышение. Наверно, ты не забыл, что я говорил тебе еще при первой нашей встрече: у нас каждый способный человек находит простор для своих способностей. И его вклад в величие Рима не остается без справедливой оценки и должной награды.
Гортензий не сказал всего, что он думал:
"Мы посылаем тебя в края, близкие Фракии. Эта близость напомнит тебе о твоих медах и о твоем родном крае. Может быть, ты испытаешь чувства, которые явятся опасным искушением для человека фракийского происхождения. Мы уверены, что ты выдержишь испытание. И после проверки заслужишь абсолютное доверие Рима и сможешь рассчитывать на еще более быстрое восхождение по служебной лестнице".
В последние мгновения прощания он чуть было не высказал этого вслух. Но сдержался — Спартак достаточно умен и прозорлив, он умеет читать мысли собеседника.
Спартак действительно понял по взгляду Гортензия, что тот кое о чем умолчал. Спартаку даже хотелось ответить Гортензию, что его опасения напрасны, но, как и римлянин, он предпочел промолчать, уверенный, что и тот прекрасно понимает Спартака.
Спартак надеялся, что в Элладе начнутся усиленные военные действия против понтийских гарнизонов и что он покажет римлянам, как надо воевать с Митридатом. Но Лукулл пока что предпринял только осаду эллинских городов. Там гарнизоны хорошо укрепились и надежно защищались — в этом им помогало и греческое население, которое предпочитало их присутствие римскому. Лукулл мог, конечно, уничтожить противника, но для этого надо было пролить много крови. И он медлил, пока положение не изменится так, что можно будет прибегнуть к помощи греческого населения. Он ждал, что у противника скоро кончатся запасы продовольствия, и его солдаты неизбежно начнут грабежи. Тогда греки переменят свои чувства к пришельцам, и из их союзников превратятся во врагов.
Тем временем Спартак получил письмо от Лавинии:
"Мой чужеземец!
Ты там одинок, как и я одинока в Риме. Но я убеждена, что нам нужно было какое-то время побыть вдали друг от друга, чтобы понять, насколько мы близки. Я думаю, что ты бы мог сказать то же самое.
Теперь я знаю, что ты для меня значишь. И сама хочу быть для тебя тем же. У меня всегда было много различных желаний, которые делали мою жизнь интересной. Но сейчас одно желание превосходит все остальные: пусть скорее придет день, когда ты вернешься ко мне. Поэтому попроси у своего претора отпуск для того, чтобы мы могли вступить с тобой в брак.
Прими привет издалека от не чужой тебе Лавинии"
Понтийский царь Митридат снова начал большую войну против Рима. Он послал в Малую Азию многочисленную армию и серьезно угрожал боспоросским владениям Рима. Окруженные им римские легионы были обречены на уничтожение. Одновременно с этим Митридат переправил по морю в Элладу и в Македонию новые войска. Было не трудно разгадать истинные его намерения: овладев эллинскими городами, он легко мог перебросить свои армии в мятежную Фракию, где нарастало недовольство римским владычеством. Но неожиданно произошло то, что спутало Митридату все карты: римский флот потопил несколько его флотилий, находившихся за пределами Понта Эвксинского, блокировал Пропонтиду, запер выход из Эгейского моря и захватил там все пристани. После этих крупных побед к морским силам Рима присоединились и пираты Средиземноморья. Они поняли его неоспоримое могущество и поспешили засвидетельствовать ему свою верность. Армии Митридата в Элладе и Македонии остались отрезанными и не могли рассчитывать на помощь по морю ни из боспоросских земель, ни из Малой Азии. И как раз тогда, когда они находились на краю гибели, римский Сенат получил от своих людей в Понтийском царстве сообщение, что через Боспорос из Малой Азии переправлена и по суше движется на полуостров большая армия, собранная в Византии.
Митридат был вынужден принять такое решение. Он внезапно приостановил расправу с уцелевшими римскими легионами в Малой Азии, перебросил войска из всех своих владений к южным пристаням царства, а его военный флот блокировал вход в Понт Эвксинский.
Солнце уже клонилось к закату, когда Деций Гортензий, сопровождаемый посыльным, прискакал по срочному вызову на виллу диктатора. Сулла встретил его с мрачным спокойствием. Пригласил сесть. Спросил:
— Завтра утром нужно поднять четыре легиона и двинуться форсированным маршем на Анкону. Сможешь?
У Деция Гортензия был уже готов ответ:
— Завтра утром четыре легиона будут уже на пути в Анкону.
— Это я и ожидал от тебя услышать. Воины пойдут налегке, чтобы прибыть туда как можно быстрее. Все остальное будет следовать за ними на мулах и лошадях. С тобой мы увидимся уже после успешного завершения этого похода, хотя он будет нелегким. А сейчас ты узнаешь, почему надо спешить. Через Боспорос переброшена армия в сорок тысяч пехотинцев, десять тысяч конников и много боевых колесниц. У них достаточно обозов, которые везут снаряжение и продовольствие, и это значит, что они движутся быстро. Не считаю нужным убеждать тебя, какие бедствия может причинить нам эта армия, если ее не встретить, остановить и разбить как можно быстрее. Митридат постарается прежде всего спасти свои гарнизоны в Элладе и Македонии, с которыми легионы Лукулла еще не покончили. Потом он поднимет и привлечет на свою сторону все фракийские племена, в которых постоянно действуют его соглядатаи. Наши проконсульские гарнизоны будут уничтожены, и мы потеряем весь полуостров. Как ты думаешь, какой из двух путей в Элладу он изберет?
— Виа Игнация — прямее. Но он будет опасаться, что со стороны эгейского побережья ему помешают наши легионы, которые могут быть туда переброшены из Малой Азии.
— Но у него есть боевые колесницы, которым наши легаты ничего не могут противопоставить.
— Если он умен, а в этом мы не можем сомневаться, и сообразителен, чему он не раз давал доказательства, он предпочтет идти не той дорогой, где его ожидают препятствия, а через земли, где его хорошо встретят и где у него будет надежный тыл, если мы вынудим его вернуться обратно. Поэтому путь по долине Хеброса для него — самый безопасный и наиболее удобный. Он пересечет по диагонали всю Фракию и пройдет, как по своей земле, через все племена, которые не однажды причиняли нам большие неприятности. А когда достигнет среднего течения Стримона и спустится по нему, меды и пеонцы примкнут к его армии.
— Но этот путь длиннее, там есть лесистые ущелья, где мы можем его задержать, пока Лукулл разделается с гарнизонами в Элладе. И тогда его поход потеряет смысл.
— Какой бы путь он ни избрал, у нас нет выбора. Из Анконы мы переправимся в Дирахиум и будем следовать до Стримона в его среднем течении, туда, где он выходит из ущелья и принимает воды Понтоса. Это место — как раз посередине между двумя возможными направлениями Митридата. Если он пойдет нижним и опередит нас, мы спустимся руслом Стримона по его следам. Если же мы узнаем, что он пошел верхним, что вероятнее всего, то мы поднимемся вверх по Стримону, чтобы заранее обезопасить себя по крайней мере от пеонцев.
Сулла кивнул:
— Еще прежде, чем вызвать тебя, я обдумал, что мы должны предпринять. И пришел к тем же решениям, что и ты. Твои соображения хорошо обоснованы. Я не сомневаюсь, что с четырьмя легионами ты сумеешь при любых, самых неожиданных обстоятельствах успешно справиться с умным, хитрым и коварным противником. Знай, что этот поход будет очень рискованным и для тебя, и для меня, и для всего полуострова, где наше влияние еще не утвердилось. Пусть хранят тебя боги, которые никогда не оставляли Рим в самых тяжких его испытаниях.
Деций Гортензий приготовился идти, но в дверях остановился:
— Хотел еще спросить тебя, всемогущий Сулла, можно мне взять с собой Спартака? Он хорошо знает дороги во Фракии, в Иллирии и на всем полуострове.
— Как ты возьмешь? Он же у Лукулла.
— Со вчерашнего вечера он в Риме.
— Почему он здесь? Разве Лукуллу не нужны способные командиры?
— Спартак попросил отпуск лично у Лукулла, чтобы жениться на Лавинии. Он получил от нее письмо.
— Очень хорошо! Возьми его! Я сообщу об этом Лукуллу. А когда закончите поход на Митридата, Спартак вернется в Элладу. А отпуск продолжит после. Так будет лучше, тем паче, что его женитьба на Лавинии отложится. А там будет видно, состоится ли она вообще.
Сулла еле сдерживал накипавшее в нем раздражение:
— Вчера я получил сообщение, что ее муж, Квинт Медуллий, перешел на сторону Сертория.
— Вот этого никак нельзя было ожидать... Но... Что касается Лавинии... Они — в разводе с тех пор, как он отправился в Иберию. Я не вижу особых препятствий к ее повторному браку.
— Однако, когда формально она была его женой, мало кто знал об их истинных отношениях. А сейчас, когда станет известно, что Квинт Медуллий, — мой противник, чувства моих людей к нему могут быть перенесены и на Лавинию. Да и для Спартака будет лучше какое-то время быть от нее подальше.
33.
Местность, которую выбрал для сражения Деций Гортензий, позволяла его армии расположиться так, что ее центр будет находиться на равнине, левое крыло развернется и достигнет пологого склона с виноградниками, откуда невозможно было появиться ни коннице, ни боевым колесницам противника, а правое крыло упрется в большое болото — там тоже любая опасность исключалась. Лучшего места для встречи с противником, который по численности вдвое превосходит римлян, трудно было себе представить. В центре должны были расположиться два лучших легиона, составленные из ветеранов, испытанных в самых опасных битвах. Только туда Митридат сможет пустить свои боевые колесницы. Этим оружием он всегда разрушал строй и сеял ужас в рядах противника. Так было во время войн на берегах Понта Эвксинского и в Малой Азии. Буйные, полудикие кони, впряженные в колесницы, направляемые опытными конниками, в своем бешеном галопе доходили до неистовства. С большими серпами, прикрепленными по обеим сторонам головы, в неудержимом стремлении вперед они врезались в людскую массу и повергали на землю все вокруг. Там, где они носились, вершилась кровавая жатва.
Однако римские шпионы в Митридатовом войске, сопровождавшие его во всех походах, открыли и слабую сторону этого оружия. Об этом сообщили в Рим, и теперь командиры легионов знали, как отразить нападение боевых колесниц. Первую боевую линию составят три ряда лучших копьеметателей, которые должны метнуть свои копья, когда кони окажутся в тридцати шагах от них. Было измерено и подсчитано, что эти копья вонзятся в конские тела в двадцати шагах от первого ряда воинов, но по инерции раненые кони промчатся еще шагов десять и грохнутся на землю. Следующие за ними колесницы налетят на остановившиеся, а конников поразят римские лучники. Оставшиеся в живых окажутся хорошей мишенью для копьеметателей, стоящих в задних рядах легионеров. Достаточно попасть хотя бы в одного коня из пятерика, впряженного в колесницу, чтобы вывести ее из строя — это было проверено на учениях. Доказано было и то, что на расстоянии тридцати шагов при обычной скорости атаки больше половины копий достигает цели.
Но на деле получилось совсем не так, как предполагали римские военачальники.
После полудня у римлян уже было все готово для завтрашнего сражения с вдвое превосходящими силами противника. Но к заходу солнца Деций Гортензий получил сведения, которые расходились с прежними. Против его четырех легионов, насчитывающих двадцать четыре тысячи солдат, Митридат собирался выставить восемьдесят тысяч пехотинцев, около двадцати тысяч конников и множество боевых колесниц. И вскоре, как бы для подтверждения этих сведений, стали появляться первые отряды противника.
Гортензий тут же собрал весь преториум: легатов, военных трибунов, советников, центурионов. Он начал спокойно, как подобает римскому полководцу, который не имеет права волноваться, даже когда его армия находится под угрозой гибели:
— Согласно сведениям, которые мы получили в Риме от наших византийских соглядатаев, ожидалось, что нам предстоит сражаться с противником, вдвое превосходящим нас по численности. А сейчас из сообщения Суллы, которое я только что получил с почтовым голубем, явствует, что Митридат хитрым ходом сумел еще удвоить свою армию. С большим запозданием нам стало известно, что остановившись на один день в Ускудаме, он послал половину пустых обозов в Аполлонию, взял еще пятьдесят тысяч пехотинцев и погрузил ночью их на корабли, стоявшие у южных пристаней Понта Эвксинского. Утром нашим воинам предстоит сражаться одному против четверых.
Чего можно ожидать от Митридата при таком соотношении сил? Отсюда нам видно, что как будто он расставляет свои войска для сражения. Вероятно, он предполагает, что у нас нет точных сведений об их составе и численности и рассчитывает, что мы обманемся и примем бой. Если утром мы выйдем ему навстречу, он обогнет нас на флангах, сожмет в центре, бросит на нас пехоту, боевые колесницы, конницу и уничтожит почти без потерь. Если же он предполагает, что мы имеем точные данные о его силах, то он вправе ожидать, что ночью мы уйдем из лагеря и пустимся в обратный путь с надеждой спасти армию. Тогда через день он нас настигнет, потому что мы не можем предпринять переход без снаряжения и продовольствия и будем двигаться гораздо медленнее, чем его пехотинцы, которые, имея обозы, идут налегке. В конце концов его свежие силы нападут на наши уставшие легионы. По-видимому, наше отступление он считает более вероятным и потому не окружает нас сейчас, хотя сделать это ему довольно просто. Ясно, что Митридат предоставляет нам две возможности погибнуть уже завтра. Но мы можем выбрать третью, отложив свою гибель на две недели. Если мы останемся в лагере, он не станет на нас нападать, так как понесет при этом большие потери. Поэтому четверть армии он пошлет окружать нас, а с остальным войском спустится по долине Аксиоса. Пройдет неделя, пока он доберется до Эллады и расправится там с Лукуллом. А еще через неделю он вернется обратно и покончит с нами. Помощи нам ждать неоткуда. Пока наши легионы, находящиеся в Малой Азии, достигнут этих мест, нас уже не будет в живых. И весь полуостров окажется в руках Митридата. Сейчас мы должны решить, какую из трех возможностей предпочесть.
— Все эти возможности ведут к гибели, — отозвался командир второго легиона.
— Выбрать, как умереть — это все же некоторая привилегия, — добавил один из военных трибунов.
Наступило долгое молчание.
— Раз Митридат предоставил нам три бесспорные возможности, давайте выберем ту, которая больше нам нравится, — сказал Спартак.
— В нашем положении шутки неуместны, — Гортензий с удивлением посмотрел на него.
— Ты меня неправильно понял, благородный Гортензий, если считаешь, что я расположен шутить, когда нам предстоит спастись или погибнуть.
— Надежд на спасение у нас нет, — вставил один из военных советников. — Митридат — умный враг.
— Это очень хорошо, что Митридат умен, — подхватил Спартак, — потому что мы можем выбрать четвертую возможность, о которой он никогда не подумает, именно потому что умен.
— Хватит с нас и трех, — заметил командир первого легиона.
— Хватит, если мы решили погибнуть.
— А что еще нам остается?
— Есть у меня одна идея. Он располагает свои войска для сражения, считая, что мы будем защищаться. Допускает он и другое — что мы попытаемся ночью уйти из лагеря. Но ему наверняка и в голову не может прийти, что мы можем на него напасть. Потому что при соотношении сил один к четырем на это могут пойти лишь безумцы. Вот я и считаю, что нужно на него напасть.
— Чтобы вышло, что мы действительно безумцы? — съязвил один из легатов.
— Чтобы вышло, что мы предпочитаем победить, а не погибнуть, — ответил Спартак, не глядя на него, и продолжал: — Итак, утром Митридат перегруппирует свои войска, разделив центр пополам — половина пойдет на левое крыло, половина на правое, чтобы получилось соотношение восемь к одному. С таким перевесом он очень скоро сгонит нас в середину. В центре он оставит только боевые колесницы и пустит их косить беспомощную толпу, в которую быстро превратится вся наша армия. Приблизительно таков его расчет. А сейчас посмотрим, каким может быть наш. За два часа до рассвета декурионы тихо разбудят легионеров, центурионы построят их, и когорты начнут выходить через декуманские ворота. Затем мы свернем направо, обогнем лагерь и двинемся на восток, чуть левее неприятельского стана. Его правое крыло составляет треть войска — около тридцати тысяч душ — немногим больше нашего, то есть один к одному. Мы будем соблюдать первый пункт римского правила: одного побеждай, на двух нападай, от трех защищайся, от четырех беги. Мы развернемся фронтом к противнику, но так, чтобы ударить по нему сбоку. Перед тем как сойтись с ним, мы сбросим личные вещи и оставим при себе лишь оружие. И как только нас откроют секретные посты противника, нападем на него. Нам легко будет спуститься по склону через виноградники. Надо врезаться в неприятельский стан так, чтобы наши легионеры не мешали друг другу, когда начнут рубку. Предположим самое невыгодное для нас — враг вовремя поднимет тревогу, и солдаты успеют взять в руки оружие. Но что они сумеют сделать в темноте, не будучи построены? Готовы ли они к серьезному отпору, когда разъединены? При суматохе, которая обязательно наступит в их стане, мы будем продвигаться вперед, потому что наши пехотинцы умеют работать мечами. Мы должны как можно глубже вклиниться с двух сторон в расположение врага, направить его ошеломленных солдат к центру и сдвинуть его в левую сторону. Там, где они будут искать защиту, тоже начнется паника. Между прочим, при своем бегстве они совершат очень полезную для нас работу — закроют пространство перед центром — единственное место, откуда могли бы напасть на нас боевые колесницы. В этой неразберихе их будет просто невозможно использовать. Да и против кого? Перед ними окажется ревущая толпа, в основном из их собственных солдат. Думаю, что к тому времени, когда мы опрокинем левое крыло, мы уже покончим с правым и половиной центра. До тех пор обойдется почти без жертв. Но с этого момента соотношение станет один к двум. Мы врежемся во вражеские ряды со стороны тыла, и тут у нас тоже будет преимущество, потому что мы действуем по обдуманному плану против ошарашенного неожиданным нападением противника, у которого нет времени на размышления.
Военные трибуны и советники молчали.
Гортензий сказал:
— Твой план, Спартак, очень рискованный.
— Даже при самом большом риске наряду с вероятностью проиграть существует и вероятность выиграть. В нашем положении мы вынуждены рисковать. Иначе нас просто уничтожат.
Снова наступило молчание. Наконец Гортензий сказал:
— Итак, утром мы применим первый пункт римского правила ведения боя. Вначале мы будем сражаться один против одного, потом один против двоих, пока не справимся со всеми четырьмя. Было бы позором для римского войска погибнуть, опасаясь риска, вместо того, чтобы победить, рискуя. Будем надеяться прежде всего на себя, тогда нам помогут и бессмертные боги.
Перед тем, как заснуть, Спартак подумал, что, уничтожив полчища Митридата, Рим легко укрепит свое владычество во Фракии. Но он не жалел, что сказал свое слово. Он не хотел, чтобы в этой битве бесславно погибли его воины, с которыми он успел сродниться. Он не хотел и сам бессмысленно погибнуть, не осуществив многих своих планов, ведь среди них был и самый сокровенный — сделать что-нибудь для своих медов, а может быть, и для всех фракийцев, да поможет им Дионис!
34.
Во вражеском стане было спокойно.
Солдаты, утомленные последним переходом, спали, дежурные десятники бесшумно расхаживали между палатками. На равнине против римского лагеря стояли серпоносные боевые колесницы Митридата. Едва рассветет, в них запрыгнут стрелки с луками. Конюхи впрягут шальных, полудиких коней, и они помчатся прямо на римские боевые порядки. Длинные серпы начнут косить людей, и начнется кровавая жатва. Кого не заденут серпы, затопчут кони, которые всегда звереют от ударов хлыста, от вида и запаха крови. Сам Митридат, царь Понтийский, будет править быстролетной упряжкой из откормленных коней. А пока что он спит на мягких подушках. У него и у его воинов есть время выспаться до рассвета.
У римских легионеров времени было меньше. Они не ждали рассвета. Первый секретный пост понтийцев почувствовал их приближение, когда они были уже в трехстах шагах. Он успел дать условный сигнал только раз, потому что римский воин проткнул его мечом. Держа в руках только оружие, легионеры стремительно спускались с пологого склона, покрытого виноградниками . В стане Митридата начался переполох. Солдаты не успели построиться в сотни и приготовиться к бою. Римские пехотинцы врезались в растерянную толпу и рубили мечами направо-налево. Паника, как холодный вихрь, разносилась по всему стану.
Это была не битва, в которой участвуют равноценные противники, а избиение. Крики смертельно напуганных воинов Митридата заглушали команды военачальников. Римляне, которых никто не встречал оружием, перескакивая через тела убитых, вонзали мечи в спины бегущих. Конюхи отвязывали коней, охваченных ужасом, громко ржущих, но их нельзя было впрячь в колесницы в этом настоящем месиве. Стрелки хватали свои луки и стрелы, но у них не было времени даже прицелиться в стремительно налетающих врагов, и их вовлекал общий водоворот.
Конюхи и стрелки боевых колесниц не знали, как защищаться от врага, они умели только убивать, и до сих пор не ведали, что такое страх. Но сейчас они не могли убивать, их лица были искривлены ужасом, они опрокидывали друг друга, топтали упавших... Но все же римляне потеряли много времени, пока разгромили правый фланг и центр митридатова войска. Когда уцелевшие солдаты достигли левого фланга, их встретили легионы, уже пришедшие в себя и построившиеся в боевые шеренги.
Здесь битва была особенно ожесточенной. Римские воины уже устали. Понтийцы остановили их и сами повели сражение. Они бросили против правого крыла римлян всю свою конницу и сумели прижать левое крыло большей частью своей пехоты. Опасность окружения нависла над римским войском. Но сомкнутый строй спас его. Римляне устояли, хотя и понесли большие потери. Они предпочли отойти на расстояние, обеспечивавшее им передышку. Половину легионеров в полной боевой готовности Деций Гортензий оставил лицом к врагу. Остальные собрали оружие и другое имущество, брошенное противником. Самую ценную добычу снесли в палатку преториума. А обозы свезли ее туда, где стояли так и не использованные Митридатом боевые колесницы.
Деций Гортензий и Спартак обходили поле сражения.
— Что будем делать с остатками армии Митридата? — спросил Спартак. — Они могут снова напомнить о себе.
— Если они не заставят нас что-либо предпринять, то сами мы ничего делать не будем. Завтра они пойдут добывать продовольствие во фракийские селения. Из этого мы извлечем пользу. Союзники фракийцев станут для них врагами, приятели — грабителями, освободители — насильниками. Фракийцы должны будут понять, что Рим, как господин, — если хочешь, как враг, — лучше, чем Митридат как друг.
Спартак обернулся к Гортензию:
— А что будем делать с обозами и продовольствием, которое нам досталось?
У Гортензия и на это был заранее готовый ответ:
— Если мы возьмем добычу с собой, это нас задержит в пути. Кроме того, здешние племена будут устраивать нам засады и грабить нас. Если же мы оставим добычу на месте, они поймут это как стремление вызвать у них к нам добрые чувства, что будет истолковано, как признак нашей слабости. Поэтому мы сожжем добычу вместе с обозными телегами, повозками и боевыми колесницами. Все ценное, что есть в обозах и что не занимает много места, мы нагрузим на мулов и верховых лошадей. Это может пригодиться нам в походе. Когда у нас кончится продовольствие, мы оплатим этой добычей то, что придется взять у местного населения.
— А коней с боевых колесниц?
— Коней мы могли бы оставить здешнему населению. Кони эти все равно, что дикие, но фракийцы, как ты сам знаешь, искусные объездчики. Дело тут в другом. Митридат может затеять новый поход, отберет их у населения и снова использует против нас. Принесем лучше этих коней в жертву бессмертным богам, которые и на сей раз были на нашей стороне.
К вечеру изрубленные топорами повозки, боевые колесницы, продовольствие, щиты, доспехи — все было сложено в огромные кучи и сожжено.
В наступившей ночи небо окрасилось пламенем гигантских костров. Предсмертное ржание и хрипение убиваемых коней оглашало окрестности...
35.
Римские легионы расположились в своем лагере на отдых, чтобы на следующее утро двинуться в путь.
Костры еще пылали, озаряя поле битвы, близлежащие холмы и далекие вершины гор.
Гортензий и Спартак беседовали возле палатки преториума.
Гортензий сказал:
— Ты, мой верный Спартак, спас здесь римскую армию, которая находилась в безвыходном положении.
Он помолчал и продолжал:
— И если бы ты ее не спас, была бы уничтожена и другая армия в Элладе, которой оставалось только ждать своей очереди.
Он снова сделал паузу.
— Рим, как ты знаешь, никогда не оставляет заслуг без оценки и награды. С завтрашнего утра ты будешь командовать легионом. Потом, когда мы закончим тут свои дела с Митридатом и двинемся в Рим, ты станешь моим заместителем. А когда вернемся из похода домой, я предложу Сулле сделать тебя полководцем. По моему мнению, самым разумным было бы послать тебя в Иберию — там ты будешь достойным противником Сертория. Я думаю, что Сулла меня поддержит. Он обычно считается с моим мнением. Своим планом ты доказал, что тебе можно доверить целую армию. Не случайно взял я тебя в этот рискованный поход. Я был уверен, что ты проявишь свои способности в войне против Митридата. Я рассчитывал и на твою верность Риму, но хотел бы посмотреть, как ты будешь вести себя, когда встретишься лицом к лицу со своими фракийцами.
— А как ты думаешь поступить с населением, которое так или иначе помогало Митридату, пока не испытало на себе последствий его присутствия?
Римский патриций быстро взглянул на Спартака:
— Строго, но справедливо! Мы уйдем только как победители, но не как мстители. Хватит с них того, что за свои же услуги они сейчас хорошо заплатят понтийцам. Там, где те будут проходить, вряд ли оставят по себе добрые воспоминания. Будем надеяться, что население сможет сопоставить наше присутствие с присутствием митридатовых полчищ. Чем мы заслужили, что население встречает нас как врагов, нас, несущих ему порядок и справедливость? Люди, мой друг, легко замечают и оценивают зло, потому что его легко причинить и легко почувствовать. Добро делать труднее, и должно пройти много времени, чтобы взросли его семена. И нам придется долго ждать, пока фракийцы поймут, что дает им наше господство.
— Но как ты объясняешь упорство, с которым они встречают ваши усилия приобщить их к Риму?!
— Привычка, друг мой, нечто очень сильное. Они сотни лет живут по-своему, им нелегко привыкнуть к тому, что мы им предлагаем, а то и заставляем делать. Мы будем считаться с их обычаями, но и они должны считаться с нашей целью включить их в состав Римской империи, чтобы на этих землях наступил вечный мир и осуществилось единство племен, которые с трудом подчиняются даже собственным правителям.
— Тогда не удивляйтесь, что вас, чужеземцев, так неохотно здесь принимают.
— Все же с их стороны не очень справедливо видеть в нас только завоевателей. Не совсем верно, что в наших целях мы руководствуемся принципом "Разделяй и властвуй". Мы поступаем в соответствии с принципом "Собирай и приобщай". Мы действительно разделяем, чтобы завладеть, мы подкупаем царей, чтобы противопоставить их друг другу. Но надо видеть и другое: мы завоевываем чужие земли, чтобы объединить их. А потом приобщаем их к нашему порядку, в котором наверняка есть положительное, раз он принят во всех римских провинциях, кроме Фракии.
— Но Рим, благородный Гортензий, тоже должен понять: тот, кто уважает свое достоинство, не может так легко воспринимать даже самое лучшее, если его навязывают силой.
— К сожалению, друг мой, там, где не действует убеждение, приходится применять силу.
— Что нам предстоит делать завтра? — переменил Спартак тему разговора.
— Если Митридат двинулся обратно, что было бы самым разумным с его стороны, мы пойдем вверх по течению Стримона следом за ним. Не для того, чтобы его догнать — этого мы не сможем сделать, а чтобы восстановить наши магистраты. Кто знает, какие там будут перемены, когда по ним пройдет Митридат.
Он помедлил перед тем, как продолжить:
— Мы пойдем и к твоим медам, чтобы выяснить, как они будут к нам относиться после нашествия Митридата. Надеюсь, что теперь они изменят свое отношение к нам. Жаль будет, если это не так.
До поздней ночи квестор, его помощники, командиры легионов, когорт, манипул и центурий подсчитывали добычу и распределяли ее по центуриям, сообразно с их участием в сражении и вкладом в общую победу. Было вычислено, сколько денег приходится на каждого легионера. Утром деньги и трофеи командиры должны были лично вручить каждому легионеру.
Спартак знал, что Сулла всегда прислушивается к советам Деция Гортензия. Так должно быть и на этот раз. Если бы речь шла о назначении Спартака правителем Фракии, Сулла сказал бы, что рано еще оказывать ему такое доверие. Но Иберия — это совсем другое дело. Там есть опасный противник — Серторий, римлянин, потомственный патриций с родственными и дружескими связями среди самых влиятельных патрицианских родов. Против него рискованно посылать полководцев-римлян, потому что противники легко могут стать союзниками, как произошло с Квинтом Медуллием. Не случайно Сертория не могут столько времени убрать из Иберии, мало того, он угрожает и соседним провинциям. Для борьбы с ним Спартак подходит как нельзя лучше — фракиец, которому есть за что быть благодарным Сулле. Он доказал, что ему можно верить. Он так много уже сделал для Рима, что Гортензий, не раздумывая, дал ему легион и собирается сделать своим заместителем.
Когда они вернутся в Рим, он женится на Лавинии. Его женитьба была отложена только вследствие того, что Гортензий неожиданно взял его в этот поход. Брак с Лавинией создаст ему новые связи с видными патрицианскими фамилиями. Он будет принят ими как равный.
Придя в Иберию, он предложит Серторию союз на благо Рима и Фракии. Если тот не согласится, Спартак прогонит его из Иберии. Он останется там надолго, пока не наведет порядок. Потому что этот полуостров будет нелегко умиротворить. Центурионы его когорт абсолютно ему преданы, а трибуны легиона — его друзья. Тех, кто отличится в сражениях, он повысит в должности, и этим привяжет к себе еще больше.
С населением станет вести себя гуманно, не будет его обирать, как делают все преторы во вновь завоеванных провинциях.
И население будет на его стороне, когда это потребуется. Среди иберийских вождей он отличит самых влиятельных. Он создаст легионы из местного населения и под общим командованием, вместе с римскими легионами у него будет могучая армия. Он всегда и во всем будет справедлив. Завоевав авторитет и у армии, и у населения, он полностью утвердит свою власть на полуострове.
Создав сильную и независимую державу, он пошлет к Митридату доверенного человека с предложением заключить союз против Рима. Митридат, конечно, согласится. Он достаточно умен и хитер, чтобы понять, в какое положение могут поставить Рим два сильных союзника, решив напасть на него одновременно. Они обменяются послами для уточнения подробностей заключения союза. Чтобы не было потом раздоров, они уточнят размеры своего влияния. Митридат будет удовлетворен, если в его царство будут включены все земли побережья Понта Эвксинского, вся Малая Азия и заморские владения Рима. Но Фракия останется неприкосновенной. Пусть фракийцы сами вершат дела на своих землях. Мукапор прежде всего наведет порядок среди медов. Он проявит уступчивость по отношению к пеонцам и дентелетам, чем завоюет доверие и других фракийских правителей. Он предложит им выгодные условия для договора. Они согласятся, потому что римские налоги и оборы, как и откровенные грабежи Митридата, наверно, уже достаточно их вразумили. Они образуют союз всех фракийских правителей с единственным взаимным обязательством — выступать вместе против врага, кому бы из них он ни угрожал. И тогда они предложат Риму равноправные отношения, которые он должен будет принять. Римляне станут благоразумными, когда поймут, что в любое время могут быть подвергнуты нападению с двух сторон. И само существование Рима будет зависеть от его миролюбия.
Рим своим надменным владычеством создал себе врагов среди народов, которые сумел покорить, потому что они были разъединены, но однажды они могут стать сильными. Там зреет гнев, ненависть к тирании и издевательствам, надежда на возмездие.
Галлии и Германии Спартак предложит союз. Они примут его,
потому что он будет основан на справедливости, на равноправии, на взаимной выгоде.
Тогда все, кто страдал от римского гнета, договорятся между собой и станут единой силой. Народы прогонят римских сборщиков дани, перестанут платить контрибуции и налоги, приток средств к Риму прекратится.
Поначалу Рим возмутится этой дерзостью.
Но Сенат должен быть благоразумен, он не пойдет на угрозы. Потому что на этот раз на Рим хлынут многочисленные армии.
И тогда властители мира поймут, наконец, как они ошиблись, распространив свое господство на другие народы. Над вечным городом нависнет угроза превращения его в груды камня и кирпича; и никто, кроме самих римлян, не будет в этом повинен. Потому что для насыщения накопившейся за много лет ненависти к Риму, не хватит ни патрицианских дворцов, ни плебейских курятников.
"... Вам потребуется только одно: благоразумие, гордые сенаторы,... благоразумие, надменные патриции,... благоразумие, самонадеянные полководцы... Чтобы не вызвать гнева народов, которые вы разорили дотла, у которых вы уводили людей и продавали на ярмарках рабов. Вы заставляли их работать в ваших имениях и на ваших рудниках и кормили их так, чтобы они только не умерли с голода, в то время как вы сами обжирались до отвращения".
"Благоразумие... благоразумие... только благоразумие..." — думал Спартак, лежа с открытыми глазами. Он уснул лишь на заре.
36.
Утром, когда он поднялся на насыпь и посмотрел на поле сражения, у него стало тяжело на душе. Зрелище было ужасным.
Тела убитых устилали равнину перед лагерем. Эти люди пришли убивать, чтобы получить добычу. И они сами стали теперь добычей хищных зверей и птиц...
Митридат исчез с остатками своей армии.
Из палатки вышел Гортензий. Посмотрев в сторону вражеского стана, он обернулся к Спартаку:
— Что ты об этом думаешь? Неужели он и вправду пошел обратно?
— Не удивительно, что он так решил. И сейчас он уже далеко, если только посадил пехоту на уцелевшие телеги.
— Но, возможно, он остановился где-нибудь по дороге, предполагая, что мы пойдем за ним следом, и готовит нам западню.
— Едва ли он станет это делать. Не в его характере играть в прятки. Он предпочитает сокрушительные налеты и неожиданные набеги. После поражения он должен вернуться домой. Ему нужно опомниться, прежде чем готовить новый поход.
Перед тем как отдать приказ о выступлении, Деций Гортензий собрал преториум и объявил перед советом военных трибунов, что назначает своим заместителем командира первого легиона, а на легион ставит Спартака.
Спартак сдержанно поблагодарил Гортензия.
— Итак, вперед! Мы идем по долине Стримона, — приказал Гортензий.
Вчера, после окончания битвы, Спартак, оглядывая поле брани, думал: "Мы победили. Я и мои воины уцелели. Митридат разбит. Но медам и всем фракийцам придется теперь плохо. Они не ждут от нас добра. Потому что римляне, когда есть кому и за что воздать, руководствуются не человеческими чувствами, а правилами".
Когорты начали вытягиваться в походную колонну.
Спартак стоял возле Гортензия и наблюдал — это был его легион. Оба молчали. Неожиданно Гортензий спросил:
— Кто придумал использовать против нас лестницы?.. При втором римском походе во Фракию?
— Если ты узнаешь истину, это не прибавит к твоим добрым чувствам ко мне, но я не могу тебе лгать.
— Значит, ты?
— Я...
— Ты хорошо сделал, что, как и всегда, сказал правду. Потому что если бы ты сказал, что это придумал кто-то другой, я все равно бы тебе не поверил. А почему ты не повторил этого в следующей битве?
— Я предположил, что вы, опасаясь повторения подобного штурма, придумаете что-нибудь гибельное для нас, фракийцев. Выроете, например, с внутренней стороны стен волчьи ямы, утыканные кольями.
— Именно это мы и сделали. А почему у тебя возникло это опасение?
— Овчары и козопасы моего отца рыли такие ямы для волков.
Митридат, погрузив пехоту на обозы, быстро двигался в обратном направлении. Возле Укудамы отступавшее войско встретил понтийский полководец Ахелай с пятьюдесятью тысячами пехотинцев и боевыми колесницами, которых было гораздо больше, чем сгорело в сражении у Стримона. Две армии слились в одну, и она двинулась по Виа Игнация в Элладу. Лукулл, предупрежденный о наступлении армии Митридата, догадался вовремя стянуть все свои войска к ближайшим пристаням для отправки на кораблях в Брундизиум, на родину. Он успел справиться только с несколькими гарнизонами Митридата — в тех городах, где население перешло на сторону Рима после начавшихся грабежей. Осаду с других гарнизонов пришлось снять. Но Лукулл сделал это так искусно, что уход римлян был замечен, когда они уже садились на корабли. Митридату оставалось лишь вернуться обратно по той же дороге, по которой он пришел. Он решил, что надо пока оставить Фракию в покое и быстрее восстановить свою власть в малоазиатских владениях, где стояли переброшенные на эгейское побережье римские легионы.
Фракийские племена в поречьях Хеброса, Нестоса, Стримона и Понтоса еще до прихода Митридата восстали, вооружились и собрались вокруг своих вождей. Чуждые им наместники вынуждены были бежать и искать защиты у дентелетов, единственных во Фракии союзников Рима
После ухода Митридата из Фракии Децию Гортензию предстояло восстановить там римские порядки. Сначала он двинулся на землю пеонцев. Римский наместник, зять Реметалка, узнав о разгроме Митридата успел вернуться домой до прихода легионов Деция Гортензия. И получилось так, словно сами пеонцы восстановили порядок на своей земле. Реметалк, который после восстания медов, предводительствуемых Мукапором, нашел приют у своего зятя, пришел в магистратуру, где расположился преториум, и поспешил представиться Спартаку:
— Некогда я поступил с тобой несправедливо, — сказал он, — но позже я не мог себе этого простить. Клянусь Дионисом, что говорю правду, ты должен мне поверить. Тогда я заманил тебя в свой дом, а сейчас я пришел к тебе сам, чтобы перед тобой повиниться.
Спартак ответил:
— Сейчас не время сводить старые счеты, у нас немало новых забот. То было давно, и давно уже забыто. И можно сказать, что этого не было вовсе...
37.
Децию Гортензию нужно было спешить, и он двинулся вверх по Стримону на земли медов, где его ждали серьезные дела. Тамошний наместник, скрывавшийся в ближайшем проконсульском гарнизоне, не посмел опередить римские легионы, потому что Мукапор со своими отрядами мог навестить его без предупреждения.
С приближением к родным местам Спартак становился все задумчивее. Идя рядом со Спартаком, Гортензий не мог этого не заметить.
— Я хочу, чтобы ты лучше меня понял, мой друг, — сказал он. — Я не отрицаю твоего права на братские чувства к тем, среди которых ты вырос. Но запомни, что я тебе скажу; когда человек становится полководцем или государственным деятелем, разум его должен одерживать верх над чувствами.
— И я хочу, чтобы ты меня понял, благородный Гортензий. Разум сделал вас, римлян, властителями мира. Разум делает сильными господ, а чувства дают силу угнетенным, когда они решают стать свободными. С этими их чувствами надо считаться, тогда это и будет самым разумным отношением к ним.
Деций Гортензий подумал, прежде чем возразить:
— Разумное отношение не всегда выгодно тем, кто его проявляет. Это зависит от обстоятельств и от характера тех, с кем имеешь дело. Если мы сейчас проявим милость и великодушие к бывшим союзникам Митридата, они подумают, что мы опасаемся их силы, и от этого пострадает наш авторитет...
Римлянам предстояло преодолеть район горных ущелий, где их могла ожидать засада.
Легион Спартака шел в авангарде походной колонны. Вскоре после полудня, проходя по узкому проходу между скалами, поросшими густым молодым лесом, он подвергся нападению. По одной из обрывистых стен этого ущелья неожиданно, подобно оползню, скатились вниз воины с обнаженными короткими мечами и маленькими щитами. Они с яростным ревом накинулись на растерявшихся легионеров, сопровождая удары мечами воем, проклятьями, криками, руганью, от чего в тесном ущелье поднялся невообразимый шум.
В короткой и бурной схватке римляне потеряли почти весь передовой отряд. Вскоре подоспела помощь, и походный порядок был восстановлен. Медов прогнали, точнее, они разбежались и скрылись в лесу, откуда и совершили нападение.
Деций Гортензий удивился, что они так быстро исчезли, причинив римлянам не столь уж большие потери. Но еще больше его удивило то, что ни среди погибших, ни среди оставшихся в живых не оказалось Спартака.
В этот день на колонну было совершено еще два нападения — в середине и в конце ущелья. Но нападавших было значительно меньше, и атаки не столь дерзкими, как в первый раз. И тогда Гортензию пришло в голову, что первое нападение было совершено, чтобы взять в плен Спартака, либо чтобы облегчить ему побег.
Пока Деций Гортензий гадал, было исчезновение Спартака похищением или бегством, Мукапор по-дружески беседовал со Спартаком в горной хижине, куда его привели соплеменники. Там Спартак понял, что засада в начале ущелья была устроена только ради его похищения.
В осуществлении этого плана, сам того не ведая, участвовал и Реметалк. Это он распространил слух, что Спартак командует римским легионом.
Разведчики Мукапора еще на земле пеонцев выяснили, каким легионом командует Спартак. Потом они узнали о месте легиона в походной колонне. Мукапор позаботился и о поимке римских разведчиков, шедших впереди колонны для предотвращения внезапного нападения.
После таинственного исчезновения Спартака Деция Гортензия долго мучили противоречивые догадки, но ни одна из них полностью не могла объяснить случившегося.
Почему меды напали именно на авангард, в котором шел легион Спартака? Обычно при переходе через опасные участки нападению подвергается арьергард. Внимание командиров всегда сосредоточено на главных силах, кроме того, арьергарду труднее прийти на помощь, и риск нападающих здесь не так уж велик. Но тут же приходило возражение: фракийцы неординарные, не похожие ни на кого воины. Для них оказываются выгодными положения, казалось бы, совершенно не выгодные для атакующих. Их действия часто опровергают общеизвестные правила боевой тактики, если оценивать их с точки зрения логики. Они вообще не уважают законов войны. Сам Спартак говорил, что от них можно ожидать все что угодно. Да, это враг, действий которого ни разумом, ни опытом постичь невозможно. Из трех совершенных атак самой яростной была первая, закончившаяся исчезновением Спартака. Следовательно, ее затевали ради Спартака. Потом они слишком быстро исчезли — не для того ли, чтобы облегчить его бегство? Впрочем, быстро нападать и тут же исчезать, наткнувшись на опор, — это обычная их тактика, уже знакомая римлянам. Они, естественно, разбежались, когда на помощь авангарду подоспели идущие сзади когорты. Но разбежались не потому, что отказались от боя, а чтобы, подкараулив противника, снова напасть на него в другом месте. И еще дважды так делали — и оба раза из засады, и оба раза стремительно. Это и есть их военный метод. И все же, почему Спартак исчез при первом нападении, а не при втором или третьем?
Гортензий в конце концов дошел до предположения, что исчезновение Спартака не случайно. Оставалось установить одно и двух — плен это или бегство? В пользу бегства он не мог найти ни одного разумного довода. Если Спартак предварительно был морально готов к предательству, он мог совершить его в первом же сражении с Митридатом, при том без всякого риска для себя, потому что он служил у него в армии и расстался с ним по-хорошему. Но когда перед сражением все согласились с тем, что гибель неизбежна, и даже примирились с этим, он, а не кто-нибудь другой, предложил план, который привел к разгрому вчетверо более сильного противника.
И зачем ему сейчас возвращаться во Фракию? Он слишком уж крепко связан с Римом. Разве не собирался он жениться на римлянке и войти в патрицианскую среду? Перед ним открывалась перспектива стать претором в Иберии. Он отлично понимал, что Сулла наградит его этим назначением за спасение двух римских армий.
А какие возможности для преуспевания даст ему Фракия, даже если бы его избрали вождем всех племен? Он достаточно умен, чтобы понять, познав величие и могущество Рима, что Фракия не устоит перед его натиском.
Может быть, Спартак рассчитывал на союз с Митридатом? Но тогда он позволил бы ему победить. Да и Митридата он покинул в свое время потому, что ему не нравились порядки в понтийской армии.
Может быть, он вообразил, что сумеет объединить все фракийские племена? Но он же понимает, что этого и за десять лет не сделать, а Рим столько времени ждать не будет.
Что же заставило его перебежать к своим? И насколько они ему "свои" после того, как он привык к Риму? Ему нравился Рим, и в этом не было притворства.
В пользу предположения о дезертирстве говорило только одно: в характере Спартака было нечто авантюристическое. Действительно, его смелость, его стратегические замыслы, его действия всегда были на грани авантюризма, хотя и приводили к успеху. Но бегство к фракийцам! Какие выгоды может сулить оно Спартаку?!
"Да, загадал ты нам загадку, друг Спартак", — закончил свои размышления Деций Гортензий, так и не придя ни к какому выводу.
В ту же ночь, в горной пастушеской хижине Спартаку тоже не давали покоя горестные мысли:
"Они думали, что, освобождая меня, делают мне добро и не ведали, что тем самым причиняют величайший вред и мне и себе... Я уже никогда не стану самостоятельным полководцем, освободителем угнетенных народов...
Не будет сильной, независимой Иберии... Союза с Митридатом... Избавления всех фракийцев от гнета... Объединения племен... Как было бы хорошо дружно хлынуть на Италийский полуостров... Чтобы Рим щедро заплатил всем нам за причиненное зло! И чтобы люди жили как братья!..
Все пропало! Как могут боги быть столь безмилостны и несправедливы!"
Потом он стал вспоминать как все это произошло. И понял, что меды тоже думали о его и о своем благе, рисковали жизнями, чтобы спасти его.
"О чем же я в тот момент думал? Мог ли я сообразить что делать, когда услышал их боевые крики, восклицания, яростный и восторженный рев, от которого я потерял голову и забыл обо всех своих планах... и чувствовал только одно — радость, что я среди своих. Было ли у меня время что-нибудь решать? Мог ли я объяснить им: "Не похищайте меня, я буду полезен вам как римский претор в Иберии. Я буду нужен не только вам, но и другим народам. Я должен отплатить Риму за страдания всех покоренных, всех уведенных в рабство, всех замученных..."
Но поздно, сейчас уже слишком поздно об этом думать. Сейчас он снова возглавит отряд медов в их борьбе с римским неприятелем и в конце концов погибнет с достоинством и честью в одной из схваток с врагом.
И уже для собственного утешения, не очень веря в то, что это возможно, Спартак думал: "Надо начать переговоры с Митридатом о союзе... Надо договориться хотя бы с пеонцами... Неужели им не надоело терпеть унижения? Лучше невзгоды и опасности в лесах и горах, чем позорное благоденствие, зависящее от милостей врага".
Деций Гортензий восстановил римских наместников во Фракии в своих правах и вернулся в Рим. Своим докладом о победе над Митридатом он обрадовал Суллу, а новостью о загадочном исчезновении Спартака сильно поразил и озадачил его.
Спартак попросил у Мукапора руки Мезанеи, младшей из трех его дочерей.
— Еще тогда, за завтраком, — сказал Мукапор, — когда ты в первый раз был моим гостем, я понял, что рано или поздно ты станешь моим зятем.
Прошло немного времени. Римляне, построив себе во Фракии хорошо укрепленные лагеря, объявили ее своей новой провинцией, но меды противились приказам римского проконсула. Он мог распоряжаться только там, где стояли его гарнизоны. Леса, горы, неприступные районы оставались вне его власти. Мукапор и Спартак со своими отрядами время от времени напоминали римлянам, что вовсе не считают их господство постоянным.
Часто Спартак появлялся и на землях пеонцев, из-за чего тамошний наместник, зять Реметалка, вынужден был каждый раз пользоваться гостеприимством претора в хорошо укрепленном лагере.
Спартак неоднократно бывал в соседних племенах, уговаривал их вождей заключить союз для общего отпора завоевателям. Возвращался он обычно разочарованный. "Как видно, Рим и тут наведет порядок, — горько признавался он себе. — Он соберет нас под свое владычество, и все мы объединимся, как его поданные. В конце концов Фракия станет единой — но как римская провинция..."
Чем больше огорчала Спартака раздробленность племен, и чем больше он обманывался в их вождях, тем больше он упорствовал в своей непримиримости к римскому владычеству. Он спускался почти до нижнего течения Стримона и причинял большие неприятности отдельным римским гарнизонам. Он словно нарочно искал для себя опасности.
При одном из набегов он был коварно предан. Заслуга в этом принадлежала исключительно зятю Реметалка.
В яростной битве, в которой уцелело лишь несколько его соратников, Спартак был взят в плен.
Проконсул отправил его под надежной охраной в Рим.
А тем временем Мезанея родила сына.
38.
В Риме Спартак попросил доставить его к Децию Гортензию, сказав, что должен сообщить ему нечто важное. Начальник конвоя уважил просьбу Спартака.
Гортензий начал разговор первым:
— Мы не могли даже предположить, что ты совершишь нечто подобное, Спартак.
В его голосе не было даже оттенка укора, взгляд был спокойно сосредоточенным.
— Я сам не мог предположить, что это случится, — ответил Спартак. — Можешь мне в этом поверить.
В лице у Гортензия что-то дрогнуло:
— Я всегда тебе верил.
— Я не давал тебе оснований сомневаться во мне, благородный Гортензий.
— Ты завоевал даже доверие всемогущего Суллы.
Он смотрел на Спартака так, что нельзя было понять, упрекает он Спартака за то, что тот не оправдал этого доверия, или скорее сожалеет о роковой ошибке, погубившей это доверие. Он продолжал:
— Сулла назначил бы тебя римским наместником в Иберии. И ты, я знаю, отличился бы в борьбе с Серторием, злейшим врагом Суллы. Но ты одним ударом все разрушил. Мы считали, что у тебя уже нет ничего общего с фракийцами, кроме происхождения, которое для нас не имело значения.
Спартак ответил:
— Действительно, благородный Гортензий, то, что я совершил, непостижимо. Я не могу объяснить этого не только тебе, но и себе самому. Я многим обязан Риму, вы дали мне то, чего я нигде больше не мог получить. Но мог ли я в те краткие мгновения взвешивать на весах, что для меня Рим, и что значу я для Рима, когда фракийцы накинулись на моих легионеров с ревом, от которого я весь затрепетал, с криками, в которых я понимаю каждый звук, с проклятиями, обращенными к вам, заставившими меня испытать стыд, что я командую их врагами. И я осознал, что сейчас будут превращены в пепелища их дома, а они будут закованы в цепи и станут рабами в ваших имениях и рудниках. У меня не было времени раздумывать. И я не мог не оказаться на их стороне.
Гортензий смотрел на Спартака с непроницаемым выражением лица. Он словно окаменел.
Спартак продолжал:
— Я хорошо знаю ваши законы. Мне известно, что полагается за бегство из римской армии. И если я попытаюсь уменьшить свою вину, это не облегчит моего положения. Мне ясно, что меня ждет, и было бы бессмысленно надеяться на милость. Я пришел к тебе не для того, чтобы просить снисхождения — римские законы ни для кого не делают исключений. Я пришел к тебе только для того, чтобы ты понял, что я не совершил предательства. Ты поручился за меня и помог мне стать полноправным гражданином Рима. И я должен был объяснить тебе, почему я остался у фракийцев. Вы имеете право считать меня преступником, нарушившим военный закон. Но у вас нет права считать, что я совершил подлость.
Гортензий выслушал его и медленно произнес:
— Тебе известно, Спартак, что мы, римляне, никогда не нарушаем законов, которые создали. Потому что если закон существует, но не исполняется, значит, он не является необходимым. Мы всегда уважали себя, свою государственность, свой порядок и высшую справедливость.
— Я и без того понимаю, что закон есть закон...
— Но ты не знаешь, — прервал его Гортензий, — что римские законы служат только тому, что необходимо. И что наказание, если нужно, может быть видоизменено. У нас все ведет только к одной цели — к пользе для Рима. Тот, кто поднял руку против Рима, против его порядков, против его цивилизации, должен умереть. Но сама смерть, если думать о ней абстрактно, может быть, и не так страшна, особенно для того, кто ставит честь выше смерти. Для тысяч легионеров погибнуть за Рим в войнах, которые мы почти непрерывно ведем, — честь. Даже смертная казнь должна быть зрелищем, которое приносит пользу. Она должна быть позором для того, кто к ней приговорен, развлечением для тех, кто за ней наблюдает, и страшным предупреждением для тех, кто дерзнет поднять руку на Рим, посягнуть на устои римской державы. Мы распинаем преступников на кресте не потому, что нам, властителям, доставляет удовольствие видеть эту мучительную смерть, а потому что рабы, и не только рабы, должны из всего извлекать урок.
Спартак посмотрел на Гортензия:
— А вам не кажется, что это зрелище может будить и отвращение?
— Отвращение оно может вызвать у меньшинства — поэтов, философов, мыслителей. Нас же интересует главное — польза для государства.
— При вынесении решения о твоем наказании, — продолжал Гортензий, — были приняты во внимание твои заслуги перед Суллой. И тебе вместо казни уготовано предназначение, которым ты и в немилости будешь полезен Риму. Сулла решил послать тебя в гладиаторскую школу. Как гладиатор, который многократно рискует своей жизнью, ты многократно искупишь свою вину перед Римом, одновременно развлекая своими подвигами на арене римских граждан.
— Значит, по решению Суллы я должен встречать смерть не один, а множество раз?
— Или точнее — начинать жить не один, а множество раз. Потому что едва ли найдется человек, который тебя победит. А если найдется, это принесет новую славу Риму.
Спартак сумел сдержать вздох облегчения:
— Я думаю, что своим помилованием обязан тебе, благородный Гортензий?
— Ну, если даже... предложение это принадлежит мне... то пощадой ты обязан всемогущему Сулле.
— Ты и на этот раз принимаешь участие в моей судьбе.
— Правильней будет сказать, что Рим знает, что делает, не только награждая, но и наказывая.
Перед тем, как принять решение пощадить Спартака, Сулла имел долгую беседу с Децием Гортензием. Закон, по которому за дезертирство из римской армии полагается смертная казнь перед строем, был впервые нарушен. В числе соображений, которыми руководствовались Сулла и Гортензий, было и такое: "Пусть фракийцы, которых он водил в сражения против нас, узнают, что теперь он проливает на арене кровь своих соперников, развлекая граждан великого Рима".
39.
Спартака продали ланисте Лентуллу Батиату. Его школа в Капуе была одной из самых знаменитых на Италийском полуострове. Ее воспитанники завоевали ей славу на цирковых аренах всех городов империи. И, наверно, не случайно, именно в ней Спартаку было суждено овладеть гладиаторским искусством.
Ему было оставлено право участвовать в излюбленном зрелище римской толпы, в которой смешались патриции, плебеи, менялы, ремесленники, вольноотпущенники, зеваки... Ему было оставлено право жить до тех пор, пока он будет поражать своих соперников. И он совершит множество подвигов и станет непобедимым на том поприще, где многие завершают жизненный путь уже при своем дебюте.
Спартака провели по длинному полутемному коридору с близко расположенными дверьми. В конце коридора сопровождавший его страж открыл ключом одну из них, ладонью легонько подтолкнул Спартака в комнату и снова запер дверь за его спиной. Вокруг были голые каменные стены.
Эта конура, в которой едва можно было свободно вытянуться, теперь становилась его жилищем. Здесь ему предстояло спать в перерыве между упражнениями по фехтованию, гимнастике и борьбе. Спать на застланном соломой полу, ничем не укрываясь.
А слева и справа от него в таких же каморках спали другие несчастные.
Пока Спартака вели сюда, он понял, что бежать из школы невозможно — здание было полностью изолировано от внешнего мира.
Просторное, мрачное помещение с низким потолком. Длинные столы — от стены до стены — и столь же длинные дощатые скамейки. Трапезная гладиаторов.
На столах — оловянные миски и ложки. За столами — люди.
Слуги — рабы и рабыни — разносят медные баки с похлебкой.
Люди жадно едят: слышно лишь позвякивание ложек да чавканье.
Спартака удивило, что никто не разговаривал. Объяснив себе это тем, что люди проголодались после тяжелых занятий, он обернулся к сидящему слева и спросил:
— Как тебя зовут?
Сосед не только не ответил, но сделал вид, что не слышит. С тем же вопросом Спартак обратился к соседу справа. Но тот еще ниже опустил голову, чуть ли не окуная бороду в похлебку. Главный надзиратель, заподозрив что-то, поспешил к месту происшествия. Он еще издали поднял кнут — общение друг с другом гладиаторам было строго запрещено. Спартак отложил ложку в сторону и глянул на надзирателя так, что тот остановился и замер, кнут бессильно повис в воздухе. Гладиаторы повернулись в их сторону, с интересом следя за этим молчаливым поединком. Но любопытство их было обмануто, кнут не опустился на плечи виновника. Они были разочарованы, потому что расправа надзирателя с нарушителем правил была единственным развлечением в этом мрачном и немом царстве. В глазах некоторых промелькнуло что-то похожее на симпатию к Спартаку, удивление его дерзостью, злорадство по отношению к посрамленному надзирателю. Это был проблеск постоянно подавляемого в людях человеческого начала.
Надзиратель несколько мгновений стоял в каком-то оцепенении. Его лицо, властное и жестокое, выражало недоумение.
Гладиаторы, сидевшие к нему лицом, почувствовали даже неловкость. Они видели, что надзиратель испугался, но понимали, что им, как нечаянным свидетелям его испуга, потом не поздоровится. Они опустили головы и снова стали хлебать, позвякивая ложками и глядя в свои миски.
Спартак медленно отвел взгляд от надзирателя. Надзиратель все понял, рука с кнутом опустилась. Ему показалось, что гладиаторы не заметили его позора, и он счел за самое разумное сделать вид, что не понял взгляда Спартака. Как будто между ними ничего и не произошло. Он повернулся и отошел. Но другие надзиратели, конечно, видели, что он проиграл в этой схватке с новым рабом.
Когда обед закончился, гладиаторы поспешили к дверям. Пока они шли в свои каморки парами и группами, то успели перекинуться словом по поводу необычного происшествия.
Некоторые из них были недовольны тем, что главный надзиратель не отхлестал нового раба, им хотелось видеть, как тот подожмет хвост, получив трепку за свою неслыханную дерзость. Но большинство были рады унижению ненавистного надзирателя. Они увидели, на что способен смелый человек, защищающий свое человеческое достоинство. И были горды за себя, потому что они тоже люди.
На следующий день во время обеда, когда гладиаторы были поглощены едой, Спартак повернулся к соседу и сказал ему что-то. Главный надзиратель издалека пригрозил ему кнутом. На эту немую угрозу Спартак громко ответил ему по-фракийски. Это было непереводимое на латинский язык проклятие, позволившее одному из гладиаторов понять, что новый раб — его соотечественник. Гладиатора звали Дизапор, и в будущем он станет лучшим другом Спартака.
В мрачное царство молчания вместе со Спартаком словно проникло что-то снаружи, и от этого среди серых каменных стен стало светлее.
На занятиях по фехтованию главный надзиратель не спускал глаз со Спартака. Он видел, что его приемы безошибочны, все удары достигали цели. И он мысленно признался себе, что правильно сделал, не став учить Спартака послушанию и покорности.
В этом мире, состоящем из узких камер, учебных площадок, трапезной, Спартак жил, словно в царстве теней, над которыми постоянно витал страх наказания, его символом был кнут надзирателя. Надзиратели неотступно следили за гладиаторами. Спартак готов был допустить, что здесь даже страшнее, чем в подземном царстве мертвых — там, по крайней мере, никто не обучал убивать друг друга. Но потом он подумал, что все-таки там тени, а здесь — живые люди. Теням нельзя причинить боль, но они не могут испытать и радости. А у людей, которым причиняют страдания, все же никто не может отнять надежду на лучшее. Там — только подземный мрак. А здесь все-таки есть солнце, и, несмотря на то, что тяжелые низкие своды скрывают его, люди знают, что солнце есть. И они видят его, правда только тогда, когда выходят на арену, и ни тот, ни другой из соперников не знает, кто из них увидит это солнце еще раз, а кого багром уволокут по окровавленному песку...
40.
И после того, как Спартак был взят в плен, меды не смирились.
Деций Гортензий снова был послан во Фракию, чтобы упрочить там римское господство. Он покорил Средний и Нижний Стримон и временно стал проконсулом во Фракии.
В одном из тяжелых сражений с римлянами погиб Мукапор. Имения его Гортензий не тронул. Он проявил заботу и о жене и сыне Спартака, приказав своему наместнику у медов обеспечить их безопасность. Но приказание это запоздало, либо же сам наместник поспешил предупредить события...
Одержав первую победу на арене, Спартак лежал вечером на соломенной подстилке в своей конуре и думал...
До сих пор он сражался только с врагами. А сегодня — убил человека, с которым, встреться они в какой-нибудь таверне для гладиаторов и рабов, — мог бы по-дружески разговориться.
"А вместо этого я убил его... Но иначе не могло и быть... Чтобы один остался в живых, другой обязан был умереть. Но кто же из нас двоих? И пощадил бы он меня, будь он сильнее и удачливей? Да, один из нас неминуемо должен был погибнуть... к удовольствию благородной и неблагородной черни, заполнившей цирк. Но в этой толпе есть и труженики, развращенные привычным зрелищем. Убийство на арене цирка не только не считается бесчеловечным, но и служит удовлетворению самых утонченных вкусов, является самым желанным из всех развлечений римской публики..."
И начались будни гладиатора...
Поединок за поединком...
Схватка с галлом Криксом была необычайно трудной, изобиловала множеством опаснейших моментов. Но... уже в самом начале Спартак проникся симпатией к этому храброму и ловкому гиганту. И в конце концов повергнув Крикса на землю, Спартак попросил даровать ему жизнь.
Публика оценила отчаянное мужество галла, он оказался достойным великодушия тех, кто выносил приговор: добить или пощадить побежденного.
На гладиаторских играх в честь Юпитера германец Эномай, человек гигантского роста и атлетического сложения, бился со Спартаком не менее ожесточенно, чем Крикс. Несколько раз Спартак подстраивал ему ловушки и мог пронзить его мечом, но сам же искусно и незаметно для зрителей позволял ускользать невредимым. И для Эномая Спартак попросил пощады. Впоследствии они стали близкими друзьями.
Спустя полгода в Рим привезли специально для встречи со Спартаком гладиатора, который прославился множеством побед на аренах амфитеатров и цирков Италийского полуострова.
Он сражался с яростным ожесточением, его выпады сопровождались бешеными криками болельщиков, но Спартак сумел сразить его так, что крики толпы слились в единый восторженный рев, который возносился к небу и был слышен далеко в городе.
Каждая новая победа Спартака поднимала в нем новую волну гнева против Рима. От его меча погибали люди, которые не сделали ему ничего плохого, к которым он не испытывал враждебности, он вообще встречал их впервые в жизни на арене Большого цирка.
Вместе со славой росла и его ненависть к тем, для чьего удовольствия он убивал, чтобы не быть убитым.
И тем не менее он давал зрителям возможность испытывать острые, волнующие ощущения, и они были ему за это благодарны, они любили его. После одной из его блестящих побед публика впала в небывалый экстаз. Это было высшее проявление ее симпатий к великому гладиатору. Люди уже не владели своими чувствами, они только ревели, не помня себя: "Свободу Спартаку! " Они не могли даже осознать, что, требуя от патрона цирка освобождения Спартака, они теряли его навсегда. Потому что тогда никто уже не сможет заставить его выйти на арену.
41.
Незадолго до смерти Сулла сложил с себя полномочия диктатора, но Рим по-прежнему испытывал ужас перед ним. Он отказался от права распоряжаться жизнью и имуществом римских граждан, но не отказался от своих легионов, которые всегда могли помочь ему восстановить это право...
Погребальное шествие, которое за десять дней проделало путь от Кум, заполнило улицы Рима. За роскошными золотыми носилками с набальзамированным и умащенным благовониями телом Суллы, вслед за актерами и музыкантами шли несколько сот плакальщиц в траурных одеяниях. Они рвали на себе волосы и время от времени оглашали воздух душераздирающими рыданиями, восхваляя Суллу как носителя высочайших добродетелей, вершителя величайших подвигов.
Припадками безутешной скорби они как бы хотели растрогать богов в их небесных чертогах и тени убитых Суллой, нашедших вечный приют и вечный покой в подземном царстве.
За плакальщицами шли сенаторы в торжественно-траурных тогах. Они отдавали последние почести тому, кто и мертвый был им страшен. В благоговейном молчании, сосредоточенные в своей скорби, они признавали сейчас его заслуги перед Римом, как тогда в храме богини Беллоны, под предсмертные вопли закалываемых самнитов, признавали его право казнить и миловать римских граждан по своему произволу. Наверно, пережитый ими тогда ужас превратился в постоянное, смешанное со страхом преклонение перед его личностью. Когда в сенате обсуждали, какого погребения достоин Сулла, большинство сенаторов голосовали за предложение похоронить его с императорскими почестями.
За сенаторами шли ветераны, тысячи легионеров Суллы, которым он за верную службу даровал земли в завоеванных странах, где они могли беззаботно провести свою старость. Благодарные ему за это, они искренне оплакивали своего полководца и благодетеля.
Тут были и те, кто участвовал в грабежах и конфискациях имущества приверженцев Мария, и те, кто испытывал перед Суллой только страх, — теперь они знали, что никогда больше он не сможет делать людям зло — хватит и того, что он успел сделать.
Тут были и неимущие, которые сами не знали искренни ли они в своей скорби, — они обожествляли Суллу за устраиваемые им общенародные трапезы, они громко восхваляли его за милости и молча проклинали за свою участь.
Тут были, наконец, просто зрители, люди, уцелевшие в гражданских междоусобицах, люди, которых страх перед жестокостью Суллы не смог превратить в покорное стадо. Они презирали показную скорбь наемных плакальщиц, умиление глупцов и лицемерие хитрецов, восхвалявших самого всемогущего и самого мудрого из мудрейших. Они всегда стояли над малодушием, над низостью, над трусостью и подлостью.
Траурное шествие ступило на Марсово поле, где все было готово для погребения.
Истерические вопли плакальщиц прекратились, уступив место безмолвной скорби мужей.
Началось последнее действие траурного ритуала.
Несколько пар гладиаторов, воспользовавшись привилегией погибнуть в честь господина, чей хлеб они ели и чьей собственностью были, добровольно принесли себя в жертву его памяти, смертельно ранив друг друга возле костра, на котором тело бывшего диктатора ждало погребения. Потом наступила очередь коня и любимых домашних животных Суллы. Виктимарии принесли их в жертву и окропили землю их кровью, смешанной с молоком и медом.
Оставалось только поджечь костер.
Сулла превратился в дым и пепел, в кучку пепла, который заполнит урну и будет помещен в его доме, чтобы близкие могли поклоняться праху человека, единственно им не причинившего зла.
42.
Кто бы мог предвидеть, что спустя некоторое время в гладиаторской школе в Капуе, в этом мрачном зверинце вспыхнет молния необычайной силы и яркости, молния, которая вызовет смертельный страх не только у римской черни, но и у гордых патрициев.
В результате восстания Спартак вывел из школы семьдесят восемь гладиаторов. Жители окрестностей города помогли им благополучно достичь подножия Везувия, выразив тем самым свое сочувствие беглецам. Этот непокорный Риму город еще помнил карательные походы Суллы и других полководцев.
Семьдесят восемь гладиаторов вскоре стали ядром мятежной армии, к которой со всех сторон стали стекаться рабы, бежавшие из латифундий, дезертиры, покинувшие другие гладиаторские школы, разоренные земледельцы, жители провинции, озлобленные на Рим за неравноправие, в котором он их держал. Армия Спартака быстро росла и все больше давала о себе знать победами над первыми же отрядами, посланными для ее уничтожения.
С самого начала перед Спартаком возникли большие трудности. Сплоченной и отлично обученной римской армии, в которой легионерами были только римляне, Спартак противопоставил армию разноплеменную. В ней были галлы, германцы, фракийцы, люди различного общественного положения. Они были едины лишь в своей ненависти к Риму, но их интересы и цели вовсе не совпадали.
В своей армии Спартак ввел римский военный строй, доказавший свои неоспоримые преимущества. Но разнородность армии мешала ему применять римскую военную тактику. Поэтому он создал свою тактику, вначале обескуражившую римлян. Римские легионы, построенные в плотные шеренги, которые двигались в бою как живые стены, в конечном итоге всегда побеждали. Нападая, они сметали все на своем пути. Обороняясь, даже если противник превосходил их в численности, они не давали ему возможности вклиниться в свои ряды, заставляли нести большие потери, терять силы и в конце концов, переходя в контрнаступление, одолевали его. Именно в таком сомкнутом боевом строе и была сильная сторона римской армии.
Но если ряды бойцов приходили в расстройство, армия быстро превращалась в скопище вооруженных людей, которые не знали, что делать со своим оружием. Они были отлично обучены исполнять боевые команды, но не могли самостоятельно бороться с противником при нарушении строя, в неразберихе рукопашного боя. Именно здесь видел Спартак слабое место в римской военной науке. Разнородная армия Спартака в наступательном бою получала преимущество, доказанное в первой же серьезной битве с регулярной армией Рима, состоящей из испытанных воинов.
В этом сражении Спартак прежде всего бросил в атаку отборные когорты, составленные из дезертиров, для которых единственным возможным исходом боя была победа. При поражении для этих людей не существовало плена и последующей продажи на ярмарке рабов. По закону их ждало только одно — казнь перед строем. Их отчаянная храбрость всегда вселяла ужас в противника.
Дезертиры шли плотными шеренгами. Первая из них должна была принять на себя пилумы, которые легионеры метали во врага, чтобы лишить его возможности пользоваться щитами. Исполнив свою задачу, бойцы падали на живот, чтобы дать дорогу тем, кто шел за ними. Те перепрыгивали через товарищей и вихрем врывались в ряды противника. Пропустившие их бойцы поднимались, подбирали щиты убитых и догоняли сражающихся.
Перед таким яростным натиском трудно было устоять. Дезертиры быстро прорывали даже многорядный строй. В прорыв немедленно устремлялись гладиаторы. Мастерски обученные фехтованию, они наносили неотразимые удары своими мечами, каждый из них умел сражаться сразу с несколькими противниками, собирая их вокруг себя таким образом, что они подставляли свои спины ударам других гладиаторов. Воины Спартака вклинивались в позиции противника сразу в нескольких направлениях, расширяя прорыв и расчленяя строй противника. В его расположении наступал беспорядок, при котором командиры не могли командовать, а солдаты — исполнять приказания. И тогда Спартак вводил в бой когорты, составленные из одних рабов. Они шли тугими волнами, сметая остатки того, что некогда было войском, а сейчас превратилось в толпу растерянных людей.
Римские полководцы ничего не могли противопоставить тактике Спартака. У Спартака всегда было преимущество: он начинал первым. Он умел находить место для нанесения главного удара, и так быстро направлял туда дезертиров и гладиаторов, что римляне не успевали прислать подкрепление, возникала суматоха, приводившая к разгрому потерявших военный строй и военный вид легионеров. Распространяясь дальше, суматоха становилась всеобщей, приводя римлян к полному поражению.
После нескольких крупных побед Спартак стал кумиром всех своих легионеров.
Однажды утром после очередного сражения, в котором римляне понесли большие потери, Спартак в сопровождении преториума вышел из палатки и направился к широкой площадке, где были выстроены войска для обычного смотра. Со всех сторон раздавался барабанный бой, торжественно звучали трубы.
Первый легион, к которому подошел Спартак, дружно ответил на его приветствие:
"Слава тебе, император!"
Один из контуберналиев Спартака, стоявший сзади него, неожиданно накинул ему на плечи пурпурную мантию.
Спартак, удивленный и смущенный случившимся, обернулся к своим командирам и понял, что для них это не явилось неожиданностью. Он нахмурился, потом снова повернулся к бойцам и сказал:
— Отныне и всегда вы будете говорить: "Слава тебе и нам!"
43.
После битвы при Мутине Римский сенат осознал, что армия Спартака заслуживает гораздо более высокой оценки, чем та, которую ей давали вначале. И что следует начать переговоры со Спартаком, чтобы положить конец этой войне; позорной для римлян, позорной, потому что их противниками были рабы и гладиаторы, а не легионы полководца, воюющего от имени независимой державы. Вести переговоры Сенат уполномочил Деция Гортензия — были приняты в расчет его давние дружеские отношения с предводителем восставших.
С завязанными глазами, в сопровождении свиты телохранителей, Деций Гортензий прибыл в стан Спартака и был приведен стражей к нему в палатку. Там римлянам сняли повязки, и полководцы поздоровались.
Первым заговорил Гортензий:
— Спартак, друг мой... Сегодня мы встречаемся как противники.
— Мы противники, но не надо забывать, что мы были друзьями, благородный Гортензий, — ответил Спартак.
— Как же так получилось, что ты предпочел приключения и опасности великому будущему?
— Судьба, когда она вмешивается в жизнь человека, всегда оказывается сильнее тех, кто ему желает добра или зла, — неопределенно ответил Спартак.
— Ты — воистину пример всесилия судьбы, — сказал Гортензий. — Если бы ты не бежал к своим, когда тебе предстояло стать наместником в Иберии, тебя вскоре облачили бы в императорскую мантию, которую носит сейчас Помпей. А ты предпочел славу фракийского вождя и ополчился против Рима, несмотря на то, что познал его могущество. Но это... это все к слову... А сейчас давай поговорим так, чтобы не затрагивать ни твоей чести, ни гордости Рима. С его могуществом считался любой противник.
— Я не имею ничего против, благородный Гортензий. Давай оценим возможности друг друга по достоинству. Подумай, о чем мы могли бы договориться, чтобы не пострадала ни гордость Римского сената, ни интересы тех, кто поверил мне и пошел за мной, надеясь, что их право на человеческую жизнь будет признано.
Спартак хотел продолжить, но неожиданно обернулся к одному из своих контуберналиев:
— Посланцы Рима устали от долгого пути. Позаботься о том, чтобы их сытно накормили и разместили в отдельной палатке.
— Спартак, — попытался возразить Гортензий, — может быть, мы сразу начнем переговоры, а трапезу и отдых отложим?
— Позволь мне, благородный Гортензий, как хозяину, распорядиться о том, чтобы вас приняли, как добрых гостей, а потом уже мы начнем переговоры, как воюющие стороны.
Поле того, как посланцы Рима отдохнули, Спартак пригласил Гортензия в свою палатку. Вскоре слуга принес туда поднос с жареным мясом и амфору с вином и поставил на маленький столик.
Спартак обратился к Гортензию:
— Пусть тебя не удивляет, что наша трапеза скромна, и вино — не фалернское, но будем считать, что это лишь потому, что мы не в триклиниуме, а в военном лагере. Надеюсь, что не обижу тебя этим.
Напротив, Спартак, я благодарен тебе, что ты относишься ко мне, как к близкому человеку, потому что только с близким непринужденно делят скромную трапезу. Может быть, наша старая дружба послужит на благо тем, кто затеял сейчас войну между собой. Сенат уполномочил меня не только провести с тобой встречу, но и заключить договор о прекращении этой войны, которая стоит много крови обеим сторонам и которая ни одной из них не сулит ничего хорошего.
Спартак подтвердил свою готовность выслушать Гортензия:
— Скажи, благородный Гортензий, раз у тебя есть полномочия Сената, что же ты предлагаешь?
— Первое условие, Спартак, это — сложить оружие, которое ты поднял против Рима, против его владений, против его законов!
Спартак нахмурился и, отхлебнув глоток вина, сказал:
— Я поднял оружие, благородный Гортензий, не для того, чтобы его сложить. Я не сложу его ни перед кем. Будем считать, что это условие не подлежит обсуждению, чтобы разговор мог продолжаться.
— Я думаю, что для того, чтобы перейти к остальным условиям, надо принять первое. Но я предоставляю тебе решать, можно ли обсуждать второе условие, не приняв первого.
— Попробуем сделать это.
— Второе условие — распустить свое войско, твою армию.
Спартак вздрогнул, но сдержал свой гнев:
— Распустить армию — это значит принять первое условие.
— Как видишь, условия связаны одно с другим.
— Выходит, нам больше не о чем говорить...
— Наоборот, именно потому, что разговор заходит в тупик, он заслуживает продолжения. Но я еще не сказал тебе, что первое условие имеет некоторые оговорки. Сложить оружие, это не значит сдаться на милость победителя. Рим, которому ты имеешь основание не доверять, готов дать тебе в какой-то провинции высокую, но безопасную должность.
Спартак еле дождался, пока Гортензий закончит фразу:
— Это не подлежит обсуждению, благородный Гортензий! Вернемся ко второму условию. Значит, Сенат хочет избавиться от угроз, связанных с существованием моей армии.
— Совершенно верно.
— И будет удовлетворен, если я выведу ее с полуострова? Но согласен ли ты, что это означает выполнение сразу обоих условий?
Гортензий понял мысль Спартака, однако помедлил, прежде чем ответить:
— Сенат не сможет быть уверенным, что легионы, выведенные с оружием, не нападут на Рим снова, когда сочтут возможным.
Спартак не сдержался и стукнул ладонью по столу:
— Ты сомневаешься в моем честном слове? И в искренности моих намерений отвести рабов в их родные места?
Гортензий сделал вид, что не заметил резкость Спартака, и посмотрел ему прямо в глаза:
— Я сомневаюсь не в тебе, Спартак. Я сомневаюсь в твоей власти над людьми после того, как ты отведешь их в родные места. Твоя армия состоит из людей разных народностей, разных племен. Ты сохранишь власть лишь над фракийцами. А кто нам гарантирует, что галлы и германцы не объединятся снова, чтобы напасть на нас?
— Ты, конечно, вправе опасаться этого. Но разве Сенату не достаточно, что после того, как армия будет разделена, она перестанет быть угрозой для Рима — такой, какая существует сейчас, когда армия едина?
— Я опасаюсь, что Сенат не согласится на договор, которым он должен будет признать равноправие противников.
Спартак возразил:
— А почему они не равноправны?
— Потому что армия рабов и гладиаторов, ополчившаяся против Рима, — мятежная армия. А с мятежниками можно вести разговор лишь после того, как они сложат оружие.
Спартак поднял голову:
— Тогда... Тогда нам остается только одно: победить!
Гортензий задумался. Потом сказал:
— Я — оптимист. Я думаю, что есть и другой выход из положения. Мы можем договориться с тобой о сотрудничестве против Сертория, против Митридата, против всех, кто причиняет нам неприятности. Тогда и ты получишь соответствующую долю за свои услуги.
Спартак ядовито улыбнулся:
— Я не настолько романизирован, чтобы согласиться участвовать в союзе, который будет способствовать укреплению вашего могущества, чтобы вы и дальше держали в покорстве Фракию и другие земли, где стоят ваши гарнизоны.
— Тогда... ты бы мог сделать и другое — благородно отдалиться от тех, кто подчиняется тебе против своей воли. Для нас не тайна, что твои отношения с Криксом и Эномаем не очень гладки, — они завидуют твоей славе. Если ты уйдешь и предоставишь им командовать своими легионами, Сенат пошлет тебя квестором в одну из наших провинций, и ты будешь регулярно посылать нам умеренную дань.
В глазах Спартака заиграли лукавые огоньки:
— За такое вероломство награда слишком скромна. Нет, и здесь нам не о чем говорить!
— И все же я хочу сказать тебе еще одну вещь. Тебе не помешает, если ты меня выслушаешь. Ты начал дело, заранее обреченное на неудачу, оно не только трудное и даже непосильное, оно просто неосуществимо.
Спартак перебил Гортензия:
— Это только твое мнение.
— Оно может стать и твоим, если ты дослушаешь меня до конца. Во всяком случае, ты со мной согласишься, неважно, признаешься ли ты в этом вслух или нет.
Спартак испытующе посмотрел на Гортензия.
— Твои слова заинтересовали меня.
Гортензий начал медленно:
— Предположим, что ты возьмешь Рим, хотя это вовсе не так легко сделать. Но ведь у тебя не останется сил выдержать даже первый из ударов, который последует, когда мы вернем сюда армии из дальних провинций. Но... предположим, что таких армий у нас нет, и что у твоих легионов будет возможность разграбить Рим. Даже сравнять его с землей, просто так, для своего удовольствия, хотя это было бы весьма неразумно. Но допустим, что вы победите. Что завладеете и Римом, и всем Италийским полуостровом. И что же дальше? Рабы станут господами? Но кто тогда заставит их работать, чтобы кормить себя? Они делали свою работу поневоле и поэтому не любят ее. Они легко привыкнут к свободе, потому что она ничего не будет с них требовать. Но как они станут работать, если их не будут к этому принуждать? Известное время можно жить на награбленное. Но когда уже нечего и некого будет грабить, кто станет работать? Патриции, землевладельцы и все, кто прежде не работал? Но сколько их, и сколько тех, кого надо будет кормить? Сто рабов могут прокормить одного хозяина, но один хозяин не накормит сотню своих бывших рабов.
Спартак улыбнулся, хотя Гортензию показалось, что улыбка его была натянутой:
— Только патриций так может представить себе наши цели. А сейчас, благородный Гортензий, постарайся выслушать, как себе представляем это мы, те, которые начали битву за человеческую жизнь. Мы не собираемся разрушать Рим. И боремся не за то, чтобы стать господами, и нет у нас намерений сделать сегодняшних господ нашими рабами, потому что, действительно, одному рабу не прокормить ста хозяев. Но скажи мне, по-человечески ли это, разумно ли это, чтобы сто рабов кормили одного господина только потому, что они — его собственность? Будут ли рабы работать после того, как победят? Да, ты прав, господа научили их работать поневоле. Но как раз мы и боремся за такой порядок, при котором люди станут работать не по принуждению, а по необходимости. И они поймут, что так надо, потому что работать будут на самих себя. А как мы будем жить без рабов? Вместо высокой, но бесчеловечной цивилизации для меньшинства и нищеты для большинства — скромное существование, но человеческая жизнь — для всех. Иное дело, быстро ли к этому привыкнут люди или им потребуется на это много времени. А что нам в этой войне придется нелегко — тебе объяснять не надо. Но как раз потому, что это трудно, мы и должны довести наше дело до конца.
— Даже если ты и прав, у вас не хватит сил, чтобы добиться победы. У нас всегда будет больше солдат, чем у вас.
— Но нас уже сейчас много и станет еще больше.
— Вот в этом я постараюсь тебя разубедить, друг Спартак. Скоро твоя армия перестанет увеличиваться.
Спартак ответил со сдержанной самоуверенностью:
— Это, друг Гортензий, твое желание, но оно не обязательно должно сбыться.
— Ты убедишься, что мое предупреждение имеет под собой почву. Скоро приток рабов в твою армию прекратится.
Спартак посмотрел на Гортензия с удивлением:
— В это не могу я поверить.
— Да, тебе станет не очень приятно, когда ты будешь вынужден это признать. Если ты сейчас не согласишься на разумные переговоры с нами, Римский Сенат пообещает свободу рабам, которые, имея возможность присоединиться к твоей армии, не сделали этого.
— Одно лишь обещание вряд ли заставит рабов поверить, что их освободят, — возразил Спартак не очень уверенно.
— Большинство поверит. Да и те, кто не поверит, предпочтут небольшой риск — не получить обещанную свободу, большому риску — участвовать в войне, где можно погибнуть. Даю тебе последнюю возможность проявить благоразумие: прекрати эту войну, которая тяжела не только для нас, и останови разорение наших провинций, в которых твои рабы грабят имения и бесчинствуют. Пойми — Рим не пойдет на заключение договора, который его унизит и уменьшит уверенность наших друзей в том, что мы могущественная держава.
Спартак медленно поднялся со своего места, опершись ладонями о стол:
— Иными словами, Сенат уполномочил тебя не вести со мной переговоры, а лишь сообщить мне его условия?
— Я уполномочен вести переговоры в соответствии с этими условиями.
— И получается, что нам не о чем больше говорить?
— Да, выходит, что разговор на этом придется закончить.
Спартак позвал одного из контуберналиев и приказал ему завязать глаза Гортензию и его охране, оседлать их коней и вывести посланцев Рима из лагеря.
44.
Армия Спартака быстро росла и уже превысила сто тысяч человек. В его лагерь стекались добровольцы со всех краев Италийского полуострова. Теперь он располагал двадцатью полными, хорошо обученными легионами. И ему оставалось лишь померяться силами с регулярными армиями Рима, потому что до сих пор он воевал в большинстве случаев с местными территориальными и вспомогательными войсками.
Ему предстояло повести свою армию в бой с испытанными во множестве сражений римскими легионами, боеспособность, выдержку и моральные качества которых он хорошо знал.
В ночь перед началом похода Спартак не мог уснуть. Он думал о тех, кого завтра он поведет в бой.
Эти люди стали ему гораздо ближе, чем прежде. Они пришли под его начало, потому что поверили, что он избавит их от рабства, от гнета, от унижения, подавлявшего в человеке всечеловеческое. Сколько из них уцелеет, чтобы радоваться своему спасению? И сколько погибнет? Выдержит ли его совесть вину за их смерть?
Представляя себе жертвы, которые нужно будет принести на алтарь богини победы, он размышлял:
"Я повел их за собой. Но имел ли я на это право? Меня воодушевил на борьбу гнев, накопившийся за годы цирковых побоищ, в которых на потеху Риму лилась наша кровь. И я вовлек такое множество людей в кровопролитие, которое неизвестно сколько времени продлится! Но только ли мой гнев руководит мной? Разве это и не их гнев? Рим заслуживает мщения за все несчастья, которые он принес покоренным народам. Стоит ли это мщение гибели тысяч людей, идущих за мной? Но разве я мщу за одного себя? Разве то, что я хочу совершить, — это не для них? Рим должен им гораздо больше, чем мне. Каждый из нас отдаст победе все, что может, и получит от нее столько же удовлетворения. Все мы принесем свои жертвы, и в том, что совершится, будет заслуга каждого из нас. Все мы завоюем славу. Или погибнем. Но отвечать за эту гибель должен я один. Потому что я больше всех остальных знаю, насколько могуч Рим.
В борьбе за свободу они должны пройти лишь испытания. А на мне лежит еще и ответственность за их жизни. От нее никто меня не освободит. Я вывел их из рабского прозябания, и я же поведу их к спасению или гибели. Но победим мы или погибнем, мы навеки завоюем славу, ибо подняли оружие против Рима — покорителя, угнетателя, мучителя народов. Потому что мы, рабы, захотели стать свободными, захотели стать людьми.
У Рима огромные резервы — и в самом городе и на всем Италийском полуострове. Каждый гражданин, способный держать меч и щит, может, когда это потребуется, стать воином. Многочисленные армии империи, разбросанные по всем владениям Рима, могут быть возвращены сюда и собраны в одно целое против нас. Нам останется лишь пасть в сражении всем до единого, но мы встретим смерть лицом к лицу с врагом, нас поразят в грудь, а не в спину.
В сражениях, которые нам предстоят, у Рима много преимуществ перед нами. Но у нас есть то, чего нет у Рима — сознание своей правоты против его силы, правоты, которая может в конце концов победить силу. Против его превосходства в числе легионов и их вооружении, у нас есть превосходство цели — мы боремся за жизнь, достойную человека. Если мы победим, это будет не только для нашего блага, но и на благо всех народов, страдающих сейчас под римским гнетом. Мы убеждены, что наша цель велика, и что если ее не достигнем мы, то достигнут другие — те из потомков, кого наш подвиг вдохновит на борьбу против тирании. А наш пример останется навеки в истории. И найдутся те, кто ему последует, придет их время, их черед, их слава.
Зачем я поднял это восстание?! Чтобы победить Рим? Или чтобы только показать рабам, что они могут быть свободными и сильными, если захотят?!"
После нескольких побед над римскими легионами Спартак решил вывести свою армию за пределы Италийского полуострова, за Альпы, чтобы оттуда его бойцы могли вернуться в свои родные края. Но тогда жители италийских провинций спросили: "А на кого ты, Спартак, покидаешь нас? Мы ведь пошли за тобой, потому что поверили тебе".
И рабы, которые родились здесь, на Италийском полуострове, и не имели другой родины, повторили то же самое.
И дезертиры — тоже.
Победы Спартака потрясли Рим.
Властители мира, которые привыкли к тому, что перед ними все трепещут, почувствовали, что и им есть чего бояться. Когда прошел слух, что Спартак направляется в Рим, даже гордые патриции испытали чувство страха, и тогда они поняли, что и римлянам свойственно то, что считалось позорным достоянием лишь рабов и угнетенных.
Когда Спартак узнавал о том, что его бойцы предавались грабежам в завоеванных ими городах, он испытывал огорчение и сомнения в том, можно ли изменить человеческую природу? Придет ли то время, когда бывший раб не захочет превращаться в насильника, если некому будет его остановить, в угнетателя, как только приобретет власть, в чревоугодника, если ему выпадет стать хозяином. Но в конце концов его сомнения отступили перед чувствами, которые роднили его с галлом Криксом, германцем Эномаем, с другими его лучшими соратниками и бойцами. В такие минуты он убеждал себя, что его опасения напрасны, хотя случаи насилия настойчиво говорили ему об обратном. Но он считал их единичными примерами, которые не должны подрывать веру в человека.
Вместе с победами, однако, росли самонадеянность и непослушание у ближайших помощников Спартака. Он лучше, чем они, представлял себе могущество и возможности Рима, и думал, что еще не время начинать прямое наступление на твердыню империи. Но они становились все нетерпеливее и настойчивее.
Раньше других отделился от Спартака Эномай со своими германцами. И вскоре его армия угодила в римский капкан. Германские легионы были разбиты, а сам Эномай — распят на кресте.
Вслед за Эномаем вышел из подчинения Крикс. Он сказал своим галлам: "Мы возьмем Рим, как брали и разрушали его наши прадеды". Но римляне заманили армию Крикса в Гарганские горы.
Спартак, узнав, что он окружен, поспешил к нему на помощь, но прибыл на поле сражения, когда оно уже закончилось. Галлы были уничтожены, но только четверо из них — убиты ударом в спину. На теле Крикса зияло множество ран...
Среди пленников, которых Спартак водил с собой в походы в качестве заложников на случай, если они ему понадобятся для обмена, было и триста сыновей видных патрициев. Сейчас пришла их очередь. Их разделили по парам и заставили сражаться друг с другом наподобие гладиаторов при погребении Крикса, которое совершилось с высшими почестями. Участие патрицианских сыновей в похоронном ритуале преследовало цель не только отомстить за гибель отважного галльского военачальника. Спартак хотел этим показать, что и властители мира могут стать рабами страха, если их поставить в рабские условия. И могут умереть храбрецами, если преодолеют страх.
Пусть эти юноши из знатных римских родов с роковым опозданием поймут, что они были надменными только потому, что некому было противопоставить что-либо этой их надменности. Стражники-рабы подталкивали их пиками и раскаленными железными наконечниками копий, заставляя сражаться друг с другом. И они стали участниками кровопролитной игры, которой не однажды наслаждались как зрители. Теперь, выйдя на арену борьбы, они поменялись местами с гладиаторами.
Глядя, как они убивают друг друга, Спартак мрачно торжествовал — обнажилось их душевное ничтожество, которое всегда было скрыто под маской гордости и патрицианского высокомерия. "Шесть веков должно было пройти, — думал Спартак, — чтобы вы стали патрициями, и достаточно лишь нескольких минут, чтобы вы перестали ими быть". Но он не стал выражать вслух свое презрение к ним. Оно недолго бы их тяготило, потому что им предстояло в скором времени искрошить друг друга на куски в честь погибшего гладиатора, который много раз встречался на арене со смертью, чтобы доставить им наслаждение.
Потом он укорил себя за то, что заставил этих патрицианских сыновей сражаться друг с другом потому, что ему легко было это сделать. Но тут же отбросил эту мысль, решив, что принуждение было необходимым: как возмездие за вековую вину прадедов и отцов перед покоренными народами.
Патрицианские юноши, которым рабы с копьями не давали выйти из круга, ранили и убивали друг друга до тех пор, пока не полегли все до единого возле погребального костра. Тем самым они внесли свою щедрую лепту в почетный ритуал на похоронах погибшего военачальника разбитых галльских легионов.
Так завершилось скорбное торжество на широкой лесной поляне в Гарганских горах.
Оставшись один, Спартак сказал вслух:
— Только это я сумел сделать для тебя, храбрый, благородный, верный Крикс. Лишь однажды ты не послушался меня, и это стоило тебе жизни.
После гибели Крикса и его легионов все военачальники Спартака поняли: такое постигнет каждого, кто от него отделится.
В армии Спартака было введено строжайшее единоначалие.
45.
Тем временем римский Сенат издал декрет, которым обещал после победоносного окончания войны с бунтовщиками свободу всем боеспособным рабам, имевшим возможность присоединиться к Спартаку, но не сделавшим этого.
Рабы, которых это касалось, предпочли терпеливое ожидание, которое могло и не принести им свободы, вступлению в армию Спартака, которое могло принести им гибель.
Сразу же остановился приток людей в армию Спартака. Потери ее росли, численно она постепенно уменьшалась...
Марк Лициний Красс всегда был в выигрыше. Даже там, где другие теряли, он приобретал. Если в каком-либо густонаселенном квартале, где живут плебеи, возникал пожар, он немедленно устремлялся туда. Огонь не успевал еще закончить свою разрушительную работу, но Красс уже успевал совершить свою — созидательную. Он являлся как благодетель к растерявшимся людям, придавленным своим горем, и за бесценок скупал земли на пепелище. Потом наскоро воздвигал там новые многоэтажные дома и пускал жить оставшихся без крова, заодно ссужая им деньги под большие проценты.
В результате пожаров, которые довольно часто происходили в Риме, Красс стал собственником больших кварталов в центре города. И как владелец домов и многих других богатств, он получил прозвище Богач.
Красс решил получить выигрыш и от войны со Спартаком, в которой Рим нес большие потери. Никто из крупных римских государственных деятелей не хотел брать на себя руководство предстоящей военной кампанией против армии мятежников. Потому что эта война считалась позорной для Рима, и военачальник в случае победы не получит триумфа. Но Марк Лициний Красс и тут нашел себе выгоду.
В меру способный и с достаточным военным опытом, чтобы стать опасным противником для Спартака, достаточно богатый, чтобы завоевать привязанность своих командиров щедрыми подарками, и не менее жестокий, чтобы заставить свою армию понять, что его устраивает только победа, он взялся довести до успешного окончания войну с рабами.
Он не ждал от этой войны почестей. Суетные атрибуты показной славы его не соблазняли. Он рассчитывал на большее, на то, чему только он один знал цену.
Децимация — обезглавливание ликторской секирой перед строем каждого десятого не применялась в римской армии уже более ста лет. Красс решил, что настало время, когда это забытое наказание сможет сделать полезное дело — помочь поскорее закончить постыдную войну, которая тянется уже более трех лет. Тут же, без всякого участия Красса, нашелся и благоприятный повод применить децимацию. Пусть бегство трех тысяч римских легионеров (остатки трех разгромленных и деморализованных легионов) послужит назидательным примером для всей остальной римской армии. Триста отрубленных голов убедительно покажут всем оставшимся на плечах головам, что Марк Лициний Красс страшнее, чем отчаянно храбрые гладиаторы и дерзкие дезертиры Спартака.
Подхлестнув армию этой моральной подготовкой, Красс немедленно начал преследование Спартака, который отвечал ему контратаками, после которых вновь отступал. Своими маневрами он наносил римлянам тяжелые потери, но вынужден был отходить, считаясь с численным превосходством армии Красса.
Спартак двигался к югу. Он решил переправиться в Сицилию, где еще не были забыты происходившие там в предыдущие десятилетия большие восстания рабов. В Сицилии Спартак думал организовать государство, которое, заключив союзы с Серторием и с Митридатом, будет впоследствии признано и другими державами.
Спартак договорился с киликийскими пиратами, чтобы они перевезли его армию на Сицилийский берег за золото, собранное им в победоносных походах. Пираты получили задаток золотом и после этого исчезли со всеми своими кораблями, тем самым решив завоевать признательность Рима. И действительно, Рим предоставил этим "труженикам" моря возможность еще какое-то время заниматься своим доходным ремеслом. Но потом положил этому конец. Благодарность вечного города не может быть вечной.
Нужно было возвращаться обратно на Север. Но там стояли легионы Красса. И снова Спартак должен был искать хитроумные ходы, чтобы, избегая больших потерь, двигаться в избранном направлении.
По приказу Сената из заморских владений в Рим прибыли имперские армии с самыми способными полководцами, чтобы окружить Спартака со всех сторон.
К Италийскому полуострову двинулись корабли с легионами Гнея Помпея из Иберии, где он закончил войну с Серторием, Лукулла Старшего, который заключил мир с Митридатом, — из Малой Азии, Лукулла Младшего — из Эпира.
У Спартака оставалось тридцать тысяч бойцов, и в ближайшем будущем ему предстояло сражаться с четырьмя, насчитывавшими двести тысяч воинов. Соотношение было один к семи.
Спартак привел свою армию в Брадан, где расположился лагерем. Уже несколько дней он отступал, ведя тяжелые бои.
Марк Лициний Красс не хотел, чтобы Помпей, Лукулл Старший и Лукулл Младший разделили с ним славу разгрома армии Спартака. Он спешил их опередить. Решение Спартака дать своей армии отдых было неожиданным для Красса.
Солнце клонилось к закату.
Спартаку казалось, что Красс будет наступать с трех сторон — во всяком случае так были расположены окружившие лагерь легионы.
Спартак собрал преториум, чтобы сообщить командирам план предстоящего сражения:
— Красс нарочно оставляет нам один выход — отступать. Он хочет, чтобы мы отступили, и тогда он ударит нам в тыл всей своей армией. Так он рассчитывает уничтожить нас, понеся небольшие потери. Если же мы не воспользуемся этой возможностью и дадим себя окружить, то он поймет, что мы решили биться до последнего. Что же он тогда предпримет? Со всех сторон подтянет свои войска и начнет сжимать обруч. Часть его легионов принудит нас защищаться, пока мы не будем окончательно истощены. Тогда он бросит на нас вторую половину, которую держит пока в стороне. И этим свежим легионам легко будет покончить с нашим, потерявшим силы, войском. Как помешать осуществлению планов врага? Мы тоже разделим наше войско. Легионы, составленные из одних рабов, останутся здесь, на месте. Я с дезертирами и гладиаторами буду атаковать левый фланг римлян. Красс подумает, что мы хотим совершить там прорыв и уйти в горы. Чтобы помешать этому, он повернет свой центр лицом к левому флангу, усилит его. Мы врежемся в это крыло, и сумеем привлечь к себе большинство когорт центра. Тогда оставшиеся в лагере легионы могут совершенно спокойно выйти из лагеря в заранее оставленный нам Крассом проход. Он будет настолько занят боем с нами, что не сможет активно этому противодействовать. Наверняка он снимет легионы с правого фланга и пошлет вдогонку уходящим. Но надо сделать так, чтобы он их не догнал. У них будет больше надежд спастись, чем у нас, поэтому мы врежемся в самое ядро вражеской армии. Если нам удастся продержаться до темноты и мы нащупаем где-нибудь слабое место в расположении римлян, может быть, и нам удастся уйти. И тогда мы все встретимся где-нибудь в горах.
— Спартак, ты ведь сам не веришь, что спасешься со своими людьми, — сказал фракиец Дизапор, командовавший остатками фракийских легионов. — Мы тоже пойдем с тобой и вместе погибнем!
Спартак повелительно поднял руку:
— Молчи, Дизапор! Клянусь Дионисом и всеми богами, я не позволю тебе вмешиваться в мои распоряжения. Только я имею здесь власть командовать и делать то, что считаю самым полезным для армии. А верю в наше спасение или нет — никого не касается. У тебя и других командиров, которые тут остаются, единственная забота — вывести своих людей из лагеря. Сейчас же начинайте строить легионы сообразно с этой своей задачей. Скоро это уже станет невозможным.
Марк Лициний Красс был хитрей, предусмотрительней и дальновидней, чем предполагал Спартак, хотя он и считал его опаснейшим из противников. Красс извлек уроки из предшествующих сражений со Спартаком, он уже знал его тактику в наступательном бою и понимал, что на сей раз применить эту тактику Спартак не сможет. Он окружен, его армия измотана, инициатива ему уже не принадлежит. У него нет ни времени, ни сил, чтобы осуществить нападение на противника. Сейчас ему предстояло расплачиваться за все примененные в прошлых сражениях хитрости, ставшие теперь достоянием противника.
Начался бой.
Дезертиры и гладиаторы Спартака направились несколькими параллельными колоннами в сторону левого фланга римлян. Крассу не трудно было понять, что Спартак не собирается совершать прорыва, чтобы вовлечь в него всю свою армию, — невозможно себе представить, чтобы он верил в успех этого безнадежного предприятия. Он просто решил пожертвовать собой и теми, кто не может рассчитывать на пощаду. И делает это для того, чтобы спасти легионы своих рабов, которых было большинство.
Так думал Красс.
Но Спартак и на этот раз поступил совершенно неожиданно для римлянина. Дезертиры и гладиаторы, которые шли в параллельных колоннах, перед сближением с противником собрались вдруг в один мощный клин. Значит, Спартак намеревался не только создать беспорядок во вражеском расположении, но и совершить прорыв. Красс был в недоумении. Но он тут же решил не оттягивать сил с центра для предотвращения этого прорыва. Даже если Спартак прорвется через боевые порядки римлян, ему не удастся уйти далеко, его все равно настигнут. Гораздо важнее уничтожить большую часть его армии, ради спасения которой он сделал отчаянную попытку отвлечь на себя главные силы римлян.
Красс приказал когортам всего правого фланга и большей части центра поспешить за начавшими отходить из лагеря легионами рабов, окружить и остановить их.
То, что произошло там, было уже не битвой, а резней. Всего шесть тысяч рабов сумели в темноте вырваться из сомкнувшегося за их спиной кольца.
"Мы совершим такое жертвоприношение богам, что они надолго его запомнят. И будут довольны нами, как никогда прежде", — подумал Спартак, представив себе, как будут погибать те, кого он повел за собой.
"Стоит умирать за свободу, когда есть с кем и для кого".
Эта фраза повторялась в его мыслях как рефрен, как осмысление всей его жизни в эти последние мгновения. И он выбирал для себя очередную жертву. И знал, что его конец тоже неизбежен.
Безысходность, в которой он оказался со своими лучшими когортами, пробудила в нем яростную решимость. Она передавалась всем его бойцам, и они в неудержимом порыве бросились вперед, чтобы пробить себе дорогу. Клину, нацелившему свое острие на левый фланг, оставалось совсем немного, чтобы прорубить последние ряды римлян. Но вся остальная армия Красса уже справилась с легионами рабов, которые пытались спастись бегством. Освободившиеся когорты были переброшены сюда, чтобы укрепить истончившийся фланг, и теперь воины Спартака были плотно окружены со всех сторон.
Спартаку и его соратникам оставалось лишь причинить как можно больше потерь противнику, прежде чем погибнуть. Они вращали мечами, нагромождая груды убитых наповал вокруг себя. Но на них накидывались все новые и новые легионеры. Битва началась после захода солнца, и ей еще не было видно конца, когда над самой линией горизонта поднялась огромная, кроваво-желтая луна.
Беспорядочный бой продолжался. Спартак уже не командовал. Преданные друзья прикрывали его со спины, а он повергал врагов на землю своим сверкающим мечом. Он зарубил нескольких центурионов и десятки воинов. Но все больше осознавал безнадежность борьбы, видя, что несмотря на всеобщий хаос, Красс все же командовал боем и стягивал кольцо вокруг последних сражавшихся гладиаторов.
К полуночи лишь вокруг Спартака осталось несколько отчаянных смельчаков.
Ему хотелось закричать: "Где ты, Крикс?! Где ты, Эномай?!"
Он меньше защищался и больше рубил, словно все неудержимее стремился положить конец своей недолгой жизни и, обозначив тем самым начало вечной славы. Это был порыв возвышенной самообреченности, воодушевление готовностью к жертве, полет к гибели.
Последние оставшиеся в живых соратники плотно обступили его, но он вырвался вперед и кинулся на ближайших к нему вражеских воинов. Они не узнали его в лунном свете и поэтому не попытались захватить живым, как приказал Красс. В жестокой схватке, в которой участвовало десять римлян против одного Спартака, он пал под ударами копий и мечей.
Только несколько уцелевших его соратников сумели спастись в этом последнем бою.
Марк Лициний Красс, усмиривший великое восстание рабов, распял на крестах вдоль Аппиевой дороги, ведущей из Капуи в Рим, шесть тысяч пленных для устрашения всех, кто когда-либо даже в мыслях дерзнет последовать их примеру. Адские страдания этих мучеников продолжались несколько дней. И вид этой зловеще украшенной римской дороги навсегда остался в памяти истории.
Люди воздают славу всем мученикам, погибшим за свободу, за правду, на благо человечества.
Спартак погиб единожды, чтобы жить во множестве лет, во множестве краев, во множество сердец.
Чтобы окрылять всех, кто борется за свободу, воодушевлять своим примером всех дерзких и отважных, вдохновлять людей красотой своей души, своим рыцарством, своим героизмом.
Потому что он дерзнул поднять рабов на властителей мира.
Потому что он хотел собственной кровью и кровью своих соратников смыть с человеческого рода позор рабства.
СЛОВНИК
Аксиос — река Вардар
Анкона — пристань на Адриатическом море
Аполлония — античный город близ современного Фиери (Албания)
Астибос — река Брегальница
Боспорос — древнее название Босфора
Брундизиум — город и порт в Южной Италии
Виа Игнация — путь от Дирахиума до Византии (позже Константинополь, ныне — Стамбул)
Декуманские ворота — ворота лагеря, в которые входят войска. Противоположные, обращенные к противнику, — преторианские
Декурион — чин в римской армии, иначе десятник — командир группы в десять человек
Децимация — обезглавливание каждого десятого по жребию
Дентелеты — фракийское племя, обитавшее в долине Верхнего Стримона
Дирахиум — Дураццо, Дуррес — город и порт на Адриатическом море (Албания)
Иберия — Испания
Иллирия — область на северо-западе Балканского полуострова и юго-востоке Апеннинского полуострова. К I в. нашей эры покорена Римом
Император — в Древнем Риме — почетный титул отличившегося полководца во времена республики
Капуа — город в южной Италии, знаменитый своей школой гладиаторов
Квестор — главный интендант
Киликия — область Малой Азии по ее Средиземноморскому побережью
Конклав — комната женщины в богатом римском доме
Контуберналий — юноша из знатного рода, адъютант полководца
Когорта — войсковая единица, насчитывающая до шестисот воинов, состоит из трех манипул
Кумы — город на берегу Тирренского моря
Ланиста — хозяин школы гладиаторов
Латифундия — крупное земельное владение в Древнем Риме
Лациум — область в средней Италии
Легат — командир легиона
Легион — войсковая единица, состоящая из десяти когорт
Магадида — струнный музыкальный инструмент у древних фракийцев
Манипула — войсковая единица, насчитывающая до двухсот человек, состоит из двух центурий
Меды — фракийское племя, населявшее долину Среднего Стримона
Мутина — древнее название города Модены в центральной Италии
Нестос — река Места
Патрон — знатный римский гражданин, покровитель зависящих от него клиентов
Пеонцы — фракийское племя, населявшее поречье Среднего и Нижнего Стримона
Пилум — копье с железным наконечником, весило около шести килограммов
Понтийское царство — государство в Малой Азии со сложным этническим составом, находилось под влиянием эллинской культуры, территория его простиралась до Восточного и Южного Черноморья
Понтос — река Струмешница
Понт Эвксинский — Черное море
Претор — полководец. Правитель провинции в Древнем Риме
Преториум — штаб полководца
Проконсул — бывший консул, посланный сенатом управлять провинцией
Пропонтида — Мраморное море
Проскрипции — списки лиц, объявленных Суллой вне закона
Самниты — италийское племя, проживавшее в Средней Италии. Самниты боролись во главе Союза италийских племен с Римом за господство на полуострове
Сиринкс — духовой музыкальный инструмент у древних фракийцев
Ситоны — южные соседи пеонцев
Стримон — река Струма
Тонжос река Тунджа
Трибун — военный трибун, чин в римской армии — один из шести командиров легиона
Триклиниум — зала в богатом римском доме, где хозяин принимал гостей и устраивал пиршества
Ускудама — город недалеко от нынешнего Адрианополя (Турция)
Хеброс — река Марица
Центурион — сотник, чин в римской армии, командир центурии
Центурия — войсковая единица численностью в сто человек
Эпир — область на западе Греции, в горах Пинд
ТОДОР ХАРМАНДЖИЕВ
Спартак — фракиец из племени медов
Издание первое
Редактор Румяна Букова
Научный редактор Ангелина Пенева
Редактор перевода Наталия Нанкинова
Художник Никифор Русков
Художественный редактор Богдан Мавродинов
Технический редактор Ари Калычев
Корректор Ирина Ерохина
Печ. л. 11
Уч. — изд. л. 9,24
Формат 32/84 х 108
Тираж 150150
Код 13/6257-22331/29-90
Цена 1 р. 60 к.
Издательство "Свят", София
Государственная типография "Балкан" — София
Издано в Болгарии
Примечания
1
Чешма — источник, отделанный камнем или деревом. (Здесь и далее примечания переводчика.)
(обратно)2
Дрога — продолговатый брус, соединяющий оси повозки.
(обратно)





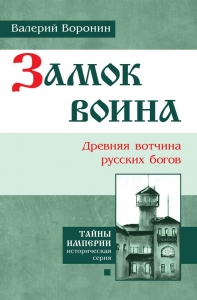

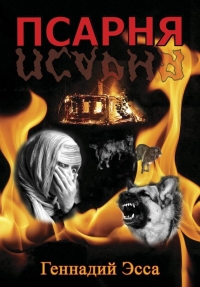
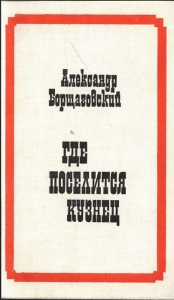

Комментарии к книге «Спартак — фракиец из племени медов», Тодор Харманджиев
Всего 0 комментариев