Октав Фере Четыре фрейлины двора Людовика XIV
Глава первая
Дурной год и плохая мода. – Трое влюбленных кавалеров. – Ночной вид квартала Мон-Оргейль.
В этот год – я говорю о 1680 году по Рождестве Христовом – монастыри Франции имели большой успех, так что Версальский двор едва сам не обратился в монастырь.
Появились разного рода страшные бичи, так например, появилась мания к отравлению, овладевшая большим светом и вызвавшая учреждение Уголовного Суда, осуждение к сожжению на костре Ла-Вуазен и допрос многих дворян, мужчин и женщин, имевших доступ ко двору. Только и было толку о какой-то комете, которая должна была разрушить наш бедный земной шар; а чтоб примириться с небом, вельможи, имевшие, как кажется, много оснований опасаться за свою душу, спешили раздавать свои имущества монахам, которые, не смотря на то, что проповедовали о кончине мира, все-таки принимали, вероятно, по духу смирения, эти тленные, но существенные богатства.
Сам великий король сделался вследствие этого задумчивым.
Выло известно, что он недолюбливал мысли о последней кончине до такой степени, что, не будучи в состоянии переносить вида колоколен церкви St-Denis, где ему был приготовлен склеп, он получил отвращение от своего С.-Жерменского дворца и велел себе выстроить новый в Версале.
Но одна только мысль, что эта ужасная комета угрожала разрушением всего его блеска, делала его хладнокровным к самому себе. Он переложил бы следующим образом стихи стараго Малерба:
И гвардия, охраняющая дворец Версаля, Не охраняет, однако, самого короля.Эта несносная комета напоминала ему знаменитую комету 1532 года, появившуюся перед смертью Луизы Савойской. Эта принцесса искренне говорила, что она появилась только для того, чтоб предзнаменовать это печальное событие – убеждение, ускорившее её агонию.
Двор был, следовательно, очень пасмурен; королева имела дурную привычку обижаться на то, что Король Солнце предпочитал ей всех её соперниц, хотя она и не отличалась ни молодостью, ни красивой наружностью. Это вызывало у неё почти постоянное дурное расположение духа. Она только что велела наглухо заделать самый удаленный и тайный вход в помещения её фрейлин, в Версальском дворце, чтоб этим помешать мародерству её знаменитого супруга.
Да к тому же настоящая фаворитка, г-жа де-Монтеспан, имевшая уже сорок первый год от роду – почти ровесница короля – чувствовала себя очень слабой вследствие трудных родов своего восьмого или девятого ребенка; эта слабость не могла, конечно, развеселить её нрава, обыкновенно сурового и упрямого.
Была ещё г-жа Ментенон, но, кроме того, что ей уже было сорок три или сорок четыре года, она, хитрячка, никогда вполне не выказывалась. Она сберегала свои прелести и свою благосклонность для монарха, а её любезность далеко не представляла безумной веселости.
Орлы христианского красноречия, Боссюэт, Флешье, Фенелон по очереди истощали в часовне Версаля сокровища своей энергии и своего дара утешать, примиряя их с редким искусством, за которое, впрочем, их не вполне долюбливали, самые строгие нравственные правила смирения, честности, евангельской непорочности со светским тщеславием.
Но все это не могло ещё восстановить обыкновенной живости и увлечения.
Однако подобное состояние не могло удовлетворить придворную молодежь, привыкшую к пышной, роскошной жизни, к тщеславным удовольствиям, дошедшим до крайности.
Самые бешеные из них по временам украдкой исчезали из Версаля и приезжали подышать воздухом Парижа, этого, по преимуществу, скептического города которому даже само разрушение и разные бедственные перевороты никогда не препятствовали продолжать пользоваться удовольствиями.
Там они ездили в театр, ресторан, играли в карты и кутили, как школьники, вырвавшиеся от присмотра учителя.
При таких то обстоятельствах, однажды вечером, в первых числах февраля, трое молодых людей шумно обменивались переполненными через край стаканами в одном из ресторанов квартала Монмартра.
Это были офицеры, как можно было судить по их блестящим мундирам, и все трое принадлежали к лучшим корпусам, – двое из них служили в королевском жандармском корпусе, один во флоте.
Ужин приближался уже к концу, хотя он и продолжался очень долго, так как это был дружеский кружок, собравшийся после долгой разлуки: моряк был в плавании, а жандармы дрались в Валансьене. Они собрались тут, чтоб иметь возможность задушевно приветствовать друг друга наедине, без женщин, без посторонних, так что никто не мешал их откровенной беседе и их излияниям.
Излияния эти были в полном ходу в ту минуту, как мы входим в кабинет, нарочно избранный для этого маленького празднества.
Все были оживлены, разгорячены, но никто не был пьян; что именно и нужно для живой беседы.
– Ах! прелестный вечер, господа, – сказал моряк. – Я редко чувствовал себя счастливее, и в таком состоянии, в каком вы меня видите, я всегда брежу о всемирном счастье.
– И все это, – сказал один из его друзей, улыбаясь, – из-за одного лишь взгляда женщины, украдкой уловленного в узком проходе!
– Видишь ли, мой милый Генрих, – возразил моряк, – вы все – слишком счастливые смертные, далеко не так цените эти маленькие блаженства, как я.
– Я протестую! – вскричал третий. – Мы не менее твоего, суровый старый моряк, чувствительны к благосклонностями, по крайней мере, что касается до меня, то я признаюсь в этом, не краснея, сколько бы я ни менял гарнизона, здесь всегда кто-нибудь заживет, – сказал он, ударяя себя в грудь.
– Знаю, знаю! Вы оба также влюблены! И по странному стечению обстоятельств, оба влюблены в двух прелестных красоток, подруг дамы моего сердца, и они вместе составляют трио, подобное тому, которое мы образуем в настоящее время.
– И они все три также красивы, осмеливаюсь сказать, как храбры мы все трое.
– Подруги короля, фрейлины его двора, как мы – братья по оружию и его офицеры.
– Шарль прав, – вскричал Генрих, – это совершеннейшая трилогия.
– И ты считаешь нас менее себя чувствительными к благосклонностям наших красавиц! – сказал Генрих.
– Я выражусь яснее, – сказал моряк, мысли которого, быть может, вследствие его профессии представляли серьезный характер, даже когда он говорил самым веселым образом, – вот что я хотел сказать: что, дыша одним воздухом с этими прелестными молодыми девушками, которые вас любят, и будучи в состоянии их видеть каждый день, близко подходить к ним, вы не знакомы с этой тоской по разлуке, причиняющей много забот, но также вы и не испытали сильных радостей при возвращении!..
– О, дорогой энтузиаст!..
Испустивший этот возглас не был однако ни менее его пылок, ни менее его восторжен, так как все трое обладали великодушными, горячими, храбрыми и влюбчивыми натурами, как это и подобает двадцатипятилетним мушкетерам.
– Подумайте же только, добрые друзья, что ведь я не видал мою дорогую Мари уже восемнадцать месяцев, с тех пор как я плаваю по морям.
– Да, это правда!
– И то в последний раз я видел её в этом старинном Руэргском замке, где живут нелюдимо семейства д’Эскорайлль и Фонтанж. Ей было всего семнадцать лет, и тогда уже была видна её чудесная красота, которою теперь все восхищаются и о которой все в настоящее время кричат!.. Ах!..
– Ну что же! Помилуй меня Бог, – сказал один из его собеседников, – ты сейчас вздохнул!
– Она находится на верху блаженства, – сказал шаловливо другой, – вот это уже нелогично!
– Это правда, но это невольно.
И точно какая-то тень промелькнула на его лбу.
– Ну, что это значит? Ты делаешься мрачным?
– Да, это безумие!.. – сказал он, понуря голову. – Что вы хотите, нельзя совладать с подобными впечатлениями… Я расстался с Марией Фонтанж, следовательно, около полутора лет тому назад, чтоб присоединиться к эскадре в Бресте, а месяц спустя, она поступила к принцессе Генриэтте, в качестве фрейлины.
– Да, на самом деле, такая фрейлина, которую великая княгиня может признать!
– Это правда, все правда… Но между нами нет тайн. Ну, так! я лучше бы желал, чтобы она оставалась в этом древнем замке, возвышающемся на хребте горы, где я её узнал, среди своего патриархального семейства и своих диких мужиков, чем среди вашего двора.
– Профан! – вскричал Генрих.
– Ревнивец!.. – пробормотал Шарль ему на ухо.
Молодой моряк пожал ему руку и в свою очередь пробормотал:
– Да, я этого боюсь, ревнив!..
Остальные двое обменялись быстрым и странным взглядом; на минуту смех замер на их губах. Они ничего не отвечали.
– Видите ли вы, – начал он опять, погруженный в свою страсть и свои тревожные мысли, – я ведь был так счастлив в продолжении тех двух месяцев, которые я провел в этом Руэргском замке! Я приехал туда не один на несколько охот на кабана, без всякого преднамерения, едва подозревая даже о существовании там молодой девушки.
– Романтическое приключение!
– Да, и из прекрасного романа!.. Мария Фонтанж явилась мне подобно лучезарному явлению. Ах! конечно, всё окружающее также тому много способствовало: это феодальное, дикого вида жилище, эти Руэргские и Овернские крестьяне с их строгой физиономией, меня самого удивившей, меня, только что вырвавшегося из степей своей милой Бретани! А потом, вокруг неё, такой молоденькой, такой свежей, такой белокурой, эти старые родители, о которых можно было подумать, что они нарочно вышли из какой-нибудь закоптелой комнаты, чтоб оттолкнуть!..
– И вот, как возникает любовь, сказал Генрих Ротелин, – давайте господа, выпьемте за здоровье любви?
– И ты полюбил прекрасную Марию, – сказал Шарль Севинье.
– Так же, как любите вы; ты, Генрих – Анаису Понс, ты, Шарль – Клоринду Сурди… Но ведь два месяца так скоро пролетели, и настало уже время отъезда: мой начальник эскадры, г-н Турвиль, вызывал меня в Лариен.
– По крайней мере ты не уехал, не заручившись прежде каким-нибудь знаком памяти, словом, обещанием…
– Да, я все это увозил с собой и, кроме этого, ещё преисполненное радости свое сердце, а потом вы уже знаете остальное: надо было драться и плавать до того блаженного дня, когда эскадра остановилась наконец отдыхать в Дюнкере, и я прилетел в Версаль.
– Где же ты увидал прекрасную Марию?
– Мельком только. Ах, какая ужасная вещь ваш двор со своим этикетом!.. Не будь там девицы Фонтанж, я не ступил бы туда ногой, гораздо более предпочитая свой корабль и службу на нем. Я стоял в галерее, когда проходил король, сопровождаемый принцессами, в свите которых находилась и моя дорогая Мария, сейчас же узнавшая меня и улыбнувшаяся мне. Вот и всё тут.
– То есть на нынешний день только, так как ты увидишь ее, сколько пожелаешь, стоит только тебе участвовать в охоте, где примет также участие и двор. Тогда мы отправимся по полям и лесам из Версаля в Медон, а из Медона в Марли.
– Ах! – сказал молодой моряк, снова вздыхая, – во сколько раз я предпочел бы одну из наших прогулок пешком, наедине, в Овернских горах!..
– За неимением подобной прогулки, – сказал Шарль Севинье, понижая голос, – Анаиса и Клоринда сумеют предоставить тебе четверть часа разговора с их подругой; положись только на них… О эти фрейлины, видишь ли, это женщины очень хитрые!..
– Следовательно, господа, я вполне доверяюсь вам.
– Хола! – вскричал Генрих Ротелин, взглянув на часы: – Однако одиннадцать часов!..
– Ну, что же! ничего ещё не потеряно. Пойдем ли мы туда, куда собирались? – спросил Шарль.
– Более чем когда-нибудь! – сказал моряк. – Я так мало времени могу пробыть в Париже, что желаю употребить его в пользу, посетив все его достопримечательности.
– А место, куда мы отправляемся, – возразил другой, – пользуется не последней славой.
– Обыкновенное явление для всякого запретного плода.
– Пойдемте, господа, застегнем наши пояса, да и в путь!
Они надели свое оружие, висевшее на стене, трактирщики подали им их шинели, и они втроем вышли на улицу.
А на самом деле, они все трое были прекрасные мужчины, имевшие горделивую осанку, удало носившие свои шляпы и попиравшие смелым шагом мостовую.
Впрочем, не было никого, кто бы мог за ними наблюдать.
Был сильный холод; улицы были пусты, единственные живые существа, встречающиеся на них, были быстрые тени, пересекавшие там и сям мостовую и исчезавшие в переулках и глухих улицах, пользующихся дурной репутацией, где даже в настоящее время, несмотря на всё великолепие великого царствования, кипели последние скопления дворов Чудес.
Квартал Мон-Оргейль, как известно, отличался этим уже с незапамятных времен, чего, благодаря его местоположению, не могли искоренить ни указы, ни надзоры.
Это легко понять, если только вспомнить, что за удушливые лабиринты были ещё в 1866 году на улицах Нищенства, Реаль, Мондетур, Лебедя, Вердере, Французской и других.
– Гей! – сказал один из наших ночных гуляк, указывая на пару силуэтов, забившихся при их приближении в угол одной из глухих улиц. – Вот, господа, если я не ошибаюсь, бездельники, ожидающие какого-нибудь приключения; они, однако, не считают нас достойной для себя дичью.
– Или, может быть, они боятся наших рапир, – ответил Шарл.
– Право срам, что во время самого прекрасного царствования в мире на мостовой короля встречаются подобные исчадия ада.
– Полно! мой милый, надо же, чтоб всякий жил, что касается меня, то я чувствую, что мое сердце в настоящую минуту полно снисходительности. Но в каком дьявольском вертепе живет, однако, ваш приятель, и по каким дорогам, Бог мой, нужно пройти, чтоб его найти!
– Дело в том, что ведь это не одна из лучших местностей Парижа. Немного терпения! Вот мы уже пришли на улицу Харангери – ещё десять шагов, и мы дойдем до нашей цели.
– Харангери – верное название! – сказал моряк. – Вы меня ведете не по улицам, а по каким-то клоакам. Честное слово, при моей кочевой жизни я никогда много не изучал Парижа, но я об этом также нисколько не сожалею – разве только из любопытства.
– Любопытство и развлечение, милый друг! – сказал Шарль. – Тут есть всё; я вызываю для соревнования с ним какую угодно другую столицу. Зато, когда его изучишь, попробуешь его жизнь, то, конечно, никогда не пожелаешь более с ним расстаться.
– Однако король в нём не живёт?
– О! король останется королем! да и потом, будь сказано между нами, как в отношении резиденции, так и в других вещах, наш монарх немного непостоянен.
– Говорите все, что вам будет угодно, господа, но я не променяю блестящей палубы своего корабля и чистого и вольного морского воздуха на эту грязную мостовую, эту удушливую атмосферу ваших переулков, где даже яркость прекрасной луны, блистающей там вверху, едва заметно.
– О! о! если б прекрасные глаза, одной нашей знакомой тебя об этом попросили!
– Я в свою очередь попросил бы эти прекрасные глаза следовать за мной… Я – окончательный дикарь; дворцы меня пугают; я чувствую себя стеснённым среди всего этого придворного этикета. Вот я например, вчера едва мог уделить четверть часа времени, чтоб поехать засвидетельствовать свое почтение моей прекрасной и милой двоюродной сестре, госпоже де-Кавой, статс-даме принцессы.
– Напрасно, такой роднёй нельзя пренебрегать, а как женщина она достойна всякого уважения.
Прибавим, между скобками, что замечание это было весьма основательно, так как, всецело погруженный в свой исключительный идеал и думая только о Марии Фонтанж, Ален, избегая свою двоюродную сестру, лишался в ней одной из наиболее к нему расположенных помощниц. Но что хотите вы от влюбленной двадцатипятилетней головы.
– Вот мы и пришли, прервал Генрих, а вот и дом.
Они вышли на перекресток пяти или шести маленьких улиц, и над кучей домов всего заметнее выдавалась своею величиною мрачная неправильной архитектуры церковь Сен-Жак де-ла-Бушери, над которой возвышалась ещё высокая башня. Они собирались уже перейти площадь, чтоб дойти до указанного дома, как вдруг перед ними на пути что-то зашевелилось между двумя тумбами. Это был нищий, стоящий на костылях и до такой степени разбитый, что с большим трудом мог немного выпрямиться.
Глава вторая
Человек на костылях. – Подозрительный дом. – Дама в мантии. – Надушенный платок. – Услуга за добрый совет.
При виде этого нищего, вытянувшегося и охающего, гуляющие остановились в изумлении.
Это было первое живое существо, которое они встретили во все время своей продолжительной прогулки, исключая некоторых теней на улицах Монмартр и Мон-Оргейль. Но последние только проскользнули мимо них, даже не подходя к ним.
– Подайте Христа ради… – заговорил однообразным тоном нищий, принужденный прислониться к одной из тумб, чтоб протянуть им свою шапку, а другим плечом опереться на свою обыкновенную подпорку.
– Клянусь вам! – божился Генрих Ротелин, – это весьма странное место и время для собирания подаяния!
– Бедный, немощный, без пристанища, добрые господа! – начал опять нищий.
Моряк опустил руку в карман и совсем протянул её уже, чтоб кинуть монету в двенадцать су в его шапку.
– Подожди, милый друг, – сказал Шарль Севинье, удерживая его руку, – этот бездельник напоминает мне висельника.
– Как вы жестоко относитесь к бедному народу!.. – промычал плаксивым голосом старик, разглаживая жалобным движением свою длинную, седую бороду.
– Оставь же, друг мой, – сказал моряк, бросая свое подаяние в его засаленную шапку, – будь он миллионер, то он не просил бы милостыни в этом углу и в такой холод; а потом двенадцать су никогда никого не разорят.
– А могут принести счастье тому, кто их подает, – сказал нищий.
– Черт возьми! – воскликнул Севинье, – вот наглый мошенник! Отчего ты не идешь ночевать в приют Добрых Бедняков?
И он сделал угрожающее движение, которое было остановлено молодым моряком.
– Ты это напрасно делаешь, – вмешался Генрих Ротелин. – Видишь ли, милый друг, ты не знаешь Парижа; он населён бездельниками, которых вместо того, чтоб подавать им милостыню, надо бы бить палками. Чтоб очистить от них улицы, король велел выстроить приюты и ночлежные дома; но эти мошенники боятся почему-то туда показываться.
– Очень строги вы к бедному народу, ваше благородие, – промямлил старичок, отодвигаясь однако осторожно, так как боялся, что, пожалуй, за угрозой последует действие.
– Пойдемте, господа, – возразил моряк; – мы слишком медлим по пустому, оставим этого несчастного. Ступай спать, старик, и не вступай ни с кем в ссору.
– Да поможет вам Господь Бог! – отвечал этот последний.
Но он не ушел со своего места, как это ему советовали, а следил глазами за тремя молодыми людьми, идущими по площади.
Луна ярко освещала это пространство, её живой и ясный свет отчетливо обрисовывал их профиль и выказывал все кривизны, неровности и живописные покатости различных древних построек.
Квартал был беден, очень тёмен; большая часть этих домов были одноэтажные, а самое большое двухэтажные. Нигде не виднелось ни одной полосы света сквозь окна со ставнями в виде косоугольных стеклянных дверей, придерживаемых свинцовыми желобками и принадлежащих к средним векам.
Тот дом, к которому направлялись наши искатели приключений, стоял среди других; он был узенький, мрачный и скромной наружности. К косой двери с потемневшими дубовыми вставками вели три шероховатые ступени. Слуховое окно, проделанное на верху, было заграждено прочной решеткой.
Видя, что они направлялись именно туда, хромой вдруг оставил свое гнездо и, взяв костыли под мышку, пошёл за ними следом такой быстрой походкой, что немного недоставало, чтоб он их перегнал. Кто его видел и слышал две минуты тому назад, никак не мог бы предполагать, чтоб он отличался таким проворством.
Севинье, шедший впереди, взошёл на ступени и, взяв молоточек, постучал им несколько раз. Он немного подождал; ответа не было.
– Все спят, – сказал он.
Он уже брался за молоток, чтоб снова начать стучать, как вдруг услыхал легкий шум, остановивший его руку.
Отворялось слуховое окно.
– Кто стучит? – спросил шёпотом голос.
– Королевские дворяне, отворяйте смело.
– Покажите мне белую монету, хотя и не большую; отверстие кружки находится там над калиткой.
– А! а! понимаю!.. – сказал молодой человек, улыбаясь; – сюда даром не входят.
– А времена слишком тяжелы, чтоб верить в кредит каждому, – прибавил голос.
– Возьмите, мой друг, и вы получите ещё втрое, если отпустите нас отсюда довольными.
Он просунул сквозь указанное окно луидор в двадцать четыре ливра.
– Хорошо, – сказал опять невидимый собеседник, – я вас сейчас впущу, только я вас предупреждаю, что хозяин занят приятным обществом, и поэтому надо вам будет немного подождать.
– Отворяй, проклятый болтун, мы подождем; а то у этой двери можно замерзнуть.
Незнакомец наконец решился; он прежде всего затворил окно; потом заскрипели задвижки, и дверь немного приотворилась; именно настолько, чтоб посетители могли войти один за другим.
– Что за предосторожности! – сказал со смехом морской офицер; – для входа в эту адскую дверь делают более церемоний, нежели в двери рая.
Генрих Ротелин также в свою очередь прошел в калитку, и моряк, последовав за ним, собирался уже вступить на первую из трех ступеней.
Но вдруг он почувствовал, что его что-то удерживало и с удивлением обернулся. Это был старый нищий, осмелившийся совсем приблизиться к нему и удерживавший его за полу его шинели.
– Что это значит? – спросил он его резко.
– Господин, – сказал хромой со странной настойчивостью в голосе, – прошу вас, не входите туда.
Всё это было настолько странно, что молодой человек не захотел тотчас же, как бы это сделал во всяком другом случае, силою отделаться от этого странного и надоедливого человека.
– Что тебе нужно, старик? – спросил он.
– Дом этот приносит несчастье, сударь; умоляю вас, – продолжал настаивать старик, – не входите в него.
– А! нет, это уже слишком сильно… Или ты сумасшедший, или до дерзости смел… Ну-ка, пусти меня; я этого хочу. – Сильным движением он действительно заставил его выпустить свою шинель и взошел на две ступени; но на третьей он увидал, что один из костылей нищего загораживает ему путь к двери.
– Ты наконец, – сердито сказал он, – выводишь меня из терпения!
Он хотел уже схватить длинную палку, сделанную из крепкого дерева и обитую железом, но с новым изумлением заметил, что её держала рука никак не менее сильная, чем его.
– Нет!.. – глухо, но выразительно сказал нищий, – месье Ален де Кётлогон, вы туда не войдете!..
Невидимый привратник, подождав несколько минут и видя, что никто более не входит, затворил наконец дверь.
Молодой моряк не обратил на то внимания; а живо сошел со ступеней и, обращаясь к своему собеседнику, вновь уже принявшему свой вид хромого, вдвое ещё согнувшемуся и хныкавшему, вскричал:
– Ты произнес мое имя! Каким образом ты его знаешь?… Откуда ты его узнал?
– Это вас не касается; я вас знаю, этого достаточно; даю вам честное слово бродяги, что я не желаю вам зла.
– Я в Париже только с сегодняшнего дня.
– Умоляю вас, не теряйтесь в догадках. Примите добрый совет, хотя он и исходит от нищего. Еще раз прошу вас, не входите в эту трущобу: она может принести вам лишь одно несчастье, что она и сделает всем тем, которые туда покажутся.
– Вот как! Но если ты имеешь такие хорошие сведения, то ты должен знать, что я иду туда только для развлечения…
– Да, – пробормотал нищий мрачным голосом; – но есть лица, которые отправляются туда искать нечто другое.
– Ты меня выводишь наконец из терпения, разве ты шпион, назначенный для того, чтоб ходить по моим пятам? Воображаешь ли ты, что я это потерплю?
– За вами следить? Зачем это!..
– Это правда. Но тогда?..
– Слушайте, ваше благородие, так как вам непременно нужны объяснения, то почему вы не начнете с самого естественного: вас сейчас было трое, вы одни подали мне милостыню, несмотря на грубое обхождение со мною ваших товарищей. Благодеяние никогда не пропадает даром, и я предлагаю вам услугу за ваше подаяние; я снова клянусь вам, хотя вы и не можете этого оценить, что мой совет умен!
– Хорошо! но это мне не объясняет еще, откуда ты знаешь мое имя?
– Ба! разве мы, при нашем ремесле нищенства и бродяжничества, не всех знаем?
Молодой человек покачал головой, мало удовлетворившись ответом.
– Наконец, зачем же ты упорствуешь, пытаясь твоей самовольной властью, преградить мне вход в это жилище.
– Потому что, – отвечал нищий, понижая все более голос и бросая украдкой взгляд вокруг себя, – потому что это притон ядов и отравителей!
– Г-м… – сказал моряк, честный и выразительный взгляд которого с невольным отвращением направился на черную дверь. – Сюда, следовательно, входят не из одного любопытства и развлечения, как я с друзьями, чтоб погадать только о судьбе, или желая расстроить чью-нибудь свадьбу?
– Если б только для этого, то я, желающий вам добра, – более добра, нежели вы, быть может, думаете! – бросился ли бы я так смело поперек вашей дороги? Нет, ваше благородие, место это роковое, скверное… поверьте моему слову, Уголовный Суд кончит тем, что в один прекрасный день предаст его пламени вместе со всеми его жильцами.
– О! о! ты говоришь с уверенностью… А мои друзья, попавшие в этот вертеп… Я сейчас их оттуда уведу.
– Тише!..
– Что там еще?
Нищий, окончательно хромавший только в свое время, быстро взял свои костыли в одну руку и, притянув молодого человека под навес в угол соседнего дома, сказал:
– Смотрите и пользуйтесь!..
Ален Кётлогон, – это было действительно его имя, как он и признался в том, – позволил отвести себя и сообразовался с его указаниями, испытывая на себе, не отдавая сам себе в том отчета, вследствие самих обстоятельств и полной неожиданности влияние этого странного проводника.
Черная дубовая дверь снова отворилась, но оттуда вышли не Генрих с Шарлем, а какая-то женщина.
Она была совершенно закутана в длинную мантию, капюшон которой спадал очень низко на её лоб и имел, вероятно, целью защищать её не от одного только холода.
Ее провожал мужчина, с которым она обменялась последними словами.
– Вы можете идти спокойно, – сказал он, останавливаясь на верху ступеней, – место пусто и безопасно!..
– Это меня не беспокоит, – отвечала она тихим голосом, но обнаружившим сильное волнение, – а беспокоит меня то, что я уношу с собою!..
– Повторяю вам, что это неминуемо… безошибочно!.
Этим и кончилось. Дверь затворилась, а дама быстрым шагом перешла всю ширину перекрестка и, вошла в одну из соседних маленьких улиц, где ей стоило наложить только руку на замок двери одного из соседних домов, как дверь этого дома открылась. Оба наблюдателя ясно увидали эту уловку из своей засады. Полнолуние прекрасно им помогло.
– Что все это означает, и кто такая может быть эта женщина? – спросил молодой моряк.
Она так близко прошла от них, что её мантия даже их задела, но в своей поспешности она не могла их заметить.
– Посмотрите, – сказал нищий, показывая кончиком одного из своих костылей на потерянную ею вещь, сходя со ступеней.
Ален наклонился и живо её поднял:
– Платок!
– Послушайте меня, сохраните его бережно.
– Он без букв, без вензеля… Он ничего не доказывает.
– А благовоние, исходящее от этого батиста?
Ален посмотрел с новым удивлением на своего собеседника, который, видя себя предметом удивления, принял снова уничиженный вид и свою походку хромого.
– Чёрт возьми! ты очень опытен и очень хитер!.. Да, это мода дня, каждая из этих дам претендует иметь свое собственное благовоние, свои собственные духи и, благодаря этой фантазии, можно узнать их соседство, их приближение, их проход, не имея даже нужды их видеть… Если бы я встретился с потерявшей этот платок, я отличил бы её из сотни.
– Эти духи привезены из Испании и одни из самых нежных, – заметил старый нищий с видом знатока: – А так как я в духе давать добрые советы, то храните эту находку для себя… для себя одного.
– Но, – продолжал молодой человек, – увижу ли я ее?… А если я её увижу, то к чему мне может это послужить?
– Все сгодится в этом свете, – произнес поучительно его проводник.
– Ты, вероятно, поклялся служить мне живой загадкой?
– Нет, ваше благородие, я ни в чем не клялся, я нищий. Слова мои не стоят четырех су; только просто вы мне понравились; мне доставляет удовольствие быть вам полезным в чем-нибудь.
Приключение было, конечно, не из обыкновенных. Как ни старался мнимый хромой обмануть нашего молодого героя, но тем не менее он должен был возбудить его любопытство даже уже тою уверенностью, с которой он при первом взгляде назвал его по имени.
– Итак, – спросил его Ален, – ты окончательно не станешь объяснять мне яснее все твои загадочные слова?
– Честное слово бродяги, мне нечего более вам сказать.
– По крайней мере, что это за подозрительный дом, куда вошла она эта прекрасная дама с видом обычной его посетительницы?
– Подозрительный – на самом деле, это его настоящее название. Это просто уютный и приветливый приют, удобный для любовных дел, где всякий легко находит себе гостеприимство, конечно, за наличные деньги.
– Следовательно, это женщина легкого поведения?
– О! легкого… да, в некотором роде; но этот приют служит ей только на сегодняшнюю ночь проходом. Дом этот имеет два выхода, второй из них выходит на улицу, идущую параллельно этой, куда эта дама и выйдет; там её ждет коляска с вооруженными гайдуками, которые проводят её до её собственного и настоящего жилища… Если б мы не потеряли времени в разговорах, мы поспели бы вовремя, чтобы вполне насладиться этим зрелищем.
– Боже мой, это очень жаль!
– Ба! Да кто же знает? Быть может, вы её встретите раньше и скорее, нежели вы это думаете!
– На этот раз, друг мой, я полагаю, что не все гадатели находятся в этом доме сомнительной наружности; так как мне кажется, что ты должен быть по крайней мере одним из них.
– Я!.. Боже мой!.. Я не колдун, я только наблюдатель.
– Как тебе угодно; я ничуть не желаю к тебе придираться. Я пойду, постараюсь вытащить из этого вертепа моих запоздавших друзей; а чтоб тебе в свою очередь доказать свою признательность, я также дам тебе хороший совет. Мне кажется, ты занимаешься на мостовой Парижа опасным и дурным ремеслом, перемени его, поверь мне, или ты, наверное, в один прекрасный день кончишь виселицей.
– Да, вы скоро решаете, ваше благородие, но здесь, на земле, делаешь то, что можешь, а не то что хочешь; я – хромой и, по тысячу и одной причине, я должен остаться хромым.
– Как хочешь; но я об этом сожалею… В тебе есть задатки.
– До свидания, ваше благородие.
– До свидания? – повторил молодой человек вопросительным голосом.
– Ба! почем знать, быть может, мы ещё раз встретимся.
– Стой, ты мне внушаешь желание… Вот, возьми за твои труды. – Он ему протянул золотую монету.
– Нет, благодарю… достаточно уже того, что вы мне дали… Я вас попрошу кое-что другое.
– Что такое?
– На вашем корабле находится маленький юнга? Жан Гольфа.
– А, мой любимец!.. Бедный малый, я его принял, когда его отец, негодяй, был сослан на каторгу в Тулон, где он, кажется, потонул в одной из переправ.
– Ну так, ваше благородие, продолжайте быть добрым к этому маленькому юнге… мы будем квиты… И ни одной живой душе не говорите о поднятом вами сейчас платке, даже вашим самым верным друзьям, г-дам Севинье и Ротелину, которые сейчас находятся там.
В ту минуту, когда молодой человек хотел схватить за руку этого странного нищего, чтоб принудить его, волею или неволею, объясниться точнее, шум отворившейся черной двери заставил его обернуть голову. Это возвращались Генрих и Шарль, очень удивлённые тем, что молодой моряк не находится с ними, а потому, сократив свой сеанс, они пошли осведомиться о нем.
– Что с тобой случилось? вскричали они, заметив его при лунном свете стоящим перед домом. – Не овладело ли вдруг тобой сомнение?
– Подождите, – сказал он, – подождите…
Прежде чем им отвечать, он хотел увериться в своем нищем, но последний исчез с проворством белки, унося свои костыли на плече.
– Клянусь честью, господа, – сказал он тогда, – невозможно, чтоб беседы, за которые вас заставили там платить очень дорого, были бы столь же интересны как те, которыми я пользовался тут задаром… Ах! я буду долго об этом помнить!..
И он осторожно уверился, что надушенный платок всё ещё лежал в его кармане.
Глава третья
Ремесло чёрта. – Что происходило в высшем свете. – Наследственный порошок и чудесная помада.
И трое друзей продолжали снова свой путь по тому направлению, по которому они пришли, решившись переночевать эту ночь в одной из гостиниц церкви св. Евстафия.
Кётлогон шел молчаливо, очень озабоченный.
– Ради Бога, мой дорогой, – вскричал Ротелин, – объясни нам, почему ты ушел украдкой из нашего общества и допустил нас одних войти в этот дьявольский вертеп, куда мы шли с единственной только целью, чтоб тебя посвятить, по твоему же желанию, всем редким достопримечательностям столицы?
– Я нисколько и не желаю утаивать от вас, господа, это и послужит извинением моей невольной неучтивости, – сказал молодой моряк, выведенный из своей задумчивости.
– Ты, может быть, встретил кого-нибудь?
– Если только это!.. Я имел целых две встречи.
– О! о!..
– Вы сами будете сейчас судить, заслуживали ли они моего внимания.
– Мы слушаем со вниманием, но, пожалуйста, ускорим шаги: я нахожу, что холод усиливается и ветер очень резок!..
– Ну, что же! закутаемся в наши плащи.
– Позволь, нельзя нам очень-то закутываться; если пускаешься в ночную прогулку в нашем дорогом Париже, то благоразумно постоянно держать руку у рапиры, чтоб не позволить застать себя врасплох…, Человек, слишком хорошо закутанный, всегда находится в опасности.
– Ты не имеешь ещё понятия о дерзости и о всех проделках нищенства и их товарищей – ночных воров и грабителей. На вас нападут, окружат, вас похитят, унесут вас в один миг и на другое утро, если вас не вытащут утонувшим в реке, то вас поднимут полу- или совершенно мертвым в глуши одного из предместий, лежащим между двумя заборами, точно издохшую собаку, всего обобранного, даже без нижнего платья.
– Если в этом только и заключаются все чудеса вашей просвещенности, – сказал Ален, улыбаясь, то я более, чем когда либо, предпочитаю мой корабль в море. По крайней мере имеешь удовольствие драться с морскими разбойниками пушкой или топором.
– Да, конечно, но также и неприятно, имея хорошую шпагу под рукою, прогуливаться в этих живописных кварталах, дуть грабителей, осмеливающихся вас останавливать и даже подирать уши полицейским и караульным, если они на вас косо посмотрят.
– Это княжеское удовольствие… Кстати, мой милый Ален, – прибавил Севинье, – я имел несколько раз случай наслаждаться ими со старшим братом короля. Так продолжай, пожалуйста, твой рассказ.
– Рассказ этот один из самых успокоительных, господа, и самых чудесных. Вы можете завернуться свободно в ваши плащи. Никто вас не обидит: мое присутствие вас охранит.
– А! а! шутка хороша!
– Да я вовсе не шучу. Я приобрел, черт знает откуда! – расположение к себе какого-то чудака, который, кажется, занимает почетное место в разряде грабителей.
– Не наш ли уж это давешний хромой?
– Именно. Этот бродяга, который хромает не больше, чем мы с вами, полюбил меня и прочел мне нравоучение… и так красноречиво и так длинно, что я никак не мог вовремя присоединиться к вам. Вообразите, это действительно странно, что чудак меня знает, назвал меня по имени и говорил мне об юнге, который у меня на корабле. Как вам нравится это приключение?
– Чудесное, клянусь честью! Эти мошенники имеют со всеми тесные связи, Бог знает где! Ах! если б они служили при полиции, то она была бы тогда лучше! Они всё знают, всё видят и везде находятся! Я не боюсь высказывать того, что, по настоящему ходу дел, лучше иметь их за себя, нежели против себя.
– Да и притом это гораздо смешнее, – заключил моряк.
– Но ты говорил о двух каких-то встречах? – спросил Севинье.
– Я приступаю к другой; и твоя знаменитая мать, мой милый Шарль[1], могла бы пожертвовать параграф в своих восхитительных письмах для описания всего этого. Скажите мне прежде всего, господа, были ли вы одни в этом подозрительном доме, куда я за вами не последовал?
– Мы там никого не видали, но привратник, впуская нас туда, предупредил нас, что хозяин его занят какими-то гостями.
– Об этих то гостях я и хотел поговорить с вами.
– Ах! друг мой, Жак Дешо, содержатель этого вертепа, человек весьма осторожный. Этот дом разделен на отделения таким образом, чтоб люди там не скрещивались и не встречались бы друг с другом. Многие из его клиентов не остерегаются ему признаваться; все происходить там скрытно.
– Так что, вы не имеете никакой приметы о той особы, которая была там перед вами?
– Никакой.
– Следовательно, я хорошо сделал, оставшись здесь, так как я имею о ней гораздо лучшие сведения.
– Если дело того стоит?…
– Судя по разговору моего бродяги, это не маловажное дело; дама эта не первая встречная.
– О! о! речь идет о даме.
– Которую мне даже суждено снова увидать, как сказал мне это нищий.
– Гей! какой же драгоценный человек этот плут; на твоем месте, я не отпустил бы его, не узнав предварительно, где можно его снова увидать.
– Что я и намеревался сделать, но ваше возвращение дало ему случай исчезнуть.
– Жаль, хотя, в сущности, не смотря на всю прелесть этого приключения, советую тебе быть настороже. Эта встреча доказывает, что все эти плуты ходят по твоим следам; этой породе нельзя доверяться.
– Что же касается до дамы, то весьма интересно было бы узнать её точнее и знать также её цель… У этого Жака Дешо производится совершенно дьявольское ремесло.
– Именно так, что мне и сказал мой нищий. Но вы, в свою очередь, что вы там узнали?
– Сверхъестественные вещи: мошенник, очевидно, показывает все в более мрачном виде, чтоб произвести более впечатления. Впрочем, он ничто иное, как копеечник, как и все гадальщики его, товарищи.
– Если поверить всем его россказням, – прибавил Шарль Севинье, – то, пожалуй, можно велеть себя зарыть живым.
– Значит, он вам предсказал очень зловещие вещи?
– Такие, что нельзя и верить! Откровенно, говоря, ты хорошо сделал, что не вошел туда, потому что я держу пари, что, судя по его действиям, он предсказал бы тебе смерть.
– Как! так мрачно!
– Всеобщая похоронная процессия, говорю же тебе! Если верить ему, то ни Генрих, ни я, ни наши возлюбленные не увидят января 1681 года, этот 1680 год похоронит всех четырех… И всё это нам стоило два луидора. Что ты на это скажешь?
– Щедро заплачено. Счастье, что вы приняли это предсказание, как и следует – весело.
– И ручаюсь, что наши милые дамы, m-elles де Сурдис и де Понс, посмеются от души.
– Друзья мои! – сказал Ален. – Если б мне предсказали подобные вещи, то я не решился бы рассказать что-нибудь из этого моей невесте. Эти молодые девушки имеют впечатлительное воображение. То, что нас заставляет смеяться, может их обеспокоить. Поверьте мне, давайте сохраним про себя все эти мало забавные истории.
– Он прав, как и всегда! сказал Севинье.
– Мы ни слова не шепнём нашим красавицам, – заключил Ротелин. – Лучше даже, чтоб они ничего не знали об этом приключении. Что же касается до Жака Дешо, то это настоящий плут, площадной лекарь, если не хуже еще.
– Быть может, фабрикант наследственного порошка[2]? – спросил Ален.
– Что-нибудь в этом роде. Он предлагал нам свой товар с таким лицемерным видом, который показался мне подозрительным.
– Значит, это верно, что отравления в настоящее время в порядке вещей, что они совершаются без стыда и угрызений совести.
– Слишком верно, мой дорогой Ален. Полученные признания нашими властителями камеры Арсенала полны такими страшными открытиями, что большую часть из них не смеют опубликовать.
Они касаются даже таких важных особ, что само правосудие останавливается с ужасом, прежде чем доходит до них.
Маршал Люксембург должен был предстать пред судом в прошлом месяце в Арсенале, и давно настала уже пора, чтоб он представил доказательства своей невинности, так как начали уже поговаривать о том, что его бросят на костер, ещё дымящийся от Ла-Вуазен, с которой он имел сношения.
– В чем же его обвиняли?
– В том, что он отравил свою любовницу, некую девицу Дюпен, и своего родного брата для того, чтобы, как говорят, выручить какие-то важные бумаги, затерявшиеся в их руках.
– И он с честью вышел из этого дела?
– Без сомнения, – просидев предварительно под арестом три недели в Бастилии, в темнице шести шагов ширины. И после того как был принужден объявить, что, будучи влюбленным без памяти в Дюпен и не будучи в состоянии завладеть ею, он купил у Ла-Вуазен любовный напиток, чтоб заставить себя полюбить[3].
– Но если он избавился, то графиня Суассонская была только наполовину столь счастлива.
– Прежняя фаворитка!
– Это совершенно новая история. Графиня обвинялась в том, что отравила своего мужа и ввела в дело любовные напитки, чтоб снова привлечь к себе короля, который уже с давнишних пор оставил ее. Предупрежденная самим королем об угрожавшей ей опасности, она не дождалась тайного повеления о своём аресте.
«Если вы невинны, – велел ей сказать Людовик XIV, – то отправляйтесь в Бастилию, если же вы виновны, то воспользуйтесь моим советом, покиньте государство».
Графиня отвечала, что она невинна, но что она не может выносить мысли о тюрьме. Она бежала во Фландрию, а на этой недели продали её должность обер-гофмейстерины при дворе королевы.
– Я возвращаюсь к своему слову, – сказал Ален, – ваш город Париж – самый противный город; выходки, и поведение вашего двора мне нравятся всё менее и менее.
– Какая ужасная вещь, господа, эта мания к отравлению! Не знаешь более, кому доверяться; кто мало-мальски имеет пылкое воображение, тот подозревает всех на свете!
– О! вы меня не долго здесь удержите; ещё раз увижу мою дорогую Марию и возвращусь на море… Но, по совести, смейтесь надо мной, если хотите, я уезжаю не без беспокойства; я был бы только тогда счастлив, если б мне было позволено заключить предполагаемый нами прежде брак и увезти её с собой… подальше от всего того, что я здесь вижу и узнаю.
Он был прав, честный бретонец: то, что происходило в этом развращенном свете, было в высшей степени гнусно.
Арсенал действовал безостановочно; каждое заседание приводило к самым неожиданным, самым ужасающим открытиям.
Казни, назначаемые для того, чтоб подать пример и вселить весь ужас посвященным в науку ядов и их торговлю, следовали одна за другой. Священник Лесаж, одна погибшая женщина, Ла-Вигуре и её брат после допроса были сожжены на Гревской площади. Лесаж был более всех других виновен; он соединял разные святотатственные обряды с торговлей ядов и покровительствовал разврату людей, обращавшихся к нему. Он доходил до такой мерзости и так унижал священные реликвии, что мы совершенно отказываемся даже писать об этом.
Король, после своего милостивого совета графине Суассонской, должен был еще, во избежание скандальных прений, тайно изгнать: герцогиню Бульонскую, президентшу отеля Рамбулье, госпожу Полиньяк, обвиняемую в отравлении одного слуги, в скромности которого она хотела убедиться; госпожу д’Аллюэ, подозреваемую в том, что она избавилась тем же способом от докучливого свёкра.
Среди всеобщего оцепенения, возбуждённого этими открытиями, случались однако обстоятельства, в высшей степени забавные. Рассказывали, например, о попытке, сделанной при дворе маршалом Ферте, когда он узнал, что следствие было направлено против его жены.
– Может быть, – сказал он королю, а это может быть занимает не последнюю роль в этом деле; – может быть, герцогиня попала в какие-нибудь из тех погрешностей, о которых мужья бывают всегда менее уведомлены, нежели другие; но что же касается до отравления, то, если б она была на них способна, я верно бы уже не существовал, по крайней мере лет двадцать.
Этот довод показался государю непреодолимым, а супруга маршала, виновная лишь в ветрености, заплатила за это только несколькими неделями изгнания.
Ла-Вуазен составляла всё, что только она могла узнать: наследственные порошки, снотворные средства, любовные напитки, разные косметики, придающие молодость, всякого рода специфические лекарства.
Так напр., герцогиню Фуа арестовали по одному только открытию простой записочки, написанной её рукою и найденной у этой мошенницы; однако смысл этой записки был один из самых темных и, казалось, никак не мог служить оправданием в уголовном обвинении. Представитель правосудия, не будучи в состоянии вполне понять её смысла, счел нужным, как говорят, по счастью, уведомить об этом короля. Но последний не захотел сажать в тюрьму такую знатную даму по столь слабому обвинению. Он пожелал сам допросить её в своем кабинете, куда её и привезли в её собственной карете, под поручительством гвардейского капитана. Хроника Эль де-Бёф передает следующим образом их пикантный разговор.
– Узнаете ли вы эту записку, герцогиня? – сказал король серьезным, но сладеньким голосом.
– Государь, она написана моею рукою; я не могу и не хочу этого отрицать.
– Чудесно! Теперь, скажите мне, пожалуйста, с той же откровенностью, что означают эти слова: «Чем более я тру, тем менее они растут»?
– Ах! государь, – вскричала герцогиня, падая к его ногам, – пощадите меня от подобного признания!
– Я этого не могу, сударыня; знайте, что я вас призвал к себе для того, чтобы спасти вас от публичного стыда; это побуждение дает мне все права на ваше доверие: в интересах вашей же чести, я приказываю вам говорить.
– Я повинуюсь, государь! – начала она, дрожа и краснея до корней волос. – Вот уже два или три года, как я замечаю, что мой муж мною пренебрегает после того, как он меня часто упрекал в одном недостатке… нет, я никогда не осмелюсь докончить.
– Продолжайте, герцогиня.
– Есть прелести, – начала снова обвиняемая, худая, как гвоздь, – которыми природа оделяет щедро одних женщин, а в отношении других оказываешь себя скупой…
– Продолжайте, прошу вас.
– Государь, муж мой любит только тех, которых природа щедро оделила всем…
– Оделила чем?
– То, что ещё более возвышает прекрасное сложение г-жи Монтеспан[4], и что, напротив того, недостает г-же Лавальер… как и мне государь.
– Ах, понял! – вскричал Людовик XIV, извиняясь в недостатке проницательности, слишком продолжительной. – И я вижу, – продолжал он, – что вы просили у Ла-Вуазен…
– Помаду, о которой она рассказывала много чудес, – прибавила г-жа Фуа, опуская глаза, – но которая мне не принесла никакой пользы.
– Это было несчастье, но не преступление, и я в восхищении, герцогиня, что избавил вас от стыда делать подобное признание в уголовном суде. Я возвращаю вам несчастную записку, причинившую вам два часа беспокойства; вернитесь спокойно в ваш отель. Я вижу здесь виновного только одного вашего мужа, пренебрегающего такой хорошенькой женой, как вы, я об этом поговорю несколько слов с герцогом. Есть более удачное средство, чем то, которое вы испытывали, чтоб получить от самой природы то, чего вы искусственно добивались; мы поговорим об этом с вашим мужем.
Наивная и доверчивая герцогиня, в свою очередь, отделалась одной этой исповедью.
Но общественное мнение успокаивалось с трудом. Арсенал продолжал действовать все под тем же именем уголовного суда и суда ядов.
Время от времени обнаруживались новые факты, доказывающие без всякого сомнения, что Ла-Вуазен и Лесаж оставили по себе последователей.
Эти новости, переданный Алену Кётлогону его друзьями, заставили его призадуматься.
Против его воли, мысли его клонились к сближению этой истории ядов с личностью таинственной женщины, украдкой ускользнувшей, с такими предосторожностями, из дома Жака Дешо, подозрительного фабриканта гороскопии и всяких мазей.
Он старался удерживаться, чтоб не сообщить о своей находке платка и чтоб тем по духам платка не открыть довольно точные указания на его владелицу. Шарль и Генрих были так хорошо посвящены во все женские придворные дела, что им достаточно было бы лишь незначительной приметы о даме с опущенным капюшоном, чтоб они могли уже указать на нее.
Но в его глазах просьба старого нищего держать в тайне эту находку, была так важна, что у него достало силы противостоять искушению, и он вошел в свою комнату, не подвергшись ему.
Глава четвертая
Придворные красавицы. – Красавица из красавиц, – Падение фаворитки. – Ущерб королю. – Заговор девиц.
На другой день, с головой немного освежённой сном, Ален с восходом солнца в обществе своих двух верных друзей отправился в Версаль.
Когда придворные фрейлины не соперничали из-за какого-нибудь прекрасного дворянина или пленительного мушкетёра, они устраивали у себя настоящее франкмасонское общество, подававшее им взаимную и преданную помощь в их незначительных сердечных делах.
Любовь и её интриги играли большую роль в их занятиях; вся жизнь их была наполнена этикетом, а хитрость и уловки составляли их специальность.
Двор притом не был монастырём, и царство г-жи Ментенон, не достигшее еще, не смотря на всё своё величие, того, чтоб приобрести много с этой стороны, ещё не наступило.
Главные приятельницы девицы Фонтанж были Анаиса де-Понс и Клоринда де-Сурдис, любимицы гг. Севиньё и Ротелина, гордившихся ими, не смущая тем этих милых девиц, которые сами далеко не скрывали, что имели двух обожателей в лице этих двух кавалеров, породивших много завистниц.
Мария де Фонтанж имела ещё и третью подругу, также фрейлину при королеве, бывшую до тех пор поверенной её самых задушевных тайн, не исключая даже самой важной её связи с Аленом де-Кётлогоном.
Это была Урания де Бовё, одна из самых обожаемых любимиц очаровательного рая, окружающего принцессу, вокруг которого безостановочно жужжала целая стая самых пленительных и обольстительных бабочек.
В этом маленьком шаловливом и хитром мире рассказывалось тихо в то время много всевозможных любовных похождений и самых странных и интересных историй.
Охлаждение короля к г-же Монтеспан проглядывало с каждым днём всё яснее; повторяли даже, что оно занимало не последнюю роль в числе уже подробно рассказанных обстоятельств, к которым его величество выказывал вообще мало участия.
Гордая и надменная фаворитка не выносила даже мысли о кратковременной неверности своего августейшего раба. В этом отношении его сильно сдерживало опасение за происходящие за тем сцены и брани, так что он скрывался довольно редко.
Однако король скучал, это было ясно. Он более не подходил с тою же страстью к своей фаворитке, не потому, чтоб её прелести ему надоели, но потому, что её здоровье имело несносные перепады. Одной из самых почетных черт характера этого государя, мало однако замеченной, было в высшей степени врождённое отцовское чувство.
Он имел от Марии-Терезии шестерых детей: трех девочек и трех мальчиков; он имел двух от мадемуазель де Лавальер; а теперь ещё семерых и от г-жи Монтеспан[5], мы уже не будем говорить о других, разбросанных им повсюду. Он выказал себя щедрым к этому отродью, даже до скандала, расточая в недрах супружеской неверности этим детям, письма, узаконения и указы об уплате их долгов, настоящих и будущих.
Кажется, что он только и любил своих любовниц в уважение их положения матери семейства, и должно быть г-жа Монтеспан была в отношении к нему очень дерзка, что он не принял даже большего в ней участия, видя её болезнь.
Монтеспан однако утешала себя, что это только кратковременное охлаждение, и, прибегнув к обыкновенным средствам Фавориток во время подобного кризиса, она думала, что Людовик XIV, если она закроет глаза на некоторые из его прихотей, вернется к ней ещё нежнее, как это уже случалось прежде не раз.
Вследствие этого она придумала заставить промелькать перед его глазами молоденьких девочек, имеющих, как она это предполагала, только красоту молодости, но неспособных приковать себе на долгое время внимание такого великого государя.
Она при этом забывала, желая действовать хитростью, что молодость имеет также свою прелесть, и что самый славный государь состоит из тела и костей.
Однако сначала уловка удалась, слишком даже удалась!
Король, прогуливаясь однажды один в своих оранжереях и теплицах, – где Лёнотр с редким искусством рассаживал из драгоценных растений, цветов и кустов, роскошные зимние сады, – король встретил такую хорошенькую девочку, что остановился ослепленным.
Он, Король-Солнце, он пленился с первого же взгляда, – и кем же, как вы думаете? – молоденькой садовницей.
Писатели, рассказывавшие его летописи, не упомянули об этом приключении, – но самое интересное и было в том, что они должны были бы в большом затруднении признаться, что его величество понапрасну вздыхал около неё, так как эта девочка была разумна и нравственна.
Тем хуже для того, кто будет на то претендовать, – но мы, пишущие эту историю в туфлях и халате, совсем не приневоливаемся к ложной стыдливости наших осторожных и скромных собратьев.
Это было, кажется, первая неудача в этом роде, понесенная великим королем, – можно себе представить, как он был ею оскорблен!
Тогда он обратил взоры в сторону своих фрейлин, этого веселого, живого и разукрашенного стада, куда он никогда понапрасну не протягивал своих сетей, где даже хвастались его малейшим взглядом.
Урания Бовё, без её ведома отправленная на встречу короля, потому что казалось, что хорошо видели, так как это действительно было, – что она не имела ни честолюбия, ни хитрости, не замедлила быть отмеченной этим новым пашой.
Он улыбнулся, она покраснела; – он заговорил, выказав себя совершенно торжествующе.
Победа, казалось, была одержана, он более уже не колебался, а потому оставил свои пустые Фразы и слишком неясные слова и перешел к обыкновенно непреодолимому разговору.
О, удивление!.. девица Бовё, казалось, ничего более не понимала.
Любезный монарх, не веря ни своим глазам, ни своим ушам, думал, что он не довольно ясно высказался, а потому прибегнул к выражениям, не допускавшим двусмысленности.
Это было настойчивое, горячее объяснение, именно какого и заслуживала восхитительная фрейлина; каково же было его удивление и необыкновенное изумление! Вместо простого да, наклона головы, пожатия руки, чего так сильно просили полушепотом с какой-то душевной тоской и трепетом первой любви, девица Бовё на всё это сделала низкий реверанс, не вложила своей маленькой ручки в протянутую ей королевскую руку и отвечала, не без волнения, но голосом, выражавшем непоколебимую решимость:
– Вы, ваше величество, слишком снисходительны; я ценю себя беспристрастнее и вернее; я вовсе не заслуживаю той чести, которую вы, государь, желаете мне оказать.
– Можете ли вы так говорить, сударыня!.. Смотрите, даже в настоящую минуту ваша скромность прибавляет ещё лишнюю прелесть к вашим очарованиям.
– Государь, вы меня смущаете, но хотя и говорят, что нет ничего невозможного для короля, умоляю вас, не стесняйте меня более вашими слишком любезными разговорами, так как вы не в состоянии меня склонить на ваше предложение.
– Как, королю, просящему у вас только самой ничтожной частицы вашего сердца и предлагающему вам взамен этого овладеть всем своим сердцем, вы отвечаете только одним отказом!
– О! государь, – сказала она улыбаясь, – если б г-жа Монтеспан вас услыхала!..
– Она бы преклонилась сама пред очарованием и молодостью.
– Вполне ли вы убеждены в том, ваше величество?
– Вы жестоки, сударыня, нельзя было ожидать так много суровости от этих двух столь прекрасных глаз и такого крошечного ротика.
– Опять умоляю вас, государь, это не суровость, ни жестокость, я готова пожертвовать своею жизнью для спасения или для славы вашего величества, но во всей этой слишком даже лишней благосклонности я ничего более не вижу, кроме простой учтивости с вашей стороны; не разочаровывайте же одну из самых преданных вам подданных.
Все это было произнесено с грацией, смягчающей строгость выражения, но с выражением решимости, доказывающей некоторую силу характера.
– Значит, я должен отчаиваться? – сказал Людовик XIV, отступая.
– Непременно, государь.
– Не смотря на то, что вы выдаете себя за искреннего друга короля, вы без всякого сожаления и стыда причиняете ему сильное огорчение?
– Я испытывала бы гораздо больший стыд и большее сожаление, если б приняла страсть, на которую отвечать я не в состоянии, и выказала бы чувство, которое мне никогда не позволит испытать одно лишь благоговение пред вашем величеством.
– Вот благоговение, которое сделает меня очень, несчастным!
– Не верьте этому, государь, соблаговолите только обратить ваше внимание на прохаживающихся там личностей, в глубине большой галереи: ваше величество тотчас же найдет там прелести, заслуживающие более внимания, нежели мои, и сердца, которые, сами не отдавая себе в том отчета, уже сильно за вас бьются.
– На самом деле, – сказал монарх, уязвленный наконец столь сильным сопротивлением и считавший, что для поддержания своего достоинства не должен позволять себя долее мистифировать эту простодушную восемнадцатилетнюю девушку, – вы очень может быть правы, сударыня, я не простил бы себе если б поколебал столь твердую добродетель.
– Я пойду поздравить с этим вашу обер-гофмейстерину.
Все это произошло в боковой гостиной, смежной с большой галереей и комнатой Людовика XIV в Версальском дворце.
Двери были открыты, везде был народ, можно было видеть тех личностей, о которых говорила девица Бовё.
Но, по всегдашнему придворному обычаю, как только замечали короля разговаривающим с кем-нибудь дружеским образом, тотчас же скромно удалялись, без всякого принуждения; этот разговор, происходивший перед картиной Ле-Брён, недавно только что поставленной в гостиной, имел вид простого рассуждения о живописи.
Впрочем, этот государь привык очень мало говорить с мужчинами в собраниях, где находились женщины, он приберегал свою любезность и свой ум для последних.
Г-жа Монтеспан находилась в галерее, где, хотя и выказывала притворную живость и развлечение с окружавшими её придворными, но все-таки не теряла из виду двух действующих лиц этой маленькой комедии.
При виде идущей к ней фрейлины, совершенно красной, но без замешательства, и читая со своим обычным искусством в чертах короля какое-то принуждение и неудачу, плохо скрываемую улыбкой, она всё поняла.
И тогда, подходя к ним, чтоб сократить им половину дороги, она сказала:
– Ну, что же! Согласились ли вы в достоинствах этой картины?
– Это невозможно, – отвечал король; – у нас не одинаковые понятия насчёт живописи; девица Бовё и я понимаем искусство совершенно различным образом.
– Ах! как? неужели, дорогая Урания, вы так мало ещё походите на куртизанку? – сказала Фаворитка голосом, выражавшим легкий упрек, но вместе и признательность к прелестному ребенку, не пожелавшему стать её соперницей.
– О! маркиза, – отвечала фрейлина, – я уверена, что его величество не будет на меня сердиться за такую безделицу.
– Нет, сударыня, – сказал вежливо король, – и я весь к вашим услугам[6].
Сердце женщины представляет собою бездну противоречий; г-жа Монтеспан чувствовала крайнюю необходимость развлечь короля; с этой-то целью она и выставила девицу Бовё, а вместе с тем она была бесконечно признательна этой последней за то, что она разрушила её план.
Однако надо было обратиться к каким-нибудь другим мерам, очем она немедленно же стала думать, имея все тоже убеждение, что менее опасно натолкнуть короля на подвластное ей лице, чем позволить ему вбить себе в голову какую-нибудь другую страсть, ей неизвестную.
Пока все это затевалось, Анаиса Понс и Клоринда Сурди искусно устраивали тайное свидание своей подруге Марии Фонтанж в покоях принцессы Генриэтты с влюбленным моряком.
С помощью такого любезного содействия, Ален Кётлогон проник во внутрь этого гарема так же легко, как если б он обладал лампою Аладдина.
Глава пятая
Храбрый на войне – плохой куртизан. – Золотое сердце и серебряное сердце. – Голос сирены. – Первый ливень.
Ален Кётлогон, о котором могут подробнее узнать, если потрудятся поискать его историю и его доблестные деяния в наших воинских летописях, был молодой флотский офицер, родом бретонец; служба его шла хорошо.
Он недавно только был причислен к морскому корпусу; не будь у него этой бретонской суровости и отвращения к пустым формальностям и к рабскому этикету, он получил бы уже повышение и заслуженные почести. Но, как он и сам признавался, он в этом отношении был настоящим дикарем; его гордый характер возмущался против всяких поклонов; он даже не хотел воспользоваться влиянием своей двоюродной сестры Луизы Кавойской, которая желала только ему услужить.
И в настоящий раз, не желая выставлять свои права в почтительном прошении, он оскорбил раздавателя милостей, г-на Сейнелей, и когда Шарль Севинье просил эту надменную личность отдать справедливость заслугам его друга и не обижаться на его придворную неопытность, то Сейнелей отвечал:
– Кётлогоны слишком горды; чтоб обращаться с какой-либо просьбой к такому вновь пожалованному дворянину, как я; пускай же они сами собою выходят в знать.
Но наш герой очень мало заботился об этих дурных умыслах, его храбрость должна была сама его возвысить, даже против его желаний, а в то время он имел только одну честолюбивую мысль, это снова увидать прекрасную Марию и сохранить обещанную друг другу любовь.
Надо сказать правду, что эта фрейлина принцессы Генриэты была прекрасна как ангел.
Послушайте, что говорит летописец Эль-де-Беф о её поступлении к этой принцессе, свояченице Людовика XIV:
«Туда-то явилась в одно прекрасное утро и предстала перед взорами знатока-короля девица Анжелика-Скорайль де Рувиль-Фонтанж, дочь одного дворянина Руэргской страны. Эта девица, которой ещё не минуло восемнадцати лет, была одна из самых очаровательных блондинок, которую можно только себе представить: нежность её черт соединяется со строгой их правильностью; самый лучший атлас не может, разве в ущерб себе, равняться с её кожей, и розы показались бы вялыми при оживленном блеске её цвета лица».
Не будем слишком долго на этом останавливаться; мы не в состоянии подробно познакомить читателя с нашей героиней, а вот что говорит о ней знаменитый автор Записок и Разсказов[7]).
«Мария – Анжелика Скорайль-де-Фонтанж была привезена г. Пейером, лейтенантом короля в Лангедокской провинции, а герцогиня Арпажонская доставила ей место у принцессы. Двор, в то время изобилующий красавицами, ничего ещё до сих пор не видал, что могло бы сравниться с великолепием и красотою девицы Фонтанж».
«Цвет её лица был цветом самой совершенной блондинки; блеск её глаз уменьшался той интересной томностью, которая, не обещая много ума, обещает однако много нежности. Её крошечный ротик, её восхитительно-прекрасные губы, все её правильные черты представляли картину тех граций, которым старина дала определительное название благопристойных и простосердечных. Её волосы, говорили, впадали немного в рыжеватый оттенок; это недостаток, но он так легко поправим, чтоб казаться белокурой со столькими прелестями. Её прекрасный рост был немного выше среднего и придавал ей полную достоинства походку и осанку королевы».
«Характер её был самый кроткий, а её расположение духа немного задумчивое. Все, упоминавшие только об этом, согласны большею частью в том, что её ум не соответствовал её красоте».
«Он был так обыкновенен при дворе, о нем судили так хитро и так деликатно среди дам и царедворцев, что легко понять, что молодая особа, воспитанная на краю государства, могла остаться неизвестной с этой стороны; и если б аббат Шуази (в своих Мемуарах, дополняющих историю Людовика XIV) смотрел на вещи с этой точки зрения и более снисходительно, то он не сказал бы так жестоко, как он это сделал: «Что она была хороша, как ангел, но глупа как пробка.»»
Пребывание при дворе, полтора года разлуки, делали Марию ещё пленительней в упоённых глазах её жениха; так как тихонько в своих прогулках по горам и степям, наши неопытные влюбленные, молодая владелица, удаленная от всякого любезного соседства, и молодой бретонец, решительный и верный, как и все его племя, друг пред другом поклялись обвенчаться.
– Дорогая Мария! – вскричал Ален, как только что увидал её, – позвольте мне на вас смотреть, вами любоваться!.. вами восхищаться!..
Он покрывал её руки поцелуями, а глаза его не имели достаточно жара, чтоб смотреть на нее.
– Как вы прекрасны!.. Боже мой, как вы хороши!..
– Дорогой Ален, – сказала она своим благозвучным голосом, – я так счастлива!.. О! как я страдала третьего дня, когда, сдерживаемая этикетом, я должна была пройти мимо вас, молча, как будто вас там не было!
– Значит, вы все ещё меня любите, Мария?
– Фи! разве об этом спрашивают!.. Но я ведь знаю все, что только вас касается, Ален, я знаю наизусть историю ваших прекрасных действий; я часто о них говорю и горжусь ими.
– Ах! вы поклялись свести меня с ума от счастья!..
– Но, скажите мне, друг мой, – опять начала она, становясь более серьезной и разглядывая его мундир, – каким же образом случилось, что вы не получили, не смотря на всю вашу храбрость и отличие, ни чина, ни даже никакого ордена.
– Ба! почем я знаю?.. Немного было гордости с моей стороны, немного нежелания со стороны главного флотского начальника. Мы, бретонцы, не любим гнуть спину!..
– Отчего выходит, что вы заслуживаете награды, а другие их получают.
– Я этого не отрицаю… Что из этого!.. У меня одно только честолюбие, это делать добро, равно как я завидую только одному счастью, это вашей любви.
– О! в этом отношении, вы хорошо знаете, что вам нечего более желать. Но если у вас нет честолюбия, то я его имею за вас.
Она выпрямилась, произнеся эти слова голосом гордым, почти надменным, и улыбка её пурпурных губ уступила место спесивому выражению, которого он у неё никогда не видал.
– Зачем, – спросил он, возбужденный этим преобразованием, – зачем принимаете вы вид королевы, чтоб сказать мне это?
– О! королевы!.. – сказала она, улыбаясь уже на этот раз, но той улыбкой, которую он также ни разу у неё не видал.
– Моя милая Мария, – вскричал он, – что с вами?..
Он снова схватился за её руки, точно опасаясь, что она от него может ускользнуть, и надеялся этим только способом её удержать.
Она не защищалась, позволяя ему брать свои маленькие, волшебные ручки; он их целовал с благоговением, наблюдая за ощущениями, выражавшимися на её лбу и в её глазах, и, – влюбленные всегда ведь очень чутки, – он нашел, что она не отвечает, как он того бы желал, на его тихое и страстное пожатие.
– О чем же вы думаете, Мария?
– О ком могла бы я думать, когда вы здесь, и даже, когда вас тут нет, неблагодарный, как только о вас?
– Дорогой ангел, извините мою докучливость, мои сомнения, они происходят от избытка моей к вам любви… Просветите меня… В вас что-то происходит… Вас занимает какая-то мысль, но к ней примешивается чувство, которого я не могу определить.
– Не сейчас ли я говорила вам о ней!.. Я бы желала, чтоб вы были так же честолюбивы, как я сама для вас.
– Какое безумие!
– Вы называете это безумием?
– Можно ли назвать это чем-нибудь другим.
– Конечно, мой друг, это возвышенное и серьезное стремление… Я желаю иметь право гордиться человеком, которого я люблю; я желаю, чтоб мне завидовали.
– Вы правы, Мария, – сказал он в неопределенном оцепенении, опуская её руки и почти бледнея. – Вы стали честолюбивы… Одного счастья для вас более уже недостаточно… Неужто это пребывание при дворе вас так изменило?
– Изменило?…Нет… Я все та же.
– Простая и наивная молодая девушка старинного Руэргского замка?
– Всё та же.
– Ах! дай-то Бог! – пробормотал он, к счастью, довольно тихо, чтоб она не могла его услыхать.
– Узнайте меня хорошенько, мой дорогой Ален, не судите ложно о моем характере, отдайте себе отчет, что все мои намерения имеют предметом только вашу славу.
– Моя слава, – сказал он кротко, – заключается в том, чтоб вас любить.
Она продолжала, не обратив внимания на это замечание.
– Когда вы явились к нам в замок, вы были одним из самых благородных, самых молодых наших гостей, ваше достоинство ярко проглядывало, о вас шел тогда только один общий голос, что ваш чин, уже довольно значительный для молодого человека ваших лет, открывал вам доступ к самым высшим должностям.
– Понимаю… вы любили того офицера, которого в шутку называли будущим адмиралом…
– Ах! пожалуйста, различайте мои слова, ничто вам не доказывает, чтоб я вас полюбила, если б вы представили единственное только одно это достоинство.
Он провел рукою по лбу, покрытому почти ледяным потом.
– О мой Боже!.. – сказал он:
И он не докончил.
Она угадала, что происходило в нем; тогда она в свою очередь взяла одну из его рук и сжала её в своих:
– Ален, я вас люблю…
Нелегко приходить в себя при потере такой дорогой мечты. Страсть, которую он хранил в глубине своего сердца в продолжении двух лет, не угасает, как лампа при первом дуновении.
Прежде чем покинуть всякую надежду и всякое доверие, удерживаешься за волосок последнего обрывка.
– Разве это не доказывает мою к вам любовь, – продолжала очаровательница, – если я желаю вашего блага, вашего величия?… Как я живу среди придворных, из которых самый достойный стоит на сто футов ниже вас, – я вижу как на них щедро сыпятся почести, чины, производства, а вы, жертвующий своею кровью и своим достоинством, вы вдруг останетесь позади, станете их подчиненным!.. Нет, мысль эта для меня невыносима. Я требую, чтоб человек, имя которого я буду носить, был бы равным с самыми спесивыми, если он их ещё не опередил!..
– В самом деле, – вскричал он под влиянием самых смутных мыслей, придерживаясь однако более тех, которые льстили его нежности, – вы меня сделаете честолюбивым!..
– Этого-то я и хочу!.. так как вас нужно подстрекать, а вы меня любите. Ален, вот какою ценою вы можете получить мою руку: вернитесь ко мне начальником эскадры.
– Хорошо ли вы об этом подумали!
– Да, и не с сегодняшнего только дня.
– Мария, Мария, ваши виды меня пугают.
– Я мечтаю о моряке, о бретонце!
– Нет! возлюбленная.
– Вы уже отступаете?
– Чтоб вам понравиться и вам служить, я буду способен на всё… Когда-нибудь я вам это докажу… Но я так боюсь вас потерять!
– Вы окончательно ревнивы?
– Да… с час тому назад!
– И ревнуете к кому? великий Боже!
– О! к сопернику, которого я страшусь более всех других.
– Сделайте одолжение, скажите его имя, милостивый государь! – сказала, она, улыбаясь.
– Имя его – самолюбие!
Она заметно выказала недовольную мину.
– Отчего вы не скажете – гордость?
Он замолчал; вероятно он соглашался, что это было настоящее название овладевающей его невестою страсти и сильно возрастающей в её голове.
– Довольно, мой друг, будьте благоразумнее, а в особенности подумайте хорошенько… Вы не можете на меня сердиться за то, что я желаю славы для вашей будущности, потому что я сама хочу над этим потрудиться.
– Вы, Мария!?
– Конечно, двор вас пугает, его общество, его требования, его обычаи вас беспокоят, вас тревожат. Ну, что же! Вернитесь на море, служите королю, от которого исходит всякая милость, который всем повелевает, который решительно в полной своей власти держит и почести и милости; здесь, я буду трудиться для вас, восхвалять ваши заслуги; я буду говорить… я буду интриговать, если даже это понадобится… и я достигну.
– Ах! как ваши планы меня пугают… как бы я лучше желал навсегда поселиться с вами в вашем старинном отцовском замке, или где-нибудь на хуторе в моей прекрасной Бретани…
– О! в таком случае не надейтесь, что-либо от меня получить. Вы родом бретонец, но я уроженка Рютеньиз; мы оба очень тверды в наших решениях… И как бы вы меня поблагодарили со временем!.. Нет, решено: вы вернетесь начальником эскадры.
– Хорошо, я сделаю все возможное; но до этого увижу ли я вас еще?
– Да… Сперва завтра, на той охоте, куда вы приглашены; а потом на следующий день.
– Чтоб окончательно проститься.
– Решено.
Они обменялись поцелуем, потом расстались, так как тихо явилась Анаиса де Понс, объявляя, что г-жа Монтеспан просит к себе девицу Фонтанж.
Глава шестая
Охота, на которой охотятся кое за чем другим, чем за оленями. – Уловка настоящей Фаворитки. – Она сеет на слишком хорошей почве. – Мраморный идол.
Читатель уже предугадывает, вероятно, с какой целью г-жа Монтеспан, после своих неудавшихся видов на молоденькую садовницу и девицу Бовё, желала иметь разговор с Марией Фонтанж.
Настоящая фаворитка, фаворитка лишь по названию, имела полное доверие к себе самой и верила в собственное достоинство. Она желала доставить королю мимолетные развлечения и радовалась заранее, что нашла именно то, чего желала, красота фрейлины была неоспоримо привлекательна, но её холодность, недостаток живости ума и хитрости, который приписывали ей, судя по её наружности, делали её безопасной. Маркиза Монтеспан была её родственницей и, много содействовав её выгодному назначению к фрейлины принцессы Генриетты, она выказывала ей сильную дружбу.
– Идите же, кузина, – сказала она ей, целуя её в лоб, – чтоб на вас можно было посмотреть и вас побранить.
– Меня побранить?.. – проговорила смущенная фрейлина, боясь, что её свидание с Аленом стало уже известным.
– Ну, что же! крошка моя, – продолжала маркиза с улыбкой, – достаточно одного дружеского слова, чтоб вас привести в смущение… Да, я хочу вас побранить, но только по дружбе.
– О, маркиза, я хорошо знаю, насколько вы ко мне добры.
– Еще добры, чем вы можете это предположить. Однако же я должна вас упрекнуть в том, что вы меня почти забываете.
Девица Фонтанж вздохнула свободно и, будучи спокойной от природы, что другие люди, судя поверхностно, считали за холодность, она вновь вооружилась полным своим присутствием духа.
– Извините меня, маркиза, – возразила она, – но я боялась вам наскучить, помешать. Зная, что вы так много заняты серьезными делами, наконец, мои обязанности по должности, которую я заняла около её высочества.
– Хорошо, я более от вас, конечно, ничего не требую, только вперёд, то есть, начиная с нынешнего дня я требую, чтоб этикет и ваша застенчивость не мешали бы вам приходить ко мне почаще, одним словом, как это вам только будет возможно.
– Это такая милость, которую я, пожалуй, употреблю во зло.
– Употребляйте же её во зло.
– Ваша доброта меня трогает.
– Видите для начала я желаю сделать вам что-либо приятное… Я хочу вас познакомить с королем.
– Меня, маркиза!.. – вскрикнула, вся покрасневшая даже от счастья, молодая, честолюбивая девушка.
– Ну да, именно вас. Его Величество смотрел на вас несколько раз и остался совершенно очарованный вами. Что же! вы принадлежите к моему семейству, а потому я хочу, чтоб вам была уделена часть той благосклонности, которою я имела счастье пользоваться. Ведь это просто обман – предоставлять всё чужим; необходимо поддерживать друг друга, когда у нас с вами в жилах течет та же кровь.
– Я не нахожу слов, чтоб вас благодарить.
– Не благодарите меня; будьте только послушны моим наставлениям, и я буду довольна. Видите ли, дитя мое, король с некоторого времени чем-то очень озабочен; ведь он такой добрый властелин! Общественные дела его сильно измучили; наши победы на суше и море не возвратили ему даже его обычного расположения духа, потому что последние происшествия в Париже, эти ужасные случаи отравления, его очень огорчили. Это уже нам, нам, которые его так нежно любим, нам, которые имеем честь и счастье принадлежать к его двору, следует ничем не пренебрегать, даже своей собственной личностью, чтоб только возвратить ему его веселость и. спокойствие. Король, моя дорогая кузина, есть сердце и душа всей Франции, когда его величество страдает, то все в стране изнывает. Вы понимаете это, неправда ли?
– Конечно, маркиза, – сказала фрейлина, с жадностью принимая каждое слово этого высоко-дипломатического разговора и особенно поражаясь двойным значением, замеченным ею в некоторых словах маркизы. – Конечно… но чем же могу я способствовать столь желаемому результату?
– О! Боже мой, без большого, быть может, усилия, пользуясь просто только самым естественным образом той восхитительной красотой, той изысканной грацией, которою вы обладаете.
– О, маркиза!.. – воскликнула Мария Фонтанж, краснея до ушей, но улыбаясь от удовольствия слышать этот комплимент, так горячо высказанный, – удивительная вещь! – высказанный другой же женщиной, и женщиной, уверенной в том, что сама обладает несравненной красотой.
– Не смущайтесь же, дитя мое. Да, вы прелестны: я уверена, что это будет, или лучше сказать, что это уже давно мнение короля. Но его величество до сих пор видал вас лишь мельком, в театре. Я хочу, чтоб он узнал вас короче и лучше бы вас оценил.
– Вы могли бы меня сделать очень гордой, маркиза, если бы я не была уверена, что вы лишь из снисхождения восхваляете мои достоинства гораздо более, чем они на самом деле этого заслуживают.
– Значит, это дело решённое, я сегодня же вечером особо представлю вас королю… Я думаю, что мне совершенно лишне просить вас быть любезной, грациозной и быть послушной ко всему, что он пожелает. Даже если случай или вдохновение явятся прежде его желания, то ему ведь необходимы безыскусное чувство и искренняя преданность!
Маркиза окончила эту речь глубоким вздохом, с совершенно театральным эффектом. Потом, полагая, что она достаточно сказала для первого раза, она проводила фрейлину до самой двери её комнаты, держа её за руку, и, целуя её в лоб, как и при встрече с нею, она прибавила:
– Идите, маленькая кузина, готовьтесь принарядиться и сделаться вполне прекрасной; я сама приду присутствовать при вашем туалете; я окончу его.
– Как! маркиза… – проговорила девица Фонтанж в припадке смущения от излишнего счастья, – это значит…
– Нынче же вечером мы начинаем наш план действия! Старайтесь принарядиться! Старайтесь только принарядиться! – Совет этот был совсем лишний, так как не смотря на всю свою чудную красоту, будущая фаворитка всегда желала нравиться и инстинктивно владела честолюбием, заменявшим ей ум, в недостатке которого её упрекали.
Г-жа Монтеспан заранее приготовила выражение для дружеского представления своей любимицы в следующих знаменитых словах, имевших целью помешать королю плениться слишком серьёзной страстью.
– Я хочу показать вам, государь, чудо: статую столь прекрасную и столь холодную, что я сперва сочла её вышедшей из-под ножниц Жирардона, почему очень удивилась услышать от неё, что она живое существо.
– Как? Феномен при моем дворе, а я ничего о нем не знал! – сказал, смеясь, король. – Но, маркиза, вам следует его мне показать!
Вот как рассказывает автор Мемуаров и Разсказов об этой первой встрече:
«Маркиза Монтеспан позвала девицу Фонтанж к королю и восхваляла её в таких сильных выражениях и с такой заметной аффектацией, что всякая другая, только не Мария Фонтанж, пришла бы в замешательство от этих похвал.
Пусть представят себе: с одной стороны – вид, тон и выражение женщины, предполагавшей в себе ещё самое сильное влияние и в совершенстве знавшей весь двор, а с другой – молодую особу, только что приехавшую ко двору, не знавшую ни его способов выражаться, ни его обхождения, и представшей лишь теперь перед всем этим. Легко поймут, что имея даже много ума, а она могла бы смутиться. Молодая Фонтанж оробела, покраснела и выказала все признаки сильнейшего замешательства, не отнявшего впрочем от неё её очарования.
Король, заметивший все её движения, нашел её по крайней мере столь же прекрасной, как она была на самом деле, и в то же мгновение мраморный идол стал также идолом его сердца».
Любезным приветствием Людовик XIV поблагодарил г-жу Монтеспан за то, что она ему представила девицу, которая должна была сделать честь его двору. И, обращаясь к девице Фонтанж, он сказал ей:
– Я сожалею, сударыня, что не мог ранее высказать вам того очарования, которое я испытывал, когда я ещё имел счастье вас видеть только мельком. Я надеюсь, вы не будете за то на меня сердиться, в доказательство чего доставьте мне удовольствие видеть вас завтра на охоте, где я буду очень рад оценить ваши достоинства, как амазонки.
Вероятно, читатели поймут те чувства, которые возникли или скорее развились в уме столь пылком, как у этой честолюбивой фрейлины, от подобных комплиментов, равнозначных откровенному объяснению в любви. Эта охота, на которой, как мы видели, король ей назначал свидание, была та самая, на которой сама она и Ален Кётлогон согласились свидеться. Но, в данную минуту, думала ли Мария Фонтанж о своем рыцарском и нежном женихе?…
Послушаем опять автора Мемуаров, рассказывающего нам об одном из событий следующего дня: «После склонности к красоте и ухаживанию, самым живым удовольствием короля была охота, в которой он всегда находил такое удовлетворение и первым своим склонностям, так как пышность экипажей, костюмов, скромность свиданий и угощений вполне соединяли в себе вместе со вторым и первое.
Девица Фонтанж явилась на охоту в вышитой амазонке, изящество которой и красота её стана представляли самую нежную красоту, какую себе можно только представить. Её причудливый головной убор, состоящий из шляпки, убранной несколькими перьями, ярко выказывали весь цвет её лица и всю его нежность.
Поднялся лёгкий ветерок, она сняла свою шляпку и свои волосы подвязала лентой, концы которой ниспадали на её лоб. Эта перемена, в причине которой случай играл такую же роль, как и кокетство, чрезвычайно понравилась королю, упросившему девицу Фонтанж не менять прически во весь этот день.
Все дамы не замедлили явиться на другой же день с подобной прической, и этот случайный вкус сделался самым модным. От двора он перешёл в город, проникнул в провинции и вскоре, под названием Фонтанж, в иностранныя государства».
Эта охота, столь памятная для летописей моды, была не менее памятна для нашей героини.
Время было великолепное, погода стояла приятная, нежная, благодаря не слишком ещё яркому солнцу, что именно и было нужно для того, чтоб насладиться без усталости удовольствиями охоты на оленя.
Фрейлина герцогини, привыкшая к верховой езде и развлечениям подобного рода уже с своего детства, была отличной наездницей и охотницей.
Она перескакивала через преграды, пожирала на лету пространство, правила своею лошадью такой твердой рукой и таким верным глазом, с такою смелостью, что удивляла настоящих охотников. Но никто так не восхищался, как Людовик XIV.
Будучи сам весьма опытным в телесных упражнениях, к чему он прикладывал много старания из-за самолюбия, прельщённый игрою, пленённый страстью, он живо преследовал блестящую амазонку и так ловко, что эта поездка несколько раз превращалась в любезное и горячее свидание наедине.
Выехавшие из Версаля, охотники галопом прискакали в несколько минут в лес Вирофлей, который был в то время гораздо гуще, чем теперь, где всякое животное, за которым предполагали охотиться, имело свой отдельный кустарник, за которым оно скрывалось.
Олень, выбежавший из своего места, пустился бежать так резво, что удивил охотников, и ближайшими дорожками бросился в лесок Сели, потом скрылся в Лувесиенский лес, а под конец направился на так называемую рощу Марли.
Мы не будем останавливаться на подробностях этой травли, потому что интерес главных действующих лиц был сосредоточен на другом.
По свойственному ей кокетству, а также чувствуя, что ею восхищаются, как богиней охоты, юная де Фонтанж преследовала животное, но на самом деле она охотилась совершенно за другой дичью; а король, вновь воодушевившись, мало заботился теперь и об олене и о своей охоте.
Приближенные с притворной неловкостью старались держаться в стороне, давая полную возможность королю вести беседу, явно доставлявшую ему удовольствие, отпечаток которого виднелся на его лице. Девица Фонтанж, находясь в каком то восторженном состоянии, была ещё прелестнее от выражавшегося на её лице счастья, восхищения и торжества. Она, в свою очередь любовалась также всем тем, что представлялось её взору: лесом, селами, замками, реками, одним словом всем, что отражалось пред ними в калейдоскопе их поездки.
Отдых был устроен в павильоне, бывшем в то время единственной резиденцией короля в Марли. Там было приготовлено великолепное угощение; король, сойдя с лошади, подал руку прекрасной амазонке, которая, грациозно опираясь на нее, соскочила с лошади с лёгкостью молодой пастушки. После чего король, не замечая никого и ничего, кроме неё, и держа её за руку, подвел её к столу, где она заняла своё место по левую его сторону.
Подобное нарушение законов не имело большой важности во время охоты и бесцеремонного угощения. Все принцессы оставались в Версале, подле королевы, и без того всегда слабое здоровье которой становилось день от дня всё хуже.
По желанию короля, всей прислуге было роздано огромное количество мяса и вина, все же камер-фрейлины и прочие дамы, не имевшие места за столом его величества, размещались кое-как кругом.
Олень всё ещё не был загнан, но король, видимо, и не думал об этом; издали же всё-таки раздавались звуки труб и голоса охотников, которые продолжали стараться загнать беглеца поближе к королевскому павильону.
– Ну, что же, моя прелестная охотница, – спросил Людовик XIV, – что скажете вы об этой прогулке? Довольны ли вы своим днем?
– Все прекрасно, государь, где вы присутствуете.
– Как! И этот гадкий павильон также? – сказал он, смеясь.
– Также и этот павильон, я не видывала ничего, что бы мне нравилось более этого привала.
– Вы мне подадите наконец мысль построить здесь замок.
– И сделайте это, государь, вам ведь стоит лишь сказать только слово, чтоб творить чудеса.
– Конечно, я и скажу его, но только при том условии, если вы позволите выстроить его в вашу честь.
– Нет, Государь, в вашу честь, и чтоб тогда уже более не называли его просто Марли, но для увековечения этого прекрасного воспоминания.
– Клянусь честью, сударыня, вы восхитительны, и я вам повинуюсь.
После этого, встав из-за стола, что служило сигналом общему окончанию обеда, он взял и поцеловал её руку. Потом, обратившись к г-же Монтеспан, от которой он, уже по опыту, ожидал ревности, сказал:
– Маркиза, я обязан вам этим прелестным днем, позвольте же вас также поблагодарить.
И при последних словах, он также поцеловал и её руку, но заметна была большая разница в этих двух поцелуях; один походил на восходящее солнце, другой же, напротив, на заходящее.
Но что же мы молчим о свидании с женихом? О слове, данном храброму и благородному Алену де Кётлогону? Мы уже хотели было поступить почти также, как и его легкомысленная и честолюбивая невеста, мы почти забыли о нем!
Чем же руководствовался этот Вретонец с своими идеями вечной верности и невыразимой преданности, выбрав для своего обожания самую надменную женщину при дворе, в котором сильно вкоренилось тщеславие и господствовало там, как трава, растущая зиежду мостовой на королевском дворе в Версале!
Глава седьмая
Любовные заботы. – В лесу. – Слепой и безрукий. – Ужасная встреча. – Слепой ясно видит!
Ален был не один. Один он не пришел бы. Он имел при себе, точно надзирателями, своих товарищей и добрых друзей Шарля Севиньи и Генриха-Ротелина.
Отправляясь на эту прогулку, они все надеялись воспользоваться сотнями случаев, нередко представляющимися в прогулках этого рода, чтобы присоединиться к своим возлюбленным, побеседовать с ними и повеселиться.
Разве накануне Мария Фонтанж не обещала этого, равно как и её подруги Анаиса и Клорида?
Да, но коварные увёртки маркизы Монтеспан пошли как раз наперекор всему.
Если бы ничего не противодействовало желаниям обоих молодых влюбленных офицеров, состоящих при дворе, то они имели бы свободное время приблизиться к своим красавицам и с ними побеседовать, потому что общее внимание было обращено в это время на другое, более высокое, чем они; оживление и пылкость короля бросалось ясно всем в глаза, и общие взоры обращались к светилу, пробудившему всех.
Г-жа Монтеспан торжествовала, но начинала уже бояться, завидев пожар там, где она полагала только забросить одну искру, ею овладевал страх при виде этого слишком большого успеха.
Ален, принужденный таким образом сохранять указания и примеры друзей, не мог, значит, приблизиться к Марии во всё время первой половины охоты Он от досады грыз себе кулаки, не будучи в состоянии ясно объяснить себе, насколько далеко зашли дела, а также до какой степени все это грозило разрушением его сладчайших надежд.
Более прозорливые и посвященные в придворные нравы, Шарль и Генрих отдаляли его как можно далее от действительности, стараясь продолжительнее удержать его мечты, и тем самым сами себя лишали удовольствия, на которое они заранее рассчитывали.
Но со времени привала, когда король предложил Марии свою руку и посадил её рядом с собой, что-то пронзающее и ледяное вонзилось в грудь моряка.
Друзья его, наблюдавшие за ним, заметили его мгновенную бледность, с этого времени также омрачилось его чело густым облаком, которого не в силах были разогнать самые веселые рассказы.
Несколько дней тому назад это было бы совсем иначе, но его последний разговор, не уменьшая его любви, выказал ему его невесту в другом совсем неожиданном свете, который его сперва опечалил, а теперь просто страшил.
Он имел пылкую голову, решительный характер, и законы этикета, управлявшие светом, в котором он случайно находился на это время, его не обуздывали. Ничто не удерживало Алена, и он поклялся сам перед собою подойти ближе к Марии и говорить с ней. При вновь начинавшейся охоте, когда все садились на коней, он приложил все старания для удовлетворения своей единственной заботы.
Но прежде всего ему надо было отдалиться от своих друзей, чего он и достиг в минуту беспорядка и тесноты; а потом, – это было среди леса, – он постарался набрести на след короля.
Последнее было труднее всего, так как он совсем не знал местности, а также ему мешали звуки сигналов, доходившие до него совершенно фальшиво. Он заблудился, как только можно заблудиться в этих лесах, изрезанных широкими дорогами, оканчивающимися полукругами и перекрестками, на которых столбы, с пригвождёнными к ним указательными пальцами, указывали вам тот путь, который вам следует избрать.
Это было одно из тех мест, которые заботливо оберегаются собственно для охот, чтоб принудить дичь прилетать почти под самое королевское ружье; по нему также часто проезжали как охотники, так и экипажи, которые здесь иногда останавливаются и назначают свидания.
Ален, стараясь выбраться из этого лабиринта, направил свою лошадь к указательному столбу, врытому в центре, чтоб прочесть надпись на нём.
Измятая трава доказывала, что охотники тут уже проехали. Но, что ещё более привлекло внимание молодого моряка, так это два человека, сидящие на маленьком холмике, служившем основанием столба.
Это были двое нищих весьма перимечательной наружности.
Все деревни были запружены ими, но эти, верно лучше других знакомые с хорошими местами, явились сюда, на ту дорогу, по которой должна была проезжать королевская охота. Один из них, большего роста, с длинной палкой в руке, едва двигался, другой же, ростом поменьше, безрукий, казался ещё жалостнее первого. При приближении моряка, они приободрились, привстали и, взглянув один на другого, протянули чашки, бормоча неясными голосами:
– Добрый господин, сжальтесь над двумя несчастными, которые не в силах зарабатывать себе пропитание.
Ален остановил свою лошадь, чтоб подать им милостыню и расспросить о дороге у безрукого.
Они воспользовались этим случаем, чтоб вновь дружно завопить:
– Два несчастных искалеченных, подайте ради Христа!
Вся фигура и звук голоса большого нищего его поразили, эта длинная седая борода, падающая на его груди и звонкий голос обратили на него внимание моряка.
– Какая же у вас болезнь, бедные мои? – спросил он их.
– Ох! разве вы не видите ее, сударь? Я потерял руку при сражении, а мой товарищ…
– Я ослеп: подайте ради Бога! – простонал другой.
– Вот как, – сказал наш герой, улыбаясь; – вот чудо, а я считал тебя только калекой!..
– Что же делать, ваше благородие, – сказал плут, совершено приподнимая оборванную повязку, падавшую ему на глаза и смотря на своего собеседника, двумя совершенно ясными и особенно бесстыжими глазами, – в настоящее время необходимо иметь несколько недугов, времена такие уже тяжкие!
– Вот, возьмите, сказал Ален, удваивая ту сумму, которую он хотел сперва бросить. – Это не для того, чтоб вас поощрять, но это потому, что я особенно доволен снова тебя встретить, ты, бродяга с повязкой.
– Вы слишком добры, ваше благородие; вероятно, я никакого вреда вам не сделал, не правда ли? Я также очень рад вас видеть.
– Ба! если это правда, то ты поговоришь со мной откровенно.
– Разве я до сих пор говорил вам то, чего нет, или давал дурные советы?
– Не в том дело; откуда ты меня знаешь? Я хочу этого добиться.
– О! что до этого, вы себя слишком утруждаете из-за ничего… Я вас видел в одном месте, спросил ваше имя. Мне его сказали и я его помню; у вас одно из тех мужественных и откровенных лиц, которые не забываются… вот и все.
– Ты лжешь. Подожди, а как же ты знаешь, что у меня на корабле находится сын этого разбойника Пьера Кольфа? А! а! ты смущаешься?
– Ах! – сказал нищий. – Ну что касается головы, то вы можете похвастаться, что она у вас есть, вы… Вы не вполовину бретонец.
– А ты, мне кажется, также не из последних плутов и проныр. Определённо во всё это вмешивалась судьба и не хотела, чтобы его любопытство было удовлетворено.
– Будьте осторожны, – сказал безрукий.
– Тьфу пропасть! что там? – воскликнул моряк, выведенный из терпения.
– Тише! тише! – сказал мнимый слепой, – Надень мне скорее мою повязку. Ну, торопись…
И, к своему великому изумлению, Ален увидал искалеченную руку этого нищего, вытягивающуюся из-за пустого рукава, увидал также обе его руки, совершенно проворно поправившие перевязку, покрывающую глаза его товарища.
Потом этот мошенник нового рода подобрал свои руки и, приняв буквально жалкий вид, сделался снова безруким.
– Будете ли вы наконец отвечать, мошенники? – сказал Ален, так бесцеремонно посвящённый в одно из обыкновенных по-видимому явлений Двора Чудес.
– Разве вы не слышите? – сказал слепой, – Охотники возвращаются по этой дороге… Ну, Жано, прибавил он, нанося очень меткий удар палкой в подколенки своего проводника, – живо на колени против этого столба, чашу вперед, и запоем гимн Св. Роха.[8]
– Клянусь честью! вы самые наглые бездельники… Я чуть-чуть не доставил себе удовольствие…
– На нас донести?.. О! я ничего подобного не боюсь с вашей стороны, ваше благородие, а так как я начал уже вам высказывать свое доброе намерение, то вот вам ещё совет: вы до сих пор ещё не нашли хозяйку платка?
– Нет.
– Но вы сберегли, конечно, эту безделушку?
– Да, он здесь при мне, под моим платьем.
– Отлично: берегите его получше… с большой заботливостью… мне кажется, что вы не замедлите вскоре узнать, кому он принадлежит. Во всяком случае, не выпускайте его из рук!.. а главное не позволяйте себе увлечься лаской этой особы.
– В этом и состоит весь совет?
– Нет… последнее слово: если вы благоразумны… то поворотите назад и не пытайтесь набрести на следы короля!
– Что же делать, необходимо нужно…
– Берегитесь! слушай!.. – воскликнул безрукий.
Следуя указанному плану, он опустился на колени с своим товарищем, начав друг перед другом жалобно напевать известный гимн Св. Роха и его собаки.
Верховые, которые уже за несколько минут до этого слышны были по лаю гончих собак и дрожанию земли, вдруг выехали из-за деревьев, как настоящий вихрь, наполняя все аллеи; все они имели блестящий, но запыхавшийся вид, точно в головокружении.
Олень, выгнанный в третий раз и всё ещё скрывавшийся, появился с быстротою стрелы у края одной из аллей, в которую стремительно бросились все собаки, охотники, кавалеры, амазонки и экипажи. Поднялся страшный шум от звуков труб и рожков, крики, ропоты, возбуждение, взрывы хохота; настоящий вихрь празднующей и радостной компании.
Весь легион дефилировал, прыгая, галопируя, подобно Фантастической охоте, перед Аленом, неподвижно сидящим на своей лошади, которая от нетерпения становилась на дыбы, но сдерживалась мощной рукой седока.
Он пропустил всех мимо себя, ища в толпе взглядом, полным душевного беспокойства, одно лишь лице, одну лишь особу в этом мире, одну амазонку между этим муравейником.
Что значило для него всё остальное!
По всей вероятности, его никто не приметил, так исполнен был каждый из них восторгом; по крайней мере никто не обратил на него внимания; но и он также не видел того, что так старался увидать.
Никто более уже не проезжал, последние из охотников быстро удалялись, он намеревался присоединиться к ним, в уверенности, что Мария Фонтанж ускользнула от его внимания, среди этих торопящихся куда-то и стремящихся групп.
Он уже взялся за поводья, чтоб пустить свою лошадь вперед, как вдруг внезапный шум остановил его.
Это были также охотники, но менее первых торопящееся, они ехали тихой рысью.
Необъяснимое впечатление, впрочем неудержимое, пронзило его сердце и воспламенило его ревнивый инстинкт.
В то же время, он увидал своего нищего, авантюриста с повязкой на глазу, который самым энергичным образом подавал ему знаки, чтоб он удалился.
Но это было причиной, заставлявшей его остаться.
Деревья были густы, но в настоящее время года они были ещё без листьев, так что сквозь них он не замедлил различить опоздавших.
Предчувствие его не обмануло.
Их было всего двое, кавалер и амазонка, ехавшие верхом на двух лошадях самой тихой и лёгкой рысью.
Хотя он пока мог только различить перья на шляпе одного из них и кончик ленты, придерживающей волосы другой, но тем не менее он их узнал на далеком расстоянии, и страшно побледнел.
Нищий с одного маленького бугорка, на котором он стоял на коленях с своим товарищем, обратился к нему с последним умоляющим движением, означавшим:
– Ради Бога, удалитесь же! Вот где опасность!
Он его увидал, понял его, но остался, как вкопанный в своих стременах, стоя прямо против дороги, по которой неизбежно должна была проехать пара запоздавших всадников.
Они ехали так близко друг подле друга, что ежеминутно касались коленами, и кавалер, разговаривая тихо, совершенно наклонялся к амазонке, чтоб она могла его слышать.
Он был оживлен, весел; она улыбалась, совершенно краснея от счастья.
Так, углубленные своим свиданием, они выехали на перекресток, не подозревая встретить этого запоздавшего всадника, стоящего на углу одной из. дорог, будто часовой на своем посту.
Амазонка заметила его первая, и тогда уже, когда не было никакой возможности изменить направления. Среди своего изумления и своего внезапного страха, она испуганно вскрикнула и едва не упала со своего седла.
– Что такое? – живо спросил её именитый кавалер, прерванный посреди самого интересного разговора. – Что с вами, моя красавица?
Но, следуя по направлению её взгляда и видя его устремленным на этого бледного, неподвижного всадника, мимо которого они проезжали в настоящую минуту, он нахмурил брови, обратил на молодого человека более чем строгий взор и произнес таким образом, чтобы он мог его услыхать:
– Невежа!
Этого же самого взгляда и менее жесткого слова, вышедшего из этих же самых уст, было достаточно, несколькими годами позднее, чтоб окончательно убить Расина.
Ален Кётлогон, бретонец-моряк, не имел натуры поэта, но тем не менее удар был также чувствителен. Однако любовь этого храброго и честного молодого человека получила более сильную рану, чем его законная гордость от этой немилости.
Недостаточно было только нравиться этому блестящему и самодержавному королю, но не надо было также ему досаждать, и если бы только что произнесенное им слово было услышано одним из придворных – и Ален Кётлогон погиб бы навсегда.
Но по счастью, там никого не было, кроме Марии Фонтанж и двух нищих.
Прекрасная амазонка ударила по плечу свою рыжую лошадь, пустившуюся в галоп, король, сообразовавшийся с её малейшими движениями, последовал её примеру, и они исчезли в одну секунду.
Ален проводил их отчаянным, душераздирающим взглядом; судорога изобразилась на всём его лице; страшная мысль пришла ему на ум; но он опомнился, отдалил от себя все чёрные мысли и, обратившись к нищему, приблизившемуся к нему, спросил:
– Где самый короткий путь в Париж?
– Подождите, – отвечал тихим голосом мнимый слепой, как будто он боялся быть услышанным, или желая придать более авторитета своему совету. – Подождите!.. Не все ещё проехали.
Действительно раздался шум колес экипажа, ехавшего неторопливо, запряжённого четверкой лошадей и приближавшегося по той же самой дороге близ большой аллеи, откуда ехали король с Марией Фонтанж.
Глава восьмая
Две гуляющие особы. – Эта хозяйка платка. – Отчаяние всадника. – Прелестная сострадательница.
Хотя воздух был довольно прохладен, но погода была столь прекрасна, что позволяла сопровождать охотников в откидной карете, особенно этим дамам, так тепло укутанным, занимающим этот великолепный экипаж, описываемый нами.
Их было только две; они были укутаны в бархатные шубы густого меха, и лица их были покрыты кружевными вуалями. Хотя они обе казались молодыми, но та, которая занимала место по правую сторону, без сомнения, была старшая из них, это более чувствовалось, чем виднелось. Истинная и невинная молодость выказывается всегда тысячью разными мелочами, которым ни искусство, ни кокетство не в силах помочь, не смотря на все старания.
Разговор их казался очень оживленным и касался, по-видимому, интересного предмета, но дама, сидящая с правой стороны, вела именно эту беседу, подруга же её, более спокойной наружности, ограничивалась только ответами.
Несмотря на всё своё оживление, она приостановилась с видом удивления, заметив элегантного кавалера на перекрёстке, который, в противоположность всему обществу, казалось, собирался обратиться спиной ко всему королевскому поезду, вследствие чего очутился вдруг перед ними, как будто делая нарочно все эти эволюции.
С той и другой стороны выразилось минутное удивление, но, как благовоспитанный дворянин, он поклонился двум прогуливающимся дамам самым любезным образом и приостановил свою лошадь, чтоб дать свободный проезд их экипажу.
Так как они ехали очень тихо, то они могли обменяться вполголоса следующими словами:
– Кто такой?… – спросила дама, сидящая с правой стороны у своей соседки.
– Господин де Кётлогон, жених Марии де Фонтанж, – было ей отвечено.
Прекрасная дама вздрогнула, как будто это объяснение имело для неё какой-нибудь особый интерес.
Странная улыбка пробежала по её милым чертам, немного пасмурным до этого.
– Милостивый Государь!.. Позвольте?.. – сказала она, приглашая к себе молодого человека и голосом и жестом руки. Он вновь сделал быстрый поворот на своей лошади и подскакал к карете, держа шляпу в руке. Здесь-то ясно выказалась его чрезвычайная бледность и поразила собою прелестных дам. Однако, одна из них, а именно первая, казалось, очень желала его удержать и рассматривала его с необыкновенным вниманием.
– Разве охотники поехали не по этому направлению?.. Мне казалось, по доходившему до нас эхо, что они проехали здесь и отправились по долине Принцев.
– Действительно так, сударыня.
– Но, значит, вы не принадлежите к охоте, так как вы едете к ней спиной.
Губы моряка отвечали с легким содроганием:
– Я более в ней не участвую, сударыня.
На лицах обеих дам выразилось сильное удивление.
– Может быть, с нашей стороны будет нескромно попросить вас проводить нас несколько шагов, чтоб вывести нас на настоящую дорогу.
Младшая жестом подтвердила эту просьбу, и Ален, находясь между двух огней, счел себя обязанным хотя на время отогнать от себя свои тяжёлые мысли и придать своему лицу на сколько только возможно приятное и довольное выражение.
– Я готов к вашим услугам, сударыня, – сказал он, – и очень счастлив, что могу служить вам.
Сказав это, он направил свою лошадь рядом с каретой, и поехал по правой стороне, то есть около старшей и более любопытной из двух, она же, казалось, проявляла более интереса к его особе.
– Я не очень скромна, – сказала она, – как будто она его хотела заставить говорить о его собственных делах, – хотя вы думаете и не желаете более участвовать в охоте, но я видела вас на завтраке в Марли?…
– И, – прибавила живо дама, сидящая с левой стороны, – при последнем приеме в Версале.
– Действительно я там был, сударыня, но, как всякий вновь приезжий, я был так ослеплен и смущён всем виденным, что только любовался всеми, не заметя никого в частности, что, конечно, лишило меня счастья заметить вас.
– Не дурно, молодой, человек, – сказала с усмешкой старшая дама. – Но вам не нужно извиняться. Все знали, что вас привлекло на этот прием, и причина была вполне законна Разве вы не желали именно приблизиться к девице Фонтанж, вашей невесте, если только мне верно было передано?
Густое облако вновь покрыло чело молодого человека, и его бледность, немного было исчезнувшая перед тем, вновь выступила с большей ещё силой.
– Прошу вас извинить меня сударыня, – сказал он, – вот верная ваша дорога; доехав до конца этой длинной аллеи вы увидите охоту, или найдете кого-нибудь более сведующего указать вам её.
– Как, сударь, вскрикнула дама, вы отказываетесь быть моим кавалером!..
– К сожалению, сударыня, но те причины, которые принудили меня оставить охоту, когда я имел. честь встретиться с вами, требуют…
– Боже мой, при виде вашей бледности можно предположить, что вы больны? Вы страдаете?
– Очень сильно, сударыня.
– Я понимаю, внезапная боль.
– Это верно; я чувствую себя совсем дурно.
– Сойдите тогда с лошади, и займите место вот здесь против нас, в карете.
– Очень вам благодарен, но…
– Это значит, вы отказываетесь?
– Я не могу сопровождать вас, куда вы едете!
– Вы говорите довольно загадочно; или, извините мою нескромность, моя подруга, – сказала она, указывая на свою собеседницу, – скажет вам, что мое звание и мое положение иногда дают мне на то право. С вами случилось несчастие или какое-нибудь горе во время этой веселой поездки? Увы! у кого нет своего горя?
В это время подул лёгкий, но свежий ветерок, и прекрасная собеседница закашлялась, при чём она должна была вынуть из муфты платок, который и приложила ко рту.
Это дуновение долетело также и до Алена и обдало его запахом духов, которыми был пропитан батистовый платок.
Он вздрогнул и невольно бросил взгляд на даму, который проник даже сквозь её вуаль.
Он узнал запах платка, найденного им ночью у церкви Св. Якова.
Самый странный случай поставил его в одну из самых критических минут его жизни, в присутствие таинственной женщины, на которую ему указал его старый нищий.
Но теперь, находясь в каком-то жгучем лихорадочном положении, он не думал более о возвращении обратно, а желал только наверное узнать, с кем он имел дело. Во всяком случае это был кто-нибудь из хорошо знающих придворные дела.
– Господин Кётлогон, – сказала она, – вы напрасно вооружаетесь скромностью, вы приехали из Дюнкерка по двум причинам… обе они очень похвальны.
– Я вас не хорошо понимаю, сударыня…
– Разве не для того, чтоб быть вместе и видеться с своей невестой, а также требовать награды за свою храбрость в последнем походе?..
Он тихо и отрицательно покачал своей выразительной головой.
– Но, милостивый государь, – вмешалась живо младшая из дам, – Мария Фонтанж всё может сделать для вашего повышения.
– Mademoiselle Бовё права, молодой человек, ваша невеста может всё, после той милости, которая была ей оказана сегодня только королем на привале в Марли.
Значит, молодая особа, сидящая в карете, была девица Бовё, – но кто же была эта дама?
– Ко всему этому, – продолжала эта последняя, заметив сильную дрожь, пробегавшую по нему всякий раз, когда упоминалось имя его невесты, – в случае недостаточности слов девицы Фонтанж, я буду счастлива воспользоваться для такого любезного человека, как вы, своим влиянием, которое я ещё сохраняю. С нынешнего же дня я желаю говорить о вас с королем.
– Обо мне, сударыня! – вскричал он в ужасе.
– А отчего же нет? Кто же более вас этого достоин?
– Воздержитесь от этого и для себя, и для меня.
– Отчего это?…
– Потому что вы подвергнете опасности, без малейшей для меня пользы, то влияние, которым вы пользуетесь.
– Я… – маркиза Монтеспан!
– Госпожа Монтеспан! – повторил он с удвоенным изумлением и душевной тоской.
– Разве я вас пугаю?
– Нет, маркиза… но меня страшит моя судьба.
– Прошу вас, перестаньте говорить загадками, я подала вам пример откровенности. Что могло произойти со вчерашнего дня между вами, вашей невестой и королем?
– Я вам буду отвечать, так как вы меня спрашиваете. Я стоял у этого перекрестка, на том самом месте, где вы меня встретили, менее получаса тому назад, как вдруг мимо меня проехали две особы, один кавалер и амазонка.
– Ах! да, – сказала маркиза с язвительным выражением, – король и девица Фонтанж!.. Ах! вы там были!.. Я начинаю понимать.
– Не знаю, подстрекаемый каким то демоном или наверное сходя с ума, я сделал движение, чтобы приблизиться к ним, и помешал таким образом их весьма дружескому разговору.
– Доканчивайте! Доканчивайте!
– Девица Фонтанж пришпорила свою лошадь и отвернулась, чтоб меня не видать, а король бросил на меня такой взгляд и сказал такое слово, которого я никогда не забуду. О! оскорбление!.. и мне!.. – пробормотал он с стиснутыми зубами и с сжатыми кулаками.
– Несчастный! – вскричала маркиза. – Молчите!
– О! не бойтесь ничего, сударыня, так как я ведь их не раздавил на месте, то все кончено. Небу было угодно, или оно дозволило, чтоб мое отчаяние превзошло мой гнев.
– Бедный молодой человек!.. – сказала вполголоса девица Бовё, бросая на него трогательный взгляд.
– Я понимаю эти вещи! – сказала маркиза. – Гей! что такое?
– Это сбор.
Охота приближалась к концу, олень застигнутый при выходе из болота, вернулся на свои первые следы, чтоб спуститься именно в полукруге аллеи, по которой проезжали наши три особы в пятидесяти шагах от них. Скакала толпа охотников, свора собак так ревела, что заглушала даже эхо, трубы били сбор.
– Я расстаюсь с вами, сударыни, – сказал Ален.
– Одну минуту только, – сказала маркиза; – посмотрите же туда! Наступил конец драмы.
Обер-егермейстер подавал королю нож, чтоб нанести последний удар побежденному оленю и сдерживаемому в одно время и собаками и охотниками.
Один из последних отрезал ногу животного и подал её королю.
В продолжении какой-нибудь минуты продолжалось возбужденное в высшей степени внимание и ожидание среди этого сборища придворных, одержимых каким-то фанатизмом до всего того, что касается этикета, и всегда беспокоящихся о том, куда дует ветер.
Кому Людовик XIV преподнесет этот трофей? Если бы тут присутствовала королева, он принадлежал бы ей по праву. Но в отсутствии королевы, уже давно удаленной от всех этих весёлых празднеств, кто будет отличён этим безмолвным почтением, кто имеет такую же власть, как королева над монархом? Все, обладающие хорошим зрением, тотчас заметили приближавшийся экипаж маркизы. Осмелился ли Людовик XIV в первый раз, лишить её отличия, к которому он сам её приучил?
Он решил вопрос, не выказав ни малейшего колебания.
По его приказанию, обер-егермейстер, преклонив одно колено, подал ногу пойманного оленя Марии Фонтанж, которая, обезумев от гордости, едва не упала в обморок.
– Ах! государь мой, – сказала она, опираясь на его руку, которую он ей предложил, – вы меня ослепляете счастьем.
И весь двор преклонился, дрожа от восхищения, преклоняясь перед той, которую милость короля официально посвятила в его фаворитки.
Экипаж г-жи Монтеспан и лошадь Алена стояли довольно близко и на довольно возвышенном месте, так что от их взора и слуха не скрылось ни одной подробности всего происшедшего, а также они хорошо могли угадать, по изумлению лиц, слова, которыми обменивались придворные.
– О стыд!.. – пробормотал честный бретонец.
– Молодой человек, – сказала ему маркиза, – вы были правы, что не положились на мое влияние, я его считаю окончательно в упадке… Но терпение… я сильнее, чем это воображают… А что касается до вас, то вы теряете невесту, это правда, но у вас остаётся союзница.
– Увы! сударыня, ни вы, ни кто другой, не в состоянии более мне помочь, мне ничего более не остается.
– Что вы! А месть?
Сказав это слово и сопровождая его каким-то неумолимым выражением, она приказала своему кучеру присоединиться к охоте.
Что касается Алена, то он уже обернулся назад и на этот раз безотлагательно возвращался в Париж в лихорадочном состоянии, смешанном с бредом.
Глава девятая
Отчаяние от любви. – Мари-Ноэль сближается с нищим. – Рассказ последнего. – Разбойник, но преданный. – Выздоровление.
Ален вернулся к себе домой каким-то чудом, и инстинкт его лошади способствовал тому более, нежели он.
Его денщик и его же молочный брат, Мари-Ноэль Кермарик, испуганный его положением, употребил все усилия, чтобы уложить его в постель; он сопротивлялся и хотел немедленно ехать в Дюнкерк.
Ночью у него обнаружилось расстройство мозгов; не доставало всех людей гостиницы для того, чтоб его удержать: у него была только одна постоянная мысль – броситься через окно.
Призвали трех врачей, но болезнь его была настолько очевидна, что, по редкому согласию, все они её единодушно признали, – только каждый предписал совершенно противоположное лечение.
Бедному Мари-Ноэлю также в свою очередь угрожала опасность сойти с ума, но вдруг прибытие Шарля Севинье пришло ему на помощь. Он расположился у изголовья Алена и сменялся там с Генрихом Ротелином; оба они проводили здесь всё своё свободное от службы время.
Болезнь была очень опасна, она была именно та самая, от которой, как свидетельствуют врачи, умирают чаще всего в том возрасте, в котором находился наш герой. Но было решено, что он её перенесет.
Однако это не было делом одного дня, а также не одной только недели. Припадок был так силён что даже сама крепость его телосложения придавала более опасности, нежели это было бы с темпераментом менее сильным и менее энергичным, а когда наконец врач, которого преимущественно избрали из трех прежде приглашенных, объявил, что он находится вне опасности, бред ещё не совсем прекратился.
Начали серьезно бояться, что будет труднее вылечить его голову, чем его тело, и доктор, успокоившись на счет второго, не осмеливался точно высказаться о первой. Этот благородный и великодушный ум так жестоко страдал.
Мари-Ноэль Кермарик не мог утешиться, и, конечно, если бы на него посмотреть и его послушать, то минутами казалось, что он был одержимым той же болезнью мозга, как и его господин. Самый прекрасный день в его жизни был именно тот, когда Ален, пробудившись от чрезвычайно продолжительного сна, на пятнадцатый день своей болезни, открыл медленно веки и, увидав перед собой денщика, устремил на него свои спокойные глаза, немного удивленные, а за тем, улыбаясь, сказал:
– А, это ты, Мари-Ноэль… Ах! как я хорошо спал, и я бредил… Я был очень болен, не правда ли?
Добрый малый прослезился от радости, что к его молочному брату снова вернулся рассудок!
Он поспешил разгласить эту новость по всей гостинице и в одно мгновение побежал в Церковь Св. Евстафия, чтоб поставить свечу перед нишей одного святого из Бретони, которого он тут приметил.
Возвращаясь оттуда в самом радостном расположении духа, он заметил бродящего вдоль домов, по направлению к гостинице, нищего, с большой седой бородой, уже знакомого ему, потому что он аккуратно через день приходил не для того, чтоб просить милостыню, но чтоб осведомляться о состоянии больного. Прислуга и сам он сначала очень этому удивились, но впоследствии поняли, что это был, как он сам это говорил, несчастный нищий, которому моряк всегда подавал милостыню при встрече, а по этому он и интересовался с большей или меньшей бескорыстностью о своем благодетеле.
Открытое и добродушное лицо матроса дышало таким самодовольствием, что хромой остановил его тотчас же следующими словами:
– Могу биться о заклад, Мари-Ноэль, что вашему барину лучше?
– А! Ей Богу ты пронюхал верно, что пришел сюда! Ты видишь мою радость… Надо, чтоб все её понимали! Возьми, это тебе на еду, а также и выпить за выздоровление моего молочного брата!
За тем он ему милостиво бросил в руку монету в двенадцать су.
Удивительное дело! Нищий долго колебался её взять, но наконец был принуждён к этому.
– Значит, он спасён? – спросил он.
– Совершенно, я не говорю, чтоб он был бодр. Но что касается опасности, она уже миновала, если только за ним будет хороший уход и будут его беречь, как я постараюсь это исполнить.
Разговор продолжался бы ещё, если бы Манона, рыжая служанка, не явилась на пороге, со своей веселой миной подавая бретонцу знаки, чтоб он возвратился домой.
Но Мари-Ноэль в свою очередь полюбил этого нищего, принимавшего такое участие в его молочном брате, и строго запретил его прогонять, но напротив велел ему давать точные сведения о состоянии больного. Так что другой раз, недели две спустя, они опять встретились на том же месте, в десяти шагах от гостиницы, – Мари-Ноэль воспользовался присутствием г-на Ротелина близ выздоравливающего, чтобы пойти исполнить некоторые поручения.
– Скажите мне, друг мой, – сказал хромой, – г-н моряк достаточно ли хорошо чувствует себя, и скоро ли его увидят также выходящим на воздух?
– По-видимому, что да, хотя он ещё нуждается в уходе. Ах! как же сильно он был потрясен! Уж он-то поговаривает всё, чтоб взять почтовых и возвратиться в Дюнкерк. Но по несчастью, это ещё невозможно!
– Вы, стало быть, очень желаете отсюда уехать?
– Клянусь св. Анной, если только есть город, который я ненавижу, так это верно ваш Париж, а после вашего Парижа – ваш Версаль. Это целые вертепы лжи и предательства для бедных людей! Разве всё это случилось бы, если бы мы спокойно оставались на берегу св. Людовика!
– Дело в том, что там бы он не встретил того, что он встретил здесь.
– Эту девицу или этих девиц и дам, потому что их должно быть несколько в этом деле, судя по тем словам, которые он высказывал в бреду; вы говорите об этом, не правда ли?
– Очень может быть.
– Э! старина, правда, вы мне сразу понравились, потому что мне кажется, что вы любите моего молочного брата, а мне всегда приятно встретиться с людьми, с которыми я могу говорить о нём; но, в сущности, вы мне никогда не говорили, что за причина, почему вы так о нем беспокоитесь.
– Ба! это по случаю той истории, которую мне рассказали о нём и о той прелестной девице де Фонтанж, которая желает жить по-своему… Ах! бедный кавалер, если бы только от меня зависело помешать ему загореться подобной страстью!
– Вот! посмотрим! – сказал Мари-Ноэль, всё более и более озадаченный согласием идей и антипатий, – А ты, значит, тоже знаешь девицу Фонтанж?
– О! мы, богемцы, искатели и бродяги, чего и кого мы только не знаем! Одно только верно, что никогда я не желал бы встречаться с этой жестокой и гордой особой!
– Не по отношению ли к моему молочному брату?
– И по этому случаю и ещё по другим причинам.
– Разве нельзя этого рассказать?
– А! Боже! напротив того; это даже облегчает меня. Видите ли, Мари-Ноэль, как все это случилось. Никогда не встречалось никого, кто бы был жестокосерднее и презрительнее её к бедному люду. У ней столько гордости в одном только мизинце, сколько красоты во всей её особе; а это далеко немного, так как она чертовски хороша.
– Чертовски, это верное выражение, – подтвердил Мари-Ноэль.
– Так что даже там, в Руерге, где крестьяне ведут тяжелую жизнь, и там она не была милостива, а потому и не была любима. Но ею все восторгались за её лицо, и когда она появлялась, то народ находил удовольствие смотреть на нее и ей кланяться. Вы сейчас увидите, как она их вознаграждала. Однажды она, ехавши верхом, уронила свой хлыстик, тут неподалеку находился крестьянин, который поспешил его поднять и подать ей, держа свою шапку в руках. Вы думаете, может быть, что она сказала ему спасибо, как бы не так? Чтоб какой-нибудь мужик смел дотронуться до предмета, предназначенного её благородной ручке? Она стегнула его изо всей силы по лицу, до крови, и ускакала в галоп.
– Благодарение Богу, – пробормотал бретонец, – что она не сделала что-либо подобное мне!..
– О! она далеко не имела дело с неблагодарным! Крестьянин, получивший этот удар, далеко не был примером кротости, его даже все боялись, и он слыл первым смелым охотником за дичью на чужой земле. Несколько времени спустя, именно в то время, когда ваш барин находился в замке, случается важное дело. Девица пристрастилась к маленькой белой лани, которую ей подарили недавно; это животное было совершенно ручное, точно левретка. Здесь проявлялись восторги и радости изумления. Любимое животное проводило целые дни в обществе, а ночью её оставляли на свободе в маленьком парке, где у неё была своя клетка.
Но вдруг в одно прекрасное утро, нет более маленькой лани! Решетка была взломана, и животное убежало или было уведено. Ну! это наделало шуму. Велели произвести следствие и розыски; девица была в отчаянии и впадала в страшные припадки гнева.
Один из её сторожей, более злобный, но менее осторожный, чем все другие, бедный малый захотел обыскать домишко браконьера, того самого мужика, который получил некогда удар хлыстом от девицы. Он пришел туда именно в то время, когда маленький мальчишка браконьера крутил вертел, на котором жарилась задняя нога животного, которую сторож признал принадлежащей несчастной лани.
– О! постой! постой! это было важное дело!
– Такое важное, что виновный, изменнически захваченный, не будучи в состоянии ничем более защищаться, лишь только ударом ножа в живот сторожа, был схвачен, брошен в темницу замка и осужден на каторгу.
Однако зависело только от одной особы, чтоб этого не случилось, и наверное, даровав ему помилование, бы из него также сделали честного и хорошего человека. Нашелся кто-то, кто и подал ей этот совет и ходатайствовал за виновного. Ходатаем этим был кавалер Кётлогон.
– Это меня совершенно в нем не удивляет.
– Меня также; но он имел дело с женщиной без всякой жалости; она сухими глазами смотрела на рыдания ребенка осужденного на каторгу отца, и она всех оттолкнула от себя, не приняла никаких ходатайств. Таким образом Пьер Кольфа был сослан в Брест, где его послали в кандалах на каторжную работу.
– Что же стало с ребенком? – спросил Мари-Ноэль, заинтересованный этим рассказом.
– Тут-то и выказывается прекрасный характер вашего барина. Не достигнув, не смотря на свою просьбу, помилования отца, он взял к себе маленького его ребенка, он его усыновил, увез с собой и завербовал его юнгой на корабль.
– Боже мой! я понял наконец. Это тот самый маленький резвый мальчишка, который нас всех бесит на корабле, хитрый, как обезьяна, веселый, как зяблик; его все любят, и мой молочный брат ему все извиняет; маленький Жан, как мы его называем.
– Ах! вы его также любите, вы, мой добрый друг, знаете этого бедного мальчика, которому, по милости девицы Фонтанж, судьба послала худшую долю, чем сиротскую!.. Ну, что же! благодарю вас, вы все – моряки, люди с сердцем, это не то, что при дворе!.. Я ухожу довольный!.. До свидания, Мари-Ноэль!
– Скажи же мне, старик, ещё одно слово. Есть что-то, чего я не вполне понимаю в твоей истории. Как и почему интересуешься ты до такой степени этим мальчиком, и какое отношение?…
– Это правда; я вам это не объяснил… Отец этого Жана, браконьер Скорайльского замка, был моим другом.
– Только твоим другом?.. – сказал Мари-Ноэль, мигая глазами.
– Ничем более, – возразил небрежно хромой; – и этот несчастный человек исчез, потонув под опрокинутым судном в Брестской гавани.
– Довольно. Я у тебя не спрашиваю твоих тайн, старичок. Ты предан моему Алену, вот это все, что я хочу знать.
– За то, вы не говорите ничего лишнего, я предан вам на жизнь и на смерть. Я намереваюсь выказать ему ещё доказательство своей преданности одним советом, который вы ему передадите от меня сегодня же. Я знаю его друзей и его врагов лучше, чем он сам их знает. Скажите же ему, что я его умоляю быть осторожнее с дамой, которой принадлежит известный ему запах духов.
– Вот так хорошо, дама с благовонием! кто же эта дама?
– Вам совершенно лишнее знать более этого. Повторите ему лишь это.
– Охотно. На этот раз ускользаю, вот и г-н Ротелин уже уходит; мой больной сейчас останется совершенно один… Ах! проклятый болтун!
Молодой человек только что вышел из гостиницы и исчезал в глубине поперечной улицы.
Мари-Ноэль поторопился войти в дом, но он опять был остановлен у двери приездом большой коляски, у которой он поспешил, по обыкновению, отворить дверцы, что позволило ему видеть сидящих в ней двух великолепных дам, знатной осанки, но скрывавших, по распространенному ещё обычаю, часть своего лица под шелковыми полумасками.
Глава десятая
Мнение Мари-Ноэля Кермарика о прекрасном поле. – Прекрасные посетительницы. – Добрый и злой гений. – Совет, пришедший уже слишком поздно.
Тот, кто следит за уличными происшествиями, как например, такие бродяги, как этот нищий на костылях, или если б последний был менее занят своим разговором с Мари-Ноэлем, не замедлил бы заметить, что встреченный нами экипаж, в конце последней главы, ездил уже взад и вперед, более получаса по всему кварталу медленным шагом и, казалось, ожидал только ухода г-на Ротелина, чтобы остановиться у двери гостиницы «Grand A. Eustache». Обе дамы очевидно принадлежали к знатному роду. Это замечалось даже в изящной простоте их туалетов, которые также, как и их коляска, старались быть как можно менее яркими.
Пока хозяин гостиницы рассыпался в поклонах, гордясь посещением своего дома такими особами, даже экипаж которых придавал самое лучшее украшение его дому, запыхавшаяся служанка поднималась наверх, чтоб предупредить Мари-Ноэля об этом исключительном посещении.
Но Мари-Ноэль, которому врач не переставал повторять, чтоб он удалял от своего барина всякое волнение и усталость, не выказывал никакой поспешности. Однако, подстрекаемый служанкой, он решился, почесав предварительно, по своей всегдашней привычке, кончик уха, в знак размышления, войти в комнату Алена.
Последнему, вот уже дней пять или шесть, позволили вставать с постели на несколько часов в день, и в настоящее время он сидел в креслах. У него едва хватало силы пройти по комнате, опираясь на руку своего верного слуги, чтоб снова приучиться ходить.
– Что там? – спросил он, увидев смущенный вид денщика.
– Там именно то, чего я боюсь, мой молочный брат.
– Ну, объяснись. Какое-нибудь приключение? Или посещение наконец?
– Посещение.
– Оно должно быть очень страшно, – сказал Ален, вдруг вспомнив о королевской к себе немилости, – если ты боишься о том говорить?
– О! что до того касается, мой молочный брат, что оно страшно, так я не думаю, чтобы оно было тем, что именно называют страшным…
– Ну что же, что тебя останавливает?
– Именно то, что врач вам запретил всякого рода волнения…
– И?…
– А я боюсь, чтоб это посещение вас не взволновало. Ах! а вдруг с вами повторится ваша лихорадка, то это уже не будет забавным Вы сами не знаете, но с вами были припадки и бред… Вы видели кучу женщин, молодых, прекрасных, белокурых, а одну одетую всю в черное…
– Разве какие-нибудь женщины желают меня видеть? – сказал с болезненной улыбкой выздоравливающий.
Мари-Ноэль кивком головы подал утвердительный знак.
Против воли, несмотря на всю свою чрезвычайную слабость, Ален почувствовал некоторое волнение.
– Если б это была!.. – пробормотал он вполголоса. – О! нет, – докончил он со вздохом. – Я окончательно забыт!..
– Вот, – вскричал Мари-Ноэль, – это уже доказывает влияние на вас! Клянусь св. Варварой! можно ли так портить себе кровь, из-за каких-нибудь юбок и чепчиков! Нет! ну так! нет, я ничего не сказал!.. Не смотрите на меня так сердито… Я сейчас скажу, что вам запрещено принимать кого бы то ни было, не правда ли?
– Не так скоро!.. – сказал молодой человек. – Вероятно, эти дамы имеют сообщить мне что-нибудь важное, если они до такой степени беспокоились, что приехали сами в эту грязную гостиницу.
– Достаточно, – проворчал денщик, – их сейчас попросят сюда взойти. Ах! женщины, женщины, кто только их создал! Наверное, черт! Иду, иду…
– Гей, главное – молоды ли они и хороши ли собою?
– Ба! разве это когда узнаешь! Во-первых, у них на лице надеты маски, которые их наполовину скрывают, но Манона, служанка при гостинице, уверяет, что эти дамы прекрасны собою, но как же она могла это угадать, я вас спрашиваю!
– Ступай же, болтун! – сказал Ален, подстрекаемый любопытством.
Бретонец спустился с лестницы с проворством матроса, спускающегося с рея, и встретил в нижнем зале посетительниц, немало удивленных, что их так долго заставляют ждать.
– Это вы, сударыни, желаете видеть моего молочного брата?
Этот вопрос и обращение бретонского моряка, так отличающееся от обращения утонченных камердинеров в Oeil-de-Boeuf, заставили улыбнуться посетительниц, которые, кажется, вовсе не были к тому расположены.
– Можно ли его видеть? – ответили они.
– Можно и нет, – сказал Мари-Ноэль, которого печаль его барина ожесточила более чем когда-либо в виду этого прекрасного пола.
– Вы камердинер у г-на Кётлогона? – спросила старшая из посетительниц немного хитрым тоном.
– Я его матрос и его молочный брат, – ответил он с гордостью, покрасневший вместе с тем как огонь.
– Эти моряки, – сказала дама своей подруге, – не похожи на других! Однако же, малый, скажи, может ли нас принять г-н Кётлогон или нет?
– Он может, то есть он желает… несмотря на совет врача, который предписал ему спокойствие… Значит, сударыни, не заставляйте его много говорить, а главное уходите, как можно скорее.
– Конечно, мой малый… я вижу, что вы любите вашего госп… вашего молочного брата; не бойтесь ничего, мы пришли не на вред ему, но, напротив, для его же пользы.
– А! если это так, то идите скорее.
Что и было ими сделано в одну секунду, так как обе дамы были живы и проворны.
– Нужно ли о вас доложить? – спросил Ноэль, отворяя комнату, находившуюся около спальни Алена.
– Это лишнее, он нас знает.
Бесцеремонный слуга толкнул дверь к своему барину и сказал:
– Вот приехавшие к вам дамы.
При этом слове, обе без всякой аффектации дружным движением руки сняли свои маленькие густые вуальки и переступили порог.
Они обе были так хороши, что добродушный Мари-Ноэль испустил крик удивления и. остановился, раскрыв рот, любуясь ими. Молодой моряк сам едва не почувствовал головокружения.
Он сделал движение, чтоб приподняться и поклониться этим блестящим посетительницам, и едва он это сделал, как снова вдруг опустился. И к его физической слабости присоединилось ещё сильное смешение мыслей.
– Госпожа маркиза де Монтеспан!.. Mademoiselle.де-Бовё! – вскрикнул он.
– Тише!.. – сказала маркиза, подвигаясь к его креслу. – Мы обещали вас не смущать и не утомлять; представьте себе, как будто к вам вошли двое из ваших друзей.
По данному знаку, Мари-Ноэль, совершенно изумлённый, пододвинул два кресла, а по другому удалился задом.
Прежде чем сесть, г-жа Монтеспан, смотря внимательно на Алена, проговорила вполголоса:
– Бедный молодой человек, как он изменился!
Урания Вове, с своей стороны, смотрела на него с искренним участием, изумленная тем, что видела теперь до такой степени бледным, изнуренным, похудевшим того кавалера, которого она заметила и отличила, месяц тому назад, между самыми блестящими кавалерами в галерее Версаля и на той злополучной охоте в Марли.
– Вы много страдали, г. Кётлогон, с тех пор, как мы с вами встретились! – сказала маркиза, усаживаясь наконец, и устремляя на него внимательный взор, в котором проглядывало живое участие, хотя его выражение было отлично от безыскусной и нежной заботы её подруги.
Этот двойной взгляд, это двойное участие не замедлили также его поразить.
Он чувствовал вследствие этого весьма различные впечатления, до такой степени различные, что он несколько раз, отвечая маркизе, обращался вдруг взором к фрейлине какою-то силою притяжения и инстинктивной симпатии.
После того как она с таким почетом увернулась от предупредительной любезности Людовика XIV, девица Бовё пользовалась особенной любовью маркизы, последняя сделала её своей неразлучной подругой и поверенной большей части своих секретов.
Не станем однако увеличивать настоящее значение этого слова. Маркиза де Монтеспан имела весьма вспыльчивый, надменный, повелевающий характер, но в глубине её души хранилась безусловная жестокость и решительный эгоизм.
Общее правило, что в каждом её плане проглядывал какой-нибудь интерес, и известно, что, благодаря этой системе, она довольно хорошо устроила свои дела и выдвинула вперед, как себя, так и всех своих близких.
Она желала знакомства с девицей Бовё, потому что оценила её прямой, великодушный характер, неспособный ни на какую измену, а также и потому, что ей необходимо было иметь кого-нибудь чтоб излить всю горечь своей переполненной души, не опасаясь нескромности и злых перетолкований. Нет на свете раздраженного ума, который бы не чувствовал той же самой потребности в сообщении.
Но маркиза, даже в своих самых пылких объяснениях, не была женщиной, способной дать волю своему сердцу в излияниях; если же она иногда и выказывала мрачную озабоченность, то это случалось только, как мы это увидим позднее, в пароксизме гнева или мести.
Но, с другой стороны, достоверно также, что выздоравливающий, так ясно выразивший в лихорадочном бреду душевную тоску, которую ему причинила одна встреченная им женщина в ту минуту, когда она выходила однажды ночью, со всеми мерами утонченной предосторожности, из дома человека, промышлявшего темными, неясными гаданиями и подозрительными снадобьями, плохо скрывал самое смутное и неопределенное принуждение, встретившись снова с ней лицом к лицу в дружеском разговоре. Уступая увлечению своей откровенности, он охотно задал бы ей вопрос, чтоб узнать, зачем она ходила к Жаку Дешо, дабы поговорить с ней без всяких обиняков и узнать ту почву, на которой он находился. Но с другой стороны, он помнил увещевания нищего с длинной бородой, которому он обещал хранить в молчании всё, касающееся до этого дела.
Решившись, следовательно, быть только наблюдателем и понимая, что подобный совет не мог быть внушён ему нищим из-за одного пустого участия, он ответил ей тем же тоном, которым она начала разговор:
– Да, сударыня, кажется, что я был очень болен.
– Мы это знали и, видя вас в ту минуту, когда на вашем лице уже отпечатлелся признак этого кризиса, я ждала, – точно так же, и Mademoiselle Бовё, – случая, чтоб засвидетельствовать вам то участие, которое мы принимали, ровно как и все наши молодые красавицы Версаля, в вашей болезни.
– Как! mesdames, я мог внушить такое сильное к себе участие?.. В самом деле, позвольте мне верить, что ваша благосклонность сильно преувеличивает действительность.
– Но вовсе нет, молодой человек, да отчего же вы не хотите мне верить?
– Ах? потому что, за исключением двух храбрых друзей, которых я имею при дворе, я имею печальное основание предполагать, что никто там не заботится обо мне, и что меня там никогда и не знали или более не знают!
– Вот именно потому то, что я хорошо знала, что вы составите себе это ложное понятие, я и хотела непременно приехать к вам, чтоб вас в этом разубедить… чтоб вас подкрепить… чтоб вам помочь… потому что я также страдаю, – сказала она, подавляя тяжелый вздох, – а причина наших огорчений одна и та же.
– Ах! наконец то, – сказал он, постепенно оживлялась, – меня просветят, мне скажут правду, уведомят меня о степени моего несчастия. Говорите, сударыня, говорите!
Девица Бовё обратила на маркизу взгляд, исполненный красноречивой мольбы, просивший ее, напротив, не увеличивать рану этого благородного, но уязвленного сердца.
Ален понял этот немой разговор:
– О, Mademoiselle, – сказал он молодой девушке; – вы – ангел доброты, я вас понимаю и благодарю вас. Вы столь же сострадательны, как и прекрасны, но я так страдаю! Я испытываю резкое удовольствие узнать, подробно про свое несчастье. Запертый здесь, замкнутый вдали от всех, я знаю только то, что по какой-то ложной жалости мои самые близкие друзья меня обманывают и не осмеливаются мне открыть то, что, вероятно, уже все знают. Так что вы, маркиза, так как я внушил вам заботливость к себе, приведшую вас даже сюда, вы из милости скажете мне всю правду.
– Клянусь честью! – прошептала г-жа Монтеспан на ухо своей подруге. – Он мне раздирает сердце… Как можно изменять тому, кем так сильно любимы!
Ален притворился будто ничего не слышит, но кроме того, что все выздоравливающие всегда одарены очень тонким слухом, сама маркиза говорила далеко не так тихо, что бы он не мог разобрать её слов.
Со стороны же этой ученой комедиантки речь в сторону была, следовательно, по всей вероятности преднамерена. Но что не было заранее приготовлено, так это ответ молодой девушки:
– Взгляните, как он уже страдает… Из милости, пощадите его… оставьте его сомневаться, так как он ещё сомневается.
Но он, желая поглубже вникнуть в свое положение, сказал:
– Вы уже слишком много сказали, сударыня, чтобы не докончить; неизвестность будет хуже, чем действительность, какова бы она ни была!
– Да, вы правы, – вскричала она, нарушая то принуждение, которое она на себя налагала, в продолжении целого часа Наше дело общее, я буду говорить… Я – ничто более, как разжалованная фаворитка, и не будь это слишком большим скандалом и вопиющим неправосудием, меня бы уже месяц тому назад лишили моей должности обер-гофмейстерины, чтоб избавиться от моего присутствия, составляющего постоянное угрызение совести и упрек.
– Ах! – вздохнул выздоравливающий, закрывая свое лицо, чтоб скрыть свое горе. – Всё кончено!..
– Вы, значит, пылко её любили, эту неблагодарную гордячку?
Раздирающая улыбка покрыла все его черты:
– Я вручил ей свое существование и свое здоровье… Да! удар жесток!.. жесток!.. и нет средств ему помочь!
– Нет средств?.. – сказала маркиза дрожащим толосом, ослепляя его своим проницательным взглядом, как будто желая понять самые сокровенные мысли его сердца. – Да, средств нет, но есть замена.
– Что хотите вы сказать?
– Разве вы забыли мое последнее слово, разве нам не остается месть?
– Ах!
Он с жадностью схватил это слово; в его взгляде блеснула молния, осветившая сиянием лицо искусительницы.
– Мы отомстим, не правда ли?
– Увы! – вздохнул он, тотчас же падая духом. – К чему все это послужит!.. Разве это может восстановить утраченные мечты?
– Нет, но это смутит радость вероломных, нужно, чтоб они столько же страдали, сколько они нас заставляют страдать… Удар за удар, зуб за зуб! Ведь гений прописал этот закон возмездия… Как! вы не содрогаетесь, как и я, при одной только мысли, что эти неверные вместе, наедине, находятся в страстном упоении пылкого удовольствия, что их измена прибавляет сладости их излияниям; и что они сами насмехаются над нами, среди своего опьянения!
– Ах! замолчите, сударыня, замолчите!.. – вскричал молодой человек, приведенный в исступление этими проклятиями, этим дьявольским заклинанием.
Он ещё не достаточно окреп, чтоб выдержать этот натиск. Им овладел сильнейший спазм, на щеках загорелся огонь, резко отделявшийся на его восковой бледности, он опрокинулся на спинку своего кресла, совсем запыхавшись и задыхаясь.
– Хорошо… хорошо! – бормотала маркиза. Одушевленная совершенно противоположным чувством, Урания Бовё, схватив флакон с уксусом, бросилась к нему, стараясь привести его в чувство и успокоить. Она обмакнула в кувшинчик с водой кончик своего собственного платка и провела им по его вискам.
Открыв глаза, он увидал кроткую сестру милосердия, нагнувшуюся над ним.
Удерживая её маленькую ручку, он поднес её к своим губам осторожным и нежным движением, ускользнувшим даже от маркизы, и губы его прошептали не произнося:
– Благодарю!
– Ах! – сказала маркиза, – вы нас испугали… Мы во зло употребили наше посещение… извините нас…
И, наклонившись к его уху, она прибавила:
– Вы ещё слишком слабы, но подумайте о том, что я вам говорила… Я вернусь!..
Он ничего ей не отвечал и поклонился ей на прощание с озабоченным видом. Урания поклонилась ему в свою очередь, обратив на него прелестный взор своих бархатных глаз, он ей слабо улыбнулся.
Визит этих двух женщин произвел на его ещё потрясенный мозг действие доброго и злого гения. Едва лишь они переступили за порог, как Мари-Ноэль, пожираемый любопытством, забыв даже их проводить, пришел к нему и заметил, что к нему снова возвращается его лихорадка.
Добрый служитель, проклиная свою любезность за то, что ввел двух особ, столь болтливых, уложил своего больного, завернул его в его одеяла и, видя его удобно и мягко лежащим, сказал:
– Ах! кстати, я давеча встретил старого плута, который утверждает, что имеет честь вас знать, брат мой Ален.
– Кто это? – спросил молодой человек, очевидно сильно страдавший.
– Какой-то нищий на костылях.
– Что ему надо?
– Он мне поручил передать вам, чтоб вы остерегались дамы с благовонием… Понимаете ли вы тут что-нибудь?
– Ты бы должен был мне это сказать час тому назад, – ответил Ален.
– Вот как… а для чего?
– Потому что… потому что, у меня, может быть, не было бы лихорадки в настоящее время.
– Тысячу чертей!.. – выругался бедный бретонец, ударяя себя по голове, – я ничего тут не понимаю… Ах! да, это опять начинается его болезнь… Надо бежать к врачу… О! женщины, никогда меня никто не уверит, чтоб они были годны на что-нибудь!..
И, проходя через кухню, он толкнул Манону, толстую, рыжую девку, которая однако же метнула ему выразительный взгляд.
Глава одиннадцатая
Прихоти короля. – Целый дождь милостей. – Мраморный идол оживляется. – Бедный Ален!
Г-жа де Монтеспан говорила правду. Хотя, как фаворитка, она и была лишена милости, тем не менее она сохраняла при дворе свое официальное положение и звание обер-гофмейстерины королевского дома, – очень завидное место, которое должно было достаться после неё г-же Ментенон, но ею самой оно было приобретено после падения герцогини Суассон, ценою двухсот тысяч экю. Вследствие этого происходило ещё более страннее положение, так как девица де Фонтанж, не переставая принадлежать к числу фрейлин её высочества, имела постоянные сношения с обер-гофмейстериной.
Приключения, следовавшие ежеминутно, занимали двор, веселили закоулки, и теперь их можно найти в собраниях мемуаров и злословий, издававшихся тогда, подобно теперешним маленьким скандалезным журналам. Другая, менее закаленная чем маркиза, отказалась бы от этого положения; но не ей, интриганке уже по виду, по природе отважной, матери восьми детей, получивших княжеский титул, из которых семеро были узаконены королем, не ей было уступать. В её уме твердо укоренился план, и он должен был исполниться.
Ей необходимо было падение соперницы. Все средства, даже самые низкие, должны были ей к этому служить.
Впрочем, всё происходило, как следует, в самом лучшем свете. Она принужденно, не смотря на колкие объяснения и грозную переписку, являлась перед королем, как будто в их отношениях не было никакой перемены она также фамильярно входила в его кабинет, – только зоркие глаза придворных, замечали, что двери оставались тогда открытыми, так что из соседних комнат, если их не слышно было, то всегда можно было их видеть.
Она никогда не исполняла с такой точностью своих обязанностей, как теперь, даже до такой степени, что, пересматривая всегда туалет фрейлин перед их выходом в парадные гостиные, часто видали, как она собственными руками заканчивала туалет девицы Фонтанж. Правда, что не раз, вероятно, по простому случаю, наряды прелестной фрейлины оказывались надетыми без всякой грации и тем вредили её осанке. Особенно, много было толку об одном бале, который давался в честь её в Вилер-Коттере, где всё пошло вкривь и вкось.
Г-жа де Севинье сообщает нам о нём в одном из своих писем:
«Были маски, девица Фонтанж явилась великолепно одетой и украшена руками г-жи Монтеспан. Эта последняя танцевала очень хорошо, Фонтанж хотела протанцевать менуэт, он начался. Её ноги не передвигались так, как, вы знаете, они должны были бы двигаться, конец шел также плохо, и наконец она присела один раз.
Надо знать всю важность, которая заключалась в этих пустых, по-теперешнему, манерах, но при дворе великого короля, в том веке, они были вещами первой важности.
Эти слова: она присела только один раз, когда оное необходимо было сделать три раза, заключали в себе целую поэму.
Наконец, что достаточно было бы для другой получить репутацию неловкой, это – что она изорвала свое платье! Но это приключение, напротив, послужило случаем новой королевской милости: так добра была королева, а король совершенно пленён.
Чтоб сообразоваться с фантазиями и капризами своей новой любовницы, имевшей в голове одни только мысли о роскоши и удовольствии, он вызвал Пекура.
Пекур также был великим человеком, но несколько лет уже как характер короля сделался с годами серьёзнее, и о нём совсем забыли.
Он носил название, ни более ни менее, как церемониймейстера Детей Франции!
В более простых выражениях, он был просто танцором и балетмейстером. Он сам недавно устраивал те увеселения, где король лично принимал участие на придворном театре, как это можно видеть в программе комедий и балетов тех времен.
Эта черта, за не имением других, достаточно утверждает, что окончательно в этом монархе была доля комедианта, но он был комедиантом более торжественным, чем естественным.
Однако не забудем, что даже при этих обстоятельствах, чтоб не уронить своего достоинства, его величество надевал маску на своё августейшее лице.
Но верно то, что он уже давно не принимал участия ни в одном из развлечений подобного рода, а вдруг, по выраженному желанию новой своей фаворитки, он призвал Луи Пекура, чтобы самому взять снова несколько уроков, а также велеть дать несколько таковых де Фонтанж.
Потом, приложив палец к губам, чтобы этим приказать хранить следующее в строгом секрете, он прошептал:
– Ее надо также выучить поклонам.
– Для менуэта, государь? – спросил балетмейстер.
– Нет… для приема в звании герцогини.
Но ведь никакая милость не равнялась с этой; это был такой редкий, исключительный случай, что ни одно европейское событие не могло бы произвести более влияния на весь Париж и Версаль.
Пекур, хотя и танцор, но был очень скромен; но главное, заинтересованное в этом лицо, не помня себя от радости и восторга, не удержалось и проговорилось о том несколько слов, – но было бы достаточно и одного.
Уже во второй раз Луи Пекур получал подобное великое поручение.
В первый раз, дело касалось девицы Ла-Вальер, которая, при всей своей скромности, повиновалась этому со слезами на глазах, – между тем как Мария Фонтанж захлопала от радости в ладоши. Подумайте только, вдруг герцогиня, она!.. г-жа Монтеспан была только маркизой! Уничтожение соперницы сделалось полным.
Несколько дней спустя, в одном собрании у супруги дофина, король, заметив табурет, случайно оставшийся незанятым, между госпожами де-Крюсоль и де-Крекие, приблизился к Марии Фонтанж и при гласил её занять это место.
При этом он прибавил тихим голосом, но однако был многими услышан, так как вокруг него стояли люди, обладавшие тонким слухом:
– Я хочу, чтоб при моем дворе, как на Парнассе, герцогини изображали бы собой трех граций… Терпение, я выжидаю только прекрасного случая.
Эти поклоны, этот предложенный табурет между двумя принцессами, ошеломили не только госпожу Монтеспан, звезда которой блекла с минуты на минуту, но также и третье светило, которое осторожно прокладывало себе путь, чтоб в свою очередь добраться до зенита, – мы подразумеваем г-жу Ментенон.
Каждая, в свою очередь, не сообщая впрочем ни слова одна другой, выдумывала про себя самые дьявольские интриги и готова была поднять содом, чтоб оградить «добрых душ», как они выражались, от «нового скандала».
Ничто не помогало, чувство и расположение короля к этой девице чудной красоты усиливались и укреплялись всё более; в ней он находил совершенства, положительно непонятные обыкновенным людям.
Ба! это было всё ещё ничего!
Помолодев ещё более, чем он это был во времена девиц Манчини и Аржанкур, он умудрялся в мельчайших безделицах удовлетворять своего идола и приводил её из одного изумления в другое. Но нельзя думать, чтобы это была для него лёгкая вещь. Честолюбивая не знала границ; она с таким тщеславием наслаждалась своим неожиданным счастьем, что воображала себя выше даже самой королевы, и не кланялась более ей, когда королева входила туда, где она находилась. Достаточно было ей только что-либо пожелать, чтоб это самое желание сделалось уже законом.
Однажды, неизвестно к чему, она сказала:
– Мне ничто более так не нравится, как серый экипаж.
На другой день Людовик XIV сказал ей.
– Посмотрите, какая прекрасная погода, какое чудное солнце; не желаете ли прокатиться в карете?
– Если мой принц будет участвовать в этой прогулке, (так она величала своего именитого любовника), я с удовольствием поеду.
– Поедемте, – ответил он.
И подав ей руку, он повёл её через все покои до подъезда дворца, пред которым нетерпеливо топотали восемь лошадей, запряжённых в карету. Как лошади, так и самый экипаж были светло-серого цвета; на экипаже виднелся герб, на котором красовался её вензель, смешанный с вензелем короля. За каретой ехала свита, Фургоны, верховые, великолепный портшез и огромное число прислуги в одинакового цвета ливреях.
Это был полный поезд и вполне королевский, потому что одни только королевские особы ездили в восемь лошадей.
Входя в экипаж, в полном упоении от счастья, она в нем нашла золотой ящик с эмалью, содержаний в себе десять тысяч луи и полный серебряный-вызолоченный сервиз великолепной работы.
– Как это всё восхитительно!.. Как это восхитительно! И как я люблю вас, мой дорогой принц, – повторяла она беспрестанно.
– Знаете ли, – спросил король, – какая эмблема того цвета, который вы предпочитаете?
– Нет, но скажите же мне её скорее; я уверена, что это что-нибудь очень милое.
– Милое, в самом деле, так как это называется amour sans fin – любовь без конца.
– Любовь без конца!.. такова будет наша! – вскрикнула она, бросаясь на шею своего любовника с поцелуями, которые его совершенно опьяняли. – Вы более не Людовик Великий, вы – Людовик Очарователь.
– Подождите, – сказал он хитро, – вполне оценивать мое очарование…
Экипаж ехал быстро, сопровождаемый своим царским поездом, через аллеи, приближаясь к загородному дворцу.
– Куда вы меня так везете? – спросила прелестная Мария, упоенная великолепными рысаками, среди страстного разговора наедине.
– Вы это скоро увидите, прелестная герцогиня, потому что я сам не знаю хорошо этой местности, лишь только понаслышке.
– Еще какая-нибудь любезность, я бьюсь об заклад! Ах! Государь, вы балуете меня, вы просто преисполняете меня счастием.
– Я хочу вам доказать, что ни одно вышедшее из этого божественного ротика слово, не может быть потерянным словом.
Тут послышались крики, залп из ружей, виват; карета въехала под триумфальные ворота и остановилась.
– Посмотрите, сказал король.
– Где мы находимся?
– Как! окончательно вы все ещё не отгадываете?
– Совершенно отказываюсь.
– Вы не узнаете Марли?
Удивление отняло у неё дар слова, или уж она не находила, что сказать; она видела прежде Марли на Сене, теперь же встретила согласно своему желанию Марли – короля, то есть, волшебный дворец наместо лачуги.
– Как это великолепно! Как великолепно! – повторяла она, всплеснув руками. И, обняв короля, прибавила своим голосом, подобным голосом сирени: – В самом деле, я вас слишком люблю! Вы, только одни, в состоянии заставить себя так любить!
А в это самое время её жених, обезумев от ревности, боролся между своих друзей, чтобы покончить с жизнью от того отчаяния, которое ему причинила его неблагодарная невеста.
Глава двенадцатая
Вторая юность Короля-Солнца. – Как был построен Марли. – Змея под цветами.
Версаль не был ещё окончен, хотя на него уже было положено более двухсот миллионов, что в то время представляло полный годовой доход Франции, а король находил его все ещё не совсем в своем вкусе.
Он отказался от С.-Жермена уже по известным нам печальным причинам; Венсен был мрачен и плохо устроен, Фонтенебло было далеко расположено, одним словом; его величество искал новое приятное местожительство, удобное, в особенности же уютное для тесной связи. Ему говорили о Лувесиене, но он рассудил, что потребуются слишком значительные издержки, чтобы устроить там что-нибудь хорошее. Одно желание фаворитки решило выбор Марли.
Хотя в настоящее время была только весна, а желание это было выражено в начале февраля, но дело пошло так быстро, что все преобразование оказалось действительно волшебным.
Надо также помнить, чтобы вполне себе все это разъяснить, что когда его величеству приходило желание строиться, то оно всегда искусно шло вперед: король отдавал лишь одно приказание, и тотчас всем каменщикам запрещалось заниматься какой-либо другой постройкой, исключая назначенной монархом. Ввоз песчаного камня и подобного рода материалов в Париж был запрещен во время постройки Версаля.
Вот что значит поступать по-царски, или уже я ошибаюсь!
Следовательно, благодаря этой системе, павильон Марли вырос из земли одним ударом лопатки, а его сады, его парк оказались рассаженными, цветущими, зеленеющими при самом начале весны.
Послушайте, что об этом говорит Симон, он вас подробно с этим ознакомит, и вы узнаете изо всего этого, как его злобу, так и весь его пыл:
«Король, утомленный всем прекрасным и толпой, уверил себя, что ему иногда хотелось малого и просто уединения. Он долго искал в окрестностях Версаля, чем бы удовлетворить эту новую прихоть; он осмотрел несколько местностей; он объехал холмы, открывающее С.-Жермен, и эту обширную долину, лежащую внизу…
Он нашел, позади Люсиенна, узкую, небольшую долину, глубокую, с крутыми холмами по краям, не доступную по своим болотам, без всякого вида, замкнутую со всех сторон; чрезвычайно тесную, с плохой деревушкой, расположенной на скате холмов, – долина эта называлась Марли. Эго место без всякого вида имеет только достоинство вследствие своей замкнутости, холмы, на которых нельзя было распространиться, много тому способствовали; он думал избрать министра, фаворита, главнокомандующего армией. Потребовалось много труда, чтоб осушить этот сток нечистот со всех сторон и нанести туда земли.
Эрмитаж был построен: он послужил только для проведения трех ночей, со среды до субботы, два или три раза в год, с дюжиной самых необходимых придворных лиц; мало-помалу эрмитаж был расширен.
Всё остальное также ещё более расширялось, холмы были совершенно сняты для очищения места и построек, а те, которые стояли на концах, те были совсем свезены, чтоб очистить вид; наконец строения понемногу сменялись, всё превращалось в сады, добывалась вода, делались водопроводы, сооружалось всё любопытное под названием Машин Марли. По своим паркам, по украшенным и замкнутым лесам, по статуям, по драгоценной мебели, Марли стал тем, чем его и теперь, ещё видят, несмотря на всё его разграбление по смерти короля. А также по появившимся в нем густым рощам, по высоким деревьям, которых туда беспрестанно привозили из Компьена и из ещё более отдаленных мест, три четверти из них пропадало, и их тотчас же заменяли другими; по обширным лесным пространствам и темным аллеям, внезапно превращенным в бесконечные бассейны, где катались в гондолах.
«Я разсказываю про то, что я видел сделанным в шесть недель: о бассейнах, измененных раз сто, о водопадах, о последовательных и совершенно различных фигурах, о жилищах карпов, украшенных позолотами и самыми восхитительными живописями, едва оконченных, перемененных и восстановленных теми же властелинами бесконечное число раз».
Это была чудесная на самом деле машина, о которой мы только что говорили, со всеми своими несметными водопроводами, своими протоками, своими ужасными резервуарами, единственно посвященными Марли; а если к этому ещё прибавить расходы за те постоянные переезды, которые почти что равнялись пребыванию в Версале, то нельзя будет слишком высоко оценить Марли, считая расходы по нему миллиардами.
Мы прибавим, чтоб дать окончательно более точное понятие о восхищении, которое должно было возбудить внезапное зрелище этого великолепия в молодой фаворитке, описание, доставленное нам Дюлором:
«У подошвы чудесного водопада и выше самых роскошных садов, возвышался большой уединенный павильон, господствовавший над обширной площадью, украшенной террасами, водопадами, цветниками, рощицами, бассейнами, несколькими произведениями резной работы; площадь эта заканчивалась очень разнообразным и богатым дальним видом местности и была обложена тисовыми аллеями, портиками в зелени и двенадцатью павильонами, которые напоминали собой двенадцать знаков солнечного пути, точно так же, как главный павильон – поднебье солнца.
Эти двенадцать павильонов, архитектура которых составляла такой приятный контраст с кучами зелени, их разделявшей и украшавшей, служили жилищем для министров и принцев.
Великолепная аллея вела к круглому двору, к которому примыкали дворы, назначенные для конюшен и сараев. Этот двор вел к длинной аллее в 230 метров, окруженной террасами, обложенными деревьями и ведущей к переднему двору. Его круглый вид заканчивался двумя павильонами, из которых один служил помещением для караула, а другой часовней.
В особенности Марли приобрёл чудесную репутацию своими садами. Следующее между всем прочим приводило в восторг всех посетителей: перед замком, со стороны горы, находилась площадь, называемая амфитеатром, занимаемая большим бассейном, одним из лучших бассейнов Марли. Это был такой бассейн, который, падая с большой высоты, на шестьдесят три мраморные ступени, образовывал водопады, с красотой которых ничто не могло сравниться.
Верхние сады, расположенные со стороны Версальской дороги, состояли из нескольких прекрасных аллей, ведущих к бельведеру, все это украшалось произведениями скульптуры и ваяния.
Проходя по парку, можно было встретить три большие резервуара, занимающее около пяти десятин и снабженные машиной».
Людовик XIV, руководимый по очереди Мансардом, воздвигнувшим все постройки, и Дюрюзе, разбившим сады, радостно наслаждался восторгами девицы Фонтанж и обещал ей, поскольку это жилище ей так нравилось, его часто посещать и даже тут поместиться.
Это было для неё ещё одним успехом, так как для того, чтоб хорошенько определить тот восторг, под влиянием которого он так действовал, он решил, что Марли будет любимым местопребыванием, интимным, задушевным, имеющим исключительные преимущества.
За таковым решением последовало исполнение.
Обрядолюбивый монарх снисходительно дозволил даже немного уклониться в Марли от правил этикета, женщинам было позволено не носить парадного придворного платья; а мужчины получили право покрывать свою голову, сопровождая короля.
Из этого можно видеть с какой заботой выбирали сюда избранных и приглашенных, и как их было мало.
Одно из преимуществ, которого с тех пор более всего добивались, это чтоб сказать: «Я принадлежу к Марли его величества».
* * *
День был великолепный во всех отношениях; Купидон, мифологические образы которого, не щадя, воспроизвели во всех удаленных и тенистых местах, вероятно, сам присутствовал на этом празднике.
Г-жа Монтеспан нисколько не поддавалась и представляла зрелище, быть может, даже беспримерное, именно фаворитки, лишенной милости после долгого владения ею. Она упорно оставалась при дворе, упорно защищалась, не покидая ни одного из своих преимуществ и выказывая или требуя себе всё значение превосходства своего чина над соперницей, её низложившей.
Она присутствовала при этом празднике, и хотя держалась в отдалении, как и в той большой охоте, про которую мы прежде рассказали, она отчасти всё-таки мешала слишком продолжительным свиданьям короля наедине с новой фавориткой.
Случай, свойственный только любви первой молодости, ознаменовал однако небольшую быструю прогулку, которой король успел воспользоваться под ручку с своей новой победой.
Увидав распустившуюся маргаритку на куртине, он живо нагнулся, сорвал её и, подавая её Марии, сказал:
– Из любви ко мне, оборвите с неё листочки.
Она её взяла и, улыбаясь, отвечала:
– А если обманщица пожелает утверждать, что я вас не люблю?
– Я их тогда велю всех до последней вырвать из этих цветников, посвященных вам.
– Тогда я рискну.
Она начала известную игру, с восхитительной грацией, свойственной лишь её девятнадцатилетней молодости:
– Я люблю тебя… немного…
Все это было на самом деле, мы ничего не прибавляем!
Людовик XIV слушал её и смотрел со вниманием гимназиста, находящегося на свидании с какой-нибудь хорошенькой пансионеркой, отпущенной на каникулы.
– Ну, кончайте, сказал он.
Миниатюрные пальчики сорвали новый лепесток.
– Много… произнесла Мария.
– Дальше… дальше!..
Таким образом дошли до конца со словом:
– Страстно.
Король, схватив маленькие ручки, ещё державшие стебель цветка, стал их покрывать поцелуями.
После чего, срывая вторую маргаритку, он вдел её в свою петлицу и в продолжение некоторого времени ходил, украшенный этим цветком. Ле-Нотр получил приказание наполнить ими сады его величества и всегда иметь их в теплицах.
Но природные маргаритки – это вещь очень непостоянная. А чтоб освятить это пророчество, любезный государь послал через несколько дней после этого девице Фонтанж художественной работы сундучок, весьма дорогой, заключавший в себе парюру, которую он её просил в любезной записочке, надеть на ближайший праздник; парюра эта состояла из бриллиантовых маргариток.
Как видно, игра эта осталась не без интереса.
Маргаритки тотчас сделались модным цветком, и как все дамы стали носить одни только фонтанж, а также и придворные надевали бриллиантовые маргаририты, подражая парюре фаворитки.
Вернёмся опять к празднику в Марли: король решил, что он будет полным празднеством, и что он сам откроет с нынешнего дня свои частные покои, ночуя в новом дворце.
Отсутствие королевы, принужденное отдаление г-жи Монтеспан, особенный выбор принимаемых членов давали более простору его любезным желаниям.
Знаменитый Пекур объявил, что поклон, которому он должен был обучить девицу Фонтанж, был уже ею вполне изучен; тогда велели пригласить двадцать четыре скрипки, чтоб заодно составить и концерт, и танцы.
Людовик XIV весь сиял в драгоценных камнях, кружевах, перьях, а в особенности блестел своим хорошим расположением духа.
Девица Фонтанж была избрана танцевать против его величества, который сам пригласил свою двоюродную сестру, Mademoiselle де-Монпансье[9]. Принцесса была очень смущена, так как ей надо было просить о монаршей пощаде, о возвращении Лозена, лишенного всё ещё милостей, и в которого она была искренно влюблена. Хорошее расположение духа и улыбки её именитого кавалера придали ей смелость, но все таки не совсем укрепили её в уверенности достичь желаемого. Король, видя её в таком смущении, сказал ей, приглашая её танцевать:
– Пойдемте, кузина, это в знак уважения к той особе, которая вам нравится.
Она едва не упала в обморок от радости, но, призывая на помощь в это важное мгновение всю свою храбрость, она ответила:
– Я хорошо вижу, что вам необходима жертва, сегодня моя очередь, я жертвую собой и прошу всех дам извинить мне мою неловкость, но я не умею ни в чем отказывать ни моему королю, ни тому имени, которое он только что произнес.
Принцесса чудесно вывернулась из кадрили, несмотря на всё своё смущение.
Девица Фонтанж, которая танцевала визави с королем, была в гораздо большем смущении. Она поскользнулась, от чего её прическа пострадала так же, как на последней охоте.
Окончательно, Марли сердился на эти густые длинные белокурые волосы. Косы и жемчуг развязались, но всё это было в один миг снова подобрано лентой огненного цвета, которую король носил в петлице и которую он вырвал, чтоб предложить своей любимой султанше.
Девица де-Монпансье не побоялась служить на этот раз камер-фрейлиной новой фаворитке.
По какому-то чуду кокетства, исправленный беспорядок и на этот раз произвел прическу ещё более изящнее, чем первую.
Людовик XIV, очарованный её преобразованием и не менее того самоотвержением своей двоюродной сестры, подошел к последней и сказал вполголоса:
– Вы сейчас подписали обратный призыв изгнанника; и вы в скором времени произведете герцогиню; эта почесть сберегается для одной головы, к которой ваши прекрасные руки прикасались.
Танцы возобновились с ещё большим воодушевлением; старые придворные так же, как и Пекур, клялись всеми святыми, что его величество, ничего не потерял за эти двадцать лет: ни в своей грации, ни в своей гибкости, и провозгласили его вместе с молодыми придворными, любовавшимися им в первый раз в этом виде: первым танцором Франции и Наварры.
Все похвалы были приятны этому государю, даже похвалы от его учителя танцев.
Однако, последние слова, обращенные к принцессе Монпансье, были очень ясно произнесены и очень хорошо услышаны.
Это было окончательное подтверждение слов о поклонах. Не оставалось более никакого сомнения, новая фаворитка должна была получить мантию герцогини, и эта знатная почесть не замедлит явиться!
Столько милостей, столько благосклонностей, щедростей, отличий сыпалось на голову, тем более проклинаемую другими, чем восхитительней она делалась, всё это должно было воспламенять лихорадочное воображение её врагов.
Ненависть к ней возрастала вместе с её счастьем. Это было логично и всё дело не замедлило идти таким порядком.
На другой день, приезжая к себе, в своем чудесном экипаже светло-серого цвета, возвращаясь с этого волшебного праздника в Марли, Мария Фонтанж нашла записку, занесенную, как ей сказали, уже с первого часа дня человеком, ливрея которого никем не была узнана.
Она открыла ее, ничего не подозревая, но едва она на нее взглянула, как испуганно вскрикнула.
Эта угрожающая записка, написанная изменённым почерком, заключала в себе следующие две строчки:
«Остерегайся мантии герцогини, она будет для тебя туникой Деяниры».[10]
Глава тринадцатая
Набожность при дворе. – Мантия герцогини. – Погибшие клятвы. – Оскорбление вдовы Скаррона.
Мы не прибавим ничего особенно смелого, рассказав, что яростная угроза девице Фонтанж причинила в Версале менее удивления, чем волнения.
Известно было, как оскорбляло многих положение новой фаворитки, какую она поднимала во многих старинную неприязнь и возбуждала ревность на настоящее и будущее время, только разделялись мнения насчёт происхождения записки, так как таковых могло быть несколько.
Во всяком случае, если её автор рассчитывал этим обуздать её честолюбие, то он сильно ошибся, ничто не могло как ограничить, так и лишить её милости к ней короля.
Король почувствовал удар гораздо сильнее, чем она сама.
Начиная с этого дня, её обаяние не имело более преград, и молодая и легкомысленная временщица выказывала свое влияние на всём кстати и некстати.
Одно обстоятельство сильно способствовало результату подкинутой записочки.
На третий день после этого приключения, когда король снова собрался начать свои увеселения, он послал к своей фаворитке г-на де-Марсильяка, который, вместе с герцогом С-т Аньян, пользовался доверием короля относительно его любовных тайн, чтоб уведомить её о желании его величества назначить бал во дворце.
Посланный не замедлил явиться обратно, но с расстроенным лицом.
Он нашел девицу Фонтанж в постели и очень больной.
Странная, неизвестная болезнь вдруг овладела ею, и она уже думала, что совсем умирает. Все её тело ужасно распухло, не исключая даже и лица. Никто не подозревал ещё о случившемся, так как больная умоляла, чтоб хоть из милости обо всем этом молчали, боясь обрадовать г-жу Монтеспан своим положением. Людовик XIV, чрезвычайно беспокоясь, отправился к ней, не колеблясь.
Он застал там настоятеля Кабриера, самовольного врача, не получившего диплома от медицинского факультета, того самого, которого г-жа Севинье назвала в, шутку врачом по принуждению, потому что он практиковался лишь на её особе, некоторым образом даже принужденно.
Лечение его слыло необыкновенным, главным образом потому, что он употреблял очень мало лекарств и презирал формальную практику тогдашних известных и признанных докторов.
Присутствие монарха его ничуть не напугало, он продолжал свою консультацию, прописал самые простые средства, сам составил для больной микстуру и питье, от которых она тотчас же себя хорошо почувствовала, и удалился, обещая, что она встанет с постели ближе конца этой недели.
Радость видеть своего возлюбленного столь услужливым и внимательным помогла лекарствам; на пятый день все следы болезни исчезли, но вместе с тем сам врач не мог или не смел дать точного её определения. Это событие ускорило то, чему безымянное письмо и, вероятно, таинственная болезнь имели целью помешать.
На следующее утро после её восстановления, тогда как интересующая собою всех выздоравливающая принимала, по принятому обычаю, в своей постели, окруженная многочисленным обществом, провозгласили:
– Король!..
Театральный эффект; восторг придворных показаться перед своим властелином у ног его идола.
Он сиял так же, как в свои лучшие дни, а по его пятам шли пажи, несущие корзину, которую они с большой церемонией поставили на столик.
Это была коробка с сюрпризом, и так как она походила на свадебную шкатулку, то пламенное воображение некоторых разыгралось до того, что они стали ожидать, что сейчас оттуда вынут свадебный наряд, и что влюбленный монарх женится с побочной стороны на своей фаворитке.
Он же, всё улыбаясь, обратился к девице де-Понс, которая не отходила от Марии со дня её болезни, и сказал ей.
– Mademoiselle, вы, оказавшаяся такой превосходной сестрой милосердия, потрудитесь открыть эту шкатулку, в виду интереса вашей дорогой больной; я думаю, что вы там найдете средство, которое довершит все её лечение.
Фрейлина поспешила повиноваться и достала последовательно из драгоценного сундучка сперва грамоту на титул герцогини!..
Больная если б только не воздержалась, и то не без труда, то наверное бросилась бы на шею своего восхитительного возлюбленного.
Потом другое свидетельство на двадцать тысяч талеров пенсии и, наконец, роскошную горностаевую мантию. Герцогиня!.. Она держала в руках и этот титул, и знаки его отличия!
Новость эта разразилась точно ракета. Уже до двенадцати часов дня, при дворе оставалась лишь одна особа, не поздравившая ещё прекрасную Марию; особа эта была г-жа Кавой, столь сильно пренебрегаемая двоюродная сестрица Алена де-Кётлогона.
Мария Фонтанж принимала все эти поздравления в своей постели, настоящей парадной постели, изящно обитой и отделанной бахромой с золотом.
Одним из наиболее ревностных поздравителей был духовник красавицы, о котором вовсе не думали во время кризиса.
Это был некто отец Обаред из Асторга, архидиакон собора в Памьё, сделавшийся знаменитым своими интригами и алчностью; замешанный во всех опасных и насильственных делах, имевших в то время своим предлогом так называемые религиозные прения.
Отец Обаред, который последовательно делался угодником всех фавориток, не замедлил ухаживать и за своей не слишком дальновидной кающейся. Вследствие этого-то увидали вдруг, что Людовик XIV в этот год причащался на Пасхе, чего он уже не делал несколько лет.
Однако, среди толпы своих уничижённых прислужников, своих льстецов, Король – Солнце встретил однажды священника, весьма смелого и почти героически убеждённого, так как надо было иметь много храбрости, чтоб осмелиться восстать против него и напомнить ему об уважении законов религии.
Этот священник, имя которого заслуживаешь действительного почета, был отец Шампи.
Призванный королем для исповеди, он сказал:
– Вас исповедовать, да, государь, это моя обязанность, но я предупреждаю также ваше величество, что я дам вам отпущение грехов не иначе, как только тогда, когда вы обязуетесь торжественно перед Богом, который нас услышит, прервать всякое греховное сношение.
Король не исповедывался и совсем перестал причащаться; но, скажем в его похвалу, он не выказал никакой жестокости в отношении доброго священника, а напротив он всегда упоминал о нем в самых лучших выражениях.
В другой раз, когда один проповедник в своей проповеди также призывал его на суд слишком личным и прямым образом, то король сказал ему без гнева, выходя из часовни:
– Г-н аббат, я сам люблю участвовать в нравоучениях, но не люблю, чтоб мне их делали.
И продолжая ревностно и тщательно посещать церковные службы, он продолжал свою жизнь, притворяясь глухим на все замечания, которые достаточно доходили до него, как со стороны Атенаисы, или от г-жи Ментенон, к которым он во всех других случаях, оказывал чрезвычайное внимание.
Итак, в этот год, по настоянию Марии Фонтанж, он снова начал причащаться.
Отец Лашез, к которому он обратился, был сговорчивее, что заставило г-жу Монтеспан, вне себя от негодования, произнести знаменитые слова:
– Le рèrе de-la-Chaise n’est qu’une chaise de commodités.
– Отец Лашез настоящее удобное кресло.
Она же по поводу светло-серой ливреи называла свою торжествующую соперницу не иначе как серой мышью.
Последнее изречение про благосклонного исповедника имело громадный успех, как в городе, так и при дворе, но оно нисколько не принесло пользы его автору, и Бог знает, извинили ли девица Фонтанж и исповедник за него автора.
Высшие служители церкви энергично были приглашены принять участие в этом деле; надеялись, что король, снова вступив на этот довольно широкий путь, может быть атакован с этой стороны.
В начале настоящего года, он определил Боссюэта священником при супруге дофина, но Боссюэт вовсе не старался начинать свои нападки против Марии Фонтанж, как он уже это раз предпринимал по побуждению королевы и принцесс 4 или 5 лет тому назад, против Атенаисы де Монтеспан, чтобы добиться её удаления.
Тогда прибегли к Фенелону; красноречивый писатель не отказал в своем содействии; он отправил к королю знаменитое письмо, оригинал которого ещё и теперь цел; оно заключало в себе следующие места:
«Уже тридцать лет, как ваши главные министры поколебали и разрушили все старинные преграды государства, чтоб до высшей степени возвысить вашу власть, сделавшуюся на самом деле ихней, так как она находилась в их руках. Не упоминали уже более о государстве, ни о его порядках; говорили только о короле и об его удовольствиях. Доходы ваши и ваши издержки простерли до бесконечности; вас возвеличили до неба, чтоб стереть, как говорят, всё величие всех ваших предшественников, то есть одним словом, обеднили целую Францию, чтоб ввести при дворе чудовищную и неизлечимую роскошь. Однако ваш народ умирает с голоду, обрабатывание земли почти заброшено; города и селения пустеют; все промыслы гибнут и не кормят более собою работников. Всякая торговля уничтожена. Вся Франция представляет собою в общем большой лазарет, находящийся в каком-то отчаянии и лишённый всяких запасов. Правители находятся в уничижении и изнурении. Даже самый народ, который вас так любил, начинает терять к вам любовь, доверие и даже уважение. Ваши победы и ваши завоевания не радуют его более; он исполнен горечи и отчаяния. Бунт возгорается мало-помалу во всех концах… Вы присваиваете себе всё, как будто вы настоящий земной бог, а всё остальное создано только для того, чтоб быть вам посвященным, Напротив, вас именно Бог послал в мир, и только для вашего народа. Но, увы! вы не понимаете этих истин, как же вы могли бы их вкусить?..
Король не прогневался на этого апостола, как и на отца Шампи, но далеко не исправился от его слов.
Обратились к Флешие.
Превосходный оратор был избран для того, чтоб произнести слово при торжестве, на котором парижский архиепископ служил в Версале.
Он произнес знаменитую проповедь, начинающуюся так:
«От Господа 1680 год, ты, который видишь Францию на высшей точке её славы и её короля, падающего ниц пред престолом, чтоб возблагодарить Всевышнего, создавшего его самым могущественным из государей, не проходи, не приготовив ей в будущем столь же благополучные года!..»
Оратор продолжал говорить по поводу мира, только что заключенного в Нимеге, благодаря Бога за то, что Он покорил им врагов и доставил народу счастье наслаждаться плодами мира. Затем он искусно переходит от общественного счастья к домашнему, утверждая, что вся внешняя настоящая жизнь положительно вредит последнему.
По поводу этого он восклицает проникающим голосом:
«Вы, которых провидение испытывает, покоряйтесь же Ему! Предайте себя в Его руки, Оно посылает горя своим детям в такой только мере, в какой «они могут его перенести.»
Король слегка склонил голову, что сильно тронуло всех присутствующих, в особенности всё высшее духовенство, всегда чувствительное к проявлению раскаяния и смирения, и в этом отношении всегда довольствующееся малым.
Но оратор, уступая человеколюбивому побуждению, воодушевлявшему его, направил свой растроганный взгляд на г-жу Монтеспан, к которой он, казалось, желал применить свои последние слова утешения.
Слушатели следили за этим взглядом и, к великому своему негодованию, они заметили, что высокомерная маркиза подняла высоко свою голову и бросила вызывающий взгляд на проповедника.
Накануне только она раздражительно спрашивала короля, зачем он присутствовал в опере Прозерпины, утверждая, что он, аплодируя сцене Меркурия с Церерой, хотел прибавить ещё новое оскорбление ко всем своим обидам; так как эти сцены служили, по её мнению, намеком на охлаждение короля к её особе.
Двор превратился, как видят, в одну бесконечную интригу и неосторожная фаворитка своим поведением и обращением находила, вероятно, удовольствие раздувать уже и без того большую ненависть к себе.
Она считала себя вечной и неуязвимой, – или скорее – она жила в мире, исполненном тщеславия и безумных мечтаний, бедная красавица без рассудка, без опытности, не имея никого, кто бы мог подать ей совет.
Да, нашлась одна особа, но сейчас увидят, был ли хорош совет, и была ли советница беспристрастна. В начале вновь загоревшейся страсти короля, г-жа Ментенон, выбранная г-жой Монтеспан в свои поверенные, благодаря тому, что умела искусно скрывать от неё свои личные планы, отвечала:
– Оставьте, оставьте это, маркиза, прихоть эта не долго продолжится и будет последней.
Для подтверждения своих слов она упомянула имена трех или четырех женщин, служивших прихотями Людовика XIV в предыдущие года; это были розы, едва сорванные, но тотчас же брошенные.
Но видя, какой ход принимали дела, принимая также во внимание лета короля и рассудив с свойственной уверенностью её взгляда, она решила, что дело становилось более опасным, так как мужчины от сорока до пятидесяти лет гораздо легче подпадают под влияние своих молоденьких любовниц.
Вследствие этого она осмелилась настраивать ту, которая угрожала разрушить все её самые дорогие мечты, пристроившись навеки близ короля. Она напрасно тратила на это и свое красноречие и свою дипломатию. Всё, чего она только добилась однажды, после двухчасовой проповеди, было следующее возражение, уже вовсе не такое уж глупое:
– Если вас послушать, сударыня, то можно подумать, что также легко расстаться с королем, как расстаться с своей рубашкой?
Вдова Скаррон, истощившая всё своё красноречие, была так смущена этим ответом, что в первый раз только не нашлась, что возразить.
Глава четырнадцатая
Не все изменники. – Тонкое внимание. – Выздоровление и заблуждение любви. – Похищение кавалера.
Посещение маркизой Монтеспан выздоравливающего больного, живущего в гостинице Сент-Эстош, произвело прискорбное действие, которое мы уже видели из предыдущих рассказов.
Ален не в силах был безнаказанно вынести то сообщение, которое именно воскрешало ощущения и впечатления, бывшие причиной его болезни, а также чуть-чуть не потери самого рассудка.
Но, благодаря заботливости, окружавшей его, этот новый кризис в его болезни не достиг ожидаемой опасности. Не только что его друзья оставляли его ещё реже, чем в первый раз, но он сделался предметом нежного внимания, полного тонкости и осторожности, которое способствовало его развлечению, что и было главным образом предписано ему доктором.
Не проходило дня, чтоб таинственный посланный не вносил в эту скромную комнату гостиницы – самые необходимые предметы, которые могли бы стушевать немного неприятный вид занимаемого больным номера, а также доставить все потребности для удовлетворения малейшим нуждам невольно живущего здесь гостя.
Эти предметы состояли из множества цветов, фруктов, доходили даже до безделушек, подобных тем, которые вышивают в пансионах, как например, подчасники, коробочки для золотых вещей, аксельбанты, разные банты на шпагу, выказывающие тонкую заботливость, свойственную только женщине.
Иногда эмблемы, подобно незабудкам, или девизы, в роде следующих: вера, надежда, храбрость, честь, появлялись в прелестных вышивках на лентах или кружевах.
Предписывал ли доктор лакомство, какой-нибудь ранний плод, в ту пору почти не находящийся в продаже – на другой день, выходя от своего господина, Мари-Ноэль, неусыпный служитель и блюститель больного, получал из рук хозяина гостиницы шкатулку, содержавшую в себе именно этот, прописанный доктором предмет.
Это было волшебство, которому таинственность придавала ещё более прелести, а так как нужно было чем-нибудь развлекать выздоравливающего, то для этого нельзя было изобрести ничего лучше.
Но вот его воображение после разного рода придумок напало на один след, который, быть может, далеко не был настоящим.
Сначала он подозревал своих двух верных друзей, Генриха и Шарля, в участии в этой маленькой интриге, в мельчайшие подробности которой он находил удовольствие их посвящать.
Долго не веря в искренность их отрицаний, он кончил тем, что поверил им наконец, видя, что они казались сами столь же изумлёнными, как и он при появлении этих любезностей, появляющихся всегда в надлежащее время, с той же скромностью.
– Если б я мог, наконец, узнать, кому я обязан этим вниманием! – повторял каждый день Ален.
И желание узнать это принимало всё сильнейшие размеры.
После расспросов у Мари-Ноэля, у служанки, у хозяина гостиницы, он ничего нового не узнал. Все посылки приносились с рассветом, всегда тем же посланным, очень похожим на рассыльного, одетым весьма просто, таким сдержанным в словах, что будь он даже нем, то и тогда он не мог бы сказать менее.
Он всякий раз входил, клал свою посылку и говорил:
– Передать г-ну Кётлогону.
– От кого? – спрашивал хозяин гостиницы.
– Не знаю.
– Господин кавалер запретил что-либо принимать, если не будут говорить, откуда приносятся эти вещи.
– Это до меня не касается.
– В таком случае отнесите это туда же, откуда вы их принесли.
– Отнесите сами.
Или же случалось следующее изменение:
– Послушайте, мой милый, не будьте так таинственны; между нами будь сказано, я никому ничего об этом не передам, – ведь это дама вас присылает, неправда ли?
– Что вам до того?
– Может быть, вам нужно что-нибудь заплатить?
– Ничего.
– Тем не менее, по такой погоде, вы не откажетесь, вероятно, со мной выпить рюмочку?
– Я не имею дважды.
Одним словом, это был образец рассыльного.
Однажды утром, когда Мари-Ноэл также находился при этом, он захотел продолжить разговор и принудить его выпить. Но хитрость не составляла существенного достоинства честного матроса.
При появлении служанки, несшей с собою большую кружку и два оловянных стакана, каждый размером в полштоф, насмешливая улыбка показалась на губах комиссионера.
– Чорт возьми! – сказал Бретонец. – Вы, вероятно, не откажете мне выпить со мной за здоровье моего молочного брата.
– В этом нет, – сказал посланный. Он чокнул свой стакан о стакан доброго моряка и выпил его залпом.
– Клянусь св. Анной, вы прекрасно выпили! – вскричал Мари-Ноэль с восхищением. – Повторим.
– Нет, – сказал рассыльный.
– Отчего?
– Потому что меня ведь нельзя напоить до пьяна.
– Ба! из-за одного стакана!..
– Я могу их выпить десять и ничего не будет заметно, но достаточно одного. Прощайте!
Мари-Ноэль опустил нос в свой стакан и заключил решительно:
– Если тут ещё замешаны женщины, то это плохо кончится…
И Манона, рыжая красавица, осмелилась над ним в данное время посмеяться, за что он ей высунул язык с злым ворчаньем.
Алену пришло на мысль приказать наблюдать и следовать за посланным; но он это тотчас же от себя оттолкнул, как измену и неделикатность. Было бы недостойно узнавать таким способом секрет, так мило от него скрываемый.
Однажды, собравшись с мыслями, он сказал Шарлю Севинье:
– Друг мой, в этот раз, я напал на след.
– Ты так думаешь?
– Я почти уверен.
– Где же ты почерпнул эту уверенность?
– Тут!.. – сказал он, приложив руку к своей груди.
– О! берегись, мы именно тут-то всегда и обманываемся, несчастные влюбленные!
– Всё это участие, это внимание, эти искусные подарки изобличают женскую руку, не правда ли?
– В этом мы с тобой согласны.
– Ну что же! я раздумал… В свете не существует двух женщин, который могли бы мною интересоваться.
– Ба! а почему же?…
– Но потому что я не знаю никого более и всегда отличал только одну!
– Прекрасная причина, клянусь тебе!
– Она тебе кажется не убедительной?
– Чем менее убедительной, так как особа, на которую ты думаешь и которой ты приписываешь чувство привязанности и памяти, в настоящее время углублена в гораздо более ограниченные и личные заботы.
– Ах! – вздохнул выздоравливающий. – Жестокий, ты не хочешь мне оставить даже и эту мечту!
– Нет, конечно! Я буду слишком бояться, что у тебя не достанет сил от неё отказаться и её оттолкнуть так же, как она оттолкнула тебя и покинула, тебя, одно из самых благородных сердец, которых я только знаю!..
Молодой моряк тяжело вздохнул, выздоровление его любви шло медленнее, чем его тела, сердечные раны не скоро заживают.
– Ну, друг, – возразил Севинье, – отгони от себя эти мысли вместе с твоей лихорадкой, слушай! не о тебе думает эта тщеславная, неблагодарная женщина, но попечения, оказываемые тебе доказывают, что другие тебя ценят гораздо лучше… Туда то и надобно метить.
И он прибавил, как настоящий мушкетёр, впадая в прекрасное расположение духа, всегда его отличавшее.
– Если б ты знал, какую прелесть находишь в переменах!..
– Дорогой ветренник! сказал Ален, немного улыбаясь.
– Попробуй только, ты мне потом порасскажешь!.. Изволь! все наши фрейлины влюбились бы в тебя до безумия, если б ты хотя бы немного обратил на них внимания? Ты себе не можешь представить, как много они желают тебе добра.
– Совершенно ли ты с ума сошел!..
– Вовсе нет, мой дорогой, потому что, если немного только послушать, как о тебе говорят, как расхваливают твои достоинства, Генрих и я умерли бы от зависти, если б все возлюбленные двора стоили бы такого друга, как ты.
Тяжело было Алену расстаться со своей последней мечтой, так как кто так сильно любил, тот всегда, даже тогда, когда все поднимается против предмета его любви, чтоб только заставить его ненавидеть этот предмет, тот испытывает тайную и скрытную радость предполагать, что изменивший ему способен ещё его жалеть.
Как бы то ни было, но опровергнув эту мечту, его поверенный увеличил этим только в его глазах всю таинственность оказываемого ему внимания.
По счастию, его выздоровление слишком подвинулось вперед, чтоб какое-нибудь нравственное потрясение могло бы его снова поколебать.
Настало даже то время, когда врач начал советовать ему немного развлечься, подышать свежим воздухом и уговорил своего больного, уже почти выздоровевшего попробовать немного выйти на улицу. Погода была великолепная, солнце сильно грело; берега Сены, окрестности Тюилери предлагали в недалеком от себя расстоянии желаемые удобства.
Тюйлерийский сад времен Людовика XIV, не имел никакого сходства с нынешним.
Он отделялся от двора улицей, называемою Тюйлерийской, которую заменяет теперь цветник, разбитый под окнами.
Это был однако род парка очень приятный и дорого ценимый. Он только что был окончен по рисункам Ленотра, после очень продолжительных работ, потребовавших огромной насыпки земли.
Он заключал в себе обширную голубятню, бассейн, скотный двор, оранжерею и даже загородку для кроликов, но последняя только что была уничтожена вследствие преобразований, заключавшихся главным образом в постройке двух больших земляных насыпей вдоль берега Сены и Фельяна, где посадили, как в Марли и Версале, только что привезенные деревья.
Цветники были, по тогдашнему вкусу, засажены тисами, искривлёнными буками, рощицей и тремя бассейнами, заменявшими собою маленький пруд, бывший жилищем карпов времен Людовика XIII.
Пускай читатель представит себе только вырезанный уголок из Версальского парка, и он сразу поймёт это расположение. В сущности, это было местопребывание очень приятное, которое выздоравливающий должен был дорого ценить при выходе из своего долгого заключения в комнате гостиницы.
Обыкновенно после легкого стола в полдень, Ален, в сопровождении Мари-Ноэля, на руку которого он ещё немного опирался, возвращаясь домой, выходил подышать туда свежим воздухом в самое лучшее для того время.
На четвертый день, приближаясь к входной решетке, он заметил очень хороший экипаж, остановившийся у неё. Он предположил, что этот экипаж ждет какое-нибудь знатное лицо, гуляющее в саду. При виде его лакей, уже сошедший со своего места и важно прогуливавшийся, пошел к нему на встречу, поклонился с большим почтением и подал ему записку.
– На мое имя?… спросить он, колебаясь её принять.
Лакей обернул ему надпись, на ней тонким и быстрым почерком было написано:
«Господину кавалеру Алену де Кётлогон.»
– Да, оно точно адресовано мне… Посмотрим.
Он развернул веленевую бумагу, напитанную едва чувствительным, но превосходным ароматом, и прочел:
«Карета и люди находятся к услугам г-на кавалера Кётлогона. Если они придутся по его вкусу, то его просят не стесняться, а пользоваться ими; и если только он доверяет незнакомой ему дружбе, то пусть он прикажет себя везти».
Что означал этот призыв, это приглашение?
Это не могло быть ничем другим, кроме продолжения любезной таинственности, над открытием которой он бился уже целый месяц.
Снова сложив заботливо записку, он сунул её в карман своей жилетки и сделал шаг, чтоб приблизиться к карете.
При этом движении лакей поспешил, продолжая сохранять прежнюю к нему почтительность, пойти и открыть ему дверцы.
Но прежде чем молодой человек успел сделать ещё шаг, Мари-Ноэль, который, казалось, минуту тому, назад был превращен в статую изумления, удержал его за полу его одежды.
– Что случилось? – спросил удивленный Ален.
– Не вздумайте сесть в неё, брат мой Ален.
– Отчего же?.. Эта прекрасная карета тебя разве пугает.
– Это не карета…
– Значит, лошади?
– Нет… – пробормотал бретонец, – но сам лакей.
– Мне кажется, что его вид очень хорош, знаешь ли ты его?
Мари-Ноэль отвечал утвердительно, кивнув головой.
– В самом деле?…
Бретонец приблизился к нему и сказал почти на ухо.
– Это интриган, я его отлично узнаю, хотя он переменил одежду.
– Где ты его видел? доканчивай же!
– Я отдам свою руку на отсечение, что это он служит рассыльным тем особам, который делают вам таинственные посылки.
– Это очень может быть?..
– Я готов в этом присягнуть… Хотите, я с ним поговорю?
– Это будет лишнее.
– Вы, следовательно, понимаете, что во всем этом скрывается пронырство, которое мало успокаивает… так как когда желаешь людям добра, то не зачем скрываться… и… и… Ну, что же!.. вы всё-таки входите…
– Более чем когда-нибудь… – вскричал молодой человек.
– Но что, если в этом деле замешаны женщины?
– Ну так что же?
– Ну! вдруг это вас впутает в какие-нибудь дьявольские сети. Женщины только на то и годятся.
– Мы это увидим, прощай.
– Без меня!.. Ах! наверное это ещё какая-нибудь важная барыня, которая его себе присвоит и пристрастится к нему… Добрая, святая Анна Орейская, защити нас!
Он не закончил своего воззвания, как проворная карета уже ехала по направлению к Елисейским полям с такой быстротой, что он её скоро потерял из виду.
Глава пятнадцатая
Дворец Армиды. – Герой наш живет в настоящем волшебном мире. – Неизвестные подруги.
Нашему герою приготовлялась не одна только неожиданность, а по игре ли, или по причудам судьбы, вероятно, находя удовольствие перечить его предположениям, это приключение не привело его к результату, которого он, быть может, имел право ожидать, судя по его началу. Оно приняло совершенно противоположный оборот, с совершенно неожиданными для него усложнениями.
Он полагал, входя в карету у Тюильери, что блестящая упряжка повезет его прямо к волшебнице, заботившейся об его нуждах, его желаниях и желавшей теперь воспользоваться его выздоровлением, чтоб вполне ему открыться, так как пока это было его единственным желанием.
А так как мы уже говорили об его самых задушевных стремлениях, то прибавим, что в то время, как карета его уносила к неопределенной щели, он не отчаивался еще, против всякого правдоподобия, встретить наконец ту жестокую, образ которой ему являлся, даже против его воли, во все часы дня и ночи.
Это была натура неисправимая, или скорее, он был неизлечимый больной.
Карета катила в продолжении полутора часа; и он мог на досуге вдоволь намечтаться.
Что же касается до дорог и до мест, по которым он проезжал, то он слишком мало знал окрестности Парижа, виденные им лишь во время быстрых прогулок и в значительных друг от друга промежутках, чтоб он мог о них помнить. Впрочем, это его нисколько не озабочивало.
Он едва заметил, как въехал в ворота парка или большого сада; но чувствуя, что карета остановилась, он увидел себя окружённым зеленью и остановившимся у прекрасного крыльца.
Лакей отворил дверцу и сказал:
– Г-н кавалер приехал.
Он вышел из кареты и увидал на крыльце другого лакея, в такой же нарядной ливрее, с такими же неизвестными ему гербами, как на экипаже; этот лакей держал на серебряном подносе письмо, которое он ему и подал.
«Вы у себя дома, – писали в этой новой записке. – Пользуйтесь, наслаждайтесь, вас просят только быть скромным и иметь немного терпения. Доктор предписывает вам деревенский воздух; дышите им сколько угодно в этой пустыне. Не бойтесь ничего; дружба, предлагающая вам это, помогала вашему излечению; она желала бы вполне с вами расплатиться, добившись вашего окончательного выздоровления».
Решительно, это было для него новой загадкой, потому что если даже несколько слов позволяли ему предполагать вмешательство во всем этом Марии Фонтанж, то предпоследнее, подчеркнутое слово совершенно расстраивало это предположение.
Решившись узнать все дочиста, он не колебался принимать всё, что только представится.
– Ведите меня, – сказал он лакею с серебряным подносом, стоявшему неподвижно, ожидая его приказания.
– Г-н кавалер желает осмотреть свое жилище?
– Все, что вам будет угодно.
Лакей, превратившийся тогда в проводника, провел его в переднюю и показал ему комнаты, находящаяся в ре-де-шоссе[11]: столовую, большую и маленькую гостиные.
Дом состоял из одного только этажа; туда вела белая мраморная лестница, которая была выложена толстым ковром, по сторонам её находились хорошо сделанные вызолоченные перила.
На потолке висела люстра из горного кристалла; превосходные статуи наполняли галереи.
Этаж этот заключал в себе только одни покои, расположенные с необыкновенной утонченностью, чтобы ни в чём не могло недоставать ни роскоши, ни удобства.
Очевидно, это было княжеское убежище.
Королевские жилища в Версале не представляли собою ничего более изящного, более искусного.
Одно лишь замечание пришло на ум импровизированного гостя, это миниатюрность всего жилища в сравнении с тем протяжением, которое, казалось, занимали его службы и его парк.
Но это была только мимолетная мысль, к которой он даже и не подумал возвратиться.
Приключение представлялось слишком живописным образом, а потому оно и не могло не быть охотно принятым даже человеком с раздражённым и взволнованным рассудком.
Доктор предписал развлечения, его желание исполняли в совершенстве.
Если б только Ален имел хоть немного тщеславия, которым так изобиловали придворные повесы, но которого, к счастью, у него ни капли не было, он мог бы вообразить себя предметом восхищения, так как знатные дамы дозволяли себе это от времени до времени.
Имея в виду обычаи столь принятые, если не в лучшем, то по крайней мере в высшем кругу, поймут, что всякий другой на месте Кётлогона, видя, что с ним обращаются как с каким-нибудь славным комедиантом, вообразил бы себя любимцем какой-нибудь прекрасной дамы и весело подчинился бы своей участи, далеко отбросив все остатки пагубной страсти, чтоб вполне предаться воли настоящему, исполненному прелестей.
Я не берусь высказывать своего личного мнения, но обращаюсь к снисходительности моих благосклонных читательниц и прошу рассудить, не имел ли бедный малый право на обстоятельства, уменьшающие вину, принимая оказываемые ему услуги?
И так, правда, орудием которой я служу, и история, которая могла бы меня упрекнуть во лжи против неё, принуждают меня сказать, что это честное бретонское сердце, поступая таким образом, не имело в виду никакой другой мысли, кроме желания узнать руку, над ним простиравшуюся, чтобы иметь возможность выразить свою глубокую признательность.
Я вам ещё раз повторяю, что это был единственный образец, и к несчастию ли, или к счастью, – это опять-таки решат мои читательницы, – он не мог иметь подражателей.
Осмотрев этот миниатюрный дворец, долженствующий сделаться его владением, по крайней мере на некоторое время, он принял предложение своего проводника взглянуть на сады.
Проходя опять по передней, он увидел там и узнал лакея, который, по уверениям Мари-Ноэля, был никто иной, как молчаливый комиссионер, через которого он получил столько милых подарков.
Несмотря на испытываемое им удовольствие узнать до конца свое приключение и несмотря на всё отвращение к лакейским довериям, ему очень хотелось допросить этого малого, хладнокровное лицо и суровый вид которого дразнили ещё более его любопытство.
Он совсем уже хотел поддаться этому извинительному искушению, как вдруг заметил, что его проводник не спускал с него глаз, вследствие чего он отложил свой допрос до более благоприятного времени.
Сады вполне отвечали великолепному дворцу: они представляли собою гнездо цветов и зелени, окруженное водой, куртинами и статуями, – всё это было так искусно расположено, что, несмотря на близость зданий, из саду не было видно ни стен, ни границ, решительно ничего снаружи, исключая неба и солнца. Не будучи ещё совершенно в силах, чтоб более продолжать свое исследование, Ален выразил желание войти в дом, чтобы немного отдохнуть.
По своём возвращении он решил окончательно узнать, будет ли он скоро принят той особой, которая предлагает ему такое роскошное гостеприимство, вследствие чего известный уже нам лакей принес ему второе письмо, одинакового почерка с первым:
«Не беспокойтесь и не теряйте терпения, – писали ему. – Расположенная к вам особа, имеющая удовольствие принимать вас у себя, не вполне свободна. Обязанности удерживают её на два дня в отдалении от вас; извините ей и будьте уверены, что ей не менее вашего тяжело это ожидание».
Показав издали лакею сложенную бумажку, он сказал:
– Это ваша госпожа прислала эту записку?
– Да, кавалер, – отвечал служитель без затруднения.
Это уже было шагом к лучшему: он узнал, что его хозяином была хозяйка; покровителем – на самом деле была покровительница.
Он нашел средство, не возбуждая даже недоверие скромного служителя, узнать о звании этой особы.
– Где находится в настоящее время двор?
– В Марли, кавалер.
– В полном составе?
– О! нет, г-н кавалер, вероятно, хорошо знает, что там бывают только его величество со своими приближенными особами и теми, которые необходимы для их высочеств.
Не оставалось более никакого сомнения, его покровительница принадлежала к этим избранным.
Он счел лишним расспрашивать более и, входя в свою комнату, он отпустил прислугу, желая немного полежать до ужина, так как он начинал уже пользоваться аппетитом двадцатипятилетнего выздоравливающего малого.
Наконец, оставшись один, он бросился с приятным ощущением в большое кресло с подушками, стоявшее близ его постели. Он хотел уже закрыть глаза, как какая-то бумага, лежавшая прямо против него на маленьком изящном столике, стоявшем у главы его кровати, привлекла его внимание.
Он посмотрел на нее очень изумленно, собираясь с мыслями, но нет! он был в том уверен, что полчаса тому назад, когда он осматривал эту комнату, взгляд его останавливался на этом мраморном столике и ничего на нем не заметил.
Наверное, эта записка была положена после того.
Это было, может быть, очень просто, она была положена его лакеем.
Но нет, опять-таки! так как лакей должен был ему передать другое письмо, которое он и подал ему сейчас в передней, не сказав даже ни слова об этом…
Ах! окончательно, эти ни к чему не ведущие размышления заставили его улыбнуться, вероятно, сама записка заключала в себе столь желаемое им объяснение.
Он приподнялся, протянул руку, взял ее, снова упал в свое мягкое кресло и серьезно её прежде разглядывал, чем распечатывать. На ней не было адреса, и на печати была изображена просто звезда.
Ея почерк не был похож на те записки, который он только что получил у дверей Тюильери и в самом дворце. Однако этот почерк был также женский, и молодой ещё женщины, это было очевидно.
Наконец, ему писали:
«Г. Кётлогон, всегда ценя, даже выше заслуг, выказываемые сочувствия к его болезни, часто выражал желание узнать имена друзей, оказывавших ему их. Если он действительно желает их когда-нибудь узнать, и если он не желает, чтоб удовольствие, которое находили некоторые в том, чтоб ему служить, обратилось бы против их виновников, то пусть он будет скромен и воздержится говорить о них той особе, гостеприимством которой он пользуется».
На этот раз, все его мысли, все его предположения разрушились.
Подруга или скромные подруги, пёкшияся о нем и способствовавшие его выздоровлению, не были, следовательно, одна или одни и те же? Генрих Ротелин и Шарль Севинъе были, значит, правы, говоря ему о трогательных и деликатных симпатиях привязавшихся к нему особ даже без его ведома?…
С головой, утомленной всеми этими загадками, он мало по малу уступил усталости, слабости и тихо склонил её на подушки.
И засыпая он слышал – будто звучные голоса убаюкивали его, слегка аккомпанируя себе на клавикордах. Музыка была одной из самых дорогих его удовольствий; он не защищался, не рассуждал и не боролся более, он вполне позволил себя очаровывать своими невидимыми гениями.
Глава шестнадцатая
Таинственность продолжается. – Дорожка нимф. – Немой сераля. – Ален решается предаться чарам.
Герой этого приключения из «Тысячи и одной ночи» проснулся после двухчасового послеобеденного сна совершенно бодрым, с умом полным, улыбающимися видениями только что оконченного сна, со слухом, очарованным ещё музыкальными аккордами, его убаюкивавшими. Но так как он не принадлежал к героям из волшебных сказок, то у него удвоилось желание узнать, как вести себя далее, однако не отдавая себе полного отчета в одной особенности: записка была действительна, он её крепко держал в своем кармане, – но музыка? Он не знал более, действительно ли он её слышал, или только во сне.
Но в этом легко можно было убедиться, если певицы исчезли, то не так легко было это сделать инструменту, вторившему им.
Став опять на ноги, он хотел снова осмотреть весь дом, но на этот раз внимательнее и тщательнее, но вдруг его дверь осторожно приотворилась.
Лакей, стоявший в соседней комнате, наблюдая за малейшими его желаниями, услышал, как он шевелился, а потому осведомился, будет ли ему угодно пройти в залу, где было уже подано его вечернее угощение.
В самом деле, этот день, столь обильный в неожиданностях, столь сходный с программой, предписывающей развлечения, приближался уже к концу. В то же время, служитель зажег свечи.
– Подойди сюда, – сказал ему Ален.
Тот приблизился и методически остановился, в трех шагах от него в положении солдата с ружьем на плече.
– Имя твое?
– Жозеф.
Кавалер устремил на него свой проницательный взгляд, который тот выдержал без храбрости, но и без нерешительности.
– Ну, Жозеф, говори откровенно: у кого ты находишься в услужении?
– Но вот, у господина кавалера.
– А! отлично. Я согласен вопрос этот предложить так: какая особа поместила тебя ко мне в услужение?
– Та же, которая имела честь писать к г-ну кавалеру.
– Так кто же это особа?…
– Та самая, которая отдала этот павильон и его прислугу в распоряжение г-на кавалера.
– Тьфу!.. – начал бормотать молодой моряк, – думаешь ли ты, чудак, что я желаю с тобой играть в головоломную игру?
– Господин кавалер, – сказал почтительно служитель, – я вам отвечаю все, что смею только вам отвечать. Я – простой слуга и ничего более не знаю, как только повиноваться.
Ален сдержал свое нетерпение, готовое уже разразиться.
– Веди меня туда, где стоят клавикорды, – сказал он.
– Здесь нет клавикордов, г-н кавалер.
– Нет клавикордов!.. На сей раз, это уже чересчур… Пойдем, сейчас же покажи мне снова этот павильон, комнату за комнатой.
– А ужин господина кавалера?
– Ужин подождёт… Ах, я выказываю здесь образцовое терпение… Но если я найду здесь те клавикорды, которые я слышал, да, конечно, слышал… береги тогда твои уши!
Хладнокровный служитель не моргнул и, взяв с камина один из только что им зажженных подсвечников, сказал:
– Угодна ли г-ну кавалеру за мной следовать…
Ален осмотрел его с ног до головы как новую загадку:
– Вперёд! – сказал он ему.
Он снова начал утренний обход и со своим взглядом моряка, привыкшего к планам и переходам, он видел, что от него не скрывали ни одного закоулка.
– Это правда, – сказал он, вернувшись в столовую, где его ожидали уже два лакея в парадных ливреях, – нет здесь и следа клавикордов!.. Жаль. Но тогда я… окончательно, бредил.
Меню ужина было превосходно, настоящая королевская кухня, приготовленная для выздоравливающего. В то время, так как Людовик XIV и г-жа Монтеспан пользовались оба прекрасным аппетитом, поварское искусство процветало и достигло тех тонкостей, которые невозможно передать.
Ужиная, он вместе с тем и наблюдал за прислугой, и из его наблюдения вытекло то убеждение, что он без всякой пользы унизит свое достоинство, если будет стараться заставить говорить лакеев, определенных к нему для услужения.
Он вошел в свою комнату, нашел там новые книги на столике и на этот раз заснул от скуки, читая одну из них.
Он несчастливо попал на торжественную трагедию торжественного Расина.
Его просили в продолжении двух или трех дней вынести эту таинственность и это уединение: его темперамент и его ум не могли бы на самом деле более того вынести.
Так как его воображение работало усиленно, то он встал очень рано.
Даже так рано, что он боялся нечаянно спугнуть какую-нибудь нимфу, чудом заблудившуюся в рощицах.
Ему, действительно, показалось, что в ту минуту, как он входил в одну из них, что-то быстрое скользнуло недалеко оттуда, сквозь деревья, с шуршанием точно от юбки из тафты.
Он побежал в ту сторону, чтобы удостовериться, если его глаза так же бредили, как и накануне его уши; он совсем уже хотел прийти к тому же заключению, как вдруг на песке, недавно тронутом, он различил очень ясно след маленькой ножки, такой маленькой, такой миниатюрной, что было очевидно, что она принадлежала только его волшебнице.
Но в куртине этот след вдруг изчез, и там не было возможности его снова найти.
Однако, эти моряки превосходные искатели, а бретонцы упрямы!..
Он продолжал искать и искал так хорошо, что внизу большой мраморной подставки, поддерживавшей одну мифологическую группу, он нашел… бантик из лент… хорошенький бантик, соскочивший в бегстве, с лифа; он был голубого цвета, в который волшебницы и должны быть окутаны.
Решительно желания его исполнялись волшебством; минуту тому назад, он жаловался на свое одиночество, – и что же! этот бантик составит его общество.
Но он не решился взять Жозефа и никого другого из служителей в свои поверенные; и, как птичник, он принялся подстерегать без шума, совершенно один, милую птичку, добычу которой он поднял.
Вернувшись в павильон, он увидал некоторое движение в сенях.
– Что тут такое? – спросил он у неизбежного Жозефа.
– Вносят клавикорды.
– Клавикорды! Ты же мне говорил, что их здесь не существовало?
– Это правда, вчера не было, но так как г-н кавалер выразил о том своё сожаление, то ему их посылают; потрудитесь ли вы сказать, где вам будет угодно, чтоб их поместили?…
Он даже сам более не помнил уже слова, вырвавшегося у него во время ужина:
– Жаль!..
Гении этого заколдованного дворца всюду имели уши.
– Ты поблагодаришь особу, оказывающую мне такое внимание, сказал он; оно мне бесконечно приятно…
– Куда мы поставим эту мебель?
– В мою комнату.
Жозеф подал знак, носильщики повиновались.
После завтрака он вышел в свою комнату, и на этот раз ничего не нашел, что могло бы указывать ему на проход таинственной сильфиды.
Но он сохранял знак об её земном существовании – это был бантик из лент, драгоценно им сохраняемый и положенный около той записки, в которой его умоляли быть скромным.
Вынув эти два предмета, он их рассматривал с грустью, немного смягченной, выспрашивая у них их тайну, о которой они упрямо умалчивали, – и благодаря их за утешение, которое они ему доставили; потому что есть ли что лучше того, когда воображаешь себя покинутым всем светом, как получать знаки скромной и бескорыстной преданности?
– Милый бантик, – сказал он, – если бы ты только мог говорить, я бы тебя отослал к той особе, которой ты принадлежал, чтоб рассказать ей, какое ты сделал благо одной душе, находящейся в отчаянии, и как жизнь возбудилась тобой в потухшем уже сердце.
И, предаваясь этому монологу, он, как накануне, был неподвижно погружен в большое кресло с подушками, голова его покоилась также на подушке, его полузакрытые веки заставляли предполагать, что он дремал и что он говорил в бреду.
Дом был, конечно, волшебный!
В ту минуту, когда последнее слово срывалось с его губ, неопределенная прелюдия в роде эолийского голоса, раздалась точно ответ вызываемой сильфиды.
Это была арфа или клавикорды; по временам можно было подумать, что это была смесь обеих, но невозможно было определить, откуда являлся этот звук. Эти действия акустики так странны, что обманывают самый тонкий слух.
Он слушал в восхищении, задавая себе вопрос, послышится ли также хор молодых особ; но волшебницы имеют свою долю кокетства, они меняют свои сюрпризы и не повторяют их по несколько раз, арфа на этот положительно заменяла раз пение.
По примеру многих моряков, вдохновляемых мелодиею бесконечного океана, он не довольствовался только платоническою любовью к музыке, он сам в ней упражнялся и, хоть он был более искусный на – скрипке или на флейте, но все-таки он не совсем плохо играл и на клавикордах.
Встав со своего кресла, он живо сел перед инструментом, только что помещённом в его комнате и взял несколько аккордов, согласовавшихся с неразличаемым оркестром.
Но, внезапно, последний, испуганный этим аккомпанементом, замолк и в течении дня его более уже не было слышно.
В этот день, он получил официальным путем от Жозефа, этого дипломата в ливрее, серьёзного и непоколебимого, новую записку на серебряном блюде.
Это ему писала его волшебница.
«Так как король решил быть завтра у обедни в церкви в Марли, где его величество чувствует такое очарование, от которого он не может оторваться, находясь в обществе своей фаворитки, то мне будет позволено беседовать с г. кавалером Кётлогоном только в понедельник утром. Надеюсь, что он до сих пор не очень соскучится, и что внимание, которое ему по заслугам его оказывается, поможет ему терпеливо прожить это время».
Была суббота; оставалось ещё полтора дня ожидания.
Он не жаловался бы на это, так как его воображение и его любопытство имели довольно занятия, но перо владелицы было перо неосторожное… если только оно не имело ещё какого-нибудь дурного намерения.
Будь это действительно подруга, разве она напомнила бы ему об измене, от которой он так жестоко страдал.
С какой же целью была написана эта фраза, которая снова поднимала его боль, возбуждала его гнев и развивала его месть?..
Мало-помалу, делая разные сравнения, он понял, что он был притягиваем двумя токами, оба окружали его разными попечениями, доказательствами благосклонности, но один из них должен был быть бескорыстнее, великодушнее другого.
Он также желал удостовериться, находился ли он действительно в гостеприимном доме, не было ли чего похожего на тюрьму в этом княжеском жилище, предложенном к его услугам.
– Жозеф, – сказал он, – я узнаю через это письмо, что пребывание мое здесь продолжится ещё недели две.
– Г-н кавалер, вероятно, плохо прочли.
Ален бросил на него строгий взгляд, чтоб напомнить ему об уважении и заставить его понять, что он не терпит над собою насмешек.
Но ничто не смущало этого странного служителя.
– Г-н кавалер потрудится меня извинить, – возразил он, – в ответ на этот призыв к порядку; предписания, мною полученные, позволяют мне думать, что он находится окончательно у себя, что надеются здесь его увидать совершенно выздоровевшим, и что никогда не думали ограничить его пребывание здесь, напротив того.
В первый раз этот угрюмый Калибан говорил так много.
Впрочем, наш герой должен был сознаться, что он был прав, и что письмо, объясняющее ему, почему откладывается посещение владелицы, ничего не говорило ему об его удалении.
– Я вижу, – сказал он в свою очередь, – что ты получил превосходные наставления. Я в восхищении от этого, так как ты мне также скажешь, могу ли я прогуливаться за этим парком, чтоб только это кому-нибудь бы не было неприятно?
– О! г-н кавалер не пленник!
– А! а!
– Только, если вы будете настаивать покинуть это жилище, прежде чем видеть госпожу, я получил предписание расположить себя к вашим услугам, велеть запрячь карету, привезшую вас сюда, она отвезет вас в Париж, откуда вы приехали.
– А после?
– После?.. больше ничего.
– To есть, меня отвезут, но назад не привезут?
– Прежде разговора с госпожой – нет.
– Клянусь честью! мне бы очень хотелось пуститься в это путешествие, чтоб видеть его последствия?
– А я осмеливаюсь умолять г-на кавалера не делать этого.
– А отчего же? скажи, пожалуйста, Жозеф!
– Это слишком огорчило бы…
На этот раз Жозеф покраснел, замялся и опустил глаза.
– Кого, скажи на милость?
– Но меня, г-н кавалер, – вдруг возразил он, снова совершенно ободрившись, – кроме уже чести вам служить, тут дело идет также о моем месте, если вы покинете таким образом вдруг вашу резиденцию, тогда меня обвинят в недостаточной услужливости.
Ален со вниманием смотрел на него. Его видимое замешательство в ту минуту, когда язык изменил ему, доказывало об его соучастии в маленьких тайнах, окружающих это жилище.
Он понял, что его будет жалеть не Жозеф, но кто-нибудь другой, более интересный.
Прибавив это указание к предыдущим, он притворился удовлетворенным этой отговоркой служителя.
– Ну, – сказал он, – этого уже не будет, чтоб я за твое хорошее услужение лишил бы тебя места. Я чувствую себя здесь чудесно, я буду здесь ждать твою хозяйку, сколько только ей будет угодно.
– Ах! благодарю! – сказал Жозеф со вздохом облегчения.
Когда Ален вошел к себе, немного спустя после этого разговора, рука сильфиды положила новую записку на его имя на свое обычное место.
Он был уверен, что Жозеф тут был ни причем, так как он его не терял из виду, и в это самое время он знал, что он занимается в нижних комнатах.
Но какая здесь запутанность!
Это была та же бумага, тоже тонкое женское царапание, – а тем не менее это был не тот его почерк!
«По причине, требующей, чтоб вы не говорили о некоторых вещах, писали ему, вас просят также не допрашивать… Жозефа…»
Поймут, что надо было иметь очень несчастный характер, чтоб скучать в подобном оазисе.
Выздоровление, впрочем, приносило с собою те великодушные ощущения, теплые чувства, который доставляют благосостояние и весенние наслаждения ожившей крови, излечение – это настоящая весна, возвращение существования после зимы.
Герой этого романа, полный женским притяжением, упорствовал узнать резвого гения, беспокоившего его.
Ему пришла в голову такая мысль, что он даже удивлялся, что она к нему не тотчас явилась, с первой же записки, это было отвечать, пользуясь той же письменной шкатулкой, т. е. услужливым мрамором маленького столика.
Там, в изящном письменном столе, находилось все необходимое, он взял четвертушку бумаги и написал:
«Мне приказывают быть послушливым, скромным; но если бы я также просил милости, даровали ли бы мне ее? Обещание, сдержали ли бы его?»
Глава семнадцатая
Последствия маленьких записок. – Чудесная рыбная ловля, – Игра шалунов. – Красавица, пойманная в сети.
Решительно, выздоровление шло быстро. Но об этом нельзя было судить по этим вынужденным развлечениям; если снаружи поверхность затянулась, то рана все же была чувствительна, и письмо владелицы не было того свойства, как записки шалунов, чтоб её совершенно изгладить. Более чем когда-нибудь, Ален колебался под двумя влияниями: между радостью и горем. Уже и того было много, что горе не брало верха, и что он искал перемены.
Положив свое послание на таинственное место, он спустился в сад.
Жозеф стоял внизу крыльца, с двумя из своих товарищей, занятый большими приготовлениями, назначение которых молодой человек тотчас же узнал; это были различные рыболовные снаряды, неводы, удочки, сети, верши и другие.
– Боже мой! – вскричал он, – что все это значит?.. Жозеф, разве ты едешь на ловлю кита?..
– Я хотел, – отвечал Жозеф, – так как г-н кавалер моряк и должен любить это упражнение, предложить ему с моими, здесь присутствующими товарищами закинуть сеть в пруд или протянуть верши.
– Стой! стой! В этом болоте водится рыба?
Для моряка бассейн, находящийся на конце парка, был простой лужей, на которую он даже не взглянул, хотя она была такою широкою, что в ней можно было кататься на позолоченной лодочке, прикрепленной у берега, позади изображения бога Термо, сделанного из белого мрамора.
Наименование болота, данное пруду, видимо оскорбило Жозефа.
– Пруд не велик, – сказал он, – но рыба велика.
– Ну, что же! Я с удовольствием принимаю ваше предложение; вы сейчас увидите, любезнейшие, как Бретонец с морского берега закидывал сети. Только у меня нет костюма.
– За этим дело не станет, мы уже о нем позаботились, г-кавалер найдет в маленькой гостиной полотняный балахон, без пуговиц, сшитый по его мерке.
– Решительно, здесь думают обо всем! Я никак не ожидал этого развлечения.
– Оно будет не единственное; если г-н кавалер любит поохотиться с ружьем, то там в больших деревьях находятся также гнезда вяхирей, а под хворостником кролики и фазаны, которых содержат нарочно для охотников.
– Отлично нарочно!.. Начнем с рыбной ловли.
Заведующий всем в этом доме не обманул; это озеро в маленьком виде изобиловало таким множеством рыбы, что нельзя было себе и представить… Кто не знал, что наёмные поставщики снабжали ее, как это всегда делают, про запас. Но Ален, желавший только ловить рыбу, но не истреблять ее, ограничил свою ловлю, удержал только несколько прекрасных штук, а остальное он выбросил в воду.
– Теперь, – сказал он Жозефу, – вот что я желаю и я надеюсь, что к этому не найдется препятствий: ты велишь отнести большую корзинку этих линей и карпов моему другу, Шарлю Севинье, от моего имени; эта посылка докажет ему, что я не умер и даже что я пользуюсь своими Физическими способностями.
– С удовольствием, г-н кавалер.
– Очень хорошо. Что же касается до этой исключительной штуки, этого карпа, по крайней мере, столетнего, ты его также позаботливее уложишь и передашь его от меня…
– Кому? г-н кавалер…
– Той молодой девушке, которая здесь гуляла так рано.
– Царица моя небесная! – воскликнул изумленный Жозеф, размахивая руками и с разинутым ртом.
– Это, кажется, сказано очень ясно; – сказал Ален самоуверенно.
– Молодая девушка… сегодняшнее утро… я могу поклясться г-ну кавалеру…
– Не стесняйся, мой милый, клянись, сколько тебе угодно. Но делай, что я тебе говорю… или я расскажу, послезавтра, твоей госпоже о склонности этого очаровательного ребенка к утренним прогулкам.
– Г-н кавалер этого не сделает!.. – вскричал ещё испуганно бедный лакей, на этот раз побеждённый в своем хладнокровии.
– Конечно, нет! дуралей, – отвечал смеясь молодой человек, – я говорю для того только, чтобы заставить тебя понять, что я всё понимаю и вижу лучше, нежели это показываю… Ну, ступай, и исполни мое поручение.
– Оно будет исполнено, г. кавалер… но ради самого Бога…
– Ступай же, ведь я у тебя ничего не спрашиваю. Когда я хочу узнать какую-нибудь тайну, видишь ли ты, плохой матрос, я её отыскиваю совершенно один и кончаю непременно тем, что её узнаю.
Он вполне доказывал, что говорил правду, так как от него одного зависело, при том беспокойстве, в котором находился Жозеф, выведать от него все. Но из самолюбия и снисхождения к просьбе, заключавшейся в последней записке, он не захотел этого делать, и кроме того, у него был свой план.
В его ответе на маленькое утреннее послание говорилось. «Если б я, в свою очередь, попросил бы о чем-нибудь, исполнили ли бы мою просьбу?»
Ответ на этот вопрос не заставил себя ждать далее конца этого дня. Входя в свою комнату, после ужина, между восемью и девятью часами, он убедился, что шалун, служивший ему почтальоном, всячески старался, чтобы долго его не томить.
Бумага, деликатно сложенная, обратила на себя его внимание.
Он схватил её с некоторым волнением, впрочем, приятным, хотя и немного беспокойным.
Но, чудо! шалун ещё раз изменил свой почерк, а всё-таки это была рука молодой женщины!
Походил ли он на Телемака[12], попавшего среди нимф острова Калипсо?
Он сравнил эти три записки; ни одна не была схожа по почерку, а быстрота почерка указывала, что ни одна из них не была подделана. Наконец, в последней записке заключалось:
«Попробуйте просить, там видно будет».
Ах! если б только так написали влюбленному королю, то он отдал бы половину своей короны взамен этих пяти маленьких слов, дышащих кротостью и прелестью.
Но он не был королем, и если он и любил когда-нибудь, то теперь он уже более не любил и дал себе клятву никогда снова не вспоминать о любви. Однако, ему было только двадцать пять лет; страсти его были развиты до крайней степени, а записка эта была так мила, так резва, так вызывающа!..
Он сел за фортепиано и отыскав между нотами, положенными носильщиками на инструмент, хор из «Принцессы Элиды» сочинения Люлли[13], он заиграл приятную и мелодическую прелюдию, искусством сочинения которой обладал знаменитый композитор.
Дойдя до пения, он через воздух, среди ясного звездного вечера, безмолвия деревни услыхал, как и накануне, хор, но настоящий хор молодых голосов, певших вполголоса следующие слова, принадлежащие стихам, написанным великим Мольером:
Songez de bonne henrc a suivre Le plaisir de s’enflammer Un coeur ne commence a vivre Que dn jour qu’il sait aimer. Qnelque fort qu'on s’en defende, Il faut у venir un jour, II n'est vien qui ne se rende Anx doux charmes de l‘amour[14].При последнем такте, благозвучные голоса пели всё тише, подобно стае дроздов, улетающих и исчезающих вдали.
Праздник этим и кончился. Для тайного концерта, даваемого отшельником в своей пустыне, и это было уже вовсе не дурно.
Он спал в эту ночь крепко, решив отражать шалость шалостью.
На другое утро, – это было, как известно, то знаменитое воскресенье, в которое король оставался в Марли, чтобы быть там у обедни, – он начал свой обыкновенный образ жизни, но около того часа, когда обыкновенно начинались действия маленькой почты, он начал также и свои.
Сложив бумагу, в которой он ничего не написал и надеясь, что его резвушки подсматривают за ним через какие-нибудь отверстия, незаметные для его собственных глаз, положил он её для виду на мраморный ночной столик, поднял шум, чтоб показать, что он выходит и отворив дверь, опять её затворил, но не вышел из комнаты, а спрятался за драпировкой, служившей портьерой.
Его ожидание было не очень продолжительно; он был любопытен, но шалуны ему в этом не уступали; они также с нетерпением хотели узнать, о чем он будет их просить.
Вскоре послышался треск в стене, около изголовья постели.
Вставка, на которую никаким образом нельзя было подумать, так она там была – настолько она была малозаметна, прочна и аккуратна, – не считая уже того, что обои были гобеленами, изображавшими Невинность, руководимую Добродетелью, – начала не то, чтоб отворяться как дверь, но входить внутрь, как в выемку.
Потом, когда место было достаточно расширено, послышалось шуршание шелкового платья, протянулась маленькая ручка, потом локоть, затем голова, от которой коварный кавалер заметил только роскошные волосы, такт как она была обернута к нему спиной, и стенная волшебница, на которой он узнал платье, виденное им в саду, приблизилась на цыпочках своих маленьких ног к мраморному столику.
Смотреть на это было восхитительно.
Она протягивала руку, её пальцы уже касались изменнической бумаги, вероломной приманки голубей.
– Ай!..
Она почувствовала, что была поймана; так же ловко и так же проворно, как и она, Ален схватит руку протянутую ею к бумаге.
– Ах!.. – вскричала она, стараясь скрыть от него свое лицо и освободиться из его объятий. – Пощадите!.. – сказала она.
Она просила это так мило, что действительно было бы жестоко с его стороны не исполнить её просьбы.
Но он поступил также рыцарски жестоко, так как он преклонил одно колено и поднес к своим губам пойманную им ручку.
– Простите меня также! – сказал он:
В это мгновение и ловким движением, он увидел наконец лицо, которое так старательно от него скрывали.
– М-lle де Бовё!..
– Ах! но сударь, – вскричала она, указав ему на просвет стены, её пропустивший: – Я не одна!
Я думаю, что сперва он покушался ей ответить: «Тем хуже!..», но во всяком случае, он удержался и сказал:
– Ну что же! Я хочу познакомиться со всеми вами!..
– О, кавалер, – умоляла она опять, – позвольте мне уйти, прошу вас!
– Нет! нет!.. – сказал он, – оставайтесь или позвольте мне следовать за вами.
– Ах! это очень дурно!.. Боже мой!.. Боже мой!..
– Не говорите этого, я остался бы, потому что я не желаю ничего сделать такого, что могло бы быть вам неприятным… Но, – прибавил он, снова прикладывая свои губы к маленькой дрожащей ручке, – вы образовали против меня заговор, и справедливость требует, чтоб я узнал его соучастниц.
– В самом деле?..
– Ах! подумайте, вы меня спрашивали, чего я желаю… И так! я желаю видеть волшебниц, которым я обязан стольким вниманием и к которым меня привязывает признательность.
– По крайней мере, позвольте мне их предупредить.
– Нет, вы ускользнёте от меня.
– Ах! решительно, это очень скверно!..
– Мы считали вас несчастным, покинутым. Я вас видела таким страдающим!..
– Я не забыл этого посещения, точно также как и ваших добрых взглядов!..
– Тогда мои подруги и я согласились прийти к вам на помощь, так как одна из наших же товарок причинила вам зло, наше дело было его исправить…
– И вы оказывали мне все эти сюрпризы, всё это деликатное внимание!.. За которые вы не хотите даже позволить мне вас отблагодарить!?..
В третий раз он покрыл поцелуями маленькую ручку.
– Вы слишком уж меня благодарите, – сказала она шутливо, пробуя отнять у него свою руку.
Не будучи же в состоянии её отнять у него, хотя он держал её очень слабо, она приблизила свою голову к открытой перегородке и закричала:
– Mesdemoiselles, он желает вас видеть и не хочет меня выпускать!
В тоже время, они оба вошли в комнату, откуда она пришла, и которая была полным повторением его собственной комнаты.
Дом, показавшийся ему таким узким, был двойной!
Глава восемнадцатая
Их было трое! – Волк в овчарне. – Эти барышни не так просты! – Проворнее!
Сколько же было соучастниц?
Читатель, вероятно, уже угадал: Урания де-Бовё, первая; Анаиса де-Понс, вторая; Клоринда де-Сурди, третья.
Интересно было посмотреть на прекрасных шалуний, пойманных в западню и стыдящихся более реальных преступников.
Трио было восхитительное; герой этой комедии не уставал ими любоваться.
– Ах! как это дурно, милостивый государь, – сказала наконец Анаиса де-Понс. – Посмотрите, в какое затруднение вы нас поставили!
– И после того уверяют, что одни женщины любопытны! – сказала Клоринда, в свою очередь, расхрабрившись.
– Во всяком случае, – возразил похититель, – на этот раз, в противность нравоучению, любопытство будет вознаграждено, а не наказано.
Он также любезно поцеловал руки у двух соучастниц, как он поцеловал руку главной виновницы всего этого романа.
Последняя, самая застенчивая и самая смущенная из них трех, неизвестно по какой причине, до сих пор молчала, внимательно смотря на всё случившееся, а в особенности на кавалера.
– Теперь, сударь, – сказала она ему умоляющим голосом, – вы знаете то, что вам хотелось знать, вы знаете или узнаете виновных… будьте благоразумны, и если вы действительно имеете какое-нибудь уважение к нашим добрым намерениям, то докажите это.
– Именно этого я и желаю! – отвечал он в свою очередь, бросая на нее веселый и многозначительный взгляд.
– Ну, а теперь уходите; ступайте к себе.
– Ах! нет, не так!
И чтобы доказать им, что он не одобрял этого совета, он смело уселся.
– Скажите пожалуйста!.. – вскричало испуганное трио, окружая его ближе и считая своим долгом заставить его удалиться.
– Как! – сказал он. – Так-то вы оказываете гостеприимство?..
– Но, сударь, мы вам его и не предлагали, – сказала Клоринда, стараясь казаться строгой.
– Так-то вы, – возразил он, принимая жалобный вид, – обращаетесь с бедным больным, сёстрами милосердия которого вы называетесь.
– Господи! – сказала Анаиса де-Понс. – Вот поистине бедный больной, в самом деле, берущий приступом королевскую резиденцию и сопротивляющийся хранителям, которым его препоручили.
– Хорошо, пожалуй! я предлагаю сделку.
– Посмотрим.
– Так как мы такие близкие соседи, наши сношения так близки, и к тому же мое присутствие здесь вам неприятно, то я прошу, перейдёмте все ко мне, там мы проведём конец дня и окончим наши объяснения.
– Великий Боже!.. – вскричал хор.
– Тогда я остаюсь… Послушайте, – начал он льстиво, взяв их руки, которые они не скоро отняли, а Урания даже совершенно оставила, – послушайте, вы так давно уже приводите меня в отчаяние, предоставьте же мне наслаждаться хотя бы счастьем любоваться вами и поблагодарить вас за всё ваше внимание ко мне. Подумайте только, я был так печален, в таком отчаянии!.. В самом деле, без вас, я не знаю, куда бы привело меня только мое горе!..
– Что вы на это скажете, medemoiselles, – сказала Клоринда, – нужно ли нам сдаться?
– Эти барышни говорят, что – да, – сказал он живо. – Не правда ли, m-lle де-Бовё?
– О! если вы спросите её совета, – сказала шалунья Анаиса, – вы можете быть уверенным выиграть ваше дело!
– Правда ли это?.. – спросил он, сжимая её руку, которую он все ещё держал, но которую у него теперь только отняли.
– Анаиса!.. – пробормотала Урания, с упреком, сделавшись вдруг вся красная.
– Я жду своего приговора… – сказал кавалер.
– Ба! – сказала Клоринда. – Я соглашаюсь, так как зло уже сделано; немного больше, немного меньше – это все равно!
– Вот доброе слово, и сказанное очень хорошенькими устами.
– Ах! Если мы пустимся на комплименты, то я не окончу; и я вас приговариваю.
– Доканчивайте скорей, я молчу.
– Сегодня воскресенье; Монтеспан, кажется, вернется только завтра, мы также находимся здесь несколько в плену… Г-да Ротелин и Севинье находятся в числе приглашенных в Марли – короля; что дурного в том, что мы здесь отпразднуем выздоровление их друга?
– Ты так думаешь, Клоринда?! – вскричала без большого сопротивления Урания.
– Принято, принято! – воскликнул Ален, вскакивая со своего стула, – я благословляю моего судью и… целую его ручки.
– Еще!.. ах! но это уже черезчур! Анаиса и я принадлежим вашим друзьям. Здесь только одна особа и одно сердце свободно… Устройтесь с нею вместе, если сможете!
– Решительно, mesdemoiselles, – пролепетала девица де-Бовё, – это – измена… Кавалер, умоляю вас не принимайте всерьёз эту неуместную шутку… и позвольте мне удалиться.
Он бросился к ней и сказал ей с изысканной вежливостью:
– Я сам уйду, mademoiselle, в тысячу раз охотнее, чем буду иметь несчастье причинить вам затруднение или неудовольствие. Вы мне являлись всегда добрым гением; вы имеете право на мое уважение и мою преданность. Скажите одно слово, сделайте один знак, я повинуюсь.
– Хорошо, оставайтесь же… – пробормотала она, опустив глаза.
– О! благодарю!..
– В добрый час!.. – проговорили её подруги, целуя её, чтобы скрыть её замешательство; – если б ты его прогнала, мы бы тебе этого не простили.
Когда состоялось таким образом соглашение, решили ужинать вместе, и девицы отдали на счет этого приказания, но так как это не могло устроиться, в виду прислуги, в их комнатах, опять было поручено верному Жозефу всё это приготовить в частных покоях Алена.
– Теперь, – спросил последний, когда все уселись в гостиной, – mesdemoiselles, в каком волшебном месте я нахожусь?
– Это справедливо, он того не знает, – сказала Клоринда.
– Вы находитесь в королевской резиденции, – вступилась Анаиса, – у дверей Версаля, в Кланьи.
– Кланьи?…
– Любимое местопребывание г-жи де-Монтеспан.
– Отлично.
– Но тогда… Это владелица, которую ждут?…
– Это она.
– Обер-гофмейстерина двора королевы!
– Всё она.
– Ах! подождите, mesdemoiselles, это, может быть, вследствие моей болезни, но то, что я узнаю, кажется, мне таким странным… Эта тайна… Эти предосторожности… Потому что меня, буквально, велели похитить…
– Это г-жа обер-гофмейстерина.
Дело развивалось в его уме, и по причинам, которых он не мог им доверить, в более сильных размерах, нежели они то подозревали.
– Помните ли вы, – сказала ему де Бовё, – как в то посещение, которое мы имели… удовольствие вам сделать, она вам назначила нечто вроде свидания на то время, когда ваше выздоровление пойдёт вперёд?
– Я это помню… Но кто бы мог подумать, что она пустилась бы на такие увёртки, чтоб привести к простому свиданию?.. Я ни важное лицо, ни герой романа.
– Гей! гей!.. – сказала, улыбаясь, Клоринда.
– Клоринда права, сударь, – сказала Анаиса, – в вашей истории есть что-то романтическое.
Внезапное облако омрачило его лоб.
– Увы! – сказал он, – не тут заключается её блеск!
– Ах! без мрачных мыслей сегодня… а не то мы вас тотчас же отошлём к вам.
– Я не хочу мучить ваш ум, – вмешалась Урания. – Вот история, или, по крайней мере, то, что мы знаем.
– Решительно, – сказал он, улыбаясь, – вы – мой добрый ангел, эти девицы только резвушки.
– Зная вас таким покинутым, и увидав вас таким несчастным, мы образовали, не посвятив даже вполне гг. Севинье и Ротелина в наш заговор, это маленькое общество, заключавшееся в том, чтоб присылать вам сюрпризы и утешение. Верный человек, служитель, каких мало, и который мне лично предан, быв в услужении у моего отца, а теперь находясь у г-жи обер-гофмейстерины, был нашим посланным, нашим посредником. Это он нас уведомил о вашем здешнем помещении. Это жилище, как вы сейчас это открыли, было построено чрезвычайно искусно, оно, по желанию своих господ, может быть двойным или обыкновенным. Со стороны, где вы живете, находится парк, с этой – парадный двор и цветник, разделенное или целое, оно так устроено, чтоб быть совершенным к услугам и нуждам своих жильцов. Кроме того, стены, доступы, палисадники так хорошо расположены, что кто перенесен таким образом, как вы, без приготовления, никогда не заподозрит подобного расположения. Художники смотрят на такой дом, как на образец особого рода искусства. Достаточно ли вы теперь осведомлены?
– Продолжайте, продолжайте; вам осталось рассказать самое интересное.
– Самое интересное есть и самое простое. Г-жа обер-гофмейстерина, обещав вам свою поддержку, начинает оказывать вам её через своё гостеприимство.
– О! о! это уже чересчур, секретничать в деле, после всего, очень легко признаваемом.
– Мы сейчас к этому приступим.
– Я кончаю свои вещественные объяснения. Осведомленные Жозефом, нам пришло на ум вас несколько помучить…
– О! шалуньи!
– Доставляя вам развлечение, в вашем одиночестве, мы выразили желание, легко исполнимое, провести в Кланьи время отсутствия двора; и мы играли, как вы говорите, в домового.
– И вы почти вылечили бедное сердце, очень больное…
– Мы хотим его вылечить совершенно, – сказала Клоринда.
Ален ответил только улыбкой, заключившейся взглядом, обращенным на Уранию.
– Разве вы ещё до сих пор любите эту Марию, тщеславную и неблагодарную?.. – вскричала девица де-Понс.
– Нет, – отвечал он тихо, – я её более не люблю.
– Слава Богу! потому что мы все на нее сердиты, не за доставшуюся ей благосклонность, которую мы презираем, но за то, что она не признала такого человека, как вы.
– Я её более не люблю, – повторил он, нагнувшись к уху Анаисы, – но и не могу её забыть!
Девица де-Бовё услыхала или угадала эти слова, и очень побледнела.
– Вы меня спрашивали, – начала опять Клоринда, – к чему столько предосторожностей в вашем помещении в этом замке? Мы тут видим, это девицы и я, две причины. Во-первых, известно всему двору, что г-жа обер-гофмейстерина питает страшное желание причинить неприятность своей сопернице, и что её постоянная мысль отомстить ей так, чтобы это составило эпоху.
– Ну что же! ничего не было бы удивительного в том, что рассчитывая на влияние своих прелестей и не предполагая, что вас соблазнить труднее, нежели короля, она хочет вами воспользоваться, чтоб отплатить тем же Марии де-Фонтанж, заставив себя обожать человеком, обожавшим её ранее.
– Какое безумство!.. – сказал молодой человек улыбаясь.
– Безумие, как вам будет угодно, мы знаем маркизу из её действий за несколько лет, будучи с ней в тесной дружбе. Она держала короля из-за самолюбия, но его общество по временам её очень тяготило; любезности, сказанные ими друг другу, достаточно это доказывают.
– Если она на это рассчитывала, – сказал небрежно Ален, – то она строила воздушные замки, не будем более об этом и говорить. Посмотрим на второе предположение.
– Вот оно: ей нужен товар для более удобного исполнения своих намерений, и не видя никого более готового ей помогать, она имеет в виду вас.
– Признаюсь, – сказал он очень серьезно, – что это более правдоподобно.
– А я вам объявляю, что если мое содействие вам полезно, то вы его приобрели.
– Мое также! – сказала Анаиса. – Вы себе не можете представить, как эта случайная герцогиня в состоянии оскорбить своих лучших друзей.
Девица де Бовё промолчала, что было замечено Аленом, как доказательство чрезвычайной деликатности, за которую он ей был благодарен. Но Анаиса и Клоринда, заметив, что вещи угрожали принять серьезный оборот, так как план их состоял в том, чтоб вырвать их любимца из его задумчивости, они опять весело заболтали, принудив его принять участие в беседе и достигли тысячью искусных проделок его сближения с Уранией, которая переходила по очереди от застенчивости к восхищению, увеличившая ещё более её грацию и красоту.
День таким образом окончился среди игр, музыки, даже танцев, до времени ужина.
Искусный Жозеф обо всем подумал. Под предлогом фантазии г-на кавалера, он накрыл узенький столик на четыре прибора, правда, в комнате выздоравливающего, и к блюдам, им принесенным, присоединились лакомства из другого отделения. Ни в чем не было недостатка: радость приправляла кушанья самая теснота стола способствовала к оживлению.
Анаиса и Клоринда посадили Алена и Уранию так близко друг возле друга; что, с самыми невинными намерениями, их колени должны были не раз прикасаться друг к другу под столом.
Отец в пустыне не устоял бы против искушения этих трех резвушек, готовых ему служить и ему нравиться. Св. Антоний, правда, не поддался искушениям Астарты, но Антоний был стар, и Астарта была одна. В Кланьи, три грации соединились против двадцатипятилетнего героя. Они твёрдо взялись утешить его до конца, а та, которую они выбрали, чтоб исполнить эту сладкую обязанность – Урания де-Бовё была так хороша!.. Также не много нужно было, чтобы разгорячить голову выздоравливающего, и в ту минуту, когда появился Жозеф с шампанским, дружба была в полном разгаре.
Лакей откупоривает бутылку; при внезапном взрыве послышался тройной милый крик ужаса, и из-под каждого кружевного рукава протягивается белая рука обнаженная до локтя, протягивающая свой стакан к пенистому напитку и подающая его, чтоб чокнуться.
Но что за театральный эффект!.. Жозеф внезапно побледнел; вместо того чтоб наливать, он вне себя выходит из комнаты со словами:
– Тише!.. – сказал он, – Бога ради…
Повинуются; прислушиваются. Минуту спустя он появляется.
– Мы погибли, – сказал он.
Прислушиваются; снаружи слышится шум колес и останавливается у решетки, у которой сильно звонит торопливая рука.
– Это госпожа маркиза!.. – восклицает верный служитель, застигнутый врасплох, – г-жа маркиза!..
Глава девятнадцатая
Это была обер-гофмейстерина! – Спасайся кто может – За занавесью.
Те, кому когда-либо случалось явиться куда-либо не кстати, поймут, что г-жа Монтеспан в эту минуту явилась совсем не кстати. Никогда так неприятно не было смущаемо такое прекрасное и в полном разгаре собрание.
Все лица этих молодых девушек сияли резвостью, веселостью и более нежным чувством.
Чудесное и прекрасное дитя, которое король не мог соблазнить обаянием своего сана, приманкой роскоши и почестей, уступая более чистому притяжению, оказывала своему соседу весьма живое участие, и была счастлива, что могла удалить тени, ещё существовавшие в его уме.
Ален не отказывался от этого нападения любезностей, дружбы внимания, но он испытывал к девице де Бовё чувство нежности, уважения и восхищения, изумлявшее Анаису и Клоринду, но которое первая очень оценивала. После всего мы не знаем, чем бы окончилась эта игра, вследствие шампанского, если б экипаж обер-гофмейстерины не помешал бы опорожнить бокалы.
Второе следствие этого неожиданного возвращения свело с ума наших красавиц; они начали кружиться из стороны в сторону, не подвигаясь ни на шаг вперед; всё смешивая, приводя в порядок, снова ставя на место то, что взяли прежде, унося то, что они положили. Настоящее бегство нимф, застигнутых Юноной в обществе Юпитера.
Маркиза горела нетерпением иметь свидание с Аленом де Кётлогоном, боясь как бы ему не наскучило его одиночество или как бы он не начал ему не доверять, ничуть не подозревая, какого рода развлечения он там нашел и которые не выходили в её программу.
Она в продолжении дня исполнила свои обязанности возле их высочеств, и так как двор должен был вернуться с утра Версаль, чтоб там завтракать, свободная от цепей, раздражённая присутствовать при знаках, ничуть не скрываемых, даже в её присутствии, страсти короля и фрейлины, она велела подать свою карету, чтоб прилететь в Кланьи.
Она умирала, она задыхалась от скрытной ярости; ей необходимо было излияние; никого не было для этого более подходящего, как тот, который страдал той же болью и по той же причине.
По тому шуму, который наделал её приезд, можно было судить о её нетерпении и торопливости.
Замок, за минуту пред тем такой спокойный, где всё казалась потухшим и заснувшим, исключая комнаты больного, слава Богу, совершенно здорового, оживился как замок красавицы в дремучем лесу при прикосновении волшебной палочки.
Внезапно всё осветилось, всё заволновалось.
Карета въехала в парк и искусным поворотом кучера остановилась у ступенек крыльца.
Лакей поспешил её отворить, другие важно выстроились у входа перед кариатидой с серебряными фонарями в руках, с каждой стороны от неё.
Как уехала бурей, такой же маркиза и приехала. Она никого не взяла с собой, даже ни одной из своих горничных и была одна, – по крайней мере, должны были быть, с этой стороны виллы, служители только мужеского пола.
Правда, ей только стоило привести в движение одну пружину, чтоб проникнуть в другую часть дома, где были одни только женщины.
В этом беспорядке, Жозеф не мог даже явиться на помощь нашим четырем ветреникам, он должен был, без промедления, показаться своей госпоже.
Его присутствие духа шепнуло ему, однако, хорошую мысль:
– Унесите все, – сказал он лакеям, – чтобы оставались следы только одного прибора; г-н кавалер скажет, что он пожелал ужинать в своей комнате… Я же постараюсь задержать маркизу насколько возможно.
Последовали его совету, не без большого смущения, так приборы, флаконы, стаканы перешли как ни попало через отверстие в другое отделение замка, наконец, оставалось скрыть последние следы маленького праздника, когда за дверью комнаты послышался голос Жозефа.
Эхо был последний удар колокола.
Он не смог, как надеялся, задержать маркизу, горящую от нетерпения и намеревающуюся, не теряя ни одной секунды, увидеть своего гостя, которому ей так ужасно необходимо было сообщить свои впечатления и заставить его разделить с ней её злобу.
– Где он? я тотчас же должна с ним поговорить.
– Госпожа маркиза, он в своей комнате.
– Ну, что же из этого!
– Он в одежде выздоравливающего, и конечно, желал бы показаться г-же маркизе в более исправной форме.
– Больной!.. подите, я ведь знаю что это.
– Вообразите, госпожа маркиза, что именно по фантазии больного он пожелал ужинать в своей комнате.
– Ба! если он не кончил, то я приглашу себя на десерт.
– Тогда, я пойду предупредить его о чести…
– Ах! пусти же меня пройти, скотина! – сказала она грубо, отодвигая его со своей дороги, которую он ей загораживал при каждом слове, наклоняясь направо и налево, следуя её движениям, чтоб делать ей свои замечания с колким почтением.
Она уже взобралась по лестнице до предпоследней ступеньки.
Он не отчаивался, и опередив ее:
– Госпожа маркиза, – вскричал он вне себя, таким образом, чтоб его голос был услышан внутри комнаты, – позвольте мне, по крайней мере, доложить о вас!
– Безумный!.. доложить обо мне, когда он не знает, что он у меня? По крайней мере, – возразила она, подумав, осматривая его с ног до головы, – он не должен этого знать.
– Он этого не знает, госпожа маркиза!.. – воскликнул со своей природной самоуверенностью лакей. – Клянусь, что я ему не проронил слова.
– Хорошо!.. – сказала она, отталкивая его во второй раз. – Я сама о себе доложу.
Однако, по привычке обходительности и благопристойности, эта смелая знатная барыня, которая никогда не затруднялась шарить в карманах короля, чтоб взять оттуда бумаги, её интересовавшие, а иногда совершать там подлоги, у этой двери молодого флотского офицера, она постучалась два раза.
Быстрый, испуганный, скрытный шум последовал за этим постукиванием.
В надежде выиграть хотя бы две секунды, Ален, вместо того, чтоб отвечать, сам пришел отворить.
– Госпожа… госпожа маркиза де Монтеспан!.. – сказал герой праздника, в свою очередь притворяясь изумленным.
– Да, мой дорогой кавалер, – сказала она выступая вперед: – это я, ваш друг. Не подозревали ли вы меня в какой-нибудь связи с вашими приключениями?…
Он не успел ответить.
Комната имела вид трактира первого разряда взятого приступом.
– Гей! Бог мой!.. – вскричала она. – Что за суматоха!.. Можно подумать, что тут прошло вторжение. Не случился ли с вами опять припадок вашей горячки?
В тоже время, так как это была хитрая дама, которую не легко было уверить и которой на практике были известны всякого рода уловки, она осмотрела всё вокруг себя испытующим взглядом, начиная со знаменитой вставки. Та была герметически закрыта.
Тогда кавалер, живо принимая на себя роль, так безуспешно сыгранную Жозефом, чтобы выйти из затруднения, захотел встать под батарею этого инквизиторского взгляда, достаточно язвительного и ответил на её воззвания.
– Потрудитесь извинить меня, госпожа маркиза… Я не был приготовлен к этой чести, мое жилище это доказывает… Никто в этом не виноват… это привычка моряка! Я действовал здесь как бы в своей каюте. Но место это так неприлично… Позвольте мне вас принять в маленькой гостиной.
Продолжая искусно действовать, он любезно подал ей руку, чтоб её увести.
– Но нет, нет, – сказала она всё более и более насмешливым голосом. – Оставайтесь здесь, так как вам здесь было так хорошо… Вы не очень скучали? – прибавила она.
Ея глаза, сверкая бесовской злобой, остановились на длинных занавесях окна, которые только что незаметно колыхнулись.
– Вы об этом слишком хорошо позаботились, сударыня.
Несмотря на выказываемую им самоуверенность, следя за этим взглядом и дьявольской улыбкой, Ален сильно побледнел.
– Так как вы желаете удостоить мою комнату вашим посещением, то позвольте предложить вам это кресло, – сказал он, придвигая его таким образом, чтобы она сидела спиной к подозрительному окну.
– Благодарю, – сказала она. – Но, посмотрите, прошу вас, это окно вероятно плохо закрыто; занавеси шевелятся, оттуда несёт ветер.
Он серьезно прошёл по её указанно, сделал вид, что рассмотрел задвижки и отвечал:
– Теперь оно совсем хорошо закрыто; мы одни…
– Вы и в самом деле так думаете? – сказала она и, подходя сама к занавесям, она их отодвинула резким движением, от которого затрещали кольца на железном пруту.
В то же время раздался маленький, пронзительный и странный крик.
– Ай!
Спасаясь, фрейлины забыли или, скорее, не успели увести одну из своих подруг; дверь слишком скоро закрылась. Бедная девочка осталась в западне. Она спряталась в углу, повернувшись спиной, закрывая лицо своими руками.
– Сударыня!.. Сударыня, что вы сделали?.. – вскричал Ален, готовый её защищать, чтоб помешать нарушению её инкогнито.
Обер-гофмейстерина пожала плечами; но она более не улыбалась даже своей язвительной улыбкой. Она направилась к двери, отдёрнула обивку таким же образом, как перед тем отдернула занавеси и зная своих людей, вполне уверенная в том, что Жозеф находился там и подслушивал у замка двери, она резко отворила. Она не ошибалась, он был там, вовсе не ожидая подобного сюрприза, и так заинтересованный этим делом, что опирался о вставку и на половину потерял равновесие, когда эта точка опоры ускользнула от него.
– Госпожа маркиза!.. – заикался он спотыкаясь.
– Я тебя гоню.
– Но, прошу госпожу…
– Впрочем… – сказала она, кидая странный взгляд на угол, где пряталась молодая девушка; – нет; я тебя оставляю… Ты узнаешь на каких условиях. Ступай, мошенник… и ты ответишь своей головой, если я тебя ещё раз застану подслушивающим у дверей.
– О! Госпожа маркиза хорошо знает…
– Но убирайся же!
– С почтением, госпожа маркиза.
Она сама захлопнула дверь перед его носом.
Ален, обратившись в статую, стоял на своем месте; позади него видно было, как трепетало шелковое платье на теле пленницы.
Монтеспан не дошла до них, а вскричала тем колким голосом, которого так боялись придворные льстецы, когда она их прорезывала своим пословичным жаром:
– A! mademoiselle де-Бовё, покажитесь же! Уж не думаете ли вы, что я вас не узнала?..
Да, это опять была Урания, и что ещё того хуже, что виною был кавалер, который, непременно желая в последний раз поцеловать её руку, не дал ей времени убежать!
– Ну, что же! да, madame, – сказала виноватая показываясь с решимостью, не лишенною достоинства: – Это я.
– Я в восхищении… – сказала обер-гофмейстерина: – То есть, я в восхищении от того, что это вы скорее, чем кто другая…
– Madame, – вступился Ален, – положение не равное, и вы нас подавляете.
– Кавалер, вы – плохой дипломат… Правда, что со своей стороны, я также очень плохая обер-гофмейстерина… не предвидев прежде, что оставляя волка с этой стороны, а овец с той, разделяя их одним только секретом, первая вещь – что они сделают это, будут его отыскивать… и найдут…
– Сударыня, уверяю вас, что во всем этом участвовал один только чистый случай, и самый невинный…
– О! я верю… – сказала она, снова колко засмеявшись и показывая на остатки, покрывавшие скатерть стола, на приборы упавшие на ковер и на стулья, стоявшие в беспорядке.
Потом, доказывая, что она не придавала никакой веры и никакого значения объяснениям молодого человека, она снова окликнула фрейлину, обнимая её тем взглядом, которого не было возможности избежать:
– Вы были не одни с кавалером?
– Madame, вы нашли меня одну, – смело отвечала девица де-Бовё.
– Это правда, и другие не посмеют похвастаться…
– Что же касается вас, Урания, вы, которой я слепо доверяла! – благодарите Провидение, по милости которого ваше поведение именно соответствует с моими намерениями.
– Я не понимаю, Madame…
– Я скоро объяснюсь яснее… Пока, вам достаточно знать, что не без побудительной причины я заставила вас себя сопровождать в том посещении в гостиницу «Св. Евстафия». Ну, признайтесь, моя милая, вы были не совсем равнодушны к горестям г-на кавалера?
– Я этого не отрицаю.
– Если б вы даже и отпирались от этого, я бы ни одному слову не поверила. Следовательно, я вообразила что, будучи так к нему сострадательны, мне не будет стоить большого труда заставить вас его утешить, а я так вижу, что вы уже сами это исполнили. Так хорошо, это-то вам и объясняет мою снисходительность, что благодаря вам, я приобретаю начало мести…
– Вы говорите загадками, сударыня, – сказал Ален.
– Мне кажется, что нет: mademoiselle отказалась от короля ради вас, значит, вы отнимаете у него его красавицу в возмездие того, что он у вас взял вашу… О! мы ещё не дошли до конца!.. я желаю, чтоб дело было гласное, публично разглашено!..
– Госпожа маркиза!.. Госпожа маркиза!.. – вскричали они, падая перед ней на колени.
– Поднимитесь же! вы – двое детей… Доверьтесь мне… Вы получите блистательное отмщение… Да… но удовлетворяя вас, я только получаю не большое удовлетворение, я… – Лоб её нахмурился, мрачное пламя сверкнуло из-под её ресниц, черты её приняли свирепое выражение и губы её приподнялись кошачьим сжиманием. – Я же требую иметь полное отмщение!.. И я его получу… кавалер. Я согласна, что у вас сердце дворянина и упорство героя.
– В том никто и никогда не мог усомниться, сударыня… – отвечал, вздрагивая, Ален.
– Ну так! вы это докажете…
Она направилась к подвижной вставке:
– Mademoiselle, – сказала она Урании, – вернитесь этим путем, так как вы его избрали… Не говорите вашим подругам, что я знаю об их соучастии; это избавит меня от труда их за то наказывать. Вы же удалитесь в вашу комнату, я к вам приду.
Она открыла дверь и когда фрейлина вышла, она подошла к молодому человеку, села и показывая ему на стул, сказала:
– Теперь побеседуем вдвоем!..
Глава двадцатая
Две ревности и одна ненависть. – Все средства хороши для женщины в немилости. – Ален подвергается суровому испытанию.
Обер-гофмейстерина не скрывалась – не достаточно, – потому что глаза всех были устремлены на неё, стараясь проведать её намерения. Она жила только для того чтоб исполнить одну постоянную мысль: натворить неприятностей своей сопернице, заставить плакать её прекрасные глаза и дойти после тысячи стычек, если ей не удастся отнять у неё безумную нежность короля, до решительной мести, какая бы она ни была.
Она действовала со стороны духовенства, с которым она была в лучших отношениях, чем Мария де Фонтанж, слишком оглушенной своим счастьем и слишком желавшей им насладиться и выставить его напоказ, чтобы предаваться интригам или лицемерию подобного рода.
Хотя и по её наущению король причащался на страстной неделе, но у неё не было более ни религиозных, ни каких бы то ни было серьёзных мыслей: что ею управляло, что её увлекало, это гордость и всё гордость.
Маркиза де Монтеспан, которой напротив искусно помогала будущая фаворитка, госпожа де Ментенон, творившая из всего стрелы, заботилась беречь высшее духовенство от двора, которому она постоянно давала доказательства внешней набожности.
Влияние этих двух женщин, Монтеспан и Монтенон было таково, что папу уговорили написать Людовику XIV угрожающее письмо, чтоб упрекнуть его в скандале, пример которого он подавал. Но государь этот ещё не подпал под иго вдовы Скаррона, он был увлечён сильнейшею страстью, а время отлучения от церкви прошло; он не испытал ни малейшего волнения и продолжал свои похождения.
Употребляя все эти великие средства, обер-гофмейстерина не пренебрегала ни одним из маленьких.
Мария де Фонтанж, великолепная наездница и смелая охотница, любила гнаться за крупной дичью, но у неё было сильнейшее отвращение к зверинцам, объясняемое её чрезвычайной склонностью к ласкам и роскоши. Но совершенно напротив, обер-гофмейстерина, у которой это была не единственная странная фантазия, особенно привязалась к двум ручным медведям, с которыми она обходилась как с комнатными собачками, в отношении которых она требовала, чтоб все им оказывали внимание и которые прогуливались по своему произволу в королевских дворцах. Читатель, не приготовленный классическим обучением, не может себе представить галереи и покои Версаля в этой эксцентричной компании, был бы вправе нам не поверить со слов. Вот анекдот, очень хорошенький, рассказанный летописцем того времени[15].
«У г-жи де Монтеспан два медведя, которые ходят куда им вздумается. Они провели одну ночь в великолепной квартире, приготовленной для девицы де Фонтанж.
Живописцы, выходя вечером, не позаботились затворить двери; те же, на которых была возложена забота об этой квартире, были так же небрежны, как и живописцы; таким образом медведи, найдя двери отворёнными, вошли и всю ночь всё там портили. На другой день рассказывали, что медведи отомстили за свою госпожу и другие подобные глупости поэтов.
Тех которые должны были запереть квартиру, выбранили, но до такой степени, что они твердо решились затворять двери пораньше. Однако, так как много говорили об опустошении, произведенном медведями, множество людей ходили в квартиру поглазеть на весь этот безпорядок.
Г-да Депрео и Расин также отправились туда к вечеру и, ходя из комнаты в комнату, углубленные или своим любопытством или своим приятным разговором, они не обратили внимания, что первые комнаты уже закрывали: таким образом что когда они пожелали выйти, они этого сделать не смогли. Они кричали через окна, но их не услыхали. Таким образом, оба поэта провели ночь там, где два медведя переночевали в предыдущую ночь, и имели свободное время думать об их прошедшей поэзии или о их будущей истории».
Впрочем позволено думать, что это шутка, сыгранная с двумя поэтами, слишком забавна, чтоб не быть несколько произвольной со сторон господ из королевской прислуги.
Также легко поймут, что это не простой случай предал квартиру девицы де Фонтанж мерзким животным, и это был, впрочем, только один из ста эпизодов соревнования её низложенной соперницей. Признаются, что это было действием ревнивой женщины, завистливой до всего выгодного, ниспадающего на её врага, и ухитряющейся его помучить.
Новая герцогиня, негодующая в глубине души и иногда плачущая от гнева, показывала однако вид, что принимала эти вещи с высоты своего величия, как ничтожества, её недостойные. Король, знавший маркизу, озабочивался более. Видя, что его письмо и его угрожающие советы её не пугали, опасаясь каких-нибудь публичных скандалов, он старался её смягчить какими-нибудь преимуществами.
В первый день она выказала себя ужасно оскорбленной титулом герцогини, дарованным через несколько недель милостей девице де-Фонтанж, титул, который одинаково приобрела в подобных же обстоятельствах Луиза де Ла-Вальер, между тем как она сама, царствование которой продолжалось несравненно дольше, осталась маркизой.
Но Людовик XIV чувствовал, что она должна была этим оскорбиться, в примирительном духе, он решился удовлетворить её насчёт этого пункта и желая сделать дело более ценным, самому лично ей объявить. Но она выпрямилась во всё своё величие:
– Нет, государь, – отвечала она; – мне ни в каком случае не нужно это новое отличие… Оно было необходимо Ла-Вальер, Фонтанж, чтоб приблизиться к вашему величеству; но я, я родилась от той крови, которая мне позволяла надеяться на самые высшие почести, даже в том случае, еели б я не имела чести вам понравиться.
Без сомнения, это был высокий слог; между самыми гордыми, не многие сказали бы так королю-Солнцу. Она с подобной же ясностью изложила вещи, когда она осталась наедине с Аленом де Кётлогоном.
– Ну что же, кавалер, – начала она, – подумали ли вы о вопросе, который я вам предложила в нашем последнем свидании?
– Да, сударыня, – отвечал он с своей стороны, без колебания.
– Я надеялась на это, так как вами также пожертвовали без стыда, без рассуждения, без милосердия; то, что я страдаю, вы терпите то же самое и вы должны в одинаковой степени испытывать эту строгую нужду отмщения, которое поразило бы в самую чувствительную струну существования виновную, которая бы смутила эти дерзкие радости, сделанные для того, чтобы нас подразнить, и ряд неверных, которых позволяет вам ещё менее, чем мне, получить обыкновенное удовлетворение.
– О сударыня, – сказал Ален, – какие струны приводите вы в движение… и какое жало в ваших словах, чтоб прибавить настолько к злу, которое меня уже мучает!
– Я – хирург, поворачивающий скальпель в ране, чтобы обеспечить выздоровление.
– Чтобы начинать подобным образом, что же вы тогда затеяли? К какому ужасному деянию намереваетесь вы меня присоединить?
– Я сперва намереваюсь узнать, если я могу и до какой степени могу рассчитывать на вас? Вы ревнивы?
– Да!.. да!.. да!.. – вскричал он перерывами.
– Я это заметила в тот день, когда вас встретила в роще… убегающего от короля и его новой фаворитки…
Он ничего не отвечал, его кулаки до того сжались, что ногти его вонзились в тело, его чёрные брови сдвинулись в свирепую дугу.
Адская маркиза, следуя за всеми его ощущениями, которые она возбуждала в этой страстной натуре, спросила его глухим голосом, нагибаясь к нему:
– А отчего вы от них бежали?
– Отчего!.. Ах! вы это хорошо знаете; взгляд ваш говорит мне, что вы это поняли… Я от них бежал, потому что, в эту минуту, пьяный от ярости, безумный от унижения, чувствуя оружие под своими руками, я бы убил одного или другого, – может быть обоих! – Воспоминание об этом волнении снова произвело на него противодействие: он побагровел. – Бог меня спас, – начал он, – дав мне силу удалиться… и посылая мне эту болезнь, позволившую мне обдумать… Но, чтобы быть милосердным до конца, он должен был бы послать мне смерть…
– Это было бы очень жаль! Он вас оставил жить для вашей мести.
– Ах! моя месть!.. Каким образом и на ком её показать теперь!.. Нет, это проклятие; видите ли вы, сударыня, я более ни на что не годен; я сам себя стыжусь.
– Уныние!.. Послушайте!.. Посмотрите, разве я унываю!.. Кавалер, будете ли вы менее тверды, нежели женщина!..
– Я вами восхищаюсь, но вы меня пугаете.
– Нужно ли мне вам напоминать, до чего они дошли?… Это бесстыдное счастье, которое они выставляют напоказ, эти наглые нежности, столь же нецеломудренные?.. Ах! если б они сделали вас свидетелем своего счастья, как меня каждый день… каждый час!.. – Было что-то от барса в её голосе, в её выражении.
– Ради Бога, пощадите меня, вы будете причиной какого-нибудь несчастья или преступления! Сквозь эту ревность, меня пожирающую, у меня проявляются светлые места, когда я рассматриваю вещи хладнокровно, рассуждая.
– А! а! – сказала она иронически, – а что говорит вам ваше благоразумие?
– Оно заступается за мою неблагодарную, выставляя обстоятельство чрезвычайной молодости, обольщения для глаз, честолюбия… Послушайте, сударыня, это может быть трусость, я должен был бы видеть только её вину, только её небрежение, только её измену, но умоляю вас, позвольте мне верить, что она была более слаба, чем виновна, что сердце её не участвовало в её поступке, что она не любит короля с той же нежностью, которую некогда она оказывала мне самому.
– Нет, – с фарисейской жалостью отвечала маркиза, – я вам не позволю поддерживать вашу боль этими опасными мечтами. Этим я бы сделала себя виновной в обмане и соучастницей этой твари, которая была настолько бесчестна, что изменила столь великодушному сердцу! Ах? вы закрываете глаза и уши, бедный больной, которому нравится ваша боль, вы гонитесь за облегчающими средствами, вместо того чтоб открыто принять героическое лекарство. Нет, нет, я вам не помогу в этой малодушной тактике! Вам знаком её почерк и её слог, не правда ли?
– К чему всё это, скажите, ради Бога?…
Она вынула из своего кармана маленький сафьяновый мешочек, служивший ей портфелем, а из этого портфеля достала бумагу.
– В начале этой недели, – начала она снова, не отдавая ему ещё эту бумагу, – у короля ранили лошадь на одной охоте на кабана, его величеству угрожала даже некоторая опасность. Ваша прежняя невеста не присутствовала при этой охоте, нездоровье удержало её в замке. Ее там не было, чтоб выразить свое соболезнование, при первом объявлении приключения, но не будучи в состоянии говорить, она написала, и какой слог!
Маркиза остановилась, развернула с рассчитанной медленностью записку и прочла, делая ударение на каждом слове.
«Я не в состоянии, мой дорогой государь, выразить вам беспокойство, в котором я нахожусь; могу ли я без дрожи узнавать, как мало вы заботитесь о вашем сохранении! Ради Бога! берегите лучше жизнь, которая мне дороже моей собственной, если желаете найти меня живой при вашем возвращении. И что же! разве ваша храбрость не довольно известна, точно также, как ваша ловкость, чтоб вам не подставлять себя более новым опасностям? Можете ли вы находить отдохновение войны в упражнении столь трудном и столь опасном!.. Ах! я дрожу от страха. Извините, мой дорогой государь, эти упреки выходящие от горячности моей страсти, и вернитесь, если вы любите, и если хотите успокоить от страха ту, которая вас так нежно любит».
Это письмо было из самых достоверных, и мы сами переписали его у авторов, нам его сохранивших. Окончив это чтение, обер-гофмейстерина, передала, не прибавив ни одного слова собственноручно письмо Алену. Он её оттолкнул отчаянным движением, так как издали узнал почерк, и сказал с горечью:
– Вы правы, сударыня, это любовь… Но какой изменой записка эта попала в ваши руки?
– Это мой секрет, кавалер, дело это было для меня тем более легко, так как я держу в своей немилости множество союзников, между тем как эта неосторожная кокетка с каждым днем отчуждает своих последних друзей. Но я вам показала и рассказала только половину этого происшествия. Тут будет продолжение.
Глава двадцать первая
Великий король ведет себя как пастух. – Хорошая награда за черный поступок. – Бедный Ален! Бедная Урания!
Ален, видя, что маркиза решилась его не щадить и не утаивать от него ни одной подробности и впрочем находя сам, что бы он ни делал, род жгучего удовлетворения, не покушался её останавливать в её открытиях.
Она опять взяла свой портфель, заботливо положила туда записку и достала оттуда другую.
– Письмо, которое вы сейчас видели, было привезено его величеству нарочным, который застал короля в лесу. Преисполненный блаженством, его читая, он его целовал тысячу раз и, усевшись на ствол опрокинутого дерева, он написал карандашом ответ, который нарочный же отвёз назад. Вот этот ответ:
«Нет, мое дорогое дитя, не бойтесь; опасность прошла и я хочу себя беречь только для вас одной. Признаюсь вам, я поступил неизвинительно, искав удовольствия в упражнениях, которые вы со мной не разделяли; но простите эту минуту, которую я отдал желанию славы, и я еду, чтоб проводить все мои дни в повторениях вам, что я вас люблю… Ах! как приятно только думать, когда любишь столь прелестное дитя и уверен, что им любим!»[16]
– Но, сударыня, вскричал Ален, которого эти неопровержимые доказательства раздражали до крайности мучения, – вы, следовательно, очень желаете, чтоб я их обоих возненавидел?
– «Если я этого желаю»!.. Разве без того я так бы трудилась? Да, я хочу, чтоб ваше отмщение равнялось моему, чтоб оттуда вышло, если вы будете мне помогать и поймёте меня, громовой удар, столь же ужасный, как эта измена.
– Вы, значит, уже нашли это гремящее наказание? – спросил он.
– Да… – отвечала она со свирепым ударением в голосе.
И не видя его ещё на той точке, куда она желала его привести, она начала опять:
– Вы меня обвиняете, что я раздражаю вашу рану, а однако я её берегу.
– Как?! Эти доказательства их нежностей, её гнусного пренебрежения мною, мною, который её обожает до самозабвения, это ещё не все?… Ах! Мария, неблагодарная!.. неблагодарная!..
Он закрыл лицо своими руками, в одном из тех припадков отчаяния, ревнивое мучение которого одно только может дать понятие об их пытке.
Погружаясь в воспоминания прошедшего, своих мечтаний, часов доверия, излияний, он повторял:
– Неблагодарная!.. неблагодарная!..
Маркиза наслаждалась этой мукой, думая только о том, как бы её ещё увеличить, потому что, в творении, о котором она мечтала, ей необходим был соучастник, который был бы равен ей и на которого она могла бы положиться, как на самое себя.
– Я доканчиваю мои открытия, – сказала она. – Прекрасная Фонтанж, едва не умерла от радости, получив эту записку, написанную с таким жаром. Удовлетворение, которое она испытала от этого, было таково, что в эту минуту и в первый раз, этот мраморный чурбан оживился и в этом восторге, почувствовала в своей груди двойное ощущение жизни, это ощущение, о котором вы не можете составить себе понятия, вы и другие мужчины, и которое, судя по положению той, которая его испытывает, производит избыток счастья или отчаяния.
– Она беременна!.. – вскричал кавалер.
– Она беременна, – отвечала обер-гофмейстерина задыхающимся от гнева голосом.
Понятно, что действительно это увенчание любви Людовика XIV и фрейлины было способно довершить отчаяние соперницы. Этот государь, как мы уже это рассказывали, всегда привязывался с новой страстью к женщинам, дарившим его детьми.
Беременность герцогини де Фонтанж открыла дверь ряду новых побочных королевских детей, которыми неумолимая маркиза видела уже своих затмеваемыми и ограбленными.
Фонтанж сама это понимала таким же манером, заранее вкушая радость, ещё увеличивавшую её тщеславие. Как она увидала короля, она бросилась к нему на шею, объявляя ему, со слезами радости, своё счастливое материнство. Это должно было преисполнить меру любви Людовика XIV.
На другой день, новые милости посыпались на неё: за нею обеспечивали приращение пенсии в сто тысяч талеров и удваивали её домашнюю прислугу. Король велел исполнить её портрет своему любимому живописцу, чтоб повесить его в своем рабочем кабинете, напротив своего письменного стола, таким образом, чтоб он мог им любоваться всякий раз, когда поднимет глаза.
Вечером того же дня (всё это рассказывают Мемуары) так как было празднество в королевских покоях, фаворитка не могла скрыть чувство стеснения, обозначающее положение, в котором она находилась и объявляющее образование новой ветви королевского рода.
Король подошел к ней; не беспокоясь ни о взглядах, ни о напряженном слухе при его малейшем движении, при его малейшем дыхании, он взял её руку, попросил её опереться на его руку и хотел сам отвести её в её половину.
– Милое дитя, – сказал он ей нежно, – в каком я отчаянии видеть вас в таком положении!
На что, рассказывают, она дала этот ответ, долгое время забавлявший злобу придворных:
– Ах! мой дорогой государь, зачем эти горести так близко следуют за удовольствиями столь чистыми!.. Но, нужды нет, я нежно люблю причину своей боли и буду любить её вечно.
Для влюбленного всё, что выходит из столь прелестного ротика, кажется восхитительным и возбуждает самый живой восторг.
Людовик XIV, имея сорок три года от роду, вёл себя в глазах своего двора, не сдерживаясь при виде горя королевы, стыдящейся и оскорблённой его заблуждениями, с безрассудством смешного волокиты, только что поступившего на службу.
Маркиза, в своем совещании с Аленом де Кётлогоном, не упустила ни одной подробности, ни одной особенности, ни одной черты.
Её слушатель, опьянелый от отчаяния, с жадным наслаждением вкушал этот горький напиток.
Опасная поверенная, наконец остановившись, устремила на него свой жгучий взгляд:
– Теперь, – сказала она, – решились ли вы помогать мне и наказать их?
Не показывая вида, что её слышит или отвечает ей прямо, он ударил себя по лбу, в отчаянии, в ярости, повторяя:
– Да! да!.. отомщение!
Считая его дошедшим до желаемой точки, маркиза подняла голову, угрожая небу вызывающим взглядом.
– Кавалер, – начала она, придавая на этот раз, своему голосу ласкательное и бархатистое ударение. чтоб никакого рода увлечение не ускользнуло от дела, ею затеваемого, – прежде всего я – ваш друг, я вам это объявила и мне кажется, что я начала вам это доказывать.
– Мой друг… вы, сударыня! – сказал он горько, но без гнева, – И вы меня мучаете вот уже два часа с хитростями, которым нет названия!
– Я вас не мучаю, я вас просвещаю, я вас приготовляю, я вас укрепляю для борьбы, и вы не знаете, до чего простирается моя благосклонность к вам.
Он посмотрел на нее с удивлением.
– Я не только хочу, чтоб вы удовлетворили со мной своё законное отмщение… Я вам берегу утешение и награду.
– В самом деле? Я ничего не понимаю, сударыня.
– Это будет ценой за вашу верность и за вашу твердость в исполнении нашего дела… Посмотрим, не нашли ли вы меня очень снисходительной, когда, входя сюда, я здесь застала девицу де Бовё?
– Сударыня, клянусь вам, что эта молодая девушка вне всякого подозрения…
– О! я этому верю; но это приключение будет не менее важно, если получит огласку. Но, вместо того, чтоб желать наказать эту неосторожную, я ей также докажу мою привязанность.
– Сударыня, сударыня, прошу вас, не будем примешивать имя этой молодой девушки столь кроткой и столь чистой к нашим историям ненависти и мести.
– Это любопытно! Вы храбры как никто на войне, а в свете одно только имя женщины заставляет вас дрожать!.. Однако вы не так просты, чтоб не замечать, что это прекрасная молодая девушка не желает вам зла.
– В самом деле, сударыня, вы меня смущаете.
– Ну что же, не начнете ли вы теперь краснеть?… Она также вам нравится, если судить по тому ужину, который я так не кстати прервала… Я нахожу, что это очень хорошо и очень естественно… Так хорошо и так естественно, что имея, хотя и считаете меня совершенно падшей, мою власть в этом предмете и, кроме того обладая доверием моей милой Урании, я обязуюсь отдать вам её руку в награду за услуги, которых я требую от вас.
– Руку девицы де Бовё… мне!..
– Что же! Разве это вам не улыбается?
– Я этого не говорю!.. Нет!.. потому что если существует на свете женщина, которая могла бы меня утешить и заставить меня забыть, то это она одна…
– В добрый час!.. И скрепим наш договор пожатием рук…
Она протянула руку, он хотел уже вложить свою, когда снаружи послышался, сквозь ночную тишину, шум, по меньшей мере странный в этой уединенной стороне. Это было однообразное пение жалобной песни, петой во все горло.
– Что это значит?.. – вскричала маркиза.
Она подбежала к окну, отворила его, посмотрела, но расположение мест не позволяло ничего видеть далее густых шпалерных деревьев, окружавших парк.
– Нищие, в этой местности, в этот час и производящие подобный шум!.. – пробормотала она.
Она позвонила, чтоб послать Жозефа удостовериться, что там ничего особенного не происходило. Ален стоял молча, наблюдал и размышлял. Он узнал голос, это был человек на костылях в квартале св. Жака. Он понял, что это был знак предупреждения и вспомнил повторенный совет этого странного покровителя.
– Берегитесь дамы с благовонием!
Наверное, этот человек открыл его убежище, узнал о возвращении маркизы и указывал своим способом свой проход под стенами Кланьи, чтоб напомнить кавалеру об осторожности.
Жозеф не замедлил вернуться, объясняя, что это были двое пьяных бродяг, заблудившихся в этой стороне, и которых он вернул на их дорогу, приглашая их замолчать. Действительно, ничего более не было слышно.
– Вернемся к нашим делам, – сказала г-жа де Монтеспан.
Они снова уселись.
– Мы заключили наш договор, – продолжала она: – и вы принадлежите мне до исполнения моих намерений.
– Извините меня, госпожа маркиза, – сказал молодой моряк, лихорадка которого рассеялась при голосе нищего; если я стану вашим союзником, у вас не будет ни более верного, ни более преданного, но я никогда не даю обещания, не узнав точным образом, к чему оно меня обязывает.
– Ба! да разве вы меня не поняли? Я вам говорила о полной безграничной мести. Узнайте же меня, я никогда не останавливаюсь на половине дороги… Когда у меня есть цель, то я её преследую, даже в том случае, если должна буду остановиться перед пагубным концом.
– Ах! замолчите!
– Не слабеете ли вы, сударь!.. Разве вы сейчас не признались, что ваша первая мысль была убить их обоих?
– Да, я это сказал, да, это правда, это неумолимое внушение пришло мне на ум… Но это был первый порыв отчаяния, и если б я тогда мог её оттолкнуть, то я стал бы гадок самому себе, если бы когда-нибудь к ней вернулся!
Лоб маркизы покрылся мрачной тучей, она укусила себе губы до крови.
– Вы – трус!.. – сказала она с негодованием, которого мы не в силах передать.
– Я так не думаю, – отвечал он, устремляя на нее свой энергичный и честный взгляд; – но наш способ отмщения не одинаков. Я не убиваю, я… Я раздавливаю моим презрением и моим величием.
Она иронически пожала плечами.
– Как вам будет угодно… Следуйте по вашему пути; у меня есть свой и предупреждаю вас, все ваше великодушие не отклонит меня и не помешает мне исполнить то, что я решила… даже в том случае, если вы, по вашем выходе отсюда, пойдете донести на меня самому королю.
– Решительно, сударыня, мы не рождены для понимания друг друга… я ни доносчик, ни изменник, ни одного слова из того, что было здесь говорено, не будет мною проронено; но рассчитывайте, что я буду отклонять ваши планы.
– Это божественно, – сказала она с ядовитой улыбкой; – Бедный кавалер!.. Я удаляюсь; верьте, что я сожалею, что расстроила вашу приятную беседу… Дом этот тем не менее остаётся вашим… только я ничего не должна тому, кто ничего для меня не делает… Не надейтесь получить когда либо руку девицы де-Бовё… скорее, чем вам ее оставить…
Она не докончила, зловещее трепетание исказило её губы и обнаружило её белые зубы, готовые разорвать.
– Ах! – вскричал он вне себя, падая на колени. – Пощадите, по крайней мере, эту… Я отказываюсь от этой начатой мечты, я покидаю это чрезвычайное счастье… Но пощадите, пощадите её!..
Она поднялась и оглядывая его с высоты своего величия заявила:
– Это будет моим залогом, – сказала она. – При первом признаке возмущения или нескромности… честным словом врага заявляю: бойтесь за неё!
Она сделала угрожающее движение и вышла, прямая и непреклонная, не обернувшись.
Он оставался ещё несколько минут на коленях, в ужасе. Наконец, поднимаясь, он пробормотал:
– О, мой старый нищий, как я тебе благодарен, без тебя я сделался бы соучастником этой фурии!.. А теперь… Я уезжаю, я возвращаюсь на море, и дай Бог, чтоб оно меня поглотило!.. Но прежде я узнаю, чего ходила искать эта адская маркиза в пещере этих фабрикантов ядов.
Он позвонил.
Снова вошел Жозеф.
– Не говорил ли ты, – спросил его кавалер, – что, при моем первом требовании, карета будет подана в мое распоряжение и отвезет меня в Париж?
– Да, господин кавалер.
– Тогда вели запрягать.
Лаконичный служитель, возможно, предвидел это повеление.
– Приказание г-на кавалера сейчас будет исполнено, – сказал он.
Между тем как наш герой одевался, чтобы не оставаться ни одной минутой долее в этом проклятом замке, легкое шуршание со стороны подвижной вставки обратило на себя его внимание.
Эта вставка однако не отворилась, но он увидал сверху бумагу.
Он её быстро схватил, это был почерк первой записки, которую он получил поутру.
Ему писали дрожащей рукой: «Благодарю! благодарю!.. Могут помешать нашему соединению; но не помешают моему сердцу принадлежать вам».
– Ах! вскричал он, – Решительно, Бог есть, и я уезжаю счастливый и сильный!
Глава двадцать вторая
Маркиза де-Монтеспан. – Борьба великих честолюбцев. – Любовь как громовой удар.
Чтобы дать лучшее понятие о характере и силе ненависти, посвященной маркизой де-Монтеспан сопернице, вытеснившей её с места, где она, почти после тринадцатилетнего исполнения, полагала себя бессменной, мы пожертвуем главой ради этой столь знаменательной личности.
Мы бы не сдержали обещание данное этим заглавием, если б пропустили это изучение, одно из самых пленительных и поучительных, которые мы могли бы предложить нашим читателям, и которое нам облегчено недавними историческими изданиями и отчетами, где они происходили. По этому будут судить лучше, чем за рассуждениями, в какие руки попала Мария де Фонтанж и с кем она имела дело.
Маркиза, которая возмущалась и негодовала на расходы, увеличенные постройкой Марли и на мотовство своей счастливой соперницы, сама служила примером невоздержанности и того, куда приводит слепая страсть влюбленного короля, чтоб удовлетворить расточительность своей любовницы.
Конечно, девица де-Фонтанж успешно начала и обещала зайти далеко, если б долго продержалась, но было странно, что Анаиса де-Монтеспан этим оскорблялась, она, которая своими ненасытными руками разрыла общественную казну и изобрела недостойные средства, чтоб пособить своим необузданным расходам.
Её резиденция в Кланьи дает о том любопытное доказательство.
Фаворитка пожелала воздвигнуть храм достойный себя. Людовик XIV велел воздвигнуть на этом самом месте княжеский отель, весь украшенный резной работой, весь вызолоченный. Но это, по её мнению, не было достаточно монументально. Она объявила его величеству, что не станет жить в таком загородном домике, приличном разве только для какой-нибудь актрисы.
Нечего было возражать, разломали эти постройки, едва оконченные; было решено, что у ворот Версаля на их месте будет возвышаться волшебная вилла.
Двенадцать сотен рабочих принялись за дело, и историческая переписка Людовика XIV доказывает, что среди своих войск он следил за их работами. 8 июня 1675 года, он писал: «Расходы чрезвычайные; я вижу в этом «ради того, чтобы мне понравиться, для вас нет ничего невозможного».
В этом отношении, ему вполне угодили, Кланье стоил три миллиона; это была именно четвертая часть бюджета флота.
Фаворитка находила значительные суммы, положенные под её изголовьем. Но она никогда о них не говорила и не благодарила за них. Когда она окончательно покинула двор, она продолжала получать сто тысяч ливров в месяц. Всего этого было для неё недостаточно. Чтобы помочь своим денежным потребностям, она прибегала к самым удивительным средствам. В 1678 году, в один из своих частых денежных кризисов, она вооружила корабль государства морскими разбойниками и учредила поиски на свой собственный счет. Кольбер был обязан собственно передавать необходимый приказания управителям королевского флота. Означенный корабль назывался Смелым.
Игра, игра до крайности также была одним из средств этого необузданного мотовства. Соблазнительные выигрыши снабжали её шкатулку, а бедствия сыпались на королевскую. Последний, однако же, едва не рассердился в одну известную ночь под Рождество, в которую она проиграла четыреста тысяч пистолей, то есть нечто в роде четырех миллионов.
Один из признаков охлаждения Людовика XIV привязывается к тому же предмету.
В начале 1680 года, когда происходил роман великого короля с Марией де-Фонтанж, г-жа де-Монтеспан, продолжая свой образ жизни и ещё не подозревая, что её место было готово быть занятым, проиграла в один бросок костей пятьдесят тысяч талеров.
В другое время это было бы безделицей; но коронованный любовник уже утомился этими роскошными прелестями, прекрасные волосы и прекрасные глаза Фонтанж давали ему иные развлечения, и он выказал себя довольно суровым, когда нужно было подписать билет, назначенный оплатить эту сумму.
Это был странный в своих любовных желаниях король. С ним это случалось припадками, как бы неистовством. Его интимные историки рассказывают нам, что когда он бывал так увлечен страстью, ничто не в силах было его остановить. Он забывал даже благопристойность, рабом которой он был, однако, всю свою жизнь. Это любовь была буквально, как удар грома.
Недавно, в то время, когда благодаря маркизе, его нежность к Луизе де Лавальер ослабевала, он жаловался на постоянно ровный характер и на неизменную кротость прелестной девушки. Он искал волнений, бурь и, конечно, он не мог найти лучшую противоположность, как великолепную Атенаису, «эту роскошную и торжествующую красавицу, прекрасную настолько, чтобы показывать её посланникам», говорила г-жа де Севиньё.
Она сумела его завоевать своим кокетством, своей смелостью, своей наглостью и сатирической ядовитостью своей речи. Словом, после того, как она его завоевала своими капризами и своими увлечениями, она кончила тем, что в один прекрасный день утомила его своей горячностью так хорошо, что посредством того, что его надрывали, он был готов броситься с наслаждением в объятия Марии де-Фонтанж, показывающей ему постоянно своё улыбающееся личико, которая при случае делалась нежна, но никогда не горячилась и была расточительной не больше маркизы.
Это было таким же образом и той же дорогой, так как мы толкуем об этом вопросе, что он, немного позднее, оценил обхождение дружбы и доверия, которое ему сохранила г-жа де-Ментенон, беседы с которой сделались его лучшими часами.
Атенаиса де-Монтеспан имела в своем разговоре что-то бесовское, против чего невозможно было устоять. С ней не было ни минуты скучно, её язвительные насмешки не щадили ничего смешного, не пропускали ни одной странности.
Придворные отваживались только против воли, и то, когда нельзя было другим образом, пройти мимо её окон, когда она там находилась с королем. Будучи уверены, что на их счет отпускались разного рода шутки, они это называли «проходить сквозь строй». Людовик XIV был иногда принужден обуздывать эти насмешки, которые не всегда останавливались пред королевой.
Рассказывают, что однажды экипаж Марии-Терезы едва не потонул, проезжая через брод; Фаворитка увидала тут только случай промолвить остроумное слово, и вскричала, ни чуть не беспокоясь: «Королева пьёт!» Это вырвалось у неё так внезапно, что сам Людовик не сумел рассердиться и не мог удержаться, чтоб не улыбнуться.
Её тщеславие было так же велико, как и её ум. Она воображала себя, очень чистосердечно, происходящей от рода почти равного с королевским домом Франции, с которым она себя впрочем считала связанной некоторого рода тайной связью.
Когда она вышла замуж за Генриха де-Пардайяна де-Гондрин, маркиза де-Монтеспан, она была во всем своем блеске[17]. Это был брак по склонности, и нимало не подозревали, что разрыв будет так быстр и так блистателен. Прибавляюсь даже, что накануне самого крушения, она предупредила маркиза об угрожавшей ему опасности.
Приглашенная королем присутствовать на праздник, королеву которого она должна была тайно изображать, она умоляла своего супруга, самыми убедительными настояниями, увезти её в его земли Гиенны и заставить себя там забыть. Но маркиз, род капитана Фракасса, считая себя выше подобного урона, смело встретил грозу и увидал там свое супружеское достоинство опрокинутым.
Тогда он заговорил о том, чтоб вернуться в замок, но, в свою очередь, маркиза не захотела более и потом было уже поздно.
Он решился уехать один, и это было связано с такими приготовлениями, сделавшими из этого приключения настоящую легенду. Он велел себе подать чёрную одежду и нанял траурную карету, чтоб отпраздновать похороны неверной, на которую он смотрел как на мёртвую и которой он никогда не должен был прощать, даже в часы смирения и покаяния.
Среди своей гордости, своего великолепия, своего величия и своих интриг, без минуты отдыха, фаворитка не переставала представлять оригинальные фантазии, смущавшие иных и забавлявшие других.
Мы изложили историю её медведей.
Много говорили о Дюбарри, делавшей молочные блинчики с Людовиком ХУ, маркиза де-Монтеспан занималась кухней в гораздо более широком виде. В этом отношении, впрочем, у неё были многочисленные соперницы и подражательницы между благородными дамами того времени, для которых это служило искусством и развлечением.
Когда она увидала, что сердце короля ускользало от неё неисправимо, она покушалась по крайней мере отделаться от г-жи де-Ментенон, выдав её замуж за старого герцога де Вилляра. Но хитрая вдова не намеревалась вступать во второй брак из-за такой малости, она отказала наотрез. Маркиза попыталась тогда погубить её в глазах королевы, указывая на нее как на будущую любовницу монарха.
– По этому счету, – вскричала г-жа де Ментенон, в одном из самых раздражительных объяснений касательно этого предмета, – у него их будет, значит, трое?
– Да, – отвечала госпожа де-Монтеспан, – меня – именем, эту девушку (девицу де-Фонтанж) – действием, а вас – сердцем.
Не без причины её прозвали Султаншей Версаля.
От 1667 до 1680 года, то есть, в продолжении тринадцати лет, её влияние не знало преград. Она жила среди чудес. Всеми радостями наглого счастья, казавшегося вызовом, брошенным общественному мнению, её гордость наслаждалась без помехи и противоречий. Она осыпала Марию-Терезию обидами. Последняя была принуждена прибегать к ней, чтоб получить самые скудные милости. План, нарисованный Ле-Нотром доказывает, что королева занимала в Сент-Жерменском дворце одиннадцать комнат во втором этаже, между тем как тридцать комнат в первом принадлежали фаворитке.
Её дерзость не знала границ. В одном случае, когда несколько цепочек королевских орденов должны были быть розданы, она осмелилась обыскать одежды, которые король только что снял, взяла оттуда лист кандидатов, написанный рукой монарха и подменила место одного из них именем своего брата, г-на де Вивона.
И Людовик, вместо того, чтобы рассердиться, подтвердил этот нескромный поступок, который он бы не стерпел от королевы. Такова была неприятельница, объявившая Марии де-Фонтанж, кокетке, тщеславной и в особенности неопытной, войну как без пощады, так и без разборчивости.
Глава двадцать третья
Кавалер оставляет волшебное гнездо. – Добродетели Мари-Ноэля угрожает большая опасность. – Еще один друг Алена.
После сцены между Аленлм и обер-гофмейстериной, всё точно исполнилось по порядку программы, объявленной лакеем.
Последний, верный своей лаконичной манере, не сказал ни слова о только что происходившем, не промолвил ни одной жалобы на неосторожность, едва не стоившую ему места, и сохранившую ему его только на подозрительных условиях, которых он ещё не знал.
Он появился для того, чтоб только произнести эту употребительную фразу:
– Карета г-на кавалера готова.
– Хорошо, – сказал молодой человек, не менее кратко, – поедем.
Лакеи стояли важно на своих местах, с фонарем в руке, с каждой стороны крыльца, карета была подана, фонари зажжены, кучер сидел на своем месте.
Ему открыли дверцу, он сел и экипаж покатился.
Путешествие длилось ровно столько же времени, как и в первый раз, лошади бежали крупной рысью, как только позволяла дорога, содержанная на счет короля.
Но тогда были уже самые длинные дни года, Ален де-Кётлогон, откинувшись в угол кареты, ни пошевельнулся, ни открыл глаза, пока сотрясение и шум голосов объявили ему, что он приехал.
Было раннее утро (рассветало). Его отвезли не к решетке Тюильери, но по более рассудительной причине к гостинице «Св. Евстафия».
Хозяин, девушка, мальчики прибежали; они не верили своим глазам.
– Вы ли это, господин кавалер?..
– Царица небесная! откуда вы вернулись?
– Какой внезапный страх вы нам причинили, ах! есть кто-то, который будет ужасно доволен.
– Здесь тот, кто доволен, вскричал один голос.
Это был Мари-Ноэль Кермарик. Действительно, он был так доволен, честный малый, что задыхался; не будучи в состоянии выразить свою радость словами, он схватил своего молочного брата в охапку, поднял его от земли своими геркулесовыми руками, и целовал его, как мать, которая находит своего пропавшего сына.
Тихонько освобождаясь от этих ласк, Ален обернулся, чтоб дать щедро на водку Жозефу и его кучеру, но экипаж исчезал уже скорой рысью за углом улицы.
Он вошел в свою комнату, которую начал измерять взад и вперед, так как волнение заступило место расслаблению органов во время езды.
Мари Ноэль ходил сзади его, стараясь его остановить и отдать ему отчет о том, что произошло во время его отсутствия, о своем беспокойстве, о посещениях г-д де-Ротелина и де-Севиньё.
Наконец, видя, что не было никаких средств заставить себя услыхать он вскричал:
– Хотите ли вы, чтоб я вам сказал? Это опять должно быть женская интрига! А вы думаете, что это может меня заставить их полюбить!.. Нет, клянусь доброй св. Анной Орейской, я умру холостяком; тем хуже для этого проклятого пола!
При этой вспыльчивости, Ален вдруг остановился.
– Однако есть, – сказал он, – очень хорошие и прекрасный!..
Его рука машинально направилась искать под жилетом последнюю записку Урании, которую он прижал к своим губам.
Мари-Ноэль скрылся за занавесями, чтоб философски пожать плечами и пробормотал сквозь зубы:
– Глупости! глупости! Лучше я поцелую свою трубку! Это иногда обжигает, но, по крайней мере, не царапает.
Слишком верно было, что напасти, которым подвергал прекрасный пол его молочного брата, были не такого свойства, чтоб переменить мысли Мари-Ноэля в его пользу.
– Успокойся, мой милый, – сказал ему Ален, – мы с тобой вернемся на море и надолго.
– Да услышит вас Господь и да поддержит вас в этом расположении!.. Нужно ли нам укладываться?
– Ты можешь это сделать, мы уезжаем завтра.
– Завтра?.. – недоверчиво переспросил Мари-Ноэль. – Отчего же не сейчас?
– У меня есть дело сегодня вечером.
Бретонец колебался, ворочая языком, потом отложил в сторону всякую скромность и чиноначалие.
– Возьмете ли вы меня с собой?
– Да.
– А! – пробормотал он, желая сказать, что это обещание его несколько успокоило.
– Наконец, из-за чего ты так торопишься с этим отъездом? Великое дело! Двадцатью четырьмя часами более или менее?…
– О! ни для чего… Это просто моя идея… Эта мостовая Парижа жжёт мне ноги, я почувствую себя уверенно только на борту хорошего корабля.
– Единственно только там? Почему?
– А по той причине, что будучи далеко от искусительниц, мы более не будем подвергаться искушению.
– Ты сказал: мы, мне кажется?
– Манера говорить; потому что есть в этой гостинице… вид служанки, называемой Манон… которая имеет некие приманки… и рыжие волосы, которые у ней лишние… Го! го! это-то и глупо!
Он почесал себе голову, повернулся на своих толстых каблуках и хотел проскользнуть в дверь.
– Посмотрим, посмотрим, – сказал кавалер, улыбаясь, – что это значит, ты спасаешься?
– Я спасаюсь?.. Никогда.
– Доканчивай, тогда; я уверен, что ты находишь неблагопристойную благовидной и что ты в нее влюблен.
– Клянусь св. Анной Орейской, я боюсь, что она скорей в меня… Она на меня смотрит глазами… Она говорить со мной таким голосом… Она меня ударяет по плечу так, что это меня пощипывает…
– Ну что же, тут нет ничего дурного.
– Чтоб сказать, чтоб тут было именно дурное, я не говорю… но все девушки льстивицы; а после того, что с вами приключается, что вы едва не умерли или с ума сошли, я не хочу позволить себя заманивать ласками.
– Как тебе будет угодно, мой милый… ты, быть может, самый благоразумный из нас двух.
– Ах! в своей радости вас видеть, я забыл вам сказать, что два раза приходила прекрасная дама вас спрашивать?
– Прекрасная дама?
– Превосходно одетая, но которую я никогда ранее не видал.
– Она оставила свое, имя?
– Она утверждала, что это лишнее, что вы её знаете, что ей необходимо было с вами говорить, что она вернется; а так как она способна вернуться сегодня, то это ещё одна из причин, по которой я бы желал, чтоб мы уехали.
– Что бы ты ни думал, если она придет, я хочу её видеть; а теперь ступай любезничать с Манон, это тебя отогреет.
Он был обременен усталостью, после ночи и дня, столь исполненных случайностей; но несколько часов сна его восстановили, и он едва проснулся, когда Мари-Ноэль приотворил его дверь около полудня.
– Мой молочной брат, – сказал он, – это она.
– Она?.. кто?..
– Дама…
– А! вскричал молодой человек, очень желавший узнать эту настойчивую посетительницу, одну минуту.
Он живо поправил свой халат выздоравливающего и прошёл в маленькую приёмную комнату, навстречу даме.
Следуя обыкновенной злой насмешке судьбы, казалось, что самые любезные и самые хорошенькие женщины двора приняли на себя задачу ухаживать за этим мизантропом, который поклялся платить ненавистью за любовь.
Но разве Манон, будучи прекрасной и благовидной в своем роде, не тоже ли самое делала для этого медведя де Кермарика!
– Моя прекрасная кузина!.. – вскричал Ален. – Это вы!?
– Как видите, – отвечала г-жа де Кавой.
– Как вы добры!.. Кто это вам внушил эту великодушную мысль посетить бедного покинутого кузена?
Говоря с ней таким образом, он любезно целовал её руку и проводил её в свою комнату, единственно приличное помещение в этой гостиницы.
– Нужно же зайти к вам, господин дикарь, – сказала прелестная женщина, – так как сами вы ни к кому не ходите! Я вас едва лишь мельком, повидала в этот приезд; когда вы приехали в прошлый раз, вы весь были заняты одной какой-то твердой мыслью, а теперь у вас одно желание – это уехать.
– Это правда; но не сердитесь на меня за это!
– Ах! кто думает на вас сердиться! Нет, мой дорогой Ален; я думаю только об одной вещи, это о нашей дружбе в детстве, и о средствах вам услужить.
– Благодарю, милая Луиза, вы не переменились, все такая же добрая! Но, видите ли вы, судьба моя уже написана.
– Фи, вы верите в судьбу, а я верю в Провидение. Я знаю вашу историю и я ищу примирения, которое надеюсь найти.
Ален покачал недоверчиво головой.
– Это будет видно, господин скептик! Вам неизвестно, что я очень дружна с Марией де-Фонтанж, которая моя родственница, точно также, как и ваша. Я была вместе с ней во фрейлинах у сестры государя, до дня моей свадьбы с г-ном де-Кавоем; это было ещё совсем недавно и не прервало наших взаимоотношений. Она сама некогда намекнула мне о ваших общих планах; поэтому-то я была более оскорблена, чем вы то подозреваете, увидев оборот, который приняли вещи; и так как вам ничего неизвестно, то знайте еще, что некая особа при дворе воздержалась от поздравлений её с титулом герцогини, и что эта особа – это я.
– В самом деле, кузина? Ах! это хорошо, это достойно той крови, к которой мы принадлежим!
– Да, и это едва не ввело меня и моего мужа в немилость; но я этим пожертвовала. Отвечаю вам, что новая фаворитка была, быть может, более чувствительна к этому уроку, чем ко всем благоговениям, поднесенным в этот день. Мое влияние на нее от этого увеличилось, и я вскоре увижу, до чего оно может простираться в вашу пользу.
– Я ничего не понимаю в ваших намерениях.
– Тем лучше; вы будете меньше ими озабочиваться, это не повредит вашему полному выздоровлению. Я в восторге видеть, что ничего нет более важного, и назначаю вам близкое свидание.
– Вы смеетесь, милая кузина.
– Ах! решительно, вам всё нужно сообщить… Правда, больной, пленник… Знайте же, что только вчера, и это не старая история, сами увидите, опираясь на руку короля и любуясь водными чудесами Марли, Мария де-Фонтанж принялась вздыхать при виде лодочек, разукрашенных флагами, бегающих по Сене: «Ах! – вскричала она. – Каким прекрасным должен быть праздник на море! Неужели я никогда не буду на нем присутствовать?»
На что король, как настоящий влюбленный, отвечал: «Моя прекрасная герцогиня, в конце этого месяца я намереваюсь ехать в Дюнкерк, праздновать Нимегский мир, сделав смотр своей эскадре; будете ли вы так добры меня туда сопровождать?» Итак, было решено, что не только весь двор, но и все дворянство Франции и Наварры 30 июня съедется в Дюнкерк.
– Это чудесно! Но как же он должен её любить, чтоб так предупреждать её желания?
– Вы ревнивы!.. Избавьтесь от этой странности, мой милый Ален. Послушайте, милости короля очень кратковременны… Неверная к вам вернется, говорю вам; это мое дело.
– Следовательно, это решено, – продолжала она, не давая ему выразить свою мысль. – Я вас оставляю; я вам прощаю, что вы мною пренебрегали; я вам отсрочиваю свидание в Дюнкерке, на вашем корабле, на 30 июня.
Вслед затем, она улетела как птица.
Наш герой, не предугадывая её плана, почувствовал себя утешенным одним только её посещением и её разговором. Есть такие счастливые натуры, откровенные и честные, распространяющая вокруг себя впечатление великодушной и утешительной симпатии.
Тягость, которую на него произвело его долгое совещание с обер-гофмейстериной, счастливо облегчилась. Он жалел только об одном, о том, что он позволил, при своем приезде, поглотить себя своей плачевной страстью до такой степени, что всем ей пожертвовал, даже пренебрё родственницей, так заслуживающей его внимания.
Свидание, которое она ему назначала, и до которого оставалось менее трех недель, причиняло ему живое удовольствие, и это единственно при мысли увидать там её и девицу де-Бовё, которая не могла не присутствовать в этой поездке, где у ней было её обычное место в свите их высочеств.
Наступающий вечер застал его в этих приятных размышлениях. Укрепленный и благорасположенный, он велел себя вооружить на ночную прогулку, приказал Мари-Ноэлю принять те же предосторожности, так как улицы были не совсем безопасны наконец, после десяти часов, он отправился в путь, самой темной ночью, которую только можно себе представить.
Глава двадцать четвертая
Упрямство Бретонца. – Сражение с бродягами. – Ален находит защитника, у которого не достаёт выдержки (постоянства).
Этот мрак, покрывавший город, мог иметь свое преимущество, но только для искателей дурных приключений, а не для честных людей.
Фонари, назначенные, чтоб освещать некоторые опасные проходы, горели так слабо и были так редки, что было бы все равно, если б их совсем не было.
Следовательно, надо было знать в совершенстве Париж, чтоб отваживаться на прогулки в подобных обстоятельствах и чувствовать себя столь же ловким в обращении со шпагой, как и смелым при встречах с грабителями.
В смелости не было недостатка ни у г-на Кётлогона, ни у его товарища, но у них обоих было слишком недостаточное понятие о топографии местности, чтобы удачно направиться при таких плохих условиях.
Ален имел слишком высокое мнение о своем ясном воззрении моряка, искусного находить Восток и насмехаться над туманами. Квартал, куда он намеревался идти без проводника, был один из самых опасных. Уже видно, что следуя своему решению не уезжать из столицы, не узнав зачем маркиза де-Монтеспан, так таинственно в столь морозную ночь приезжала в жилище продавца косметики квартала св. Жака де-ла-Бушери, он хотел допросить этого человека, даже если б ему пришлось заплатить за его признание ценою золота. Это было безумно под каким бы то ни было видом; но наш упрямый бретонец смотрел на цель, а не на препятствия.
Он начал подозревать об их существовании, только когда увидал себя, после долгого часа ходьбы, окончательно заблудившимся в переулках, куда он, наверное, никогда не вступал ногой.
– Гм! – сказал он верному Мари-Ноэю, доверчиво следовавшему за ним, – можешь ли ты мне сказать, где мы находимся?
– О! ба! – воскликнул тот, – а разве вы этого не знаете?
– По чести сказать, нет, а ты?
– Гей, я, когда вы идете, я иду не беспокоясь туда, куда вы меня ведете.
– Ну, что же! мой милый, мы заблудились.
– Стой! стой! – сказал спокойно бретонец.
– Совершенно заблудились.
– Тысячу чертей, это очень неприятно, если у вас есть спешное дело. Но вот, без упрека, мы с вами в четвертый раз кружимся вокруг той же кучи домов, чтоб снова очутиться пред этим скверным домишком.
– Как, животное, ты это заметил и не обратил на то мое внимание?
– Я думал, что это был ваш план и что вы искали кого-то или что-то в этих переулках… Но подождите… мне кажется… Да, идут; если это честные прохожие, то мы сейчас осведомимся…
К несчастию, это был только пьяница, брошенный к чужой двери и колотящий о стены, после того как подрался с какими-то людьми и неспособный сам направиться куда бы то ни было.
Так как он намеревался буянить ещё, ругая наших двух гуляющих, Мари-Ноэль схватил его за шиворот и растянул во всю длину в самую средину ручья, чтобы его освежить.
Пьяный тип не был в состоянии даже приподняться и его воркотня не замедлила указать, что он заснул в болоте. Но, кажется, он не один посещал эти местности, лежащие к верху улицы Сен-Дени и около улицы Сен-Мартен, – закоулки из самых подозрительных. Шум им наделанный и буря его ругательств привлекали других прохожих.
Ссылаясь на этот первый образчик, нужно было остерегаться и остальных.
– Держись поближе ко мне, – сказал шепотом кавалер Кермарику, – и возьми свою шпагу, мне кажется, что нам предстоит встретиться с нехорошим обществом.
– Пусть их приходят!.. – отвечал бретонец, тоном, довольно ясно говорившим о его настроении.
Действительно, глаза их, свыкнувшись с темнотой, увидели появляющиеся сверху, снизу и с улицы открывавшейся с левой стороны, образы весьма дурной наружности: шаги их по мостовой указывали на их число, их всех было с десяток; впрочем, безмолвные, все они наступали с согласием, к которому они очевидно привыкли.
– Эти люди кажутся мне разбойниками, – сказал Мари-Ноэль.
Разделяя это мнение, Ален привлек его под навес одного дома, чтоб не дать себя окружить и, если это были враги, иметь их перед собой. Видя, что они решительно на него наступали, он им закричал, когда они были в семи или в восьми шагах:
– Остановитесь, бездельники!
Грозный ропот принял эти слова; вместо того, чтоб повиноваться, люди эти наступали ещё ближе.
На этом коротком расстоянии их лучше было видно; это была шайка негодяев, каждый имел в руках опасное оружие, из которых самое безобидное было окованная и узловатая дубина.
– Будем твердо держаться, – сказал Ален своему товарищу, – нужно дать урок этим канальям.
– Я принимаюсь за дело, отвечал бретонец, готовый обороняться колоть и рубить.
– Первому, кто сделает ещё шаг, – закричал кавалер, – я размозжу голову.
Но они имели пред собой людей, не легко пугавшихся.
– Нападай! нападай!.. – закричал хор.
Ален в свою очередь отвечал выстрелом из пистолета, так хорошо направленным, что негодяй, шедший во главе, возбуждая других, упал мертвый на месте, лицом навзничь, не издав даже ни одного крика.
Этот выстрел и это падение произвели минутное колебание.
Впрочем, шум этот напрасно потряс дома, ни один из острожных мещан, в них обитавших, не показал и носа у окна. Эти достойные люди знали, что ничего хорошего не приобреталось от вмешательства в подобного рода драки.
Можно было задушить кого угодно на пороге их двери, ни один не пытался ни отворять, ни даже только закричать сквозь ставни или рамы, чтоб напугать бродяг.
Что же касается до дозора, то он, верный своему преданию, находился неизменно везде, где не было опасности. Эти люди, рачительные и порядочные, имели отвращение к попытка рвать свои одежды или толкать свои плечи.
Временная остановка мошенников произошла скорее от изумления, чем от боязни или нерешительности.
– Вперед, висельники! – закричали самые смелые, и куча ринулась плотной толпой.
Три новых выстрела раздались, один принадлежал Алену, два другие Мари-Ноэлю, три новые жертвы упали, если не мертвые, то по крайней мере не в состоянии сражаться.
У бродяг не было огнестрельного оружия, но после этой двойной пальбы, счастье вернулось на их сторону, так как их противники имели меньшее число и были принуждены драться своим холодным оружием. На этих условиях, стычка началась.
Можно было сказать – бешеная схватка своры гончих собак. Между прочими находился хвастун с разбитым и крикливым голосом, принявший на себя начальство, и страшно управлявший, держа обеими руками, чем-то в роде пики, заканчивающейся большим лезвием. Подлец ударял им, как глухой, и визжал, как слепой.
– Налетай! Налетай!.. – кричал он, ни более ни менее, как если-б речь шла обульдогах, спущенных на плутов его разряда. Они старались изо всех сил, чуя хорошую добычу, и было не возможно, не смотря на их ловкость и храбрость, чтоб наши друзья долго выдержали эту неравную борьбу.
Мари-Ноэль, со своей разбитой саблей, принужден был к рукопашному бою, упал поверженный таким страшным ударом, от которого всякая другая голова, исключая бретонской, превратилась бы в кровавую массу.
Видя его поверженным около себя, к Алену вернулась удвоенная энергия:
– Назад, разбойники! Посторонись, гады! – воскликнул он, становясь перед телом своего товарища, которое без него злодеи неминуемо бы докончили.
Однако, не смотря на его мужество и ловкость, дело должно было окончиться печально для него самого.
Он это понял, и желая дорого продать свою жизнь, принялся рубить и пронзать своей шпагой, длинной и прочной, самых близких зачинщиков, не заботясь об ударах, которые они ему в свою очередь посылали.
Эта новая схватка, к счастью, была не продолжительна, так как почти вслед за тем, как он закричал на них своим чистым и повелительным голосом, другой голос закричал сзади:
– Гей! ого! довольно!
Тотчас палки, костыли, вилы, остановились и повисли, шайка, кипевшая в темноте, остановилась неподвижная.
Человек, рост которого превышал большую часть других, размахивая костылем вместо палки предводителя, прошел сквозь толпу, грубо оттолкнул поджигателя с крикливым голосом и, открывая вдруг стекло потаенного фонаря, скрытого под плащом в лохмотьях, он бросил его отсвет на лицо кавалера.
Тот, ослепленный, не различил лица новопришедшего, но этот последний, вдруг закрывая свое освещение, обратился к бродягам:
– Это бесполезный удар, – сказал он им.
Ворчание, возмущение посыпалось из группы.
– Молчать! – приказал он: – Вы храбро вели себя, но вы напали на двух моих друзей!.. Убирайтесь и постарайтесь сделать лучшие встречи.
– А ты, негодный, – сказал он разбойнику с крикливым голосом, – и вы еще, – сказал он двум другим, – живее поворачивайте ноги отсюда!
Между тем как место пустело, он сказал не громко и не тихо Алену:
– Все равно, господин де Кётлогон, счастье для вас, что я пришел и узнал ваш голос. Мои бродяги вас бы изрубили.
– Как! – вскричал молодой человек, глядя на него в свою очередь. – Это опять ты?..
– Вы не жалеете о нашей встрече, по крайней мере?
– Нет, клянусь! Ты не мог придти удачнее.
– Ранены ли вы?
– Не более как оцарапан. Мой бедный товарищ меня беспокоит.
Они нагнулись к Мари-Ноэлю, цыган опять открыл свой фонарь, который он употреблял с осторожностью, так как свет никогда не был приятелем людей его ремесла.
Бретонец лежал на земле как пласт.
– Праведный Бог! сказал разбойник-крикун, – Вот малый, получивший прекрасные удары.
– Гей! я тебя также узнаю, – воскликнул Ален; – Хвастун! Это ты представлял однорукого в лесах в Марли. Нищий и забияка, ты, значит, занимаешь несколько должностей за раз?
– Как же быть, милостивый государь, нужно же собирать милостыню, чтоб жить… Но, честным словом бродяги, я не знал, что имел сейчас дело с вами… мы бы колотили менее сильно. Этот малый получил сильные повреждения.
– Не особенно сильные, – прервал предводитель, осматривающий лежавшего с видом человека, понимающего свое дело. – Самый опасный удар это тот, который он получил в лоб, но так как череп не тронут, то это ничего… Ах! Господин де Кётлогон, вы можете похвастаться, что у вас служит здоровенный малый. Железный горшок был бы расшиблен этим ударом! Жано, ты пойдешь с товарищами перенести его в гостиницу «Св. Евстафия»; вы от него уйдёте только тогда, когда он очнётся и после того как вы ему сделаете отличную перевязку раны.
– Всё это хорошо и прекрасно, – проворчал один из грабителей, – но кто за это заплатит?
– Я! – прервал его кавалер, останавливая своего друга, предводителя шайки, который хотел нанести говоруну удар своим костылем.
В то же время, он передал Жано два или три луидора, чтобы разделить их между остальными.
Потом он расположился следовать за маленьким поездом, присматривая как настоящий брат за своим дорогим защитником.
– Ну что же! Господин кавалер, куда же вы идете? – сказал ему человек с костылями. – Имейте веру в этих добрых людей; вашего бретонца хорошо перенесут и будут хорошо ходить за ним. Наша дорога лежит не тут.
– Что ты хочешь сказать?
– Если я не дурак, то вы вышли от себя, рискуя подобным заключением, не единственно для того, чтоб дать прогуляться рукам в кармане.
– Конечно.
– Доверяете ли вы мне на столько, чтоб сказать мне, куда вы идете?
– Зачем это?
– Чтобы вас привести туда, если вы считаете меня на то способным.
– На деле, отчего же нет? Ты не мог, по чести, предложить себя более кстати… Знай же, если ты уже это не знаешь, потому что, правда, тебе кажется, лучше известно, что меня интересует, чем мне самому; я решился не уезжать, не узнав прежде, чего я должен держаться в отношениях, которые могут или могли существовать между знатной дамой, гостеприимством которой я пользовался в продолжении этих последних четырех дней и человеком, обитающим около церкви св. Жака.
– Я думал, – отвечал не без иронического выражения, в своем упреке, бродяга, – что мы условились, что вы не рискнете более идти в эту сторону?
– Я ни в чем подобном не условливался. Мне необходимо узнать этот секрет, и я попытаюсь пойти на невозможное, чтобы его открыть.
– Во всяком случае, вы не на той дороге.
– Ты мне её сейчас покажешь!
– Нет, клянусь честью.
– Посмотрим, если тебе заплатят за беспокойство?
– Тише! не говорите об плате, чтоб ничего не давало подозревать, что у вас есть при себе деньги, если бы стая воронов, которая сейчас на вас нападала, это подозревала, то несмотря на то, что я их начальник, я не уверен, что вырву вас в другой раз из их когтей.
– Итак, ты мне отказываешь?
– Окончательно.
– Укажи мне, в какую сторону мне нужно идти., я пойду один.
– Праведный Боже! вы взбесились! Когда вам говорят, когда вам повторяют, что это дурное место!
– Я тебе повторяю, что я хочу знать намерения этой женщины и средства, который она не боится употреблять.
– Что вам до того?
– Какое мне дело! но разве она не намеревалась сделать меня своим сообщником?
– Поверьте мне, всё это никуда не годится. Есть такие вещи, которых лучше не знать, чтоб не быть примешанным к скучным делам.
Жак Дешо, человек, квартала св. Жака, превеликий мошенник, продолжающий ремесло плутовки, не лучше его, честные люди, как вы, не должны глаз показывать в эти пронырства.
– Тогда я ничего не узнаю?
– Что за голова!.. Ну, что же! может быть…
– Ах! однако!..
– Я вас не поведу к Жаку Дешо, но в другое место, куда мы проникнем, предупреждаю вас, не без опасности… я рассчитываю на вашу твердость, что бы вы там ни видели или слышали, вы не должны делать ни одного движения, ни промолвить ни одного слова;, не надо, что могли бы заметить шум вашего дыхания.
– Хорошо.
– По совести, я сам не знаю, что там происходит эту ночь, так как вещи там изменяются каждый час; но что бы это ни было, вы поймете, за чем ходят к продавцу снадобий и чему подвергаются, имея сношения с ним или с мошенниками его категория… Идите.
Глава двадцать пятая
Бродяга ведет Алена по дурной дороге, в дурную местность. – Ален видит что-то интересное.
Достаточно уже испытав и оценив проводника себя предлагающего, Ален де-Кётлогон, желавший видеть конец этого приключения, не колебался за ним следовать. Они шли долго сквозь закоулки, где наш герой и днем бы не лучше осмотрелся, чем в эту минуту полной ночи.
Все, что он считал правдоподобным, это то, что они поднимались вкось в город, и действительно, находясь в соседстве огромной постройки, зловещей и угрожающей, углы которой мрачно обрисовывались на темном небе, он спросил у своего проводника:
– Что это за скверный монумент?
Ему отвечали, ускоряя шаг:
– Да хранит вас Бог навсегда от него! Это Бастилия.
– Решительно, друг, ты ведешь меня не в прекрасные кварталы!
– Подождите жаловаться, когда мы дойдем до конца.
– Будет ли это ещё долго?
– Не более четверти часа.
Оставив государственную тюрьму влево от себя, они проникли в новые улицы, несвязные, беспорядочные, пересеченные неопределенными пространствами, где ни один лучик света, ни одно дыхание не указывали на человеческое существование.
Вскоре скопление больших несходных строений, окруженных общей оградой и из которых одно, достаточно похожее на феодальное жилище средних веков, вполовину замок, вполовину укрепление, господствовавшие над другими, показалось в тумане, последовавшем за темнотой.
Они находились на набережной Морана.
Эти постройки принадлежали Арсеналу, совокупность которых занимало значительное пространство, хотя оставленное, вот уже нисколько лет, под фабрику оружия и пороха, и служащее только складом орудий негодных к употреблений, и плавильни из художественной бронзы для статуй и общественных зданий.
За исключением главной части здания, резиденции генерал-фельдцейхместеров, в которой жил Сюлли[18] в царствование Генриха IV, всё там свидетельствовало об оставлении и разрушении; действительно, готовились употребить в пользу эти пространства на другое, с тех пор как Людовик XIV велел построить арсеналы на границах.
Вскоре, должно было произойти преобразование, и превращение, которые постепенно оставили нам только сад, несколько дворов и древний отель губернатора.
В 1680 году, как мы это сказали выше, Арсеналу было дано назначение более важное, но временное.
Кавалер де-Кётлогон и его проводник прошли просторное пространство пред большой дверью набережной Морана, охраняемой часовыми, но так как надзор не был очень строг, вокруг этой обширной ограды, в которой не содержалось ничего драгоценного и переносимого, они вскоре нашли оставленный угол, через который взлезание и вторжение не представляли никакого затруднения для таких проворных людей, как они.
– Тьфу! – пробормотал Ален, падая на ту сторону, – ты меня заставляешь заниматься ремеслом разбойника; где мы теперь?
– Имейте же доверие, – возразил цыган, своим слегка насмешливым голосом; – я вас веду на хорошую дорогу. Вы получите сведения здесь, или вы их уже нигде не получите. Но – внимание, – не будем себя выдавать; вы мне обещались быть немым; ни слова более.
Тогда, с верностью направления, доказывающей, что он не один раз осматривал эти места, с целью более или менее признаваемой, но без сомнения, хитрой ищейкой, он потащил за собой Алена, сквозь множество заброшенных сараев, пустых домов, зданий в развалинах.
Они пришли в сад, примыкавший к отелю, сад разведенный Генрихом IV для Сюлли.
Оттуда, цыган показал кавалеру, на большую переднюю темную сторону здания, на два окна, сквозь который проходил неопределенный свет, имевший что-то гробовое.
– Это там, – сказал он ему на ухо.
Этот мрачный замок, на этом дровяном дворе, подобном хаосу, производил тягостное впечатление.
Они прошли вдоль самых густых аллей, хотя надо было иметь рысьи глаза, чтобы их заметить, идя осторожно, из боязни какой-нибудь нечаянности или западни и приближаясь все друг к другу.
Отель, в силу своего первоначального назначения, был снабжен во всех направлениях подземными подступами, скрытыми галереями, тайными проходами, ведущими сквозь учреждения и стены и доходящие до комнат губернатора, составляя одно из средств тактики и одну из защит его.
Если, как все на то указывало, намерение цыгана было проникнуть до комнаты, окна которой пропускали небольшой свет, то затруднение состояло в том, чтоб найти один из выходов, примыкавших к этим галереям.
Но для нашего начальника бродяг и грабителей Парижа не существовало препятствий.
Оставив крытую аллею, он пошел с осторожностью, с которой инстинктивно сообразовался кавалер, к четырехугольной палатке, живописного вида, поставленной, как точка зрения и сходбище для гулянья, в ста шагах от главного здания отеля.
Дверь была заперта одним из тех секретных замков, которые были в большом употреблении в царствование Генриха II и его братьев, где было построено это здание.
Для нашего бродяги не могло и здесь быть секретов, точно также как и препятствий.
Он сломал засов с редкими твёрдостью и ловкостью.
– Всё идёт хорошо, – сказал он, проникая в палатку; – я боялся только этого замка; искусный мастер будет теперь тот, кто его починит. Но невозможно видеть друг друга в этой пещере; теперь время воспользоваться этим.
Он открыл опять свой потаённый фонарь, который был ему в настоящую минуту не менее полезен, как и в конце битвы.
– Мы находимся в самой средине местности, – сказал он, – самое трудное было сюда дойти.
– Знаешь ли ты, что я восхищаюсь твоими талантами! – сказал кавалер.
– Ба! – сказал тот с притворной скромностью, – вы их ещё не все знаете. Надо же знать, как выпутываться из беды.
– О! ты мне кажешься способным человеком.
– Что касается того, чтобы знать вдоль и поперёк Париж, то я могу похвастаться, что ни один так не знает его, как я. Но мы здесь не для того, чтоб беседовать. Следует идти вперед, если мы не хотим прийти, когда нечего будет более ни видеть, ни слышать.
– А мне не позволяется спросить тебя, на какое зрелище ты меня ведешь?
– Не говорил ли я вам это? Ведь вы желаете получить справку, зачем некая дама в некую ночь ходила к старому мошеннику квартала св. Жака-де-ла-Бушери? Ну что же! у меня есть причины предполагать, что нигде вы этого лучше не узнаете, как здесь.
– Пойдем тогда, – сказал Ален, понимая, что проводник его желал поберечь для него интерес и неожиданность какого-нибудь важного открытия.
– Вот наша дорога, – сказал цыган.
Он без труда открыл одну из переборок столярной работы, которыми была покрыта стена и бросил слабый свет своего Фонаря на отверстие дурного вида.
– Ну что же! – сказал Ален весело, – оно не из самых привлекательных. Нужды нет; я хочу оказать тебе свое доверие до конца. Иди, я следую за тобой.
– Мы скоро придем; только, без шума, не споткнитесь. Дорога узка, но верная и в хорошем состоянии. Смотрите, чтоб не поскользнуться на ступеньках, их здесь десять; как во дворцах, надо уметь спускаться, чтоб входить назад.
Дорога эта в действительности была не дурна; она была проведена с большой старательностью, по образцу тех, которые находят в подземных строениях в различных феодальных постройках, с той же целью тактики и самосохранения, в случае нечаянного занятия местности неприятелем.
Она имела около трех футов ширины и образовывала галерею со сводами.
Только, соседство болот и протоков обозначалось просачиваниями влаги, делавшими почву губчатой и покрывавшими перегеродки черноватым и липким мохом.
– Если б мы были здесь зимою, – сказал проводник, – на одном месте, более сыром, чем другие, мы были бы в воде по колена; но в это время года, река мелка, а дорога суха.
Почти тотчас же земля пошла в гору, до новой лестницы.
– Внимание, – сказал проводник, – мы приближаемся, но самое трудное это конец: дороги эти не были проведены для толстых людей; к счастью, ни вы, ни я не отличаемся толщиною.
Это была часть, проведенная в толщине стен; она была на половину менее широка, чем подземный проход, так как архитектор должен был беречь пространство.
– Вот мы и пришли, – сказал цыган, понижая голос; – удвойте предосторожности; вот тут нужно удерживать ваше дыхание; если б нас настигли, этот проход превратился бы для нас в подземную темницу… Идите придерживаясь за перегородку: было бы опасно оставить при себе свет, малейший случай может нас выдать.
Он опять закрыл свой фонарь и пошёл вперед с осторожностью, которой молодой человек старался подражать. Вскоре, он остановился и тронул его за руку, чтоб дать ему знать также остановиться.
Они оставались таким образом несколько минут не подвижные, в глубине этого странного убежища. Ален испытывал неопределенное волнение, заблудившись в этих стесненных перегородках, как бы в гробнице, с глазу на глаз с этим проводником, которого он узнавал не под особенно успокоительными видами.
Однако, отправление это было так заманчиво и так любопытно, что, если б он должен был бы его снова начинать, то он не колеблясь вернулся бы сызнова.
Впрочем не было никакого шума.
Его товарищ нагнулся к его уху и шепнул ему:
– Подвинемся еще… тихонько… тихонько…
Они остановились во второй раз.
При этой новой остановке, Ален, у которого от тишины слух стал очень тонок, различил шум голосов, доходящий сквозь стены и перегородки.
Проводник, не говоря ему ни слова, заставил его сделать полуоборот вокруг себя и, вытащив из перегородки незаметную затычку деревянную или каменную, он его поставил таким образом, чтоб глаз его мог поместиться в это отверстие.
То, что тогда увидел наш герой, было гораздо любопытнее, чем всё то, что он до сих пор видел, и гораздо привлекательнее, чем самое его заключение между этими двумя соединенными стенами.
Глава двадцать шестая
Кавалер присутствует на весьма интересном собрании. – Монтеспан на скамье преступников.
В глубине обширной залы, торжественный вид которой довершался темными обоями, возвышалось судилище, где заседали три человека, имевшие вид, который приписываюсь инквизиторам.
Бюро перед ними было покрыто черным сукном с серебряной бахромой, которое могло быть употреблено, при нужде, как погребальный покров.
На каждом конце стояли два канделябра, каждый в шесть толстых свечей желтоватого воска, бледный свет которых отражался на огромном распятии, висевшем на стене позади их.
Регистратор сидел направо, перед маленьким столом, примыкавшим к сукну этого бюро.
Экзекутор, равно одетый в черное одеяние, блестящая цепь которого и китовый жезл, законченный серебряной лилией, указывали на принадлежности, держался налево, стоя и молчаливый, со сложенными руками в его широких рукавах.
Судьи передали друг другу некоторые бумаги, осмотрев их со всех сторон, приблизив к некоторым другим, чтоб сделать сравнение, и обменявшись несколько краткими словами, отвлеченный смысл которых не мог быть схвачен нашим героем, президент сказал человеку с цепью:
– Придвиньте кресло.
В этой строгой и суровой комнате их было всего только два, отставленные на другом конце между скамейками, покрытые чёрной кожей.
– Теперь, – сказал президент, – введите и удалитесь.
Экзекутор отдёрнул обои на том месте, где они падали на дверь, исчез на одну секунду и появился опять, указывая дорогу одной женщине, которую он провел до кресла и удалился, как только получил на то приказание.
Это была важная дама, судя потому, как она предстала, со спокойной и гордой походкой, высоко держа голову. Она села, не ожидая на то приглашения.
– Вы желали меня видеть, господа, – сказала она голосом, скорее взволнованным гневом, чем страхом, – вот я.
Ален, спрятанный за узкую каменную перегородку, к счастью вспомнил настойчивое предостережете своего товарища. Он удержал крик, готовый выдать его присутствие, но что бы он ни видел и ни слышал доселе, ничто лучше не оправдывало его изумления.
– Сударыня, – отвечал президент, – вы находитесь перед правосудием и законом, которым все обязаны уважением и повиновением.
– Я не довольствуюсь громкими словами, – возразила она; – я – маркиза де-Монтеспан, обер-гофмейстерина королевы, первая в государстве после его величества, и я спрашиваю, под каким видом, по какому праву, осмелились адресовать мне приказ, которому, для хорошего примера, я соблаговолила повиноваться.
– Суд сейчас вам это скажет, сударыня.
– Поторопитесь тогда.
Суд этот был ничто иное, как уголовный суд, эта верховная расправа, пред которой дрожали самые могущественные, которая приговаривала без апелляции, имея в своем распоряжении палачей, зажигающая костры и расправляющаяся топором.
В первый раз, с ним осмеливались толковать наравне.
– Сударыня, – начал президент, – если б суд не обратил особенного внимания на ваши титулы и важность вашей особы, то он бы не так, не с такими строгими приготовлениями, не в такой скрытный час и при запертых дверях, держал бы свое совещание.
– Очень вам благодарна, господа, – отвечала она пылко. – Я не ходатайствовала ни об одной из этих милостей, и я полагаю, что было бы гораздо приятнее призвать меня днём, при всех и при открытых дверях, на это дерзкое свидание.
Подобная смелость едва ли объяснялась бы негодованием чистой совести. Но мы достаточно знаем нрав маркизы, чтоб этому не удивляться. Кроме того, если она намеревалась этим способом властвовать над судьями, то этот поступок не лишен был искусства, потому что, в сущности, она их всех знала, и из трех, здесь присутствующих, было, по крайней мере, двое, имевших случай ходатайствовать об её милостях.
– Сударыня, – отвечал президент важным голосом, – напоминаю вам во второй раз, что все должны оказывать уважение закону и правосудию, обязанность которого заставлять его исполнять. Если суду позволено принести некоторые облегчения и употребить наружную осторожность, те, которые являются пред ним, как бы они ни были важны, должны быть ему за то благодарны и не забывать, что ему воспрещается поступать против своих обязанностей. Даруя вам эту частную и непосредственную аудиенцию, суд принял в рассуждение ваше звание и не менее того ещё и священное имя государя, которое не может не быть названо, как бы косвенно то ни было, в деле подобном тому.
– Позвольте мне, милостивый государь, вам заметить, в свою очередь, что вы ещё лучше доказали бы свое благоговение пред этим величественным именем и личностью, о которых вы говорите, спросив его совета наперед, за чрезвычайную ссылку к которой я отвечаю.
– Кто вам говорит, сударыня, что это не было сделано?
Она вздрогнула, приподнялась на своем кресле, побледнела и вскричала:
– Вы спрашивали совета у короля?..
– Да, сударыня.
– И это он вас на всё это уполномочил?
– Это его величество.
– Король, – вскричала она, дрожащая и прекрасная от негодования, – король позволяет, чтоб со мной обходились как с преступницей… Как с отравительницей!.. Потому что, наконец, увёртки ни к чему не служат, я нахожусь на самом деле пред Судом Ядов! Это одно из величайших позорных дел, которое этот неблагородный монарх позволил совершить… Ах! я знаю, откуда идет удар!.. Несчастье тому, кто на это осмелился!..
Она произнесла еще, волнуясь на своем кресле, различные отрывистые, бессвязные слова, соответствующие её внутреннему гневу, но непостижимого смысла, и которые регистратор не записывал, по той причине, что их не понимал и не мог их связать.
– Сударыня, – начал опять президент, – его величество напротив рассудил, что из призыва пред правосудие ещё не происходит виновность призываемого. Король, великий во всех делах, отталкивает всякую мысль о преступлении с вашей стороны; это для того, чтоб утвердить вашу невинность на силе торжественного приговора, что он позволил эти преследования.
Горькая и презрительная улыбка приняла это объяснение.
– Его величество, правда, слишком великодушен!.. Пожалуй, я принимаю эти извинения; но окончим, прошу вас… В чем заключаются жалобы?… Где доказательства? Затевают ли против меня дело, подобное тому, какое было с несчастной моей подругой графиней де-Дрё, и ненависть, направляющая это злоумышление надеется ли также на подобную печальную развязку?
– Сударыня! сударыня! не принуждайте суд выставлять неумеренность вашей речи, и угрозы, в ней заключающиеся, которые присоединятся ко всему прочему.
– Господа! господа! будучи обвинённой, я призываю священное право защиты, и напоминаю суду одно из многочисленных дел, которые должны научить судей осторожности и умеренности.
Она была права, довод был важен, суд Ядов, по избытку усердия, превратившись в настоящий суд инквизиции, видел везде виновных; после того как заставил себя одобрить по своим началам, поражавшим настоящих преступников, он кончил тем, что начал беспокоить невинных или людей, виновных только в легкомыслии и безрассудстве.
Мы упомянули о нескольких примерах; пример герцогини де-Дрё был также одним из них.
Эта дама, как многие другие, была посажена в тюрьму по неопределенным подозрениям. После того как её продержали несколько месяцев в одной из самых суровых темниц, едва освещаемой через скважину проделанную в своде, уголовный суд, не находя против нее достаточных улик, наконец отпустил её на свободу.
Но правосудие редко решается признать себя совершенно неправым. Прежде чем выпустить бедную даму, один из судей счел своей обязанностью прочесть ей строгое нравоучение и для заключения наложил на нее штраф в пятьсот фунтов.
Ея семейство ждало её в самом Арсенале. Наконец, свободная, она падает в объятия своего мужа, своих братьев, своих сестер. Но где её мать? Она её не видит. Она о ней опрашивает. Опускают глаза, избегают ответа.
– Моя мать! – вскричала она, – я хочу видеть мою мать!.. Она должна была бы быть здесь первой. Что случилось? Боже мой!
– Ничего, мое дитя, ничего, – отвечает старая родственница. – Она больна; доктор запрещает ей выходить…
– Нет! я чувствую, что вы лжете!.. Пустите меня пройти!.. Ах! сердце мое оледенело!
Отказавшись от портшеза, ждавшего её у двери, она бросается, ока бежит, она пробегает на Королевскую площадь, проникает в её отель, переходит лестницу, переднюю, длинный ряд комнат, крича, обезумевшая от тоски:
– Моя мать!.. моя мать!.. Отчего её не вижу?.. Не прокляла ли она меня!..
Она бросается в спальню, последнюю комнату, которую она не осмотрела.
– Моя мать!.. – повторяла она с душераздирающим криком.
Целестинский монах, её духовник, вдруг появился, суровый, опечаленный:
– Успокойтесь, дочь моя, – сказал он важным голосом, – ваша святая мать на небе… Там вы её увидите.
– Ах! – вскричала несчастная, – это я её убила!.. Я… это я!.. Она считала меня виновной и от этого умерла… Вы правы, отец мой, я скоро с ней соединюсь.
Она выскользнула из его рук, которыми он старался её поддержать и упала без чувств на паркет.
Два дня после, в час молебствия Пресвятой Богородице, похоронная процессия выходила из отеля с Королевской площади: Г-жа де-Дрё соединилась со своей матерью на небе, и несли её смертные останки, чтоб соединить их в одной могиле.
Без сомнения, подобное напоминание было сделано, чтоб побудить судей к осторожности, но оно было также одним из тех, о котором суд не очень любит слышать упреки, и обер-гофмейстерина выбрала этим плохой способ защиты.
– Сударыня, – сказал ей президент, показывая ей рукою на бумаги, разложенные на бюро, – если правосудие имело удовольствие выпустить обвиняемых, признанных невинными, то оно также имело и иное – достигать больших преступников. Между последними находилась подлая женщина, ла-Вуазен, душегубная память о которой парит над этой оградой.
– Значит, меня обвиняют в каком-нибудь соучастии с этой тварью?
– Эта женщина имела многочисленные сношения, знакомства, я скажу даже – почти дружбу в самом высшем свете. Но она также обладала гением зла высочайшей степени, – составление и совершение отравлений составляли обыкновенный промысел её и повседневную торговлю.
– Какое мне дело до этих подробностей?
– О! Позвольте, они до вас касаются более, нежели вы то предполагаете. Одна из её странностей, или из её хитростей, была – держать список посещениям, ей делаемым, собирать малейшие записки ею получаемые, отмечать все её поставки, под косвенными названиями, но очень ясными и очень точными, с тех пор, как её соучастники открыли дверь правосудию. Начинаете ли вы понимать, сударыня?
Обер-гофмейстерина подняла голову раздражительным усилием.
– Всё менее и менее, – отвечала она.
Судьи обменялись холодными, решительными взглядами. Черты их остались невозмутимыми, а вместе с тем они условились.
Президент взял маленькую книжку скверной наружности, замаранную чернилами, обившуюся на всех углах, каждая страничка которой была сложена на тех же местах, как книга, часто перелистываемая не очень тщательными руками.
– Вот то, – сказал он, – что мы читаем в этой книжке за числом прошедшего года и на последних страницах, которых ла-Вуазен могла писать:
«item. за консультацию, данную госпоже маркизе де-М… 24 фунта».
Обер-го Фмейстерина пожала плечами и сделала презрительно движение губами.
Высший судья пропустил две страницы и продолжал:
– На этом листке, я нахожу это другое упоминание:
«item., передано г-же маркизе де-М… пузырек эссенции высокого достоинства, получила 1 000 фунтов».
Пониже, на том же листке, другое упоминание, заключающееся в следующем:
«item., за коробку очищенного порошка с большей тщательностью и отличного достоинства, получено от госпожи маркизы де-М… согласно нашему условию 10 000 фунтов».
– Я надеюсь, что это всё? – сказала обер-гофмейстерина голосом, изменившимся от гнева и ещё более от тайного волнения.
– Признаете ли вы себя, сударыня, в означении маркизы де-М… написанной на этих листах? Замечу вам, что было бы бесполезно уворачиваться от этого тождества, так как ваше присутствие на квартире ла-Вуазен было подтверждено точными доказательствами, а именно швейцаром, вас туда вводившим.[19]
– Правда, я спрашиваю себя, в бреду ли я? Или я нахожусь пред этим судом, столь славным и столь грозным, имеющим власть поражать великих преступников и возвратить безопасность смущённому обществу. Как! женщина моего звания видит себя привлеченной к этим перилам, потому что некая гнусная отравительница вписала в гадкую тетрадь начальную букву её имени, потому, что глупый лакей, может быть, подкупленный неприязненным влиянием, может быть просто обманутый сходством осанки, вздумал её узнать!.. Послушайте, это не серьезно, господа, и когда король узнает…
Президент прервал её строгим и исполненным достоинства движением.
– Регистратор, – сказал он, – подайте г-же маркизе эту связку бумаг.
Это было соединение полудюжины лоскутов бумаги, из которых самый большой не имел и пяти пальцев в ширину.
– Узнаете ли вы ваш почерк? спросил судья.
– Ба! прекрасное доказательство!.. все почерки женщин при дворе похожи друг на друга.
– Невозможно допустить подобную причину, в особенности в виду других писем, что здесь, писанные вами различным особам и сравнение с которыми утверждает совершеннейшее подобие с предыдущими. Но эти суть свидания, назначаемые или испрашиваемые у женщины Вуазен, чтоб побеседовать с нею, как там говорится, об настоятельных предметах важного значения.
– Пожалуй, – сказала она, так стесненная; – допустим на одну минуту, если это может быть для вас приятным, что эти лоскутки бумаги написаны моей рукою, что отметки в этой книжке касаются меня; где находите вы там предмет обвинения, подозрения?…
– Вы признаете эти два пункта?
– Я ничего не признаю; я вам предлагаю один вопрос. Если вы имеете на то право, не имею ли я его также?
– Но речь идёт о сношениях достоверных, неразрывных, дорого вознагражденных с вашей стороны, с настоящей преступницей.
Презрительная улыбка показалась на её губах.
– Хорошо, я хочу привести новое доказательство суетности человеческих суждений. Мне кажется, что дело герцогини де-Дрё вам недостаточно. Вы желаете присоединить к нему ровеню? Будьте удовлетворены. Какое было официальное ремесло вдовы Вуазен? Повивальной бабки. Какую постороннюю промышленность она к нему присовокупляла, по примеру большей части своих собратьев? Продажу мелочных предметов туалета и косметики. Мое преступление состоит, следовательно, в том, что в то время, когда я страдала последствиями после тяжких родов, которых врачи не в силах были вылечить, я обратилась к практике, всеми почитаемой за чудесные врачевания. Я покупала у неё косметику?… Но так как она её продавала; отчего же нет? Я испрашивала у ней консультаций в настоятельных выражениях? Когда вы призываете врача, господа, разве вы его не призываете с тем большей крайностью, чем сильнее вы страдаете? Я её щедро вознаградила за её услуги?.. Я поняла бы, если б меня упрекнули в противном. Но женщина моего имени и моего звания не торгуется за попечения и средства, которые должны возвратить ей здоровье и поддержать её свежесть. Всё ли тут?.. Забыла ли я что-нибудь?.. Остается ли ещё какая жалоба?.. Говорите… Я готова.
Судьи посоветовались снова между собой взглядом.
Это постановка, эти ответы, – значительное положение обер-гофмейстерины, из которой они делали себе непримиримого и страшного врага, в свою очередь приводили их в чрезвычайную нерешительность. Их убеждение было составлено, но они чувствовали что-то, что было бы достаточно пред обыкновенной обвиняемой, но не было бы допущено удовлетворительным в деле, которое будет пересматриваться государем, лично заинтересованном найти невинную, там, где доказательства более точные не объявляли преступную. Таково было в действительности мнение Людовика XIV. Он не захотел отказать Уголовному Суду в соизволении призвать маркизу к суду, но он тайно озабочивался этим делом и он не предполагал простирать далее свою уступчивость.
В то время, как судьи рассуждали тихонько, палка экзекутора раздалась на двери и этот должностной вошел, неся пакет, запечатанный королевскими гербами, на подносе.
– От короля! – сказал он.
Президент открыл его, сообщил его своим сослуживцам; все трое обменялись быстрыми замечаниями тихим голосом, потом снова сели на свои места.
– Сударыня, – сказал тогда начальник, – это высочайшее повеление, пред которым суд, не произнеся ещё своего приговора, должен преклониться. Его величество желает сам видеть бумаги процесса, чтоб самому можно было расследовать дело. Нам остается только повиноваться. Регистратор, соберите документы, присоедините к ним ваши протоколы и передайте все вместе, запечатав печатью верховного суда, посланному его величества, ожидающему здесь около…
– А!.. – вскричала маркиза торжествующим голосом.
Президент, обращаясь к экзекутору, сказал ему:
– Проведите г-жу маркизу до её кареты; она свободна.
Она выпрямилась при этих словах, надменная и гордая, поразила судей олимпийским взглядом и вышла поступью королевы[20].
Когда судьи удалились в свою очередь, регистратор, исполнв их приказания, экзекутор появился, потушил канделябры, затворил залу; все впало по-прежнему в мрак и тишину.
Однако два спрятанные свидетели находились все ещё на своём месте.
Казалось, что Ален был не в силах его оставить.
– Ну, что же, – спросил его человек на костылях, – узнаете ли вы теперь, зачем эта женщина ходила в лабораторию человека, унаследовавшего тайны ла-Вуазен?…
– Замолчи… Это ужасно!..
– А! вы поняли?…
– Да!.. да!..
– Чтоб мое последнее слово, значит, было бы повторением первого: берегитесь этой женщины!
А теперь, вернемся, откуда вы пришли.
Глава двадцать седьмая
Дурная встреча. – Мастерской удар. – Г. д’Эспиньяк уступает.
Берегитесь этой женщины! Слово это преследовало Алена даже во время его сна. Странные видения, перемешанные с мрачными образами, ни на минуту его не оставляли.
Он едва поспал несколько часов, а так как этот день был назначен для его отъезда, он расположился, как только встал, отправиться в трактир, где должны были находиться его друзья Шарль и Генрих, для прощального завтрака.
Вышедши рано, он шёл, не торопясь, кидая последний взгляд на магазины и здания.
Находясь на углу улицы Виель-Этюв и улицы Сент-Оноре, в сорока шагах от дома, где было назначено свидание, он остановился у окна одного ювелира, званимавшаго этот угол.
Человек, следивший за ним с самого его выхода, применяя свою походку к его, наблюдая за его движениями, приблизился, поместился как раз позади его и сказал:
– Гей! сударь, поторопитесь же, я также хочу видеть!
Молодой моряк, не отдавая себе отчета, что это к нему была обращена эта дерзкая апострофа, обернулся довольно резко.
Говорящее лице было в роде капитана Фракасса, южный тип, судя по смуглому цвету его лица, его черному глазу, его очень выразительному орлиному носу, а в особенности по его выговору.
Он был головою выше бретонца, который был среднего роста. Это, должно быть, был человек между сорока и сорока пятью годами, а по своей осанке один из тех искателей приключений, которых употребляют во время войны, но которые неспособны ни к какому труду и правильной жизни, не были бы в состоянии составить себе почётную карьеру и становятся бичом для общества, где их не принимают.
У него была безконечно длинная рапира, шляпа, на которой висели общипленные перья, одежда, испачканная от частых посещений трактиров и высокие сапоги, разорванные во многих местах. Но все это было ничто в сравнении с тем, как он выгибался на своих бедрах и придирался к людям. Ален был слишком храбр в действительности, чтоб быть спорливым. Он осмотрел с головы до ног эту личность и сказал ему в свою очередь:
– Не ко мне ли вы это обращаетесь, сударь?
– Sandis! – возразил этот человек, – разве только к этой тумбе.
– В таком случае, – сказал моряк со своим непоколебимым хладнокровием, в уважение того самого, что он предвидел какое-нибудь дурное намерение в этом способе завязывать разговор, – могу ли узнать чего вы от меня хотите?
– Гей! cadedis! я всячески стараюсь вам это сказать, и вы странный глухой.
– Если есть здесь кто-нибудь странный, то я не думаю, чтоб это был я.
– Mordious!.. Вы меня оскорбляете!.. Меня, капитана Гаспара Гектора д’Эспиньяка!
– Я вам не скажу своего имени, я предполагаю, что вы его знаете.
– А откуда является у вас это предположение, позвольте вас спросить, господин лейтенант флота?
– Совершенно естественно, оттого, что вы мне кажетесь человеком, ремесло которого составляет отыскивать всевозможного рода приключения, исключая хороших.
– Вы меня снова оскорбляете, cape didious!
– Ба! – презрительно сказал непоколебимый бретонец.
– Вы мне сейчас дадите в этом отчёт.
Вместе с тем оборванец подергал свои усы одной рукою, а другой сжимал рукоятку своей шпаги, которую он с нетерпением желал обнажить.
– Надо было прямо с этого начать, сударь, не прибегая к стольким дурным околичностям.
– А, но вы, кажется, удваиваете! Ну так, сейчас же.
– Извините! извините! – сказал Ален, презрительное хладнокровие которого начинало беспокоить его странного зачинщика ссоры; – Я нахожу, что место очень дурно выбрано; мы уже более не живем в прекрасные дни Вер-Галан, ни при дебютах его величества Людовика XIII. Нынче в этом добром городе не обнажают шпагу без какого-нибудь неудобства на многолюдной улице и среди белого дня.
– Я готов в этом поспорить, вы отказываетесь!
Улыбка ещё более презрительная обрисовалась на губах нашего героя.
Измеряя снова горделивым взглядом своего врага, он заявил:
– Я желаю драться при свидетелях, – сказал он. – Неизвестно, с глазу на глаз, дурной удар может быть скоро нанесен.
– Принимаете ли вы меня за убийцу?
– О! не совсем.
– Sandis, мой милый господин, вы сейчас же будете драться, там, в этом переулке, где не видать ни одного прохожего, или, клянусь честью гасконца, я вам исполосую лицо на две части.
– Та! та!.. успокойтесь; я вам пощажу этот труд, потому что, честное слово, вот уже четверть часа, как мне стоит ужасных усилий сдерживаться, чтоб не кинуть мою перчатку вам в физиономию.
Они сделали два шага к указанному месту, которое оказалось глухим переулком, пустынным и вонючим, какие встречались на каждом шагу даже в самых лучших кварталах.
Ален, кинув вокруг себя взгляд, чтоб удостовериться, были ли они совершенно одни, вскричал вдруг:
– Гей, сударь, вот что расстроит ваш план!
– Вы более не хотите со мной драться?
– Напротив, я безумно этого желаю, но свидетели, о которых, вы кажется, ни мало не заботитесь, посмотрите, как они являются кстати.
Выражение сильного неудовольствия обозначилось на чертах этой личности и даже выказалось в его осанке, увидев гг. де-Ротелина и де-Севинье, ускорявших к ним шаги.
– Слава Богу! – вскричали они, подойдя к их другу, – мы пришли во время.
– Это правда, – отвечал он, – мне как раз нужно окончить одно объяснение с этим господином, так в этом скромном уголке, а так как он ужасно торопится, я хотел ему дать это удовлетворение, в вашем отсутствии, что, признаюсь вам, было мне некоторым образом досадно. Гей! послушайте! – прибавил он, – что это вы там держите?… Разве теперь вошло в обычай, чтоб дворяне гуляли с дубинами подобного объема, я понимаю, хлыстик или тросточку; но это настоящие дубины!
Гасконец не промолвил ни слова; вид этих орудий, казалось, его озабочивал.
– Боже мой, да, – сказал смеясь Севинье, – это игрушки, которые мы купили, зайдя к продавцу прутьев, с мыслью, что они могут быть употреблены. Что вы оо этом думаете, господин Гаспар-Гектор де-Эспиньяк?
– Стойте, вы знаете имя этого господина.
– О! Господин знает также наше; мы старые знакомые… Не правда ли, господин де-Эспиньяк?
– Совершенная правда, – отвечал капитан.
– Тем лучше, – подхватил Ален, – мы тем скорее кончим; ну, сударь, защищайтесь.
Наши четыре особы были в переулке; Ален уже обнажил оружие, не беспокоясь о несоразмерности своей маленькой парадной шпаги с боевой шпагой этого тамбур-мажора.
Тот, наглый вид которого много изменился со времени прихода друзей его противника, бросал на них косые взгляды; он выдернул свою длинную рапиру с видимым колебанием.
Но, видя, что ему ничего более не говорили, он, в свою очередь, стал в позицию.
Внезапно, Шарль де-Севинье, поднимая своей палкой лезвия, готовые скреститься, сказал ему решительным голосом:
– Господин де-Эспиньяк, не будете ли вы столь добры извиниться пред нашим другом?
Гасконец взволновался, как бык, ужаленный слепнем.
– Mordious! извиниться! Sandis!.. Cadedis…
– Слушайте, – сказал Генрих де-Ротелин, – уступайте, поверьте мне, и мы с вами рассчитаемся – на этот раз.
– Позвольте, господа, – вступился Ален, – речь идет о серьезном деле; важные оскорбления были произнесены; я желаю драться, я буду драться.
– Господин д’Эспиньяк, – сказал Ротелин, – скажите же нашему другу, что с вами не дерутся.
– Cape di Dious! я докажу противное, – бранился гасконец, стараясь начать драку во второй раз.
Но оба свидетели заставили его взглядом опустить острый конец рапиры вниз.
– Умоляю вас, господа, – живо возразил Ален, – объясните мне все это.
– Это очень легко. Этот господин искал с тобой поссориться, не правда ли?
– О! что до этого касается, то я в том соглашаюсь, он затеял настоящую ссору немца.
– И он устроился таким образом, чтоб драться без свидетелей?
– Это опять правда, дело было бы уже покончено без вашего чудесного, но безвременного вмешательства.
– Ничего нет менее чудесного, милый друг; и ты сейчас сознаешься, что ничего нет более надлежащего. Господин этот – то, что мы называем… Как обозначают ваше ремесло в трактирах, господин д’Эспиньяк?
– Господа!.. Господа!.. это злоупотреблять…
– В Италии, в Венеции, это называется наёмный убийца, мне кажется?… Во Франции, люди плохо образованные, мы называем их забияками.
– Господин де-Севиньё, – вскричал Гасконец, по очереди делаясь желтым, зеленым, багровым и волнуясь на своих толстых ногах, – если б вы согласились со мной драться!..
– О! о! нет, господин д’Эспиньяк, по крайней мере, не на шпагах, разве только на этом, – сказал он, показывая на свою дубину.
– Нужды нет, господа, – возразил Ален, забияка он или нет, я обещался драться; этот человек меня оскорбил.
– Ну так он сейчас же извинится перед тобой, в чем тебе будет угодно, мой милый..! Неправда ли, господин Гаспар-Гектор?
– Ах! Боже мой, я не отказывался, именно…
– Слышишь, когда тебе это говорили!
– Постойте, – сказал бретонец, презрительно вкладывая свою шпагу в ножны, – что это за комедия? Я имею право это знать.
– Что касается до этого пункта, то этот господин один только может тебе дать сведения; а так как это очень услужливый господин, то он не откажется. Говорите же, сударь, я жду!
– Cape di-Dious! мне нечего говорить, и я не понимаю.
– Мы постараемся вам помочь. Ты должен знать, мой милый Ален, что у этого господина есть талант, это его способ употреблять свою длинную рапиру времен Генриха IV. Да, но у него только один способ; это известная уловка и известный удар ладонью, который, благодаря его ловкости, его росту и длине его шпаги, никогда не упускал ни одного противника, дерущегося с вязальной иглой вроде наших.
– Ах! только если бывают предупреждены, если уравнивают шпаги и удачу, то конечно; г. д’Эспиньяк, который дорожит своим существованием, становится самым кротким, самым услужливым, самым учтивым человеком… таким, как ты его видишь… не опасным для последнего турнира.
– Господа, – сказал гасконец, вкладывая свою рапиру в ножны, – меня оклеветали.
– Я достаточно знаю на этот счет, – сказал Ален, – но я желаю знать, кто вам дал поручение меня убить.
– О! многоуважаемый и дорогой господин, какое слово вы сказали?… Клянусь вам…
– Ну, говорите, или честным словом бретонца, я сломаю эту дубину о вашу спину!
Он схватил своей сильной рукой ту дубинку, которую держал Генрих де-Севиньё и принялся ею размахивать.
– Клянусь Распятьем, что я ничего не знаю! Я сейчас вам скажу, уважаемый сударь, как началось дело. Вчера вечером, вернувшись в меблированные комнаты, где я живу, трактирщик передал мне пакет, который принес один человек для меня, это была маленькая коробка, хорошо запечатанная, содержащая письмо и кошелек.
– Посмотрим письмо, – сказал Ален.
Гасконец вытащил из своего надгрудного мешка мелко сложенную бумагу, на которой три друга прочли строки, написанные почерком так переделанным, что могли сбить с толку даже глаз эксперта:
«Капитан д’Эспиньяк, особа знающая вашу храбрость и вашу честность в делах, посылает вам эти двадцать пистолей. Вы получите ещё три раза столько, после того как вы сделаете то, чего от вас ожидают. Завтра, с утра, идите по следам офицера флота его величества, живущего в гостинице под вывескою «Великого Сент-Евстафия», устройте себе с ним свидание и выкажите пред ним талант и счастье, вас отличающие».
– И вот, – сказал Ален, тряся с отвращением эту пагубную бумагу, – отчего вы хотели меня задушить?.. Берегите же деньги, так благородно заработанные: а я, сохраню это.
Он спрятал письмо под свою фуфайку и, даже не взглянув на пораженного убийцу, он направился с своими друзьями в сторону трактира, где их ожидал завтрак.
Когда они достаточно удалились, Ален спросил:
– Теперь, мои дорогие спасители, вам остается объяснить мне, как вы явились в столь добрую минуту, и откуда происходит эта засада.
– Что касается засады, милый Ален, мы не смеем, в самом деле, ни на кого указывать; только ясно, что она идет от кого-нибудь достаточно могущественного лица, ты навлек где-нибудь вражду, которой ты должен остерегаться, так как она не отступает перед подобными средствами. Как мы были уведомлены? Этой запиской, почерк которой тебе может быть знаком:
«Господин де-Севиньё, господин де-Ротелин, сообщаю, что образован заговор, чтоб предать г. Ален де-Кётлогона под удары убийцы.
Записка, застигнутая мной, и одно слово, украдкой подслушанное, меня в этом подтверждают.
Ради Бога блюдите над достойнейшим из друзей и честнейших из дворян».
– Ах! – вскричал Ален. – Дай мне также эту бумагу… Да, да, я знаю этот почерк!.. Вы скажете девицам де-Сурдис и де-Понс поблагодарить за меня руку, это написавшую.
Без ложной разборчивости, прежде чем спрятать драгоценную бумагу, он её поцеловал с благоговением, с обожанием. Её писала рука Урании де-Бовё!
Глава двадцать восьмая
Интрига продолжается. – Дворянство тратится, – Король приказывает. – Верный союз.
Это было в начале июня; знаменитая комета, от которой многие люди, несмотря на успокоительные объяснения Кассини, ожидали разрушения нашего несчастного земного шара, – эта комета со своим ужасным хвостом пролетела, не сделав никому вреда.
Можно было без страха перейти от разрушения к удовольствиям. Всякий думал только о воззвании к великодушно дворян, чтоб увеличить великолепие празднеств двора и пышность путешествия в Дюнкерк и на берега.
Это было как бы удар волшебного жезла.[21] Объявление этого события пронеслось с одного конца государства на другое. Оно должно было прервать спокойную жизнь домов и внезапно изменить привычку к порядку и экономии, составляющую преимущество провинции над мотовством Версаля и Парижа, и которую предание многих лет должно было заставить считать вечной.
Достаточно было выраженного каприза фаворитки девятнадцати лет, расточительницы, употребляющей весь свой ум придумывать разорительные фантазии и случаи движения и шума.
Избранное дворянство должно было отправиться в Дюнкерк – место общего свидания; но многие желали проехать через Версаль, и приехали туда двумя неделями раньше.
Это волнение произвело настоящие чудеса: всё уснувшее, онемелое дворянство, забытое в глуши своих замков, внезапно оживилось, будучи подвержено шуму, великолепию и пышности. Приезжали со всех сторон и по всем дорогам; историографы двора не успевали делать перепись имен посетителей более титулованных, при виде этих имен можно было подумать, что это новый крестовый поход.
Послушайте несколько точных и ярких отзывов, и вы будете иметь понятие об этом обществе и об этой толпе распростертой у ног Людовика XIV.
Маркиза Буссак, осужденная медицинским Факультетом Монпелье умереть с осенними листьями, выносит двести миль пути и выздоравливает. Тем, которые удивлялись её выздоровлению, видя её одной из самых неутомимых на гуляниях и танцах во время празднеств, она говорила:
– Вы хотите знать мой секрет? Извольте! Развлечение – вот единственное лекарство для женщин.
Виконтеса Имекур, немного покинутая, хотя красивая, употребила то же лекарство, чтобы отогнать монотонную боль в спине, вечное качество дам прихода в Шампанъи.
Очаровательная, обожаемая вдова, г-жа де-Сувре, прозванная Артемизой, потому что её считали неутешной, едва кончила траур; она сократила даже его немного, прилетела к двору, и нашла там утешителя и второго мужа.
Далее ещё интересный случай: баронесса де-Асторг покидает свой замок Кардильяк. В один прекрасный день она приезжает в Версаль с толпой нимф, красивых, о! но когда они все разим появились, это было ослепительно. Это были её пять дочерей: Маргарита, Луиза, Изабо, Франсуаза и Сюзанна. Во время их представления, король так приятно улыбался, что герцогиня де-Фонтанж побледнела.
Она была ревнива, бедное дитя, и её хорошие друзья, её завистницы, не переставали ей говорить об непостоянстве монарха. Она видела теперь соперницу во всякой молоденькой женщине, на которой он хоть на минуту останавливал свой взгляд.
Барон Асторг, отец этих красавиц, был просто камер-юнкером; он, может быть, хотел оставить семейство около себя и воспользоваться хорошими склонностями принца!
Графиня Монбаль, которая, казалось, умирала, вследствие платонических приключений, велела принести себя на носилках из Бокажа, чтобы не умереть, не повидав ещё раз великолепия великого царствования. Но, о чудо! глаза её разгораются, цвет лица оживляется и она больше не желает ни умирать, ни вздыхать единственно об луне напротив.
Маркиза де-Плер приехала тоже, в сопровождении племянницы, такой же красивой как она, подученная мужем, который был уверен, что они будут хорошо замечены монархом-знатоком, чтобы выхлопотать ему место камер-юнкера или новую команду по военному хозяйству, что вытащило бы его из губернии Сезан, где он тщетно ожидал, что о нём вспомнят.
Г-жа Мизон, которую поэты идиллии сравнивали с утренней звездой, берет кавалером своего двоюродного брата г-на де-Каданжа и устроила так, чтоб её тетка г-жа Гриньон, оставалась дома, что сделало ей путешествие гораздо независимее.
Муза Лангедока, новая Клемента-Изор, президентша Кателана, прекратила ученые турниры игр в честь Флоры, чтоб принести верноподданический долг монарху, бывшему в восторге от возможности лично услышать прославление ему хвалы самой вдохновенной музой поэтического Лангедока.
Это было сражение безумных туалетов. Ювелиров не доставало для продажи бриллиантов, их не успевали возобновлять.
Торговцы модными одеждами каждое утро, вместе с позументщиками и купцами шелковых материй, придумывали несравненные и монументальные туалеты.
Ничего не стоило, ничего не задерживало найти денег, это было общее помешательство.
Продавали ферму, занимали вдвое, закладывали, отдавали серебряную столовую посуду под залог давали в задаток наследственные имения, входили весело в долг на года, для того только чтоб на несколько часов представиться перед королем.
Хроникёр монарха, по чистосердечной наивности, перечисляя его сумасбродства и его тщеславие, признается, что они были истинным мучением для дворянства, «но, прибавляет он, ему оставались хорошие воспоминания, и очарование трона увеличилось».
Всякий со страшным нетерпением ожидал 30-ое число июня, казалось, что оно никогда не наступит. Две недели, прошедшие до него, казались бесконечными, хотя для препровождения времени придумали продолжить празднество свадьбы дофина.
Праздность – дьявольская вещь, женщины предавались любовным утехам, с страшной беспечностью оставляя свои будуары, чтобы идти покаяться на исповеди; это было двойное развлечение.
Жизнь мужчин была ещё хуже. Они играли в боссет, пили, занимали, держали пари, искали приключений, они дрались бы, чтобы убить время, если б не разительный пример, данный королем, страшным врагом дуэлей, в лице маркиза Эспиншаля, осужденного к отсечению головы, за поединок четырех против четырех.
Король один не выказывал нетерпения; он имел очень приятное времяпрепровождение с Марией Фонтанж, которую он ласково называл своей розой всех сезонов и с г-жой Ментенон, которую начали называть Madame de-Maintmont.
Искусная женщина вела скрытно свою интригу для падения маркизы Монтеспан и против новой фаворитки, о которой она говорила одному из своих интимных друзей, говорившему ей о чувствах короля:
– Оставьте, оставьте это. Это непрочная фантазия, вероятно, это будет последняя его любовная история. Надо поторопить развязку; может быть, я завладею своим героем больше, чем он мной.
И она прибавила этим тоном, выражавшем великие предположения, твердо решенные:
– Кто знает, если с помощью религии, я не сделаюсь более чем фавориткой? Тогда увидят какое употребление я сделаю из своей власти, и если я не заслуживаю больше, чем мантию герцогиню?..
По совести, это было предсказание; герцог Мен, у которого она некогда была гувернанткой, не преувеличивал называя ее: Премудростию.
Наконец время в празднествах, интригах и любовных делах прошло, и наступило это знаменитое 30-ое июня.
Наступила всеобщая суматоха. Но королева, здоровье которой всё ослабевало, которая в славе быть женой великого короля, далеко не находила удовольствие, могущее укрепить её внутренним счастьем, королева поехала вперед. Она захотела ехать инкогнито, не получая никаких почестей, не слышать никаких речей, ни давая повода для демонстраций.
Король, если б захотел, не мог подражать этой простоте; он был осужден к пышности, соответствующей его вкусам и тщеславию, недостатки и качества, которые, сознаёмся, способствовали самым великим вещам его царствования.
Пока собирались в Версале и в Марли, и злоумышляли окончательное удаление обер-гофмейстерины, которая пока твёрдо держалась, – эта последняя, удалившись в Кланьи, зорко следила за всем и мрачно умышляла свой заговор.
Герцогиня Фонтанж, пользуюсь верхом милости, выразила мысль, что присутствие надменной соперницы в путешествии в Дюнкерк отравит ей всё удовольствие от праздника, и король велел герцогу де Сент-Аньяну сказать маркизе, что принимая во внимание её здоровье, он освобождает её от этого утомительного путешествия.
Эта милость, которой она не желала и эта приписываемая болезнь, взбесили ее. Мы приводим её яростный ответ:
«Король не мог предполагать, зная мой характер, что я оставлю странное письмо, переданное мне от него его любимцем, без ответа. Прежде чем взять перо, я хотела подождать, чтобы увидеть до чего могут дойти некоторые вещи.
Я думала, по своей глупости, что священные связи помешают его величеству иметь серьезную привязанность и что, впредь, его неверности ограничатся моментальным восхищением статуи провинции или дружескими разговорами с г-жой Ментенон, которую он иронически называет мой ум, но выказываемые им поступки с одной фрейлиной, доказывают противное. Ничто впрочем, не дозволяет королю унижать женщину, которая сделала его отцом такого отличного семейства. Антенаиса де-Монтеспан слишком знатная дама, чтоб стараться вернуть к себе того, кто сделался недостоин её любви, будь это сам принц; это уловка женщин низкого происхождения или малого ума.
Я, значит, обязана его величеству окончательной «потерей репутации; но обстоятельства отомстят за меня очень скоро! Все последующие годы Людовика Великаго не будут походить на 1680-й, потому, что он наскучит судьбе так же, как он изменяет любви.
Я искуплю в уединении и раскаянии данный мною дурной пример. Если б он мог быть по крайней мере полезен его величеству, и убедить его, что то, что прощают королю в двадцать лет, ставят ему в упрёк в сорок.
Маркиза Монтеспан.»
Это письмо произвело на Людовика XIV самое неприятное впечатление. Он видел в нем как бы предсказание дурных дней; не отдавая себе точного отчета, угрожающий тон беспокоил его.
Он скрыл его от герцогини Фонтанж, и эта последняя так нежно благодарила его за то, что он вычеркнул из списка допущенных к кортежу её соперницу, что король забыл свое беспокойство. С другой стороны, г-жа Кавой, нежная и умная двоюродная сестра Алена де-Кётлогона, верная своим тайным планам, приблизилась к молодой фаворитке и не пропускала ни одного случая, чтоб не шепнуть ей на ухо имя её прежнего жениха.
Надо сказать правду, Мария Фонтанж любила в короле исключительно его царское достоинство; как человек же он для неё, молодой девушки девятнадцати лет, одаренной легкомысленным характером и резко выражающимися чувственными наклонностями, имел мало привлекательности. Ослепление первого дня прошло, она не отталкивала со строгой добродетелью мысль дать монарху помощника, и этот последний, хотя эта связь началась недавно, находил, говорят, несколько случаев её приревновать.
– Моя милая Мария, – сказала ей Луиза Кавой, накануне отъезда, – знаете о чем я больше всего думаю из особенностей и сюрпризов этого путешествия? Это о встречах, которые насильно произойдут.
– Я догадываюсь, сказала задумчиво герцогиня.
– Мой двоюродный брат Ален де-Кётлогон в Дюнкерке.
– Я это знаю.
– Вы с ним встретитесь; его корабль – тот, на котором будут находиться их величества, около которых ваше место. Какой прием вы ему сделаете?
– Признаюсь вам, вы меня в первый раз заставляете об этом думать.
– Он вас очень любил, этот бедный Ален.
– Да… я верю.
– Вы были жестоки к нему.
– Я?… Не думаю.
– Когда король так дурно с ним обошелся, помните?..
– Ах! милая Луиза, что я могла сказать и сделать?.. Его присутствие и положение, знаете ли, могли погубить меня!
– Ах! да, – сказала г-жа Кавой, холодно улыбаясь, – я понимаю… А я думала, видя вас непринужденно обрученных, что вы его любили!..
– Мой добрый друг, – прервала её юная герцогиня, чувствуя себя принужденной этим разговором, – оставим этот предмет, пожалуйста… Я всегда очень уважала г-на Кётлогона, но мне кажется, что я лучше его знаю, хотя вы ему и родственница. Это гордая и упрямая душа, которая не прощает обид. Все кончено между нами, и совершенно. Мне не будет неприятно его встретить, но сближение между нами невозможно.
– Это мы увидим, – тихо прибавила г-жа Кавой.
В Кланьи происходила другая сцена.
Когда обер-гофмейстерина послала письмо королю, она позвала девицу де-Бовё.
Фрейлина покидала её менее чем когда-либо, она сама возложила на себя эту обязанность, узнав этот раздражительный и иступлённый нрав. Она сторожила её поступки и мысли. Благодаря этому наблюдению, этому смелому шпионству, она узнала злой умысел, устроенный забиякой и хвастуном Эспиньяком.
– Моя милая Урания, – сказала ей маркиза, – двор уезжает завтра; ваше имя красуется в реестре, вы не можете отказаться от этого путешествия. Меня же удерживаешь болезнь; король понял это и, по обыкновенной своей доброте, освободил меня от перемещения, которое я не перенесла бы без вреда для здоровья. У меня нет никаких особых приказаний. Но, для вашего собственного интереса, я советую вам избегать встреч, всяких сношений и разговоров с г-ном де-Кётлогоном.
Заметив страшное удивление, выразившееся на лице молодой девушки при этом совете, она прибавила:
– Я желаю, для вашего добра ему и вам, чтоб не было никогда речи об известных намерениях, которые я думала одобрить, но которым я буду обязана энергично противиться, если вы долго будете об этом думать. Это серьёзные слова, дорогое дитя. Мне тяжело вас огорчать, но я действую для вашего счастья; ни в коем случае вы не должны и думать выйти за него замуж.
Глава двадцать девятая
Праздник в Дюнкерке. – Ален выходит из опасного испытания. – Он рыцарски мстит.
Нам решительно невозможно описать, что почувствовала совесть фаворитки, когда её подруга Луиза Кавой напомнила ей её обещания Алену Кётлогону, и когда она предвидела в очень скором времени встречу с ним.
Мы не хотим её описывать хуже, чем она была, и мы хотим думать, что узнав всё, что претерпело из-за неё это преданное сердце, она почувствовала сожаление, если не угрызения.
Она безжалостно его оттолкнула и покинула, увлеченная гордостью и самолюбием; но теперь когда она вполне воспользовалась всеми наслаждениями, влиянием и почестями, не может быть, чтоб она не вспомнила, какой изменой она это достигла.
Вот почему бы нам не полагать, не смотря на принужденную холодность во все время разговора об этом г-жи Кавой, что она почувствовала снова любовь, прежде ей одобряемую и разделяемую.
Коротко сказать, у неё билось сердце при мысли снова увидать Алена, но она тайно желала и боялась этой встречи, не смея сама себе отдать отчета в своём чувстве.
Может быть также во дворце, где она встречала только врагов и льстецов, ей не доставало этого честного, бескорыстного, преданного до смерти сердца.
Ея жизнь становилась уже борьбой, и она была слишком не опытна, чтоб восторжествовать.
Она пробовала было сблизиться с старыми друзьями, Анаисой, Клориндой и Уранией, но её заискивания были отвергнуты, её гордость и ошибки отдалили от неё эти благородные души.
Осталась одна г-жа Кавой, которая смело продолжала хлопотать в пользу Алена.
* * *
Огромная свита наконец уехала; она состояла из дворян-придворных, в сопровождении солдат, лошадей, экипажей.
Людовик XIV ежедневно торжественно приближался к месту торжеств, следуя, по своему обыкновению, верхом, во главе свиты, с большой пышностью.
По пути его сопровождал ряд оваций, поклонения, народ бил челом, духовенство курило фимиам.
Курьеры, увенчанные зеленью, предупредили муниципальный отряд, что король был только за полмили от Дюнкерка, городские сановники вышли пешком к нему на встречу.
Вскоре местная артиллерия и морская, звон колоколов, духовное пение, восклицания толпы наполнили воздух, – к довершению восторга.
Духовенство шло во главе властей и сообщества. Молодые девушки первых семейств провинции пришли поклониться государю, поднеся ему знамя, украшенное аллегорической надписью и разными прикрасами. Все духовенство получило, ради этого случая, позволение выйти из монастыря и присоединиться к кортежу.
Войска, находящиеся в лагере на манёврах, и почетный караул образовали два ряда, от первых укреплений до приходской церкви, куда король пошел помолиться.
Людовик XIV был счастлив, – счастлив во всех отношениях, и потому что с ним была его красивая герцогиня, и потому, что он просто радовался восторгу, который она испытывала от присутствия при этой пышности и почестях.
Всё шло сообразно его желанию; даже речи, которых он не любил, были коротки, что не было свойственно тому веку.
Дюнкиркен сделался прекрасным городом. Все было украшено флагами, гирляндами. С наступлением ночи, засияла иллюминация, весь город осветился.
Указали государю и на некий дом, далеко не самой красивой наружности, но украшение которого, в этом случае, было сделано так, чтоб привлечь его королевское внимание. Он исчезал в бесчисленном множестве флагов, почти вовсе изорванных и в дырах.
– Что это за флаги? И чей это дом? – спросил король.
– Всемилостивейший государь, – ответил г. Сеньелей, морской суперинтендент, – это дом матери Иоанна Бара[22]; это он прислал эту коллекцию уважаемой женщине, чтоб украсить статую св. Николая, которую вы видите там, в алькове, зная, что каждый раз, во время грозы, она молится перед этим изображением, которое она в особенности чтит.
Король не удовольствовался этим объяснением; он захотел видеть мать знаменитого моряка и поздравить её со счастьем – иметь такого сына.
Триумфальные арки были выстроены по рисункам Пероля; они заслуживали быть выстроенными из мрамора; все сожалели о таланте, растраченном для таких кратковременных построек.
Когда их величества вернулись в свои апартаменты, Люлли, с своими музыкантами, исполнил под их окнами очаровательную мелодию, написанную для этого случая.
На другой день – пришла очередь мореходства. Маркиз Квинси, историограф этих праздников, говорит о них в следующих выражениях:
«Государственный секретарь, милостивый государь Сеньеле, велел приготовить прекрасное военное судно. Кавалер Лери, который им командовал, показал их величествам все маневры, что доставляет двору зрелище столь же новое, как и приятное. Первый маневр был с парусами, после которого кавалер заставил солдат делать упражнения с оружием. Он велел представить потом морское сражение и абордаж. Это удовольствие окончилось большим обедом, который король дал дамам и на котором не было недостатка в роскоши и изысканности. Двор возвратился в город после того, как король щедро вознаградил весь экипаж. Он был еще на корабле, когда его посетили там граф Оксфорд и Джон Черчилль, известный с тех пор под именем герцога Мальборо, которого король Англии прислал к нему, чтоб его поздравить.
Маркиз Варньи приехал тоже от короля Испании, и всех приняли на корабле с пышностью, соответственной этому случаю».
Летописцы, менее официальные и менее ограниченные этикетом, дают нам другие подробности, в которых мы находим нить нашего рассказа и присутствие наших главных лиц.
Морское сражение было так хорошо затеяно, что в минуту самого сильного взрыва, на воздух среди пламени взлетели сразу несколько матросов.
Крик ужаса вырвался у зрителей, повторенный более чем за четверть мили кругом тысячами судов, находящихся на почтительном расстоянии от придворных.
Король вопросительно и с беспокойством посмотрел на маркиза Синьеле, который с улыбкой подошел к нему и сказал:
– Ваше величество, это чучела, которые я приказал сделать, чтоб довершить праздник.
– В добрый час, – сказал Людовик XIV, – потому что я счел бы за несчастье праздник, который стоил бы жизни хотя бы одному из моих подданных. Но волнение было общее… Кавалер!.. – сказал он и подозвал молодого офицера, стоявшего на часах в нескольких шагах от него.
Последний повиновался и подошел.
Король с особенным вниманием посмотрел на Алена, как бы ища сходства или что-то припоминая. Но он не упорствовал и сказал ему:
– Ваше имя, сударь?
– Ален Кётлогон, ваше величество, – ответил наш герой, твердо стоя по стойке смрно.
К счастью, король видел его лишь мельком и при таких обстоятельствах, когда он был слишком озабочен другим лицом, чтоб узнать в этом моряке в мундире офицера, кавалера, в бархатном дорожном плаще с широкими рукавами, некогда встретившемуся ему на охоте в Марли.
– Прекрасное имя, – сказал он, – и благородно носимое, я читал заметки, которые делают вам честь. Ну хорошо! Г-н Кётлогон, отправьтесь сейчас же на галиот, где находятся королева и дамы; скажите от меня её величеству и герцогине Фонтанж, что во время взрыва не случилось никакого несчастья.
Он поклонился ему любезно, и взгляд его вовсе не походил на грозный взгляд, брошенный в Марли.
Наш герой повиновался.
Он тоже не раз думал о неизбежной встрече; но кто бы мог подумать, что она случится так и по этому приказанию!
Пять минут спустя, он был уже на палубе королевского галиота, и очутился вдруг окруженным королевой, г-жой Кавой, Марией Фонтанж и фрейлинами, между которыми он узнал только своих трех шалуний из Кланьи. Случай порой наносит такие острые удары!
Король верно отгадал: все дамы были в страхе, убежденные, что присутствовали при катастрофе.
В минуту появления вестника, девица Фонтанж чуть не лишалась чувств, что все приписали страху, хотя к этому примешалось смущение другого рода.
Кавалер не сказал им и четырёх слов, как вздохи сменились смехом, и по примеру королевы все дамы поспешили поблагодарить его за хорошее известие.
Но новый женский крик раздался: это Мария Фонтанж, которая в смущении, в волнении, уронила в море мантилью, которую королева дала ей для сбережения.
– Боже мой! Боже мой! – вскрикнула герцогиня, предполагая, не без основания, что её обвинят в нежелании, а не в рассеянности или неловкости, – я погибла!..
Ален бросил на неё странный взгляд, в котором выражалось скорее сострадание, чем упрек и бросился в воду.
Новый крик ужаса, на этот раз общий, раздался с галиота, но за ним вскоре последовали аплодисменты и улыбки.
Молодой моряк так легко плавал, что было удовольствие смотреть, как, он преследовал мантилью, которую насмешливые волны по очереди уносили, чтоб проверить его ловкость.
Наконец, он завладел ей, и со своим трофеем ловко забрался в одну из лодок, которые предусмотрительно следовали за царскими судами. В одну секунду, он приплыл к галиоту, взошел на палубу и подал мантилью Марии Фонтанж. Фрейлина побледнела как лилия, потом вдруг покраснела как вишня, но несмотря на всё, счастливая, что стала героиней такого подвига преданности, она трогательно улыбнулась своему жениху и проговорила:
– Г-н Кётлогон, как мне вас отблагодарить?… Вы рисковали жизнью, из-за таких пустяков…
– Не благодарите меня, сударыня, – ответил он так, чтоб быть слышанным только ей и, глядя на нее печально и пристально, – не благодарите меня, а судите по этому, что вы могли бы ожидать от меня.
Потом, с достоинством поклонившись ей, и отвернув глаза, он приблизился к группе фрейлин, между которыми находилась его двоюродная сестра и девица Бовё.
Когда он бросился в море, последняя так испугалась, что едва могла опомниться.
Ему позволили взять её за руку и сказать два слова, эти слова ничего не значащие для слуха, были полны красноречия для влюблённых сердец.
Наконец, освободившись от службы в довольно поздний час, он хотел было сойти с корабля, когда маленький юнга Жан Кольфа, его любимец, который находился на корабле, подошел к нему с смущённым и таинственным видом.
– Что тебе надо? – спросил он его с дружеской грубостью.
– Лейтенант, – сказал ученик моряка, понижая таинственно голос, – у меня поручение, которое я взялся вам передать.
– Это значит очень важно?
– По моему мнению да, лейтенант.
– Говори, мой друг.
– Ну хорошо! кто-то, кого вы знаете, но который не смеет придти к вам сюда, по важным причинам, умоляет вас в девять часов быть на площади св. Элигия.
– Это всё? – сказал Ален заинтригованный вестью и путём, которым она до него дошла.
– Вас просят в особенности, чтоб вы были одни, потому что вам должны сказать важные тайны.
– А! а!
– Вы пойдете, лейтенант? – сказал мальчик настоятельным тоном.
Ален задумчиво на него посмотрел.
– Я не хочу тебя спрашивать, кто дал тебе это поручение. Я догадываюсь, это должно быть та же особа, которая рекомендовала мне тебя уже два раза.
Иван опустил глаза, чтоб скрыть свое смущение.
– Хорошо, – прибавил молодой офицер, похлопав его по щеке, – вернись на корабль: я пойду, и пойду один.
– О! благодарю вас, лейтенант! Но слышите звон колокола, это именно час!
Глава тридцатая
Хорошее и дурное общество. – Деньги заманчивы. – Торг негодяев.
Читателю уже понятно, что в Дюнкерк в то время приехало не одно хорошее и высшее общество Франции.
Везде, где толпа, есть смешение; встречаются контрасты, и ни один закон не воспрещает нищих, так что можно было думать, что весь Двор чудес переселился сюда по примеру двора Версаля.
Это была настоящая процессия убогих и нищих. Вдоль улиц и парковых аллей можно было видеть двойной плотный ряд самых плачевных и отвратительных убожеств: настоящее стечение ран и уродств.
Между самыми ревностными, пришедшими первыми, находились два бесстыдных негодяя, тащившие один другого, получавшие больше других и которых встречали везде нищими, поющими, охающими, плутующими.
Вы узнаете, если захотите, двух цыган Парижа и Марли: человека на костылях и его собрата Жано, по нужде хромого, слепого, безрукого, искалеченного всем, чем требовали быть обстоятельства, оставаясь при этом совершенно здоровым, расторопным и прозорливым.
Но чтобы общественное представление было совершенно, и игры заведений велись правильно, в той же толпе не было недостатка и в третьей категории лиц, называемых полицейскими.
Так как наши двое бродяг имели важные причины не встречаться с последними, то они почувствовали страшную скуку со второго дня приезда. Им невозможно было скрыть от себя самих того, что они были предметом самого тягостного надзора. Куда бы они не пошли, в какую бы сторону не повернули, они замечали за собой вослед сопутствующих в некотором роде гайдуков, окончательной и прямой встречи с которыми они избегали посредством целого ряда уловок и хитростей. Это становилось невыносимым. Они были так стеснены в производстве своего ремесла, что уже рассуждали, не будет ли разумнее покинуть это место.
Таково было мнение безрукого, но человек на костылях, более смелый, придумал другое средство.
– Выслушай меня, Жано, – сказал он. – Между этими басурманами, которые за нами наблюдают, самый постоянный и самый беспокойный – это тип в сером сюртуке и желтых сапогах.
– Справедливо, – ответил Жано, – поскольку его мы везде встречаем, то не надо быть колдуном, чтобы понять, что он непоколебимо нас преследует. Два или три раза, по крайней мере, он догнал бы более немощных и менее проворных.
– Боже мой! ты себе и представить не можешь, как он мне мозолит глаза, этот дубина!
– И мне также!
– У меня бы сделался внутренний зуд, если бы я отправился отсюда, не дав ему почувствовать посредством сильно ощутимого трезвона.
– Чёрт возьми! у меня уже слюни текут!
– Тогда что же, друг мой, нужно нам удовлетворить нашу причуду.
– С блаженством.
– Надо начать с того, чтоб не отдаляться от него чресчур; например сегодня, в сумерках, мы отправимся в уединенные места гавани, не теряя конечно друг друга из вида; если он будет один, то один из нас (постараемся, чтоб это был я), постараемся, завести молодца в маленький уединенный уголок. Тут, на свободе, ты его поджидешь, стоя настороже против спрятанных снарядов, которые, эти олухи полицейские имеют при себе. И я попрошу его объяснить мне что за честь, которую он нам оказывает, сопровождая нас как важных людей?
Ты же стоишь настороже, со свистком у рта, на случай, если будет заметно появление подкрепления в окрестности; а я ему преподам такой урок, который заставить его недолго отягощать собою этот свет.
– Ну, что же! а я?
– Ты же будешь стоять на стороже, я сейчас тебе это объяснил.
– О! И что – я не поколочу его хоть немного!..
– Надейся на Марготона, – сказал бродяга, показывая свой костыль, окованный железом. – Это ударит за двоих.
– Эгоист! Однако ж даю тебе полномочие; но действуй по совести!
Наши плуты, согласившись действовать подобным образом, в тот же вечер приступили к действию.
Любопытный же тип, пригвожденный к их действиям и жестам, со своей стороны не мало увлекся и пустился следом за хромым, легко ковыляющим посреди этих груд товаров, материалов, разных навьюченных и складированных предметов, которые испещряют набережные гавани купечества разнородными лабиринтами полные глухими улицами и извилистыми проулкакми.
Когда он предположил, что это место было достаточно уединенно и безопасно, цыган умерил шаги свои, прикидываясь усталым; преследователь успел его догнать, и в несколько шагах от него, окликнул его.
– Эге! Любезный, ты, с костылями, одно слово!
– Прошу у вас милостыни… – сказал наш молодец, оборачиваясь.
– Не в этом дело.
– А! вот наконец! – сказал тот, выпрямляясь и беря в руки свой костыль с красноречивым видом.
– Не в этом также; – сказал его сопровождающий, ни мало не волнуясь.
– Ба! да в чем же наконец?
– Черт возьми! дай мне передохнуть, я сейчас тебе скажу.
– Я очень тороплюсь, – отвечал бродяга, подозревая того, что он желает тем временем запастись подкреплением.
– Вот уже три дня как я слежу за тобой, друг; тебя не легко поймать.
– Это зависит от того, чего от меня хотят.
– Э! я желаю твоей же пользы, ты, животное!
– О! о! Это ещё надо посмотреть.
– Держи, это уже видно, – сказал преследователь, показывая ему кошелек хорошей наружности.
Хромой сначала прислушался, он знал, что Жано настороже, ничего подозрительного не было слышно, он протянул руку, и, не торопясь, кинул добычу в свою мошну, предварительно взвесив её на руке, чтобы оценить её вес:
– Надо было с этого и начать, – сказал он.
– То есть, надо было сперва пристать к тебе, наедине, в укромном месте, а ты, как хромой, можешь похвастаться, что заставил меня хорошо пройтись.
– Ну, в чём, наконец, дело?
– Это не я могу тебе объяснить.
– О! о!.. – сказал убогий, приняв недоверчивый вид и почесывая голову.
– Ты боишься?
– Смотря по тому, если идет речь о том, чтоб отдать меня во власть господ полицейских и смотрителей за галерными преступниками, да, признаюсь, что я побаиваюсь…
– А кто же тебе велит опасаться этого? Вот в двух словах, откровенно и ясно объясню дело: одна важная богатая и либеральная особа, поручила мне найти ей негодяя, способного на все.
– И вы выбрали меня? Благодарю.
– Разве я ошибся, и имею я дело с святым?
– Поди ж ты! я смеюсь.
– В добрый час. Это бы меня весьма удивило, имея причины думать, что ты – именно тот человек, которого они желают.
– Хорошо; что дальше?
– Дальше? это не тут и не от меня ты можешь узнать.
– Наконец, желал бы я узнать в чем дело?
– Что за жеманство!
– А! послушайте!..
Негодяй взял в карман кошелек, и тщательно его ощупал.
– Гм! что это за шутки, ты боишься, что денег мало?
– Напротив, – ответил нищий вдруг весело и отважно. – Я к вашим услугам, барин; теперь я последую за вами на край света.
– Хорошо! Пойдем, я обещаю тебе, что ты не раскаешься.
Цыган быстро задвигал костылями, что он делал только в сильной радости, издав сигнал в виде трели, чтоб успокоить своего друга Жано.
Своим тонким чутьем, он ощутил остаток благовония, пропитавшего кошелек, который ему пожертвовали.
Его сопроводитель, не обменявшись с ним во время пути более ни одним объяснением, привел его к самому отдаленному трактиру города.
Обыкновенно, кроме ярмарочных и базарных дней, там бывало мало народу, но в эту минуту, когда город оказался слишком мал, чтобы вместить наплыв посетителей, он был битком набит.
Хозяева и прислуга, остолбеневшие от небывалого числа посетителей, не знали кого слушать; в зале царила неописуемая суетня.
Незнакомец издали указал на это цыгану, который имел достоинство не смущаться ничем и ничему не удивлялся.
– Это здесь, – сказал он ему; – старайся держать себя прилично, почтительно, а в особенности избегай, в случае, если представится, узнать особу, которая делает честь тебя принимать.
– Хорошо! хорошо!.. Можно подумать, слушая вас, что здесь не знают хороших манер!
Затем, он выпрямился, подбоченясь с достоинством, которое его одеяние делало смешным.
Менее уверенный в его красивой наружности, его товарищ быстро снял его шляпу, надел ему свою, на плечи накинул большой плащ, который он нёс на руке, и который скрыл его лохмотья.
Одетый таким образом, он ввел его в трактир не возбудив ниьего внимания, ни подозрений домашних, и почти ощупью провел его к двери галереи первого этажа, которую он отпер имевшимся у него ключом.
Они взошли в очень простенькую переднюю, в которой, по-видимому, смотря по необходимости, ставили постель. на столе в середине комнаты, горела свеча, слабо освещая её.
Надо было, конечно, дорого заплатить, чтобы получить в независимое пользование этой квартирой в такое хлопотное время.
Другая дверь была в глубине. Незнакомец сделал ему знак подождать.
– Вероятно они находятся там, – сказал он ему, не возвышая голос. – Сядь, я пойду предупредить своего хозяина.
– Хорошо, – ответил ему человек на костылях, взяв преспокойно стул, – я подожду, не церемоньтесь, мне некуда спешить.
– В последний раз я тебе советую держать себя почтительно, скромно и с полной покорностью…
– А! хорошо, это понятно, раз заплачено. Его сопроводитель решился два или три раза постучать в дверь.
Невидимая рука открыла её почти тотчас; он вошёл и почти тотчас вернулся.
– Взойди, – сказал он ему, тебя хотят принять. Он втолкнул нищего в комнату, закрыл дверь, и в свою очередь сел в переднюю, которую он, кажется, охранял.
Глава тридцать первая
Наглый негодяй. – Таинственная дама. – Удивительная история.
Комната, в которую вошёл бродяга, была освещена не лучше первой. Единственным освещением была свеча; вместо того, чтоб находиться хотя среди комнаты, она стояла на маленьком столике, на котором находились чернильница и стопка бумаги, в самом отдалённом углу.
Было ли это рассчитано или нет, в комнате, которая была довольно велика, с высоким потолком, и темная тяжелая мебель которой перехватывала свет, царствовал полумрак, к которому глаз должен был привыкнуть.
Бродяга, по нужде слепой, и заслуженный ночной праздношатающийся, скоро осмотрелся.
Он остановился, сделал два шага, и устремлял свой инквизиторский взор кругом себя, то на постель под черным балдахином, то на маленький освещенный столик.
– Подойди! – сказал женский голос.
Он увидал тогда сидевшую в кресле, к нему почти спиной, на одном конце этого стола женщину, которая, вероятно, писала, когда ей доложили о его приходе.
Несмотря на полумрак и защиту кресла, она была, окутана большим чепцом, скрывавшим её черты.
– Я к вашим услугам, сударыня, – сказал он, – подвигаясь на средину комнаты.
– Еще, ближе, – сказала дама; – то, что я должна тебе сказать, не может быть сказано громко.
Он сделал два больших шага и почти прикасался к спинке кресла.
– Хорошо, стой там.
Он остановился недвижим, как автомат.
Дама продолжала, не оборачиваясь и, в свою очередь, не сделав ни одного движения, чтобы хотя сколько-нибудь увидеть его лицо:
– Я хочу раз сказать тебе историю.
Циническая улыбка скользнула по странному лицу нищего, но он не двинулся.
– Ты меня слушаешь?
– Со вниманием и благоговением, сударыня!
– Жил да был, я говорю о последних годах, на галерах в Бресте один опасный каторжник. Его звали Пьер Кольфа. Это был пожилой человек, родившийся в горах Руерга, геркулес по силе, дикарь по грубости. Его боялись даже сторожа. Ему должны были надеть кованные кандалы, заклёпанные особо, вдвое тяжелее других, и раз пять он чуть не избегал этого опасными средствами, в которых всякий другой лишился бы жизни или изуродовался бы. Его товарищи испытывали к нему суеверное благоговение, божились только им, советовались с ним и повиновались ему, как дети учителю. Он многих спас в несчастиях на море и во время пожаров, и создал себе во время ссор и драк, часто случавшихся между ними, настоящую судебную власть.
За то, что он был приговорен пожизненно, он славился перед товарищами: это произошло после того, как он умертвил лесника во время охоты, потому что до пребывания в остроге, он с редкой смелостью охотился на чужой земле.
– Умертвил!.. скажете тоже!.. – пробормотал цыган в бороду, – Положим, бедняга был убит.
– Убит, если это тебе больше нравится. Все же его убийца заслужил в глазах закона право быть посланным грести веслами на старой галере его величества. В один прекрасный день, во время сильной бури, которая волновала рейд и грозила опасностью многим значительным кораблям, понятно, он был между людьми посланными править спасительной шлюпкой. Но вдруг поднялся шторм, затопивший шлюпку, и несколько гребцов утонули. А Пьер Кольфа оказался в числе тех, которых не нашли. Его сочли умершим и более о нём не говорили.
– Requiescat in расе[23], – пробормотал цыган; – но если он умер, зачем сударыня трудиться рассказывать мне его историю?
– Я тебе сейчас объясню: вот это то и чудо.
Бродяга сделал вид человека, решившегося выслушать рассказ самого неинтересного для него дела, единственно для угождения к важному собеседнику.
Таинственная дама продолжала тем же вразумительным и решительным тоном:
– Я обратилась к одному очень опытному сыщику, нуждаясь в ловком и смелом человеке, на которого я могла бы положиться в интересном и деликатном деле; он искал его между бродягами, которые собрались в этом городе, и он на следующий же день пришел мне рассказать про это чудо.
– О! о! чудеса, это можно видеть только в некоторых трущобах в Париже, где живут такие нищие, как я.
– Я тебе даю судить об этом. Очень опытный в делах преступников и острогов, мой посланный утверждал, что встретил на улицах Дюнкерка тащившего жалко ногу и стоявшего на ногах только с помощью костыля, такого же как у тебя под плащом, – кого бы ты думал?… утопшего в Бресте, Пьера Кольфа во плоти, с мясом и костями.
– Это неправдоподобно, – сказал бродяга, с удивлением пожимая плечами.
– Будь судьей.
– Ваш человек был обманут сходством.
– Может быть. Но всё же я ему поручила привести сюда воскресшего… или его двойника, и именно к нему я обращаюсь в эту минуту.
– Позвольте мне посмеяться, не смотря на уважение, которое я к вам питаю; другие рассердились бы; я же – философ.
– Мы думали, впрочем, что такое редкое сходство не могло быть только физическое, и что ты должен обладать какими-нибудь характерными особенностями этого знаменитого покойника.
– Клянусь св. Лавром!.. Извините, сударыня, я хотел сказать: клянусь Спасителем! я тоже слышал об этом Пьере Кольфа.
– А! а!..
– Да, да, очень сильный, кажется, человек, которому удавалось всё, что он предпринимал, немой как исповедник, и проходил в случае нужды в мышиную нору, но не трудившийся даром и соизмеряющий свои услуги со щедростью своих хозяев.
Дама протянула руку, взяла лежавший около чернильницы сверток золота, и не оборачиваясь, протянула его ему.
– Вот удачное и непреодолимое возражение, – ответил он цинически. – Если вам угодно, сударыня, сказать мне, какую вы требуете услугу?…
– Почти никакой.
– Гм! – пробормотал бродяга про себя, – так много говорить из-за пустяков!
– Праздники продолжатся ещё два дня. Завтра гуляние на укреплениях и за городом; послезавтра обед в городской ратуше и бал на корабле адмирала. Ты знаешь герцогиню Фонтанж?
При этом имени все жилы бродяги встрепенулись.
– Это она, – ответил он, ударяя на каждое слово, послала Пьера Кольфа на галеры.
– Правда!.. – вскрикнула дама с внезапным порывом удивления, так что наполовину обернулась и в первый раз показала своё лицо. – Ну хорошо! – продолжала она, – дело в том, что ты должен прилично одеться, чтоб незамеченным примешаться к толпе, когда поезд при свете факелов отправится на этот ночной и мореходный праздник. Человек, который тебя привёл, снабдит тебя букетом, который ты предложишь этой прекрасной особе.
– И который она понюхает? – ответил спокойно бродяга.
– Гм?
– Я говорю, что она понюхает: это ведь первая вещь, которую делает женщина, когда получает цветы.
– Может быть, – сказала дама с нетерпением. – Что тебе за дело?
– Мне!? – засмеялся он иронически. – Я и герцогиня Фонтанж, о! это мне все равно!
– Так ты согласен?… Отвечай же!
Он, кажется, задумался.
– Это будет дорого стоить, – ответил он наконец.
– Разве тебе не сказали, что с тобой не будут торговаться?
– Это правда. В таком случае, согласен.
Он снова замялся, потирая лоб.
– Сказать, что эта особа внушает мне живое участие, право слово, нет; но это не все… Будучи согласен с вами в главном этого приключения, я должен сообразить и посоветоваться.
– Ты хочешь сказать, что подумаешь об измене! Подумай, я знаю историю Пьера Кольфа, и мне стоит сказать одно слово…
– Я вам сказал, что я буду верен и нем. Вы знаете, впрочем, имею ли я причины любить фаворитку. Но наконец, речь идет о важном деле: я прошу подождать ответа до завтрашнего дня.
– Я думала, что ты решишься скорее.
– Это взять или оставить… Что касается того, что вы мне сейчас дали, если вы хотите…
Он полез в карман, чтоб достать сверток.
– Нет! – сказала его собеседница, остановив его знаком. – По-моему наши условия хороши.
– И вы правы!
– В котором часу завтра утром ты дашь мне ответ, согласен ли ты, или отказываешься?
– Так рано, как вы этого пожелаете. Мне достаточно ночи, чтобы всё обдумать.
– Так, в восемь часов.
– В восемь утра! хорошо. Но как я войду сюда?
– Человек, который тебя привел сюда, и который тебя опять выведет на улицу, будет дожидаться тебя на углу следующего перекрестка.
– Я буду там прежде него, чтоб избавить его от этого труда.
– Иди и помни, что ты держишь в руках не только твое состояние, но и помилование; потому что вот тут, на столе, бланковая подпись короля, которую я исполню, когда ты придешь мне сказать, согласен ли ты мне повиноваться… Ты видишь, доверяю ли я тебе.
Сверкающий взор бывшего каторжника перенесся на эту драгоценную бумагу, полученную, конечно, от короля в минуту любезности и слепой нежности, хранимую для важного случая и предлагаемую, как вознаграждение за преступление!
– Если ты желаешь её получить сейчас, – сказала соблазнительница, догадываясь, что в нем происходило, – скажи слово…
Он покачнулся, нагнулся вперед, отодвинулся назад, и наконец, как бы боясь быть сломленным, решительно отступил назад.
– Нет, сударыня, – сказал он, – я у вас просил время на размышление, я не беру слов назад.
Затем он повернулся, дошел до двери одним шагом и быстро вышел.
Человек в передней не сошёл со своего стула.
– Ну, что же! – спросил он его, готовясь его проводить, – Доволен ли ты?
– Я в полном восторге.
– А тобой также ли остались довольны?
– Это мы увидим завтра.
Гайдук больше его не расспрашивал, он проводил его до улицы, и они расстались, первый возвратился к своей хозяйке, бродяга же направился к гавани.
Глава тридцать вторая
Игра вдвоем. – Очень хитер этот Пьер Кольфа! – Сомнения убогого.
Ha другой день, в назначенный час, Пьер Кольфа, – нам больше нет нужды скрывать его тождество, – встретился в назначенном перекрестке, со вчерашним своим провожатым.
Этот последний сделал ему замечание, что, несмотря на приказания его хозяйки, цыган был в таком же жалком и странном одеянии как в минуту их первой встречи, и что без его шляпы и плаща, было бы невозможно привести его к его хозяйке.
Он имел опять тот же беззаботный вид и вовсе не походил на человека, готовящегося к такому важному делу. Это хладнокровие, впрочем, показалось хорошим предзнаменованием посланному, который радовался, что напал на такого отважного бродягу.
Если авантюрист был лаконичен и говорил только самое необходимое, то сыщик был не менее его лаконичен и не любил тратить по пустому слова. Единственное замечание, которое он себе позволил сделать, это об одежде бывшего каторжника.
– Ты бы мог, – сказал он ему, – употребить твоё время и твой доход, чтоб добыть себе нижнее платье и сапоги поприличнее. Едва ли я днём смогу без затруднения провести тебя через эту гостиницу. Не найдешь ли ты лучшим прежде, чем идти дальше, пойти и принарядиться у какого-нибудь ветошника.
– Подите, подите! – ответил ему человек на костылях. – Видно, что вы служите при дворе, где одежда составляет главное условие! Я приоденусь, когда это понадобится. Вам не на мое нижнее платье надо смотреть, а на мои таланты.
– Будь так! – сказал другой, покоряясь с усилием. – Но, по крайней мере, прикройся плащом и надвинь шляпу.
Он делал разные запутанные повороты мимо двора гостиницы, коридоров и часто посещаемых комнат, избегая, чтобы служащие не заметили его подозрительного товарища, и вздохнул с облегчением, только вложив ключ в дверь передней.
Маленькая вечерняя сцена повторилась; только, так как это было днем, предусмотрительная рука приглушила свет, опустив саржевые шторы на окнах; так что в первую минуту комната казалась совсем тёмной тому, кто входил со двора.
Дама, в большом чепце, сидела углубившись в большом кресле, у маленького стола, на котором были разложены те же бумаги, а заманчивая бланковая надпись была на виду.
Эхо была первая вещь, которую заметил авантюрист; зрачок его заблестел, но взор его потух и он немедленно отвернулся, чтоб более не глядеть на этот предмет.
– А! – сказала дама, – хорошо, ты аккуратен, и, надеюсь, что ночь была тебе полезна.
– Да, сударыня.
– Значит, ты пришел заключить; мне остается только передать тебе это?
Он услыхал шорох бумаги; дрожь пробежала по всем жилам; но он выдержал и не взглянул на эту бумагу, заключавшую его помилование, его воскрешение, его восстановление.
– Ну, бери же.
Он оттолкнул, не взглянув на нее, руку протягивающую ему бумагу.
– Нет, благодарю, – ответил он.
– Благодарю?.. это отказ?..
– Это благодарность.
– Это невозможно!.. Ты не хочешь твоего помилования!..
Он глубоко вздохнул, подождал немного, чтоб его ответ не вы дал волнения и сказал:
– Боже мой, нет.
– Ты с ума сошел?
– Быть может.
– Но понимаешь ли ты, что стоит эта бумага с приложением двух свертков золота?
– Золота! – сказал он; – У меня его слишком много.
И спокойно, в свою очередь протянув руку, он положил на стол сверток золота, полученный им на этом самом месте накануне.
Это незнакомка вскрикнула от удивления.
– Значит, ты прекращаешь то, что было между нами затеяно.
– Боже мой, да.
– Это, посмотрим; ты должен, по крайней мере, мне объяснить.
– Очень просто; я отказываюсь.
– А почему ты отказываешься?… Думаешь ты имеешь на это право?
– О! что касается до этого…
– Ты ошибаешься, Пьер Кольфа, это не так легко, как ты воображаешь!
– Извините, я думаю, что это вы ошибаетесь.
Она вполовину обернулась с движением, выражавшим её раздражительный и повелительный характер и, возвышая голос, продолжала:
– Как! ты думаешь, что такой негодяй, как ты, жизнь которого висит на одном волоске, и который, будучи в бегстве и в нищете, может безнаказанно, не заключив договора, слышать то, что ты слышал тут, торговаться за услугу с такой женщиной, как я, и отказываться от самого обыкновенного дела, сказав мне рыцарски: «Дело это мне больше не подходит, я владею вашими намерениями, вашим секретом, обратитесь к другим». Гм!.. ты воображаешь, это так легко!
– Ей же ей, да!
Этот ответ только усилил гнев его собеседницы.
– Несчастный земляной червь! – воскликнула она, – Ты не знаешь, с кем ты говоришь, с кем ты имеешь дело! Знай же, ты выйдешь отсюда только для того, чтоб подвергнуться участи, которую ты избегал в Париже дьявольскими хитростями.
– Успокойтесь, сударыня, пожалуйста.
– А! это уже верх наглости; это ты меня просишь успокоиться? Ты, которого я прикажу повесить до истечения сорока восьми часов!
– О! о! если б вы вешали всех тех, которые этого заслуживают, я бы не был тут, это возможно, но!..
– Но!..
– А! право, вы бы тоже не были бы тут!..
– Несчастный, ты произнес твой приговор!
Она сделала движение, чтоб позвонить, но он её без всякого насилия остановил словами.
– Не зовите никого, – сказал он, – вы пожалеете.
– Говори же! что тебе надо? Чего ты желаешь, чего ты требуешь?… А! я догадываюсь… ты меня выдал… Эта женщина тебя подкупила, ты ей продал мою тайну!
– Божусь вам! гнев вас ослепляет. Потому что если я когда-нибудь и желал кому зла, так это ей.
– Ты смеешься, решительно.
– Нет… но будучи в состоянии располагать собой по другим причинам, я сожалею, что не могу вам услужить.
– Довольно; этот разговор слишком долго продолжался!.. Уходи… Но ты раскаешься!
– Уделите мне ещё две минуты?
– К чему?
– Чтоб мы были совсем квиты. Вы мне дали денег, я вам их отдал; вы мне рассказали историю, позвольте и мне вам рассказать.
Понимая, что она находится в присутствии не простого авантюриста, она не смела настаивать и, приняв презрительную позу, заявила:
– Две минуты, больше ни одной.
– Вы очень добры. Я начинаю. Этому пять или шесть месяцев, я не знаю наверно числа, это было в первых числах февраля. Ночь была холодная. О! я дрожу при одном воспоминании. Было очень темно, в особенности в местности около церкви Сен-Жак-де-ла-Бушера. Около двенадцати часов, можно было подумать, что местность совершенно пуста; ну! этого не было. Этот Париж, фантастический и коварный город!
– Какое мне дело до всего этого?
– Подождите, подождите.
Вдруг, черная дверь, возвышающаяся над тремя кривыми ступенями, полуоткрылась осторожно; укутанная женщина с раскрытой головой, показалась в этой двери, обмениваясь таинственными словами с хозяином дома. Дом этот, кстати, пользуется дурной славой, сударыня. О! но не за распутство как другие дома; куда как хуже этого! а за таланты его владетеля, и услуги, им оказываемые.
– Дальше… дальше…
– Я боюсь быть докучливым; две минуты прошли…
– Довольно глупых шуток! Ты слишком много сказал, чтоб теперь замолчать. Доканчивай, я этого хочу.
– Повинуюсь. Таинственная дама, оглядев инспекторским взором перекресток, и думая, что она одна и никем не замечена, спрятала под мантилью вещь, переданную ей стариком, заплатив ему сто раз тяжестью золота; она прошла площадь, взошла в услужливый соседний дом, вышла другим выходом, взошла в карету и велела себя везти, куда ей было нужно. Вот моя история; не правда ли, она интересна?
– Она бессмысленна; я не вижу, что ты можешь извлечь из неё против меня, предполагая, что я имею какое-нибудь сходство с твоей мнимой ночной путешественницей.
– Я, может быть, дурно выразился, или пропустил эту подробность, что, спрятавшись за угол, два свидетеля следили и глазом и ухом за этой маленькой сценкой.
– А ты не слишком ли преувеличиваешь преступление незнакомки?
– Я не назвал дом из которого она вышла? Этот дом принадлежал Жаку Дешо, известному фабриканту ядов, прямому преемнику вдовы Вуазен, которому, видно, суждено умереть на одном с ней костре.
– Ну, и что же! какое отношение ко мне имеет эта фантасмагория? Может ли она меня заинтересовать? Какое у тебя свидетельство?… Твоё?! Какое доказательство?… Их не существует.
– О! о! поискав… Я ручаюсь, что если бы это приключение дошло до наших властей в адмиралтейской палате, они бы сомневались меньше вас.
– Король уже выбранил их за их преувеличенное усердие.
– Может быть! но если бы одна и та же особа попалась им в руки дважды…
– Ты говоришь?
– Что это видели и могут опять увидать.
– Несчастный! ты не хочешь выйти живым отсюда?…
– О! я принял свои меры предосторожности.
– Дерзкий!
– Боже! мне кажется, что вы также приняли меры предосторожности. Мы двое в игре, что делается в лучшем обществе!
– Это клевета, я не буду обманута ни твоими выдумками, ни твоими интригами.
– Как вам угодно. Только я вам скажу, что если через вас, у меня упадет хоть один волос с головы, я не дорого возьму за вашу. Я говорил вам о двух свидетелях, убив меня, вы не избавитесь от другого.
– Другой – это тоже какой-нибудь бандит, нищий, бездельник!
– Нет, право; это самый лучший человек на свете, и такой мужественный, всеми уважаемый, что если он скажет слово, все, даже король, ему поверят.
– Хорошо, пустая история.
– Верьте или нет, как хотите, но не полагайтесь очень. Во вторых, вы говорили, что не существует существенных и ясных доказательств.
– Что касается этого, то если ты мне докажешь противное, я тебе подарю этот сверток, который ты мне возвратил.
Он протянул руку и сказал:
– Давайте, я выиграл.
– Доказательства?…
– Выходя из дома фабриканта ядов, ночная путешественница, во время быстрой ходьбы, не заметила, что она что-то потеряла.
– Мой платок!..
Это восклицание вырвалось против желания с губ этой дамы. Она запнулась, стараясь вернуть назад сказанное, но Пьер Кольфа жестоко продолжал.
– Именно ваш платок.
– Ну, хорошо! что за беда!
– А вот что, он был поднят с должным уважением, спрятан в хорошее место, и если бы со мной случилось несчастье, это убедительное доказательство будет передано королю. Его величество не шутит в иных делах. Но нужно было бы узнать, зачем эта знатная и могущественная дама ходила так секретно к Жаку Дешо.
– Ты можешь похвастаться, что ты, грязный негодяй?!
– Я? Боже!.. Сударыня меня не знает; я просто бедный человек, который чувствует веревку вокруг шеи, и старающийся освободить голову. Сударыня! не находите ли вы, что я имею право на эту сумму?
– Бери! – сказала она, бросив золото в его шляпу. – Я дала бы тебе вдвое, если бы ты только сказал мне, почему ты мне отказываешь услужить, явно не из боязни!.. Но, вот последний день, к кому мне обратиться?
– Ба! вы найдете здесь кого-нибудь; ваш гайдук, находящийся тут, за дверью, не имеет недостатка в плохих знакомствах. Что до меня касается, в другой раз, я весь к вашим услугам; но сегодня… ваш покорный слуга.
Он выпрямился, закутался заёмным плащом и вышел с важностью кастильского дворянина.
Глава тридцать третья
Покорность Кольфа подвергается тяжёлому испытанию, – Пощада новой фаворитке. – Она спасена своими собственными жертвами.
Предыдущие сцены не требуют много объяснений.
Маркиза Атенаиса, которую полагали обретающейся на границах Кланьи, не хотела держать около себя ни одной фрейлины, чтоб пользоваться полной свободой, и первым делом её было тайно покинуть свое убежище. Между тем как королевский поезд тихо продвигался в этом торжественном путешествии, из которого её исключили, она взяла экипаж-берлин, и не останавливаясь, перегнала двор в Дюнкерке, где она поместилась проворно, как больная путешественница, желающая спокойствия, в гостинице, в которой мы её и встречаем. Ее решение было впредь непоколебимо, препятствие, встреченное ею в отказе бывшего каторжника, только её подстрекнуло и раздражило. Смерть Марии Фонтанж была приостановлена; это было только вопросом времени и случая.
Но какое внезапное влияние произвело в уме Пьера Кольфа такую эволюцию?
Если и была на свете женщина, которую он ненавидел, так это новая королевская фаворитка.
Он не без основательных причин приписывал ей ужасную участь, постигшую его, и вследствие этого непрочное существование, которое он вынужден был вести.
Если он немного значил сам по себе, обстоятельства, благоприятствующие его дурным наклонностям, сделали из него опасного разбойника, всегда готового на самые дурные дела.
Он, конечно, был в Дюнкерке не для удовольствия, чтоб увидеть двор и придворных, а всё-таки он отказывался от самого выгодного дела, которое когда-либо могло ему представиться.
Вот что произошло.
В ту минуту, когда он хотел принять предложение, соответствующие его неприязни, некое сомнение, даже скорее воспоминание пришло ему на ум.
Если он ненавидел герцогиню, то был человек, которого он любил и уважал в равной степени; это был тот, который спас его от каторги и стал покровителем его ребенка.
Закоренелые злодеи имеют иногда такие контрасты и слабости.
Он велел передать Алену, через своего юнгу, о необходимости с ним поговорить, и молодой моряк, любопытствуя узнать, что значило это странное назначение свидания, отправился на встречу с ним. Цыган ждал его с нетерпением, всегда находя средства употребить свободное время с пользой.
На другом конце площади, он поставил часовым изобретательного Жано, безрукого и изувеченного во многих местах; сам же, сидя на корточках, представляясь настоящим калекой, просил милостыню у запоздалых верующих, выходящих из церкви, которую сейчас должны были запереть.
Ален его приметил.
– Это ты желаешь со мной говорить?
– Да, офицер, и я очень вам благодарен, что вы пришли. Но отойдемте немного в сторону, я вас задержу только на несколько минут.
– Это важное дело?…
– Иначе разве я осмелился бы вас беспокоить?… Вот, пойдемте-ка на эту сторону, там у меня часовой, который не позволит застать нас врасплох. Нас не должны видеть вместе, и я вижу по моим следам некоего типа, которого нам должно опасаться.
– Не имеют ли опять дурной замысел против меня?
– В настоящее время это другое дело и о другой особе идет речь.
– Я слушаю.
– Я не из друзей герцогини Фонтанж, а вы?
Как ни был приготовлен наш герой к самым странным вопросам этой личности, но этот последний произвел в нём содрогание; он оглядел своего собеседника сверху донизу.
– О! конечно, – продолжал бродяга, от которого не ускользнуло это движение, – я произвожу на вас человека нескромного, даже дерзкого.
– Не то; я знаю, что с твоей стороны все это серьёзно. Но я не ожидал этого вопроса. Зачем ты мне его задаёшь?
– Я буду откровенен и ясен, насколько это возможно; с вами я не имею задней мысли. Эта женщина была несчастием нас обоих; мне она разбила жизнь; вам она разбила сердце.
– Замолчи!.. замолчи!..
– В таком случае, остаётся или забыть или отомстить. Забыть! это легко сказать, и я желал бы видеть тех, которые так говорят!.. Что же касается до мести… Не восклицайте: я знаю, что вам предлагали средства и вы отказались.
– Что ты хочешь? Чего домогаешься?
– Я желал бы знать наверно ваши чувства в отношении неё.
– Я непременно требую, чтоб ты мне сказал зачем.
– Затем, что интересуясь вами, а не ей, я желал бы знать, как вы восприняли бы случившееся с ней несчастье.
Ален оставался внешне спокоен, но поглядел на своего собеседника испытующим до глубины его мыслей взглядом.
– Ба! – продолжал цыган. – Мы все смертны, и это лишь предположение… ничего другого.
– Не вздумай меня обмануть! – сказал молодой человек. – Я понимаю, что кто-нибудь имеет против неё пагубные намерения. Соучастие, от которого я отказался, ты принял его?
– Вы мне всё же не отвечаете.
– Речь идёт о совершении преступления, и ты пришел со мной посоветоваться?!
– Правда, я, может быть, сделал глупость; мне не надо было мешать этому делу; и вы узнали бы об нем после… Ах! что делать, таковы мы, негодяи, мы не имеем хитрых мыслей, как вы, кавалеры.
– Прежде, как и после, преступление – это всё же преступление, и мой ужас одинаков.
– Это не в том главное дело. Я знаю вашу деликатность.
– Но объяснишь же!
– Ей Богу, тем хуже, я приступаю! Что меня интересует, это знать – не как велико было бы ваше негодование, но насколько вы были бы огорчены, в случае, если бы случилось несчастье с особой, о котором идет речь… Вот ещё предположение – если эта особа вдруг завтра умирает, совсем естественно, будете ли вы её оплакивать? Видите, насколько я откровенен с вами; отвечайте мне также, и всё объяснится… Вы колеблетесь Я понимаю. Представьте себе, если это только возможно, что вы не с негодяем от нищенства говорите, но с преданным слугой, готовым пролить кровь за вас…
– Я тебе отвечу, как ты того желаешь, потому что я доверяю тебе, как слуге, о котором ты говоришь.
– Вот доброе слово, мой кавалер, и которое вам припомнится там вверху.
– Я люблю другую женщину.
– Хорошо.
– Я люблю другую, но всё же по странности, походящей на трусость, я и к первой не совсем равнодушен, и в гневе, который она во мне возбуждает, есть остаток нежности. Я не хочу о ней думать, я буду презирать самого себя, если когда-либо возвращусь к ней, но всё-таки, если бы с ней случилось несчастие, меня бы задело за живое и очень огорчило бы.
Дрожь его голоса выражала сколько одна эта мысль его огорчала.
Бывший каторжник посмотрел на него с состраданием, и сделал головой знак сожаления.
– Решительно, – сказал он, – я хорошо сделал, что решил с вами посоветоваться. Раз уже это вас так огорчило бы, то об этом нечего и думать. Будьте покойны, клянусь вам, что если случится какое-нибудь несчастье, я тут буду ни при чем… Причинить вам огорчение, мне!.. Нет! нет!.. Идите, и будьте покойны, кавалер, и благодарю вас за аудиенцию.
– Подожди! – вскричал Ален. – Мне недостаточно твоего отказа от соучастия в этом заговоре.
– Чего же вы ещё желаете?
– За неимением твоей помощи, прибегнут к другой.
– Вероятно, но тут уж я не могу помешать.
– Напротив; оказавшись на пути и, зная кто злоумышляет против герцогини, ты можешь следить за этим человеком; И мне надо, чтобы ты проследил! Ты мне предан, ты говоришь? Я этому поверю, если ты будешь за всем следить и помешаешь малейшей тени заговора.
– Это трудно!.. сделаться хранителем женщины, которой обязан всеми своими несчастиями! Но раз вы этого желаете… вам нет ни в чём отказа. Повинуюсь.
Они расстались и отправились каждый по своей дороге, в разные направления: кавалер к своим друзьям, Пьер Кольфа – к изувеченному Жано.
Этот разбойник, когда во что-либо вмешивался, имел удивительную честность.
Мы знаем, как он сдержал слово, отказав маркизе.
* * *
Программа празднеств представляла собой удивительное великолепие.
Корабль шефа эскадры преобразился в бальную залу; Ален Кётлогон, которому была поручена эта забота, сделал чудеса. Времени обеда хватило ему для этого волшебства. Корабль во всю длину сделался соперником галерей Версаля. Павильоны, трофеи оружия, знамёна составляли оригинальную декорацию. Мачты скрывались под лентами, ружейными пирамидами, пиками, искусно сгруппированными пистолетами, вершины которых украшены были свежими цветами.
Снасти были украшены вензелями их величеств, гирляндами, зеленью, остроумными девизами, лавровыми венками. Апельсинные деревья чередовались с грудами бомб и ядер; редкие и цветущие кусты возвышались над мортирами и пушками.
Все это представляло волшебный и новый вид, обладая кроме того прелестью новизны.
Имя импровизатора повторялось всеми, все его восхваляли; но он принимал участие в празднике со всевозможной скромностью, среди друзей и прекрасного и воодушевленного общества придворных и молодых дам, между которыми отличалось нераздельное трио трех фрейлин: Урания, Анаиса и Клоринда.
Мария-Фонтанж желала величия; она была им окружена, но с его неудобствами.
Те, которые её окружали, не были ей преданы, в почестях которых она начинала более не обманываться. Не раз, даже танцуя с королем, её озабоченный взгляд искал кавалера, который умел так любить и так это доказывал!
Полутрагическое приключение послужило средством, чтобы развеселить это знаменитое общество.
Люлли привел сполна все двадцать четыре скрипки, предвидя, что празднества не пройдут в одних пиршествах и разговорах.
В свою очередь муниципалы прислали городских музыкантов, уверявших, что они пришли не для того, чтоб сидеть сложа руки.
Первые смотрели с высоты своего величия на своих скромных собратьев, восставая против того, чтоб они играли, по самой простой причине, что они никогда не сумеют заставить танцевать герцогинь и маркиз, и приглашали их влезть опять на бочки с пивом, и заставлять вальсировать деревенских девушек.
Если есть на свете раздражительный народ, – это артисты, и в этом последнем числе уважаемая каста музыкантов. Дурные фламандские скрипачи, превосходящее их и числом и силой, чуть не истребили своих гордых собратьев, когда воодушевленной рукой и в такой позе, которой все инструментальные артисты привыкли повиноваться, Люлли протянул между бойцами свой дирижёрский жезл.
Порядок установился как бы по волшебству, и решили играть по очереди, по-братски.
Король и герцогиня первые от души смеялись над этой маленькой сценой. Что же касается королевы, она была принуждена удалиться с самого начала, по случаю нездоровья, на которое тогда не обратили особенного внимания, но которое было началом болезни, от которой она позже умерла.
Смех ещё продолжался, когда юнга Жан Кольфа, подойдя к Алену Кётлогону, осторожно передал ему записку. Молодой моряк открыл её и побледнел.
Отыскав г. Сеньеле, он ему сообщил это под большим секретом. Суперинтендент, чрезвычайно взволнованный, поспешил к королю, которому, после всех вступлений, которыми мог его снабдить придворный язык, он сообщил ему об этой записке дурного предзнаменования.[24]
Пьер Кольфа сдержал свое обещание: он открыл продолжение заговора, от соучастия в котором он отказался, и он уведомил кавалера об опасности, висевшей над головой фаворитки.
Теперь уже не посредством букета, но примешав острого яда в шербет, надеялись от неё избавиться. На этот раз план опять не удался благодаря бдительности двух человек, которых неблагодарная Фонтанж так жестоко оскорбила.
Глава тридцать четвертая
Заступничество госпожи Кавой. – Беда королевскому величию. – Наказание начинается. – Две кареты сталкиваются.
В то время как герцогиня Фонтанж два раза избегла, не подозревая того, яда смертельного своего врага, Луиза Кавой трудилась над планом, который, по её мнению, должен был вернуть её друга на путь истинный и возвратить счастье её двоюродному брату Кётлогону.
Приготовив её к серьезному разговору некоторыми намеками, она пришла к ней с утра, когда та была ещё в постели, и, сев около нее, поцеловала её и сказала:
– Вы свежи и красивы как роза. Этот цвет лица и эта грация должны были напомнить одному человеку, которого я знаю, очень счастливые дни.
– Г-ну Кётлогону? – переспросила герцогиня, выдав скрытное смущение.
– Можно подумать, что вы колеблетесь произнести его имя.
– Я? – никак. Он мне дал вчера доказательство своей преданности…
– Возбудив ревность короля; сознайтесь.
– Правда. Это благородный и честный молодой человек, и я никогда не скажу противного.
– И никогда достаточно не скажете; но, милая герцогиня, этого мало.
– Правда! Но что же я ещё могу сделать?
– Не шепчет ли вам кто-нибудь там? – спросила г-жа Кавой, положив руку на её грудь.
– Думаете ли об этом? – вскрикнула не без удивления Мария-Фонтанж. – Вы мне советуете любить вашего двоюродного брата?
– Ну что же! Прежде это вам не казалось так трудно.
– Милая Луиза… вы шутите.
– А вы, милая герцогиня, вы со мной не откровенны, или скорее вы не хотите довериться моей дружбе?
– Подумайте о моём положении, о моих связях.
– Я думаю об более серьезном, чем это, – продолжала убедительным тоном г-жа Кавой, которая была ей очень преданна: – о вашем счастье и о спокойствии вашей души.
– Вы думаете, что я не вполне счастлива и должна терзаться угрызениями совести?
– Милая Мария, мое расположение к вам делает меня прозорливой. Я наблюдала за вами вчера, когда Ален бросился в море, чтоб избавить вас от малейшего огорчения, прыгнул, рискуя жизнью… Слушайте, будьте искренны, вы были глубоко тронуты.
– Было чем. Даже самая равнодушная женщина была бы тронутой.
– Невозможно, чтобы после прежних ваших отношений, он сделался бы для вас совсем чужим.
– Милая Луиза, – пробормотала герцогиня, смущаясь под пронзительным взглядом своей собеседницы, – каковы ваши намерения? Чего хотите вы достичь этим разговором? Не знаете ли вы, что сближение наше с ним не возможно?
– Я вас спрошу об одном: изгладили ли вы из памяти некоторые прекрасные дни?
Фаворитка отвернулась, вздохнула и ответила:
– Г-н Кётлогон просил вас мне их напомнить?
– Нет, правда; это лишь мое расположение к нему и к вам.
– Тем хуже.
– Почему тем хуже?
– Ах! добрая Луиза, потому что ваше расположение делает вас слепой и вы не знаете гордый и решительный характер вашего двоюродного брата.
– Напротив, потому что я это знаю, я не сблизила вас одного с другим, потому что я отгадала, что вы к нему не совсем равнодушны, и что невозможно, чтобы полюбив вас до безумия, он бы вас более не любил.
Герцогиня тихо покачала своей белокурой и задумчивой головкой.
– Остановимтесь на этом, – сказала она; – повторяю вам, это невозможно.
– Тем больше будет мне заслугой этого достичь.
– Но разве вы не видите препятствий?
– Мы их преодолеем!.. Я следила шаг за шагом за вашим романом, и желала бы, чтоб развязка удовлетворила всех. Вы поступили во дворец с гордой душой, самолюбивой, жаждущей превосходства. Вы видели величие, и мечтали только его достичь, его превзойти. Ну! вы этого достигли, вы восторжествовали над всем и всеми; вы утвердили себе славу, первенство, вы получили благосклонность, поправ соперничество. Поверьте мне, не дожидайтесь, чтоб неизбежной переменой не потерять благосклонность и чтоб соперники вам не отомстили.
– Мы больше не понимаем друг друга: я думала, что вы мне советуете снова полюбить вашего двоюродного брата, а вы мне советуете сложить с себя сан.
Г-жа Кавой на минуту остановилась, стараясь вникнуть в смысл этих слов, которые указывали на пропасть между их мыслями. Она не понимала (хотя не возможно было быть понятнее) как фаворитка, изнуряясь страстью короля, не изнурялась наслаждением милостей, и что она согласилась бы, конечно, дать соперника монарху, но сохранив короля-солнце, через которого она сама была звездой, в звании любовника. В этом и упрекает ее хроника. Но г-жа Кавой не смотрела на вещи с таким развращением, а она сама испытывала влияние этой безнравственности, которая делала при дворе возможным и завидным сделаться мужем любовницы принца. При господстве нынешних нравов она не сомневалась, что кавалер с радостью примет руку герцогини, как только она прекратит отношения с королём.
Во все времена, если мы заглянем в истории, в самых высших областях самые гордые кавалеры гордились тем, что простой гражданин оттолкнул бы как бесчестие.
Докончить жевать плод, откусанный его величеством, – это неслыханная честь!
– Дорогая Мария, – продолжала г-жа Кавой, желая решить вопрос: – вы были невестой Алена, почему бы вам, вернувшись опять к нему, не потребовать снова этого титула и не стать его женой?
Неизъяснимая судорога пробежала по лицу фаворитки. В первый раз она почувствовала борьбу между притяжением, которое ей внушал кавалер и приманкой величия.
Она была создана, как все женщины; холодность, выказываемая ей Аленом, оживляла её прежние чувства к нему. Она любила его теперь, в особенности потому, что она поняла, что он больше её не любит. Но эта борьба была мгновенная.
– Ваша дружба к нему и ко мне вводит вас в заблуждение, – ответила она. – Ничего подобного не может быть. Не настаивайте.
– Вы хотите привести в отчаяние меня и его? Я бы с такой радостью вырвала вас из этой опасной и греховной жизни!..
– Нет! нет… Слишком поздно. Участь решена. Я не в силах переменить созданное мною существование, даже за любовь человека, которого я могла бы любить. Всякому свое призвание. Говорят, случай руководит всем; всё, что случилось со мной, заставляет меня этому верить. Да здравствует величие! Судьба вывела меня в знать; и это она не хочет, чтоб я сделалась женой скромного дворянина… Она сделала меня фавориткой, – фаворитка утешится то, что не может быть обычной прихожанкой сельской церкви.
– Итак, это ваше последнее слово? – спросила вздыхая статс-дама, которая в этом решении видела обрушение всех своих надежд.
Герцогиня подошла к ней, взяла её руки в свои, и со вздохом сказала:
– Мой дорогой друг, если б даже меня не так непреодолимо увлек вихрь, есть ещё две причины, препятствующие союзу, о котором вы мечтали. Я знаю вашего двоюродного брата лучше вас. Он из таких людей, на которых обхождение оставляет глубокие впечатления. Что наши версальские подлипалы приняли бы как величайшую милость, его гордость бретонца оттолкнула бы; поверьте мне, он никогда не будет мужем женщины, сердце которой билось для другого.
– Но король…
– Король ничего не значит для него, в сравнении с его гордостью. Вторая причина не менее убедительна: я удивляюсь, что вы, с вашей прозорливостью, до сих пор этого не заметили. Не только ваш двоюродный брат перестал меня любить, но он и сам любит другую.
– Вы ошибаетесь… я клянусь… – вскрикнула г-жа Кавой.
Но герцогиня Фонтанж продолжала не без некоторой горечи:
– По насмешливой игре судьбы, которой как вы видите надо верить, он любит Уранию де-Бовё, и он ею любим Мне достаточно было видеть их два раза вместе, чтоб убедиться в этом.
– Какой светлый взгляд!.. Я вспомнила действительно… Вы, может быть, отгадали верно.
– Я уверена в этом.
– Ну, нечего делать, закончила важно г-жа Кавой; вы прозорливее меня, и я очень плохой адвокат!
Герцогиня Фонтанж перебила её и с живостью сказала:
– Да верно! Я оттолкнула ваши переговоры, но я питаю живое участие к этому благородному кавалеру. Я ему дам, без того, чтоб он подозревал, что это через меня, доказательство сегодня вечером, – его назначение в капитаны подано для подписи королю.
– Хорошо!
– Вы же, дорогая Луиза, обратите туда свои заботы, которые вы предлагали мне. Урания д-Бовё состоит под непосредственной зависимостью от маркизы, а везде, где есть влияние этой женщины, – я боюсь!
– Что заставляешь вас так думать?
– Ничего верного; у меня есть предчувствие… это верно вследствие моего нездоровья; с некоторых пор это меня преследует… Мое влечение к удовольствиям часто только потребность, которую я испытываю, чтоб рассеяться и отогнать беспокойные мысли.
– Бедная Мария!.. Уже…
– Но оставимте это… Я слышу под окнами шум моей прекрасной коляски, мои нетерпеливые лошади становятся на дыбы; поедемте покататься по этому замечательному городу, это рассеет наши чёрные мысли, и мы вернем нашу веселость, чтоб сопровождать короля в его прогулке по морю, которая должна увенчать его удовольствия.
Вскоре они катили вдвоем по твердой мостовой улиц, приказав вести себя по тем, которыя вели к монументам и к валу.
Приближаясь к этому повороту ворот города, их пышный и открытый экипаж встретился с «берлином» самой незавидной наружности, который выезжал из города.
Проезд был узок; их кучер, с дерзостью, свойственной их касте, желал перегнать ту карету, отчего последняя получила сильный толчок. Испуганная женщина выглянула в дверцу.
Взгляд её встретился со взглядом катающихся, которые вскрикнули от удивления.
Но путешественница уже живо спряталась в глубь кареты, в которой она сидела одна, и её кучер ловко и быстро проехал ворота города.
– Это она! – сказала герцогиня, следя взором за таинственной каретой. – Обер-гофмейстерина здесь! Я это подозревала.
– Король приказал ей оставаться в Кланьи. Какое намерение заставило её нарушить это приказание? Вы правы, герцогиня; всегда и во всем надо остерегаться этой надменной женщины.
– И злой!.. – прибавила Мария Фонтанж. – Послушайте, – продолжала она в сильном волнении, от которого у неё побледнели губы, – вид этой женщины опасен мне в моем положении… Она принесёт мне несчастье.
Глава тридцать пятая
Пять поколений фавориток, – Самая хитрая из пяти. – Огорчения девицы де-Бовё. – Она его так любила!
По возвращении двора, маркизы больше не нашли. Её не было ни в Версале, ни в Кланьи, ни в Париже. Это всех заинтриговало и некоторые выражали свою радость, в надежде что она решилась оставить ложное положение и этим дерзким отъездом вздумала протестовать против поступков короля.
Герцогиня Фонтанж выражала это чувство г-же Ментенон, у которой она не проникла честолюбивых намерений, в другом роде, чем у обер-гофмейстерины.
Но вдова Скаррон обладала большей проницательностью. Игра, которую она вела с тремя фаворитками, Лавальер, Монтеспан и Фонтанж, была бы немыслимой, без постоянного изучения их темпераментов и характеров.
– Не доверяйтесь, прекрасная герцогиня, – сказала она неопытной и непроницательной Марии. – Маркиза скрывается, подобно птице, чтоб лучше наблюдать за добычей, которая показывается в ту минуту и там, где её менее всего ожидают, она ещё отважнее и смелее.
Мнение это было справедливо, потому что вскоре узнали, что обер-гофмейстерина в сопровождении одной только служанки и одного человека, поехала в Анжу посетить младшую сестру, игуменью де-Фонтеврольт.
Было ли это внезапным решением; была ли это просто фантазия, или потребность отдохнуть?
Может, это было важнее всего остального; опасение очутиться перед лицом соперницы, против которой она замышляла преступление, и желание побыть в стороне во время тайного следствия о приключении в Дюнкерке, порученного г-ну де ла-Реньи, начальнику полиции.
Нужно было одно руководство, одна нить, свидетельство Пьера Кольфа, доказательство присутствия Атенаисы в Дюнкерке, чтоб открыть полиции всё; но ни одного из этих показаний не нашли, и это следствие закончилось также, как следствие в Арсенале.
Г-н де-ла-Реньи объявил, что таинственное предостережение королю было просто клеветой, чтоб смутить празднество и обеспокоить короля, и следствие прекратилось.
Это объяснение быть может и не удовлетворило монарха, но дело это было так щекотливо, что он в душе боялся найти виновную и сделал вид, что удовлетворился. В ту минуту, когда менее всего ожидали возвращения маркизы, двор старался развлечь герцогиню, девица Бовё получила визит, который причинил ей инстинктивное опасение.
Это было посещение Жозефа, слуги маркизы; Жозефа был единственный слуга, сопровождавшей маркизу в Фонтеврольт. В ту минуту, когда Урании объявили его приход и желание её видеть, она находилась у г-жи Кавой.
Эта последняя, верная своему решению составить счастье своего двоюродного брата, узнала в своем последнем свидании с Марией-Фонтанж, что ей не на что было надеяться с этой стороны.
Если бы Ален и согласился, что было очень сомнительно, закрыть глаза на неверность своей невесты, эта последняя не была достойна такого кавалера ни по чувствам, ни по сердцу.
Урания, напротив, соединяла в себе все достоинства; её преданность, её любовь к молодому моряку, должны были сделать из неё совершеннейшую подругу.
Г-жа Кавой начала действовать сообразно.
Присоединившись к прекрасной партии, которая способствовала развитию и покровительствовала этому маленькому роману, она сделалось посредницей между фрейлиной и капитаном фрегата, – так как Ален был теперь уже капитаном.
Не обошлось без туч и беспокойства, паривших под этими соображениями.
Девица Бовё, по настоянию друзей, рассказала им про угрозы г-жи Монтеспан, ненависть которой к Кётлогону восставала против увенчания любви, которую она возбудила.
Сильный характер обер-гофмейстерины был известен и каждая из подруг поняла, что сопротивление будет жестокое. Но, далеко не падая духом, они условились ей противодействовать.
Урания одна не смела присоединиться к ним; знав маркизу короче, она лучше знала, чего можно было ожидать как от её дружбы, так и от её ненависти. Тем не менее её исчезновение, её добровольный секвестр в Фонтревольт придали ей храбрости.
Луиза Кавой передавала письма обоим влюбленными, все шло отлично, говорили уже о назначении дня свадьбы. Это было предметом разговора в ту минуту, когда объявили неожиданное возвращение Жозефа.
Это известие привело несчастную молодую девушку в ужас.
– Боже мой! – вскрикнула г-жа Кавой. – Что случилось, милый друг? что это за личность, имя которой вас так волнует?
– Это человек г-жи Монтеспан.
– О! о!
– Скромный и верный человек, очень мне преданный, и которого она не присылает ко мне без важных причин.
– Если он вам предан, этого уже довольно. Постарайтесь успокоиться; я вас оставляю, вы можете его здесь принять; уведомьте меня, когда вы захотите, чтоб я пришла. Но главное – никакого ответа, никакого обещания, пока мы не посоветуемся.
– Благодарю, благодарю; я чувствую, что никогда так не нуждалась в преданном друге и в смелой помощи.
– Будьте покойны, если хотят войны, мы готовы! А она не всемогуща, к счастью, эта милая маркиза! Ея царство кончилось… Поверьте, дитя моё, поверьте!
Она поцеловала её и удалилась в соседнюю комнату.
Слуга вошел.
– Какие новости принес ты мне, Жозеф? Но сперва, откуда ты приехал?
– Издалека, сударыня; но вы уже знаете, – из Анжу.
– Это обер-гофмейстерина тебя прислала?
Жозеф, не тративший много слов, сделал утвердительный знак.
– Что она поделывает?
– Она ослабевает!
– А! спокойствие ей не годится?
– Спокойствие! она умирала от него. Это шло хорошо в продолжении двух-трёх дней, благодаря развлечению и новизне: но вскоре она впала в припадки нетерпения и глухого бешенства; не зная кого винить, она винит сама себя; это невыносимо.
– И ты её оставил? – спросила молодая девушка, объясняя себе этим его посещение.
– Я бы очень желал, но она отказывается меня отпустить, и ради вас я остаюсь.
– Ради меня?
– Извините меня, сударыня, я думаю, что вам нужен преданный человек около неё.
– Объяснись, это серьезно.
– Ба! я не могу, я не умею выразиться. Но так как она часто произносит ваше имя и кавалера Алена в своих припадках, я подозреваю, что замышляется некое коварство против вас.
– Она тебя прислала?
– Конечно.
– Чего она желает?
– Вот письмо, которое вам объяснит, потому что на словах она мне ничего не сказала.
Урания дрожащей рукой распечатала конверт.
Он содержал одну только строку: «Маркиза Монтеспан будет ждать, сегодня вечером, девицу де-Бовё в Кланьи.»
Это было написано рукой обер-гофмейстерины.
Сухость и повелительный тон ужаснули молодую девушку.
– Твоя барыня, – сказала она, – назначает мне свидание, как бы отдавая приказ. Но, чтобы приглашать меня в Кланьи, разве она тоже вернулась?
– Мы приехали едва ли с час тому назад, в строгом инкогнито.
– Что означает эта таинственность?
– Непонятно для меня.
– Что она делала это последнее время?
– Занималась постоянной перепиской; гонцы приезжали и уезжали.
– И ты ничего не мог узнать от них?
– Невозможно, они даже не знали, кто их посылал. Со времени того ужина в Кланьи моя госпожа мне не доверяет; посылая меня, она не перестаёт наблюдать за мной.
– Что ты всем этим предсказываешь?
– Ничего хорошего.
– Я очень желаю не ехать на это свидание с нею.
– Не повиноваться ей!.. – воскликнул Жозеф. – Нет, я вам этого не советую!..
– Каким тоном ты мне это говоришь; ты верно её очень боишься?
– Больше, чем я могу это выразить. Лишение её милости раздражило её до крайности.
Он был прав, маркиза была в постоянной лихорадке; голос её имел звук и оттенки страшные, глаза её иногда метали искры, которые сожгли бы каждого, кто осмелился бы бороться с ней. Часто она говорила одна, сама с собой; тогда губы её искривлялись, и слова, ловимые украдкой, были страшны.
– Если бы не ради вас, – продолжал Жозеф, я бы волей или не волей ушел бы. Но ваше имя, которое она произносит также в минуты бешенства, меня удерживает; я боюсь, чтоб она вас не погубила в гневе.
– Всё-таки ты мне советуешь ехать на её зов?
– Да, потому что это средство узнать чего она желает, что она замышляет…
– Я поеду.
– Пойду доложить барыне; в семь с половиной часов карета будет вас ожидать у двери оранжереи. Мне остается только, по её совету, просить вас молчать об этом.
– Я узнаю, что мне делать. Иди, но узнавай все, что делает и думает эта женщина.
Слуга ушел, Урания поспешила рассказать г-же Кавой всё, что произошло.
Эта последняя не успокоилась, но она также, как и Жозеф, советовала юной фрейлине ехать в Кланьи, так как это было лучшее средство узнать все, так как маркиза, когда была раздражена, порой выдавала тайны.
Ранее девица Бовё выказала много доказательств твердости и достоинства, вряд ли ей нужны были в этом отношении какие-нибудь наставления.
* * *
Назначенный к отъезду час наступил, она нашла карету, карету хорошо ей знакомую, без гербов и вензеля.
Двадцать минут спустя, она была в Кланьи.
Владетельница поместья, такая любезная и внимательная прежде, не вышла ей на встречу. Она сидела в своей комнате, куда и проводил гостью Жозеф.
Не поцеловав ее, не протянув ей руки, хозяйка указала ей на стул, что, впрочем, было милостью, если не означало, что разговор обещал быть продолжительным, потому что эта надменная женщина, приравнивая себя королеве, не позволяла садиться при себе.
Даже в немилости, когда её решительно удалили от двора, в её гостиной находилось лишь одно кресло, её. Даже с самыми титулованными особами она принимала вид и тон королевы, не отдавая визитов никому, даже кровным принцам.
– Я послала за вами, – сказала она, – чтобы просить вас рассказать, что произошло в Дюнкерке.
– С удовольствием, madame, – отвечала девица Бовё, не смущаясь этим странным началом, хотя уже прошло много времени после этих праздников.
– О! Mademoiselle, эти праздники интересуют меня менее всего на свете; это не вещи, а люди меня занимают.
– Вы можете узнать в таком случае, madame, что все вернулись в самом лучшем состоянии, исключая её величества королеву, которую новый припадок слабости заставил уехать раньше конца празднеств.
– Я это знаю. Говорите мне об окружающих, об фрейлинах, об офицерах двора.
– Мне, решительно, нечего вам рассказать особенного, все наши кавалеры выказали себя в совершенстве, все наши друзья…
– Говорите мне о себе! – живо прервала её маркиза.
Фрейлина сделала. вид, что не понимает, чего она хотела.
– Я, как и все, – сказала она, – с большой радостью принимала участие в празднествах.
Атенаиса закусила губу.
– Вы сегодня непонятливы; я вас спрашиваю, как вы исполнили мои точные приказания перед отъездом?
– Ваши приказания, сударыня?…
– Да, mademoiselle. Вы смотрите на меня удивлёнными глазами. Разве я больше не обер-гофмейстерина двора его величества? Разве я больше не имею права вам приказывать, наблюдать за вами и требовать отчета в ваших действиях?
– Мое поведение, madame, не дает никаких оскорбительных предположений.
– Впрочем, mademoiselle, я знаю то, что вы так ловко скрываете. Вы не переставали, вместе с девицами де-Понс и де-Сурдис, и гг. де-Севинье и де-Ротелином, составлять интимную и нераздельную группу с г-ном де-Кётлогоном.
– Я не унижусь до лжи, мне нечего оправдывать поведение, в котором ничего нет достойного упрека; да, madame, я часто видалась с г-ном де-Кётлогоном.
– Я вам запретила.
– Советовав мне это прежде.
– Mademoiselle!.. – воскликнула почти угрожающе обер-гофмейстерина.
Она, впрочем, скоро успокоилась и продолжала холодным и повелительным тоном:
– Я имею на вас право не только по своему месту, но и от имени вашего семейства, которое передало мне свои права.
– Разве я, madame, совершила какое-нибудь преступление, достойное исключительной строгости?
– Не будем играть словами, mademoiselle; речь идет не о преступлении, но о важном неповиновении, могущем повредить намерениям против вас.
– Намерения?.. против меня?.. без моего ведома?.. – сказала m-elle де-Бовё, предчувствуя на этот раз дурное известие или коварство.
– Ваше семейство и я решили вас выдать замуж.
– Когда?
– Когда этого захотели.
– А если я этого не желаю? – гордо спросила молодая девушка.
– Надо будет, чтоб вы пожелали.
– Но, madame…
– Вам нашли выгодную партию, в которой титулы соединены с состоянием.
– Довольно, пожалуйста; эти подробности излишние; это не самолюбие, а мое сердце надо спросить, а моё сердце…
– Принадлежит моему смертельному врагу, я это знаю.
– Посмотрим, посмотрим, madame, объяснитесь и рассудимте, пожалуйста. Не вы ли меня познакомили с г-ном де-Кётлогоном? Не вы возбудили во мне эту любовь, против которой я сперва боролась, и, оценив, наконец, его достоинства, полюбила его? Любя его, я только вам повиновалась.
– Вы мне повинуйтесь, забыв его.
– Думаете ли вы серьезно, что это возможно? Тогда и вы меня так плохо знаете, полагая, что я меняю чувства по первому дуновению ветра? Нет, madame, нет!
Улыбка адской злости пробежала по губам обер-гофмейстерины.
– Вы не знаете, что говорите, – сказала она; – вам это докажут. Знайте, что я женщина, не способная оставить обиду или зло безнаказанным. При дворе, где самые гордые наступили мне на ногу, воображают, что я сделалась бессильна, и что я сложила с себя сан… Этими громовыми ударами я разубежду их. Знайте, что никто из тех, против кого я имею серьёзные неудовольствия и те, которые смело идут против меня, не останутся безнаказанными. Фаворитка не знает, что делает, и вы не выйдете замуж за г-на Кётлогона, так как он ей покровительствует, а еще, и потому что он мой враг. Что же касается ваших союзников и его, не надейтесь на их защиту; скоро им довольно будет своих забот.
– Что значат, наконец, все эти угрозы перед моим решением? – спросила девица де-Бовё, негодование которой поддерживало твердость.
– Вы поняли; я больше не повторю. Судьба со мной и за меня. Я вас прежде любила; в память этого чувства, я хочу хорошо вас пристроить.
– Против моих самых дорогих желаний.
– Против человека, который заслужил мой гнев.
– Не надейтесь получить мое согласие… я лучше брошусь к ногам короля.
– Если вы желаете погибели человека, к которому вы питаете такую глупую страсть, это средство приблизить ее, потому что я вам обещаю донести его величеству, что он был любовником его фаворитки, и что этот человек однажды подстерегал их в глуши лесов Марли, чтобы их обоих убить.
– Вы это сделали бы?
– Также спокойно, как я имею честь говорить вам.
– Но какое же у вас после этого сердце?
– Речь не идет об моем сердце, речь идет об моей ненависти… Приготовьтесь же, – кого хотят вам представить, это граф Савойский.
– Я его даже не знаю и не хочу его знать.
– Приготовьтесь, потому что, уверяю вас, если вы будете упорствовать, случится несчастье с г-ном де-Кётлогоном.
– С ним, несчастье?.. Что же вы осмелитесь сделать?
– Всё, чтоб помешать его счастью.
– Ах! вы отвратительная женщина!
– Я покинутая фаворитка, которая мстит.
– Мне!?..
– Нет, им. Вы на моей дороге, тем хуже, вы видите, я делаю неслыханные усилия, чтобы вас отстранить… Не противьтесь же моему желанию… Идите, подумайте об этом; мы вскоре увидимся.
– Кстати, – прибавила она, в ту минуту, когда испуганная m-lle де-Бовё хотела удалиться, – вы можете объявить о моём возвращении во дворце. Я думаю завтра принять свои обязанности.
Глава тридцать шестая
Коварство обер-гофмейстерины. – Разбитое сердце. – Вынужденное замужество. – Самая великодушная жертва.
Г-жа Кавой почувствовала сильный страх, когда Урания рассказала ей все подробности разговора с обер-гофмейстериной. Она её утешала, не выражая, что начиналась борьба, и что надо будет действовать хитростью и энергией, чтоб помешать дурным намерениям общего врага.
При дворе были недовольны возвращением прежней фаворитки, на которую не знали как смотреть, и которая злорадно радовалась замешательству, которое она производила.
Король, считая себя должным уважать женщину, пользовавшуюся так долго особыми преимуществами и от которой у него было много детей, был недоволен не менее других. Что же касается герцогини Фонтанж, беременность которой приближалась к концу, и которая была уверена этим ещё больше привязать своего любовника, она удвоила презрение, чтоб уничтожить свою соперницу.
Празднества, удовольствия начались с новой силой, Марли всё украшался, служа, любимым местом для удовольствий короля, между тем как здоровье королевы, видимо, ослабевало.
С последнего своего свидания с Пьером Кольфа, маркиза не сомневалась, что обладатель материального доказательства её посещения лаборатории отравителя квартала св. Якова был Ален де-Кётлогон, к которому цыган питал безграничную преданность. Можно понять, до какой степени эта уверенность усилила её ненависть к этому благородному молодому человеку, которого она не могла присоединить к своим дурным намерениям.
Одно утро, шпион, который привел ей Кольфа, вошел рано утром к ней, в Кланьи.
– На этот раз, г-жа маркиза, – сказал он ей, – я уверен, что имею в руках как раз того человека, которого нам нужно.
– Берегитесь, – сказала она, – не введите меня в повтор дела в Дюнкерке.
– О! я отвечаю за свою личность. Не каждый же день имеют несчастье нападать на совестливых негодяев; этот последний даже не подозревает ничего.
– Он знает в чем дело?
– Негодяй всё понял с первого слова.
– Я желаю, чтобы всё сосредоточилось между вами и им; не желаю больше иметь дела лично с ними.
– Лишь бы ему заплатили, он не заботится знать для кого он действует; этот негодяй такой философ, каких только можно найти на свете.
– Берегитесь, восторг – плохой советчик; заблуждаются, чересчур веруя, равно как в добродетель святого, так и в порочность убийцы.
– Почему, госпожа маркиза должна быть уверена, что я не выдал себя.
– Почему-то я думаю, что он будет дорого стоить.
– Конечно; он понимает, чего он стоит и ценит себя дороже.
– Это лишнее, ему заплатят.
– Он, впрочем, подвергает себя опасности. Принадлежа к товариществу бродяг, он должен придумать средство отказаться от их общества, избегнуть их наблюдений, чтобы действовать одному и совершенно поступить к нам в распоряжения.
– Тут, может быть, есть опасность.
– Для него, может быть; но не для нас. Эти разбойники имеют свои законы, которых они не могут нарушить безнаказанно. Тот, кто дурно поступает против их товарищества, немедленно будет осуждён, это непримиримое дело. Мой человек надеется этого избегнуть. Это его касается. Этот негодяй так любит деньги, что он двадцать раз рисковал быть повешенным менее чем за талер.
– Кончено, вы ему щедро заплатите, с одним условием, чтоб он был в вашем распоряжении. С этой минуты вы будете искать случая употребить его как можно скорее, и главное с пользой.
– Я уже имею на счет этого несколько идей, которые я буду иметь честь предложить госпоже маркизе.
– Сегодня поздно начинать разговор об этом, – сказала она. – Приходите завтра, пораньше, мы обсудим ваши планы, и я сообщу вам свои.
Она вынула из ящика кошелёк, полный золота, и, положив на столик, не унизившись отдать его из своих рук в руки своего агента, прибавила:
– Договоритесь с этим человеком.
Разговор прекратился.
Не взглянув на своего сообщника, который кланялся ей до земли, удаляясь задом, она повернулась к нему спиной, села к письменному столу и написала следующую записку:
«Г-н де-Савой приезжает завтра в Версаль; он будет иметь честь быть представленным девице де-Бовё от имени своего семейства. Все хотят этого брака. В интересах девицы де-Бовё надеюсь, что она любезно примет знаменитого кавалера, который просит её руку».
Фрейлина уже получила это требование, когда, вечером, она встретилась с обер-гофмейстериной у королевы, которой доктора прописали развлечения, но которой едва доставало сил сидеть в кресле и принимать почести окружающих.
– Mademoiselle, – сказала маркиза, – вы получили мой совет. Надеюсь, что вы согласуетесь с ним.
– К чему это насилие, madame? – ответила живо и энергичным тоном молодая девушка. – Вы знаете мое решение, ничто не заставить меня изменить его.
Злая, хорошо нам знакомая, улыбка пробежала по лицу Монтеспан.
– Я могла, – сказала она, – по просьбе вашего семейства, заинтересовать madame этим браком, которому не одна принцесса позавидует, и это у неё будет представление.
– И вы надеетесь, что я там буду?…
– Надеюсь.
– Лучше покинуть двор, чтоб похоронить себя в монастыре…
– Или чтоб бежать с любовником!
– Madame!..
– Берегитесь, за нами наблюдают.
– Что мне до того, разве вы меня вынуждаете?
– Приходите завтра, в двенадцать часов, ко мне в Кланьи, мы там докончим этот любезный разговор, который неудобно продолжать тут.
И самым любезным наклоном головы маркиза простилась с фрейдиной, чтобы, улыбаясь, присоединиться к группе, окружающей королеву.
Г-жа Кавой, которая следила за этой сценой, разговаривая с некоторыми дамами, подошла к своей любимице, как только она осталась одна.
– Что произошло, дорогая Урания? – спросила она ее. – Вы взволнованы?!
– Есть чем, эта злая женщина преследует свои намерения с дерзостью, которая приводит меня в смертельный страх.
В нескольких словах она рассказала ей свое положение.
Фрейлина подумала несколько минут и сказала тоном, выражавшим её опасение:
– Конечно, это важно; я тоже опасаюсь таинственного заговора, какой она знает устраивать, как доказано, она устроила такой против нашей бедной Лавальер. Очевидно, она привлекала на свою сторону madame и вероятно королеву; но, может быть, есть средство, я вижу там герцогиню де-Фонтанж, которая тоже не из числа её друзей, если обратимся мы к ней…
– Вы и в самом деле так думаете?!
– Почему нет?
– Но, дорогой и добрый друг, кроме того, что это усилит ненависть маркизы, герцогиню последнюю надо просить; подумайте, надо просить покровительствовать моему союзу с человеком, которому она изменила и которого она ещё любит!..
– Это правда; надо придумать что-нибудь другое!..
Согласитесь, придумать что-либо новое было не легко; почему на другой день, бедная Урания пошла к обер-гофмейстерине, не придумав ничего, одна и без другой защиты, кроме своего решения и любви.
На этот раз комедиантка переменила лицо и тактику. Она приняла ласковый тон и едва ли не бросилась на шею своей посетительницы. Она была в пеньюаре, в позе больной; лице её носило следы, если не слёз, то – бессонной ночи.
– Подойдите, – сказала она, указывая благосклонным жестом на табурет, стоявший вблизи её кресла. – Я вас ждала с нетерпением… – Садитесь же, – прибавила она, замечая нерешительность фрейлины.
Последняя медленно присела на кончик стула и молчала.
– Я всю ночь не спала, – продолжала маркиза; – и вы тому причиной.
– Я, madame?…
– Да, вы, неблагодарное дитя.
Горькая улыбка скользнула по бледным губам молодой девушки. Это был единственный её ответ.
– Я знаю, вы никогда не верили в искренность моих чувств к вам. Вы никогда их не ценили. Всё-таки я была и есть ваш друг. О! вы сомневаетесь еще! тогда даже, когда я только думаю устроить ваше состояние, спасти вас от опасности!.. Вы полагаете, что мне ничего не стоило принимать этот холодный вид с вами; отсоветовать вам брак, который я прежде одобряла? Бедное дитя, вы неопытны. Вы ничего не понимаете в жизни; живя при дворе, вы не знаете первого условия обыкновенной жизни… Вам кажется, что достаточно любви, чтоб обвенчаться, и всё кончено. Увы! отчего это не может быть? Но это не так бывает и, если бы я вас допустила до этого замужества, вместо того, которое устроило ваше семейство, я составила бы ваше несчастье.
– Позвольте мне, madame, не соглашаться с вашими доводами, которых я не понимаю.
– Хорошо, я вижу, что надо объясняться яснее. Хорошо!.. Я вас предупреждаю однако, что это государственные тайны, и что малейшая нескромность будет дорого заплачена.
Она выпрямилась, лицо её оживилось, глаза осветились мрачным огнем.
– Человек, которого вы любите, – сказала она, напирая на каждое слово, – совершил важные неосторожности; он дерзко осмеял высшее приказание.
– Ваше? – спросила Урания, углубляя взор на свою собеседницу с такой энергией, которая заставила бы опустить взор менее опытной заговорщицы.
– Пожалуйста, – сказала лицемерно маркиза, – не будем говорить обо мне; я и то слишком замешана в это дело своим участием к вам. Мое намерение – не насиловать, не угрожать вам, но, там, перед этим святым изображением, я клянусь, что если вы откажетесь от предлагаемой вам партии, если вы будете упорствовать в вашем решении, не на вас одну падут последствия; вы подвергаете г-на де-Кётлогона самым страшным опасностям…
Она поняла, что подействовала сильно. Девица де-Бовё под впечатлением этого предсказания, которое относилось не к ней, а к тому, кого она любила, вздрогнула и побледнела.
Бедное дитя вдруг вспомнило с ужасом первую встречу с кавалером, в ту минуту, когда король резко обратился к нему; она вспомнила его признание об ужасном чувстве, которое он испытал и которое чуть-чуть не повлекло его к страшному поступку.
Она вообразила, благодаря мучительным разговорам маркизы, что тут-то и была опасность, она представила себе Алена уже подверженным гонению свыше, которое никакая преданность, никакое влияние не могли отвратить. Она все-таки не хотела покориться и оставила своего врага, не сказав своего решения.
Выходя из комнаты маркизы, она встретила Жозефа который поджидал ее.
Достойный малый, с расстроенным лицом, таинственно подошел к ней, хотя они были одни, потому что в этом доме они оба знали, что стены имели уши.
– Что она вам сказала? – спросил он живо, с той фамильярностью, которую дозволяет критическое положение и которую оправдывает преданность.
Она ответила так же:
– Что надо отказать г-ну де-Кётлогону.
– И выйти за другого?
– Да. Ты и это знаешь?
– О! я и много другого знаю… – проговорил он, снова оглядываясь кругом, недоверчиво и со страхом.
– Что же здесь происходит?
– Дела, барышня, которые заставили бы меня давно уйти, если бы не моя преданность к вам, и по которым я однажды во что бы то ни стало уйду отсюда, раз и навсегда, и тем, кого вы любите, нечего будет больше бояться.
– Не можешь ли ты говорить яснее?
– В эту минуту, в этом месте? Нет, потому что, если эти стены дозволили мне слышать, они могут в свою очередь нас выдать.
– Наконец, что делать?… Боже мой! я с ума сойду… Ах! если бы это касалось только меня!.. Но он, это благородное, верное сердце!..
– Ну! для него, барышня, для него не колебайтесь. Я услыхал здесь, несколько часов тому назад, этот гнусный заговор. Эта фурия поклялась, что он никогда не станет вашим мужем; а если вы ему не откажете, то будут покушаться на его жизнь.
– Значит правда, эти угрозы, которые она осмелилась мне сказать?…
– Эти угрозы действительны. Если вы не согласитесь на брак, который она вам предлагает, если вы сегодня вечером откажете г. де-Савою, то г-н де-Кётлогон погиб.
– Он!.. Ален!.. Боже мой! я чувствую, что я схожу с ума!
Жозеф, опасаясь шума, какого-нибудь припадка отчаяния, увел её в комнаты, отдалённые от кабинета маркизы, где он знал, что их не смогут подслушать.
– Ну, говори мне, что ты знаешь, – спросила она. – Мой милый Жозеф, речь идет об самом дорогом для меня в жизни, ты говорил о заговоре?
– Да, барышня, заговор, угрожающий нескольким, как я понял, но главное – г-ну де-Кётлогону.
– И эта… эта женщина заправляет всем?
– Она. Конечно, я знал её способной на многое дурное, но не до такой степени.
– И они покушаются на жизнь кавалера?
– Примерный негодяй, её доверенный, её агент, условился с ней; они нашли, ценой золота, помощников, чтобы исполнить их намерения. Достаточно будет одного сигнала, одного приказания.
– Ах! что бы она не говорила, я пойду, я брошусь к ногам короля… Да, я осмелюсь.
– Нет! барышня, нет! потому что они это уже предвидели; вы погубите себя, не спася того, кого вы любите.
– Король меня услышит!
– Да, но он послушает тоже эту дьявольскую маркизу, которая имеет над ним необъяснимую власть; он, в особенности, послушает ее, когда она скажет, что г-н кавалер виноват в двух поступках оскорбления величества: во-первых за то, что был и теперь остаётся любим герцогиней Фонтанж, а потом тем, что заставил вас полюбить себя, в ущерб его величеству… Даже обыкновенные люди такое прощают не охотно, а короли такого не прощают никогда.
– Боже мой! Боже мой!.. – сказала она, схватив голову обеими руками. – Что я могу, что я должна делать?… Если бы только, пожертвовав жизнью, я устроила бы его счастье!.. Но я не имею даже этой надежды!.. Я могу его спасти, погубив себя и приведя его в отчаяние!.. Ну, ты умный человек, говори, советуй мне!
– Я могу вам дать только один совет, это покориться.
– То есть, выйти за г-на де-Савоя?
Жозеф молча опустил голову.
– Ах! – вскрикнула она, подумав секунду. – Если король несправедлив и глух, то есть другая такая же могущественная, как он, которая нас спасёт, если захочет… Это Мария де-Фонтанж. Луиза де-Кавой была справедлива, надо было обратиться к ней.
Она поспешила войти в карету, которая её привезла, не слушая замечаний своего доверенного, также взволнованного и ещё больше расстроенного, так как он знал про готовившееся преступление.
* * *
Фаворитка занималась туалетом, это было её самое важное дело.
Девица де-Бовё должна была употребить все усилия, чтоб дойти до неё. Минута была не своевременна; надо было, чтоб очень важные дела и недостаток времени заставили не дожидаться более удобной минуты; но день проходил, час несчастного представления приближался, ей некогда было разбирать.
– А! это вы, Урания, – сказала герцогиня самым холодным тоном. – Как вы вошли? Я запретила вход.
– Милая герцогиня, – сказала фрейлина, прогоняя впечатление, производимое на нее этим приемом, – речь идет о важном деле; мне необходимо, чтоб вы пожертвовали мне пять минут: не откажите мне.
Фаворитка взглянула на часы, она готовилась примерить новый туалет, который должен был ввести новую моду; она не скрывала своего нетерпения.
– Оставьте нас, – сказала она своим женщинам, – но не уходите далеко.
– Благодарю вас, – сказала девица де-Бовё.
Герцогиня Фонтанж не предложила даже стула своей прежней подруге, и сказала ей очень живо:
– Говорите, пожалуйста, вы же видите, как я тороплюсь; король ожидает большего эффекта от моего туалета… и вы понимаете…
– Милая герцогиня, – прервала её девица де-Бовё, – это именно короля вы должны просить об одном очень важном деле.
– Я, обдумали ли вы? Государственное дело, быть может; это будет первое.
– Будьте так добры меня выслушать; речь идет о моем счастье и, может быть, о жизни особы, которую вы некогда любили.
Лице фаворитки покрылось мертвенной бледностью и приняло ледяное выражение.
– Это о г-не де-Кётлогоне вы пришли меня просить?
– Да, – ответили скорее губы, чем голос бедной молодой девушки.
На что фаворитка ответила с ударением и выражением презрения:
– Не должны ли вам сегодня вечером представить г-на де Савоя.
– Именно это представление я пришла умолять вас предотвратить.
– А! – сказала гордая и бессердечная женщина, оглядывая её холодно с ног до головы, – вы тоже влюблены в кавалера.
– Это не тайна.
– И вы пришли меня просить, содействовать вашему браку с ним!
– Потому что вы ему отказали.
Двусмысленная улыбка скользнула по губам герцогини.
– Он вас любит?
– Конечно, меньше чем вас, но вас он старается забыть.
– Я огорчена, милая Урания, я ничем не могу помочь в этом случае.
– Вы мне отказываете?
– Да. Я люблю, чтоб обо мне помнили; это одна из моих слабостей.
– О, вспомните, что произошло в Дюнкерке.
– Я помню. Г-н де-Кётлогон старался меня уничтожить своим фальшивым великодушием, и доказать мне, что он имел больше успеха помимо меня.
– Как это так?!.. – воскликнула девица де-Бовё, будучи более не в состоянии скрывать свое негодование.
– Просите меня о чём хотите. Но я не чувствую себя на столько великодушной, чтоб бросить вас в объятия человека, с которым события меня разлучили, это правда, но которого я ещё люблю… С моего согласия, по крайней мере, он не будет принадлежать другой… Постоянно повторяли, так как плохая молва идет далеко, что я получила расположение короля только по вашему отказу; ну хорошо! Но вы, по крайней мере, не получите этого красивого джентльмена по моему отказу.
Фрейлина окинула её презрительным взглядом и сказала:
– Гордость должна была вас погубить; и она вас погубит. Вы могли бы одним словом, помешать моему несчастью и приобрести, если не любовь, то вечную благодарность великодушного сердца, которое вы отвергли. Злосчастное влияние, которое вы могли бы одним движением отвратить, парит над ним, но оно парит и над вами… Мы имеем общих врагов, и вместо того, чтоб поддерживать друг друга, вы нас приводите в отчаяние.
– Хорошо! – согласилась девушка. – Но что-то в глубине души моей шепчет мне, что вы сделаетесь жертвой прежде нас!
– Урания!.. – вскрикнула испуганная герцогиня.
– Прощайте, герцогиня; вы сделали из меня самую несчастную и разбитую горем женщину… Прощайте.
Гордая женщина вздрогнула, как бы чувствуя уже исполнение проклятия.
Она опустилась в кресло, где, по случаю усиления нездоровья от этой сцены, она почувствовала вдруг удушье.
Но вскоре, выпрямившись и со страхом оглядев себя в зеркале, она сказала:
– Боже мой! если король найдет меня менее красивой!..
Этой мысли достаточно было, чтоб вернуть ей спокойствие и поместить заученную улыбку на бледные ещё губы.
Глава тридцать седьмая
Две души, которые понимают друг друга. – Ужасная смерть первой из четырёх. – Несчастная брачная ночь. – Разбитый графин.
Урания де-Бовё должна была выйти за муж за г-на де-Савоя, это было, конечно, решено изначально. Представление произошло в кругу золовки короля Генриэтты английской, и программа предписанная обер-гофмейстериной по исполнению своих обязанностей была исполнена точь-в-точь.
Эта партия за г-ном Савоем не была достойна пренебрежения, далеко от этого, но он имел несчастие занять место любимого человека и не менее большую неприятность быть силою возведённым в ранг жениха.
Вечером, Урания написала Алену грустное письмо, в котором она объявила ему, что нечего более на нее рассчитывать, и в котором, не объясняя причин своего решения, и скрыв от него свои испытания, она просила его более не думать о ней.
Он не был обманут насчёт мыслей кроткой и благородной молодой девушки.
Вот ответ, который он ей написал:
«Не извиняйтесь, эта мечта была слишком прекрасна. Для вас лучше следовать вашему призванию; я же приношу несчастие. Я читаю в вашей душе яснее, чем в своей, которая часто подвергается борьбе, противоречиям и мраку. Нет, я не сержусь на вас; нет, я не проклинаю вас; у меня одно желание: будьте счастливы; у меня одно сожаление; что я не могу содействовать этому счастью. Оно никогда не будет так велико, как вы того заслуживаете и как вам того желает светский человек, который лучше всех умеет вас ценить».
Чтоб сделать разрыв непоправимым, маркиза поторопила свадьбу, которая праздновалась несколько недель спустя в Версальской капелле в тот день, когда Ален де-Кётлогон, получивший чин капитана, отправился в море и начал эту опасную и бурную карьеру, которая сделала его таким знаменитым[25].
Это должно было быть случаем больших празднеств во многих княжеских домах, и молодая, покорившись своей участи, и с сознанием исполненного долга, готовилась открыть бал, как в соседней гостиной раздались ужасные крики:
– Огонь!.. огонь!..
Это был огонь; но он пожирал не дворец, но живую жертву, Анаису де-Понт, обожаемого друга Генриха де-Ретелена.
Идя под руку с любовником, счастливая, сияющая, она приближалась к звукам оркестра, как пламя от свечи охватило её газовое платье.
Несчастный Генрих старался бороться с страшным элементом; своим телом, руками он старался потушить пламя, сам подвергался опасности, лишь бы спасти свою любовницу; другие молодые люди бросились к нему на помощь; жертва в страшных конвульсиях катается по ковру, подобно живой головне, потому что её движения усиливают огонь.
Наконец огонь потушили; уносят останки этой молодой девушки, минуту назад сиявшей красотой и нарядом; двух минут было достаточно; это уже безобразная масса, опухшая мумия, окровавленная, в которой жизнь проявлялась трепетанием груди и хрипением, которое призывало смерть.
Растерянные присутствующее покидают гостиные, в которых люстры освещают пустые комнаты; Генрих Ротелен следует за носилками, на которых борется в предсмертных муках его любовница; Клоринда, Шарль де-Севинье провожают и поддерживают его.
Это траур, это катастрофа.
Урания де-Бовё, молодая, отказывает утешениям и садится к постели своей подруги, от которой вскоре она получает последнее пожатие руки и последний вздох.
Так кончила, первая, одна из этих прекрасных фей.
Это событие произвело такое впечатление на герцогиню де-Фонтанж, что Фагон, царский доктор, предписал немедленно покинуть Версаль, и чтобы ей, во что бы то ни стало, доставляли развлечения. Её увезли в Марли, лето проходило, но были ещё прекрасные дни, и беременность её становилась всё тяжелее:, по мере приближения к концу доктора с общего согласия прописали ей прогулки пешком вокруг резиденции.
Она охотно покорилась, не смотря на испытываемую ею иногда усталость, которой помогали, заставляя следовать за ней лакея со складным стулом, который ставили везде, где она только желала отдохнуть. Она выбрала, наконец, приятную и полную зелени дорогу, вдоль реки, которая нечувствительно подымалась до подножия арки водопровода.
Так как её всегда сопровождала бесчисленная свита дам и кавалеров, место этого отдыха сделалось в роде живописного и красивого места свидания.
Однажды она увидала там переносную маленькую лавочку, придуманную одним промышленником, которому пришла прекрасная мысль воспользоваться этим местом.
Это был маленький человек дерзкой и хитрой наружности, одетый с изысканной чистотой, в белом костюме пирожника, предлагающий, самым благовидным образом, вкусный товар своей лавочки: пироги, сладкие пирожки, бисквиты, свежую воду, апельсинный лимонад и даже несколько сортов ликера.
Можно было подумать, что он – пирожник комической оперы. С первого же дня он приобрел огромный успех. За его товар, разобранный самыми изящными руками, было заплачено ему в пять или шесть раз дороже, чем он стоил.
Едва эти изящные покупатели удалились, как мужики, привлеченные любопытством, но которых почтение удерживало в отдалении, начали оспаривать остатки.
Между ними один гуляющий, иностранец в городе, потому что никто его не знал, покупая макароны, обменялся несколькими, впрочем пустыми, словами с торговцем.
– Вот хорошее место, друг.
– Да, господин, – сказал человек, по-видимому, придавая мало значения как ответу, так и вопросу. – Я желал бы, чтоб это повторялось каждый день.
– Ты можешь похвастаться, что угощал двор.
– Действительно, эти господа и прекрасные дамы удостоили купить мой товар; они разбирали мои пирожки и пробовали лимонад. Только мне кажется, одна герцогиня, которая себя нехорошо чувствует, ничего не брала.
Эти последние слова были сказаны с выразительным взглядом, устремлённым на иностранца.
– Ты будешь иметь больше успеха в другой раз, – ответили ему.
– Будем надеяться.
Затем покупатель заплатил за купленное им и ушел, за ним вскоре последовал и торговец, которому нечего было больше продавать.
На другой день, герцогиня направилась в другую сторону, или удовольствовалась прогулкой в парке.
Торговец все-таки был на своем месте; одобряемый успехом, он удвоил товар; но был почти в убытке, поскольку за весь день сделал лишь несколько незначительных продаж прохожим.
Его лучшим покупателем был вчерашний гуляющий, которого красота места опять привела в эту сторону. Небрежно подходя к продавцу, он велел подать себе стакан ликеру, и так как никто не мог их слышать, он сказал:
– Это будет ещё и не сегодня, маршрут переменили, не жди никого; оставайся всё так же на своём месте, как серьезный и настоящий торговец, и не теряй терпения возвращаться.
Затем, вместо того, чтоб положить ему монету на стол, он отдал её ему в руку, и торговец, лицо которого просияло, спрятал её в карман.
– Будьте покойны, господин, – сказал он, – вы имеете всё, чтобы вам добросовестно служили.
Действительно, он возвращался на своё место, под арку, следующие все дни.
На четвёртый день, наконец, герцогиня опять захотела вернуться туда.
Король, накануне, ужинал во дворце. Его величество был особенно любезен и внимателен. Благодаря строго исполненному приказанию, он во всё время пребывания ни разу не произнёс имени Анаисы де-Понс, и так как при дворе скорее всего и легче всего забывают, веселость вернулась во дворец; очень веселились и в Марли.
Правда тоже, что напрасно искали бы кого-нибудь из членов этой влюбленной и братски соединенной группы, душой которой была любезная и веселая молодая девушка. Г-жа Кавой даже избегала следовать туда за их величествами, девица де-Бовё, теперь графиня, уехала с мужем, но в глубоком трауре; что же касается Клоринды и Шарля де-Севинье, они старались утешить безутешного Генриха де-Ротелина.
Кроме них все остальные очень веселились в королевских резиденциях, потому что нужно было развлекать и веселить фаворитку; таково было приказание короля, согласно с предписанием врачей.
В этот день, эта высочайшая воля была исполняема с успехом; герцогиня и её маленький двор направились к аркам, живописной дорожкой вдоль реки.
– А! а! – сказала, смеясь, герцогиня, – вот знаменитый торговец леденцами, у которого вы так всё разбирали тогда; я в свою очередь хочу попробовать его товар.
Немедленно ей поставили стул, она села около лавки, и торговец, которого такая милость привела в смущение, начал предлагать самые лучшие лакомства.
Она довольствовалась маленьким пирожком; просила окружающих воспользоваться, что куртизаны и поспешили исполнить.
– Если бы я осмелился, герцогиня, – сказал тогда торговец, – заметить вам, что всякое самое лучшее пирожное может быть вредно для желудка, и я имел бы честь предложить вам стакан апельсинного лимонада, который я сохраняю в холоду.
– Почему бы и нет? Предложи, мой милый; у меня и так жажда.
Немедленно он взял хрустальный стакан, вынул из ведра под скатертью лавки графин самого привлекательного вида, заткнутого большим лимоном, а другой лимон, разрезанный на ломтики, придавал аромат свежей и сладкой воде.
– За ваше здоровье, господа, – сказала молодая герцогиня, – и если вам сердце говорит, угощайтесь тоже.
Она редко была так фамильярна и любезна даже с окружающими ее.
– Этот напиток действительно великолепен, – прибавила она, опустошив стакан.
Все наперерыв брали оловянные стаканчики, стоявшие на столе и протягивали к торговцу, чтоб наполнить их лимонадом.
Но он был в таком волнении, что резким движением, приготавливаясь наливать, он ударил графином об стол и разбил его. К счастью, были другие, менее свежие и холодные правда, хотя он уверял, что было одинаково приготовлено; все остались довольны.
– Это удивительно, – сказала герцогиня де-Фонтанж, вставая, чтоб возвратиться во дворец; – этот маленький отдых, это угощение и свежесть напитка меня, действительно, восстановили. Редко я себя так хорошо чувствовала.
Затем, все старались сказать ей какой-нибудь комплемент, восхваляя блеск её глаз и цвет лица, что было не воображение куртизанов; её глаза имели странное оживление и щеки её покрылись румянцем, что случалось редко.
Впрочем, торговец спешил уничтожить малейшие остатки разбитаго графина, приняв предосторожность бросить их в реку, чтобы, как он говорил, они не могли никого ранить.
Был ли это настоящий предлог такой заботливости?…
Глава тридцать восьмая
Человек, торгующий лимонадом и его покровитель. – Увядший цветок. – Смерть второй из четырех.
Как только благородные покупатели удалились, торговец поспешил убрать свои корзины и пустые бутылки, приготавливаясь уходить. Он торопился против обыкновения, и услужливая улыбка, запечатлённая до сих пор на его устах, незаметно сменилась более мрачным выражением, смешанным с нетерпением и страхом. Он немного просиял, увидав с противоположной дорожки, той, по которой недавно ещё шла любезная свита, особу, посещавшую его в предшествующее дни.
Этот последний с большей предосторожностью, чем когда-либо, выждал минуту, когда не было ни покупателей, ни гуляющих.
– Ну что же? – спросил он.
– Кончено, – ответил с такой же краткостью торговец.
– Она выпила?
– Все до капли. От меня зависело дать то же угощение всей её свите. Я было покушался…
– Несчастный!
– Будьте покойны, я предвидел, что это могло иметь последствия и обесславить моё ремесло.
– Ты что же, думаешь продолжать торговлю?
– О нет! это так было сказано, вы не понимаете шутки. С тем, что вы мне дадите, я хочу, напротив, уйти как можно дальше из этих мест, и начать ремесло честного человека.
– В добрый час… Вот должное тебе; уезжай, мы никогда не видались, и не узнаем друг друга, если случай заставить нас когда-нибудь встретиться.
– Благодарю, это условлено.
Человек удалился боковой и ближайшей дорожкой.
Торговец следил за ним с насмешливой улыбкой.
– Нет, господин, – сказал он в бороду, – мы не узнаем друг друга… если я не буду иметь интереса тебя отыскать.
Потом, с хохотом, он спрятал полученный им кожаный кошелёк к карман, который от этой добавки изрядно вздулся, и повез маленькую ручную тележку, в которой помещался его товар.
Также как и его покровитель, он выбрал ближайшую и самую пустынную дорожку.
Каково же было его удивление, когда по прошествии тридцати шагов, при крутом повороте, он заметил сидевшего на корточках у деревенского холмика с крестом, которые на каждом шагу встречались в деревне, что-то в роде нищего, съёжившегося, с деревянной чашкой перед собой для сбора милостыни.
Наш человек сделал гримасу неудовольствия; первое его движение было повернуть назад, и он конечно сделал бы это, если б не тележка. Что ещё более усиливало его опасение, это то, что нищий, вместо того, чтоб читать молитвы или петь псалмы, был недвижим и нем.
Притом нельзя же было долго оставаться так, он решился, наконец, приблизиться к кресту, вынул из кармана несколько лиардов, бросил ему в чашку и взялся за оглобли. При этом он вздохнул, думая, что отделался.
– Пст! пст… – сказали сзади его.
Он сделал вид, что не слышит, но это повторяемое воззвание заставило его остановиться и обернуться.
Нищий, завертываясь в лохмотья, протянул руку и глядел в чашку.
– Ты не слишком-то щедр для прежнего товарища, мой маленький Жано, – сказал он, вставая.
– Человек на костылях!.. – сказал Жано, узнанный в своем костюме пирожника.
Нищий, почти вдвое выше его, держал нераздельный с ним костыль, конец которого был обит железом.
– Кажется, твои дела поправились, с тех пор как ты украдкой ушел из нашего общества?
– Я хотел попробовать честной жизни. Авось это мне удастся лучше мне нищенства?
– Твое слово?
– Клянусь словом члена братства нищенства, – сказал разбойник, плюнув на землю, и сделал на том месте крест носком сапога.
– Бедный Жано, у тебя тут, кажется, даже образовался нарыв вследствие трудов праведных, – сказал его собеседник, открывая курточку, и показывая на выпуклость, образуемую мешком с золотыми.
– Именно, дружище!
== О! та!.. та!.. Надо полечить; начнем с кровопускания.
Он понимал это по-своему и протянул руку к нему, чтоб завладеть мешком.
Но Жано мигом сделался свиреп; он отодвинулся в глубь тележки и вынул нож.
– Не сметь! – вскрикнул он, – это мое добро; я хочу его сохранить.
– Боже мой! ты не видишь, что я хотел тебя испытать, негодяй?.. Ты не заметил, что я следил за твоими действиями?… Ты не подозревал, что я знал человека, который заставлял тебя действовать? Я всё знаю; тебе не нужно скромничать… Ты отравил герцогиню, и то, что ты прячешь, это награда за преступление.
– Почему ты это предполагаешь?
– Я не предполагаю, я уверен, потому что я отказался от этого предложения, я.
– А!..
– Давай деньги!
– Нет… нет!
– Берегись, я имею право над тобою, изменник братства нищества, – деньги!..
– Никогда! – воскликнул разбойник, отталкивая ножом руку, хотевшую завладеть его кошельком.
– А! Фальшивый товарищ! Искариот! – вскрикнул бывший каторжник. – Ты упрямишься!
Схватив его обеими руками со страшным движением, он нанес по черепу Жано такой удар своим костылем, что раздробил его на две части.
Дикий и глухой крик раздался из тела, которое упало окровавленное.
Без малейшего волнения Пбер Кольфа нагнулся, отстегнул карман и преспокойно спрятал его под свои лохмотья.
После чего, бросив взгляд отвращения на труп, прибавил:
– Вот один, которому не удалось дело.
После этого надгробного слова, он ушел самым спокойным шагом, как честный нищий, которому совесть ни в чём не упрекает.
Начальник нищенского братства действительно произвёл акт правосудия. Жано, изменник своей шайки, совершил ужасное и зверское преступление.
Хорошее самочувствие герцогини вследствие отдыха у арки вскоре прошло.
Ночь она провела беспокойно, в лихорадочном состоянии, опасаясь преждевременных родов, послали за доктором, который объявил, что ничего не понимает в этом припадке, и своими заботами отвратил катастрофу.
Но с этой минуты здоровье фаворитки ухудшилось, силы её ослабевали и – самое ужасное явление – красота исчезла, как красота розы, подточенной червяком.
Это был ужас при дворе.
Король, впрочем, видел в этом минутное затмение этой прекрасной красоты. Он объяснял это, согласно с докторами, положением его милой герцогини: в двадцать лет не переходят так внезапно от красоты к престарелости.
Она сама себе это повторяла, чтоб успокоить себя против открытий зеркала; но минутами она чувствовала страшные спазмы, не имеющие ничего общего с её положением, но которые делали его опасным, и наконец, внезапные обмороки. Ужасная перемена происходила в её организме, которой она никак не могла понять, – так она была внезапна и не чувствительна.
Это ослабление одинаково отразилось как на физическом, так и на моральном плане, и выразилось общим расслаблением мыслей.
Это накатывало одно за другим и без причин – обмороки, отвращение, скука, потом содрогания, внезапные желания, невозможные капризы, которыми она насильно привязывалась к действительным вещам.
Однажды, уже были последние хорошие дни, она велела устроить празднество с музыкой, иллюминацией, угощением на острове, находящемся против дворца, среди Сены, под огромной плотиной, которая служила знаменитой машине.
Король приехал туда сам и для этого случая острову, избранному для празднества, дали имя одной из пьес Мольера: Волшебный остров.
Генрих Ротелен поехал в провинцию завершать траур по Анаисе де-Понс, но Шарль де-Севинье должен был присутствовать на этом параде, также и Клоринда де-Сурдис и г-жа Кавой. При дворе не любят ни скучных лиц, ни долгих сожалений.
Для короля привели гондолу, преподнесенную ему дожем Венеции; другие приглашенные запаслись барками и лодками, которые по случаю изящно украсили.
Сена, покрытая этой флотилией, представляла самый оригинальный и веселый вид. Музыка, пёстрые обойки, флаги всех цветов с вызолоченными кончиками, блестевшими на солнце, туалеты пассажиров и гребцов, всё способствовало волшебству. Большая часть из гребцов были дворяне царского дома, молодые офицеры, любезные кавалеры и с прекрасными манерами.
Фаворитка сама испытывала чувство удовольствия, выражавшееся на её лице улыбкой, напоминавшей осеннее солнце, которое освещало это веселье.
Шарль Севинье, который выучился у своего друга де-Кётлогона мореплаванию, правил сам и один прекрасным челноком, легким, как скорлупа от ореха, но не менее быстрым, в котором Клоринда и г-жа де-Кавой, доверявшиеся его ловкости, сидели на корме одна подле другой.
В восторге от его искусства, они качались на волнах, аплодируя его эволюциям, когда он догонял другую барку, и его силе, когда он её перегоняла, но иногда они очень наклонялись, так что их пальцы касались воды.
Вдруг одна барка держала пари достигнуть первой известной цели. В ней сидели тоже две молодые женщины, и правил ею тоже моряк, друг Шарля, желающий отличиться перед глазами своих дам.
Эта регата немедленно началась с таким увлечением, которое вызвало интерес и аплодисменты; до третьей части плавания это было триумфом для обоих гребцов, шедших ровно.
Но Севинье, желая непременно перегнать, и так как ему загородили дорогу несколько барок, не успевших отплыть в сторону, чтоб обойти их, сделал резкое движение и уронил одно весло.
Необдуманным движением, чтоб его поймать, он ужасно наклонил барку; обе испуганные дамы последовали тому же направлению, вместо того, чтобы сделать перевес; челнок опрокинулся килом кверху, и все трое упали в воду.
Все взоры были устремлены на них; все издали страшный крик.
Севинье умел плавать; он вскоре всплыл, но чтоб нырнуть опять с толпой моряков, поспешивших к нему на помощь, отыскать обеих подруг.
Г-жу Кавой вскоре вытащили и положили на землю, где вскоре она пришла в чувство.
Клоринды же всё не было.
Пять смертельных минут прошли, её всё не находили.
Все перестали дышать; все следили испуганным взором за усилиями моряков, все они оказывались тщетными.
Ещё три минуты прошли – и нет её!
Прошло около десяти минут, когда Севинье, с отчаянными усилиями, показался вдруг между двумя барками, придерживаясь одной рукой, а другой оспаривая у волн тело своей любовницы.
Их вытащили обоих и посадили на барку.
Он немедленно потерял сознание.
Одну минуту думали, что они оба лишились дыхания; может быть, так было бы и лучше, потому что должен был выжить один – и в каком отчаянии!..
Клоринда умерла, умерла от воды, как её подруга Анаиса от огня.
Решительно, траур при дворе всё увеличивался, и когда Шарль де-Севинье и Генрих де-Ротелин несколько дней спустя встретились, они бросились в объятия один другого, вспомнив ужасныя предсказания отравителя, и спросили.
– Теперь за кем очередь?
Глава тридцать девятая
Кратковременное царствование, – Разбитый идол. – Монтеспан и Ментенон сиделки.
Это событие произошло за несколько дней до родов герцогини де-Фонтанж, которые вследствие этого были очень тяжелы.
Она произвела на свет слабого ребенка который тотчас же был пожалован титулом принца, потому что не могли для неё сделать меньше, чем для Монтеспан.
Ея силы изнурились до такой степени, что ей опротивели эта пышность, это тщеславие, эта власть, которая была её стихией. Она просила удалиться для поправления здоровья в Порт-Рояль, на что Людовик XIV, все более и более подчиняющейся влиянию m-me де-Ментенон, немедленно согласился. Увы! бедная девушка служила для его величества кратковременной игрушкой, которую бросают и забывают, как только она теряет свой блеск. Ея враг мог бы избежать напрасного преступления. Царствование этой красавицы имело заранее назначенный период. Король любил в ней не женщину, но наружность, и он покинул бы её, раз красота её прошла. Красивая и очаровательная Мария де-Фонтанж не существовала более; это были одни развалины.
Рассказывают, что король, такой пристрастный к красоте, посетив герцогиню в Порт-Рояле, и найдя её в постели, был так огорчён опустошениями, произведёнными непонятной болезнью, что не мог сдержать слез. Именно тогда несчастная девушка произнесла эти слова, повторяемые всеми историками:
– Я могу умереть спокойно, мой король меня оплакал!
Утешений, ободрений, посещений не было недостатка; но ничего не помогало, Фагон приходил в отчаяние от этой болезни, упорствовавшей перед его трудами и смеявшейся над наукой.
Из всех посетителей одна душа была действительно сострадательна: ею оказалась кроткая Лавальер. Это её больная принимала с большим удовольствием. Они понимали друг друга и никогда не ревновали одна другую.
Но Монтеспан и Ментенон, перемогая друг друга в лицемерии, не преминули изредка посещать Порт-Рояль, принимая вид самого нежного участия, между тем как в действительности они приезжали только для того, чтобы убедиться, долго ли ещё будет их соперница бороться со смертью.
Она действительно боролась: жизнь в эти года так щедра, – а ей едва минуло двадцать лет, – катастрофы, подействовавшие на её беременность, огорчение потерять красоту, и самое главное, неумолимая болезнь боролись с натурой.
Год 1681 начался, совершенно отличный от прошедшего, Флешье не мог сказать королю знаменитой речи о славе и великолепии его царствования; при дворе продолжался траур.
Интриги увеличивались и страшное соперничество царедворцев волновало и беспокоило двор. Впрочем, посетители не забывали бывшую фаворитку. По странному стечению обстоятельств, которое могло быть не удивительным, однажды три коляски подъехали одна за другой к знаменитому монастырю, без соглашения, но просто случайно.
В первой приехала монахиня общества Милосердия, та, которую называли сестра Луиза, та, которая прежде носила название Parjum de Yiulette, m-lle де-Лавальер.
Эта была бескорыстный ангел-утешитель, она уже имела долгие беседы с больной, которая находила в них утешение и отраду.
Но в этот день, они не пробыли ещё четверти часа вместе, как приехал их дурной гений, женщина погубившая их обеих, Монтеспан.
Принимая лицемерный вид, она, казалось, принимала живое участие, которому, впрочем, никто не верил, но её продолжали принимать, по примеру короля, которому пока ещё не доставало духу дать ей окончательную отставку. Зачем она приехала к этой умирающей? Вероятно, не зачем более, как только увидеть успехи болезни, настоящую причину которой знала она одна.
Влияние, которым завладела эта женщина, беспримерно; одна только равносильная интриганка Ментенон могла иметь с ней дело.
Ея появление внезапно переменило дружеский разговор, но она имела живое воображение и дар слова, которые не давали ей теряться.
Она говорила с Лавальер об её детях, самый интересный предмет разговора для неё; давала советы Фонтанж о воспитании её сына, и о способах укрепить его слабое здоровье.
Сестра привратника вошла в сильном волнении, объявляя:
– Король!
Эта редкая и неожиданная милость возвратила больной оживление, которое её все более и более покидало.
Лавальер хотела удалиться, маркиза, которая должна была бы последовать её примеру, и которая радовалась возможности присутствовать при этом свидании, удержала ее. Спор был непродолжителен, Людовик XIV вошёл, – его сопровождала г-жа Ментенон, – эта последняя, узнав о его намерении, кротко выразила желание посетить эту милую герцогиню!
Счастье от этого посещения её знаменитого любовника было странно отравлено для больной её окружающими.
Людовик XIV, который к ней ничего более не чувствовал, и которого, напротив, очень бы стеснило это свидание наедине, был в восторге. Он любил эти посещения своих прежних друзей; несколько раз, он ездил в Валь-де-Грас, настаивая, несмотря на её сопротивление тому, повидать Лавальер.
В этот день он был рад очутиться среди четырех женщин, имевших над ним большое влияние.
– Я приехал, милая герцогиня, – сказал он, садясь около кресла, в котором сидела больная, – во-первых вследствие скуки, испытываемой мною, не видав вас целый месяц, и потом, пользуясь прекрасной погодой, я узнал, что Фагон должен вас сегодня посетить. Я хотел присутствовать при консультации. Мое внушение очень счастливо, так как я нахожу вас в таком хорошем обществе. Но я вижу, этот Фагон запаздывает; что он делает?
Он не докончил, как сестра-привратница, исполнявшая в общине должность швейцара, появилась, объявляя о приезде доктора.
Фагон не был ни куртизаном, ни грубым человеком. Он имел право говорить откровенно и пользовался своим влиянием на августейшего клиента, только чтоб делать добрые дела. Он не колебался опоздать на консультацию к богатому, чтоб подать помощь бедному. Людовик XIV вполне ему доверял, и он совершенно оправдывал это доверие.
Он взошел серьезный, мрачный и, едва кланяясь государю, тотчас же занялся с герцогиней.
– Что за человек! – сказал улыбаясь король; – он заставляет меня ждать, и не доставало немного, чтоб я первый ему поклонился.
Тот услыхал, и не оставляя своих наблюдений, ни пульса больной, сказал:
– Извините меня, ваше величество, я доказываю свое уважение вашему величеству, исполняя свою обязанность.
– Исполняйте, исполняйте, мой милый доктор, – возразил король, – где есть больные, там распоряжаются доктора.
– И приказывают?.. – спросил Фагон.
– Да.
– Ну хорошо, ваше величество, если б я смел просить вас…
– А! Это уже лучше, и заранее исполняю.
– Чтоб ваше величество, – продолжал Фагон, не оборачиваясь и не оставляя своих наблюдений, – оставили меня одного, на три минуты с герцогиней; мне нужно сделать несколько исследований… наконец это необходимо… и крайне нужно.
– Мы уходим, мой друг, мы все здесь желаем добра нашей дорогой герцогине; мы не хотим мешать вам… Мы будем там, вблизи… Приходите скорее и главное приносите хорошее известие о её скором выздоровлении.
– Надеюсь! надеюсь!.. – сказал знаменитый доктор тоном, выражавшим скорее волнение и нетерпение, чем убеждение и надежду.
– Пойдемте, mesdames, – сказал король, подавая пример.
Все четверо вышли на цыпочках; озабоченность доктора сообщилась и им.
– Этот Фагон меня пугает своим тоном, – сказал Людовик XIV. – Разве этот ребенок так болен?
– Действительно, – сказала г-жа Ментенон, – я нахожу, что она страшно изменилась… Бедная герцогиня, так молода и недавно ещё была так красива!..
– Никто её не узнал бы, – сказала маркиза, – вот что значит красота!..
– Да, – сказала Лавальер, – блага сего мира непрочны; надо надеяться только на блага свыше.
Этот разговор не мог отогнать облака с лица короля. Он несколько раз приподнимался, желая встать с кресла.
– Этот Фагон приводит меня в смертельный страх, – проговорил он.
Этот последний пробыл не больше, чем просил. Он вышел ещё бледнее, тщательно запер дверь к больной и глядел на знаменитое собрание глазами, которые, кажется, ничего не видели, хотя зрачки имели необыкновенный блеск.
– Говорите, – сказал король, – тут никого нет лишнего, я полагаю; если это несчастье, мы к тому приготовлены.
– Всемилостивейший государь, – ответил Фагон дрожащим голосом, – это хуже, чем несчастье. – Он остановился, потом решительным тоном докончил: – Это преступление.
Все три женщины издали крик ужаса; г-жа Ментенон и Лавальер продолжали, задыхаясь, вопрошать испуганным взором; маркиза, выказывая сильнейшее волнение, спрятала лицо.
Король вдруг вскочил и, взяв за руку Фагона, приказал:
– Доканчивайте.
– Это ужасная история, всемилостивейший государь, один из этих заговоров, так хорошо умышленных, что зачинщики находятся вне всяких подозрений и свидетельств, но Провидение бодрствует.
– Вы меня томите… Факт! Факт!
– Факт? Государь… Ну! болезнь, изнуряющая герцогиню де-Фонтанж, это не огорчение, ни потрясения во время её беременности, ни последствия этой последней, – это яд.
Во второй раз, все три женщины вскрикнули от ужаса, что же касается короля, он, оледенелый от ужаса, машинально взглянул на маркизу Монтеспан. Впрочем, никто этого не заметил, не до того было.
Людовик XIV, трепещущий, как разбитый бросился в кресло, и проговорил в полголоса:
– Продолжайте, я хочу знать всё, всё!
– Я говорил о Провидении, государь, ваше величество, можете судить, что, если не оно руководило всем. Три дня тому назад некий нищий, известный негодяй, один из грозных начальников преступного сообщества в Париже, был арестован в ту минуту, когда он хотел убить агента полиции, который узнал в нем беглого с каторги. Этот человек, имя которого, кажется, Пьер Кольфа, немедленно приведенный в Шателе, явился перед судьей, который за его поступок объявил ему, что его ожидает веревка. Его предыдущие проступки заставляли опасаться попыток к бегству; приняли все предосторожности, и он чувствовал, что погиб.
Тогда, отказываясь вести разговоры с тюремными служителями, которым поручено было выведать у него какие-нибудь показания, он объявил, что у него только одно показание, но такое важное, что он сообщит его только г-ну де-ла-Рейни. Этот последний, понимая, что это показание от такого великого преступника должно быть весьма важно, пошёл к нему в яму. Перед этим великим судьей, с уверенностью, свидетельствовавшей о важности секрета, Кольфа сказал:
– Милостивый государь, что я хочу вам сообщить – это тайна государства, и вы поймете сами, если вы должны объявить это кому либо кроме короля… я знаю причину болезни герцогини де-Фонтанж. – Настойчиво побуждаемый докончить, он продолжал: – Я докончу, если только вы мне дадите честное слово дворянина выпросить мне помилование, в случае если доктор его величества убедится, что я сказал правду. – Нельзя было колебаться: генерал-лейтенант обещал, и преступник докончил свое показание.
– Что он сказал?.. – вскрикнул король. – Я хочу это знать, я хочу всё, всё знать.
– Он рассказал, что герцогиня выпила яд во время прогулки к аркам в Марли; его ей предложил фальшивый торговец лимонадом, дорого подкупленный неприятельской рукой, который подсыпал яд в напиток.
– О Боже мой! о Боже мой!.. – вздохнул Людовик XIV, подымая испуганные глаза к небу.
Г-жа Монтенон и Лавальер не дышали, с ужасом слушая каждое слово, маркиза Монтеспан, сидя на стуле, согнулась вдвое, и закрыв лицо руками. Кто мог бы её видеть, нашел бы её зеленой, синеватой.
– Надо будет найти этого негодяя! – сказал король.
– Невозможно, ваше величество; Пьер Кольфа объявил, что он сам его убил после его преступления, чтоб завладеть полученным им золотом.
Вздох неприметного облегчения вырвался из груди маркизы.
Фагон продолжал:
– Но главные виновники, подстрекатели преступления за то не укроются.
При этих словах маркиза переменила позу и, открыв страшно изменившееся лицо, устремила на доктора глаза, от волнения окруженные темными кругами.
– Имена этих несчастных! – спросил король.
– Тот, кто доставил яд, давно находится под наблюдением полиции: это преемник Вуазен некто Жак Дешо, живущий в квартале Сен-Жак де-ла Бушери.
– А кому он дал этот яд?
Фагон собирался с мыслями, его глубокий взор встретился со взором маркизы и он бросил на нее такой взгляд, что она согнулась, чуть не упав со стула.
– Ваше величество, – продолжал доктор, – это дело г-на де ла Рейни сделать это открытие. Жак Дешо арестован два часа тому назад, он на пути в Арсенал, куда соберётся вся палата…
Король следил за взглядом Фагона и заметил движение обер-гофмейстерины.
– Благодарю, – сказал он, лихорадочно сжимая руку доктора.
Потом обращаясь к маркизе, ледяным тоном сказал:
– Madame, эта сцена очень вас взволновала, я уполномочиваю вас удалиться.
Она повиновалась, не смея поднять на него глаз и вышла, шатаясь.
– Ах! – вскрикнул тогда король, схватившись за голову обеими руками, – я так несчастлив!.. Меня, впрочем, два раза предупреждали, я должен бы это предусмотреть… Мой милый Фагон, – продолжал он, после нескольких минут томления, которое никто не решился прервать, – будьте откровенны как всегда, спасёте ли вы это несчастное дитя?
Этот достойный человек сделал головой знак отчаяния.
– Боже мой! Боже мой!.. – повторил король и прибавил: – А мой сын, это несчастное невинное создание?
– Я не хочу обманывать ваше величество… Если б я знал раньше про это зло, я попробовал бы противиться ему, как бы ни был силён яд, но теперь слишком поздно, и ребенок всосал уже злополучный зародыш из груди матери.
Лавальер плакала; г-жа Ментенон, более твердая, подошла к королю, взяла его за руку и этим тоном, имеющим силу его сильно трогать, сказала:
– Будьте мужественнее, ваше величество; вы не имеете права предаваться горю; правосудие ждет вашей речи; небо приказывает быть твердым.
– Хорошо!.. Вы должны мне помочь…
– Я, по крайней мере, постараюсь, – сказала, она скрывая свое торжество под строгостью осанки.
С этими словами она увезла его, и великодушная Лавальер вернулась к больной одна.
Глава сороковая
Еще, все яды. – Безнаказанное преступление. – Смерть третьей из четырех. – Наказание.
И ещё раз Людовик XIV обязан был лично заняться этим делом об отравлении, которое было одним из внезапных страхов второй половины его царствования, и как бы предвестием упадка, последовавшего за таким величием. Не говорят, чтобы он поступил до того предосудительно, что призвал к себе Жака Дешо, но этот поступок был бы, может быть, очень умен, во всяком случае, дело этого злодея производилось с страшной строгостью, и у него вырвали страшные признания о распространении его отношений и характере покупателей.
Так начиналось дело Вуазен и Вигуре. Между его сообщниками он указал на некого Бре, простого мужика, пастуха в Венсене, который исполнял в деревне то же, что он в городе.
Эта гнусная чета поставила отравление близко ко всякому; они имели установленные тарифы, доказывали ясными действиями и существенными доказательствами, что искусство отравления не шло дальше, чем его усовершенствовали производства Экзили, одного из самых знаменитых их предшественников; маркиза Монтеспан ускользнула от этого дела, как и от дела Вуазен. Слишком могучие силы ей покровительствовали, чтоб возможно было свидетельствовать публично против неё.
Достоверный процесс, если б кончился объявлением невинных, достиг бы до королевского достоинства. Сама камера Арсенала, такая страшная, такая могущественная, должна была уклоняться, закрывать глаза, а в особенности уши, потому что ропот общественного мнения весьма возвысился, и брошюры, и газеты, печатавшаяся во Франции и за границей, долго печатали в тысячи экземплярах обвинение, которое правосудие не смело обнаружить.
Впрочем, кое-кто держал в руках погибель этой надменной женщины; Ален де-Кётлогон обладал существенным доказательством её подозрительных сношений с Фабрикантом ядов. Но Ален был далеко, и если б даже был тут, то перед лицом непоправимой катастрофы, он не сделался бы доносчиком в виду бесплодного наказания.
Жак Дешо узнал по симптомам, что молодая герцогиня сделалась жертвой медленного и острого яда; к нему пришли, по приказанию короля, предложить помилование, если он даст противоядие.
Негодяй имел, по крайней мере, настолько искренности, что не решился обмануть судей.
– Слишком поздно, – сказал он как Фагон. – Яд, который она приняла, обнаруживается тогда только, когда жертва неизлечимо принадлежит ему… Пускай ведут меня на костер!
Это желание не замедлили исполнить. С той минуты, как нельзя было ожидать какого либо исправления этого великого преступника, человеческое правосудие требовало наказания.
Жак Дешо, отравитель в Париже, и Бре, отравитель в Венсене, были сожжены вместе, на костре, воздвигнутом на Гревской площади, на том же самом месте, где Вуазен и её сообщники.
Это сожжение подсудимых было праздником для парижского народа, который присутствовал там и радовался как простому огню св. Эльма; но оно оставило в высших сферах тяжёлое впечатление. Король был погружен в самую мрачную озабоченность. Не смея ехать к герцогине де Фонтанж, повседневная агония которой производила на него жгучую боль, он посылал три раза в неделю герцога де-ла-Фельода к ней с приветствием и узнать о её здоровье.
По этому случаю, г-жа Монтеспан смела сказать следующие слова, повторенный при доносе на нее теми, кто их слышал:
– Я хорошо знала, что восторжествую над этой страстью и глупой красотой.
Мы уже часто, в продолжение этого рассказа, для большей верности, ссылались на книги и записки; сейчас мы опять приведем листок из Хроник Ель-де-Бёф: «Молодая фаворитка, чувствуя приближение кончины, велела умолять навестить её Людовика XIV. Король, исполнив её желание, не мог скрыть чувства ужаса при виде останков самого совершенного и прекрасного создания: он сделал два шага назад при виде лица бледного и тощего, которое совсем недавно сияло прекрасным и очаровательным румянцем. Смерть, подстерегающая свою жертву, всё обезобразила, её холодная рука в несколько минут омрачила все прелести, созданные природой.
– Ваше величество, – сказала герцогиня умирающим голосом. – Призрак который вы видите – это женщина, с которой вы были счастливы! Забудем этот сон прошедшего; но, о мой принц, не откажите в сожалении той, у ног которой вы сложили корону шесть месяцев тому назад.
«Людовик XIV был удален от этого печального зрелища окружающими, но он долго представлял себе эту несчастную, умирающую в двадцать лет от последствий его любви и слабости, трогательный голос её в последние часы раздавался жалобными звуками у постели его величества во время темноты ночи. Иногда неопределенная тень Фонтанж, рожденная разгорячённым воображением, поднималась тихо в ногах постели короля и улыбалась ему, но тем страшным смехом, который вымысел придает скелетам, которые она вырывает.
Так умерла герцогиня де-Фонтанж, и слабый сын, которого она произвела на свет, вскоре последовал за ней в могилу. Эта молодая фаворитка, этот ребенок, поживший в вихре величия, пышности и удовольствий, – она не успела побыть счастливой. Ея счастье было сном, смерть – пробуждением.
Уже, давно, король не мог терпеть г-жу Монтеспан; отвращение, внушаемое ему ею, доходило до антипатии.
Радость, выраженная маркизой при смерти соперницы, возмутила окончательно Людовика XIV против этой бесчеловечной и надменной женщины».
– Подите, моя дорогая маркиза, сказал он г-же Ментенон, которая оплакивала герцогиню вместе с ним, – подите, скажите этой несчастной, что я не хочу больше быть ею любим, и что я убеждаю её к такому же равнодушию ко мне.»
Он после советовался, должен ли он властью удалить эту несчастную, пользовавшуюся тоже его минутами обоготворения.
Г-жа Ментенон принимала перевешивающее участие в долгих совещаниях. Достоверно, что они кончились решением достойным клиентов отцов ла Шез и Летелье, потому что окончательно опровергли всякие насильственные поступки, способные увеличить ненависть или причинить бесславие.
Решили холодно принимать высокомерную, лишенную милости, женщину, уменьшить её права целым рядом ловких поступков, а главное – окружить её духовными отцами, которые через нравственное влияние принудили бы её удалиться.
Она попробовала остаться твердой, но имела дело с сильнейшими себя, и, оскорбляясь лишением прав, удалилась сперва в Сент-Жозеф, а затем в этот замок Оарон, в Пуату, который король велел выстроить для неё во время милости к ней.
Не пощадили никакой неприятности этой женщине, которая была безжалостна к другим.
Обыкновенно, это её любимому сыну и притом менее всех того достойному герцогу де-Мену новая фаворитка давала поручения, неприятные его матери, и он исполнил их, что не делает ему чести, с радостью, причинявшей отвращение.
Маркиза Монтеспан унесла с собой в свое уединение свои наклонности к гордости, которые вместе с тем свидетельствуют, как она страдала.
В этом замке Оарон, её полуцарские претензии последовали за ней: бесчисленные портреты Людовика XIV доказывали действительную связь, которую закон не мог освятить. Там была даже зала, где красовалась постель на черном бархатном фоне, и которую называли комнатой короля.
С тех пор, находясь в постоянном лихорадочном волнении, ей сделалось невыносимым оставаться на одном месте. Одно путешествие следовало за другим; она как бы испытывала необходимость бежать от самой себя.
Это движение, как ни пусто оно было, было ей необходимо; это было требованием её темперамента и сильной натуры.
Наконеп, когда успокоилась эта первая буря злобы, она укрылась, как грешница, с серьезными мыслями и набожная.
Она, что ещё лучше, раздала всё, что имела, нищим. Каждый день, по нескольку часов, она проводила за грубой работой, предназначенной им. «Простой стол, говорит один историк, изумленные молитвы, строгие посты, постоянные умерщвления плоти ознаменовали последние годы жизни смущаемой стыдом прошлого и ужасом будущего. Она дошла до того, что носила браслеты, подвязки и пояс с острыми железными шпильками, которые наносили ей страшные раны».
Но что за жалкое благочестие, ограниченное, скудное, в котором выказывается не любовь к Богу и к ближнему, не евангельское вдохновение и кротость, но гнусный страх ада! Эта женщина, во время своего позднего и жалкого заглаживания грехов, заставляла отвешивать себе хлеб, который она ела в постный день.
Безмерный страх смерти мучил её до того, что она платила женщинам, единственная обязанность которых была бодрствовать ночью.
«Она не засыпала иначе, как в комнате, освещённой свечами; и когда она просыпалась, она требовала, чтоб эти бодрствующие женщины разговаривали, смеялись и ели, чтоб увериться, что они не дремлют».
Её красота не устояла против испытаний: «Не оставалось ни одной черты, которая бы её напоминала. Это была, говорит один свидетель, голова мертвеца, обтянутая черной и сухой кожей».
Во время этого несчастия смерть была бы благодеянием. Она встретила её даже смело, опасаясь прежде её так сильно. 27-го мая 1707 года, во время путешествия на воды в Бурбон, она вдруг заболела, ночью. В отсутствии доктора, одна из её женщин дала ей сильную дозу рвотного, от которого произошёл разрыв одного сосуда.
Но что произошло затем, было ещё ужаснее. Она была в таком страшном положении, что большая часть из её людей разбежались, опасаясь заразы. Телом её занялся неискусный и неизвестный лекарь. Она выразила желание, чтоб её внутренности отнесли в монастырь Сент-Жозеф. Вестовой, которому поручены были эти останки, застигнутый в чистом поле грозой, испугался, вернулся назад, и укрылся у капуцинов Бурбона.
Но эти монахи, которым он передал находящееся у него на хранении, почувствовали такое отвращение от испарения, которое оно издавало, что, в свою очередь, опасаясь заразы, они бросили эти погребальные останки в яму, где они сделались добычей собак.
Когда это дошло, до Версаля, бывший льстец фаворитки сказал вполголоса девице де-Кайлис:
– Её внутренности?… Разве у неё были?
Это была достойная погребальная речь.
В нашы планы не входит рассматривать, насколько основательны рассказы, приписывающее ей ещё одно преступление, это отравление графа Вермандуа, одного из сыновей Лавальер, так же как она отравила Марию де-Фонтанж.
Что остается нам сказать, чтобы дополнить эти страницы о любви великого короля?
Шарль де-Севинье, стараясь развлечься в своем горе, пользовался всеми развлечениями около знатных, склонных к волокитству, он по очереди обращался и к Нинон де-Ланкло, к Шампмесле, которые, по очереди, без стыда ему изменяли, так как это было их ремеслом. В конце концов его рассудок, здоровье и состояние не выдержали.
Генрих де-Ротелен не был счастливее. Он пробовал жениться, но не мог привязаться к самой лучшей из женщин, его воспоминания принадлежали другой; он захотел служить в действующей армии и был убит в Лезе, перед глазами маршала Люксембургского.
Изо всей этой плеяды оставался Ален де-Кётлогон. Но он, бродя из моря в море, получая почести, которых он не искал, больше всего боялся суши, где он мог встретить Уранию под руку с другим. Урания, более жалкая, чем её подруги, успокоившиеся, по крайней мере, смертью; а она окончила жизнь печалью.
Глава сорок первая
Дворцы имеют свою судьбу.
А как же Марли? – спросят нас, может быть, какие-нибудь читательницы. Марли, выстроенный для славы Марии Фонтанж, сделался достоянием г-жи Ментенон; и так как она охотно пребывала в нём, она прибавила там много разных строений, отдала ему предпочтете пред Версалем, и король, не имея вскоре других мыслей и других желаний кроме ея, продолжил свое пребывание там гораздо больше, чем это было сначала.
Из этого последовало, что хроника, склонная к волокитству, нашла там большую пищу, интриги завязывались там и развязывались перед глазами и против воли строгой, знатной барыни, которая имела отличные причины проповедовать добродетель, пребывая в таком возрасте, когда нет больше желания к греху.
Сен-Симон, великий открыватель интимных дел того времени, сохранил нам семейные сцены, выказывающие нам запросто и великого короля и его двор, и которые, касаясь этой резиденции, попали в наше владение.
«Однажды, говорит он, мы были в Марли, где произошла странная сцена. Король и monseigneur держали там два стола, особых, в один час и в одной комнате утром и вечером, дамы разделялись по расположению, исключая принцессы де-Конти, сидевшей всегда за столом monseigneur’a, а её две сестры сидели всегда за столом короля. В этой же комнате в углу были ещё пять или шесть приборов, не принадлежащих никому, и за которые без разбора садились то те, то другие.
Стол короля стоял ближе к гостиной, другой ближе к окнам и двери, в которую, выходя из-за стола, король ходил к г-же Ментенон, которая тогда часто обедала за столом короля, сидя против него (столы тогда были круглые) и обедала только за этим столом, а ужинала у себя. Чтобы рассказать этот случай, надо было сделать это подробное описание.
Принцессы были легкомысленны, и принцесса де Конти, в душе была очень недовольна расположением monseigneur’a к Шуан, которого она не могла не знать, и о котором она не смела подавать и виду.
За обедом, во время которого monseigneur был на охоте, и за столом его распоряжалась принцесса Конти, король шутил с герцогиней, и вышел из своей степенности, которую он редко покидал, и, к удивлению всего общества, играл с ней оливками.
Это заставило герцогиню немного выпить; король делал вид тоже, что пьет раз или два; и эта шутка продолжалась до подачи фруктов. При выходе из-за стола, король, проходя мимо принцессы Конти к г-же Ментенон, оскорбленный может быть, её серьезным видом, сказал ей умеренно, что её степенность не идёт к их пьянству.
Обиженная принцесса пропустила короля; потом обращаясь к г-же де-Шатильон во время суматохи, когда все полоскали рот, сказала, что она предпочитает быть степенной, чем пьяницей, подразумевая несколько продолжительных обедов, проведенных недавно её сестрами.
Эти слова услыхала герцогиня де-Шартр, и ответила довольно громко своим медленным и дрожащим голосом, что она предпочитает быть пьяницей чем кулем для тряпья, подразумевая Клермона и офицеров лейб-гвардии, из которых одних прогнали, других удалили из-за неё.
Эти слова были так суровы, что остались без возражения, и немедленно разошлись по Марли, а оттуда в Париж и повсюду. Герцогиня, имевшая ум и тонкость, и дар плести колкие стихи, написала несколько оригинальных стишков в этом же тоне. Король, узнав об этих ссорах, вмешался в более серьёзныя как с той, так и с другой стороны; Monseigneur тоже принял участие. Он сделал для них обед в Медоне, на который принцесса Конти поехала одна и приехала первая; две другие поехали со старшим братом короля. Они мало говорили друг с другом; все было напрасно; и они вернулись совершенно также как и поехали.
Конец этого года в Марли был бурный. Герцогиня де-Шартр и герцогиня, сблизившиеся ещё более от ненависти принцессы Конти, уехали после обеда, уложив короля в комнате г-жи де-Шартр во дворце. Monseigneur поздно играл в гостиной; уходя к себе, он взошел к принцессам и нашел их курящими трубки, за которыми они посылали в караульную швейцара.
«Monseigneur», который предвидел последствия, если этот запах распространится, велел им бросить это занятие; но дым их выдал. Король на другой день сделал им строжайший выговор, от которого принцесса Конти торжествовала. Впрочем, эти ссоры все увеличивались и король, надеявшийся, что они окончатся сами по себе, рассердился и, однажды вечером в Версале, после ужина, в своем кабинете, он им строго выговорил и объявил, если это до него опять дойдет, он каждой из них даст загородный дом и пошлет их туда на долгое время; угроза эта подействовала; спокойствие и приличие сблизили их и заменили дружбу.
* * *
Эта картина, выказывающая нам жизнь Людовика XIV, подходящая более к жизни мещанина, и управляемая теми же страстями и теми же пустыми ссорами, не должна быть пренебрегаема. Она имеет ту философию, что ещё раз доказывает, что под самыми вызолоченными украшениями человечество всегда останется человечеством.
После смерти Людовика XIV регент выразил намерение разрушить Марли под предлогом, что содержание его разорительно.
Сент-Симон спас на этот раз, по крайней мере, блестящую резиденцию. Он объяснил принцу, что этот расход только очко в карты, и что надо принять в соображение, сколько миллионов было употреблено в эту бывшую помойную яму, чтоб сделать из неё дворец Фей, единственный в мире; что это предмет любопытства для всех иностранцев, приезжающих в Францию, и такой варварский поступок разнесётся по всей Европе, с порицанием которого пустые причины экономии не уменьшить.
Но час разрушения его должен был пробить немного позднее, вместе с падением королевского достоинства. Теперь от этого восхитительного дворца, видевшего процветание любви Людовика и Марии, остаются одни развалины; единственное уцелевшее строение, и самое красивое в селе, это так называемая… собачья конура!
Решительно, любовь знатных редко приносит счастье, и их строения подвержены той же участи… От дворца Марли-де-Рой остается одна собачья конура, а жители Версаля смотрят на вас с удивлением, когда вы их спрашиваете, где дворец Кланьи.
Конец
Примечания
1
Шарль Севинье был сыном маркизы Севинье, находящейся в тогдашнее время во всем блеске своей литературной славы. Шарль был знаменщиком в жандармском корпусе дофина. Он храбро служил в этом звании уже в 1677 году, при осаде Валенсьена. В ту минуту, когда он неустрашимо мчался во главе своего отряда на траншею, пушечное ядро сорвало каблук у его сапога, не повредив подошвы. Но пятка его загорелась, отчего он должен был перенести операции, подвергавшие опасности его жизнь. Справедливо удивляются, что г-жа Севинье умолчала в своих письмах об этом происшествии, собранном другими писателями двора и подробно рассказанном Симоном Невилем.
(обратно)2
Имеется ввиду яд.
(обратно)3
Хроника Эль-де-Бёф; Тушар Лафосс.
(обратно)4
Вот портрет г-жи Монтеспан, начерченный тем же летописцем, когда она была десятью или двенадцатью годами моложе, чем в эпоху нашего рассказа, т. е. около 1662 года: «Маркиза Монтеспан была бы одной из совершеннейших придворных красавиц, если б всё её лицо не выказывало дерзости, способной скорее возбудить страсть, нежели сильную привязанность. Глаза этой дамы были прекрасны, но их огонь выказывал более деспотизма чем нежности. Рот её чрезвычайно свеж, но улыбка появляющаяся на нем всегда кажется насмешливой и презрительной. Белокурые волосы прекрасного цвета, ослепительная шея, руки, точно литые, одна из самых прекрасных ручек, которую я когда либо видел, прекрасная талия, хотя немного полная; статная нога, очень красивые и мускулистые икры, выказывающие могущественное её телосложение; такова наружность королевской фаворитки!» Понятно, что двенадцать лет спустя, прелести и талия г-жи Монтеспан, женщины сорока одного года, достигли своего полного развития, так что вполне оправдывали вырвавшееся в смущении слово у бедной герцогини Фуа.
(обратно)5
Г-жа Монтеспан имела уже одного сына от своего мужа до того, как она сделалась фавориткой короля.
(обратно)6
В летописях барона Креспи Лепринса читают; «Девица Урания Бовё, одна из фрейлин королевы и хорошенькая садовница Версальской оранжереи, оказались почти единственными жестокими, которых только встречал Людовик XIV. Вот что говорит об этом королева в своих письмах: «Она осталась непреклонна: тогда-то король обратился к Ла-Фонтанж, её подруге». Едва ли знают имя того человека, которого она предпочла королю».
(обратно)7
«Записки и Рассказы о королеве-регентше во Франции», Дре-Радие. Приводя эти слова из подлинника, мы обязаны сделать некоторые исключения в характере приписываемого старым придворным летописцем девице Фонтанж. Черты этого характера, который мы скоро приведем и которые также мы почерпнули из достоверных источников, доказывают более чем достаточно, что исключительная гордость составляла главный отпечаток и главную побудительную причину всего её поведения.
(обратно)8
Святой Рох, Рох из Монпелье (лат. Rochus); ок. 1295–1327 гг. – католический святой, получивший известность как защитник от чумы. Сам заразился чумой, был изгнан из города, и отправился умирать в заброшенную лесную хижину. По преданию собака по имени Готхард принесла св. Роху, умиравшему от голода, хлеб. Вскоре святой исцелился от чумы, а Готхард стал его помощником.
(обратно)9
Анна Мария Луиза Орлеанская (Anne Marie Louise d'Orléans de Montpensier, 1627–1693) – французская принцесса королевской крови, герцогиня де Монпансье. Приходилась племянницей Людовику XIII. Также известна как «великая мадемуазель», активная участница Фронды, автор известных «Мемуаров». Ее жених, граф Лозен в описываемое время находился в тюрьме по обвинению в заговоре.
(обратно)10
Деянира была женой героя древнегреческого мифа Геракла. Туника, которую она подарила мужу перед отъездом, была пропитана отравленной кровью кентавра и причиняла Гераклу неописуемые страдания, которым он в итоге предпочёл смерть.
(обратно)11
Ре-де-шоссе – первый этаж во Франции называется «ре-де-шоссе». Французский 1-й этаж соответствует русскому 2-му.
(обратно)12
Мифологический герой, сын Одиссея, совершивший путешествие в поисках своего отца. Похождения Телемака были описаны в романе Фенелона.
(обратно)13
Жан-Бати́ст Люлли́ (фр. Jean-Baptiste Lully; 1632–1687) – французский композитор, скрипач, дирижёр. Вошёл в историю музыки, как создатель французской национальной оперы, один из ведущих представителей музыкальной культуры французского барокко.
(обратно)14
Старайтесь поранее вкусить удовольствие быть влюбленным; сердце начинает жить только с того дня, когда оно начинает любить. Как бы сильно мы не противились любви, но придет день, когда придется ей поддаться, нет ничего на свете, что могло бы устоять перед сладкими влечениями любви.
(обратно)15
Письмо отца Кеснеля к Арну, одному из глав янсенистского учения в том же 1680 году.
(обратно)16
«Хроника Эль-де-Бёф (Круглого Окна)». Автор, рассказывая эту влюбленную переписку, шутливо указывает, в чем может заключаться слава убить кабана?…
(обратно)17
Это случилось в 1663 г., следовательно, тогда ей было 22 года.
(обратно)18
Максимильен де Бетюн (фр. Maximilien de Béthune), носивший титул герцога Сюлли (фр. duc de Sully; 1560 –1641) – глава французского правительства при короле Генрихе IV. В 1597 году был поставлен во главе финансов, а в 1599 году Генрих назначил его главным смотрителем над путями сообщения (фр. grand-voyer de France). В 1601 году Сюлли был назначен главным начальником артиллерии и инспектором всех крепостей; в 1606 году Генрих наградил его титулом герцога. Честный, бережливый, сурово-прямодушный, неутомимо деятельный, Сюлли удержался во главе управления до самой смерти Генриха IV, несмотря на придворные интриги. Генрих ценил его преданность и нередко отказывался по его совету от легкомысленных затей.
(обратно)19
Ла-Вуазен имела швейцара и лакеев. Она начала повивальной бабкой; но не находя в этом ремесле достаточного дохода, чтоб удовлетворить своим склонностям распутству и роскоши, она вздумала вмешаться в колдовство, превосходное ремесло, в котором никогда не бывает недостатка в обманутых. Вскоре к этой отрасли она присоединила наследство Бринвильё, сделавшись обладательницей секретов итальянца Экзили для составления самых утонченных ядов. Покупатели её не щадили ей денег, она оставила свою скромную квартиру, наняла отель, обзавелась домом, экипажами и всеми утонченностями, которые в то время дозволялись роскошью. Это-то тщеславие её и погубило, возбудив внимание полиции на источник её пышности. Она была задержана и заключена в Бастилию с сорока своими соучастниками. Остальное знают.
(обратно)20
М. Ж. Перле, в своем замечательном изучении, уже изложенном на маркизу де-Монтеспан, говорит об этом предмете: «…Самые великие имена Франции были замешены в этом деле Ядов. Г-жа де-Монтеспан была также выдана глухим ропотом, возбудившим серьезное внимание лейтенанта полиции ла-Рена. Но свет не выяснился из этих потемок; потому что, благодаря Кольберу, следствие приняло другое направление. Это была самая благоразумная вещь. Вообразите себе, в самом деле, мать стольких узаконенных принцев, предстоящая пред Арсеналом, обвиняемая в том, что давала королю пить любовные напитки, которые могли его отравить? Какой скандал во Франции и Европе! Какое унижение для королевского достоинства! Не было ли уже слишком достаточно неопределенных подозрений общественного презрения?»
(обратно)21
Эти описания и эти подробности взяты из Хроник барона де Креспи-ле-Пренса, уже именованных. – Взгляните также Военную историю Людовика Великого, Маркиза де-Квинси.
(обратно)22
Жан Бар (фр. Jean Bart), иногда Жан Барт (1651–1702) – французский военный моряк и капер, национальный герой Франции, самый знаменитый из дюнкеркских корсаров.
(обратно)23
Покойся с миром! (лат).
(обратно)24
Не знают, говорит барон Креспи-ле-Принс, насколько взволновал короля полученный им анонимный совет, который принудил его отдать секретное приказание наблюдать за пищей г-жи Фонтанж. Он упрекал себя за оскорбительное письмо, написанное им госпоже Монтеспан. Он боялся всего. Он боялся, чтобы Вуазен, недавно сожженная заживо, не оставила после себя последователя, подкупленного золотом соперницы, небрежение к которой повлекло ее к преступлению; так было раздражено её самолюбие.
(обратно)25
Кавалер, говорить автор Хроники двора, нашёл славу там, где искал смерти, долго влачил из моря в море свою глубокую грусть, пока маршальский жезл не сделался его старческой палкой.
(обратно)


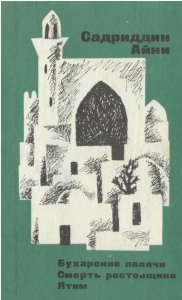
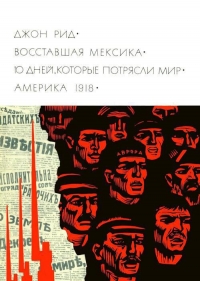

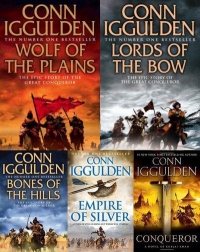
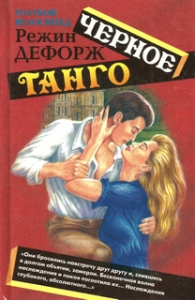
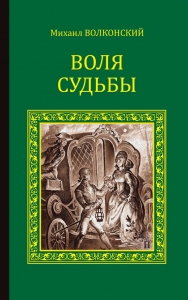
Комментарии к книге «Четыре фрейлины двора Людовика XIV», Октав Фере
Всего 0 комментариев