Птаха над гнездом Том 2. Презирая дымы и грозы
Любовь Овсянникова
2019
Знаки Зодиака
Она возденет крылья-руки,
Как птаха над родным гнездом,
Чтоб в доме были
Дети, внуки
И были правнуки потом.
В. Фирсов
Глава 1. Война ушла на запад
Наедине с неоконченной войной
Война отступила не сразу…
Немцы никак не хотели выпускать из когтей захваченные земли. Они вывезли с них все, съели все, разорили все, что могли. Перечислить все сделанные ими опустошения невозможно. Если даже рабочие руки вывезли, так о чем еще говорить… Их теснили наши войска, а они еще и еще находили, за что зацепиться и что утащить в свое логово.
Но вот фронт приблизился к Славгороду настолько близко, что им пришлось отодвигаться от него, увозя свои тыловые манатки обозами. И тут они опять пустили по домам загонщиков — решили добраться до мужчин, которые по разным причинам избежали мартовского расстрела. Ничего не подозревающие, полагающие, что взаимопонимание с оккупационной властью достигнуто, эти мужчины легко попали под дула автоматов — их забрали с мест, где они обязаны были работать. Арестованных, среди которых опять оказался Борис Павлович, закрыли в кутузку, объявив, что волноваться не надо, что их не расстреляют, а заберут с собой в Германию. Родных, которые к вечеру узнали о новой беде и пришли покормить задержанных, к ним не допустили.
Мужчины, неожиданно снова оказавшиеся то ли в плену, то ли под арестом, понимали, что на самом деле у немцев просто некому их расстрелять на месте, а то бы они не задержались с этим.
Борис Павлович по этому поводу рассказывал: «Когда немцы окончательно отступали, то руководствовались приказом Гитлера: “Оставляйте после себя лунную поверхность, за последствия я сам отвечу”. И они убивали население и сжигали села. Этим занимались не передовые части, а карательные отряды, где в основном были не немцы, а калмыки, власовцы и разные другие запроданцы, предатели». Рассказы Бориса Павловича о войне превратились в генетическую память его семьи, сейчас без них эту книгу нельзя было бы написать.
Так вот тогда вызывать карателей немцы уже не успевали, а допустить, чтобы кто-то ушел от них живым, тем более пополнил ряды наступающей Красной Армии, не хотели.
То, что по дороге немцы все равно постараются их истребить, задержанные понимали без сомнений, поэтому с первых мгновений единодушно решили, что надо либо всевозможными ухищрениями тормозить продвижение обоза на запад и поджидать приближения фронта, либо бежать навстречу своим{1}.
Как бы то ни было, но в один из дней тыловые части немцев потянулись по центральной дороге на запад и скрылись со своим барахлом за горизонтом. Увы, они увозили с собой около сотни славгородцев, в том числе мужа Прасковьи Яковлевны.
Такого еще не было в ее жизни, чтобы она оставалась совсем одна, причем с малым ребенком и больной бабушкой на руках, да еще — исполненная тревоги за угнанного в плен мужа, за братьев. На нее свалились обязанности, которые самостоятельно нести она не умела, и просто сходила с ума, думая, чем им кормиться, во что одеваться, чем обогреваться да обстирываться. На это уходили все ее силы. А ведь еще предстояло делать запасы на зиму, искать и заготавливать какое-то топливо. Откуда, как, с чего — если теперь у нее не было ни пчел, ни коровы, никакой живности?
И все это — на одни руки…
Правда, с весны она, качаясь от горя и от безостановочных рыданий по родителям, сделала важное дело — засадила 30 соток огорода картошкой и овощами. Трудиться много она привыкла, потому что всегда берегла свою маму, Евлампию Пантелеевну, страдавшую грыжей и плохо переносящую физические нагрузки. Берегла и брата Алексея с его недавно зажившей после травмы ногой. Вдвоем с двужильным братом Петром они обрабатывали домашние угодья и держали во дворе живность. И вот уже некого ей беречь, не с кем разделять домашние заботы да ношу…
Где теперь Петр и Алексей… Подадут ли они весточку о себе?
А Борис Павлович в исконно сельских трудах помощником был слабым. Во-первых, его сызмалу не приучили к ведению домашнего хозяйства, потому что ни родители, ни его деды-бабки сами того не знали. Ну никак у него не было наклонности к земле! А во-вторых, он по 16-18 часов работал на немцев, так как те нещадно эксплуатировали уцелевших после расстрела мужчин. Нужна ли была кому-то их работа, или не нужна, видимо, значения не имело. Главное заключалось в необходимости держать опасный контингент под контролем, чтобы мужики не вздумали партизанить да вредить оккупантам.
Привычная весенняя работа в тот год далась Прасковье Яковлевне с большим трудом. Изнуренная стрессом, пережитой трагедией и постоянной боязнью новых бед, она до черноты в глазах уставала от копания лунок и волочения земли, от своей спешки вовремя управиться с посадками, от одиночества на грядках, но только так и могла отвлечься от страшных воспоминаний и мыслей. Тогда она только с облегчением вздохнула, когда дала лад огороду.
А теперь поняла — ведь урожая с огорода будет недостаточно. Господи, такие непомерные усилия — а их мало! Что же делать?
Тем более что ее труды могли запросто пропасть под колесами военной техники — она верила, что советские войска не замедлят прийти сюда и освободить их. А значит, фронт проутюжит поселок своей титанической мощью: сначала опасной отливной волной пятящегося врага, а потом половодьем советских атак, смывающих фашистскую нечисть с земли.
Она совершенно отчетливо представляла, как это будет. По сути фронт возникнет уже тогда, когда оккупанты начнут собирать бумаги и паковать свои архивы, готовясь драпать в обратном направлении, и завершится приходом освободителей. Только ведь эти два мгновения разделит полоса взрывов и выстрелов, бега и криков солдат, полыхания пожаров, разгула смертей, грохотания убегающих и стремительность догоняющих машин. Добро и зло смешаются и превратятся в ревущего монстра, не замечающего ни невольных и безучастных зрителей, ни арены действий. Монстр будет медленно продвигаться, не выбирая дорог, никого и ничего не щадя.
И покроет остывающий след войны надрыв солдатских сердец, несущихся по ее горячим штормам к священной звезде справедливости! О Боже, Боже…
А потом боязнь отступит. Но отступит ли?
Однажды Прасковья Яковлевна задала себе этот простенький вопрос и поняла, как наивна была. Как же мало счастья будет в отсутствии страха за свою жизнь, если война продолжит держать в когтях многих других людей! Приход советских войск, желанный до спазма в горле, принесет безопасность, но еще не мир — при котором легко и радостно дышится и работается и все дорогие люди находятся рядом.
Как она бессильна посодействовать скорейшему истреблению войны, если обладает только терпением и верой в свою страну!
Наступала осень, а за ней маячила зима…
Освобождение Славгорода
Наконец 19 сентября, с самого утра, Прасковья Яковлевна проснулась от оглушительного грохота. Через стекла окон, закрываемых то вишняком, то кронами абрикосовых деревьев, сочился утренний свет. Казалось, где-то близко рушились горы или камни падали с неба, наружу страшно было выходить. Но она накинула платок на голову и все же выскочила. С неба несся пронзительный вой, который сковывал все мышцы и вжимал в землю. Втянув голову в плечи, она мужественно подняла глаза на восточное небо, по привычке пытаясь определить положение солнца. И увидела, что оттуда большими птицами один за другим стремительно шли советские пикирующие бомбардировщики, так радостно узнаваемые по гулу. Их было много, они неслись стремительно, затем, будто резко присев над целью, сбрасывали бомбы и круто взмывали ввысь. Бомбы тоже выли, как от страха или от злости. Долетев до земли, они тяжело ударялись о нее и взрывались. Земля вздрагивала, казалось, даже прогибалась под ними и выбрасывала вверх черные конусы огня и дыма. А самолеты все выли и выли. Словно ныряя вниз, сбрасывали свой груз над немецкими объектами, и круто поднимались вверх.
Их было много. Идя со стороны солнца к железной дороге, они широким размахом накрывали растянутые с севера на юг вражеские позиции и от души бомбили их.
Жители поселка на перекличку взрывов реагировали по-разному — кто-то сразу спрятался и терпеливо пересиживал бои, а другие хорониться не спешили. Взрослые стояли во дворах и, приложив ладонь козырьком к глазам, всматривались то ввысь, то вдаль, пытаясь рассмотреть или представить себе, что там творится. Безотчетно они стремились видеть, как побежит враг, как будет раздавлен, как испустит последний дух — так велико было их желание воочию убедиться в кончине войны. Шустрая ребятня выбегала на улицу, прыгала с поднятыми руками, кричала «ура» и перебрасывалась возбужденными комментариями:
— Наши пытаются выкурить фашистов!
— Ну да, поднять и заставить бежать!
— А лучше бы присыпать их на месте!
От падения бомб, происходившего на том конце, во все стороны летел свист, а от него звенело в ушах. От их уханья вздрагивала земля, и раздираемый взрывами воздух, скуля обидно, превращался в ветер, несущийся прочь. Сколько это продолжалось, трудно сказать. Туго и медленно все эти звуки и явления подвигались на запад, подходили ближе к поселку.
Потом советские самолеты нырнули в небо, поднялись выше и улетели в тыл врага, возможно, догонять и бомбить немцев, несколькими днями назад ушедших с обозами. Скоро после этого от железной дороги послышались грохотание и рев техники, перемежаемые наземной стрельбой. Земля вибрировала под колесами и гусеницами множества тяжелых машин и подрагивала от взрывов снарядов. Воздух, нагретый летающим во все стороны металлом, бешено ходил ходуном и пропитывался от стреляющего оружия смрадом окалины и гари. По низкому небу, под облаками, поплыли темные подвижные дымы, характерные для отдаленного сражения.
Во дворах завыли собаки, и хозяева, прежде чем спрятаться, поспешили отпустить их с привязи. Негде укрыться в степи, на ровном месте, — ни лесов, ни гор тут нет. Людей спасали погреба.
Прасковья Яковлевна тоже поняла, что долго ожидаемый час расправы над нелюдями, над алчными захватчиками настал. Она забрала дочь, прихватила теплые одеяла и подстилки и спряталась в погребе, где заблаговременно заготовила на такой случай место. Она выстлала его свежим сеном, запасла туда воду, яблоки и груши из сада, хлебные коржи, картофельные лепешки — сидеть предстояло долго. Бабушка Фрося спускаться в укрытие не решилась из боязни, что по окончании божьего испытания не сможет выбраться наверх по крутым ступеням. В этом был резон.
— Идите, спасайтесь, — спокойно сказала она внучке, — я на полатях полежу, по домам-то они, надеюсь, палить не будут.
Благодушие бабки, конечно, было неуместным, но спорить с нею не приходилось — она сама решала, как ей быть.
Ефросинья Алексеевна второй день роскошествовала, потому что семья перебралась из сарая в дом. Первым делом Прасковья Яковлевна выбелила в нем стены, вычистила пол и закутки, а потом протопила печь, чтобы высушить комнаты и выкурить из них чужой дух. Оставшись одна, старушка, конечно, не лежала. Без устали она ходила по комнатам, нервно поглаживая свои кулачки, перекладывая одну и ту же вещь с места на место и посматривая в окна.
— Зря бегаете да отстреливаетесь. Ичь, как жить хотят! — в минуты просветленного ума осуждала она немцев, глубоко веруя в силу Красной Армии. — Нет вам ходу домой. Все тут прахом станете! Сколько наших положили, ироды...
Нервничала в своем укрытии и Прасковья Яковлевна, не привыкшая быть в стороне от решающих событий. Все ей казалось, что без ее присмотра там, наверху, что-то не так пойдет. Время от времени она рисковала — оставляла дочку одну, а сама выглядывала на улицу и изучала ситуацию, хотя по доносящимся в укрытие звукам приблизительная картина происходящего прочитывалась. Если обстановка позволяла, Прасковья Яковлевна проскакивала дальше в дом и проведывала бабушку.
— Не бегай ты ко мне, — ворчала та. — За Шурой смотри, а то бросаешь…
— Она уже большая, четвертый год… — отговаривалась Прасковья Яковлевна. — Выберется, если что.
— Какое «если что»? — сердилась Ефросинья Алексеевна. — Что ты мелешь…
— Я ее всему научила, она смышленая, — и Прасковья Яковлевна опять убегала в погреб, к ребенку.
Наконец, наземное расположение сил начало зримо меняться. На поселок двинули отступающие немецкие танки, и от форсированного рева их моторов затряслась земли и мелко закачались стоящие на ней предметы. Сидящим в погребах обывателям казалось, что на поверхности, в плетении дворов и улиц, мечется и беснуется раскаленный металл, словно оживший и диким бегом спасающийся от погибели. Ох, от него все вокруг обязательно останется развороченным и искореженным!
Подталкиваемые атакующими советскими силами, немецкие танки улепетывали на всех парах, как слепые, не мечтая о передышке. Развернув башни назад, они злобно огрызались выстрелами из пушек, от чего казались неестественно выгнутыми икающими уродами. Отходить строго по улицам они не старались и безжалостно оставляли колеи во дворах и на огородах, словно специально разрушали хаты и более мелкие постройки. Как позже выяснилось, так оно и было, потому что после отхода врага почти треть жилых построек оказалась разрушенной. Это, кроме того, что фашисты специально высадили в воздух кирпичный завод, разрушили все привокзальные и станционные сооружения, взорвали помещения МТС и частично обратили в груды развалин строения металлообрабатывающего завода. Но усадьбу Прасковьи Яковлевны Бог миловал.
Следом за танками прыткой тенью удирала вражеская пехота. Солдат вроде и не видно было, однако дворы и улицы прошивались частым свистом пуль и от земли поднимались небольшие вихри, как на лужах во время дождя. Собаки, прятавшиеся и скулящие при первых звуках приближающегося боя, теперь осмелели, выскакивали из своих будок и бросались на немцев, хватали за ноги и прыгали им на спины. Поразительно это было наблюдать!
Неожиданно стало тихо. Звуки исчезли и не спешили возобновляться. Подождав секунду-другую, Прасковья Яковлевна вышла из погреба и услышала радостные возгласы, несущиеся с улицы. Она оставила дочку в доме с бабушкой, а сама поспешила присоединиться к людям. Вдоль улицы, опахнув ее, пронесся ветер, прошмыгнул в ворота, крутнулся и бросил во двор горсть пыли вперемежку с желтыми листьями. Под его напором качнулась молоденькая белая акация и, отряхнув пыль, прохладными листьями погладила Прасковью Яковлевну по щеке.
— Расти, моя ласковая, — прошептала Прасковья Яковлевна, придерживая у лица гибкую веточку.
До войны это деревцо было ей до плеча, ниже рядом растущих абрикосов, а теперь до его макушки и рукой не достать.
На улице она увидела толпу славгородцев и остановилась, наблюдая, как те встречали и величали Ивана Крахмаля и Пантелея Ермака, ее соседей. Она не сразу поняла, что происходит.
Да, жили в Славгороде два человека: Иван Крахмаль и Пантелей Ермак — худенькие низенькие мужички, наверное, и без образования вовсе, невзрачные, тихие. И оба — с улицы Степной. Простые рабочие местного металлообрабатывающего завода попали воевать в танковые войска.
И вот сейчас на своих боевых машинах они принесли в любимое село освобождение от угнетателя! В погоне за врагом они первыми оказались тут, ворвались после бегства немецкой нечисти, подъехали к своим дворам, чтобы увидеться с семьями. Это стало пиком их борьбы с нещадным врагом, самым высшим ее успехом и упоением. А для славгородцев их появление стало провозвестием и знаком великой победы, добытой своими людьми, земляками, родной кровью.
Это было прекрасно, неожиданно и символично!
Со стороны центра к месту остановки победителей уже бежали, спотыкаясь и поправляя платки на головах, другие женщины — радостные, готовые обнять первых советских воинов-освободителей. От них не отставали несколько столь древних стариков, что безжалостный немец даже убивать или угонять их не стал. Не догадываясь, что посланники мира и света — это их земляки, люди несли им наскоро собранные хлеб-соль, усыпали их путь хлебными зернами и слезами благодарности, кланялись в пояс, благословляли на дальнейшую счастливую долю. А обнаружив, что это свои парни, начинали обнимать и целовать, охать и ахать, удивляясь, как это могло случиться, такое совпадение. Надо же — из всей неисчислимой силы Красной Армии именно славгородцы первыми вошли в Славгород, освободили землю своих предков! Значит, Бог есть на свете!
Можно представить, что испытывали эти скромные бойцы-танкисты, принимая от односельчан такие почести. Как пели, должно быть, их сердца! Как в этот момент они любили свой народ! И как им хотелось еще крепче воевать, чтобы очистить всю великую Родину от вражеских загребущих рук, от немецких убийц, от бешенного саксонского зверья! Они чувствовали себя настоящими защитниками, всесильными исполинами, нужными этому миру, ответственными за него. В такие минуты любой человек становится всесильным, в нем пробуждается все лучшее, высокое. А незначительное и мелкое уходит на второй план. Так было и у танкистов Ивана Крахмаля и Пантелея Ермака.
— Ну все, земляки, нам надо догонять своих. Прощайте покудова и ждите нас, — с этими словами Иван полез в кабину танка.
— Держитесь тут, мы скоро закончим войну и вернемся, — пообещал Пантелей, тоже забираясь в свой танк.
Их глаза светились счастьем, они улыбались и казались былинными богатырями, повелевающими грозными машинами. Да, к счастью, они оба вернутся домой, живыми и невредимыми, с орденами и медалями на груди.
Так 19 сентября 1943 года бойцы танкового подразделения 333-й Краснознаменной ордена Суворова Синельниковской стрелковой дивизии 12-й армии Юго-Западного фронта, которым командовал Герой Советского Союза генерал-майор Анисим Михайлович Голоско, освободили от немецких захватчиков Славгород, который пробыл под вражеской пятой ровно два года.
Ожидание
На какое-то время Славгород стал территорией особого положения, здесь расквартировались части тылового обеспечения фронта. Представители комендатуры прошлись по уцелевшим дворам в поисках жилья для военных. Конечно, не обошли и дом Прасковьи Яковлевны — он привлекал внимание не только хорошим внешним видом, но и тем, что при нем имелся широкий двор, где можно было держать машины.
Нечего было делать, она с домочадцами снова перебралась в сарай, а дом предоставила в распоряжение командира военной части с его водителем и адъютантом.
Мало-помалу поселок наполнялся жителями: кто-то приезжал из эвакуации, кто-то возвращался с дальних хуторов, где пересиживал лихую годину, прибывали и случайные чужаки в поисках нового пристанища после потери жилья. Скоро сформировались органы государственной власти, готовые начать действовать, как только поселок обретет обычный гражданский статус.
Истосковавшееся по нормальной жизни население ждало мирных перемен — в короткий срок мужички-старички, инвалиды, крепкие молодицы разобрали завалы зданий, где до войны размещались общественные заведения: школы, поликлиники, больницы, почты и пр., — подручным материалом заделали прорехи в стенах и в кровле, вымыли помещения изнутри.
Прасковья Яковлевна тоже вышла на работу. Первым делом учителя составили списки сирот и открыли для них детский дом. Затем обновили списки учащихся по классам и начали вести уроки.
Маленькую дочку Прасковья Яковлевна брала с собой, и та уныло сидела на окне позади учеников, вертя головой, наблюдая за происходящим то в помещении, то на улице. Школьная жизнь закипела — в свободное время ребятня помогала взрослым приводить в порядок улицы и дворы, возобновлять зеленые насаждения. Это их усилиями создан парк в центре села, около братской могилы и памятника неизвестному солдату.
Время пошло быстрее, дни как будто стали короче, зато ночи — спокойнее. Как хотелось, чтобы теперь, в этот порядок и тишину, вернулись родители, чтобы рядом был муж и братья! Прасковья Яковлевна каждый день, идя со школы, заходила на почту, но там только качали головой — писем не было. И то сказать: от кого они могли быть, если ее родных и близких, кто выжил после расстрела, угнали в Германию, туда, где западнее продолжается война?
А родителей и на свете нет… Бывало по дороге она заворачивала на кладбище и там стояла у их могилы, плача беспрерывно, шепотом рассказывая свои горести…
Вот так однажды она шла домой — наплакавшаяся, уставшая, с опущенной головой, никого не замечая вокруг. Впереди с подпрыгиваниями и подскоками бежала засидевшаяся на уроках дочка, что-то бормоча себе под нос.
— Смотри под ноги, — осадила ее Прасковья Яковлевна, — а то упадешь.
Приблизились к своему двору, посмотрели туда издали.
Постоялец, по всему, был дома, потому что во дворе стояли обе машины, которыми он пользовался, а возле них крутились люди. Один из них, его водитель Сергей, ходил вокруг легковушки с мягким веником, смахивал с кузова пыль и напевал марш артиллеристов:
Из тысяч грозных батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! Огонь!
Девочка, увидев этого веселого дядю, который иногда подбрасывал ее вверх и катал на машине, со всех ног ринулась вперед.
— Да не беги ты! Успеешь, — Прасковья Яковлевна следом за дочкой зашла во двор и глазам своим не поверила: у входа в их жилище стоял измученный, заросший Борис Павлович и неодобрительным глазом наблюдал за происходящим.
— А-а, малышка, — тем временем приветствовал маленькую Шуру постоялец, разведя руки. — Поможешь мне машину чистить?
— Не помогу, — важно ответила та. — Я маме в школе помогаю.
— Устаешь, поди? Там же надо тихо сидеть.
— Устаю, — по-стариковски вздохнула девочка.
Она осталась на улице, а ее родители после радостной встречи и объятий зашли в свое жилище.
— Еле сбежал от немцев! — рассказывал Борис Павлович. — Нас аж на правый берег успели перевезти, пришлось потом самому Днепр форсировать. Пробирался к своим под пулями, ползком. А кто у нас живет? — спросил с нотками ревности. — Я думал, тут уже никого нет.
— Начальник тыла освобождавшей нас части поселился. Полковник.
— Не мог он другое место найти… — буркнул Борис Павлович.
— А чем ты недоволен? — рассердилась Прасковья Яковлевна. — Это надо было говорить немцам, которые сюда ворвались и барствовали, пока их не выкурили.
— Еще и немцам скажу, — парировал Борис Павлович, снимая с себя грязную одежду. — Есть теплая вода? Мне бы искупаться…
— Греется, — Прасковья Яковлевна кивнула на большой казан, стоящий в духовке, продолжая неторопливо подавать на стол еду и нарезать дольками испеченный бабушкой пресный корж.
— Так я и говорю, — вернулся к прерванной теме ее муж, — что война не кончилась. Вот призовут меня на фронт, и я скажу немцам то, что не мог сказать тут.
— Ты думаешь, тебя призовут? — остановилась у стола Прасковья Яковлевна с испуганными глазами.
Борис Павлович усмехнулся женской наивности. Как они поддаются иллюзиям, в каком маленьком мирке живут! Вот почувствовала жена безопасность вокруг себя и думает, что теперь всюду она настала, что на всем свете не стало выстрелов и страданий.
— Если не призовут, я сам попрошусь на фронт, — решительно сказал он. — Не стану же я сидеть тут, когда другие воюют. Немцы мне еще за Севастополь должны, за плен… гады…
На следующий день, бежав от угона в Германию, вернулся домой Алексей Яковлевич. На фронте, который ему тоже пришлось видеть изнутри, он насмотрелся несладкой и ответственной жизни солдат и осознал, что всякий уважающий себя мужчина должен быть там, в окопах, и должен бить врага. Поэтому сразу же начал готовиться к уходу на войну. Хоть ему должно было исполниться 18 лет только 6 ноября, но он готов был проситься на фронт раньше срока, чтобы успеть выполнять священную обязанность перед родителями и Родиной.
— Ох и отомщу я фашистам за родителей! — говорил Алексей Яковлевич. — Дайте только автомат в руки! Для того и сбежал — чтобы повоевать!
И в самом деле, в течение недели Бориса Павловича и Алексея Яковлевича призвали в армию. Опять Прасковья Яковлевна собирала да провожала своих дорогих людей в опасное будущее, опять плакала. Как она устала от терзаний и слез!
Затем для нее снова потянулись дни ожидания…
Снова она ходила на почту и видела только качания головой, что писем нет…
Наконец в один из дней поздней осени услышала неожиданную фразу, которой даже испугалась:
— Вам треугольник. С фронта!
С фронта? Почему-то ёкнуло ее сердце… Она глянула на адрес. В голове зароились беспокойные мысли, погорячело в груди, в руках появилась дрожь.
Письмо оказалось от Бориса Павловича. Он сообщал радостные вести, что в сентябре-октябре уже находился в рядах 37-й армии 3-го Украинского фронта, и 25 октября участвовал в боях за освобождение поселка Веселые Терны. А с ноября служит писарем 910-го стрелкового полка 243-й стрелковой дивизии все той же 37-й армии, а также иногда ходит в разведку. Это письмо было написано его каллиграфическим почерком и не карандашом, а чернилами, что выдавало спокойную обстановку и не вносило в душу Прасковьи Яковлевны лишней тревоги.
Позже пришло письмо от Алексея. Он писал, что часть, в которую он попал, почти сразу послали на переформирование, а его — на учебу. Только после учебы он оказался на Волховском фронте. Определен в пехоту, и уже побывал в боях.
Брат сообщал, что в боевой обстановке открыл в себе странные качества — необыкновенную чувствительность рук и способность видеть, кто из товарищей погибнет в бою. И если первому радовался, то от второго сильно страдал. Теперь перед атакой он старался не смотреть на солдат, чтобы ни на ком не увидеть роковой печати. Он заметил, что погибал тот, кто шел на врага с одеревеневшим затылком, от чего его голова казалась маленькой и опущенной вниз. Видимо, это был страх. Этот спазм он определял в бойцах издалека и безошибочно. Ужас…
Высокая чувствительность рук каким-то чудом была замечена командованием и его перевели в саперную часть. Там он воевал до Победы, ни разу не будучи раненым. А после войны еще долгое время разминировал Ленинград, не на одном доме оставил заветную надпись: «Проверено. Мин нет». Демобилизовался и попал домой только в августе 1950 года.
Позже Алексей Яковлевич о своей службе рассказывал: «Разные мины мне попадались: и наши фугасы по 5 или 10 килограмм, и немецкие противопехотные мины по 200 грамм и меньше, а также противотанковые с крышкой по 10 килограмм. Если в руках взорвется, то конец. И мина улетит, и ты улетишь, и все улетит… Стоишь на коленях, обеими руками отвинчиваешь крышку... и — никакого страха. Привык уже. Надо выполнять задание — значит, надо. Вообще у нас во взводе все ребята были не боязливые…»
Ну вот и все, первый этап ее ожидания завершен — никто из ее семьи теперь не был «под немцами», не считая Петра. Надежда была только на то, что в Германии брат работал, а не воевал. Все дорогие ей люди находились в строю и боролись с врагом на своих участках жизни.
Начинался второй этап — ожидание Победы, хотя Прасковья Яковлевна понимала, что придет она нескоро. Заплатив за нее наивысшей ценой, только чаяла теперь, что больше платить не придется, что муж и братья вернутся домой живыми и здоровыми.
Победить ад
И полетели с фронта похоронки, ибо наши уже не оборонялись, попадая в плен, а наступали, проливая кровь и теряя жизни…
То, что в народе назвали похоронкой, было извещением о гибели советских военнослужащих в боях за Родину. Члены семей красноармейцев, воюющих с оружием в руках, с нетерпением ждали писем полевой почты, из которых узнавали, что родной и близкий человек жив. И только короткие слова почтальона: "Вам похоронка" — перечеркивали мечты о встрече, говорили, что дальнейшей совместной жизни с фронтовиком уже не будет. Этот клочок официальной бумаги как будто хоронил будущее. В этот момент жены становились вдовами, дети теряли отцов, многие из них превращались в сирот.
Похоронка была официальным документом, необходимым для обращения в военкомат по вопросу начисления семье погибшего военнослужащего пособия от государства. Составлялась и оформлялась похоронка в войсковой части, к которой был приписан военнослужащий, и отправлялась по месту жительства его семьи. Также данные о погибших заносились командиром в специальные донесения, отправляемые в архивы. Оттуда они могли быть запрошены семьей погибшего через военкоматы по месту жительства.
Горше похоронки были только извещения о том, что военнослужащий "пропал без вести": его вроде и в живых уже не было, и пособие семье не назначалось, поскольку не было определенности в том, куда он делся.
Случалось, что похоронку оформляли ошибочно, полагая, что человек погиб, но это бывало редко, исключительно редко.
Где-то 27 или 28 мая 1944 года пришла похоронка и Прасковье Яковлевне — на мужа. Привыкшая получать от него бодрые письма, она не сразу поняла, что за карточку ей сунула в руки почтальон, молча поспешившая отбежать в сторону.
Начала читать:
Извещение
Ваш муж Николенко Борис Павлович, сержант разведчик 61-й отдельной армейской разведывательной роты 58-й стрелковой дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта, уроженец пос. Славгород Синельниковского района Днепропетровской области, в бою за Советскую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 25 мая 1944 года под Тирасполем.
Похоронен в братской могиле с. Копанка.
Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о пенсии (приказ НКО СССР № 023).
Командир части (подпись)
Военный комиссар (подпись)
Начальник штаба (подпись)
МП
Дочитала до конца… И тут ноги ее подкосились, глаза стали горячими и вмиг высохли, губы покрылись коркой... Не помнила, как развернулась и заспешила не домой, где ее ждала Ефросиния Алексеевна, а, миновав свою улицу, направилась к бабушке Ирине. Бабушка Ирина гадала Борису Павловичу, когда он первый раз отправлялся на войну. Как же она могла забыть об этом, — ругала себя Прасковья Яковлевна, — ведь бабушка сказала, что он вернется домой живым после двух ранений. Живым!
Она почти бежала, таща ребенка за руку. Слез и паники не было. Только деловая целеустремленность, как будто она непременно должна была сделать что-то, имеющее чрезвычайную важность, и вместе с тем тупое непонимание происходящего подталкивали ее вперед, заставляли не стоять на месте, а идти к кому-то, к живой душе, обязательно неравнодушной, чтобы сообща что-то предпринять и истребить злое наваждение, насевшее на нее. Ведь это ей все показалось, примерещилось, не так ли?
Это сказывался еще живущий в ней импульс побега к матери — к той, которая в любой беде прижмет к себе, пожалеет и всегда выручит, всеми силами исправит пространство вокруг своего дитяти. «Как же так, мамочка, ведь это несправедливо! — мысленно разговаривала Прасковья Яковлевна с погибшей Евлампией Пантелеевной. — Зачем же он так трудно выживал, с какой целью храним был Богом? Неужели только затем, чтобы где-то далеко от дома погибнуть в толпе и пасть в безымянную могилу? Это бессмыслица. Так не бывает в природе! Мне и не снилось ничего…»
Ирина Семеновна возилась на огороде — не переставая печалиться, привыкала к новой усадьбе, куда перешла жить после гибели Алексея Федоровича. Тут, у бездетного сына Семена, ей было спокойнее, чем с семьей Григория, младшего сына, где было трое детей. Устала она от них... Правда, теперь и Григория забрали на войну, Александра Федоровна одна с детьми осталась.
Увидев бабушку в траурной косынке, которую та надела после расстрела и не снимала уже больше года, Прасковья Яковлевна замедлила шаг. Ей стало жалко нагружать старушку своей страшной вестью. Эх, надо было к свекрови пойти, подумала она.
Свекровь после гибели на расстреле Прокофия Григорьевича, пьяницы и дебошира, жила себе спокойно и состоятельно с младшим сыном и, как всегда, работала: обшивала соседок. Других забот у нее не было. Возможно, вместе с матерью, к которой ходила ежедневно, она оплакивала Порфирия Сергеевича, своего брата, но не мужа. Кто у нее из родных был на войне? Только сын Борис... Но особенной ее обеспокоенности о Борисе Павловиче Прасковья Яковлевна не замечала. Да, еще зять Сергей воевал, муж дочери... Ну, о нем она вообще могла не думать — Людмила с ним не имела общих детей. Правда, Сергей усыновил Евгения, Людмилиного байстрюка, ну и спасибо ему за это. Все остальное Александре Сергеевне в зяте не нравилось и при встречах она старалась его не замечать.
Тем временем Ирина Семеновна почувствовала присутствие людей во дворе и коротко взглянула туда — не за водой ли кто-то пришел. У Семена Алексеевича во дворе был колодец с пресной водой, какой во всем Славгороде не было. А главное, что воды в нем было много. И к нему во двор со всех концов села шли и ехали люди — брали воду на готовку, на стирки и на купания.
Но теперь во дворе стояла ее внучка Прасковья. Стояла и не двигалась, будто приросла к траве...
— Чего ты, а? — спросила Ирина Семеновна, подходя ближе к Прасковье Яковлевне. — Чего стоишь, пригорюнилась? Что случилось?
Прасковья Яковлевна молча протянула ей карточку со страшным текстом, вроде жалуясь, что кто-то прислал дурную шутку, что это не может быть правдой, и пусть бабушка честно скажет об этом.
Ирина Семеновна, несмотря на возраст, еще свободно читала без очков.
— Пошли в хату, — коротко бросила внучке, опуская руку с открыткой.
В хате она подошла к окну, к свету, словно плохо видела или понимала написанное, словно на улице не поняла его. И опять начала читать, шевеля губами.
— Этого же не может быть, правда? — зашептала Прасковья Яковлевна. — Как можно погибнуть после удачного побега из плена и благополучного спасения от расстрела?
— Постой, Паша, — в замешательстве сказала Ирина Семеновна. — Постой, дай сообразить…
Она заметалась по комнатам, природой своей души понимая, что не должна выказывать этой растерявшейся, убитой горем молодой женщине своего страха и подавленности. Потерять внучатого зятя, на которого она полагала опереться в старости, — об этом нестерпимо было ни думать, ни говорить. Григорий, младший сын, которого она любила больше всех на свете, увы, был шалопаем. Она, конечно, об этом никому не скажет, но от себя правду не скроешь. Дай Бог ему вернуться с войны! Да и Семен... ох, не надежный он, тихоня со скрытной душой. Иван, иуда проклятый, отца от расстрела не спас... И только Борис обладал живым теплым сердцем и мягким, незлопамятным характером.
— Что же делать? — напомнила о себе Прасковья Яковлевна.
— Сейчас… сейчас мы все узнаем, — похоже, на ходу сочиняла Ирина Семеновна. — Та-ак, Боря воюет на войне… Там взрывы, выстрелы... Значит, гадать надо на огне. Подай-ка мне газету, что лежит на столе. Только хорошенько скомкай сначала.
Прасковья Яковлевна зашуршала газетой — развернула ее, потом смяла, сжав как можно сильнее, чтобы не расправилась. Подала бабушке. А та тем временем закрыла окно плотной занавеской. В комнате стало темно. Ирина Семеновна положила комок бумаги на металлический поднос с выдавленной на донышке картиной в виде натюрморта с фруктами, поднесла его к белой стене и подожгла бумагу.
— Наблюдай за картинами на стене! Там все будет сказано, — тихо произнесла, обращаясь к внучке.
На стене заплясали отсветы пламени, из общей его массы выхватывались отдельные языки, тянущиеся вверх и соскакивающие вниз. Бумага корежилась, трещала и расправлялась, приобретая причудливые формы, поэтому огненная тень на стене словно жила и дышала.
— Вот он, вот! — закричала Ирина Семеновна. — Видишь, бежит?
— Вижу… — затаённо произнесла Прасковья Яковлевна.
— А вот полоска огня — прямо к нему протянулась. Видишь?
— Да.
— Это немец по нему стреляет.
— И что теперь, господи? — прижала руки к груди Прасковья Яковлевна.
— Что? Он упал, конечно. И притворился мертвым.
— Притворился?!
— А потому что вот он шевелится, смотри, — ворожея показывала на какие-то тлеющие изгибы газеты. — Или, может, и не притворяется, а просто ранен. Вот, вот! — она тыкала пальцем то на догорающее пламя, то на стенку. — Он ползет к своим! Он жив, Паша!
— Жив… — выдохнула, не веря такому счастью, Прасковья Яковлевна. — Что же делать? Где мне искать его?
Бабушка посоветовала не спешить. Сейчас надо успокоиться, отбросить плохие мысли, идти домой, и там положить похоронку перед иконами. Самой же — хорошо поесть и отдохнуть, а вечером, когда никто не будет мешать, зажечь свечу и усердно помолиться Богу о спасении раба Божьего Бориса.
То был первый раз, когда равнодушная к религии Прасковья Яковлевна всю ночь простояла перед образами, каялась Всевышнему в своих грехах, просила простить их и внять ее мольбе. Молила же Его о муже, чтобы Всевышний смилостивился над ним и вернул домой живым. «Если живым окажется, обязуюсь, Боже милостивый, беречь его. Обещаю также ничего не просить у Тебя для себя, вести жизнь скромную и правильную».
Неважно, как оно получилось: то ли Ирина Семеновна оказалась пророчицей, то ли Всевышний услышал искренние слова Прасковьи Яковлевны — только в последних числах мая от какой-то доброй души пришло письмо личного характера. В нем сообщалось, что Борис Павлович жив, но тяжело ранен в грудь и отправлен в хирургический передвижной госпиталь, есть надежда на выздоровление. Может, это писала медсестра или кто-то из его друзей.
Период жизни с марта 1943 года по июнь 1944 года был адом для Прасковьи Яковлевны, где она, как в смоле, вязла и горела в терзаниях, где терпела танталовы муки{2}, рисковала и страдала от потерь, где сто раз умирала с теми, кого теряла, и, побеждая ад, снова воскресала к жизни. В том аду раньше времени сгинула ее юность и вовсю сгорали красота и молодость. Но всякий раз она поднималась и становилась в строй.
Идеальная бархатистая кожа ее лица уже не казалась такой свежей, как раньше, а под глазами появились темные тени и первые морщинки. Плечи стройной фигурки закруглились и наклонились вперед. А еще она разучилась улыбаться, перестала понимать шутки — отныне казавшиеся ей недопустимым зубоскальством. Легкость жизни отошла от нее, не простившись, чтобы никогда не вернуться.
Но Прасковья Яковлевна превозмогла ту геенну огненную. И выжила. Только изменилась душой — мудрой и бесстрашной, как у ее матери. Словно лишенная земных оков, ее душа поднялась на сияющие вершины совершенства, и откуда взирала на людей снисходительно, но и требовательно.
Ни мужу, ни детям впредь Прасковья Яковлевна не делала поблажек, с крышесносной настойчивостью требовала соблюдения морали, усердия в труде, преклонения перед своими обязанностями — и не потому, что себя считала безупречной, а в силу понимания, что им за это воздастся высшими силами.
Прощание с фронтом
Прасковья Яковлевна готова была птицей лететь на поиски мужа, невзирая на ограниченные возможности, такие как нехватка денег, наличие на руках малого ребенка, больной бабушки и занятость на работе. Как она связана обстоятельствами! И как плохо без мамы, умеющей находить правильные решения и доводить их до конца! Вспоминая свою прошлую отвагу, Прасковья Яковлевна начала подыскивать варианты, как все устроить.
Но трезвый расчет усмирил ее настроение и подсказал, что без конкретного адреса отчаянная задумка о поиске мужа превратится в изматывающую погоню с неизвестным итогом, в авантюру. Она только растратится и не сможет быть полезной Борису Павловичу, когда это потребуется.
Решение о том, отправляться или не отправляться на поиски Бориса Павловича, измотало ее. То она твердила себе, что все контраргументы, поставленные рядом с вопросом о его жизни, — мелки и недостойны внимания. То чувствовала свое бессилие и понимала, что сейчас ему нужнее врачи, а не она.
День проходил за днем, не принося облегчения, и чем бы это закончилось неизвестно. Но тут ей принесли письмо, написанное под диктовку Бориса Павловича. Он сообщал, что живой, лечится в хирургическом полевом подвижном госпитале, и просил ее не волноваться. Когда можно будет увидеться, он сообщит.
И только в первое воскресенье сентября, когда раненого перевели в эвакогоспиталь 4452, дислоцированный в Днепропетровске, Прасковья Яковлевна смогла его увидеть. Он уже полегоньку ходил, хотя был еще слабым, очень исхудавшим и бледным. Конечно, выжить ему помогла молодость. Человек даже средних лет при таком ранении, лечение которого запоздало на несколько дней, выкарабкаться не смог бы.
Тем не менее настроение у него было бодрое, он все время шутил и острил, чем успел завоевать любовь соседей по палате, и теперь за ним следом бегал совсем юный боец с рукой на перевязи, взирающий на него буквально глазами обожателя. Парнишке для выздоровления, видимо, очень требовалось видеть рядом пример человека стойкого и неунывающего, и он нашел его в Борисе Павловиче.
— Сашка, ну дай побыть вдвоем с женой, — просил его Борис Павлович, когда они вышли в парк при госпитале. — Погуляй в другом месте.
— Не уйду, Борис, я же твоя собака, — парень имел дефекты речи, так что вместо «собака» у него получалось «хобака». Борис Павлович отныне так его и называл.
Сад, высаженный до войны Яковом Алексеевичем, словно почуял, что его плоды больше не достанутся фашистам, и в 1944 году дал обильный урожай. На некоторых деревьях он появился впервые и отличался особой крупностью. Всей этой роскоши Прасковья Яковлевна много привезла выздоравливающему. А также достала свежего липового меда, хорошо помогающего при воспалениях.
Теперь каждое воскресенье Борис Павлович видел жену и дочь, угощался сытными домашними блюдами, ел много свежих овощей и фруктов. Он видел тот мир, который не чаял увидеть в момент ранения, когда понял, что с ним случилось. И насыщал легкие воздухом, что тогда ему не удавалось сделать. Он ходил, грелся на солнце и пил воду! Это была несказанная роскошь, которая раньше не замечалась, а теперь он стал замечать и ценить ее. Смерть еще раз попыталась накинуть на него свой аркан, и опять отступила.
И все же до полного выздоровления было далеко. Для излечения травмированных тканей, тем более с учетом пробитой грудинной кости, отпущенного медиками времени явно не хватало — требовался долгий период реабилитации, щадящего режима, чередования дозированного труда и отдыха. Прасковья Яковлевна это понимала, но что она могла сделать, если еще полыхала война и раненым солдатам после лечения полагалось возвращаться на фронт, где не было легкого труда. Просто старалась посильно помочь мужу в укреплении общего состояния.
Через четыре месяца настал день 6-го октября, когда Борис Павлович был признан здоровым и отправлен в расположение части. Конечно, состояние его еще оставалось далеким от желаемого, и нести полную боевую нагрузку для него было бы губительным. Слава Богу и советским военачальникам, которым были присущи человечность и рачительное отношение к бойцам. И Бориса Павловича после госпиталя не послали под пули, а предложили поступить на учебу для приобретения военной специальности. Он, конечно, согласился, ибо понимал, что этим милосердием его спасают. Милосердие вообще надлежит принимать с благодарностью, ибо иначе оно иссякнет в людях.
Скоро он получил направление в Симферопольское пехотное военное училище и в октябре 1944 года приступил к учебе. Теперь он находился далеко от фронта, оставленного так неожиданно и в таком яростном порыве доставить в роту «языка», что инерция той ярости, той боевой жизни и того темпа еще преобладала в нем. Часто в ходе дня на него накатывало ощущение, что надо спешить назад в часть, что там его ждут, ибо он многое недоделал. Он не слышал больше грохотания атак и наступлений, разрывов бризантных снарядов, криков «ура-а!», не дышал дымом и гарью стреляющих пушек, не чувствовал дрожания земли — все это осталось в его прошлой жизни и лишь будоражило сны. Но он с какой-то неудовлетворенностью радовался этому. И досадовал, что мало отплатил фашистам за горести, обиды и потери, которые перетерпел! Он досадовал, что рано получил ранение и не утолил еще жажды мщения.
Мир, открывшийся после боев, — со всей его благодатью, с кутерьмой обязанностей, с радостями и перспективами, с тихими спокойными ночами — не заполнял Бориса Павловича полностью. Необходимость приложить себя еще к чему-то томила его молодое сердце. Так устроен человек, что долгая память ему дается только в беде и в лишениях, а в благополучное время память становится короче. И тут навстречу человеку поспешают соблазны, причем самые невзыскательные. Для молодого и красивого мужчины это, конечно, женщины.
Поглядывая на входящего в форму мужа, ох, как хорошо понимала это Прасковья Яковлевна.
Быть женой — большое искусство, не каждая женщина им владеет. Но удержать возле себя мужа, долгое время отсутствующего дома, — еще более высокое искусство. Почти подвиг. И Прасковья Яковлевна регулярно совершала этот подвиг, поскольку понимала, что мужу уже ничего не грозит, кроме одного — разбаловаться среди множества одиноких женщин. При малейшей возможности она ехала в Симферополь, знакомилась с окружением мужа, и давала понять этому окружению, что он — человек женатый, обремененный ребенком.
Пресечь посягательства
Поздней осенью 1944 года тихо отошла в вечность Ефросинья Алексеевна.
К тяжелой болезни, позволявшей тем не менее больной находиться на ногах, и к ее странностям, сопряженным с неожиданными поступками, порой неприятными, Прасковья Яковлевна за последние годы привыкла. Это не казалось ей поводом для смерти. И когда под вечер одного из дней смерть все-таки случилась, молодая женщина растерялась. Как организовать похороны, за счет чего, с кем и с чего начинать? Она не нашла ничего лучшего, как оставить почившую бабушку на попечение Натальи Пантелеевны и Ольги Пантелеевны, ее дочерей, а самой в тот же вечер сесть на скорый поезд до Симферополя и на следующее утро прибыть к мужу с просьбой о помощи.
В связи с похоронами бабушки Борису Павловичу в училище дали отпуск. Все тем же скорым поездом Симферополь-Москва, который, проходя через Славгород, делал тут остановку, они в кратчайший срок добрались домой. Не прошло и пары суток с момента упокоения Ефросиньи Алексеевны, как вокруг нее собралась семья, с которой она доживала последние дни. На третьи сутки усопшую предали земле, наскоро помянули и под вечер Борис Павлович отбыл на службу.
Все прошло хорошо, не хуже, чем у людей, — подводила итог Прасковья Яковлевна, оглядываясь назад, — вот, и муж неожиданно побывал дома, а то совсем отбился … Без бабушки придется ей одиноко, и дом, который никогда не пустовал, теперь по полдня будет стоять под замком, в такой тишине, для которой и создан не был.
Всех, всех родных, кого с детства она считала неотъемлемой частью этих мест и событий, ветры времени отнесли в недосягаемые пределы, там определив им дела и обязанности. К этим странностям и непонятностям, изменившим масштаб восприятий, за которым стояли не отдельные человеческие интересы, а судьбина великой Родины, мощное продвижение народа в галактическую историю, нельзя было привыкнуть… Многие люди трагически оказались в небытие… — зачем так надо было, кому, если без них мир осиротел? А других разметало в разные стороны, завеяло далеко от Славгорода и от нее, такой еще беспомощной и молодой, неокрепшей своей волей и устойчивостью. Она представлялась себе маленькой, затерянной в огромном бушующем мире, и, наверное, это не было большим преувеличением — силы, обнаруживающиеся в ней прежде, были не ее собственными, а шли к ней от родителей. Но слишком рано, а главное, неожиданно она оказалась без них.
И вот не стало бабушки, последней нити, соединяющей ее с прошлым, последней тени тех счастливых лет. Долгие-долгие годы бабушка была добытчицей в семье, обеспечивала семье известность в округе и уважение людей. Это тоже немалое сокровище! И все же по ней не надо горевать чрезмерно, дабы не гневить Бога — старушка пожила долгонько, и давно готовилась к уходу.
Нет, не по ушедшим сейчас печалилась Прасковья Яковлевна, они уже определились с вечной жизнью, а по себе, еще шагающей по земле — вместо их всех. Но как она одна может стать им заменой? Сможет ли нести ту ношу, которую несли они?
Раньше она думала, что жить — значит радоваться, а теперь поняла, что нет, жизнь состоит из преодоления мук и пыток. Но ведь ей уже достаточно их выпало! Чего еще она не пережила, какого еще ужаса не узнала, что еще не насылалось на нее свыше, какие терзания не ранили ее душу? — Прасковья Яковлевна находила, что она наперед, на все отпущенные ей годы отстрадала, наплакалась, отмаялась душой. Как хотелось ей надеяться только на счастье!
Молодая женщина размышляла — без кощунства и гордыни, лишь с укоризной к фортуне, — а слезы сами катились по щекам. Ничто не нарушало ее покоя, не мешало предаваться прошлому, не будило залегшую в доме тишину. Ее размышления были почти элегичными, необходимыми ей, ибо подводили черту под прежней жизнью, жизнью под сенью старших, защищенной их участием или живым присутствием. Теперь их с нею нет — никого. Их не увидеть, не найти и к ним не докричаться… Она осталась одна в этой пустыне чужих людей. И как жить, для кого и зачем — она не понимала. Лишь знала, что надо. Ведь того хотели ее дорогие родители!
Это «надо» отныне станет основным стержнем, удерживающим ее на ногах, дающим силы, питающим ее волю. Оно стало основным наказом от родителей, невысказанным вовремя по причине их молодости и того, что они не собирались так рано умирать. Но теперь Прасковья Яковлевна сердцем поняла тот наказ, возможно фибрами естества учуяла его, несущегося из недосягаемой вечности, куда ушли Яков Алексеевич и Липа Пантелеевна.
Наплакавшись, Прасковья Яковлевна вздохнула с облегчением, с необъяснимой просветленностью, словно почудился ей свет впереди. Это были редкие минуты хоть и грусти, но сотканной из душевного покоя, которые выпадали ей. А впереди… О, нет, лучше не знать того, что впереди. Благословен текущий миг — в котором мы живем!
На исходе девяти дней, в течение которых о покойнице следовало молиться, дабы перед мытарствами были прощены ей грехи, к Прасковье Яковлевне явились тетки, дружной парой, чего раньше никогда не бывало. Сели на скамейке в кухне, возле теплого места, сложили руки на коленях, сделали скорбные лица со сжатыми губами и стали вниз-вверх качать головами.
Прасковья Яковлевна как раз сидела за письменным столом, обложившись учебниками — наслаждалась теплом, приятной домашней обстановкой и готовилась к завтрашним урокам. Раньше она писала учебные планы по ночам, отрывая время от сна, а теперь, оставшись вдвоем с дочкой, школьной работе и проверке ученических тетрадей успевала уделить внимание вечером, а ночью спала, потому что не мешало ей, молотимой то бедами, то несчастьями, позаботиться о себе.
Тетки угрюмо молчали, и она, полагая, что они просто пришли поддержать ее в горе, заговорила первой, начала делиться новостями, что-то сказала о Петре, все еще остающемся в Германии, упомянула об Алексее.
— Он воюет на Волховском фронте, — развлекая теток, говорила она. — В сентябре-ноябре их части прошли по Прибалтике, освободили суходольную Эстонию, Моонзундский архипелаг…
— Дай Бог твоим братьям вернуться домой живыми, — елейным голосом перебила ее Ольга Пантелеевна, не выдержав натиска таких сложных слов, которые произносила племянница.
— Ага, — присоединилась к сестре Наталья Пантелеевна, — и я говорю, что они уже отрезанный ломоть, не твоя семья. Женятся, осядут возле жен. А в этом доме из прежней семьи ты одна осталась.
Прасковья Яковлевна почувствовала холодок, идущий от теток, и насторожилась, осторожно произнесла нейтральную фразу:
— Пока не женились, они — моя семья, а мой дом — их дом.
— Мы как раз о доме и пришли поговорить, — первой раскрыла карты более смелая из сестер — Наталья Пантелеевна.
Короче, в чем оказалось дело? Их младшая сестра, Евлампия Пантелеевна, выйдя замуж, поначалу оставалась жить под крылом родителей, одной с ними семьей. Там у молодых супругов родилась дочь Прасковья, там дед с бабкой ее нянчили. Все у них шло хорошо: зять пришелся ко двору, был работящим, покладистым, ладил со стариками.
Так бы жить и жить, но вот беда — хата их стояла в неудобном месте, слишком скученном, что ни проехать к ней подводой, ни развернуться возле двора было невозможно. Это мешало Якову Алексеевичу, который жил натуральным хозяйством, выращивал урожай, привозил домой, тут молотил да веял его и закладывал на хранение. В хозяйстве он завел всякую живность, для которой надо было с осени заготавливать корма, да и каждый день привозить зелень или солому. На узкой улочке, в тесном дворе он мучился с этими делами и поэтому многое держал во дворе своих родителей. Жить на два двора, расположенных почти в километре один от другого, было утомительно, и долго так продолжаться не могло. Кроме того, усадьба стариков Сотник располагалась на крутом спуске в балку, отчего огород в дожди и паводки уплывал вниз, унося с собой чернозем и удобрения.
Но вот настал 1928 год, и вокруг Ефросиньи Алексеевны закрутились перемены, посыпались как горох. Летом, накрыв кровлей выстроенную кое-как из вальков времянку, от нее, три года как овдовевшей, съехали дети и зажили отдельными заботами. Осталась она совсем одна в пустом доме. Без шумной молодой семьи затосковала — что-то значило-таки сразу лишиться троих шумных внуков, — ходила по пустым углам, не находя себе применения. Получилось, что в короткое время бедная Ефросинья Алексеевна стала никому не нужной.
Конечно, она испугалась — ибо никогда не оставалась без мужской поддержки, вообще без стороннего участия. Первое время ее опорой был брат, а потом муж. Что же теперь делать? Как жить, оставшись на собственном попечении? Иногда она еще работала по родовспоможению и зарабатывала на кусок хлеба, но силы ее, конечно, таяли.
И тут случилась счастливая оказия, возможность избежать одиночества.
Якову Алексеевичу, застрявшему в своей медленной стройке из-за ограниченности в средствах, подвернулся почти готовый дом, недостроенный, в котором тем не менее можно было жить. Дом стоял на улице Степной, где местный архитектор строил его для себя. Но теперь он уезжал в город, на более выгодную должность, и дом продавал.
Улица Степная — это было рядом с его родителями! Очень удобно! Яков Алексеевич закрутился юлой — денег на покупку дома не хватало, а упускать его не хотелось. Что было делать? Тут умненькая Ефросинья Алексеевна и подоспела со своим планом:
— Забирайте меня к себе, — предложила зятю, — а хату мою продайте. Мне одной она, такая большая, не нужна. А вам деньги пригодятся в возмещение моего содержания.
— Да мы с дорогой душой! — обрадовался Яков Алексеевич. — Как, Липа, заберем маму к себе?
— Не о том речь, Яша, — бесстрастно сказала строгая на выявление эмоций Лампия Пантелеевна. — Я думаю, хватит ли денег, взятых за хату, на покупку того дома...
— Так еще и свою времянку продайте! — сказала Ефросинья Алексеевна. — Тогда хватит.
— Да кому она нужна, недостроенная… — засомневался зять. — Тут многое до ума не доведено…
— А ты приложи к времянке часть строительных материалов. Они-то тебе не пригодятся теперь. Лес, немного кирпича, например, — развивала свою идею Ефросинья Алексеевна. — Да сад посади, дорожки посыпь песком. Тебя ли учить?!
— Сад! — воскликнул обрадованно Яков Алексеевич. — Это да, сработает! Ну, мама, что бы мы без вас делали?!
Так они и поступили, и — о, чудо! — оба объекта быстро и хорошо продались. Уже к осени 1928 года семья вместе с Ефросинией Алексеевной переехала в новый просторный дом.
Такова была предыстория вопроса.
Теперь, когда умерла Ефросинья Алексеевна, ее дочки пришли за своим наследством — они требовали от Прасковьи Яковлевны выселиться отсюда и отдать дом им. Та опешила!
— Какое отношение вы к нему имеете? — спросила неласково. — Его купил мой отец.
— Да, но на деньги нашей матери!
— Дом записан на Якова Алексеевича, — напомнила теткам Прасковья Яковлевна. — А если тут и есть бабушкина доля, так и моя мать была ее дочерью. И потом бабушка много лет жила у нас, уже не работая… Мы ее содержали.
Тетки упорствовали, требовали своего, ярились и чуть ли не хватались за ее вещи, чтобы выбросить на улицу. Страсти опасно накалялись. Прасковья Яковлевна смотрела на теток, как на сумасшедших, не узнавая их.
Она представила, что с нею может быть. Допустим, она тут все бросит и уедет к мужу в Симферополь. Как-нибудь там найдет квартиру, работу и сможет себя содержать, но как быть с Шурой, у которой тут есть прабабушка, бабушка, двоюродные бабушки, дядья и тетки? С кем ее там оставлять, если нельзя будет брать с собой? А Петр и Алексей! Куда они вернутся с военных дорог?
Последнее больше всего убедило ее в том, что теткам нельзя уступать, что она вправе владеть этим домом на равных долях с братьями.
— Собирайте родню! — в конце концов, сказала Прасковья Яковлевна. — Послезавтра на большом совете решим, кто прав.
Встретились в условленный день все в той же теплой кухне у Прасковьи Яковлевны. Тетки с собой никого не привели. Может, на свой авторитет понадеялись или на весомость аргументов, а может, другие родственники отказались их поддерживать в данном вопросе — неясно было. Но на расширенное собрание они опять пришли вдвоем. А со стороны Прасковьи Яковлевны присутствовали: бабушка по отцу Ирина Семеновна и родная сестра отца Елена Алексеевна.
По всем правилам настоящих собраний Прасковья Яковлевна говорила первой, изложила суть спора.
— Так, тетушки, я излагаю ваши претензии? — в конце спросила она.
— Так, — согласились те.
Тут встала Елена Алексеевна, нервно сняла платок с головы, положила на плечи и, двумя пальцами промокнув уголки губ, тихо заговорила:
— Тогда скажите, какие деньги могли остаться у вашей матери? Последние два десятка лет она уже не работала, находилась на иждивении зятя. Значит, у Пашиного отца. Она что, не пила и не ела в эти годы? Или босая ходила и раздетая? Знаете, подруги, 20 лет — это большой срок, за это время вырастают новые дети. Вон, возьмите, Алешу. Он родился сразу, как тетя Фрося овдовела. Так он уже на фронте воюет, от врагов отбивается. А вы говорите…
— У Наташи своего угла нет, — Ольга Пантелеевна нервно перебила Елену Алексеевну. — По квартирам скитается. Ей что, не полагается крыша над головой?
— Мы от своих родителей ничего не получили. Разве это правильно? Такого ни у кого не было, — поддержала сестру Наталья Пантелеевна.
Сестры еще долго говорили о том, что они обе пострадали из-за войны и о них позаботиться некому, что их дети тоже воюют на фронте, а они уже старые и от государства никакой помощи не имеют. Им отвечала то Прасковья Яковлевна, то ее тетка. Совместно они посчитали, сколько денег принесла Ефросиния Алексеевна в семью младшей дочери, и сколько потратила на себя за годы их совместной жизни. Получалось, что потратила намного больше. Спор, однако, не утихал, казалось, спорщики готовы были сидеть до утра.
Но вот заговорила все время молчавшая Ирина Семеновна:
— Враг, мучивший нас, еще не сломлен. Где-то продолжается война, погибают солдаты. А мы, жены и матери этих солдат, ругаемся между собой. Что вы делите? Кто вас надоумил, Наташа и Оля, вспомнить о наследстве? Вы дожили без него до седин и не пропали. И наверное, не рассчитывали на него. Кто вас толкнул на скандал? И почему вы решили, что именно Паша, сама так много потерявшая, должна возместить вам то, что забрала неласковая доля? Ваша племянница — не волшебница.
В полной тишине она передохнула и мягко продолжила:
— Неправда, что вам родители ничего не дали. Вы просто забыли об этом. А я помню твою юность, Наташа, и какое приданое ты получила, выходя первый раз замуж. Забыла? А ну вспомни.
— Помню я, — буркнула Наталья Пантелеевна. — Но то же приданое.
Не обратив внимания на ее слова, Ирина Семеновна продолжила:
— А тебе, Оля, какую свадьбу сыграли родители? Полсела на ней гуляло! Наверное, приданое тоже было богатым.
— Не жалуюсь…
Ирина Семеновна улыбнулась:
— Да и надарили вам с мужем добра много — из-за хорошего имени твоей матери, которая и гостей и их детей своими руками на свет принимала. Ты зря думаешь, что это не считается. А Липе они уже ничего дать не смогли — выдохлись. Ни свадьбы ей не играли, ни приданого не давали, ни подарков от родни для нее не собирали. Вы об этом думали?
Но это не главное. Главное, что у Паши, вашей племянницы, нет родителей. Вы тут говорили о своих горестях, что несчастные вы… А как назвать ее после потери отца и матери? Как назвать ее братьев, которых она сама, такая молодая, поставила на ноги? Они стали сиротами. И вы хотите у них отнять родительское добро? Когда это в нашем народе обирали сирот?
Вы что задумали, девчата? Да вас люди заплюют! Вот вернутся с фронта ваши сыновья, начнут жить по-новому, обновлять порушенное, и мы им поможем в этом. Сообща вам жилища поставим.
Мое слово такое: Паша остается жить в этом доме. Он по праву и по совести принадлежит ей. А теперь идите по домам и больше об этом не заикайтесь.
Ирина Семеновна ничуть не фантазировала, она говорила то, что предчувствовала или предугадывала. После войны все по ее слову и произошло.
Вернулся домой Иван Тимофеевич Ермак, старший сын Натальи Пантелеевны (рождением которого она неправедно рассталась с юностью) и затеял возведение новой хаты. До этого его семья жила где-то на Рожновой или еще дальше — на Аграфеновке. Какими ветрами его туда занесло, теперь мы не знаем, потому что родители жены Галины Игнатьевны, старики Вовки, тоже были исконными славгородцами. При этом Иван Тимофеевич работал кузнецом на Славгородском заводе «Прогресс», позже — Славгородский арматурный завод, где почти все село работало. Конечно, ходить ему туда-сюда было далеко, километра три в один конец.
Между тем его мать, Наталья Пантелеевна, овдовев окончательно, ушла от родственников мужа и с младшей дочкой Зинаидой Тимофеевной поселялась на съемных квартирах в Славгороде.
Понятное дело, что Иван Тимофеевич решил строить свое жилье возле матери, в селе, где и сам жил в детстве-юности. Дали ему участок на западном склоне Дроновой балки, в самом ее начале. Сначала поставил он для семьи времянку и переселился в нее. Расчет был на то, что станет она при новой хате сараем и летней кухней. В той времянке они как раз перебивались, когда застала их страшная беда — от скоротечной чахотки умер старший сын Николай{3}.
Затем забили фундамент хаты на два входа — для себя и для матери с дочкой. Два года Прасковья Яковлевна и Борис Павлович работали на том строительстве первыми помощниками. Так что преклонные годы Наталья Пантелеевна прожила в своем углу.
Да и не только это — никогда Прасковья Яковлевна и Борис Павлович не обходили ее своим попечением, если требовалось что-то привезти в дом или куда-то ее свозить.
А Ольге Пантелеевне дом и не требовался, у нее от мужа осталось хорошее жилье. Из сыновей на фронте никто не полег, все вернулись домой, зажили хорошо. Грех было жаловаться.
Глава 2. Стоять на своем
Чумной могильник
Известно, что война делает человека свободнее. Это хорошо описано в советской фронтовой прозе, из которой мы, не знавшие войны, и почерпнули указанную мудрость. Да и фильмы о войне волей-неволей приоткрывают эту сторону человеческой психики. В качестве примера можно назвать фильм «Они сражались за Родину» — там есть сценка, где бойцы пытались добыть харчи путем обольщения одинокой женщины. Как видим, тогда эту закономерность, возможно, и не осознавали те, кто попал в жернова войны, но быстро научились использовать временную независимость от семей. Особенно, если военная ситуация складывалась не под пулями, а в затишье.
Так случилось и у Бориса Павловича после лечения в госпитале. За время учебы в училище он несколько распоясался, показав, что к самостоятельной жизни ни психологически, ни нравственно не готов.
Учеба давалась ему тяжело, но не из-за отсутствия способностей, а потому что не было предварительной подготовки. Что такое начальная школа, которую к тому же он окончил где-то в Багдаде? Она дала самые необходимые знания, которых было недостаточно для учебы в техническом училище. Он на ходу постигал решения уравнений, запоминал основные формулы тригонометрических функций, познавал законы физики, изучал сложные геометрические фигуры и их свойства, и т.д. Он очень много работал с учебниками, ходил на консультации к отличникам. От обилия новизны, которую надо было охватить всю разом, голова шла кругом! Он переутомлялся. Пройти самостоятельно весь материал средних классов школы за месяц-два — вот что от него требовалось. Это была сложная задача даже и для настоящих умников. Но худо-бедно он с нею справлялся.
А молодость брала свое, и отбиваться от ее соблазнов, тем более городских, у Бориса Павловича то ли силы воли не хватало, то ли он отбиваться и не хотел, например, в силу непонимания, что баловать себя надо с большой осторожностью. Возможно, ему казалось, что после войны, пока возраст позволял, он имеет право добрать упущенной юности. Короче, он позволял себе мужские похождения, скорее всего, даже не думая о высоких материях, считая, что не такой уж это грех для мужчины...
В отличие от Прасковьи Яковлевны, которой многие откровения давались природным путем, ему никак не открывалась истина о том, что жить надо тихо, во многих и упорных трудах и в стремлении к развитию духа. При этом надо держать плоть в строгости и вкушать блага мира мало и незаметно. А Борис Павлович был нетерпелив. Стоило ему хоть чуть-чуть почувствовать себя увереннее, как он, к сожалению, терял берега — не видел для себя ни ограничений, ни меры. Он сразу же бросался в поиски «цветущей жизни»{4}, имея в виду, конечно, отнюдь не совершенствование души.
В то, что человеческая жизнь — это вообще обреченная на крах гонка за недостижимой целью, попытка поймать ускользающую мечту, ему не верилось. Некая самоуверенность нашептывала ему веру в сказки, в их осуществление, в то, что жар-птицу можно поймать.
Мысль о том, что самое дорогое всегда находится рядом с человеком и надо просто понять, что оно — самое дорогое как будто казалась ему неуместной издевкой. Борису Павловичу всегда чудилось, что от него ускользнуло нечто лучшее по сравнению с тем, что осталось в руках. Истина, что жизненный уклад должен соответствовать статусу человека, иначе человек будет выглядеть нелепо, никак не укладывалась в его понимании.
Здесь можно вспомнить фильм «Мусорщик», где герой Алексея Гуськова, будучи дворником в маленьком провинциальном городке, утопающем в русских снегах, вел жизнь «столичной штучки», рассуждал как настоящий философ и одевался как миллионер. Такое несочетаемое сочетание возможно только в кино, и то — внимание! — создается оно искусственно и для временного использования с одной целью: чтобы закрутить интригу и развернуть перед зрителями захватывающий сюжет. Как правило, в конце каждой такой истории все встает на свои места, как случилось и в указанном фильме. Иначе не бывает!
Чтобы жить лучше и интереснее, надо попытаться изменить свой статус, а не надевать маски и не заимствовать чужой образ жизни. Даже Водяной из мультфильма «Летучий корабль», который поет: «Эх, жизнь моя, жестянка! А ну ее в болото! Живу я как поганка, а мне летать, а мне летать, а мне летать охота!» — и тот понимает, что желаемое и действительное не одно и то же. И если их путать или выдавать одно за другое, да еще воспринимать это всерьез, то получатся варианты нежизнеспособных ситуаций, приводящие к драмам. Вот такие несогласованные между собой данности порождали и в поступках молодого Бориса Павловича нечто карнавальное, приключенческое.
По всем законам авантюрного жанра, вольность, укоренившаяся в поведении оторванного от дома мужчины, привела Бориса Павловича к тому, что в Симферополе у него появилась женщина. Позже он объяснял, что они с нею делали «бизнес», не больше, но факты свидетельствуют, что в том «бизнесе» была общая касса и все другое. Женщина работала заведующей аптекой, расположенной при училище, и имела доступ к дефицитным лекарствам. Это очень пригодилось курсантам, окружавшим Бориса Павловича, которые на фронте подцепили «дурные болезни». Он рассказывал: «Мы с Жанной успели вылечить половину училища!» Естественно, у него завелись денежки, о которых он помалкивал и не открывался жене в ее приезды, так как не мог объяснить их происхождение. Поэтому и тратил их попусту, как говорится, на свои удовольствия.
Борис Павлович в этом детском по сути прегрешении был далеко не одинок. Такое случалось и с более подготовленными к деньгам людьми. Известная советская актриса Нонна Мордюкова, например, всю Сталинскую премию первой степени потратила на пирожные, то есть проела ее.
Столь легкомысленная жизнь, безусловно, когда-то надоела бы ему, через какой-то большой промежуток времени. Но судьба не решалась на такой эксперимент, и пока что Борису Павловичу нравилась тренькать деньги. Хотя неким чувством осторожности он все-таки обладал и понимал, что веревочке не виться бесконечно, поэтому не столько подумывал оставить сельскую жену и жениться на Жанне, сколько хотел как можно дольше поэксплуатировать пойманную удачу. Типичная ситуация, когда человек гонится за двумя зайцами или пытается усидеть да двух стульях.
Просто пока что он ничего не хотел менять!
Однако вскоре настали перемены, уничтожившие его беспечные планы и самотечные намерения, — в июле 1945 года Бориса Павловича отчислили из училища. Вины за ним никакой не было, и командованию очень не хотелось этого делать, но ситуационных, внешних причин было слишком много, чтобы их игнорировать. Крылись они в пребывании Бориса Павловича в плену, в оккупации. А самое главное — в его самочувствии. Очередной медицинский осмотр выявил у него проблемы с психикой, вызванные перенесенными стрессами от пребывания под расстрелом, от ранения и от других потрясений. Мы бы сказали, что он был слишком заводной, но психиатры формулировали это как-то иначе. До всех этих подробностей докопались и дотошные особисты{5} и военные врачи. Работа такая у них была.
Честно говоря, Борис Павлович, зная обо всех слабых сторонах своей биографии и здоровья, не очень верил в то, что прорвется к высокому положению, и знал, что рано или поздно правда, которую он замалчивал, обнаружится. Он готов был ко всему. Поэтому быстро нашел, чем успокоиться. Беда невелика, думал он, главное, что война закончилась, больше нет фронта и никто ни в кого не стреляет. Действительно, смерть от пули врага ему нигде не угрожала, куда бы он ни попал после училища. Тем не менее вследствие таких неудачных перемен на военной карьере, о которой он если и не мечтал, то подумывал с затаенным желанием, пришлось поставить крест.
Значит, улучшить свою жизнь, заходя с этой стороны, не получилось... Оставался вариант, связанный с Жанной, хотя Борис Павлович и не знал, как им воспользоваться. Он планировал потянуть время и что-нибудь придумать. Но не успел...
Ближе к концу июля, пришло письмо от Прасковьи Яковлевны, в котором сообщалось, что после последнего приезда к нему она забеременела и теперь сильно страдает токсикозом, так что в ближайшее время приехать не сможет. И тут Борис Павлович понял, что не только военная карьера, но и предприимчивая Жанна пролетает мимо него: не мог же он вероломно обойтись женой, ждущей второго ребенка.
Попытка улучшить свое будущее за счет пребывания в Симферополе со всеми его возможностями обидно и бесповоротно не удалась…
Я бесконечно сочувствую молодому Борису Павловичу, который через тернии объективных помех прорывался наверх и у которого это не получилось. Пусть его поступки не отличались безукоризненностью в нравственном отношении, но они были бесхитростны и простительны, ибо он искренне хотел обрести жизнь, подобную багдадской, наполненную богатством и роскошью. Стремиться туда, где человеку чудятся вершины, никому не возбраняется, ибо вершины у каждого свои. Возможно, поэтому Прасковья Яковлевна так хорошо понимала мужа и многое прощала ему. Город, благоустроенные квартиры, асфальт, освещенные улицы и материальный достаток — это была привычная для него среда, желанная и понятная. Как же можно было, вновь обретя ее, расстаться с нею по собственной воле, без принуждения?
Этим свержением вниз бедный Борис Павлович расплачивался за право жить, за свои удачи в поединках со смертью. Все люди, причастные к решению его удела, понимали, что он попал в страшный переплет, из которого не многие бы выкрутились и уцелели, а он оказался молодцом — ему это удалось. В плену он оказался не по своей вине и это доказала военная прокуратура, отменившая поспешное решение военного трибунала. А в результате побега из плена Борис Павлович невольно очутился на оккупированной территории, иначе и быть не могло. Эти события ему не ставили в вину. Но вот за что его немцы помиловали на расстреле? Этому особисты не находили объяснений и это заставляло их перестраховываться.
— Поверь, каждый из нас, кто занимался твоим делом, — доброжелательно говорил ему начальник особого отдела, когда разбирательство осталось позади, — рады, что за тобой нет вины и что ты не понесешь никакого наказания. Но сомнения остаются. А мы не имеем права рисковать. Все случившееся с тобой — пустяк. Живи и работай там, где ты вырос — так к тебе будет меньше вопросов.
— Я понимаю это, — соглашался Борис Павлович с убитым видом.
— Ты и так вытянул счастливый билет, можешь мне поверить, уж я всякого повидал на своем посту, — начальник особого отдела расхаживал по кабинету, изредка поглядывая в окно. — Всякого повидал, — задумчиво повторил он. — А ты живи тихо, не рвись, солдат, в генералы. Так оно будет спокойнее...
— Вот что вы мне советуете... Обидно при моих годах и способностях.
— Обидно? — вскинулся офицер. — Да ты остался живым, практически здоровым! И по сути, тебя не коснулись репрессии! Разве этого мало? Поверь, твоего счастья хватило бы на добрый десяток более печальных судеб.
— Ну, может и так...
— Ни на кого не обижайся, брат-солдат, нет тут ничьей вины. Так сложились обстоятельства. Не была бы наша Родина дороже всего на свете, мы не были бы так придирчивы к отдельным людям и так осторожны. И потом — поправляй свое здоровье. Я думаю, твой диагноз не на всю жизнь.
На душе у Бориса Павловича было тяжело, его продолжала грызть обида. Значит, если он находчив и удачлив, так это плохо и его надо остановить? Он так надеялся на кардинальные перемены в судьбе, и вдруг все рухнуло из-за каких-то эфемерных сомнений... Что это вообще такое?
Без конца думая о своем несправедливом жребии, он в один из моментов понял, что особисты прекрасно знали и о его отношениях с Жанной, об их общих делишках, и содрогнулся от ужаса — вот за что его могли усадить за решетку. Господи, да эти люди его просто пожалели и под другим предлогом отвели от беды! Они спасли его от худшей доли! Конечно, его остановили, чтобы он с Жанной не вляпался в преступление. А он раскис... Возможно, не все потеряно?
Говорят, что надежда умирает последней. Так оно и есть! Инерция прежних стремлений к лучшей доле снова укрепилась в Борисе Павловиче. Не может быть, чтобы не существовало лазейки из его безвыходного положения! Только не надо второго ребенка! Чтобы идти налегке, не надо никаких новых хомутов! Срок его срочной службы в армии еще не закончился, и он не представлял, что с ним будет дальше. Нельзя обзаводиться детьми в столь неопределенных обстоятельствах.
Но сроки были упущены, и Прасковья Яковлевна уже ничего не могла исправить. Борис Павлович был расстроен сверх всякой меры. Он просто негодовал, злился и, в конце концов, лишний раз подтверждая свой диагноз, сорвался и заявил, что, если ребенок родится, он никогда не признает его своим.
Прасковья Яковлевна умной своей душой понимала, что муж запутался, попал в беду и в такой ситуации его нельзя оставлять одного, потому что он не увидит чистый свет, не выберется из этого липкого мрака, пойдет по кривой дорожке и окончательно собьется с пути. Она сохраняла прежние отношения с ним не ради себя или детей, а ради его самого. Свой долг перед мужем видела в том, чтобы, будучи единственным ответственным за него человеком, оставаться рядом, пока не пройдет его наваждение. Так она решила и так действовала. Такими чрезвычайно редкими в женщине качествами, как чувство долга, напористость, способность сражаться до конца за свои решения, она оказалась вровень с лучшими людьми своего бурного века. Поэтому и смогла противостоять стихиям, кипевшим в Борисе Павловиче, его разыгравшейся жажде независимости, желанию жить по-новому, без старых оков, в конце концов его чисто мужскому эгоизму и стремлению к легким отношениям на стороне.
Потому что правда была не за ним, потому что весь ход событий он воспринимал неправильно и устремлялся к ложным целям, изменить ситуацию по-своему Борис Павлович не смог. Но обидные слова в адрес жены и еще не родившегося ребенка уже были сказаны им и навсегда повисли в воздухе. Что ему оставалось делать? Брать свои слова назад — это казалось неудобным, было сродни положению, когда у короля корона падает с головы. И Борис Павлович предпочел сделать вид, что неразумные речи произнес сгоряча — от примерещившейся обиды. А за это не бьют, равно как и прощения не просят. Обычно конфликтующими сторонами это понимается без слов и по одной доброй воле выбрасывается из памяти.
Тем временем он, как военнослужащий срочной службы, после исключения из училища должен был обрести новое место. Руководство училища ему по-человечески сочувствовало из-за вынужденного отчисления, поэтому его никуда не отправили, а перевели в батарею боевого обеспечения тут же, в училище, назначив командиром отделения связи.
Вот так его планы поменялись, он не сделал военной карьеры, а остался гражданским человеком, временно надевшим военную форму.
Указом Президиума ВС СССР «О демобилизации третьей очереди личного состава сухопутных войск и военно-воздушных сил» от 20 марта 1946 года (Указ о демобилизации военнослужащих 1919 года рождения) Борис Павлович был уволен в запас. Это случилось 6 мая 1946 года.
После всего сумбура объяснений с женой, после грехов и предательств он вернулся в семью, пережившую без него, без его поддержки еще одну трагедию, ставшую самым темным пятном на его репутации, — смерть новорожденного ребенка, сына Алеши. Дети чувствуют, когда их рождения не хотят и, любя родителей, идут им навстречу — умирают в младенчестве.
Прасковья Яковлевна, верная своему долгу, приняла Бориса Павловича без слов упрека.
В любом периоде истории есть свои чумные могильники, которые лучше не вскрывать. Таким чумным могильником в истории войны для семьи Прасковьи Яковлевны стал Симферополь. В преклонные годы, часто пускаясь в воспоминания, супруги обходили стороной тему Симферополя и всего с ним связанного, обоюдно предав ее умолчанию.
В последующем жизнь еще не раз пошлет Борису Павловичу шанс поменять свой статус на более высокий. Но всегда, почуяв удачу или успех, он тут же будет спешить, терять берега, пускаться в крайности и загулы и накликать на себя неотвратимые возмездия судьбы.
Это несчастное качество, увы, с опозданием открытое в нем женой, раз и навсегда убедит ее, что спокойной и благополучной жизни с Борисом Павловичем у нее не получится. Но тогда же Прасковья Яковлевна упорно смирилась с этим открытием. Она приняла недостатки мужа как обратную его сторону, ибо понимала, что природную данность нельзя изменить и лучше всего к ней просто приспособиться.
Она не могла поступить иначе, зная, что является единственной его опорой и корректирующим фактором, сдерживающим началом, что он ценит ее за это, всегда будет нуждаться в ней и осознанно держаться за нее — как за спасение, как за соломинку, страхующую его от падения на дно. Будучи от природы человеком долга, обладая мощным и непоколебимым чувством ответственности за свою семью, Прасковья Яковлевна положила жизнь на сознательное служение мужу. И ее усилия увенчались успехом.
Борис Павлович был натурой яркой, неординарной. Если искать подобный ему образ среди известных людей, то, как ни странно, быстрее всего приходит на ум Эдуард Изотов, популярный советский актер, талантливый и немного беспечный красавец, герой чудесных детских сказок. Разница лишь в том, что Инга Будкевич, жена Эдуарда Константиновича, оказалась женщиной слабой, не настойчивой, некачественно исполняющей свой долг — по ее упущению жизнь этого человека пошла наперекосяк и закончилась трагически. Таким людям, каким был и этот актер, и Борис Павлович, живущим, действительно, немного не в реальном мире, а в желаемом, нельзя давать много свободы, ибо они, не умея взвешивать свои поступки и идя на поводу у своих страстей, обращают ее себе во вред.
Вот в этом смысле Прасковья Яковлевна, как жена красивого восточного мужчины с небольшими «завихрениями» в характере, оказалась идеальной охранительницей, и все ее настойчивые старания принесли обоим супругам долгую совместную жизнь и тот уровень успешности в ней, какого они смогли достичь совместными усилиями.
Смерть сына и новые перемены
Нежеланный и непланируемый перерыв в учительской деятельности Прасковьи Яковлевны случился в начале 1946 года. Вызван он был второй беременностью и рождением сына Алеши, пришедшимся на 1 марта 1946 года. А потом декретный отпуск продлился дольше положенного срока из-за болезней: сначала самой роженице пришлось восстанавливать здоровье, а потом бороться за жизнь младенца, выношенного не с самым легким сердцем. Впервые справлялась она с жизненными трудностями одна — больше не было рядом ее дорогих родителей, так преданно подставлявших плечо в любых обстоятельствах, не было и мужа, еще несущего военную службу.
Конечно, уходя в декретный отпуск, Прасковья Яковлевна не порывала с трудовой деятельностью окончательно, а лишь временно переключалась на материнские заботы. Ничто не мешало надеяться, что все сложится хорошо и она скоро вернется в строй. Но случились осложнения, болезни, неопределенность… — все, что считается тяжелым для молодой женщины, тем более оставшейся без попечения и помощи, оставшейся в одиночестве. И сам отпуск и то, что она его продлила, огорчало, но думать об этом не приходилось — так складывались обстоятельства. В коллективе ей шли навстречу, ибо ситуация с ее личными горестями объективно была на руку коллегам. Они вознамерились заработать на этом немного денег, для чего решили перераспределить уроки Прасковьи Яковлевны между собой и на ее замену нового учителя не брать.
Но 17 апреля последовала неожиданная смерть ребенка вследствие младенческого{6}. Бедная Прасковья Яковлевна, у которой все пошло кувырком, кругом чувствовала себя виноватой: и свое здоровье ослабила, и родила не в самое лучшее время, и ребенка не уберегла, а теперь и в школу возвращается раньше срока, мешая коллегам воспользоваться ее отсутствием. Но что ей было делать, как дальше жить?
Ясное дело, наплакавшись, поспешила встать в строй. Она вернулась в коллектив, на свое место, стараясь в заботах, в школьной кутерьме найти спасение от горя. Да не тут-то было! В школе Прасковья Яковлевна встретила мягкое, но стойкое сопротивление — такого развития событий не желали те, кто ее подменял, получая дополнительную оплату. Дирекция школы оказалась в щекотливом положении, ведь подводить людей в столь деликатных вопросах, как деньги, опасно — волей-неволей это могло сказаться на отношениях, этом хлипком основании мироустройства.
Решение нашлось само собой — во избежание конфликта Прасковье Яковлевне предложили до начала нового учебного года поработать секретарем районного нарсуда, там тоже сотрудница ушла в декретный отпуск и появилась временная вакансия. Конечно, она согласилась! Сориться с людьми Прасковья Яковлевна не любила, да и не умела.
Так с 29 апреля 1946 года она оказалась вне школы.
Новая должность увлекла, хотя по утрам Прасковье Яковлевне приходилось отводить дочь к родственникам и бежать три километра на вокзал, чтобы еще полчаса ехать поездом в Синельниково, а дальше добираться пешком до места. Впервые молодая женщина оказалась во взрослом окружении, в серьезном государственном учреждении. И это ей понравилось. Бремена, связанные с отдаленностью работы от дома, показались пустяком. Зато теперь она не слышала неумолкаемого школьного гула — оказывается, учительствовать ей не нравилась!
К счастью, работа в суде задалась, что-то там случилось к лучшему и Прасковью Яковлевну оставили работать на постоянной основе. Так она распрощалась со школой. Правда, вряд ли тогда полагала, что навсегда.
Но шли дни за днями, катя свой возок перемен. Не считаясь с желаниями людей, новые дни засыпали их то радостями, то печалями, словно снегом — то тихим и приятным, то вьюжным и секущим кожу. Неожиданно из вооруженных сил демобилизовался Борис Павлович — прервалась его попытка стать кадровым военным, как будто сверху подсказано было, что ненадежный это хлеб. Он вернулся домой злым и пристыженным, снова резко и неожиданно изменив судьбу Прасковьи Яковлевны, на этот раз совсем не так, как ей желательно было. Но ведь война окончилась, и они остались жить! По сравнению с этим все казалось пустяшным, не главным.
Борис Павлович вернулся на завод, откуда был призван в армию еще до войны. А Прасковья Яковлевна продолжила работать в народном суде.
Глава 3. Будни и праздники
Алексей: Жизнь удалась
Сразу после войны
День Победы застал Алексея в учебных классах, и в наступившей весне он не замечал особенной разницы между днями — просто лично для него закончилась зима, пришел май с цветением и теплом, с тишиной и умиротворением. И то, что окружающий мир начал активнее меняться, ему казалось связанным прежде всего с переменой времени года.
Дело в том, что еще с фронта его направили на учебу в военное училище Главного военно-инженерного управления РККА ВС СССР (сокращенно — Московское военно-инженерное училище), поскольку Алексей был сапером. Эта военная специальность до сих пор относится к Инженерным, Инженерно-саперным и Военно-строительным войскам в зависимости от выполняемой ими задачи. Училище располагалось в Болшево Московской области — специально построенном военном городке, тихом и уютном.
Полученного раньше образования — фактически неполной средней школы — Алексею вполне хватало для усвоения предметов, преподаваемых в училище, ибо их объем был рассчитан на военное время. Известно, что с началом Великой Отечественной войны все военные училища были переведены на ускоренное обучение офицерских кадров. Например, там осуществляли обучение офицеров по двум основным программам: шесть месяцев — подготовка командиров; восемь месяцев — подготовка воентехников. Курсантам читались не все предметы, а только основные, базовые, да и то, как уже сказано, в сокращенном объеме.
Саперная армия, так она называлась в обиходе, в период войны предназначалась для заблаговременного строительства тыловых оборонительных рубежей, строительства и ремонта дорог, мостов, заградительных сооружений (в том числе минно-взрывных), а также для подготовки инженерных частей методами военного времени. Солдат-то тоже надо было готовить к такой опасной и ответственной работе!
Но вот настал мир, и перед инженерными войсками начали выстраиваться другие задачи, более широкие. В частности, их могли привлекать к ликвидации и минимизации последствий стихийных и техногенных катастроф, к решению сложных хозяйственно-строительных задач, к борьбе с терроризмом и ко многому другому. Для этого от курсантов требовались специальная подготовка и исключительная боевая выучка, а также знание специфических технических средств и вооружений. Короче, для решения мирных задач саперов нужно было готовить совсем по-другому — давать им углубленные и обогащенные знания.
Поэтому с наступлением мира курсантов, прошедших общеобразовательный курс наук, перевели из Болшево в Ленинградское военно-инженерное училище для изучения спецкурсов. Там подготовка военных специалистов уже была рассчитана на мирное время. А тех, у кого не было среднего образования, перевели на подготовительный курс, где они могли его получить. В том числе это коснулось и Алексея.
Безусловно, перед этим прибывших курсантов проверял первый отдел{7}, подотчетный органам госбезопасности. Именно по результатам этой проверки Алексея и отчислили из училища. Он говорит, что причиной послужило его пребывание на оккупированной территории во время войны.
Конечно, народ в лице государства, зная, что ребят из оккупированных территорий немцы вербовали работать на Германию, имел полное право не доверять им. По крайней мере, до основательной проверки. Так вот есть масса случаев, в том числе и из жизни самого Алексея Яковлевича, свидетельствующих, что такие проверки выполнялись безотлагательно и самым добросовестным образом{8}, так что без веских оснований его бы из училища не исключили. Само пребывание «под немцем» таким основанием не являлось. Значит, Алексей Яковлевич чего-то не договаривал, что-то путал и скрывал.
Можно не сомневаться, что ни один, пусть самый незначительный, факт не остался не замеченным советскими органами госбезопасности — им было известно все и о каждом человеке, побывавшем под вражеской пятой. Партизаны и оставленные на занятых врагом территориях «люди из органов» работали не только против захватчика, они также собирали материал о жизни советских людей, оказавшихся в оккупации, с тем, чтобы знать правду о каждом, знать, чего от них ждать.
Так какой факт мог свидетельствовать о нелояльности Алексея Яковлевича к собственной стране? Возможно то, что во время оккупации его лечил немецкий врач или что его родной дядька был старостой? И что, разве смерть обоих родителей от рук врага и его побег от угона в Германию не стали лучшим доказательством того, что он предан Родине? Выходит, не стали...
Но не надо забывать расстрел и то, чего не договаривает о нем Алексей Яковлевич! По его словам получается, что он, попав на расстрел, вдруг заговорил по-немецки и его сразу же, грубо взяв за ухо, вытащил из толпы обреченных какой-то немец из оцепления. Во-первых, стоящие в оцеплении каратели не имели права кого-либо вытаскивать или не вытаскивать из толпы. А во-вторых, есть много свидетелей тому, что Алексей сказал немцам, руководящим расстрелом, что согласен работать на Третий рейх, за что и был помилован.
То, что после этого Алексей уклонялся от абверовца и в конце концов так и не написал заявления о сотрудничестве с немцами, осталось его частным делом. А вот слова о намерении работать на врага, сказанные громко и при многих присутствующих, дошли до людей, способных предоставить сотрудникам госбезопасности фактические и общеизвестные сведения о нем.
Думаю, при собеседовании в первом отделе училища Алексея спросили об этом и предложили привести доводы в свою пользу, но он не смог найти их или дать порочащему его факту другое толкование. Просто в интервью, которое Алексей Яковлевич давал для телевидения и на основании которого написано здесь о его жизни после войны, он не мог распыляться и детально все излагать. Намекнул на ругаемого современной властью Иосифа Виссарионовича, которого втайне боготворил, — так, небольшая сделка с совестью — и все.
Но зато дальнейшая жизнь показала, что зачислить Алексея в Ленинградское училище вполне можно было. Вместо этого его отправили назад, откуда послали на учебу, в 33-й саперный полк, где продолжилась его служба.
Правда, в 1947 году ему дали отпуск, и он из Москвы поспешил домой. У него был двухнедельный паек, полученный на отпуск — саперов кормили хорошо. Естественно, он его привез родным в качестве гостинца. А дома — голод, кормиться было нечем!
Прасковья Яковлевна, носившая второго ребенка, не вставала, от ступней до пояса была пухлая. Дочка ее тоже... лежала пухлая. Борис Павлович уже не передвигался...
Вместо радостной встречи, вместо праздника пришлось Алексею выхаживать сестру и ее семью. Приготовил он из своих запасов еду, какую сумел, накормил их. Они поели, а ночью начали кричать от болей в желудке.
— Я думал, что они помрут все, — рассказывал он, нервно подкручивая усы. — Одним словом, вот так было.
Весь отпуск ушел у Алексея Яковлевича на то, чтобы поднять свою родню, укрепить их здоровье. О Марии только успел спросить.
— Она вернулась из Германии, и тут же куда-то уехала, — сказала Прасковья Яковлевна. — Мне даже не случилось ее увидеть.
Для Алексея это был красноречивый жест — если Мария не передала через родных для него записку, не попыталась узнать его адрес, то значит, у нее что-то поменялось.
В конце отпуска отважился он на отчаянный поступок, ибо не мог тех, кого только что спас от голодной смерти, опять оставлять без еды. Подбил и Бориса Павловича на нарушение. И пошли они в поля воровать еще не дозревшие колоски. Целый мешок нарезали. Дома Алексей научил родных, как из зерна молочной спелости можно сварить кашу.
— Этого запаса вам на месяц хватит, — рассуждал он, — а там что-то переменится... В этом году урожай должен быть хорошим.
Так оно и случилось.
После отпуска Алексей Яковлевич вернулся в часть и пробыл в своем саперном полку до 1950 года, после чего был демобилизован.
Почему так надолго затянулась его военная служба? Ведь он, как призванный на службу в военное время, подпадал под действие указа, которым предусматривалась демобилизация в 1947 году — три года срочной службы плюс время, проведенное на войне. Бывали еще всякие задержки, вызванные местными причинами, но не на три же года!
Общий план демобилизации из рядов советской армии был рассчитан на два с половиной года: с июля 1945 по март 1948 года, в шесть очередей.
В первую очередь предстояло уволить 13 старших возрастов, родившихся с 1883 по 1905 год. Первый воинский эшелон с демобилизованными участниками штурма Берлина отправился из Германии 10 июля 1945 года.
Во вторую очередь, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 сентября 1945 года, демобилизации подлежали воины, родившиеся с 1906 по 1915 год включительно. Кроме того, в это же время увольнялись военнослужащие 1925 года рождения, не годные к строевой службе.
Третья очередь демобилизации осуществлялась на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1946 года. Им предусматривалось уволить родившихся в 1916-1921 годах военнослужащих шести возрастов рядового и сержантского состава Сухопутных войск и Военно-Воздушных Сил.
Четвертая очередь демобилизации проводилась по Указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 октября 1946 года. В период с ноября 1946 по январь 1947 года были уволены военнослужащие, родившиеся в 1922 году, а также рядовые и сержанты, годные к нестроевой службе, 1923, 1924 и 1925 годов рождения.
В пятую очередь, с марта по июль 1947 года, уволились военнослужащие, родившиеся в 1923-1925 годах, в том числе: из Сухопутных войск — двух возрастов; из ВВС — одного возраста; из ВМС — трех возрастов.
В ходе шестой очереди из Сухопутных войск (кроме воздушно-десантных) увольнялись солдаты одного возраста, с флота — матросы и старшины двух возрастов, из береговой обороны флота — солдаты, сержанты и старшины одного возраста.
Как видно из приведенной справки, Алексей должен был демобилизоваться с марта по июль 1947 года. А он вместо демобилизации в это время приехал в отпуск!
Единственное объяснение состоит в том, что после отпуска Алексей оставался служить в части сверхсрочно. Гораздо позже в разговорах о войне он часто упоминал о том, что не мог уйти «на гражданку» до полного окончания разминирования Ленинграда и Ленинградской области — начатое дело надо было довести до конца.
Любя, страдая, радуясь...
Алексей остался в армии еще на один срок, конечно, не только потому, что хотел завершить очистку мест, святых для каждого советского человека, от грязи и мерзости войны. Параллельно с этим он подыскивал возможность, выйдя «на гражданку», осесть в Ленинграде или вблизи от него, найти работу и новых друзей. Его влекла романтическая красота этого города, богатая история и широкие возможности. На волне мечтаний даже казалось, что судьба не зря привела его сюда, подальше от Маши, которая странно изменилась, явно охладела к своему возлюбленному.
Обида на нее не проходила. Алексей не исключал, что за время разлуки девушка повстречала ярких и видных парней, конкурировать с которыми он не мог. Это в селе он был заметным женихом, а в широком мире таких много.
Так, возможно, призвав его сюда, милостивая судьба попросту спасает Алексея от тоски по всему, что раньше было дорогим, и от досады, что теперь оно изменилось? В конце концов, он так много сделал для Ленинграда, что имеет право рассчитывать на взаимность.
Но все, что предлагали на заводах и в учреждениях, куда он обращался по поводу трудоустройства, ему не подходило — везде требовалось хотя бы среднее образование. Что делать, он не знал: идти на неквалифицированную работу и параллельно где-то учиться или заводить семью и жить, как большинство людей, простой жизнью.
Вдруг он начал понимать, что в прибалтийских краях климат сыроват, совсем не тот, к которому он привык… Лето здесь дышит севером — короткое и довольно прохладное… Да и девушки совсем другие, непривычные… Короче, прекрасный город не принимал Алексея, и он находил сто причин, чтобы больше не поклоняться ему.
Алексею уже перевалило за 26 лет… За два года собачьей жизни в оккупации и восемь лет мытарств по окопам и казармам он истосковался по домашнему теплу, уюту. И все чаще вспоминал родительскую семью, под давлением чего склонялся к отказу от юношеской романтики.
И опять же терялся, не зная, куда ему податься. Ехать домой, в Славгород, не хотелось, ибо там ему не было места. Идти работать в колхоз он не хотел, на завод — тем более. Он помнил наставления немецкого доктора о том, что ему нужна умеренная по физическим нагрузкам работа.
Наступил момент, когда от поисков работы и нового пристанища Алексей устал, прекратил заниматься этим и предоставил решение этого вопроса случаю. И вот, действительно, такой случай вскоре подвернулся — в канун его демобилизации к ним в часть прибыли вербовщики рабочей силы на объекты колхозного строительства. Теперь их называют рекрутерами.
Мало веря в удачу, Алексей тем не менее пошел к ним на собеседование.
— Есть что-то на Украине? — спросил несмело.
— На Западной или на Восточной? — уточнил один из вербовщиков.
— На Восточной.
— Тогда ни вашим, ни нашим — в Полтавской области. Там нужен плотник. Идет?
— Годится, — согласился Алексей.
Так он вытащил свой билет.
Демобилизовавшись, Алексей всего на ночь заехал в Славгород и утром отправился на место новой работы, куда был завербован{9}. Это был колхоз, затеявший строительство коровника, где новый плотник должен был заниматься установкой окон и дверей, а также другими работами, связанными с обработкой древесины, в частности, изготовлением загородок для летнего содержания коров, кормушек для них, и пр.
Конечно, практической подготовки для этих работ у Алексея не было, так что с его стороны это была чистая авантюра. Он рассчитывал на то, что в детстве видел работу плотников, да и на то еще, что колхоз… не станет выставлять строгие требования.
Позже он рассказывал:
— Никакого плотницкого образования у меня не было, кроме 7-ми классов школы. Ну прошел я общий курс Московского военно-инженерного училища по специальности «Строительство мостов и дорог»... Но это было не высшее учебное заведение, а средне-специальное, в связи с чем выдача документа о прохождении общеобразовательного курса предусмотрена не была. В техникумах, к чему можно было прировнять мое училище, не было такого понятия, как неполное средне-специальное образование. Это в вузах есть понятие «неполное высшее образование», которое дает человеку степень бакалавра.
Короче, Алексею как-то удалось освоиться на новом месте.
Там он встретил женщину, которая ему понравилась. Она была техником-строителем, работала в отделе сельского строительства местного райисполкома и занималась строительством колхозных кирпичных заводов — для постройки коровников нужен был кирпич. Тут-то их и свела судьба.
Звали женщину Юрьева Варвара Ильинична. Родом она была из Великой Богачки, родителей звали Илья Григорьевич и Анна Тимофеевна.
Варвара Ильинична стеснялась своего, как ей казалось, крестьянского имени и называла себя Валентиной. Имела она приметную внешность, хоть роста была, наверное, не более 150 см. Только рост и сообщал ей схожесть с Машей, во всем же остальном славгородская возлюбленная Алексея намного проигрывала новой избраннице. Броскость Валентины в основном объяснялась несколько казахскими чертами скуластого лица, обильным макияжем и модной одеждой. Она ходила в шляпах, красиво сидевших на необыкновенно роскошных густых волосах, и в добротной дорогой обуви. Заметно украшали ее также маленькие ступни, ладная фигурка, умеренная полнота. Впрочем, если бы в Валентине не было восточной экзотики, возможно, она и не привлекала бы к себе внимание мужчин…
Вместе Алексей и Валентина смотрелись хорошо и посчитали это достаточным основанием для того, чтобы пожениться.
Алексей гордился своей живописной женой, ее эффектными клетчатыми костюмами, широкополыми головными уборами, маленькой ножкой.
Летом 1951 года, когда закончился срок его годичного договора с колхозом, он уволился оттуда и приехал в Славгород — показать Валентину, законную жену, своей сестре.
О Маше сведений по-прежнему не было, никто не знал, где она.
Камчатская романтика
Алексей не просто так уволился с колхоза, где, в принципе, работа его устраивала. Оставаться без работы он не намеревался, но и не хотел при столь эффектной жене, да еще сотруднице райисполкома, оставаться только плотником. Поэтому они вместе завербовались на новое место, где надеялись по-настоящему встать на ноги, — на Камчатку, в Большерецкий рыболовецких совхозов — рыбхоз. Конечно, заехали в Славгород попрощаться.
Наступило 4-е августа 1951 года, пора была трогаться в новый путь… И опять стояли они на перроне — Прасковья, Борис и Алексей, снова прощались. А Валентина наблюдала эту сцену со стороны. Показался поезд, Прасковья заплакала…
В качестве кого собиралась работать на Камчатке Валентина, неизвестно, а Алексей — плотником. Теперь он чувствовал себя увереннее, так как кой-какой опыт этой профессии уже нажил. Он попал почти на начало строительства, когда хозяйство достаточно разбогатело и приступило к обзаведению административными зданиями. Первым зданием была контора, а потом строили и детсад, и школу, и медпункт...
Когда же все запланированные объекты были завершены и вступили в строй, строители стали не нужны в хозяйстве и их перевели на другие участки. Вот так Алексей очутился на перевалочной базе, принимавшей с пароходов грузы, что шли для Большерецкого совхоза — туда нужны были добросовестные рабочие, понимающие важность порученного им дела.
Грамотный и аккуратный в работе, корректный в общении с сотрудниками, видный собой, он выгодно выделялся из окружения, где хватало случайных и даже обездоленных лиц, угодивших не просто на Камчатку, а в глухой ее закуток. Пожалуй, благополучный человек там был редкостью, а если и находился такой, то сразу брался на особый учет.
У приехавших с Полтавщины супругов тогда уже родился и встал на ножки сын Олег, вскоре должен был родиться второй ребенок. Вполне закономерно, что их заметили и спустя какое-то время Алексея пригласили на другое поприще — в торговлю. На работу, связанную с деньгами, брали не абы кого, а людей проверенных, закрепившихся в этих местах. Именно таким успел зарекомендовать себя Алексей.
Но в столь трудный для семьи период, когда Валентине очень нужна была помощь мужа, Алексей попытался уклониться от работы, связанной с материальной ответственностью, ссылаясь на то, что у него нет даже среднего образования.
— Ну значит, надо учиться, — ответили ему.
Делать было нечего, в трудовом договоре с предприятием было оговорено, что его имели право направлять на узкие участки работы, где требовались его умения, так что пришлось согласиться.
Заочно Алексей Яковлевич окончил Камчатский торгово-кооперативный техникум и получил образование по специальности «товаровед продовольственных и промышленных товаров».
Трудно было. Жили в бараке без удобств. Поблизости — никого из родных. А тут и беда пришла — не прожив и полгода, умер от младенческого сын Яков…
После поступления на учебу Алексей Яковлевич пошел в рост — на прежнем месте был назначен завотделом. Но время шло, и вскоре по рекомендации председателя Октябрьского рыбкоопа, куда его пригласили возглавить торг, он стал членом партии. Это событие как раз совпало с окончанием торгово-кооперативного техникума. Получение диплома ознаменовалось тем, что Алексея избрали председателем Усть-Большерецкого райрыбкоопа. А когда он показал тут свои способности — перевели на аналогичную должность в отстающий райрыбкооп, а в качестве компенсации ему впервые дали нормальную квартиру.
Но вот у Алексея Яковлевича закончился очередной трудовой договор (на Камчатке работают по договорам, заключаемым на три года), и он ушел с кооперации, потому что его пригласили в систему Госснаба СССР. Наконец-то Алексей Яковлевич вырвался с камчатской периферии! Так он оказался в Петропавловске-Камчатском на должности заместителя директора областной продовольственной базы. Сначала два года работал в замах, потом был избран председателем...
Но при переезде в камчатскую столицу опять случилась закавыка — надо было иметь высшее образование. И Алексей Яковлевич поступил в Хабаровский заочный институт народного хозяйства. Четыре года учился заочно, а потом перевелся в Горьковский (ныне Нижний Новгород) филиал Московского института народного хозяйства. Там дипломировался и через полгода получил диплом.
Последние 12 лет Алексей Яковлевич работал директором предприятия «Камчаткаснабсбыт» — был номенклатурой{10} Совета Министров СССР.
Конечно, со столь высокой должностью пришли деньги, запросы, связи, более смелые желания и способность их удовлетворить. У Алексея Яковлевича появилась возможность получить двухкомнатную кооперативную квартиру в Крыму, в Бахчисарае. Это был дом, выстроенный на деньги камчадалов, готовящихся по выходе на пенсию поселиться в хорошем месте.
Как жил Алексей, достигнув практически вершины карьеры? Хорошо жил!
Зимой ездил в Паратунку{11}, парился в горячих термальных источниках. В межсезонье ловил рыбу на океанских побережьях. Раз в два года все лето проводил на лучших курортах СССР и стран соцлагеря. И конечно, любил женщин, как и они его — щедрого и галантного.
Сын Бароненко Олег Алексеевич вырос. Правда, талантами Бог его не наделил, так что он работал простым электриком. Зато жена его Людмила работала в исполкоме экономистом, что само по себе говорит о ее уровне.
Внуки… Алексей Олегович, поэт и фотограф, и Мария Олеговна, эстрадная певица, занимаются образованием в области культуры. Алексей Олегович женат, имеет сына. Маша, кажется, не замужем.
Коротка человеческая жизнь — вот уместилась в нескольких коротких абзацах…
— Итак, я укатил на Камчатку, — вспоминал Алексей Яковлевич, грустя о тех годах, когда вокруг него кипела жизнь, работа и были люди. — Вроде шутя. Хотелось пожить там в чумах, в юртах. Ну... год, два, три, пять, десять, двадцать, тридцать!
Вырос сын, была получена и обставлена квартира, куплены машина и собственный домик… и настал 1982 год, а с ним — бессрочный отпуск, пенсия.
Все проходит, остается — Родина
— Ну что, жена? — спросил Алексей Яковлевич у Валентины. — Где дальше жить будем?
— Камчадалы не проводят отпуска на Камчатке, — мудро заметила она. — Едут на юг или домой, на родину.
— Значит, уезжаем?
— Уезжаем.
Долго выбирали Алексей и Валентина, куда направиться. Ехать в Славгород? Так это совсем не курортное место. Что им там делать? Можно было бы обосноваться в Великой Богачке, где есть источники минеральной воды, курорты, леса. Так родителей там уже не было, а с сестрой, невезучей в личной жизни, Валентина успела испортить теплые отношения; так что этот вариант тоже отпадал. Бахчисарай… оказался слишком жарким местом, не годился он им для постоянного проживания. Решили дать объявление об обмене камчатского частного домика на аналогичное жилье в Днепропетровской области, а там — что выпадет, то и брать.
Выпал Никополь, двухкомнатная квартира с большой утепленной верандой в старом одноэтажном доме на четыре хозяина. Лучшего и желать было нельзя!
Погрузили вещи в багаж, «Волгу» — на пароход и выехали с Камчатки. Попав на сушу, поехали на своей машине до самого Никополя, через весь Союз.
Обустроились, оба сразу пошли работать.
И тут к ним пришло неожиданное везение — их дом попал под снос, и они переехали в новенькую двухкомнатную квартиру. Это был последний привет судьбы.
Шел 1993 год, февраль… Как-то пришла Валентина Ильинична с работы, накормила мужа и пошла к соседке. Вдруг прибегает сосед с криками: «Вале плохо!».
Алексей Яковлевич застал жену лежащей на полу.
— Валя, что случилось?
— Леня, я умираю, — успела сказать она, а дальше головку набок склонила и все.
А Маша?..
После Германии Маша, как и многие другие женщины, как Дуся Кондра, посчитала… себя оскверненной. Кто не был в немецком рабстве, тот мог поверить, что девушки там просто тяжело работали и все. Но Петр, родной брат Алексея, да и Зина Ермак, двоюродная сестра, могли рассказать, что там творилось на самом деле, как издевались над советскими девушками…
Ах, оставим это истории.
И Маша начала уклоняться от встреч с Алексеем. После возвращения домой она сразу же уехала в Западную Украину, потому что там легче было поступить в медицинское училище. По его окончании вышла замуж за очень успешного офицера советской армии.
Со временем ее мужа перевели в Москву, где его карьера продолжилась — он дослужился до чина генерала. Тем временем Маша окончила медицинский институт, зубопротезный факультет, и стала зубным врачом. Позже возглавила одну из центральных зубных клиник Москвы. Увы, детей у нее не было, что лишний раз доказывает: немецкое рабство — не сахар.
Алексей Яковлевич все-таки тосковал по своей юности, по первой любви и искал встречи с Машей. Нашел ее он уже в Москве, после чего у них сложились стойкие дружеские отношения. Они регулярно переписывались и каждый раз, когда Алексей Яковлевич бывал там проездом в отпуск или по делам, обязательно встречались.
К Маше вдовство пришло раньше, к Алексею — позже. Когда же оба остались одинокими, задумались о воссоединении, и активно эту идею обсуждали. Алексей часто ездил к Маше, подолгу живал у нее, отдыхал на подмосковной даче. Их интересы совпадали, оставалось построить общий быт и приноровиться к нему, над чем они и трудились. Казалось, счастье еще раз улыбнулось этим строгим, настрадавшимся людям, которым, тем не менее, судьба воздала за все совершенства.
Но… вдруг все прекратилось — Алексей почувствовал в себе болезнь, проблемы с желудком, кишечником, и не решился больным сваливаться на Машины руки.
Прожил Алексей Яковлевич без жены ровно 11 лет, умер в феврале 2004 года от продолжительной тяжелой болезни. Покоится в Никополе рядом с женой.
Как сказал У. Шекспир в «Короле Лире», «Мы плакали, пришедши в мир» — все человеческие истории, даже вполне благополучные, заканчиваются одинаково.
Петр: Серая лента дорог
История репатриации
Угнанные в немецкую неволю советские люди после освобождения возвращались домой в результате так называемой репатриации. Это очень сложный процесс, особенно в двух аспектах — юридическом и организационном. Нет смысла их тут описывать. Можно лишь попытаться обрисовать общими контурами данные по репатриации, чтобы представить ее масштабы и сопутствующие проблемы.
За время оккупации части территории СССР немцы малыми партиями успели вывезти к себе 6,5 млн советских граждан, из которых к концу войны в живых осталось около 5 млн. Это половина населения такой большой европейской страны как Швеция!
Легко ли в одночасье перебросить такое огромное количество людей, жаждущих немедленно попасть домой, с одного места в другое, при этом официально изменив их статус и обеспечив новыми документами? Этих людей вывозили с Родины частями в течение 4-х лет, а попасть домой они хотели все разом! Вывозили их как скот, как собственность Третьего рейха, без документов, а домой они хотели попасть в качестве законных граждан СССР, по человеческим законам! Причем последнее осложнялось тем, что свыше 3 млн из них находились в зоне действия союзников (США, Англия, Франция, Италия и др.), что создавало дополнительные трудности на всех этапах репатриации — при перемещении в пересыльные лагеря и при оформлении документов.
Бытуют россказни, что почти все репатрианты, попавшие в СССР, якобы были репрессированы. Это выдумки. Подавляющее их большинство избежало каких-либо неприятностей. Более того: многие прямые пособники фашистов были удивлены тем, что дома с ними обошлись далеко не так жестоко, как они ожидали.
Основная масса репатриантов проходила проверку и фильтрацию во фронтовых и армейских лагерях, а также в сборно-пересыльных пунктах (СПП) Наркомата обороны (НКО) и в проверочно-фильтрационных пунктах (ПФП) НКВД. Выявленные преступные и «внушавшие подозрение» элементы обычно направлялись для более тщательной проверки в спецлагеря НКВД, переименованные в феврале 1945 года в проверочно-фильтрационные лагеря (ПФЛ) НКВД, а также в исправительно-трудовые лагеря (ИТЛ) ГУЛАГа. Лица, проходившие проверку и фильтрацию в лагерях, СПП и запасных частях НКО и ПФП НКВД, в отличие от направленных в ПФЛ и ИТЛ, не являлись спецконтингентом НКВД. Большинство репатриантов, переданных в распоряжение НКВД (спецконтингент), составляли лица, запятнавшие себя прямым сотрудничеством с чужеземными завоевателями и подлежавшие за переход на сторону противника в военное время самому суровому наказанию, вплоть до смертной казни.
Однако на практике они отделывались чаще всего 6-летним спецпоселением и вообще не привлекались к уголовной ответственности.
Растущий поток репатриантов требовал ускорять их проверку, хотя бы в отношении «не вызывающих подозрений». В директиве НКВД-НКГБ СССР, адресованной в феврале 1945 года НКВД и НКГБ Украины, Белоруссии, Литвы и Молдавии, Главному управлению погранвойск НКВД СССР и Главному управлению НКВД СССР по охране тыла действующей Красной Армии, в частности, указывалось: «В связи с успешным наступлением Красной Армии ожидается наплыв на проверочно-фильтрационные пункты НКВД возвращаемых на Родину советских граждан, находившихся в немецком плену и на каторжных работах в Германии... Разрешаем производить упрощенную проверку в пятидневный срок в отношении стариков, старух и женщин с детьми, с немедленным направлением их к постоянному месту жительства.
Мужчин, вызывающих подозрение и требующих более длительной проверки, — немедленно направлять в спецлагеря НКВД».
В действительности же к началу октября 1945 года из-за границы возвратилось около 4,1 млн человек, остальные же были внутренними перемещенными лицами, и их, следовательно, не считали репатриантами.
В течение 1944-1948 годов правительством СССР было принято 67 постановлений, которыми обеспечивались права репатриантов как граждан СССР, из них 14 — о льготах и материальном обеспечении. К числу основных постановлений Совмина такого рода можно отнести следующие: «Об организации приема и устройства репатриируемых советских граждан» (6 января 1945 г.); "О разрешении въезда на территорию Украинской и Белорусской ССР в упрощенном порядке всем украинцам и белорусам, признавшим себя гражданами СССР» (14 июня 1946 г.); «О порядке назначения и выплаты пенсий военнослужащим, получившим инвалидность во время пребывания на службе в Красной Армии, на фронте и в плену» (9 июля 1946 г.); «О порядке назначения и выплаты государственных пособий многодетным и одиноким матерям, репатриированным в СССР» (19 сентября 1946 г.) и др. Немаловажное значение имело постановление Президиума Верховного Совета СССР от 1 декабря 1945 года «О внесении в списки избирателей репатриированных граждан СССР».
Все, что было порушено агрессором в укладе жизни советских граждан, побывавших под его игом, требовалось теперь восстановить в законном порядке. Это невообразимо сложный и большой объем работы!
На репатриантов, поступивших на работу, полностью распространялось действовавшее законодательство о труде, а также все права и льготы, которыми пользовались рабочие и служащие соответствующих предприятий. То же самое касалось и репатриантов, работавших в сельском хозяйстве. Правительство СССР обязало директоров предприятий и министерства предоставлять репатриантам работу по специальности и при необходимости переводить с их согласия на другие предприятия и использовать по специальности. Репатриантам, работавшим на предприятиях министерств угольной и лесной промышленности, а также черной металлургии, было разрешено выдавать денежную ссуду на индивидуальное жилищное строительство в размере 15 тыс. руб. с погашением в течение 15 лет и, кроме того, ссуду до 5 тыс. руб. на первоначальное хозяйственное обзаведение с погашением ее в течение пяти лет. Репатрианты, работавшие не там, где проживали их семьи, имели право перевезти их к себе — внимание! — за счет средств предприятия. Репатриированные — бывшие военнопленные пользовались льготами, предусмотренными для демобилизованных воинов.
По сути в ряды советского народа вливался еще один народ, безымянный, освобожденный из-под пяты немцев, который там содержался в неволе и лишен был человеческого статуса. И этот народ надо было изучить, снабдить документами, устроить, обогреть, обеспечить всеми гражданскими правами.
Ура! — неволя позади
Итак, повторимся, в октябре 1944 года было создано Управление уполномоченного Совета народных комиссаров СССР по делам репатриации граждан СССР из Германии и оккупированных ею стран. Это управление занималось возвращением на родину миллионов советских граждан, вывезенных во время немецкой оккупации на принудительные работы в Третий рейх.
Но для того чтобы человека репатриировали, надо было стать свободным, что от узников не зависело. Их основная задача состояла в том, чтобы выжить. Задача эта была не из легких, потому что все они были меченные. Наших сограждан, угнанных в Германию, обязали носить специальный нагрудный знак со словом «OST». Это был небольшой матерчатый прямоугольник с белыми буквами на синем фоне, наглядно свидетельствующий об унизительном и бесправном их статусе. Отказ от ношения знака был чреват карцером. А карцер чреват смертью.
Тут не убежишь. Да и куда, если кругом чужие государства и далеко не миролюбивые их населения?
Поскольку остарбайтеры из последней партии славгородцев оказались в Ганновере, то есть в западной части Германии, где была сосредоточена ее основная промышленность, то их освободили американцы. Это случилось еще до окончания боев Великой Отечественной войны, до капитуляции Германии — в начале апреля 1945 года.
— Мне американцы показались очень необычными, — рассказывал позже Петр Яковлевич. — В непонятной форме, резкие, вызывающе самоуверенные, эпатажные, в беретах на головах, много негров... Они постоянно что-то жевали, но не глотали — про жвачку мы же тогда не знали. Несмотря на естественную благодарность им за освобождение, многие из нас испытывали неприятное чувство, словно встретились не с людьми, а с существами совсем другой природы. Приходилось преодолевать в себе неприязнь к ним.
Ялтинскими соглашениями (принятыми 4–11 февраля 1945 года) предусматривалось, что все граждане СССР, оказавшиеся во время войны за его пределами, подлежали обязательной репатриации независимо от их желания. Но американцы делали все, чтобы так не случилось. Они томили освобожденных узников по пересылочным лагерям, агитировали ехать к ним или просто оставаться на Западе, пугали репрессиями и ГУЛАГом. И тогда многие советские люди с удивлением поняли, что хваленные «союзники» совсем не друзья нам, а наоборот — лютые враги, возможно даже, подстрекатели. Много правды тогда открылось советским людям.
— Конечно, некоторые из нас остались на Западе, но не из-за пропаганды американцев, — рассказывал дальше Петр Яковлевич, — а по другим причинам. Одни там обзавелись семьями, а другим просто некуда было ехать, и они оставались на насиженном месте. Но были и такие, которые не хотели возвращаться в родные места из-за каких-то прежних грешков или трудностей. Многих из них союзники потом отлавливали и передавали советской стороне.
С момента освобождения из неволи советские люди уже именовались не остарбайтерами, а репатриантами. И большинство из них, конечно, стремилось поскорее попасть домой.
Вырвавшись из американских пересылочных лагерей, где Петр Яковлевич провел почти четыре месяца, он наконец попал к своим. Тут началась отдельная процедура проверки — сотрудники СМЕРШа досконально допрашивали людей, стараясь понять, кто из них едет на Родину с чистой совестью, а кто — с тайным заданием. Пора отбросить наивность и признать, что были ведь и такие.
Петра Яковлевича свои проверяли два месяца. Скорее всего, после его показаний на первом допросе делали запрос по месту жительства, запрашивали справку о том, как он жил в оккупации. Так должно было быть. Как без этого?
— Побывав в логове врага, я быстро поумнел, и из несмышленого пацана превратился в битого парня, понимающего, что даже в оккупации мы оставались под советским глазом. И это прекрасно, что наша страна о нас не забывала. Наши органы все о нас знали! — рассказчик радовался этому, потому что у него, действительно, была чистая совесть. По крайней мере, перед Родиной. — На втором допросе со мной говорили уже более мягким тоном, не как с чужим. А из некоторых тонких намеков я понял, что им известно и про мой отказ весной 1943 года писать заявление о сотрудничестве с немцами, и о том фашистском вертухае, которого мы искупали в бочке со смолой. Тут я, конечно, струхнул, а потом думаю: «Мало ли кого мы во время войны мочили. Убить врага во время войны — не преступление». И успокоился. Я одно понял, мои дорогие, что в любой ситуации надо поступать правильно, потому что отвечать все равно придется.
По-разному складывались судьбы возвращающихся домой людей, побывавших в немецком рабстве. Тех, кто внушал подозрения в сотрудничестве с немцами, как правило обоснованные, отправляли в ГУЛАГ. В основном это касалось мужчин. Мужчин призывного возраста отправляли в действующую армию или, например, восстанавливать шахты в разрушенном Донбассе. Многих молодых девушек после фильтрации рекрутировали в подсобные хозяйства воинских частей Красной Армии. Остальные после долгих мытарств наконец-то ехали домой, где их ждала обычная послевоенная жизнь.
Два года прекрасного человеческого возраста — юности — Петр Яковлевич фактически отдал Германии, работая там подневольно, как раб. Конечно, это была не жизнь, тем более с учетом страшных происшествий, которые пришлось ему пережить, и с учетом опыта, накопленного в условиях доносов, допросов и пыток.
Неизвестно какими путями возвращался Петр Яковлевич на Родину, но сразу домой он не попал. Скорее всего, проходил проверку и фильтрацию в составе “рабочих батальонов” наркомата обороны, с обязательным привлечением к труду, как и многие гражданские репатрианты из числа военнообязанных.
Отслужив в рядах Советской Армии положенные три года, он приехал домой в сентябре 1948 года со специальностью на руках, подтвержденной практическим опытом работы по ней, — был шофером. Ценность по тем временам!
Вещий знак
В семье Прасковьи Яковлевны существовал рассказ о необычном явлении в канун возвращения ее брата Петра из немецкого рабства{12}. Так они выражались, не принимая в расчет того, что после репатриации прошло три года и сам остарбайтер давно забыл о рейхе.
Случилось нечто необъяснимое в теплое время начала осени. В тот день Прасковья Яковлевна вынесла все из дома, выбелила комнаты и вечером занесла лишь матрац, положила его на пол и устроила там спальное место. И посуду для ужина занесла. Правда, в кухне под окном еще стоял стол и два стула возле него.
После трудового дня Прасковья Яковлевна с мужем поужинали и намного раньше обычного легли спать, часов в 9-10, потому что Борису Павловичу назавтра надо было рано вставать по делам. В природе еще не вполне потемнело, в окна просачивался угасающий свет, где-то шумели и гуляли дети, по улице ходили люди и слышались голоса соседей.
В комнате горела лампа, Прасковья Яковлевна перед сном читала книгу, а Борис Павлович — газету.
Вдруг они услышали, что в какой-то комнате ходит кошка, причем так, как иногда они ходят и пол царапают. Потом запрыгнула на стол с посудой и тарелками и принялась там тарахтеть посудой — торох-торох.
— Наверное, мы закрыли в доме соседскую кошку, — предположила Прасковья Яковлевна. — Посмотри да выбрось ее, а то она всю посуду перебьет.
Борис Павлович вышел в кухню — туда-сюда: кошки нет. Искал по другим комнатам, искал в коридоре — не нашел. Он вернулся в постель.
Минут через десять опять повторилось то же самое: цок-цок, шкряб-шкряб. А оно в доме все звуки слышались громко, комнаты же были пустые, и от этой мистики на душе залегала тоска и начинало посасывать под ложечкой.
— Пусть ходит, — буркнула Прасковья Яковлевна, начиная засыпать.
Но Борис Павлович не поленился, опять встал. Искал-искал вредную кошку — нет ее нигде. Опять вернулся на место ни с чем.
Кошка начала ходить в третий раз. И в третий раз он безрезультатно искал ее, затем погасил лампу и лег. В доме происходило что-то непонятное и это тревожило его.
Вдруг тишину комнат прорезал звук мощного удара. Словно разбили окно и потом поперек стола изо всей силы ударили огромной дубиной и словно доски стола треснули. И тут же этот удар потонул в звоне разбитого стекла. Только фурррр — зафурчало у Бориса Павловича над ушами. А следом послышался звяк упавшей на пол, разбившейся вдребезги и рассыпавшейся посуды. Ее осколки кружили по керамическому полу и катились в дальние углы — таково было впечатление.
Борис Павлович с бьющимся сердцем вскочил с кровати, метнулся в кухню, ожидая увидеть полный разгром и что-то невероятное, сверхъестественное. Но там ничего не изменилось, вещи как были оставлены хозяевами, так и оставались: окно не разбито, стол цел, посуда цела, мебель стояла на месте. Не наблюдалось никаких следов «дубины», никакого потрясения, удара, звона, осколков и кошки... Борис Павлович прошел дальше в коридор — все чисто, аккуратно, в привычном порядке.
Он выскочил во двор. А к ним уже бежали люди. Возглавляла забег баба Габелька, чья кошка, действительно, мило относилась к соседям и часто наносила им визиты.
— Сосед, это ты буянишь? — спросила предводительница.
— Я не буяню, — растерялся Борис Павлович от того, что о нем так подумали.
— Тогда что у вас происходит?
— Мы сами не можем понять... — сказала проснувшаяся Прасковья Яковлевна, выходя соседям навстречу.
Ну, зашли соседи в хату, посмотрели по сторонам.
— Вы можете рассказать все по порядку? — допытывалась Габелька.
Прасковья Яковлевна и Борис Павлович начали рассказывать, мол, так и так...
— Так кого вы ищете? — удивилась Габелька, выслушав их. — Это вам хозяин известие дал.
— Ну спасибо, тетя Юля...
— О чем?
— Событие будет...
Соседи разошлись, а Прасковья Яковлевна и Борис Павлович вернулись в дом, но уснуть так и не смогли. Все им казалось, что едва она закроют глаза, как снова грянет удар и разнесет их дом в щепки.
— Как это могло всем одновременно показаться, — недоумевала Прасковья Яковлевна — и нам, и соседям?
— Давай с утра пойдем к бабушке Ирине, — предложил Борис Павлович, тоже искавший успокоения. — Что же это могло стукнуть?
Так они и сделали. Едва забрезжил рассвет и доярки, сдоив своих коров, потянулись на колхозный коровник, Борис Павлович и Прасковья Яковлевна дружно поспешили к Ирине Семеновне, зная, что она уже не спит. Проводив сына и невестку на работу, бабушка бралась за домашние дела. Действительно, когда они пришли, Ирина Семеновна мела двор.
Увидев растерянную внучку с мужем, остановилась, оперлась на метлу. Те наперебой рассказали о ночном происшествии, особенно налегая на то, что таинственный удар слышали не только они, но и соседи. Значит, он не примерещился, а прозвучал въяве.
— Сколько времени было, когда это случилось? — уточнила бабушка Ирина.
— Ну светло еще было, хотя солнце уже зашло... Может, часов полдесятого-десять.
— Ну да, жарко вчера было, — кивнула Ирина Семеновна, а Прасковья Яковлевна и Борис Павлович переглянулись, мол, причем тут это. Им не хотелось думать, что и у этой бабушки начинаются старческие чудачества.
— На днях вернется наш Петрусь с полона, Паша, — бабушка Ирина перекрестилась. — Дождалась я, слава Богу.
Ирина Семеновна как в воду глядела — через день, вечерней порой, в окно постучал Петр Яковлевич с котомкой за плечами.
Объяснение этому феномену так и не было найдено. В наше время можно было бы допустить, что звук удара упал с неба — так гремят самолеты, преодолевающие звуковой барьер. Но тогда реактивных самолетов еще не было.
На том происшествие и закончилось, а продолжение было такое.
Через несколько дней в Славгород по программе шефской помощи колхозам приехали студенты Днепропетровского металлургического института, а с ними преподаватели, на уборку кукурузы. Бригадир колхоза привел троих преподавателей к Прасковье Яковлевне, попросил взять на квартиру.
— Так у нас нет мебели... — засуетилась она.
— Нам мебель не нужна, — заверяли преподаватели, увидев чистый дом с хорошим свежим запахом. — Мы на полу будем спать.
— Это были два доцента и один аспирант, — уточнял в рассказе Борис Павлович. — Один из них был зав. лабораторией сопромата кандидат технических наук Наум Павлович Кубланов, еврей. Другой — зав. кафедры теоретической механики кандидат технических наук Алексей Иванович Левченко и аспирант Павел Устинович Рудомётов.
Надеясь на высокий авторитет ученых, Борис Павлович на досуге рассказал им свое приключение со странными звуками и ударом по столу. Ученые его подробнейшим образом расспросили, интересовались, не было ли дождя, может, дескать, гроза повлияла и шаровая молния появилась... Может, там то да другое...
Выслушав все, задумались.
— Мы поставим этот вопрос на ученом совете. И потом обязательно дадим вам ответ, — с тем и уехали, оставив свои адреса с приглашением заходить к ним, если что.
Прошло немало времени. Как-то Борис Павлович был в городе и из интереса заглянул к Левченко.
— Ну что решил ваш ученый совет, Алексей Иванович? — спросил первым делом.
— Ну что, — замялся тот, — раз одновременно несколько человек слышали звук, значит, он был. Но кто его издал, пока что сказать мы не можем... Еще много есть таких явлений, на которых висит табличка: «На нынешнем уровне науки непознаваемо».
Так Борис Павлович и не доискался, кто тот звук издал.
А ведь старушка Ирина Семеновна была права, намекая на жаркий день! Звук издала металлическая крыша, сильно нагретая дневным солнцем и резко охлажденная ночной прохладой. Может, ветер холодный на нее резко дунул... Сначала, деформируясь под перепадом температур, потрескивали ее края, охлаждавшиеся раньше других участков. От тех деформаций шуршали и сдвигались вниз сухие листья, веточки и камешки, мелкие стеклышки, скопившиеся на крыше за лето, нанесенные ветрами. А потом, когда вся крыша, что от жары была выгнута вверх, разом с грохотом вернулась в нормальное состояние, со всех сторон дома посыпался на землю мусор и возникли те звуки, которые слышали и хозяева дома, и соседи.
Странно, что специалисты по сопромату и теоретической механике с учеными степенями не дали правильного истолкования явлению, которое способен объяснить любой школьник, хорошо знающий физику. Впрочем, какие специалисты в металлургическом институте, какие ученые…
Откройте в зимний мороз форточку в жарко натопленной комнате, и спустя время вы услышите потрескивания и шуршание, как и в описываемом происшествии, особенно, если в доме есть газовая колонка, жестяные трубы, дверцы воздуховодов или металлическая вытяжка над плиткой.
Прощание с любимой
Приведу выдержку из книги Л. Овсянниковой «Шаги по земле».
«Правда, трудная судьба все равно настигла его — с семнадцати лет он был угнан на каторгу в логово немецких нелюдей, где и оставался почти три года. А по освобождении его сразу же призвали на военную службу в Советскую Армию и демобилизовали только в 1950 году.
Он возвратился в родительский дом, где оставались мои родители, и постучал в окно поздним вечером. Приехал не один, а с армейским другом. Как мама их встретила, как кормила ужином, укладывала спать — не помню. Зато помню утро.
Слякотная пора, пол кухни устлан свежей деревянной стружкой, красивой на цвет, приятно пахнущей, — так делали всегда, когда на улице расползалась грязь. Если не было стружки, пользовались половой. Мама стоит у плиты, что-то готовит, помешивает в чугунном казанке. Я остановилась у входной двери, смотрела на присутствующих. Мне хотелось пойти гулять, но и побыть возле гостей, понаблюдать за ними — тоже хотелось. А гости сидели за столом в ожидании завтрака, теребили в руках чистые ложки. Дядя Петр расположился с торца, в углу, где обычно сидел папа, а его друг — напротив окна, спиной к маме. Они были одеты в солдатскую форму, румяные и возбужденные, потому что умылись около колодца холодной водой и хорошо растерлись полотенцем.
И вот мама наливает в глубокие тарелки (судя по тому, что они назывались полумисками, это были своего рода салатницы) молочный суп с домашней лапшой — неслыханная роскошь. Дядя и его друг принимаются за еду, наклоняются над тарелками, не отрывают взгляд от содержимого. Вижу: когда количество супа заметно уменьшилось, они заволновались, начали оглядываться по сторонам, осматривать стол, бросать тревожные взгляды на маму. Худенькие острые плечи дядиного друга еще больше заострились и поднялись вверх. И я необъяснимым разумением поняла, что они очень голодны, не наелись. Такого голода в человеческих глазах я ни у кого не видела — ни до этого, ни после.
— А больше ничего не будет? — наконец спросил дядя Петр, и это прозвучало так по-детски, так непосредственно, с такой доверчивостью и мольбой, что у меня от жалости к ним сжалось сердце.
— Нет, — растерянно сказала мама. — Больше ничего нет. Но я могу дать добавки.
— Ага! — дуэтом выкрикнули гости и протянули маме тарелки, не догадавшись пошутить, чтобы не выглядеть жалкими.
Мысли о страшной судьбе мамы и ее родителей, о том, что в нашем доме топтались немецкие душегубы, а вот за этим окном от их рук погибла моя бабушка, переплетались с наблюдениями за гостями. Наконец они достигли своего апогея, и многие страхи навалились на меня сразу: страх за молодого дядю с голодными глазами, страх нового нашествия фашистов, страх потерять родителей, остаться сиротой — и я разразилась отвратительным ревом и обильными слезами.
— Ты чего? — от неожиданности мама выронила ложку, и та упала на плиточный пол, глухо звеня и подпрыгивая.
— Я не хочу-у-у…
— Чего ты не хочешь, — мама присела, положила руку мне на грудь.
— … чтобы убили бабушку и дядя Петя кушать хотел …
Затем гости уехали в город — устраиваться на работу, дядя Петр собирался жить своей жизнью».
Тут не все написано, что произошло в то утро.
После завтрака гость Прасковьи Яковлевны убежал со двора — поспешил к Евдокии Кондре, чтобы застать ее дома до ухода на работу. Произошла, без преувеличения сказать, историческая встреча Петра Яковлевича с его возлюбленной Евдокией Антоновной, которая так круто изменила его жизнь, не сказать, что в лучшую сторону, а потом сама отдалилась от него и перестала писать. Это была их первая встреча после того, как они высадились на немецкую землю и там были разлучены.
На что Петр Яковлевич надеялся?
Он так берег свою Дусю, боялся прикоснуться к ней, а в Германии у нее столько всякого случилось, что она не посмела стать его женой. Не посмела принести ему, такому чистому юноше, всю ту грязь, через которую прошла сама.
Возвратившись домой в августе 1945 года, Евдокия Антоновна первым делом пришла к Прасковье Яковлевне, расспросила о Петре Яковлевиче. Рассказ о его жизни слушала молча, только слегка покачивала головой, дескать, «да-да, это на него похоже» или «именно это и должно было с ним случиться». Прасковья Яковлевна на тот момент еще не встречалась с братом, и знала о нем только из писем. Но что письма? В них не напишешь, что ты вбросил лагерного вертухая в бочку с кипящей смолой... А значит, не передашь всей своей истории, не выльешь душу сполна. Что знала, тем и поделилась с Дусей, уже не молчаливой, а такой грустной и повзрослевшей, будто прожила она не два года, а все десять лет в чужом краю.
— Ты-то сама как? — спросила Прасковья Яковлевна. — Слава Богу, что вернулась... Мать каждый день ждала тебя, выходила за ворота и все выглядывала.
— Да, — сдержанно ответила Дуся, — мама очень обрадовалась. Я, собственно, чего пришла... Передайте, Паша, Петру, чтобы не приезжал ко мне, не писал мне. Кончилась наша юность, кончилась и любовь. Я стала взрослой женщиной, чужой ему. Понимаете?
— Разлюбила, Дуся? Так и скажи.
— Нет, не разлюбила, но... не должна любить. Я не могу вам большего сказать. Просто передайте Пете, что я стала другой. Не он виноват, да и не я. И все же я... не должна омрачать его жизнь. А вы простите и не обижайтесь на меня. Я желаю вам всем добра, — с этим она попрощалась и ушла. И впредь, встречаясь, всегда делала вид, что незнакома с Прасковьей Яковлевной.
— Постой! Куда ты, Дуся? — Прасковья Яковлевна рванулась за ней, хотела еще что-то выяснить, но Дуся, не оборачиваясь, махнула рукой, чтобы ее не тревожили.
Попрощалась, как перед смертью, — буркнула про себя Прасковья Яковлевна, так ничего и не поняв. Она до конца жизни не понимала, как жилось чистым советским девушкам, в развращенной Европе, что с ними там происходило...
А другие, конечно, понимали... Ни одна из девушек из списка Зинаиды Сергеевны Ивановской, бывших остарбайтеров, по возвращении из Германии не вышла замуж — их просто не брали в жены. А кто из них и завел семью, то с такими мужиками, которым вообще не на что было надеяться. Допустим Беленко Нина Максимовна вышла замуж по страстной любви за Тищенко Николая Гавриловича — больного открытой формой туберкулеза легких, за что ее прокляла родная мать. Но и все же Нине Максимовне повезло узнать любовь и разделить с любимым человеком его трудности. Другим и того не выпало. Детей рожали, да — от случайных мужиков, порой женатых.
Петр Яковлевич пробыл у Евдокии Антоновны не дольше пяти минут и вернулся домой буквально черным... Трудно об этом писать. Единственная радость, на которую он надеялся по возвращении, не состоялась. Он ни с чем уезжал в город устраиваться на работу. Ничто его не вдохновляло, не грело, не обещало ласки.
Борис Павлович с утра ушел на работу, и Петра с его другом провожала на вокзал Прасковья Яковлевна. Они снова стояли на том же перроне и ждали того же поезда на Синельниково, что и при немцах в 1943 году. Только теперь ненавистных немцев не было, и был мир!
На руках у недавних солдат были направления на работу, полученные при демобилизации, — там их поймали вербовщики рабочей силы. И это было очень кстати, ибо не надо было самому беспокоиться о трудоустройстве.
Петра Яковлевича ждало место водителя грузовой машины в одной из автоколонн Днепропетровска, а его друг ехал в Павлоград, на шахты. В Синельниково, где обоих ждала пересадка на другие поезда, они расстались, чтобы никогда больше не увидеться — прежняя жизнь забылась, новые заботы поглотили молодых мужчин.
Простая жизнь
Сначала Петр Яковлевич поселился в общежитии автоколонны. Но там ему не нравилось, потому что общежитие напоминало барак, которых он немало повидал, и потому что там установились грубые, примитивные нравы — устающие на работе мужчины мало чем увлекались, свободное время проводили неинтересно, бесцельно, словно не зная, что с ним делать. Это претило чистой крестьянской душе Петра Яковлевича, привыкшей ценить свободную минуту и жить осмысленно, с пользой. Он не понимал вчерашних солдат, коих тут было большинство и кои без женского присмотра, без матерей или даже без командиров — настоящих отцов для них — превращались в пустых прожигателей жизни.
Петр Яковлевич, познавший тяготы взрослой холостой жизни, нашел в себе склонность к спиртному и взял это на заметку. После этого он решил срочно жениться. Скоро и случай представился.
В конце каждого лета их автоколонну по шефским договорам с колхозами отправляли на уборку урожая. Там водители работали круглосуточно и в темпе, какой задает жатва, стремящаяся поймать годинку и завершиться в кратчайшие сроки. Тем не менее, находясь на свежем воздухе и в здоровой крестьянской среде, с детства знакомой для многих, молодые парни успевали сбегать в кино, на танцы и завести себе девушек.
Петр Яковлевич был командирован в Магдалиновский район, село не помнится, возможно, Заплавка... Почти в первый же вечер он в клубе заметил девушку, при виде которой в душе его что-то шевельнулось. Оказалось, что это местная доярка по имени Феодора. Живет с младшей сестрой и с давно овдовевшей матерью, некогда приехавшей сюда из Белоруссии. Кто такая, какого роду-племени, что искала в чужом краю как говорится, не спрашивайте... Известно, кто так и остался кочевником на планете.
Все определило удивительное сходство Доры, как Петр Яковлевич начал называть новую знакомую, с Евдокией Антоновной. Правда, телом эта девушка была крупнее, нескладнее, но чертами лица — грубоватого, обветренного — удивительно точно напоминала его юношескую возлюбленную, незабываемую, еще помнящуюся и снящуюся по ночам. Этого оказалось достаточно для принятия решения. По окончании жатвы Петр Яковлевич вернулся в город с женой.
К этой женщине счастье пришло легко и абсолютно незаслуженно, то есть без личных усилий, — ее искренне полюбил хороший парень, самостоятельный, целеустремленный, бывалый. Полюбил, перенеся на нее давно жившее в нем чувство, оказавшееся не пристроенным, отринутым другой. Правда, та, другая, любила Петра Яковлевича и ушла от него, как она думала, для его блага. А эта, новая, любовью себя не утруждала. Она все поняла про отношение мужа к ней и принялась изображать женщину, достойную любви. Как-то ей это удавалось.
Первым делом Петр Яковлевич снял времянку в частном секторе города, где они зажили настоящей семейной жизнью. Затем приодел жену, чтобы она не отличалась от городских модниц, и только потом привез на смотрины к сестре. Он был честолюбив — хотел иметь все самое лучшее.
Любовь Борисовна помнила, как с утра, перед выходом в люди, он рядил свою Дору Калистратовну, не умеющую с мыска надевать фильдеперсовые чулки, только-только появившиеся тогда, — ее руки доярки всегда оставались граблеобразными и шершавыми, хотя больше никогда не знали тяжелой работы.
Вскорости Петр Яковлевич затеял строительство собственного дома — на том же поселке, где снимал времянку. Это недалеко от проспекта Гагарина, а точнее на его пересечении с улицей Абхазской, за парком Володи Дубинина.
Все делал своими руками. В исключительных случаях просил помощи со стороны.
Воодушевленная Прасковья Яковлевна, не зная, чем помочь брату, кинулась изготавливать лампач. Они с мужем разбили целую строительную площадку около ставка, копали на его склонах отличную по качеству глину, привозили измельченную солому и ногами вымешивали огромные замесы. А потом созывали всех родственников лепить глиняные блоки по формам, сделанным Борисом Павловичем. Там же они их сушили, там же и складывали на хранение, закрывая от дождей. Все лето трудились! А осенью Петр Яковлевич пригнал машины и забрал этот стройматериал.
Разогнался со строительством на два этажа, и поставил-таки их! Лампача хватило даже и на времянку, которую возвели во дворе и впоследствии выколачивали с нее копейку — сдавали внаем. Но отделать второй этаж дома изнутри и ввести в строй у Петра Яковлевича силенок не хватило, так он и стоял недостроенный до самой его кончины.
Дом и времянка (просто еще один дом, только поменьше) имели все городские удобства. Имелся при них и клочок огорода... По советским временам это была роскошь, так жить в городе.
И все же с годами Петр Яковлевич почувствовал, что жена никогда не любила его, и пользовалась им как средством к существованию. Она добросовестно родила ему дочку, добросовестно при повторной беременности утратила способность к дальнейшему деторождению (беременность оказалась внематочной), сидела дома и готовила еду, но жила для себя. На первое место, правда, ставила дочь, но это не принесло обоим супругам утешения. Дочь не считалась с ними, выросла странной, чужой...
Прозрение Петра Яковлевича не умалило любви к жене, он помнил, что в момент женитьбы ему было важно его чувство, а не что-то еще. И все же теперь его любовь и женино равнодушие добавили горечи в его жизнь, которую он все чаще заливал водочкой. С работы ему не хотелось идти домой, и он искал компанию для выпивки, а заедал тем, что находил в отходах — увы, сказалось пребывание в немецком «раю».
А потом Петр Яковлевич начал болеть — юношеские недоедания и тяжелая работа вылились в язву желудка, усугубленную пристрастием к спиртному. Долгие годы он свою болезнь залечивал, старые язвы рубцевались и открывались новые...
Однажды у него были гости, играли свадьбу дочери... Выпивали, конечно, ели. И вдруг у него начались боли.
— Полежи с грелкой, тебе поможет, — с этим Дора Калистратовна ушла и закрыла дверь в комнату, где он расположился.
Сколько он так лежал, неизвестно. Нашла его племянница, та самая Шура, которая с трехлетнего возраста помнила его побег от расстрела и смерть Лампии Пантелеевны... Она вызвала неотложку, поехала с ним в больницу. А там у Петра Яковлевича обнаружилось прободение язвы и разгорающийся перитонит. Еще бы несколько минут, и огонь перитонита погасить бы не удалось. Операция была долгой. Но Шура досидела до конца и не ушла из больницы, пока Петр Яковлевич не пришел в сознание. Тогда его Бог миловал...
Жена огорчала все больше. Вдруг она приладилась ездить по курортам. Первый раз поехала — он стерпел. Второй раз... третий...
— Дора, ты не находишь, что мне со своей язвой тоже не мешало бы съездить в санаторий. Но я себе не позволяю...
— Тебе ее давно вырезали! Никакой язвы у тебя больше нет, — грубо отрезала та.
— Нельзя так жить, — с горечью сказал Петр Яковлевич. — Ты одалживаешь деньги, уезжаешь, а я только и работаю на твои долги.
— А я на тебя всю жизнь работала!
Разговор не получался. Дора Калистратовна оказалась одержимой. Раздор между супругами поддерживала их дочь. Она подливала масла в огонь, где могла. После климакса у Доры Калистратовны начала развиваться гипертония и, кажется, у дочери возникло желание усугублять ее.
Однажды в гостях у Петра Яковлевича была Любовь Борисовна с мужем. Вечером, провожая их на остановку троллейбуса, он часа два жаловался на жену, говорил и говорил о своих обидах... Он ничего не выдумывал и ни в каких грехах ее не обвинял, только в том, что она по три раза на год ездит на лечебные воды, выматывает из него деньги. Перестала стирать его одежду... И он, бедный, вынужден был сам себя обслуживать, чего делать не умел, что плохо у него получалось. Скоро из наутюженного стройного мужчины он превратился в измятого старичка. Это тяжело было наблюдать...
Наконец осенью 1992 года Петра Яковлевича прихватила болезнь так, что консервативное лечение не помогало. Решили опять оперировать, теперь уже без спешки.
Перед уходом в стационар к Петру Яковлевичу приехала Прасковья Яковлевна. Она осталась у него на весь день. Сидели долго, вспоминали всю жизнь, которая так быстро прошла. Наутро Петр Яковлевич на своем «Жигуленке» отвез сестру на вокзал, при прощании сказал печально:
— Это моя последняя поездка, больше мне за руль не сесть.
— Ну что ты, Петя, — растерялась Прасковья Яковлевна. — Тебя ведь не из таких обострений вытягивали. Все будет хорошо.
Петр Яковлевич кивнул.
— Ну, давай, сестричка, прощаться. Обнимемся напоследок, — вроде стесняясь, он прижался к сестре, всхлипнул на ее плече: — Прости меня за все.
— Нечего прощать, — прошептала Прасковья Яковлевна. — Ты жил человеком.
— Я старался...
У порога вечности
Они еще раз увиделись — в больнице. Петр Яковлевич никак не мог подняться после операции. Прасковья Яковлевна нашла брата исхудавшим, сильно больным. Недолго поговорив с ним, вышла из палаты и в коридоре потеряла сознание. Там не на что было положить ее. Удерживая Прасковью Яковлевну на руках, Любовь Борисовна долго кричала, чтобы ей помогли медсестры. В конце концов они притащили какой-то тюфяк, расстелили прямо на полу, и Любовь Борисовна положила свою маму на него.
— Не пускайте ее ко мне! — кричал из палаты умирающий Петр Яковлевич, который слышал голоса из коридора и понял, что там происходит.
Операция ему не помогла. У него вся слизистая оболочка желудка покрылась сплошными рубцами от заживших язв и перестала переваривать пищу. Даже невозможно было представить себе, что такое бывает. Все, что он ни ел, не усваивалось, выходило наружу без пользы — Петр Яковлевич умирал от голода. И понимал это.
После работы Любовь Борисовна часто заходила к нему в стационар Красного Креста, — это было рядом с ее домом. Она принимала участие в нем, потому что Прасковья Яковлевна надеялась на нее. В самом начале эпопеи, когда еще была надежда на выздоровление, Любовь Борисовна через директора предприятия, где она работала, достала дефицитное лекарство для Петра Яковлевича, и хоть оно мало помогло, но сам факт ее горячей заботы согрел больного, может, и подбодрил.
Однажды в морозный день февраля она зашла к Петру Яковлевичу после работы и застала там каких-то подружек его дочери. Иногда они подменяли ее. Петр Яковлевич особенно слабым не казался, был в сознании, ясно воспринимал происходящее. Они немного поговорили с ним.
— Где похоронены родители твоего мужа? — вдруг спросил он, когда племянница собралась уходить.
Любовь Борисовна очень удивилась, что он вообще о них помнил. Кто они ему такие и что для него значили?
— На Краснопольском кладбище, — как можно равнодушнее ответила она.
— И как оно? Ничего?
— Большое... — сказала Любовь Борисовна, всем видом подчеркивая, что эта тема не имеет к их случаю никакого отношения.
Петр Яковлевич удовлетворенно кивнул и ничего не ответил. Договорились, что завтра она к нему еще придет.
А утром позвонила его дочь и сказала, что перед рассветом Петр Яковлевич умер.
Он долго лежал в морге больницы, пока длились выходные, потом праздник 23 февраля... Время, в которое он ушел, было темное, мрачное, трудное... Но хоронила его вся родня, какая у него имелась, ведь он, самый младший из них, уходил первым.
Когда Петр Яковлевич формально вышел на пенсию, то есть оформил ее, они с женой перешли жить во времянку, а дом отдали дочери. Та была уже замужем, имела двух детей. Она восприняла родительский жест как должное, хотя дети ее все равно целыми днями толклись у деда с бабой.
И вот теперь Дора Калистратовна осталась во времянке одна. Дочь больше не нуждалась в ней, не пускала в дом, не разрешала пользоваться телефоном, перестала давать деньги на поездки в санатории. И Дора Калистратовна поняла свою ошибку. Она тайком пробиралась к соседям и звонила от них единственному человеку, который мог ее понять, — Любови Борисовне. Дора Калистратовна жаловалась на дочь. Но больше всего она сожалела, что утесняла и не ценила своего мужа.
— Как же я могла единственного человека, который любил меня, так не жалеть... — сокрушалась она. — Дура я, дура.
Правда, однажды Любовь Борисовна не утерпела и ответила ей так, будто еще можно было что-то изменить:
— Вы имели возможность видеть по своей матери, как плохо жить без мужа. Вам был с самого начала подан урок...
— Так мы же с сестрой любили свою мать, помогали ей, не то что моя дочка. Я не знала, что она такой подлой выросла.
Узнав, что мать иногда звонит родственникам, дочь Петра Яковлевича начала запирать Дору Калистратовну в доме, чтобы та не ходила по соседям. И все же Дора Калистратовна однажды докричалась до соседей и попросила их позвонить Любови Борисовне, передать ей, как с нею обходится дочь. Конечно, она просила помощи. Но Любовь Борисовна не нашлась, что можно было сделать, ведь она ей была никем...
Когда Дора Калистратовна умерла и как была похоронена... бог знает... Посещая могилу Петра Яковлевича, Любовь Борисовна лишь увидела ее рядом с ним и вспомнила, что он все-таки очень любил свою жену и как-то признался племяннице, что ни разу не изменил ей.
Мир его праху.
Глава 4. Послевоенная стезя
Никогда не сдаваться
Прощание с учительством
Прасковья Яковлевна продолжала работать в Синельниковском нарсуде, пока в ее жизнь не постучался еще один ребенок. В связи с этим 9 мая 1947 года, через год после начала работы в суде, она ушла в новый отпуск по беременности. К сожалению, ребенок родился{13} ослабленным, болезненным, по всему было видно, что им придется заниматься основательно. И Прасковья Яковлевна, напуганная недавней потерей сына, после декретного отпуска не вышла на работу, посвятив себя новорожденной дочери, названной Любовью.
И вот в 1953-м году период выхаживания младшей дочери остался позади. Маленькая Люба — подросшая и окрепшая — готовилась пойти в школу, и Прасковье Яковлевне представилась возможность подумать о продолжении профессиональной деятельности. Естественно, будучи учителем по образованию, она обратилась в районо. А там, вследствие перемены порядков и прихода людей, которые ее не помнили, потребовали предъявить диплом.
Но ее домашний архив во время войны пропал — весь, полностью! Пропали также документы об окончании Учительского института, свидетельство о браке, документы на родительский дом, паспорта и трудовые книжки — просто все разом. Сразу после Победы, когда главной ценностью были сохраненные жизни, это не казалось большим бедствием. Но, когда жизнь наладилась, все изменилось. Потребовались документы, и их отсутствие превратилось в мороку.
Теперь Прасковья Яковлевна кинулась восстанавливать их. Всяческие бумаги и статусы, находящиеся в ведении местных органов, восстановила частью через суд, а частью — получением дубликатов, выданных на основе сохранившихся оригиналов учетных записей. Оформлять брак с Борисом Павловичем пришлось заново — так было меньше хлопот и затрат.
А вот с диплом об окончании Учительского института поправить дело никак не удавалось. Дубликат не могли выдать по причине, что не сохранились учетные записи о выдаче диплома — в огне войны сгорел архив института с довоенными данными. Прасковья Яковлевна обращалась и в сам университет, в составе которого одно время значился Учительский институт, и по месту его эвакуации (это был Кривой Рог), искала соучеников, готовых подтвердить факт ее учебы. Но дипломы об образовании решениями судов не подтверждались, тут нужны были оригиналы реестров по прослушанным курсам и полученным оценкам. А их-то как раз и не было. В Кривом Роге архивы тоже сгорели.
Долго это продолжалось. Прасковья Яковлевна сражалась за признание официального образовательного ценза, пока не убедилась, что исчерпала возможности. Увы, все попытки оказались безуспешными. Самое большее, что ей обещали, это принять в университет на филологический факультет без новых вступительных экзаменов. Но разве при двух детях было возможно ей учиться заново? Разве по силам и средствам было поднять такое дело, да еще без помощи хотя бы кого-то из старших родственников? Нет, конечно. И Прасковья Яковлевна не стала связываться с восстановлением на учебу, а просто вычеркнула память о прошлом как ненужную.
— Осталась я без куска хлеба, — сетовала она, когда они с мужем вновь и вновь обсуждали эту проблему, сидя в тихой кухне после ужина. — Родители так радовались, что дали мне образование, а теперь их старания пропали. Без родителей не осилю я новую учебу, — Прасковья Яковлевна горько плакала от беспомощности, от обиды, что война не только оставила ее сиротой, но и забрала специальность, данную родителями в наследство.
Борис Павлович все помнил: и то, как родители жены не рекомендовали дочери рано выходить замуж, и как настойчиво выталкивали на учебу, и как мужественно помогали материально во время учебы. Он понимал этих людей, поэтому и сам старался пособить жене в получении образования. Когда они все-таки поженились, он уехал с нею в город, работал, оплачивал съемную квартиру... Но прошли годы, и больше не было с ними умного Якова Алексеевича и настырной Евлампии Пантелеевны, унесла война их жизни... А без них учеба Прасковьи Яковлевны превращалась в неподъемное предприятие.
— Скажи, — наклонив голову, спросил Борис Павлович, — а сегодня тебя смогли бы взять на работу, допустим тем же секретарем суда, без высшего образования?
— Смогли бы, — неуверенно сказала Прасковья Яковлевна. — Там не требуется высшее образование. Но для этого те, кто принимает решение, должны знать кто я и на что способна. Нужна хотя бы рекомендация местных властей, как было в прошлый раз.
— А теперь тебя не порекомендуют?
— Кто? — в ответ спросила Прасковья Яковлевна. — На подобные должности всегда найдется чья-то родственница. В первый раз мне просто повезло. Тогда ведь решающим было желание избежать конфликта в школе... Нашлись люди, заинтересованные определить меня в суд. А теперь не то.
— Но это не последнее место, где можно работать без диплома, — настаивал Борис Павлович. — Надо искать работу помимо школы, вот и все.
— Надо…
В период ученичества Прасковья Яковлевна не блистала большими успехами и обширными знаниями. Они ей давались трудно, стоили напряжения сил и воли. И теперь, когда младшая дочь выросла и готовилась идти в школу, вновь совершать прежние подвиги, повторно получать образование, тем более заочно, она не отваживалась. И потому что не верила в себя, и потому что не хотела принуждать себя к тому, что получалось не с лету.
Позже жизнь показала, что тот самый выбор ей пришлось бы делать и при наличии диплома. Новое время потребовало совершенствования системы подготовки учительских кадров, приближения ее к возросшим запросам общества. В соответствии с этим, выпускникам довоенных институтов предложили обновить свои знания для чего окончить современный вуз, хотя бы без отрыва от работы.
Учителей это коснулось в первую очередь! Поступать в вуз надо было на общих основаниях, хотя практически они зачислялись вне конкурса, так как учитывался их стаж работы...
Когда автор этих строк оканчивала школу, все учителя учились на заочных факультетах! Жалко было на них смотреть — пережившие страшные вихри истории, вырвавшие страну из разрухи и поднимавшие ее на своих молодых плечах, они вынуждены были на студенческой скамье выдюживать наравне с теми, кто этих тягот не пережил.
Мария Федоровна Майдан, одноклассница и подруга Прасковьи Яковлевны, окончившая вместе с нею Учительский институт, тоже училась заново. Каждую ночь она недосыпала, со слезами просиживая над учебниками и тетрадями с контрольными работами. Каждый день всем жаловалась, как ей стыдно держать сессии в институте, где приходилось отвечать более молодым преподавателям, и при этом отвечать плохо, почти прося снисхождения.
Так было бы и с Прасковью Яковлевной. Отличие лишь в том, что попадать в такое положение она не захотела бы. И в итоге оказалась бы вне школы, как получилось и теперь — при утрате довоенного диплома. По всему выходило, что сильно убиваться о его потере не стоило. Хотя для нее диплом об окончании Учительского института был не только источником заработка — в большей степени он был памятью о родителях, их мечтой, которую она с большими трудами осуществила...
Все прошло...
Характерно, что и Борис Павлович не сделал попытки получить среднее образование. Это ему непременно помогло бы. Он бы смог учиться дальше и продвинуться по профессии.
В конце 60-х годов прошлого века все учились! Все догоняли упущенное, что у них отобрала война. Учился в вечерней школе младший брат Бориса Павловича, отсидевший к тому времени дважды в тюрьме. Учились молодые женщины, стремящиеся не потерять мужей, заглядывающихся на медсестер и учительниц, прибывающих в Славгород по направлениям из училищ и вузов. Эти женщины вместе с учениками дневной школы сдавали выпускные экзамены!
Но Борис Павлович, которому науки давались легко, даже не попытался повысить свой образовательный статус. А ведь тогда уже ему в этом помогли бы подросшие дочери. Даже не попытался...
Перемена профессии
Вскоре Прасковье Яковлевне передали, что с нею хочет поговорить Дробот Артем Филиппович, директор школы. Для Славгорода это был приезжий человек, белорус по национальности, который преподавал математику. Он остался в памяти славгородцев двумя фразами: «Сотрем, начнем сначала» и «Как же вы не видели, вот они лежат!».
Первую фразу он произносил на каждом уроке после изложения ученикам нового материала. Объяснять его на словах этот учитель не умел, поэтому просто писал выводы формул и доказательства теорем на доске. В конце спрашивал:
— Все понятно?
И если видел, что ученики не поняли геометрическую теорему или вывод новой формулы по алгебре или тригонометрии, продолжал:
— Сотрем, начнем сначала, — и точь-в-точь писал все заново.
После этого кто-то из отличников начинал понимать то, что пишет на доске учитель, и поднимал руку, чтобы нормально привести доказательство для остальных ребят. Отличник получал пятерку в журнал, а ученики — доходчивое объяснение.
А вторая фраза возникала на общественных работах, обычно на выгребании сухой травы или желтых листьев с парка. Дети с неохотой это делали и при удобном случае прятали инструмент в траву, а потом сидели под солнышком и говорили, что у них нечем работать. Директор школы, зная, что точно доставлял сюда грабли, ходил и искал их по газонам. Найдя, изумленно и радостно восклицал:
— Как же вы не видели, вот они лежат! — восклицание это было исполнено безграничной веры в то, что случилось недоразумение, что детвора просто как-то не увидела грабли...
Эти ситуации повторялись часто, к радости учеников, которые обожали своего директора и его чистую веру в их порядочность. Но это случалось либо осенью, когда опадала листва, либо ранней весной, когда на газонах начинала прорастать молодая трава. Теперь же был только конец августа 1954 года... Но школа уже готовилась к приему учеников.
Так вот Артем Филиппович хотел поговорить с Прасковьей Яковлевной.
— Мне очень жаль, — начал извиняться он, когда Прасковья Яковлевна появилась в его кабинете. Он подставил ей стул: — Присаживайтесь.
— Спасибо.
— Да. Так вот я слышал, что у вас в районо возникли сложности... из-за диплома...
— Это было еще весной, когда шла комплектация школ. Вдруг у меня потребовали документы. А я ведь в 40-м году, после окончания института, сдавала туда нотариально заверенную копию диплома. Теперь можно было бы ею воспользоваться. Но и она в районо не сохранилась. Теперь у меня нет ни самого диплома, ни копии.
— Как мне сказали, в районо тоже архивы пропали...
— Но хуже всего, что и архив Учительского института пропал. Так что восстановить мой диплом не с чего, никаких следов не осталось... Надежда была на эту копию... Она была заверена нотариально и могла заменить оригинал.
— Ну да, — согласился Артем Филиппович. — Печально. Я все лето думал... У нас, кроме учительских, есть должность библиотекаря.
— Но она же занята?
— К сожалению... — директор передвинул на столе какие-то бумаги... — Собственно, мне неудобно говорить... Я хотел организовать буфет для школьников.
— Буфет? — удивилась Прасковья Яковлевна. — Уж если торговать в школе, так книгами, — сразу поняла она, о чем печется директор.
Артем Филиппович хотел помочь ей с трудоустройством, ведь с весны, когда она подняла этот вопрос, дело не сдвинулось с места. Правда, она и не планировала идти на работу раньше сентября — ребенка-то деть было некуда. Однако учительская солидарность заставляла директора школы мучиться и искать варианты для пострадавшего от войны коллеги.
— Мне все равно отказали, — ответил он. — Не дали штатной единицы. Говорят, не положено.
— Понятно.
— Нет, не понятно! — Дробот заговорил громче: — Находясь в школе, дети по семь-восемь часов ничего не едят. И не пьют. Это ненормально. Даже у взрослых есть перерыв на обед.
— И в школе есть, — напомнила Прасковья Яковлевна. — Большая перемена.
— Ага, только мы должны создать условия, чтобы дети могли хотя бы пряник съесть и запить стаканом молока на этой большой перемене.
— Не знаю, я не думала об этом.
— А я пошел в сельсовет! Если районо не находит денег, то, может, местная власть найдет, — подумал я. И знаете, что они мне сказали?
— Что?
— В сельсовете меня похвалили, да. Но... говорят они, что эту должность, то есть школьного буфетчика, надо ввести в штат сельпо. Так вы согласны занять ее?
— Лучше бы книгами, чем пряниками...
— Говорил я и о книгах. В сельсовете сказали, что в план следующей пятилетки внесут строительство книжного магазина. Настоящего! И вашу кандидатуру взяли на заметку. Так что...
— Лиха беда начало? — подсказала Прасковья Яковлевна.
— Да! Не, ну как же вы не видели! — с довольным видом, что вопрос решился, пошутил директор школы, зная что из-за этой фразы над ним добродушно подшучивают ученики.
Так в школе был организован буфет, в котором буфетчицей начала работать Прасковья Яковлевна.
Поначалу казалось, что эта директорская затея себя не оправдает — в семьях не было денег для детей. Дети по-прежнему приходили в школу без копейки, на переменах прибегали в буфет, ходили вокруг прилавка с голодными глазами и ничего не покупали.
К тому моменту Прасковья Яковлевна уже поняла, что в любом деле надо бороться за его продвижение, настаивать на своем и идти до конца, даже если знаешь, что равнодействующая общих усилий не на твоей стороне. Надо пробовать, проигрывать и пробовать снова — вот чему учил ее предыдущий опыт. Никогда не сдаваться! — это стало девизом ее жизни.
В соответствии с ним Прасковья Яковлевна попросила собрать внеочередной педсовет и пригласить на него всех классных руководителей.
— Мы знаем, что на нас, а я себя не отрываю от задач, которые решает школа, — уточнила Прасковья Яковлевна, — так вот на нас лежит обязанность дать детям знания и воспитать их хорошими людьми. Но есть еще одна задача, о которой мало говорится в педагогике. Мы должны заботиться о здоровье детей. Для этого, например, существуют уроки физкультуры. Да? Но какое здоровье может быть и какая физкультура может его дать, если дети, находясь в стенах школы, по семь-восемь часов остаются голодными?
— Как вы знаете, мы организовали буфет, — начал Артем Филиппович.
— Кстати, хорошее дело! — перебила его Раиса Григорьевна Гунадзе, учитель биологии.
— Но дети приходят в школу без денег, — продолжил директор. — Люди считают, что кормить детей — это роскошь. Поразительно!
— Я все посчитала, — Прасковья Яковлевна взяла в руки листок бумаги, поднесла к глазам: — Вот, у меня тут записано, — она показала листок собравшимся, чтобы они видели, что он исписан. — В школе обучается 634 ученика. Из них дети работников завода «Прогресс» составляют 56% или 355 человек, колхозников — 22% или 140 человек, работников Кирпичного завода — 7% или 44 человека, работников железной дороги — 9% или 57 человек, работников госучреждений и прочих мест — 6% или 38 человек.
— Что это дает? — спросил кто-то как бы про себя.
— А вот что дает, — тем не менее ответила этому человеку Прасковья Яковлевна. — Если кусок белого хлеба стоит 2 копейки, а стакан молока 6 копеек, значит, самый легкий обед может обойтись ребенку в 8 копеек в день. В месяц это составит, грубо говоря, 2 рубля 10 копеек. Итак, нам надо либо собрать эти деньги с родителей...
— Либо?
— Да, — сказала докладчица. — Либо попросить ежемесячной материальной помощи от завода «Прогресс» в сумме 745,5 руб., от колхоза «За мир» — 294 руб., от Кирпичного завода — 92,4 руб., от Управления железной дороги — 119,7 руб. и от прочих в лице сельсовета — 79,8 руб.
— Ну как? — спросил Артем Филиппович. — Какой вариант лучше?
— Лучше-то, понятное дело, второй вариант, — поддержал разговор Александр Григорьевич, учитель истории. — Но как бы предприятия не сняли эти деньги со своих работников, у кого есть дети школьного возраста. Тогда это будет все равно.
— И все же для родителей, если брать психологическую сторону вопроса, второй вариант предпочтительнее, — заметил Артем Филиппович. — Итак, я беру на себя переговоры с руководителями предприятий. А вы, классные руководители, организуйте кормление детей на переменах. Начальные классы будем кормить после второго урока. А остальных — на больших переменах. Буфетчик у нас один, так что ему от каждого класса потребуется помощник. Так, Прасковья Яковлевна?
— Да, с помощниками мы вполне управимся.
Так она начинала свою работу на новом поприще. Благодаря ей скоро родители поняли, что дети, о которых заботятся, растут здоровыми и счастливыми, и начали помогать буфетчице. Наверное, месяца через два после описанных событий к ней пришел председатель родительского комитета и предложил свои услуги. Родительский комитет, со своей стороны, сказал он, берет на себя обязанность с каждого родителя собирать в кассу комитета тоже по 2 руб. 10 копеек, чтобы каждому ребенку выдавать на переменках по два горячих пирожка с ливером. Говорит, это ему сами родители подсказали.
— В день нам понадобится около 1270 пирожков, — подсчитал Охрименко Александр Иванович. — Это отличный приработок для заводской столовой, и им по силам выполнять такой заказ. Я с ними уже договорился — от лица школы. Ливер они будут закупать в Синельниково на мясокомбинате. Свежайший! Там тоже уже обо всем договорено. Вот для вас копии этих двух договоров, на всякий случай. В вашей конторе тоже знают, от кого вы будете получать пирожки, вот копия и этого документа. Понимаете, дети должны не только молоко пить, но и мясо есть, — он улыбнулся, потому что в его семье росло три сына.
— Молодец вы, Александр Иванович, — растрогалась Прасковья Яковлевна. — Только я, знаете ли... думаю о сиротах и вдовьих детях... У нас таких ровно 157 человек. С чьих денег их кормить пирожками?
— Подумаем, — пообещал Александр Иванович. — Меня вдохновляет ваша четкость в организации труда!
Наконец, и этот вопрос был им как-то решен.
В сельпо Прасковье Яковлевне по итогам кварталов давали грамоты за отличную организацию труда и ежемесячное выполнение производственных планов.
Но вот в июне учебный год завершился. Школьники пошли на каникулы, а Прасковье Яковлевне надо было где-то работать дальше.
Ценная идея
Председатель сельпо предложил ей искать работу самой. Мол, мы с дорогой душой пойдем тебе навстречу: переведем и оплатим — но что сейчас можно придумать, когда кругом лето и жара?
В то время очень остро стоял вопрос непрерывности трудового стажа. Он был важен для работающего человека. Если при переходе с одного места работы на другое у работника возникал перерыв, превышающий две недели, то его стаж трудовой считался прерванным. Сказывалось это перво-наперво на оплате больничных листов. Лица с прерванным стажем получали профсоюзную помощь по больничному бюллетеню в размере 50% от среднего заработка за предыдущие три месяца. Потом процент больничных пособий увеличивался и при восьмилетнем непрерывном стаже достигал 100% от заработка. Сказывалась непрерывность стажа и на других профсоюзных льготах, например, таких как выдача санаторных путевок и процент их оплаты. Наконец, не последним делом было и накопление общего стажа, от которого в итоге зависел размер пенсии. Короче, в советское время человека всячески поощряли больше и лучше работать. И прогулы ни у кого не вызывали энтузиазма.
Так что Прасковье Яковлевне срочным образом надо было с работой что-то придумывать.
Допустим, в трудовой книге ей бы могли сделать запись, скрывающую прерванный стаж. Но ведь нерабочие дни все равно не будут оплачены, а значит, средняя заработная плата уменьшится, что тоже негативно скажется на профсоюзных пособиях. Хоть она и не болела, но снижать свои показатели по стажу труда не хотела.
Раздумывать над новым местом работы она начала еще в мае, присматривалась, взвешивала... Но из всех ее прикидок ничего стоящего не получалось.
Между тем начиналась жатва озимых зерновых, в основном это была пшеница, и ее брата Петра Яковлевича прислали в их колхоз на вывоз урожая с полей. Жить в семье сестры он не захотел и остановился в колхозном доме приезжих. Все дело было в его трехсменном режиме работы, который, конечно, мог помешать семье, работающей в одну смену. Но в гости все же иногда заскакивал.
— Как тебе работается в родном колхозе? — спросила Прасковья Яковлевна в один из его визитов. — Папашу вспоминаешь? А маму?
— Что ты, сестра! — Петр Яковлевич засмеялся. — Все так изменилось, что даже подумать нельзя, что это — то же самое хозяйство. Все технологии изменились. Машины, вот, появились. Наконец, урожай мы возим не в колхозную кладовую, а прямо в государственные закрома сдаем, с колес.
— Да, многое изменилось...
— Я помню родителей, Паша. Помню... Не хмурься.
— Посмотреть бы им, как теперь...
— А все же есть и недостатки, — постарался перевести разговор на другое Петр Яковлевич. — Приезжаем мы с грузом на «Заготзерно»{14}, пока то-сё — есть минутка в холодок заскочить. И вот тут бы выпить что-то освежающее: ситро какое-нибудь, лимонад, да хотя бы воды охлажденной. Так ведь нет ничего! Ну как же так? А уж на поле тем более ничего не попьешь...
Этот разговор Прасковья Яковлевна вспомнила, когда беседовала с председателем сельпо о своей работе.
— Давайте, Серафим Сергеевич, организуем на зернозаготовительном пункте киоск по продаже прохладительных напитков. Как раз я бы там до сентября работала, а потом опять — в школу.
— Да где же там это... как его... Короче то, чем напитки охлаждают{15}, — почесал затылок Серафим Сергеевич. — Где его возьмешь...
— Там недалеко молочарня находится, куда колхозы молоко сдают. У них замороженной воды полно — целые подземные залежи. Ничего не стоит договориться и брать у них лед. Сколько там нам его потребуется... А вы девчатам с молочарни, допустим, раз в месяц какой-нибудь дефицит перекидывать будете. Ну, как?
— Думаешь, это ценная идея?
— В каком смысле? — не поняла Прасковья Яковлевна.
— Ну, будет толк от того киоска?
— Должен быть. Водители жалуются...
— Ладно, организую, — пообещал председатель сельпо.
Он действительно организовал на зернозаготовительном пункте «Заготзерно» хороший киоск, целый буфет, где можно было не только выпить охлажденный напиток, но и съесть чего-то. А то и «Шампанское» купить. Идея Прасковьи Яковлевны оказалась плодотворной.
Но было в ней несколько трудных моментов. Во-первых, новая работа находилась далеко от дома — приходилось в одну сторону идти пешком 4 километра, причем через пустырь, лежащий между поселком Славгород и пристанционным хуторком, образованным вокруг железнодорожной станции «Славгород». Это сейчас на том пустыре построены школа и заводской жилмассив, а тогда ничего не было. Две части селения разделял голый бугор. Выйдешь на него, глянешь вперед да назад — где-то далеко домики виднеются, а на самом бугре только пустота, кукуруза да подсолнух с двух сторон дороги стеной стоят, лесополоса недалеко, поезда гуркают. Страшно! Только и радости, что считай, половину пути пройдено. Не трудно было пройтись по земле, под деревьями, по свежему ветерку эти километры, но на пустыре бывало жутковато и даже опасно.
И вот тут речь о втором трудном моменте. Работать в киоске приходилось по 10-12 часов — водители ведь возили зерно круглосуточно — и домой возвращаться около полуночи, по темноте. Положение спасал Борис Павлович.
В 1952 году он купил себе новейший по тем временам мотоцикл «ИЖ-49», и разъезжал на нем, не считаясь со временем и усталостью. Для него это было развлечение. Вот и забирал жену с работы, да еще радовался, что она задерживается допоздна, а он в это время может погулять в привокзальном буфете, пивка попить, да с мужиками покалякать.
Сложнее оказалось с охлаждением напитков. Как это делали? В киоске стояла бочка со льдом, куда и погружали бутылки. Лед постепенно подтаивал, образовывал очень холодную купель. Доставая напитки, Прасковья Яковлевна то и дело погружала в ту купель руки. Когда коченела правая рука, она лезла в холод левой, а правую грела, и наоборот.
В первый сезон Бог ее миловал. А потом, забегая наперед скажу, заработала там Прасковья Яковлевна жесточайший полиартрит, так что ее прекрасные узкие ладошки и тонкие длинные пальчики начали распухать и краснеть. Со временем накрутило ей, бедной, на суставах утолщения и узлы, совсем не перестающие болеть; изуродовало руки — глядя на которые, и подумать нельзя было, что от природы они у нее на зависть красивые.
К началу нового учебного года, когда уже и яровые убрали, Прасковья Яковлевна готова была снова работать в школьном буфете. Дети ждали ее с нетерпением!
Так прошло три года.
«Рекомендую принять...»
Серафим Сергеевич Плотников был немолодым человеком, воевавшим, вернувшимся домой с ранениями. Работать ему давно уже было тяжело. Поэтому, едва дотянув до 60-ти лет, он начал собираться на бессрочный отдых. Длилось это долго, и закавыка была не в оформлении пенсионных документов, а в том, что он желал передать свое детище в надежные руки. Нет, конечно, преемника он сам себе назначить не мог. Зато мог оставить ему хороший коллектив. И старался добиться этого, ставя точки над «i», раздавая бывшим подчиненным наказы, как работать дальше, что в себе исправить. Он словно оставлял завещания и наилучшие пожелания.
Каждый день Серафим Сергеевич вызывал к себе то одного, то другого сотрудника и долго беседовал с каждым, веля не обижаться на него и те беседы не разглашать. Дошла очередь и до Прасковьи Яковлевны. Только ее он вызывать не стал, а сам ни с того ни с сего появился на ее рабочем месте.
Она от неожиданности опешила, испугалась, подумала, что случилось что-то. Подставила стул своему начальнику, наскоро протерев сидение полотенцем, со смятением посмотрела на него.
— Ты не суетись, Прасковья Яковлевна, — присаживаясь, сказал неожиданный посетитель, — я с добром к тебе.
— Да мы к добру-то как раз и не привыкшие, — засмеялась она. — Оно нам тоже тревожно.
— Ну тогда я издалека говорить не стану, чтобы ты не нервничала. Скажу коротко: надо бы нам, славгородским коммунистам, и сельповским в частности, чтобы ты поступила в партию. Вот так, Яковлевна. Я первый дам тебе рекомендацию. Ну как, удивил?! — спросил он с улыбкой.
Удивил — не то слово! Прасковья Яковлевна совсем растерялась, даже побледнела. Она так далека была от политики, от партийных дел, что не сразу сообразила, с чем это может быть связано. В ее окружении с детства не было ни одного партийного человека. И посейчас нет, если не считать работу, где она не всех одинаково хорошо понимала. По сути она даже не знала, какие они есть, коммунисты, и чем отличаются от остальных людей.
— Может, я что не так делаю? — вдруг спросила она, предположив, что приглашение поступить в партию связано с попыткой преподнести ей некий назидательный урок.
— Да в том-то и дело, что ты ТАК все делаешь, — успокоил ее Серафим Сергеевич. — Я тут однажды говорил об этом с Надеждой Николаевной...
— С Бачуриной? И что она сказала?
— Она тоже даст тебе рекомендацию. Ты главное соглашайся. А на будущее запомни, что в работе всегда надо быть такой же находчивой и настойчивой, как ты есть сейчас. Это в тебе очень ценные качества. Молодец. Так какой твой ответ будет?
— Надо дома посоветоваться... — неопределенно сказала Прасковья Яковлевна, очень сомневаясь, что муж одобрит такой ее шаг навстречу общественной жизни поселка.
Борис Павлович был ревнивым человеком, причем ревнивым во всем — в отношениях, в вопросах инициативы, в принятии решений, в проявлении личности, в популярности среди людей. Он во всем стремился быть первым и единственным, чем подавлял жену и словно зачеркивал ее значение для него. Если рассказывал что-то из жизни семьи, допустим, об урожае картофеля, то никогда не говорил «мы», а только «я»: не «мы посадили картофель», а «я посадил», не «мы собрали урожай», а «я собрал». Слушатели это замечали и коробились, но тут же делали скидку на его происхождение, мол, восточный человек не может быть иным. Нездешний халдей, короче.
Прасковья Яковлевна тоже знала эту черту мужа... Но она хорошо помнила похоронку и свою бессонную ночь перед образами, когда дала обет Богу беречь его, если он окажется живым. И этому обету следовала всегда, впрочем, в известных пределах. Сколько угодно она могла потакать мужу в том, чтобы он чувствовал себя лучшим и неповторимым, даже могла подыгрывать его самолюбию, но они оба прекрасно знали, что это просто некий негласный договор между ними, игра в первого героя, а на самом деле свой внутренний стержень она никогда не изменит. От своих принципов она ни при каких обстоятельствах и ни перед кем не отступала. То есть, говоря по конкретному поводу, она могла бы не поступать в партию, если этого не одобрит муж, но это не значит, что она изменила бы отношение к работе и к людям, за что ее, видимо, и оценили в партийном коллективе.
Вечером они обсуждали итоги дня и в частности вопрос о сделанном ей предложении. Против всяких ожиданий Борис Павлович отнесся к новости благожелательно, увидев за предложением Плотникова новые перспективы для жены.
— Может, это как-то возместит тебе потерю диплома, — предположил он. — В партию зря не приглашают, так что поступай!
— А ты как же? — тут же обеспокоилась Прасковья Яковлевна, чтобы муж не отстал от нее, вернее, чтобы не чувствовал себя отставшим от нее. — Может, и тебе стоит об этом подумать?
— Если пригласят, соглашусь, — честно сказал Борис Павлович. — Но пока что не приглашают. А напрашиваться не стану.
— Мы выходим из молодого возраста, нам уже скоро стукнет по сорок... — Прасковья Яковлевна старалась смягчить горечь, которую мог испытывать Борис Павлович, ведь его военная биография сложилась отнюдь не идеально. Но тогда казалось, что главное было остаться живым. А теперь, видишь, большего хочется — чтобы ошибок не было...
— Да, и это тоже, — согласился Борис Павлович.
Когда принимали в партию Николенко Прасковью Яковлевну, на партийное собрание пришел весь коллектив сельпо и славгородских учреждений, таких как почта, больница, школа... Словом, пришли коллективы, партийные ячейки которых входили в одну первичную территориальную организацию. Собрание было открытым.
После того как поступающая рассказала свою короткую биографию, подчеркнув, что она вся прошла на глазах присутствующих, выступили рекомендующие. Плотников особо подчеркивал два качества Прасковьи Яковлевны — инициативность и организаторские способности.
— Когда ко мне пришел Дробот Артем Филиппович с предложением открыть при школе буфет, честно скажу — я согласился только из уважения к нему, что он заботится о судьбе коллеги, пострадавшей от войны, — весомо говорил Серафим Сергеевич. — Думал, ну покрутится там эта молодица без заработка, и на том все закончится. Но вы видели, что она сделала? В два счета решила вопрос о кормлении школьников. Пусть это не обеды, а то, что мы называем перекусами, но тут дело принципа — она, а не кто-то другой озаботилась питанием детей, надолго оторванных от дома. И не отступила, пока не добилась успеха. А организовала как? Одна за смену кормит свыше 600 человек. Одна!
Выступающего перебили другие голоса, в порядке поддержки:
— Молодец, что там говорить!
— Дети довольны школьным буфетом, от своих жевжиков{16} это знаю.
— Любят ее дети, что правда, то правда.
Председатель собрания поднял руку, призывая к тишине. И Плотников продолжил:
— Потом пришла ко мне с идеей открыть киоск прохладительных напитков на «Заготзерно». Лето, жара... — а она толкует о холодном ситро-лимонаде. Я за голову схватился: где брать лед, как возить туда... А главное — для кого, для пары десятков шоферюг? Но все постепенно решилось, и опять у Прасковьи Яковлевны полный успех! Сегодня все сотрудники «Заготзерно» у нее покупают продукты, на месте своей работы, и больше не вырываются куда-то за ними ехать. Это же великое дело — удобство для человека! Конечно, Прасковья Яковлевна стремилась заработать. Но... с этими заработками все равно не разбогатеешь. А вот для людей ею добра сделано много. Главное, чем живет Прасковья Яковлевна? Она не просто так приходит на работу — она душу свою в нее вкладывает. И люди это чувствуют. Рекомендую принять Николенко Прасковью Яковлевну кандидатом в члены КПСС.
Потом выступила Бачурина Надежда Николаевна. Она говорила о тех глубинных качествах в человеке, которые позволяют ему, вроде тихому и незаметному, совершать подвиги. Наверное, она вспоминала при этом своего расстрелянного сына-партизана, совсем мальчишку... потому что говорила взволнованно, срывающимся голосом.
— Вы говорите, Серафим Сергеевич, что она хорошо организовала кормление детей на переменах... Зная не один десяток лет Прасковью Яковлевну, я не удивляюсь. Она не только там умеет организовать дело, где ей помогают или идут навстречу, но и там, где ей противодействуют. Вы знаете, что во время войны она, будучи 20-ти лет от роду, организовала побег из немецкого плена своего отца? И после этого бесстрашно прошла с ним через город, наполненный немцами, препроводив в безопасное место. Она также вывела из Запорожского концлагеря пленного азербайджанца, студента горного института. Не побоялась, хотя на нее там спускали овчарок-волкодавов.
Тут послышалось неопределенное гудение, перешептывания, скрипение стульев — люди разволновались, двигались на сидениях, вращали головами. Многие вообще не подозревали в этой хрупкой неулыбчивой женщине какой-либо решимости. И вдруг такое открывается!
— Такие люди... — Надежда Николаевна запнулась, затем продолжила: — они крепкой породы, надежные. Они совершают удивительные поступки не по указке, а потому что считают это своим долгом. Вот и все. Я не только рекомендую принять Пашу Яковлевну кандидатом в члены партии, а головой ручаюсь за нее, — напоследок сказала она. — Это человек с выдержанной душой, проверенными коллективистскими качествами, думающий сначала об окружающих, а потом о себе. Значит, правильный человек.
При голосовании руки поднимали даже беспартийные со словами: «Достойна», «Такая не подведет!», «...оправдает доверие». И председателю собрания приходилось несколько раз повторять правила голосования и говорить, что ему надо посчитать голоса только членов партии.
Секретарь собрания записал в протокол: «Принята единогласно».
Растроганная Прасковья Яковлевна, сидя среди голосующих, незаметно промокала слезы и только повторяла, глядя по сторонам: «Спасибо, товарищи...»
После собрания Прасковью Яковлевну поздравляли. Дробот Артем Филиппович сказал: «Постарайтесь его запомнить, этот важный момент биографии. По-моему, он был искренним».
Перемена фигур
Однако хорошее не длится бесконечно. Плотников, считая, что организацию и сплочение коллектива он завершил, ушел на пенсию, а вместо него пришел председательствовать в сельпо Григорий Иванович Самойленко. Человек этот был из местных, вроде даже сметливый, хваткий, но абсолютно непросвещенный. Ну и как следствие — глухой к общественному интересу и к доброй воле сотрудников.
Уехал со Славгорода и Дробот Артем Филиппович, оставив по себе непреходящую память в тех, кто его знал. Наверное, на момент написания этих строк его уже и в живых не было, но славгородцы, говоря о давних временах и своих школьных деньках, обязательно вспоминают и его, прекраснейшего человека.
Так вот, покатилась жизнь дальше.
Григорий Иванович свою председательскую деятельность начал с того, что на самые бойкие места, где были хорошие заработки, посадил знакомых, родственников или тех, кто носил ему подачки. Этому искреннему в своей серости человеку, в примитивности его интересов казалось, что хорошие заработки падают с неба... А ему их хотелось для себя и для своих ближних — за счет остальных. Таким представлялось ему правильное устройство мира.
В числе многих пострадавших от Григория Ивановича оказалась и Прасковья Яковлевна, вернее, ее работа в тех точках, которым она дала развитие. Как известно, все достигает своего пика и цветет недолго, поэтому любым цветением надо дорожить... Но тут естественный ход событий был нарушен варварским вмешательством.
Прасковья Яковлевна и в школе, и в сельпо оказалась без соратников и покровителей и не смогла удержать завоеванные позиции. Хотя не такие уж это были великие позиции, не такие уж большие высоты она покорила, только и того, что ей они дорого стоили в части самоотдачи, которую смогли оценить те, кто ее поддерживал.
Весной 1957 года она передала школьный буфет другому продавцу. Естественно, пущенные на самотек связи в первый же сезон после ее ухода захирели — очень скоро не стало ни пирожков, ни молока. Без приложения сил весь порядок вещей, все системы и связи засбоили, нарушились и рассыпались. И весной в школьном буфете можно было купить только песочное пирожное «Лето» за 10 копеек да конфеты «Школьные» из яблочной пастилы. А в начале 60-х годов его вообще закрыли, как нерентабельный.
В конце лета Прасковья Яковлевна, видя, куда дело клонится, сама сдала и вторую свою точку. Киоск на «Заготзерно» без нее продержался дольше, но лед и прохладительные напитки из него исчезли на долгий период — до появления холодильников.
— Как вы думаете, Григорий Иванович, имею ли я право, будучи коммунистом, оставаться без работы? И имеете ли вы право лишить меня работы при наличии у меня двух детей? — спросила она в конце августа у председателя сельпо.
Он даже не понял сути вопроса, уразумел только, что она давит на него своей партийностью и детьми.
— Так я же не против... — промычал неопределенно.
— Как же не против, если вы отобрали у меня все точки и ничего взамен не предлагаете? Куда мне завтра выходить на работу?
— Слушай, Прасковья Яковлевна, выходи куда знаешь. Я тут сбоку припека... тебе же виднее...
Пришлось ей опять самой искать работу. Впрочем, она с недавних пор присмотрела захудалый овощной киоск, в разгар лета торгующий гнилыми помидорами. Славгородцы страдали без привоза свежих овощей. На своих усадьбах ни помидоры, ни другие овощи они не выращивали. То ли земли были не те, то ли влаги не хватало, а колодцы по всему поселку наливались только соленой водой, непригодной для полива.
Прасковья Яковлевна уже знала, какой дневной выторг ей нужен, чтобы стоило разрабатывать новую торговую точку, причем почти с нуля... Благо дело, с конца лета начинался сезон массовой заготовки свежих овощей и разносолов.
В три дня она обошла завод «Прогресс», Кирпичный завод и славгородскую контору железнодорожников и объявила в коллективах, что начинает собирать заявки на поставки овощей для зимних заготовок. Такого тут еще не было. Люди воодушевились — надо же, и бегать никуда не надо, все тебе по заказу привезут! На четвертый день Прасковье Яковлевне начали прямо домой приносить списки. Они были пофамильные и с указанием сколько чего человек желает купить.
— Теперь же следите за моей доской объявлений, чтобы не пропустить привоз, — всех предупреждала Прасковья Яковлевна. — Я буду прямо фамилии указывать — для кого привезла. Так быстрее продажи пойдут.
Тем временем Прасковья Яковлевна переговорила с председателем колхоза, своим соседом, с бригадирами полеводческих бригад. Это не составило труда. У всех у них были дети школьного возраста, и поэтому в этих семьях ее хорошо знали, помимо того, что знали как дочь довоенного главного агронома, высадившего те сады, с которых сейчас колхоз собирал урожаи. С этими людьми она договорилась о заключении договоров на прямые поставки овощей прямо в сельпо, а не через перевалочные базы, как было раньше.
Более того на заседании правления сельпо она поставила вопрос о праве торговать в киоске также продуктами животноводства, мясом и рыбой.
— Ты что, хочешь центральный гастроном вместе с рыбным магазином тут открыть? — недовольно спросил Григорий Иванович, принимая от нее заявление с докладной запиской о своем предложении. — Где ты места столько возьмешь?
— У вас одалживаться не буду, — пообещала Прасковья Яковлевна. — Вот, возьмите еще, — она также подала начальнику новый регламент работы киоска. — Утвердите, пожалуйста.
— Что это? — испугался Самойленко. Но тут же начал читать и успокоился: — Один день в неделю торгуешь рыбой, два дня — мясом, остальные — овощами... Я правильно понял?
— Правильно.
— Не боишься так широко размахиваться?
— А вы вроде против! — поддела его Прасковья Яковлевна. — Сами же получаете зарплату с наших рук. Или нет?
— Не из-за тебя ли отсюда сбежал Плотников? Это сколько же ты мне работы прибавила с санстанцией и организацией в твоем киоске отдельных прилавков... еще красить тебе его надо. Да?
— Конечно. А на те работы, что из-за меня добавляются, у вас заместители есть. Да и санитарный инспектор свой — Варя Садоха. Она все подскажет и поможет оформить.
— Не, ну ты разумная распоряжаться...
— Еще одно, — не обращая внимания на замечание, говорила Прасковья Яковлевна. — Овощи, рыба, мясо — продукты быстропортящиеся и поэтому мне нужна хорошая связь с покупателями.
— Что, неужели кремлевский телефон в киоск поставить?
— Пока нет, — не приняла сарказма Прасковья Яковлевна. — Пока что поставьте доску для объявлений.
— Ты скажи, откуда тебе будут привозить свежую рыбу?
— А вы же подписывали договор! Неужели не увидели...
— Да кто там их читает! Я же тебе доверяю.
— О рыбе с рыбсовхозом договорилась, есть такой на Днепре. Маленький и малоизвестный.
— Открой мне один секрет, — наконец спросил у нее Григорий Иванович. — Почему раньше мы работали с перевалочной базой, а не напрямую с колхозом?
— Потому что с базой проще — раз в пятилетку подписал договор и сиди протирай штаны, пока они вам будут гнилые остатки привозить. А с колхозами работать хлопотно, много бегать надо, каждый день созваниваться...
— Ну бегай, бегай, пока молодая...
Да не такая уж молодая, подумала Прасковья Яковлевна. Но что ей оставалось делать, если под лежачий камень вода не течет?
Через неделю она вышла на работу в овощной киоск, отремонтированный, покрашенный, с новыми полками и прилавком и снабженный большим информационным щитом. С тех пор покупатели у ее прилавка не выбывали. Она умела закрутить дело так, что люди сами организовывались в группы и крупные заказы той или другой группе лиц в киоск привозили тогда, когда у них была возможность их забрать. Вся ее работа зависела от колес: от четкой организации привоза продуктов и их продаж. Это помогало не затариваться и обходиться без залежавшихся остатков. Фактически киоск работал под заказ покупателей. Крутиться приходилось крепко, с утра по часу висеть на конторском телефоне, проверяя все контакты и операции предстоящего дня и улаживая сбои, если они случались.
Прасковья Яковлевна понимала, что долго работать в таком нечеловеческом темпе не сможет, но заработки шли надежным потоком, а хоть немного подкопить денег ей не мешало. В этом году ее старшая дочь оканчивала школу и поступала в вуз.
Падая и поднимаясь
Супружеские горечи
Пока Прасковья Яковлевна не работала и держала в своих руках семейный образ жизни, сохраняя его строгость, размеренность и стабильность, все в ее отношениях с мужем было не то чтобы хорошо, но сносно. Жить в ладу с красивым мужем вообще сложно, а тут гремучая смесь — горячий темперамент, мужской шовинизм, обусловленный восточной кровью, и послевоенный дефицит мужчин. Подросшие девицы кое-как находили пару среди сверстников, а вот молодым вдовам было не позавидовать, они издалека кидались на кого придется. Известно — настрадавшиеся женщины искали хотя бы временную, а то даже и иллюзорную опору, чтобы совсем не завыть от тоски и безнадежности.
Как же тут было бедному Борису Павловичу не поддаваться соблазнам? Едва только жена пошла на работу и, что называется, спустила его с глаз, как он и воспользовался этим.
Правда, в какой-то степени был он предусмотрительным человеком и заводил шашни да шуры-муры только с замужними фифами. Но такие узелки, бывало, завязывал и таким потом подвергался преследованиям, что обращался за помощью... к жене, чтобы она избавила его от возникших отношений. Приносил ей стопки писем от женщин (которые зачем-то сохранял, тщательно пряча) в доказательство того, что это они за ним бегали, а не он за ними. Особенно упорно пришлось Прасковье Яковлевне оборонять мужа от некоей Путьки, такое она дала ей прозвище. Путька была моложе Прасковьи Яковлевны лет на пять-семь, имела мужа, вернувшегося с войны без одной ноги. Мужчина этот (фамилия его — Федорченко, имя забылось) был очень даже симпатичным, солидным с виду, степенным, уравновешенным, чего нельзя было сказать о самой Путьке, довольно страшненькой лицом, да еще рыжей, конопатой и гулливой. Двое детей у них было, две девочки... Но вот ничего на эту женщину не действовало!
Еле-еле Прасковья Яковлевна совладала с нею, но отвадила.
Но это было давно, когда у Бориса Павловича еще никакого транспорта не было, даже велосипеда. Потом он его купил, на толоке учил Прасковью Яковлевну ездить, дочек учил... Со временем оставил им велосипед, а себе купил мотоцикл.
Теперь, когда Прасковья Яковлевна пошла на работу и уставала там, и мысли ее бывали заняты работой, Борис Павлович после рабочей смены разъезжал на своем ИЖ-49 по окружным хуторам, где искал приключения и возможность сочетать полезное с приятным.
Дома они держали небольшое хозяйство — кур и свинку, — которых надо было чем-то кормить. Ну, летом куры сами искали пропитание, гуляя на воле — их тогда взаперти не держали, — а на зиму приходилось, конечно, покупать для них пшеничку. Для всеядной же свинки хватало объедков да того, что выращивалось на приусадебном огороде — свеклы, тыквы, кукурузы. Но все это домашнее животноводство было, как сказать, — несерьезно, больше не для пользы, а для порядка: как же жить в селе и не держать во дворе какую-нибудь животинку? Это не понималось бы людьми. Так и получалось, что все держали, и им приходилось.
Но у большинства славгородцев кто-нибудь из семьи работал в колхозе, и этими людьми проще решался вопрос с фуражами да кормами, а рабочим их брать было неоткуда. Вот и ездил Борис Павлович по хуторам, по животноводческим фермам в поисках дешевых, а то и дармовых отрубей или комбикормов. Конечно, что-то он привозил домой, с пустыми руками не возвращался, ну, а попутно и подгуливал с птичницами да свинарками.
Со временем Прасковья Яковлевна начала понимать, почему ее муж за полночь приезжает домой и так старательно занимается заготовками кормов. И начала задавать ему вопросы. В ответ на них Борис Павлович навязывал ей скандалы. И опять применял подлый маневр, испытанный им в симферопольской жизни, — орал, что жена ему изменяла, что он еле-еле это терпит, что умерший мальчик был не от него и прочие надуманные обвинения. Это было отвратительно!
Причем, он специально разогревал себя, а потом начинал драться, даже за нож хватался. Бедные их девочки просыпались от криков, в ужасе вскакивали с постели и закрывали Прасковью Яковлевну своими телами от звереющего Бориса Павловича.
Зачастую им проходилось не ночевать дома, особенно после хватания за нож, хоть его Борис Павлович и не пускал в ход, пугал только бедных домочадцев. Если человек поднимает на близких нож, то оставаться в доме с ним было опасно. Прасковья Яковлевна брала старые одеяла и шла с дочками на кукурузные поля, где они проводили ночь, укрываясь от домашнего тирана в высоких стеблях.
Домашняя жизнь постепенно превращалась в пытку. Дышалось свободно только тогда, когда Бориса Павловича не было дома. Но едва он появлялся, все начиналось сначала. Какие там могли быть уроки? Какое чтение классики...
Правда, Борис Павлович обладал отходчивым характером. Утром он извинялся перед женой, показывал ей язык, дурачился, вымаливая прощение. Но легко ли было прощать его, когда у тебя синяки на лице и тебе с ними надо идти в коллектив?
На работе Прасковье Яковлевне сочувствовали.
Александра прощается с юностью
Дочерями Прасковья Яковлевна гордилась — обе были смышленые, хорошо учились. Правда, на этом их сходство кончалось. В остальном они были что называется диалектическими антагонистами, разными. Их даже сестрами не все признавали: старшая, Александра, полностью пошла в отца — и внешностью, и характером, а младшая, Любовь, была белолицей, тихой и домашней, как и Прасковья Яковлевна в свое время.
Александра вызывала особенную тревогу, ибо росла трудным ребенком, можно сказать, не домашним: отличалась непоседливостью, приверженностью к компаниям и уличным гулькам, озорством, непослушанием и оправдательными фантазиями, пристрастием к сокрытию всяческой правды о себе. Слова к ней не доходили: что ни скажи, обязательно сделает наоборот. Короче, были у нее проблемы то ли с развитием, то ли с поведением и были у родителей причины волноваться за нее.
Особенно старалась избежать Прасковья Яковлевна повторения ее собственных ошибок в дочерях: преждевременного интереса к мальчикам, игнорирования родительских советов, небережного отношения к девичеству и девичьему достоинству, и, как следствие, нежелательных детей, тем более ранних да нагулянных... Словом, всего, что могло притупить развитие интеллекта и испортить судьбу, раньше сроков изнашивая плоть. Хотелось, чтобы у них был выбор, чтобы они его сделали сознательно, чтобы маленько поднялись над рутиной сельской жизни, дольше оставались молодыми. Ведь не зря же им даны были светлые головки!
И вот, слава Богу, отпраздновали окончание школы Александрой. Взвесив ее способности, на домашнем совете решили, что гуманитарные предметы — не для нее, скучны ей. Она с лету постигала математику и физику, следовательно, и должна идти туда, где их изучают. Поскольку ментально Александра была ближе к отцу, то и прислушивалась к нему больше. А он именно так и сказал, что ее стезя — точные науки.
Подала документы на физмат Днепропетровского госуниверситета, гордясь его названием — имени 300-летия воссоединения Украины с Россией. Действительно, звучало прекрасно! Борис Павлович по вечерам на все лады повторял это название, словно уже гордился принадлежностью его дочки к университету.
Первым испытанием шло сочинение по литературе, на выбор — русской или украинской. Это было великое преимущество сельских школ — знание двух языков, двух литератур. В городах преобладали русские школы, где украинский язык не изучался, у горожан, значит, и выбор был меньше.
Так как экзамен этот письменный, то его результаты стали известны через пару дней... Дома Александра сказала, что получила положительную оценку и продолжает сдавать остальные экзамены. А на самом деле это было вранье — по сочинению она получила двойку и сразу же была снята с конкурса. Пришлось ей срочно забирать документы из университета и искать другое пристанище.
Правду сказать, она оказалась в настоящей беде, ибо в те времена бытовали совершенно дурацкие предрассудки, ставящие крест на неудачах и неудачниках. Касалось это и поступления в вуз. Тут получить на вступительных экзаменах двойку было еще позорнее, чем не пройти по конкурсу. Позор для тогдашней молодежи был нестерпим, так что особенно чувствительные девушки, не решающиеся сказать дома правду о крахе своих попыток, шли под поезд или вешались. Имелись и в истории Славгорода такие случаи. Не то чтобы к не поступившим девушкам и юношам менялось отношение со стороны людей, скорее всего, они сами установили такую меру требовательности к себе, которая не прощала им собственные ошибки. Сошедшие с дистанции после неудач, они не находили правильной линии поведения и присуждали себя к высшей мере.
И вот именно это несчастье постигло Александру. Она даже не успела почувствовать вкус конкурса, не успела осознать себя абитуриенткой, как для нее все закончилось. Слава Богу, что после этого она не пошла по следам худших примеров! Хотя и не лучший путь выбрала. Попытка устроить себя без родителей, приправленная глупым самомнением и трусливым обманом, не могла закончиться добром. Она вызвана была вовсе не мужеством, как могло показаться сгоряча, а малодушием, боязнью сказать правду. А еще... — отцовской наивной верой в то, что можно случайно вытащить счастливый билет.
Это была еще одна ошибка. Лучшим решением было бы сразу сказать родителям правду и ехать в районо за помощью, чтобы пойти по стопам матери — ведь у Александры был перед глазами ее живой пример. Позже она так и сделает. Но Александра этого не сделала, не сообразила, что ли... По своей вине между двойкой по сочинению и определением в дальнейшей судьбе упустила три года и ввергла себя и родителей в такую бездну страданий, что и сказать нельзя.
Несчастная природа не спасли Александру от разглашения правды о неудаче. Более того, привела ее к еще более худой славе — о раннем браке, о невзыскательном выборе мужа, о жесточайших издевательствах над родителями, об эксплуатации их сочувствия.
Прасковья Яковлевна и Борис Павлович, гордившиеся Александрой в ее школьные годы, ходили теперь с поникшими головами, прятали глаза от сочувствующих взглядов односельчан. Одно дело — не добиться успеха. И совсем другое — после неудачи нагородить глупостей, гробящих жизнь. Апогеем стала неспособность Александры справиться с проблемами в личной жизни, за которую она так боролась. Она свалила все на отца с матерью, сделав их рабами созданного ею положения вещей...
Вот когда дети Александры Борисовны будут писать книгу о ней, я им подробнее расскажу о тех событиях. Во всех деталях! А сейчас речь о Прасковьи Яковлевне и о том, что ее старшая дочь оказалась источником больших несчастий для нее и для Бориса Павловича. Дочь ударила их в самое уязвимое, самое ранимое место — в гордость за своих деток.
Тем не менее хуже другое — Прасковья Яковлевна видела, что Александра даже не сознавала, что на самом деле являлась для семьи воплощенным злом, насланным сверх остальных трагедий. Со всем вероломством дочь полагала, что имела право так страшно осложнять чужую жизнь, как будто в этом заключались ожидания ее родителей.
Дело прошлое... Но тогда нельзя было не посочувствовать Прасковье Яковлевне, о которой ведется рассказ. Она буквально почернела на глазах. Куда-то сгинула вся ее энергия, предприимчивость, деловитость. Испарилось вдохновение. Безразличие овладело ею, работать ей стало тяжело. Она даже внешне изменилась — исчезла ее стройность, в плечах проявилась усталость. Глаза перестали светиться задором.
Дочка по своему разумению устроилась учиться буквально куда-нибудь — в швейное ПТУ{17} при Облбытуправлении. Жуть! И это при том, что она не умела иглу в руках держать. По всему выходило, что толку с нее не будет и ждать добра не приходилось. Нельзя превзойти себя и изменить упущенное время. Но это был ее выбор... на который, действительно, она имела право.
Прасковья Яковлевна, как каторжанка, принуждена была вести эту жалкую жизнь — без мечты, без ожидания радости в будущем... Ей казалось, что солнце перестало светить на землю и больше не появится в небесах.
Ошибки да оплошности
Тем временем Борис Павлович, который много занимался реставрацией, монтажом и введением в строй репарационной техники, был награжден Орденом «Знак Почета» с формулировкой: «за трудовой героизм и высокие производственные показатели в деле послевоенного восстановления народного хозяйства». Правда, это случилось еще в 1951 году. И как полагается владельцу Ордена, он имел определенные льготы и привилегии, а они с каждым годом наполнялись все большим и большим значением, возрастали в зависимости от стажа награжденного.
Награждение Орденом предусматривало выдачу единовременной премии и, что важно, постоянной прибавки к заработкам. Первичная прибавка, кажется, составляла более 10-ти процентов от заработка. Положение об ордене было действительным, естественно, на всей территории СССР и для всех отраслей народного хозяйства. То есть награжденный мог перейти работать, допустим, в колхоз, но льготы и привилегии все равно за ним сохранялись бы. Конечно, при предъявлении копии наградных документов.
Но вот с 1958 года, когда стаж Бориса Павловича увеличился и возросла квалификация, он начал получать увеличенный процент надбавки за Орден.
Он ликовал! Его словно заново наградили, во всяком случае они с женой снова переживали то же воодушевление, что и в 1951 году. Это было с неба упавшее счастье, дорогое и неожиданное! Сердце грело также то, что оно было заслуженным.
Это совпадение мнения Бориса Павловича о самом себе и о своей работе с оценкой его деятельности коллективом и правительством страны делало его частью такого огромного целого, от масштабов которого кружилась голова и хотелось петь.
Такое чувство он испытывал только на фронте, когда шел в атаку на врага, закрывая спиной дом и Родину, — больше тогда ни о чем не думал. Он понимал, что не имеет права упасть, быть сраженным пулей, потому что пострадает его вселенная, его солнце и все околосолнечное пространство. То же самое он ощущал, когда с раной навылет полз по нейтральной полосе к своим и тащил плененного немца, «языка». Он знал тогда одно, что без этого немца теряет смысл все, существовавшее доселе: и смерть его товарищей, и его ранение, и этот подвиг выживания и стремления доползти до своих. А этого допустить было нельзя, потому что тогда бы померк свет и холодная тьма охватила бы мир людей.
Супруги так радовались этой награде, привносящей в их жизнь столько хороших перемен! Им необходимо было подсластить себе пилюлю, полученную от Александры, иначе они бы не выстояли перед натиском тьмы, не отстояли бы свой свет. Ведь они ощущали, что без большого добра, пришедшего извне, погибают, что их душам не хватает живительного озона, рождающего желание дышать и видеть мир.
— Это высшие силы спасают нас, — однажды сказал Борис Павлович. — Нам надо чем-то поднять свой дух. Может, купим машину?
— А денег хватит?
— С премией хватит, еще и останется немного, — пообещал Борис Павлович. — Тем более что я мотоцикл продам.
Так весной 1958 года они купили подержанную машину, немецкий «Опель-кадет», видимо, тоже с репарационных поставок. Машина была в хорошем состоянии, а главное, она попала в хорошие руки. Борис Павлович знал ее до последнего винтика, мог с закрытыми глазами разобрать всю и собрать заново — такой он был мастер!
Жизнь сделала кульбит и повернулась к настрадавшимся супругам лицом — теперь они ездили на машине, не знали недостатка в деньгах, ибо Борис Павлович начал получать приличные деньги.
Им по-прежнему мешало неудачное устройство дочери, но они понимали, что вопрос этот со временем как-то утрясется, не сразу. Они видели, что швеей она не будет, не нравилось ей это занятие, не по нутру оно ей было. А значит, она год пересидит в училище, а там... что-то еще будет.
— Возможно, через год Шура повторит попытку поступить в университет, — мечтал Борис Павлович, прикрывая глаза, хотя со скрытой безнадежностью видел, что дочь себя к этому не готовила.
— Не знаю, — мягко возражала Прасковья Яковлевна. — Она не занимается ни литературой, ни языком, чтобы опять не оплошать с сочинением. Мне кажется, она не скучает по школе, по нормальным умственным нагрузкам, а это плохой признак.
— Да, я тоже вижу, что ей понравилась простая беззаботная жизнь, без умных обязанностей, без нагрузок — обывательская.
Но мешало им еще одно — работа Прасковьи Яковлевны. Ведь она не просто работала, а выкладывалась на ней, буквально истязала себя ею, не укладываясь в нормальную продолжительность рабочего дня. И Борис Павлович с грустью вспоминал время, когда она была дома, встречала его и при приезде на обеденный перерыв и после работы.
— А давай ты уволишься с работы, а? — предложил он, подобрав момент, когда у Прасковьи Яковлевны случился какой-то срыв на работе. — Разве можно так много работать? Ты себя не бережешь.
— Теперь можно и уволиться, — согласилась Прасковья Яковлевна. — Я страшно устала...
Не известно, почему это увольнение не отмечено в трудовой книжке Прасковьи Яковлевны. Там написано, что 14 июля 1958 года ее перевели из киоска и определили на место рабочей пекарни. Но на самом деле все было иначе...
Она сама уволилась с работы в связи с обнадеживающими переменами в деятельности Бориса Павловича. Они с мужем никогда не гнались за длинным рублем, довольствовались малым. И сейчас, после законного получения Борисом Павловичем весомой надбавки к зарплате, им можно было, в самом деле, подумать об упорядочении быта, о том, чтобы больше внимания уделять детям и друг другу.
На самом деле Борис Павлович ценил супругу, но старался делать так, чтобы она об этом не догадывалась. Он видел в ней добросовестную жену, хорошую мать и понимал, что другой такой женщины в его жизни не будет. Но... как только он видел, что она успокоилась и думает не о нем, а о чем-то другом, как тут же начинал выкидывать фортели, портить ей нервы.
Как бы там ни было, но после получения ордена Борис Павлович понял, что его выделили из толпы, что теперь он стал более заметным, чем раньше, что бузить ему больше не к лицу, и решил зажить добропорядочным семьянином. Он радовался, что жена поверила в него и спокойно ушла с работы, тянуть которую уже не могла, пережив потрясение при поступлении Александры на учебу.
Но... но... Об этом говорилось раньше — несчастная натура Бориса Павловича, ищущего неуёмных удовольствий, опять подвела его. Тут же! Он не успел даже вволю насладиться своим новым положением.
Дело было так. В какой-то из июньских вечеров он поехал на вокзал, чтобы в буфете попить пива — там оно всегда было свежим... И тут ему сказали, что вокруг машины ходит пьяный Соболь с ножом, муж учительницы начальной школы. Со стороны кажется, что на уме у него дурные намерения. Борис Павлович выскочил на улицу и, действительно, застал этого мужика присевшим у заднего колеса его автомобиля и пытающимся продырявить шину. Злоумышленник, конечно, получил тычок в нос, еще парочку ударов по ребрам.
К несчастью, этот Соболь получил в наследство туберкулез и зависть еще со времен исхода его предков из Египта. Как же ему было терпеть, что какой-то халдей семидельничает тут, зарабатывает хорошие деньги, получает награды, теперь купил машину и разъезжает как барин?! Эту картину необходимо было испортить. А горячая душа Бориса Павловича подыграла супостату!
Дальше события покатились комом: Соболь подал на обидчика в суд, и Борису Павловичу припаяли полтора года тюрьмы. Но это была не главная беда. Черные силы словно сговорились против бедного Бориса Павловича — адвокат, который должен был защищать его в ходе следствия и суда, выдурил у Прасковьи Яковлевны орден мужа и документы на него, после чего они канули в лету. И помощи от адвоката не было, и орден с документами он Прасковье Яковлевне не вернул. Сказал, что ничего не брал. Она-то, простая душа, отдала их ему под честное слово, с доверием, без расписки.
Ужас этого положения осознался супругами после того, как Борис Павлович отбыл срок наказания. Как и полагалось, после суда он был уволен с завода, и после освобождения должен был заново оформляться на работу — писать заявление о приеме, с подачей всех документов. Но документов на награждение орденом у него уже не было! Он не мог их предъявить и, следовательно, не мог претендовать на льготы и надбавки, которыми пользовался до суда. И все-все, что за этим награждением следовало, больше ему не было доступно. Увы!
Почему Борис Павлович не боролся за выдачу дубликата награды, неизвестно. Возможно, и боролся, но не добился успеха. Так что в воспоминание об этом награждении потомкам осталась лишь фотография, где он стоит с Прасковьей Яковлевной в своем дворе, а на борту его костюма красуется этот новенький орден. Фотография была сделана на следующий день после его получения! Есть еще одна фотография с Орденом — снятая с заводской доски Почета. Внизу видна сделанная тушью надпись: «Николенко Б. П. — слесарь».
Так трудно и много работать, заработать такую высокую награду, навсегда обеспечивающую его будущее, позволяющую его жене вести нормальный для замужней женщины образ жизни, — и так бездарно профукать ее... Нет слов... После такого крушения люди не живут. Но Борис Павлович перенес свои потери мужественно — упрекать ему было некого, сам виноват, что попал под руку закона, а жена всего лишь стремилась спасти его...
Он винил себя и в недосмотре за Александрой. Если бы он не ушел в свою жизнь, меньше мотался по командировкам, не гулял от жены, не тиранил семью скандалами и драками, то, возможно, у нее все сложилось бы иначе. В чем конкретно он еще мог помочь дочери и как изменить ее характер и уровень знаний, он не знал, но чувствовал вину — вот и все. Какой с нее мог быть спрос, если она все время тревожилась о матери?
А Прасковья Яковлевна, со своей стороны, удар от этой трагической истории брала на себя — пусть муж по глупости попал за решетку, это чепуха, но ведь его орден именно она навсегда похоронила своим необдуманным поступком... Как она могла так опрометчиво поступить?! Как?! От горя, от невозможности терпеть свою вину за оплошность, приведшую к катастрофическим и необратимым последствиям, она была на грани самоубийства.
Ее спасло только еще более страшное горе, пришедшее в дом с замужеством дочери, когда та привела и посадила им с мужем на шею своего странного мужа — сущего монстра, живодера и садиста. А сама при этом оказалась беременной, неработающей, не имеющей права на получение пособия по уходу за ребенком. Для Прасковьи Яковлевны это было вселенским нашествием черных сил, хохочущей бездной сатанизма!
Но это было чуть позже, а тогда она попала в какой-то лабиринт безвыходности — муж в тюрьме, дочь живет на съемной квартире и черте чем занимается в каком-то задрипанном училище, а сама она сидит дома без работы с голодным подростком на руках...
Тихое добро
Умывшись с утра холодной водой, Прасковья Яковлевна отправлялась на поиски работы. Она готова была идти на любую посильную работу, лишь бы заработать копейку. Сельпо принципиально обходила стороной, чувствуя внутреннюю неготовность проситься туда, откуда ушла по причине крайней усталости.
На ее место в овощной киоск сразу же прыгнула Мария Лукьяновна, жена младшего брата Бориса Павловича. Это именно она следовала по следам Прасковьи Яковлевны и вышибала ее с «денежных мест». А потом, когда у нее дела летели коту под хвост, она с веселым видом утверждала, что работу запустила Прасковья Яковлевна и слиняла, а вот ей, бедной, приходится терпеть бесславие. Такую гадину полезнее всего было бы стереть с лица земли, да охотников не находилось. Впрочем, сразу после войны были охотники, готовые посчитаться с нею за шашни с фашистами, но она вовремя сбежала от них. Ладно, об этом рассказ будет в другом месте.
Видимо, думала Прасковья Яковлевна, ей надо сменить обстановку. Но куда податься? В завод идти она не решалась. Грохот, металлическая пыль и мазут были в ее представлении прообразом ада, а она пока что хотела — нет, должна была! — жить. На Кирпичном заводе работа была слишком тяжелой физически, не по ее силам.
В колхоз она всегда успеет.
День проходил за днем, а работа не находилась. Ей предложили место санитарки, то есть уборщицы, в больнице. Она сказала, что подумает, а сама... не могла решиться. Даже в Синельниково ездила, там искала. Была бы она сама, так согласилась бы пойти проводником на пассажирские поезда. Но с кем оставлять дочь-подростка на время многодневных поездок?
Как-то вернулась домой запыленная и голодная, а младшая дочь протягивает ей домашний пирожок с печенкой, поешь, мол. Пирожок был свежий, вкусный!
— Где ты взяла?
— Баба Баранка угостила, — опустив глаза, сказала Люба. — Она дала мне три штуки, но я два съела... не удержалась...
— Ну и хорошо, — Прасковья Яковлевна поцеловала дочь в макушку. — Мне одного хватит.
— Мне очень стыдно, мама.
— Ты же растешь, дочка! Тебе нужнее.
Наутро Прасковья Яковлевна опять куда-то шла... Слезы катились по щекам, и она их не вытирала, потому что не замечала. Она не знала, куда идти, кого просить о помощи. Подумывала, не пойти ли к секретарю территориальной партийной организации, может, он что-то подскажет. Или в сельсовет — они могут найти ей место на каком-то хуторе. Там тоже люди живут.
И тут ее окликнули. Она оглянулась — сзади ее догонял Иван Тимофеевич Козленко, сосед по улице, которого уже после ее ухода с сельпо назначили туда председателем.
— Здорово, соседка! — бодро сказал он, запыхавшись от быстрой ходьбы. — Как дела?
— Здравствуйте.
Короче, начался у них разговор. А в чем оказалось дело?
Тогда, с послереволюционного времени и по описываемые годы, хлеб в Славгороде не выпекался. Люди покупали его либо у знакомых, которые исподтишка пекли на продажу, что для многих было недоступно и дорого; либо в магазине, куда завозили хлеб из Запорожья и где выдавали по одному кирпичику на семью ввиду ограниченного привоза. Привозной хлеб хоть и был по карману, но в основном ржаной и плохо выпеченный, от него у многих болели желудки.
И вот теперь сельпо решило выпекать свой хлеб — надоело возить издалека, да еще выслушивать жалобы на его нехватку. Ведь до революции, как говорят старожилы, тут была отличная пекарня! Но где она может быть, где скрывается? Правда, давно это было, очень давно — между революцией и сегодняшним днем война пролегла... Может, фашисты разрушили пекарню? Так вроде не было таких зданий, чтобы их не восстановили. А среди отстроенных объектов пекарни не было.
С этими мыслями Иван Тимофеевич осматривал магазины и разные другие помещения вверенной ему организации и обратил внимание на объект, стоящий под одной крышей между конторой с его кабинетом и тылами магазинов. Там размещался то ли склад, то ли кладовка для заброшенных вещей. Вел туда отдельный вход со двора, имелся и запасной выход — оба с коридорчиками и еще с какими-то дальними подсобными комнатами... Новый председатель велел очистить эти помещения от барахла, и когда это сделали, обнаружил в самом большом зале, под одной из стен, продолговатую яму в полу, выложенную кирпичом, в которую вели кирпичные же ступени. Была она глубиной по пояс человеку.
— Что за яма? Для чего? Может, ты знаешь? — спросил он у Прасковьи Яковлевны.
— Я? — удивилась та. — Почему я должна знать?
— Ну ты же из этих... из Хассэнов, — без тени смущения сказал Иван Тимофеевич. — Из бывших владельцев. И стало быть кое-что знаешь про пекарни и про хлеб. Потомственные секреты не пропадают.
Как крепка народная память! Действительно, когда-то у ее предков была тут хорошая пекарня. Наверное, именно ее Иван Тимофеевич и искал.
Однако последняя его фраза удивила Прасковью Яковлевну. Она задумалась — неужели так оно и есть? Неужели она знает такие секреты, которые могут быть полезны людям? Она что-то знает, не подозревая, что это секреты, неизвестные другим? Тут Прасковье Яковлевне припомнилось, что ее двоюродный брат, сын Елены Алексеевны, тоже работал пекарем в городе Балаклее Харьковской области. Она задумалась о наследственных знаниях и наклонностях, вспомнила уроки бабушки Ирины Семеновны, рецепты выпечки хлеба тети Арины, жены Семена Алексеевича...
— ... снова запустить в действие, — тем временем говорил Козленко. — А там и ваши секреты хлебопечения, практические навыки припомнятся, появится душевная приверженность этому занятию.
— Что, что?
— Говорю, наверное, это пекарня и есть. Предлагаю тебе осмотреть ее и браться за дело.
— За какое дело? Я что-то не понимаю.
— Принимай пекарню на себя, говорю! Хоть с сегодняшнего дня.
Перед тем, как согласиться, Прасковья Яковлевна держала совет с тетей Ариной. Та долго жила при ее бабушке Ирине Семеновне, вместе с нею выпекала хлеб и для себя, и на продажу, так что знала многие полезные секреты.
— Конечно, соглашайся! — сразу посоветовала тетя Арина. — А пекарскими рецептами я тебя снабжу. Такой хлеб будешь печь, какой тут не все едали!
Осмотрев яму, о которой говорил Иван Тимофеевич, Прасковья Яковлевна смутно припомнила, что это подход к печи.
— Да, — обрадовано сказала она Ивану Тимофеевичу, — это пекарня и есть. Печь должна быть за этой стеной, — она показала на стену, вдоль которой была яма сделана. — Ее под на одном уровне с полом находится.
Прасковья Яковлевна обнаружила в стене на уровне пола заметно выделяющуюся кладку, как будто там было заложено некоторое отверстие или дырка. Выпирающие из стены кирпичи быстро вынули и, действительно, нашли за ними самую настоящую печь для массовой выпечки хлеба. Рабочая глубина ее составляла 6 метров, ширина — 4,5 метра, высота — с полметра. Короче, как позже было установлено, в печи помещалось 300 сковородок с хлебами: 20 рядов по 15 сковородок в ряду. Печь была явно законсервирована умным и рачительным хозяином, ибо стояла как новенькая — чистая, без единой пылинки, с исправными форсунками, полностью готовая к работе.
На следующий день попробовали запустить в работу форсунки — получилось. А еще через несколько дней, после санации печи, выдали пробную партию хлеба.
Так Прасковья Яковлевна стала хлебопеком.
Работа опять была тяжелая, тем более что Прасковья Яковлевна по своей привычке шла по самому трудному пути — не пользовалась положением начальницы пекарни, работала наравне с рядовыми работницами. Это была ее принципиальная позиция, ибо только так она получала моральное право требовать от своих подчиненных отличного исполнения работ, и только так добивалась отличного качества хлеба. Будучи невысокой хрупкой женщиной, в которой было, наверное, не больше 50-ти килограмм веса, она сама разгружала машины и носила на плечах 70-килограммовые мешки с мукой. Бедная...
Если бы только моя мамочка знала, во что я превратилась, — думала она иногда. Как жалела она меня, как старалась хорошо одеть — для чего все это было? Бог не дал ей долгой жизни, видимо, не хотел, чтобы она видела мою жалкую долю.
В деревянных чанах месить тесто приходилось вручную — ставали женщины по три человека в ряд и ворочали руками, как лопастями, пока из муки и воды не получалось тесто. Хлеб пекли на хмелевой закваске, игнорируя дрожжевые опары, — все, как учила Ирина Семеновна. Хотя это было более хлопотно, ведь тесту на хмелю нельзя сильно перестаивать, иначе хлеб в процессе выпечки оседал и получался клеклым и сырым.
Выпекали они не только хлеб, иногда баловали славгородцев сдобой, делали пирожки жареные и печеные, рулеты, булочки — и все на хмелевой закваске. Удавались все изделия отлично, были пышными, ароматными, мягкими и при этом легкими для желудка.
Но вот в связи с такой капризностью хмелевых заквасок работать им приходилось в сложном режиме. Дежурному, ответственному за закваску, надо было являться на работу в 4 часа утра... А их, пекарей, было всего трое. Значит, каждая из них через две ночи на третью недосыпала, шла в темноте по пустому поселку, когда каждому нормальному человеку бывало страшно и жутко... Одна заходила в пустые помещения...
Прасковья Яковлевна так сильно старалась только из-за того, что Иван Тимофеевич позвал ее сюда, дал возможность работать, кормить семью.
Уже и муж домой вернулся, а она все в пекарне оставалась работать... Борис Павлович застыдился такой тяжелой ее работы, предложил найти более легкую. Но куда были идти и где искать такую?
— Тебе надо было меньше кулаками махать, — угрюмо сказала Прасковья Яковлевна.
— Да, — согласился он. — Сейчас бы жили как люди...
Зато какой хлеб пекла Прасковья Яковлевна! Какой пышный белый и мягкий он получался! Как долго не черствел! Каким вкусным был! Красивые караваи со съехавшей набекрень верхней коркой так манили взгляд! Это были именно караваи, огромные, ароматные, объемные, а не лепешки, черствеющие на второй день. Славгородский хлеб той поры не залеживался на прилавках. Зачастую спешащий человек заскакивал прямо на пекарню, брал с полок еще горячую хлебину, бросал деньги в стоящую рядом коробку и убегал — никакого обмана не допуская.
Накормила тогда Прасковья Яковлевна славгородцев настоящим домашним хлебом, набаловала досыта. Слава о ее хлебе перешла границы поселка и за ним стали приезжать покупатели с Синельниково, с Новогупаловки. Но продавцы видели чужаков и много хлеба в их руки не отпускали — сотрудники пекарни и так трудились на износ, увеличить выпуск хлеба они уже не могли из-за маленькой печи. И вывозу его со Славгорода торговые работники всячески препятствовали.
Именно в той пекарне, в адских условиях труда, где приходилось надрывать пупок, таская запредельные тяжести, и часами стоять у горячей плиты с ухватом-шестом, где рабочие смены длились по 18 часов, пережила Прасковья Яковлевна — если не учитывать войну, конечно, — самые страшные годы своей жизни, самые лютые, немилосердные, мучительные — последние годы своей молодости. Тут встретила она появление на свет первой внучки, которую пришлось выкармливать искусственно, оставив у себя; тут осиливала строительство нового дома, тут преодолевала хрущевскую реформу в хлебопечении, когда этот реформатор-самоучка весь народ посадил на кукурузу. Правильное слово «преодолевала» должно сказать о многом, что она делала для людей.
Например, официальным запросом из сельпо Прасковья Яковлевна потребовала у главврача больницы предоставить ей официальные данные о количестве жителей поселка, страдающих болезнями пищеварения, которым вредило употребление кукурузных лепешек и которым нужен был только белый пшеничный хлеб. Эти данные необходимы были для внесения изменений в производственные планы пекарни в связи с переходом страны на новую технологию хлебопечения в соответствии с последними постановлениями партии и правительства. Таких «больных», специальными стараниями врачей, набралось много. Для вящей убедительности там фигурировали все узники немецких лагерей, все старики... На основании полученной справки, где подчеркивалось, что указанная категория больных нуждается в диетическом хлебе, Прасковья Яковлевна истребовала в Райпотребсоюзе разрешение на выпечку диетического хлеба из пшеничной муки высших сортов. А поскольку в высших инстанциях уже успели скорректировать поставка пшеничной муки в сторону их резкого уменьшения, то сельпо правдами-неправдами закупало пшеницу в колхозе и мололо из нее муку на местной мельнице — хороша жизнь в таких поселках, как Славгород, где все вокруг свое, домашнее!
С тех пор хорошей муки имело сельпо — хоть завались! И пекла Прасковья Яковлевна отличный пшеничный хлеб для всех, а не только для больных. Никто ее уже не контролировал — мука-то была не с госпоставок, а считай своя. Так какой контроль мог быть?
Как понимали люди ее старания, как ценили! Бывало идет она по поселку, а встречные кланяются ей, благодарят, здоровья желают. Кормилицей называли: «Здравствуйте, кормилица» — говорили молодые жители; «Здравия желаю, кормилица» — приветствовали бывшие фронтовики, кто знал ее молодой, знал ее родителей.
Сколько раз слышала она такие шепотки за своей спиной — благоговейные, благословляющие. Может, именно эти нехитрые молитвы, произнесенные за нее и посланные богу устами чужих людей, и помогали ей выдюжить?
В трудное время кукурузной лихорадки люди умели быть и дружными, и объективными, и справедливыми. Ради них и труды не утомляли, а радовали! Впрочем, жаловаться на простых людей Прасковье Яковлевне никогда не приходилось — они всегда к ней относились хорошо, сочувственно. И детей ее уважали. Сколько бы старшая дочь ни наживала неудач, а авторитет матери спасал ее от осуждений и пересудов. Благодаря Прасковье Яковлевне косых взглядов в свой адрес Александра не знала.
И еще несколько слов об Александре.
Она бесконечно попустительствовала порокам мужа и тем самым не позволяла родителям избавиться от него. Наконец сам виновник бед возненавидел ее за это. Ему надоело, наскучило и осточертело сидеть в маленьком селе, без удобств и развлечений, без босяцкого окружения, без той преступной среды, в которой он привык существовать. У него была своя романтика, и он стремился прорваться к ней. Но для этого нужны были деньги. И он перешел к более решительным действиям — начал требовать, чтобы Александра воровала для него деньги у родителей. При этом применял к ней пытки — прижигал лицо горящими сигаретами.
Заинтересовавшись ранками на ее щеках, младшая сестра, начала расспросы: откуда они, что это за ранки. Александра молчала. Умственно здоровому человеку трудно было понять, на что она рассчитывала. Казалось, что мыслить она попросту отказывается. Видя бездействие старшей сестры и понимая, что оно приведет к новым издевательствам над Прасковьей Яковлевной и Борисом Павловичем, Люба проследила за ней и весь ход экзекуции, которой подвергал ее муж, увидела собственными глазами, а вечером рассказала отцу. Александра не отпиралась, на расспросы отца отвечала правдиво.
И Борис Павлович взашей выгнал подонка и садиста из дому.
Тогда тот попытался отомстить «обидчикам» — пришел к Александре, когда родители были на работе, и начал прорываться в дом. При этом в руках он держал напильник без колодки, с острозаточенным концом. Конечно, руку с холодным оружием бандит прятал за спиной.
Каким-то чудом его намерения почувствовала Люба, к счастью оказавшаяся дома. Проницательная девочка давно поняла, что сестра привела в семью опасного урку, способного на любые крайности. И больше не доверяла сестре. В этот час, когда над ними нависла опасность, защиту ребенка, себя да и самой сестры Люба взяла в свои руки. Благо, что после ухода родителей на работу, она изнутри закрыла входную дверь поперечной перекладиной из кованной металлической полосы. Одним концом эта полоса висела на стержне, а другим, что был с петлеобразным отверстием, надевалась на кольцо с запорным штырем. Стержень и кольцо были вделаны в стены намертво. Конструкция этого запора, выполненного собственноручно Борисом Павловичем, была проста, но надежна.
Александра набросилась на Любу, дралась с ней, отталкивала от входной двери, кричала, чтобы она «впустила отца к дочери», но девчонка смогла отбиться от невменяемой сестры и не пустить бандита в дом. Тогда Александра попросила выпустить ее наружу.
Люба предварительно заставила ожидавшего ее мужа разоружиться. Это спасло жизнь Александре. Потому что, едва она вышла на улицу, как бандит набросился на нее, успев изуродовать ей лицо кулаками. А что было бы, если бы он не избавился от холодного оружия по настоянию Любы? Залитая кровью Александра вырвалась от мужа и кинулась удирать на улицу, но ей вслед полетели булыжники... Один из них ударил ее так сильно, что она споткнулась и упала. Истязатель кинулся к ней, и тут бы ей пришел конец, но появились соседи и спасли ее от гибели.
Тем временем Люба высунулась в форточку и докричалась до своей подружки, попросив ту лететь на завод к Борису Павловичу и все ему рассказать. Бандит, конечно, все слышал и видел, как соседская девчонка метнулась со двора — побежала выполнять Любину просьбу. Он понял, что напильник с отпечатками его пальцев, камни, травмы на лице Александры надолго упрячут его за решетку, и не стал терять времени, убежал по переулку в центр села. Погнавшийся за ним Борис Павлович, поднятый по тревоге Любиной подружкой, застал только уходящий поезд, на котором уехал бандит — его испуганная морда мелькнула в проеме открытой двери тамбура.
Во всяком случае этим инцидентом семья Прасковьи Яковлевны и Бориса Павловича была навсегда избавлена от дочкиного избранника.
К концу августа 1960 года Александра все же решилась пойти по стопам Прасковьи Яковлевны — обратилась в районо за помощью в трудоустройстве. К счастью в то время районо возглавлял Половной Василий Матвеевич, бывший завуч Славгородской средней школы. Он хорошо знал просительницу, сочувственно к ней относился и не отказал в помощи — нашел для своей бывшей ученицы место учителя английского языка в одной из школ Синельниковского района. Так Александра вышла на свою столбовую дорогу жизни.
Спасибо всем, кто поддерживал Прасковью Яковлевну в ее трудах, кто освещал ей путь лучами добра и кто протягивал руку помощи на жизненных ухабах.
Боги и мерзавки
Вероломные хищения
Наконец кукурузная лихорадка закончилась и быстро забылась, но память о том, как здорово поставлено хлебопечение в Славгороде, какие там умелые и находчивые хлебопеки трудятся, жила и будоражила умы вышестоящего начальства. Им захотелось большего! Да и жизнь этого требовала, ибо поселок развивался. Начиналась капитальная реконструкция главного предприятия поселка — завода «Прогресс». Сюда начали прибывать новые специалисты, резко росла численность населения поселка... Надо было и выпуск хлеба увеличивать.
А старая пекарня с маленькой печью, ручное изготовление теста, а главное длительное созревание закваски из хмеля — вся эта допотопная домашняя канитель не могли привести к росту производительности пекарни. Конечно, хотелось бы сохранить прежнее качество хлеба, но настоятельно требовалось увеличить также и количество. Выбирать надо было что-то одно, и выбрали количество. Логическим завершением этого стало строительство новой пекарни, естественно, с автоматизированной линией производства наливного хлеба, по сути — стандартных печеных лепешек из дрожжевого текста.
Как уже неоднократно бывало у Прасковьи Яковлевны, на то место, где она хорошо поставила работу, находилась куча претендентов. Так повторилось и при вводе в строй новой пекарни — за место начальника, да и просто за право работать там шла драка. Кандидатура Прасковьи Яковлевны даже не обсуждалась, оставлять ее в пекарне не планировали.
Ей предложили перейти в сельмаг — рядовым продавцом. Там работала бригада из трех человек, требовался четвертый. Самым страшным было то, что тут сотрудники несли солидарную материальную ответственность. А значит, от каждого из них требовалась кристальная честность. До сих пор Прасковье Яковлевне не приходилось работать в торговой бригаде...
Долго не хотела она соглашаться на этот перевод. Но ее убедили, что зря она сомневается, что все люди в бригаде сельмага достойны доверия. Однако одно то, что бригадиром была небезызвестная Жаран Дора Антоновна, жена бывшего председателя колхоза, которая вместе с мужем вернулись из эвакуации с полным набором золотых коронок во рту, только усиливало сомнения. Второй по значению фигурой была некая Любовь Алексеевна Апурина (в девичестве Руденко) — женщина видная, молодая, замужняя вторым браком, но с азартом посматривающая на чужих мужей. У Любови Алексеевны не было среднего образования, и она подумывала о том, чтобы записаться в школу рабочей молодежи... Эти часто озвучиваемые планы характеризовали ее положительно, несмотря на то, что с их реализацией она не спешила, надеясь на силу партбилета. Третьим сотрудником была Лида Репий, только что окончившая школу и числящаяся тут ученицей. Как ученица она материальной ответственности не несла.
— Надо пробовать, — советовал Борис Павлович, когда Прасковья Яковлевна обсуждала с ним этот вопрос. — Уже то хорошо, что тебе не придется мешки носить.
— Понимаешь, эти двое — просто мерзавки. Они постоянно работают вместе, а остальные люди возле них не держатся, то и дело меняются. Уходят обиженными.
— И что они говорят, те, что меняются?
— Ну... я не спрашивала, — отмахнулась Прасковья Яковлевна. — А они не кричат о своих впечатлениях на каждом углу.
Прасковья Яковлевна старалась тянуть время, надеясь, что ей предложат еще что-то, хотя сама видела, что новых вакансий в сельпо нет и не предвидится.
Приняли ее в сельмаге хорошо, приветливо. Для начала поставили осваиваться в обувном отделе, хотя касса у них была одна, официально отделов не было, как и не было закрепления сотрудников за определенным видом изделий. Но территориально они группы товаров разделили, как и полагалось.
Новые товары они получали почти каждую неделю, но все это был местный ширпотреб. А импорт, шедший в посылках Внешторга, поступал не чаще раза в квартал. Вещи там были добротные, красивые, но дорогие. Не каждый мог позволить себе их купить. Тем не менее на прилавок они практически не попадали — расходились по нужным людям.
Прасковья Яковлевна удивилась, когда из московской посылки, в первый же раз пришедшей при ней, Дора Антоновна и Любовь Алексеевна взяли себе женские деловые костюмы и роскошные шали. Они тут же надели обновки, причем шалями покрыли головы как сельские кумушки, и продолжили работу. Спрашивать, положили ли они деньги в кассу за эти покупки, она постеснялась, но заподозрила, что ни в тот день, ни в последующие этого не случилось.
Как-то она нашла удобные слова и при случае все-таки заикнулась об этом.
— Ничего страшного, — успокоила ее Дора Антоновна. — До ревизии мы успеем покрыть долги из зарплат. Надо же как-то крутиться.
— Это покупки в долг, — подпряглась и Апурина. — Такой беспроцентный кредит получается, — усмехнулась она. — Пустяки.
— Как сказать, — буркнула Прасковья Яковлевна, но на нее никто не обратил внимания.
И вот к ним пришли с проверкой. Ревизия выявила крупную недостачу, которая свидетельствовала, что воришки с каждого поступления нового товара что-то тянули, а деньги в кассу не клали. Сумму долга разделили на троих, и Прасковья Яковлевна должна была возместить в кассу сумму, в два раза превышающую полученную ею в сельмаге за все время. Зато недобросовестные сотрудницы за ее счет покрыли третью часть стоимости своих покупок.
Денег таких в доме Прасковьи Яковлевны не было, а их надо было найти в трехдневный срок, иначе дело передали бы в следственные органы. Брать у кого-то в долг тоже было рискованно, потому что быстро вернуть столь крупную сумму не получилось бы.
— Придется отбить телеграмму Алексею, — решила Прасковья Яковлевна, измучившись в поисках помощи. — Только не с нашей почты.
— Тогда срочно едем в Синельниково! — воскликнул Борис Павлович и поспешил вывести машину из гаража.
Необходимую сумму Алексей Яковлевич перевел сестре незамедлительно, причем просил считать перевод не займом, а безвозмездной помощью. С недавних пор он тоже перешел работать в торговлю и прекрасно понимал, что такое вероломное хищение — от домашнего вора нет запора, как говорит народная мудрость. Тут надо было либо выявить его, поймав на горячем, после чего бить на полное поражение, либо уходить самой. Первое Прасковье Яковлевне было не под силу — интуитивно она чувствовала, что для такой борьбы нет внешних условий. Воришек поддерживало начальство.
После внесения в кассу своей части долга Прасковья Яковлевна из сельмага уволилась. На то, что скоро ей найдется другая работа, она уже не надеясь.
Обретение берега
Бог все-таки есть на свете, — думала Прасковья Яковлевна, идя домой с хорошей новостью.
Через неделю после увольнения, ухода от двух проклятых воришек, ей сделали предложение перейти на работу в культмаг — новый магазин, какого еще не было в Славгороде. То есть не только такого магазина не было, но самого его здания еще не было!
Здание только собирались поставить — в самом центре поселка, рядом с сельмагом. Место уже было расчищено и подготовлено. Все дело в том, что основой для его возведения был выбран так называемый финский домик — разборной каркасный дом, какие тогда входили в моду. Домики эти бригадой из 5-ти человек собирались буквально за 5-7 дней и предназначались для жилья. Но никто не мешал использовать их и в других целях, в частности в качестве общественных зданий. Приспособить под магазин такой каркасник было легче всего — просто внутри оставить один большой зал, без перегородок.
К слову сказать, кроме быстроты и удобства постройки важными преимуществами финских домиков являлись их надежное утепление — толщина слоистых стен в них достигала 250 мм — и дешевизна.
Полки и прилавки, по словам председателя сельпо, отдельно изготавливались на заводе и их останется только смонтировать по месту.
— Фактически это будет книжный магазин, — мечтал председатель сельпо, — но мы планируем завозить сюда и другие товары: детские игрушки, канцелярские, спортивные, музыкальные инструменты, швейные машинки, велосипеды и мотоциклы, всякие запчасти. Вот, кажется, и все. А вообще, сами будете ездить на базу и заказывать поставки. Ну как?
— Если я буду работать одна, то возьмусь, — решила Прасковья Яковлевна.
— Конечно, одна! Ведь этот культмаг под вас строится — давно ваша фамилия в сельсовете за книжным магазином записана. Там просто собирались долго. Дело в том, что это здание будет принадлежать не потребсоюзу, а сельсовету.
— Правда?
— Правда, — сказал председатель.
— Это Дробот похлопотал...
— Да, мне тоже так сказали.
— Давно это было, — с теплотой в голосе сказала Прасковья Яковлевна. — Наверное, лет десять прошло.
— Так что с завтрашнего дня выходите на работу и курируйте возведение своего магазина. Да печку не забудьте поставить — сами обогреваться будете!
Новый председатель был из чужаков и всех величал на «вы», что немного резало слух. Вне стен школы этот стиль общения распространения не имел. А в торговле принято было общаться на «ты», называя друг друга по отчеству. Почему-то это считалось выявлением особого уважения.
Конечно, муж тоже обрадовался этой новости. Наконец-то его жена снова будет при книгах! Пусть не в школьном классе, но все же... Дети обязательно полюбят новый магазин и будут главными покупателями. Это лучше, чем иметь дело с продуктами питания или работать в торговой бригаде, где орудуют воры.
Магазин готов был к открытию через десяток дней, это если брать и получение нового товара, и загрузку полок. Вечером Прасковья Яковлевна, наведя последний лоск на прилавки и полки, намаявшись с мокрыми тряпками и швабрами, закрыла его и ушла домой. А утром вдруг поняла, что настал необыкновенный день — она не просто идет на новое место работы, она идет открывать новенький магазин, невиданный раньше в поселке, причем, если правду в сельсовете говорят, изначально построенный для нее!
Возле магазина ее уже ждали. Двое мужчин стояли у самой двери, и от этого у Прасковьи Яковлевны екнуло сердце. Невольно она посмотрела на часы — не опаздывает ли — и заметно сконфузилась, так что председатель сельпо подбадривающим тоном сказал вместо приветствия:
— Не волнуйтесь, Яковлевна, такое событие бывает раз в жизни! — а стоящий рядом председатель сельсовета ответил на шутку звонким смехом.
— Ну, идите, открывайте свой магазин, — с приязнью сказал он, насмеявшись.
Открытие не носило торжественного характера, а было рядовым событием. Председатель сельпо и председатель сельсовета почти одновременно дотронулись до плеча Прасковьи Яковлевны, подталкивая вперед.
— А вы?
— А мы зайдем в буфет и выпьем за успех нашего общего дела, — председатель сельсовета при этом со значением посмотрел на председателя сельпо.
— После обеда выпьем, — ответил председатель сельпо, — и это я беру на себя.
Едва Прасковья Яковлевна зашла в завершенный и загруженный товаром культмаг, готовый принять первого покупателя, как почувствовала, что обрела свой берег. Только теперь она оказалась дома. Она закрыла за собой дверь, прислушалась к внутренней тишине помещения и глубоко втянула в себя воздух — он пах свежей краской и книгами. Ничего прекраснее этих запахов Прасковья Яковлевна не знала.
Как трудно и долго она добиралась сюда! Неужели найти свое место — это такое мудреное дело, такая неслыханная награда? Почему оно не дается человеку изначально; почему надо пробираться к нему в тяжких и многих страданиях?
В культмаге Прасковья Яковлевна проработала до пенсии, не заметив долгих легкокрылых лет. Затем еще продолжала работать, пока рождение первого правнука не потребовало уволиться и стать его нянькой.
Это были самые спокойные годы ее жизни. Они совпали с безоблачными событиями: с окончанием школы младшей дочерью, с ее поступлением в университет, удачным замужеством и началом самостоятельной деятельности.
Пропагандируя книгу, Прасковья Яковлевна чувствовала себя светло и блаженно. По сути ее роль первой местной книжницы была не работой, а хобби, любимым занятием. А возможно даже, если смотреть на саму Прасковью Яковлевну отстраненно, как на объективное явление, была она совокупной судьбой Славгорода, ее олицетворением. В этом занятии выражалась ее социальная суть и находила удовлетворение главная духовная потребность нести простым труженикам просветительство, как высшую усладу ума и как отдых от поклонения земле — поклонения потного, надрывающего живот.
Несказанно радовалась Прасковья Яковлевна, видя, что ее любовь к книге, немного неуместную среди сельских трудовых забот, которую тут приходилось таить в себе, унаследовала младшая дочь. Люба выросла странной девушкой, красавицей со страстным, впечатлительным, легко возбудимым нравом. Но эта ее закваска противоречила законам природы, ибо красавицы обычно бывали пусты и не умны. В Любе же преобладал холодный проницательный расчет, властвующий над иллюзиями воображения и желаниями плоти. Она обладала умом и сильной волей, и была способна контролировать свой порывистый характер и все силы направлять на достижение цели.
Очень жаль, что родилась она слабой, болезненной и не смогла добиться много, как обещано было ей судьбой. С годами воля ее первой попала под удары болезни... Видеть это Прасковье Яковлевне было тяжело. Но это было потом, позже...
Сколько всего пережито, сколько преодолено!
Глава 5. Пора звездопада
Внуки
Внуки пришли к Прасковье Яковлевне, когда ей еще не исполнилось 40-ка лет, когда она была молодой и ни о чем подобном не помышляла. Ну отправила старшую дочь в город — так ведь учиться! А она что? Чем там занялась? Это уродливое замужество...
Ничего не понимающая в людях Александра пустилась во все тяжкие в жуткое для семьи время: отец находился за решеткой, а мать с подростком на руках сидела без работы. Ну куда хуже? Тюрьма и сума (то есть, нищета) — беды, во все века пуще всего пугающие человечество, не по одной накинулись на несчастную семью, а объединившейся мощью ударили по ней. А Александра ничего не учитывала... Это же хорошо, что люди пожалели ее мать, не медом угостили, не тарелкой супа... а дали работу в пекарне, где и для себя кусок хлеба можно было выкроить. И мать надрывала там пупок, работая на износ, таская на горбу мешки с мукой. Во имя чего?
Прасковья Яковлевна ночами ворочалась в постели и не могла понять, то ли чужой была Александра в их семье, то ли черствой — как она могла так подвести мать, оставшуюся без мужа? Бедная женщина взывала к богу — за что он свалил на нее все разом, чего веками страшились люди, за какие грехи столкнул на самое дно людское? Как ей теперь подняться, одной? Прасковья Яковлевна — единственная дочь уважаемых родителей, на которую они надышаться не могли, одевали лучше других девушек в селе, любовались ее прекрасной внешностью, гордились работой в школе, их надежда — теперь бала на грани полного отчаяния от стыда за дочь и мужа, от горечи, что мучается не по своей вине, а по вине самых близких людей. На кого же ей полагаться, если даже они подводят и предают ее?
Но втайне Прасковья Яковлевна понимала, за что несет свой крест.
Теперь она вспоминала свое замужество и поняла, что оно было ничем не лучше, чем у дочери. И вела она себя точно так же безоглядно, эгоистично — привела в дом к родителям совершенно чужого по духу человека, который с первых минут возненавидел Евлампию Пантелеевну — за боевитость, за счастье в браке, за свой голос в семье. И заставила всех родных считаться с ним.
А муж ее был чужой косточкой в их среде. Его вырастила несчастная женщина, битая мать, живущая в синяках и в утеснениях, в унижениях и в позоре — и он считал это нормой. Он другого порядка вещей не понимал и не принимал. Женщина, которую любит муж, которая смела руководить семьей и детьми, — такая женщина казалась ему неестественной и была ему ненавистна. Эти настроения, которыми Борис Павлович заражался возле тещи и тестя, просто струились из него и поражали вокруг все живое. От них пропадали цветы в доме, никли люди, притихали животные. В ее муже, понимала теперь Прасковья Яковлевна, сидел демон, ненавидящий согласие, созидание, любовь и взаимопомощь.
Проходя с дочкой круг женских историй, она открыла свою страшную вину перед родителями, обнаружила, настолько жестоко отравила им последние годы жизни. А братьев, которых заставила терпеть своего мужа, избивающего ее, возводящего на нее поклепы, она до сих пор утесняет. Легко ли им видеть, как плохо она живет и как недопустимо с нею обращается муж, если в их глазах она всегда была идеалом человека, безупречной дочерью, любящей сестрой, примером порядочной девушки?
Прасковья Яковлевна тихо оплакивала свои проступки, грехи не прощаемые, понимая, что не имеет права порицать дочь. Александре просто надо помочь, как и ей родители молча помогали. Дочь со временем очистится от своей скверны. Ну, а если нет... то сама выбрала судьбу.
Глупое ее дитя, вырвавшееся в люди, стало легкой добычей пошлого гулены. Господи, да ведь читала же она «Бесприданницу» в школе, как и дочь ее читала. Ведь после этого они обе должны были помнить, чем кончаются такие страсти, или нет?!
Должны были. Но не помнили, не извлекли урока.
Никто не любит девушек только за внешность или только за ум — просто так, без основательного повода, как самонадеянно думают они. Мужчины ищут в жены основательных девчат, надежных, с характером, чтобы умели постоять за себя и не уступать искателям приключений.
Аналогичные переоценки своего прошлого сделал и Борис Павлович.
Когда над ним развеялись тучи и он увидел, что без него случилось с семьей, он пришел в ужас: его маленькая, хрупкая жена работала в невыносимых условиях, где не каждый мужик сдюжил бы, а дочь, не успев света увидеть, растоптала свою молодость. И его орден потерян, его дорогая награда... В результате своих легкомысленных вечерних развлечений по пивным забегаловкам, казавшихся ему такими невинными, такими простительными, он безжалостно обошелся с женой, проморгал дочь и потерял правительственную награду, которая обеспечивала бы ему вечное материальное благополучие. Наказания, упавшие на семью, явно превышали его прегрешения... ибо грешил он, а страдала вся семья.
Слава Богу, он ни в чем не винил Прасковью Яковлевну, чего она ждала и чего больше всего боялась. Тут ее муж оказался на высоте. Видя, как она мучается и каторжно надсаживается на работе, он заметался в поисках выхода, пытаясь спасти хоть что-нибудь из разбившихся надежд на лучшую жизнь.
Ах, как хорошо видны были ему со стороны эгоизм человека, недальновидность, стремление к «цветущей жизни», неумение отвечать за свои поступки — дочь росла точной его копией. Куда-то спешила, никого не жалея, ни с кем не считаясь. Нет смысла ругать ее или упрекать. Надо просто быть рядом, со временем она сама поймет свои недостатки и научится справляться с ними.
Глядя на Александру, он многое в себе понял. Как в свое время он не выбрался бы из симферопольских сетей без Прасковьи Яковлевны, так теперь его дочери не выбраться из омута ее дикого замужества без них, без родителей.
Пусть все идет своим чередом, решил он — река всегда очищается сама. Так будет и с Александрой. И они с женой, перекипев страстями, перетлев душой и расчистив перед Александрой дорогу в спокойное будущее, принялись ждать внуков.
Девочка родилась 13 марта 1960 года. И стала им наградой за все страдания — здоровенькая, спокойная и удивительно смышленая. Александра назвала ее Светланой.
После всех стрессов, пережитых молодой матерью, как и полагается, ее молоко оказалось непригодным для вскармливания ребенка, и Светлана росла на молоке домашней коровки бабушки Арины — жены Семена Алексеевича, родного дяди Прасковьи Яковлевны.
Их семью еще месяца два беспокоили визиты изгнанного вон избранника Александры, а потом она — забыв, как страшный сон, учебу в училище и добытый там диплом, — вышла на работу в школу, и все наладилось.
Светлана осталась у Прасковьи Яковлевны и Бориса Павловича. Когда Прасковья Яковлевна отмечала свое 40-летие, ее внучке было ровно 7 месяцев. Она уже вовсю издавала членораздельные звуки, стояла в манеже и смотрела на всех очень понимающими глазами.
Через два года Прасковья Яковлевна и Борис Павлович выстроили новый дом и перебрались в него. Они купили своей внучке маленький стол и детское креслице, и теперь она наравне со всеми имела свое место для занятий. Вскорости Прасковья Яковлевна ушла из пекарни, перешла сначала на работу в сельмаг, а потом в культмаг. С тех пор ей стало легче жить.
А Светлана каждый день радовала своих нянек и воспитателей, золотым ребенком росла — ни капризов, ни плача от нее слышно не было. Сызмалу так было: принесут ее из яслей или из детсада — она дома повторяет весь тамошний репертуар: стихи читает, поет себе, куклы на столике расставляет, воспитывает их... Никто ей не нужен был, она забавляла сама себя — да так славно, серьезно, без шалости.
Борис Павлович все ее песни наизусть знал, подпевал бывало:
Гармошка моя
Развеселенькая,
Ты детей развесели,
Моя гармошка!
Пока идти в школу, так Светлана уже все буквы знала, читала Букварь, была обучена азам арифметики. Красочные книги, которые в советское время изготавливали деткам на раскладывающихся в ленту картонках, она читала сама. Потом пересказывала куклам. И что характерно — в таких играх с куклами у девочек зачастую наблюдается кривляние, противные нотки в голосе, когда они изображают взрослых. У Светы ничего подобного не было, потому что она как бы и не играла, а проживала свою жизнь. Никогда она не выглядела так, чтобы что-то можно было поставить ей в вину или в упрек. Никогда никому не мешала, не требовала для себя внимания.
Это был ребенок-счастье.
Воспитывалась Светлана у дедушки-бабушки до школьной поры. А потом ее забрала Александра. И как ни просили Прасковья Яковлевна и Борис Павлович оставить им внучку и дальше, но — куда там! — поступиться Александра не захотела.
— У тебя же восьмилетняя школа, — убеждали ее родители. — А потом снова к нам? Так пусть уже у нас и остается.
— За восемь лет много воды утечет, — с великомудро отвечала Александра.
Но не так много воды утекло, как подсказывала Александре ее «большая мудрость», и все случилось по слову ее родителей. Намытарившись по пригородным восьмилеткам, среднюю школу Света оканчивала в Славгороде. Из родного гнезда, взяв от колхоза направление на учебу, поступила в сельхоз институт.
Именно в период работы в культмаге, Прасковья Яковлевна поднимала Светлану, любимую внучку, учила ее в вузе.
А потом жизнь продолжалась, и со Светланой тоже возникали проблемы... Ну, внуки — это особый вид юдолей человеческих.
Есть у Прасковьи Яковлевны еще одна внучка, младшая, Виктория. Но та все время жила при родителях, только на каникулы приезжала к деду-бабушке... Все равно за лето привыкали они к ней, расставались в сентябре неохотно.
Правнуки
Итак, к сентябрю 1977 года в жизни Прасковьи Яковлевны все складывалось как нельзя лучше. Во-первых, она повидала миру, прекрасно съездив на Камчатку, в гости к брату. Во-вторых, ее внучка Светлана окончила школу и поступила в вуз. Но было и третье приятное событие: пока происходили первые два, Любовь Борисовна, усердно поработав репетитором в течение нескольких лет и скопив копейку, купила двухкомнатный кооператив на жилмассиве «Парус». И вот с конца лета перебралась с мужем в новую квартиру. Обретение младшей дочерью своего жилья окончательно вдохновило Прасковью Яковлевну, потому что Светлана, не получившая места в общежитии в первый год обучения, теперь могла жить у тети.
Прасковье Яковлевне казалось, что наконец, когда она выполнила всякий долг, посылаемый матерям и бабушкам свыше, у нее начинается спокойная беспроблемная полоса, позволяющая на последнем жизненном витке отдохнуть от человеческих терзаний и суеты. Ничто не предвещало беспощадно грозных дней, которые, между тем таились впереди и накинулись на нее всего пару лет спустя, застав ее безоружной и неподготовленной к сопротивлению.
Что там те два года в преклонном возрасте — так, один миг. Она даже отдохнуть ничуть не успела!
После второго курса Светлана, повторяя судьбу матери и бабушки, неожиданно вышла замуж — по необходимости. К сожалению, такая история у них в роду повторялась со всеми девушками; почему — природная тайна. А в январе 1980 года она уже родила мальчика, первенца. Происходило это, конечно же, в Славгороде, где она сама родилась и откуда совершала попытки вылететь в большой мир. Так что мальчика своего принесла к бабушке и дедушке.
Каждому понятен эвфемизм «по необходимости», за которым скрыты невероятные терзания, опасения и слезы, сопровождаемые и замужество, и беременность. Правду сказать, Светлане не стоило бояться и страшиться, ибо у нее имелась надежная подстраховка в лице Любови Борисовны и Юрия Семеновича. При ее желании они готовы были забрать ребенка и узаконить в своей семье. Об этом позже, видя все негативы ее брака, подумывали также Борис Павлович и Прасковья Яковлевна, почему и не падали в отчаяние. Но ведь Светлана стремилась собственными усилиями построить свою судьбу!
Как оказалось, Светлана соединила в себе многие слабости родных: с одной стороны, была безоглядна в поступках и настойчива в спасении неспасаемого, как Александра Борисовна; а с другой стороны, как ее тетя, обладала весьма чувствительным типом нервного устройства и свои драмы переживала с депрессивным синдромом. Короче, так бывает, когда человеку дается характер не по его здоровью.
Не удивительно, что после рождения ребенка с нею случилось то, что было и с ее матерью: пережитые стрессы вылились в невозможность кормить малыша своим молоком. История повторялась. Но теперь не было бабушки Арины и ее коровки. Теперь вообще не было домашнего молока, и малыша вскармливали какими-то порошками, разводимыми водой. Называли те порошки смесями.
Говорят, что от правильно намотанной портянки зависит выигранная война. Ну, следовательно, и наоборот. Так и тут — каковым было замужество, таким и младенец родился. Чтобы не сказать, что он тоже оказался травмированным, напишем так — на мальчике тоже негативно сказались предродовые стрессы Светланы. На второй неделе жизни, когда стало видно, что любимым его занятием были продолжительные крики, у него развилась большая пупковая грыжа, и педиатры начали поговаривать об операции.
— Сколько помню, в нашей семье никого не резали, — испугалась Прасковья Яковлевна, вздрагивающая от одного звучания слова «операция».
Ее мысль заметалась в поисках выхода, и тут она вспомнила кое-что из акушерского арсенала своей бабушки Ефросиньи Алексеевны — та ведь запросто лечила младенцев, к ней каждый день с ними шли. Нужен обыкновенный пятак! Она побежала в кухню за своей сумкой, порылась в кошельке и вынула нужную монету. В продолжение священнодействия облила ее водкой, обсушила и приложила к пупку правнука, а там прижала и осторожно закрепила лейкопластырем.
— Вот так! — сказала, выдохнув. — Надо купить побольше пластыря, чтобы месяца на два хватило.
Открылась у малыша и вторая беда, едва ли меньшая, — ему досталась легковозбудимая психика, вследствие чего его сон ни днем, ни ночью не длился дольше получаса. Трудно было лечить от грыжи такого беспокойного ребенка, который вредил себе криками и неполноценным сном. Тем не менее через два месяца упорной борьбы грыжа исчезла.
Упорно державшееся нарушение сна было грозным симптомом, но это стало понятно со временем. А тогда казалось, что не так уж все и плохо. Все мальчики крикливы и беспокойны. Победили грыжу, значит, и сон наладится.
Тем временем Светлане надо было оканчивать учебу, и что делать с ребенком, она не знала, ведь и ее мать, и дедушка с бабушкой еще работали. Тут она полагалась на старших, тем более что сама зависела от них, вот и все.
Коротко говоря, под конец своего первого лета Сережа, так Света назвала первенца, был отдан на попечение бабушке Александре — дипломированному педагогу, опытной матери, любящему человеку. А та определила его в интернат для малюток, территориально расположенный где-то рядом с ней. Не берусь судить о разумности такого решения. Просто думаю — бедные дети, которых вызывают к жизни случайно. С чего начинаются их судьбы?
Чадолюбивые Борис Павлович и Прасковья Яковлевна навещали правнука по выходным, когда Александра Борисовна забирала его из интерната домой. Однажды Борис Павлович поехал туда один, а Прасковья Яковлевна осталась дома, чтобы подтянуть домашнюю работу, да и отдохнуть немного — годы уже одолевали ее... Что он там увидел, что испытал? Это уже неважно. Главное, что сердце его дрогнуло, и он вернулся домой с сюрпризом — с трехмесячным Сережей на руках. Пожалел малыша, спас.
Прасковья Яковлевна почувствовала себя прескверно, преотвратительно! Ей показалось, что из нее сделали крайнюю и под ноги подкинули грудничка, отказаться от которого она не могла, но и растить не имела сил. Ее толкнули на невыносимые страдания, как под поезд!
Она испытала шок, словно на ее жизнь посягнули! Ведь она очень держалась за культмаг, где ей хорошо работалось, где она чувствовала себя человеком, куда шла, чтобы не терять форму и оставаться на ногах. Магазин был ее убежищем и спасением от всего, что вгоняло в старость и в болезни, что давило в семье. Это было ее спасение, ее жизнь. А теперь что?
Она не планировала взваливать на себя правнука в доме без удобств, где каждую кружку воды надо было сначала набрать в колодце, принести в дом, а потом вынести в виде помоев и вылить метров за двадцать от двора — за огородами. То же касалось и печного отопления с углем, золой и пылью. Да и вообще, сидя с ребенком дни и месяцы напролет, день за днем, можно было сойти с ума от одиночества.
Прасковья Яковлевна однажды прошла этот круг, но тогда она была на 20 лет моложе и имела младшую дочь, которая тихо и незаметно помогала воспитывать Светлану. Боже мой, только теперь Прасковья Яковлевна поняла, какую огромную роль играла та девочка в семье, которую они с мужем просто не замечали! Но теперь Любы рядом не было, а значит, не было верного друга. Наконец, Свету до года нянчила нянька! А теперь что?
Ах, заставить 60-летнюю женщину целыми днями находиться наедине с трудным малышом в неустроенном доме — это живодерство.
Прасковья Яковлевна понимала, что правнуку нужна надежная семья, заботливые руки, любящие сердца, но полагала, что возраст защищает ее от подобных поручений немилосердного характера. Но нет — все произошло в худшем для нее варианте! Но не идти же теперь под поезд... Просто назло своим могильщикам надо было выжить.
Работу пришлось бросить. Потекли блеклые, однообразные адовы дни...
В доме без удобств все было неудобно — то и дело надо было выходить во двор, оставляя малыша одного. Но едва это случалось, он по-звериному чувствовал, что его бросили, и начинал кричать до разрыва связок. Не умея еще сидеть, он сучил ножками, вроде догонял ушедших, и падал с кровати. Его крики проникали во двор, настигали Прасковью Яковлевну, где бы она ни была. Из-за них она вынуждена была все делать бегом, бегом...
К тому же правнук изводил ее своим коротким сном, и она катастрофически не высыпалась. Мир казался ей зыбким и ненастоящим, укрывшимся от нее за завесой то ли дождей, то ли метелей, то ли других мелькающих материй, как будто это была не земля, а некая ее уродливая тень. Прасковья Яковлевна медленно погибала от переутомления.
Случалось, упав на кровать, она сама сутками кричала вслед за правнуком, причитала и плакала, обращаясь то к погибшим родителям, то к богу, прося о спасении. Ей казалось, что ситуация зависла в положении, в котором ей не суждено выжить, и никак не сдвигается с места.
— Господи, пошли же хоть одну душечку, которая пощадит меня! — шептала сквозь слезы Прасковья Яковлевна. — За что же ты осиротил меня и лишил жалости людской?.. — Молиться она не умела, но от того, что больше ни в ком и ни в чем не видела выхода, шептала с надеждой: — Спаси, Господи, душу мою, силы мои, разум мой.
Очень-очень медленно лето просунулось в прошлое, потянулась осень, начала заходить зима.
Кое-как Сережа привык, что его прабабушка иногда выходит из дома, но потом обязательно возвращается. Он стал понимать ее слова, что кричать не надо, надо потерпеть, и она скоро придет. Его нервозность начала терять остроту, словно он понял, что его жизни ничто не угрожает и никто не стремится от него избавиться. Ах, как остро иные дети чувствуют, что непрошено пришли в жизнь! Еще в утробе у них появляется страх за себя, и после рождения они никому не верят и боятся жить, боятся каждую минуту.
Здоровая природа Прасковьи Яковлевны тоже не дремала — отзывалась на новшества, творящиеся вокруг нее, и подставляла плечо. Так она натренировалась мгновенно, едва засыпал правнук, посылать Прасковье Яковлевне сон и хоть такими короткими перебежками приносить отдых.
Все эти мелкие перемены наступали медленно, почти неощутимо. Каждый день Прасковьи Яковлевны тянулся как каторжный год. И она проклинала тот день, когда родилась женщиной. Она никогда не любила возиться с детьми, а тут еще и возрастное неприятие детей наступило — ее нервировали капризы, плач правнука при любом новом раздражителе. Он страдал от всего нового, ничему не удивлялся, ни к чему не присматривался, ничем не интересовался — он все новое воспринимал с недоверием и болезненным криком. Таково было состояние его психики.
К тому же он постоянно болел простудами, а бедная Прасковья Яковлевна вообще не умела лечить их. Благо, что у нее уже был телефон, и она в таких случаях срочно вызывала к себе Любовь Борисовну. Та все умела — и компресс поставить, и горчичники, и попарить малыша, и температуру сбить... Все бросала ее жалостливая дочка и летела в Славгород. Бывало, после работы добиралась на попутных машинах до поворота на Славгород, а дальше 13 километров шла пешком.
До конца дней с ужасом вспоминала Прасковья Яковлевна свои горькие рыдания и крики-причитания над первым правнуком! Время шло, а она не забывала ад, который пережила с мая 1980 года по май 1981 года. Никогда — ни раньше, ни позже — ей не было так безнадежно жить и не приходилось так изнурительно трудиться, никогда не подавляла ее такая беспросветная тоска, как тогда.
Конечно, когда притупилась обида, когда Прасковья Яковлевна выжила и поняла, что для нее самое трудное время позади, она порадовалась, что помогла малышу, — ему неплохо жилось с нею в Славгороде.
— И все же был другой выход. Я знаю, как надо было поступить, чтобы и Сережу поднять, и меня не гробить, — качая головой, говорила Прасковья Яковлевна в глубокой старости, когда осталась одна и подводила итоги своей жизни. — Да что теперь толковать, все уже позади. Муж мой за все неправды и неправедности немало наказан Богом, да и дочери досталось повозиться с внуками. Все Господь выровнял, всем раздал по заслугам.
— Надо было хотя бы на полдня взять тебе помощницу, няньку для Сережи... Ведь для Светы вы брали няньку, хотя жили беднее, да и строиться собирались.
— Да, надо было кому-то пожалеть меня, — согласилась Прасковья Яковлевна. — Тогда я вообще могла бы остаться работать и оплачивать няньку. Моих заработков на это хватило бы, так я бы избежала недосыпаний и не жила бы, как на каторге. Правильно?
— Да, — Любовь Борисовна сама уже была в возрасте, когда дети кажутся обузой, и очень хорошо понимала, как ее мама страдала с правнуком...
По выходным домой приезжала Светлана, и тогда Прасковья Яковлевна кое-как могла дать отдых своим рукам. В какой-то период Светлана приехала в Славгород на практику — опять же Прасковье Яковлевне была от нее подмога.
Очень неохотно рассеялись ее мрачные дни, ушла чернота с глаз...
Дальше бы только жить, так ведь не бывает все хорошо. Видно, не находила Светлана общего языка с мужем или был он у нее дремучим варваром, потому что не успела она поправиться от первых родов, как опять забеременела. Но ее первенцу уже перевалило за годик, с ним стало легче.
Алексей, второй правнук Прасковьи Яковлевны, рос хорошим мальчиком, спокойным и не болезненным. Такой была его мама в младенчестве. С Алешей больше Светлана нянчилась, хотя и Прасковье Яковлевне доставалось. Скоро Светлана получила диплом, вернулась в Славгород, начала работать.
Потекли более спокойные годы с ускоренной скоростью, а счетчик все щелкал и прибавлял Прасковье Яковлевне года.
На широких просторах
Ах, какая страна
Нам в наследство досталась!
Слава дел ее славных —
Наследство векам.
В. Фирсов
Интерес к родной сторонке
Чего всегда было много в Борисе Павловиче, так это любви к природе и желания показать мир другим. Он не жалел на это ни сил, ни времени. Само собой, это шло от его собственного интереса к родной сторонке, которую он не просто наблюдал, но все время изучал, хотел понять, чего в ней есть такого несказанного, от чего душа щемит, поет и плачет. И отчего он все время возвращается сюда, в то время как мог бы завеяться без следа.
Ему мало было самому оказываться в прекрасных уголках околиц, которыми его душа наполнялась не целиком, и требовала большего притока впечатлений, чем могла выработать сама. В одиночку он не мог надышаться наблюдаемыми ландшафтами, натешиться — ему нужны были еще чьи-то глаза рядом и чье-то взволнованное дыхание. Тогда у него, вроде, расширялся угол зрения, вырастали такие руки, которыми он мог обнять все горизонты, и слух утоньшался до того, что слышны были ему как звуки в земном нутре, так и шорохи в дальнем космосе.
Вот почему ему так хотелось иметь мотоцикл, а потом и машину — чтобы никогда не оставаться одному, чтобы всегда кого-то звать с собой, чтобы не чувствовать себя затерянным среди бесконечности, властвующей вокруг, и не бояться ее. Тем более, когда рядом находился кто-то, кого следовало защищать, — тогда в нем возникала дополнительная мощь, он чувствовал себя сильнее и увереннее. И это было здорово! Он был неотрывной частью этого края, хоть и не вырос в нем, тем не менее без связи с ним существовать не мог.
Как вечнозеленые кедры не растут на степных лугах, речные сомы не плавают в море, пчелы не собирают нектар без цветов, как наконец, советский актер Владлен Бирюков жил в Новосибирске, а не в Москве, куда его тянули и звали, — так и Борис Павлович органически не мог обходиться без непосредственной связи с пространствами и ветрами своих широт. Они для него были живыми, даже родственными по крови.
Кстати, свою технику он тоже воспринимал как нечто одухотворенное, как мыслящую часть природы, и относился к ней соответственно. Свой мотоцикл он называл Козликом, а первую машину — «Тамарой». Название это пошло не от женского имени, а от выраженной в звуке радости — там-та-ра-ра, которая при выкрике звучала как там-а-ра-а! Вторая машина была «Ладой», а третья — Стрелой.
В выходные дни, когда дома все было переделано, а на душе воцарялся покой, он забирал семью и вез в живописные луга, в дальние лесополосы, на малолюдные берега водоемов, где пели птицы или где можно было встретить какую-нибудь диковинную живность — фазанов, а то и диких козочек. К вылазкам они готовились загодя, брали с собой подстилки, клеенки... Наготовленную вкусную еду укутывали в одеяла, чтобы не выстывала. В выбранном месте, расположившись на траве, устраивали обед или ужин, проводили много времени, нежась то под солнцем, то в тени. А надышавшись чистотой и красотой, наговорившись и намолчавшись, могли подремать или сразу возвращались домой — как позволяло время. «Старость меня дома не застанет» — пел Борис Павлович, направляясь на вылазку. На обратной дороге, облагородившись вселенской святостью, напевал совсем другое: «Мой родимый край, место отчее, ты и праздник мой и броня».
Это было то, что покоряло в нем Прасковью Яковлевну. Ради его трогательного благоговения перед стихиями, ради его детского стремления быть все время под их крылом, как под родительским кровом, ради этого таящегося в нем океана усмиренной энергии она готова была на новые труды и беспокойства.
Да и в будние вечера выбирали Борис Павлович и Прасковья Яковлевна минуту, когда душа купалась в умиротворении, и не перед телевизором сидели, а во дворе и смотрели на звезды, то разговаривая, то тихо напевая мелодии своей молодости. Особенно часто пели, когда внучка Светлана подросла — ее красивый голосок вписывался в гармонию мира и был словно благословение, посланное свыше.
Широкой души человеком был Борис Павлович — в любой час дня и ночи легко откликался на просьбы о помощи, от кого бы они ни исходили, и ехал туда, где людям находилось спасение.
Тем не менее бездельничать, даже будучи на природе, Борис Павлович не любил. Сладко ему отдыхалось среди трав и цветов только после трудов, когда чувствовалась усталость в мышцах и когда наступало внутреннее ощущение удовлетворения от принесенной пользы.
Уловив внутренним чутьем эту его особенность, Алексей Яковлевич в один из приездов в Славгород, рассказывая о житье на Камчатке, о ее океанской экзотике, вскользь заметил:
— Тебе, Борис Павлович, тоже полезно заняться рыболовством. Хорошее это дело.
— С удочкой, что ли, сидеть рядом с ребятней? Нет уж.
— Зачем с удочкой? — Алексей Яковлевич разгладил усы и улыбнулся: — Я тебе настоящую рыболовную сеть пришлю, ей-богу!
— Настоящая, наверное, будет великовата для нашего ставка, — засмеялась Прасковья Яковлевна, полагая, что брат шутит.
Но Алексей Яковлевич не шутил. Он вскочил и начал на пальцах показывать то, о чем говорил:
— Шить или перешивать сети легко. Дай-ка покажу. Есть у тебя кусок сетного полотна?
— Где-то есть...
— Смотри, — воодушевился Алексей Яковлевич, — сетные снасти бывают двух типов — объячеивающие и отцеживающие. Первые — это жаберные снасти, предназначенные для больших косяков рыбы. Тебе они не нужны. Так же? А вторые — это неводы. Или более мелкие — бредни. Так вот я тебе пришлю невод, а ты сам сшей из него бредень. У нас-то на Камчатке бредней нет, сам понимаешь. Иглу я тоже пришлю, и выкройки неводов и бредней, ей-богу, — веселился гость, — все пришлю!
Так он и сделал, возвратившись в Петропавловск-Камчатский. Все обещания исполнил!
И стал Борис Павлович постигать рыболовное дело, понимая, конечно, что это запрещенный промысел. В связи с этим осторожничал, занимался им ночью, а домой возвращался на выключенной в машине скорости и, пользуясь рельефом местности, заезжал во двор на нейтралке. Это чтобы соседи не слышали да не знали о его грешках. Бреднем он много рыбы поймать не мог. А так, чтобы хватило на уху, которую он и его товарищи после лова варили на берегу, и чтобы домой привезти по несколько рыбин да пожарить к завтраку, в этом он большой беды не видел. Зато какая это была романтика!
После лова бредень они вымывали в чистой воде, а дома Борис Павлович развешивал его сушиться на кустах желтой акации, росшей на меже. При нагревании на солнце от бредня шел пар, а с ним исходил также дразнящий запах вяленой рыбы и заполнял собою двор и огород. Этот запах так нравился всему растущему из земли, что оно на глазах наливалось бодростью и даже гуще зеленело и лучше росло. Соседи, конечно, тоже улавливали возбуждающий дух и обо всем догадывались. Долго это не длилось, ибо негодовать они не стали, а попросили Бориса Павловича ловить больше рыбы, чтобы и на их долю хватало. Они платили ему за это кровные рублики, но не возмущались, а благодарили, разумея свою выгоду.
Взамен Борис Павлович приохотил шурина к машине. Сначала, конечно, сам возил дорогого и редкого камчатского гостя в разные поездки — на ту же рыбную ловлю, допустим. И на свои знаменитые вылазки, и на прогулки по одноклассникам, по близкой и дальней родне. А дальше и того лучше.
Алексей Яковлевич был большим непоседой, дольше трех дней усидеть на месте не мог. Тем более что при приезде на материк ему надо было и сестру навестить, и многочисленных двоюродных родственников, и женину родню в Великой Богачке, а потом уж ехать по путевкам. По нужным ему маршрутам не всегда удобно ходил транспорт. Да и с билетами в летнее время бывало туго.
Однажды Борис Павлович предложил:
— А давай мы с Пашей отвезем вас в Великую Богачку на машине?
— Так мы же не против! — обрадовался Алексей Яковлевич.
Великая Богачка — это такой же поселок городского типа, как и Славгород, только в Полтавской области, и градообразующим предприятием там являлось не промышленное предприятие, а санаторий с минеральной водой «Великобагачанской». Поселок достаточно живописный, по нему протекало несколько ручьев с запрудами, а сам он стоял на берегу речки Псел. А еще он выполнял роль районного центра, что тоже добавляло ему значения. Короче, Алексей Яковлевич гордился, что ему досталась жена, Варвара (Валентина) Ильинична, из таких мест.
Там у Валентины Ильиничны отдельным домом проживали родители и старшая сестра Нина, очень красивая многодетная женщина, однако одинокая. Наверное, разведенная, потому что носила не девичью фамилию, а Козаченко.
Однажды в свой отпуск Алексей Яковлевич сразу из Москвы поехал не в Славгород, как делал всегда, а в Великую Богачку — там недавно умер его тесть, и надо было недельку-другую побыть возле тещи, чтобы поддержать в горе. По этой причине выходило, что проведать своих родных славгородцев он не успевал — дальше за сидением в Великой Богачке подходили сроки его лечения в санатории.
И он придумал выход — пригласил сестру и брата погостить в Великой Богачке! Организовал там им прием с хорошим застольем, ночлег для всех, экскурсии в санаторий, питье минеральной воды у источников. А Прасковья Яковлевна с детьми и Петр Яковлевич с женой организовали саму поездку. Ехали тремя машинами: «Ладой» Бориса Павловича, и жигуленками Петра Яковлевича и Александры Борисовны.
Интересная была поезда, с песнями, с приключениями, с обедами на лесных полянах, где пели птахи и пахло ягодами и анемонами. Обеды душевно готовила дома Прасковья Яковлевна — необыкновенная мастерица в кулинарном искусстве, умеющая делать их каждый раз новыми и запоминающимися. Тут ею на скатерки выставлялись, кроме традиционных малосольных огурчиков, сала, котлет, варенной картошки и яиц, особые яства — блюда с жаренными курами и карпами. Над сервированным столом витал дух жаренного лука. Дополняли домашние заготовки помидоры, дыни и арбузы, купленные на сельских рынках, мимо которых проезжали путешественники.
Где-то посреди дороги их застал проливной дождь. Случилось это как раз на берегу широкой реки, через которую им предстояло переезжать по мосту. Мост был низкий, деревянный и не внушал большого доверия в надежности, но другого не было. Пока мужчины изучали препятствие и примерялись, можно ли на него въехать, по реке пошел паводок! Уровень реки моментально поднялся, и мост скрылся под волнами. Пришлось путешественникам песни петь и ждать, пока сойдет вода.
— Только бы она мост с собой не унесла, — шутили одни.
— Тихо, не накаркай! — осаждали шутников другие.
Зато на обратном пути неожиданности были иного рода — едва группа пересекла границу Магдалиновского района, как Петр Яковлевич пригласил всех заехать к своей теще. Заехали. Там уже их ждал прекрасный прием и домашний обед — с горячим борщом и варениками!
Дело, конечно, заключалось не в обедах на земляничных полянах или в гостеприимном сельском доме, а в том, что поездка была организована так тепло и заботливо, и каждый участник внес в нее свою лепту, свой штрих, свое внимание. Каждый старался сделать ее исторической! И это поистине удалось!
Уже нет в живых никого из виновников тех событий, а признательная память о них живет в младших поколениях — как о счастье, наколдованном сопричастностью к дружбе, которой жили их великие родители.
Дорогами военных походов...
Сельский быт всегда был тяжел, кроме прочего, еще и тем, что много приходилось ходить пешком. В детские годы у Прасковьи Яковлевны был свой конь, который возил только ее, но теперь владение конем стало роскошью, недоступной простому человеку. А годы между тем добавлялись, а расстояния, которые приходилось преодолевать, удлинялись — жизнь во всех проявлениях усложнялась, не щадя людей. И надо было искать защиту от этой беды. Одна из возможностей — меньше трудить ноги, а в итоге и сердце.
Неведомо, как пришла Борису Павловичу идея об обзаведении личным транспортом. Полезного примера перед глазами он не имел, ибо отец его был далек от животных, а тем более от техники, чрезвычайно редкой в его годы. И вообще, это загадка — откуда у паренька из семьи торговца пряностями и портнихи взялся талант к технике, к механике. Как он к нему пришел, как достучался и как развился?
Любовь к транспортным средствам проявилась у Бориса Павловича резко и мощно. Хотя поражало другое — доскональное их знание без предварительного опыта. В Славгороде тогда мотоциклов не было вовсе, а на машине ездил только главный врач больницы. Ровняться с ним любому другому простому человеку и в голову не пришло бы. Но Борис Павлович был не «любой другой», а рабочий, награжденный орденом «Знак Почета»!
Он начал обзаводиться ездовыми средствами не только для личных нужд, а старался пособлять семье, Прасковье Яковлевне и детям. Ну, мотоцикл для этого не очень годился, хотя можно было путешествовать, садя младшую дочь на бензиновый бак, а Прасковью Яковлевну на заднее сидение. В селе никто бы ему на нарушение не указал, но не на больших дорогах, конечно.
Поэтому при первой возможности он и купил машину, свою «Тамару», которая служила ему более 15-ти лет. И опять же — ему нравилось ездить, возить с собой семью, но не бесцельно! Каждую поездку он наполнял смыслом то ли деловым, то ли познавательным. А еще ему очень хотелось пройти маршрутами своих военных походов и посмотреть, что он защищал и что там стало теперь — ведь в огне и дымах войны не всегда удавалось понять, что за земля у тебя под ногами.
Первый маршрут, по которому Борис Павлович повез жену, был не самый простой — это Днепропетровск-Тбилиси. В военную пору ему приходилось и там бывать, и он хотел показать эти места жене, поделиться с нею воспоминаниями. Он спешил, понимая, что сложность дороги в совокупности с добавляющимися годами могут сделать невозможной такую поездку в более поздний срок.
Конечно, при наличии интернета и многих гаджетов, когда можно получить исчерпывающую информацию о Военно-грузинской дороге и о ее достопримечательностях, поездка эта не кажется слишком уж экзотичной. А тогда о привлекательных в туристическом смысле поездках писалось мало, и планировать их было сложно. Правда, существовали карты, атласы, путеводители с указанием дорог, которые помогали проехать в выбранный уголок страны. Всем этим Борис Павлович запасся с самого начала. И все же путешественников могли подкарауливать многие неожиданности, потому что намечать места остановок и рассчитывать время проезда до них представлялось делом нелегким. Трудно было решить наперед, где лучше устроиться на ночлег. Все это решалось на ходу. Ехали не быстро, чтобы не вынудить старенькую «Тамару» выкинуть какой-нибудь фортель.
Кавказ был прекрасен! Прасковью Яковлевну, никогда не видевшую гор, а тем более настоящих, он поразил. Но и подавил — езда по серпантинным дорогам, где водители вынуждены были прижиматься к отвесным скалам, чтобы не свалиться в бездонные пропасти, оказалась не для нее. Нет, физически она хорошо переносила поездку, но нервы подводили — теснота горных дорог, их извивистость заставляли ее закрывать глаза и задерживать дыхание от страха. Так она и ехала все двести с лишком километров по Военно-грузинской дороге, ведущей через Главный Кавказский хребет. И только на остановках могла оглядеться и осознать, где находится. Больше она не хотела так дрожать.
Из Тбилиси поехали по другому маршруту, чтобы объехать Кавказ, хотя все равно ехали опасными дорогами до Гори, Кашури, Вастафони... И только когда после Самтредиа повернули на Зугдиди и дальше выехали на побережье Черного моря в районе Сухуми, Прасковья Яковлевна перестала трястись и задышала ровнее.
В поездке они не спешили, часто останавливались, отдыхали. Там, где удавалось, проводили больше времени и осматривали достопримечательности.
И все же жизнь на колесах, длящаяся почти неделю, очень утомила их. Больше в такие дальние поездки Прасковья Яковлевна отправляться отказалась. И даже, когда была куплена быстроходная «Лада» — новенькая, блестящая, еще в заводской упаковке! — и большим грехом казалось не поездить по стране вволю, она все равно стояла на своем!
После долгих уговоров Бориса Павловича она согласилась поехать в Севастополь — в феврале 1942 года Борис Павлович защищал этот город, попал там в плен, потом бежал... Таких событий, которые проходили на меже жизни и смерти, за годы войны у него было немало, но плен и побег стояли первыми в их ряду. Позже было спасение от расстрела в Славгороде и его героическое возвращение из разведки — с языком и смертельным ранением груди, от которого он чудесно спасся, несмотря на посланную жене похоронку...
На поездку до Севастополя потратили один день, въехали через Байдарские ворота, там остановились и пошли пешим ходом по памятным для Бориса Павловича местам. С ночлегом, как всегда, была проблема — в гостиницы не попасть. Ночевали проверенным еще со времен поездки на Кавказ способом — у дороги, где туристы собирались в коллективы для безопасности.
И совсем бы это путешествие показалось Прасковье Яковлевне домашним делом, как она говорила, если бы Борис Павлович не завез ее на плато Ай-Петри.
— Не бойся, — подбодрил ее он, — по сравнению с Кавказом — это просто холм.
— Неправда, — засмеялась Прасковья Яковлевна. — Я помню, что на карте массив Ай-Петринская яйла обозначен коричневым, как настоящие горы.
— Карты врут, — авторитарно заявил Борис Павлович. — Сравни: Крестовый перевал на Кавказе лежит на высоте 2400 метров, а у Ай-Петри вся высота составляет 1200 метров, жалкая половинка.
Полагая, что плато Ай-Петри лежит гораздо ниже ее вершины, Прасковья Яковлевна согласилась ехать.
На самом деле оказалось, что совершить автомобильный подъем на плато Ай-Петри решаются далеко не все, но есть водители, кому такая поездка доставляет удовольствие. Борис Павлович был одним из них. Бесспорно, маршрут запоминающийся и живописный — чем выше поднимаешься, тем больше восхищает панорама Южного берега Крыма. Но ведь опасный!
Горный серпантин, ведущий на плато, был затяжным и извилистым. В зависимости от погодных условий некоторые его участки или весь он целиком могли закрыться, о чем путешественников предупреждал знак в начале пути. Старая Ялтинская трасса, приведшая их на плато, затем спускалась по северному склону и через Большой каньон Крыма вела в Бахчисарай. Оттуда они добрались до Симферополя и дальше поехали по трассе, что шла на Москву. В связи с задержкой на плато, где они гуляли, раз уж забрались так высоко, да в связи с экскурсиями, на которые пошли в Бахчисарае, им после выезда с Крыма пришлось остановится на отдых и еще раз переночевать на природе.
— Три дня я еще могу выдержать, — буркнула Прасковья Яковлевна, когда они заехали в свой двор. — Но все равно в Карпаты не поеду. Даже не планируй.
— И не думал планировать, — Борис Павлович хмыкнул, — военные странствия мои там не проходили, вот и ехать туда незачем.
Такой ответ успокоил Прасковью Яковлевну.
«Где же вы теперь...»
Мальчишку, который бегал за Борисом Павловичем в госпитале, он, конечно, помнил, но не вспоминал за неимением поводов. И вдруг от того приходит письмо! Да какое!
«Дорогой Борис Павлович, здравствуй!
Пишет тебе Сашко, которого ты прозывал Хобакой. Правда, я сам себе такое имя придумал. Вспомнил?
Сразу после войны я женился. Потом у меня пошли заботы, как у всех: дети, строительство нового дома, работа... Некогда было вспоминать войну, да и казалась она, проклятая, еще такой близкой — протяни руку и достанешь.
А теперь мои дети выросли, уехали из дому, и я обнаружил, что жизнь прожита. И решил подвести итоги, выразить дорогим людям благодарность за добро. В числе первых дорогих людей у меня числишься и ты, мой военный побратим. Долго я искал тебя, но вот нашел.
Приглашаю встретиться. Приезжай ко мне в гости со своей супругой — вот как раз на День Победы, в этом году у нас будет несколько выходных дней.
Свои приглашения шлет и моя жена, а также кланяется вам. Мы очень-очень ждем вас!
Обязательно напиши о готовности приехать.
Твой Сашко».
Борис Павлович смутился. Шел 1965-й год, страна собиралась отметить 20-летие Победы, а он, размышляя над этим, все больше чувствовал себя маленьким на фоне того грандиозного события, в котором некогда участвовал. Война казалась ему теперь отдельной долгой и огромной вьюгой, нечеловечески опасной, и он не понимал, как выстоял в ней. Короче, не таким уж героем он себя признавал, чтобы надеяться на чью-то долгую память. Но вместе с тем был глубоко тронут теперешним отношением Сашка, которого знал 17-летним пареньком с рукой на перевязи. Посмотрел на конверт — там значилось село Лиманы Березанского района Николаевской области. Село лежало на берегу черноморского лимана. Значит, живут там рыбаки, автоматически подумал Борис Павлович, прикидывая, что выбрать Сашку в подарок. Скорее всего, он повезет ему настоящий невод, который сам сошьет из промысловой камчадальской сети. И тут же рассмеялся — его сердце уже собиралось в гости!
— Ты помнишь Сашка Хобаку? — спросил он Прасковью Яковлевну, когда та пришла с работы.
— Юношу из госпиталя? Помню, конечно, — Прасковья Яковлевна улыбнулась. — А что?
— Он нам письмо прислал. Вот оно, читай.
Прасковья Яковлевна прочитала и просияла:
— Молодец какой! Поехали, а?! Ведь юбилей Победы!
— Поедем. Я так и напишу ему.
Сашко откликнулся тотчас же, попросил уточнить время, когда Борис Павлович появится около их села. «Дорог у наших околиц много и все грунтовые. Поэтому я хочу встретить тебя, чтобы ты не плутал на последнем отрезке пути» — резонно писал он. Борис Павлович, не видя в том подвоха, взял карту в руки, измерил расстояние до Сашка; прикинул, что лучше всего выехать из дому пораньше, допустим в 5 часов утра (все равно перед такой волнительной встречей сон будет коротким, тревожным); и рассчитал время подъезда к Лиманам. Написал Сашку, мол, ждите во столько-то.
9-го Мая супруги торжественно покинули свой двор и начали набирать скорость! Погодка стояла хорошая, все вокруг цвело, в воздухе носились запахи сирени и праздничные благовония, дорога оказалась легкой. Катили они себе на своей машине по имени «Тамара» да песенки напевали.
«Где же вы теперь...» — затянул Борис Павлович.
— Ой, только грустных не надо! — сразу же возразила Прасковья Яковлевна, настраивая его на другой лад. — Это на тебя не похоже.
— Ну да, — согласился ее муж и затянул другую, современную: «Путь далек у нас с тобою...». Дойдя до слов: «Мы прошли, прошли с тобой полсвета. Если надо — повторим» — он уже на самом деле без ноток грусти повернулся к Прасковье Яковлевне: — Хорошо жить, а, жена?!
— Смотри на дорогу, — отозвалась Прасковья Яковлевна с затаенной радостью.
Незаметно истекли 10 часов. Они доехали до места и увидели указатель поворота на село Лиманы. А за поворотом, действительно, твердое покрытие кончилось, лишь простиралась равнина да по примятым травам узнавалась дорога.
— Езжай медленнее, — попросила Прасковья Яковлевна, — чтобы пыль в салон не летела.
— Наверное, окно придется закрыть.
— Да какое «закрыть» при таком хорошем воздухе!
— Нет, смотри, здесь песчаники, — обрадовался Борис Павлович, — пыли не будет. Не зря сказано — лиманы!
— Все равно не спеши.
Так они проехали еще немного.
И вдруг впереди заметили группу людей. Те стояли по обе стороны дороги, а над ними что-то вилось и мелькало. Еще четко не различалось, что там, а тревога уже загорелась внутри.
— Неужели что-то случилось... — забеспокоился Борис Павлович.
— Не может быть, — всматриваясь вдаль, сказала Прасковья Яковлевна. — На них слишком яркие одежды. И они, кажется, с цветами...
— Что одежды да цветы?.. Праздник же сегодня.
Подъехали ближе. И сердца их зашлись неожиданным счастьем — эта группа людей поджидала и встречала именно их. Дорога была перекрыта широкой красной лентой с надписью: «С приездом в Лиманы! С великой Победой!» А над головами встречающие держали флажки и транспаранты: «Приветствуем Вас на лиманской земле!», «Спасибо за Победу, победители!» и еще один: «Борису Павловичу персональное ура!»
Борис Павлович остановил машину и несколько секунд ничего не предпринимал — боролся с удушьем и подступившими слезами. Посмотрел на жену — та нахмурилась и сжала губы. Значит, пока что обойдется без слез, Прасковья Яковлевна настроилась держаться. Почти одновременно они медленно вышли из салона. Остановились у раскрытых дверей, не понимая, чего ожидать, ища глазами знакомое лицо.
Тем временем их внимание привлекли робкие нотки баяна, с нарастающей смелостью усиливающие звук. Неожиданно из-за спин взрослых вынырнули дети и, пританцовывая, запели что-то знакомое, но не сразу узнаваемое. И только вслушавшись в мелодию, гости поняли, что это народная величальная песня «Гуси прилетели, возле моря сели», только с новыми словами, написанными для сегодняшнего гостя. Раздались протяжные частушечные охи и энергичные притопы, полетели во все стороны милые детские голоса:
Гуси прилетели, мы гусей встречаем,
На лиманской на сторонке громко величаем!
С майским цветом, с днем Победы песней поздравляем!
Лапки обмывайте, пыль дорог встряхните,
За спокойный день и солнце наш поклон примите!
За спокойный день и солнце наш поклон примите!
Мир земле и дому, берегу родному!
Вам, родители и деды, слава за Победу!
Вам, родители и деды, слава за Победу!
Гуси прилетели, мы гусей встречаем,
С майским цветом, с днем Победы песней поздравляем!
На лиманской на сторонке громко величаем!
Так и не увидев среди многих лиц Сашка, Борис Павлович и Прасковья Яковлевна низко поклонились встречающим, приложили руки к сердцу, и больше не знали, что делать. Когда же выпрямились, то увидели, что перед ними кружится хоровод под звуки новой песни, в общем-то, не совсем хороводной. Это казалось безыскусным, но было невероятно трогательным.
Совсем неожиданно высокий женский голос, звучащий без сопровождения, перекрыл все остальные звуки. Но оказалось, что он лишь ненадолго опередил баян, и скоро тот тихо-тихо начал вторить голосу, чтобы лишь оттенить красивое сопрано. Голос пел песню «Ой туманы мои...».
Расступились густые туманы,
Благодать и цветенье кругом!
Приглашаем в деревню Лиманы,
Вспоминать, как вы бились с врагом.
И многоголосый хор, выдохнув «Эх!», повторил:
Славит вас вся деревня Лиманы
За победу над лютым врагом.
В вашу честь мы застолье устроим.
Вы вернули нам мир и покой:
Прекратили зловещие рои
Над людскою кружить головой.
Эх!
И за то наш поклон вам, герои,
Что вернули вы людям покой.
Пока звучала эта песня и гости вслушивались в адресованные им слова, из группы встречающих вышли девчушка и юноша и перевязали Бориса Павловича и Прасковью Яковлевну памятными лентами с надписями: «Борису Павловичу за мужество» и «Прасковье Яковлевне за верность». А на их руках, выше локтя, повязали маленькие вышитые рушники.
Затем появились девушки с караваями на рушниках. Одна из них красовалась в русском народном платье красных цветов и в кокошнике, а другая была в украинском костюме зеленых оттенков с венком на голове. Караваи у них тоже были разные.
— Милости просим в Лиманы, гости дорогие! — певучим голосом сказала первая.
— Ласкаво запрошуємо до Лиманів, шановні Борисе Павловичу і Параско Яківно! — повторила приглашение вторая.
После этих слов они расступились, открывая дорогу автомобилю Бориса Павловича.
Танцуя и исполняя песни, люди направились в сторону села. Затем кто-то махнул Борису Павловичу, чтобы он проезжал дальше. И он, раскланявшись на все стороны со словами: «Спасибо! Спасибо...» — медленно поехал вперед. Оставшись в салоне вдвоем с Прасковьей Яковлевной, он растерянно прошептал:
— Где же Сашко? Такое, гляди, жена, он закрутил...
— Это же как надо помнить те дни, чтобы с такой силой сейчас проявить свою память! Ох, не зря я Сашка Хобаку медом потчевала! — с нервным смешком сказала Прасковья Яковлевна.
Они даже подумать не могли, что это было только начало, что главные события их ждут впереди.
Между тем действо за окнами автомобиля продолжалось. Откуда-то взялись новые люди, которые теперь цепочкой стояли с обеих сторон дороги и бросали, и бросали на машину живые цветы с криками приветствий: «Ура!», «Милости просим!» и «Победа!». А когда Борис Павлович присмотрелся, то увидел, что и дорога усыпана цветами, среди которых преобладали степные скромняги, но были и тюльпаны.
— Господи, как их благодарить за такую встречу? — растерянно бормотал он.
Прасковья Яковлевна сияла.
— А ты тем временем подбирай в уме мудрые слова, которые должен будешь сказать за столом. Я уверенна, что они не только нам, но и себе сделали праздник. И он будет продолжаться.
— Да я-то подбираю... Но разве я заслужил такие почести? Ну поддержал раненного мальчишку — подумаешь, какое большое дело... А он, видишь, как повернул.
— Столько лет помнил... — с затаенным ликованием сказала Прасковья Яковлевна. — Видно, слишком плохо ему тогда было. А что, он сильно ранен был? Я только руку помню...
— Сильно, — сказал Борис Павлович, сдвинув плечом. — Наверное, рука осталась изувеченной. Его взрывом кинуло на камни и весь бок смяло, а потом придавило землей. Еле откопали. Ну, это я по его же рассказам знаю.
Перед самым селом, где была то ли площадь, то ли спортивный стадион, их опять остановили празднично одетые люди. Трудно сказать те ли самые они были или другие. Глаза у приехавших разбегались от пестроты цветов и разноцветия одежд, головы кружилась от впечатлений, все казалось смешавшимся в один чудесный калейдоскоп!
При их приближении над головами лиманчан зареяли кумачи, разноцветные флажки, красные полотнища, появились цветочные гирлянды из бумаги. Транспаранты отличались от первых, хотя тематика была прежней, что естественно. Теперь там было написано: «Добро пожаловать в Лиманы!», «Виват, солдат!», «Победителям — слава, слава, слава!» И снова персональное: «Борису Павловичу спасибо за Сашка». Все, чем можно было украсить стоящих на улице людей, тут присутствовало. А еще вокруг витал неподдельный дух искренности, радушия, благосклонности.
Борис Павлович и Прасковья Яковлевна уже смелее вышли из машины. Им хотелось увидеть Сашка и немного разрядить накал торжественности, хотя они понимали, что люди не откажутся от праздника, который так здорово подготовили и который им самим нравился.
При появлении гостей шепотки в толпе прекратились, их перекрыл звучащий баян, и скоро уже знакомый мужской голос запел «Ты ждешь, Лизавета», только слова в песне были другие:
Навстречу нам лето,
Спешит в искрах света.
Я не спал до рассвета,
Думал только о дне,
Когда вас увижу.
И вот вы все ближе
На горячем боевом коне.
Я майской порою,
Ворота открою,
Снова встречусь я с вами,
Дорогие мои.
В тоске и тревоге
Вас жду на пороге,
И поют
В саду мне соловьи.
Боюсь суесловья…
Борис и Прасковья,
Как прекрасно, что вновь я
Вас увидел в строю.
Вы славно трудились
И счастья добились,
Прославляя Родину свою.
Слава Богу, — думала Прасковья Яковлевна, подавляя подступающие слезы, что эти люди подобрали такие жизнерадостные, задорные песни, а то ведь праздник «со слезами на глазах». А этих слез глазам уже не хотелось. Душа от них устала.
Оглядевшись вокруг, приехавшие заметили, что попали на большую театральную сцену под открытым небом — на импровизированное поле боя. В некоторых местах тут виднелись противотанковые ежи и «надолбы», правда, выполнены они были из дерева, да и существовали лишь для намека на обстановку. Но декорациями служили не только макеты. Между ними лежала парочка перевернутых вверх колесами мотоциклов с фашистскими крестами, громоздились еще какие-то железки. И довершала вид прошедших боев старая полуторка, наехавшая на булыжник и стоявшая перекошенной, с открытыми дверями! То тут, то там, живописно припорошенные пылью, виднелись винтовочные приклады, макеты автоматов и пустые скрученные патронташи. Даже траки торчали с земли, возможно, снятые с тракторов.
Посреди площади красовалась настоящая военная кухня на колесах, от которой вкусно пахло пшенной кашей. Где-то поджаривалась свежатина с луком и тоже источала дразнящие запахи. Кухню дополнял стол с алюминиевой посудой. Главными персонажами здесь были две раздатчицы, ловко орудующие большими ложками, направо и налево угощающие лиманцев порциями настоящей, а не бутафорской еды. Неподалеку от кухни горели другие костерки, а вокруг них группками сидели подростки, удивительно правдоподобно изображающие партизан. Позвякивая посудой, они с аппетитом ели кашу, тихо разговаривали между собой или вполголоса пели свои песни, не обращая внимания на окружающих.
Гостей, давно уже отошедших от Лады, опекали девушки в национальных костюмах, они подвели их к баку с водой, что стоял за пределами площади, у небольшого рва.
— Здесь можно освежиться с дороги, помыть руки, умыться. А потом пойдем кашу есть! — девушки подали Борису Павловичу и Прасковье Яковлевне мыло и полотенца.
— Умывайтесь над этим ровчиком, мы вам сольем.
— Спасибо, красавицы... — твердили растроганные гости, все еще ощущающие неловкость от такого внимания.
Они уже поняли, что попали на хорошо организованное массовое празднество и должны поддерживать его до конца. Тем более что здесь и намека не было на то, что это празднество состоялось бы без них — здесь не просто праздновали День Победы, юбилей, не просто гуляли. Здесь именно их чествовали! Они были главными героями праздника. И это было загадкой.
Умываясь, гости продолжали осматриваться.
По периметру площадь обрамляли простые самодельные скамейки, на каких кумушки сидят у подъездов и обсуждают новости, а между ними стояли деревянные колоды, простые до тихого восторга, даже еще с опилками. Все было так здорово продумано, так любовно сделано и устроено, что удивление не проходило ни через полчаса, ни через час.
Борису Павловичу и Прасковье Яковлевне, усаженных на колодах, принесли кашу со свежатиной. Какой это был чудный обед, горячий и ароматный, вкусный и обильный, — просто оживляющий после долгой дороги, умывания холодной водичкой и шквала прекрасных эмоций! Да еще на свежем воздухе, таком необычном для степных людей, в котором уже улавливалось присутствие большой воды.
На четверть часа их оставили одних, и они с удовольствием подкрепились обедом. Но едва Борис Павлович и Прасковья Яковлевна встали на ноги и отнесли свои миски на пустой стол, как их опять окружили люди, ничего от них не ждущие, а просто машущие пестрыми платочками и букетами искусственных цветов, приплясывающие вокруг них в такт ненавязчиво звучащим песням.
И-и-иххх! Туррррр! Ой, ой, ой! — задорно, как в частушках, вскрикивали девушки в такт мелодиям.
Интересно, что никто не поддерживал певцов аплодисментами, как будто купаться в песнях для них было естественным делом. Как будто это был не концерт, а такое течение жизни.
Скоро в группе поддержки снова замелькали транспаранты, прославляющие День Победы и благодарящие приехавших гостей за Победу, за мир и труд. Люди подняли над головами гирлянды цветов и делали из них волны. Вдруг где-то в стороне громыхнуло и в небо взметнулось несколько ракет с разноцветными огнями!
Еще не успели опасть все искры салюта и не растаяло его эхо, как словно из воздуха соткалась очередная песня. Ее пели а капелла все присутствующие, но их исполнение отличалось многоголосием и профессионализмом почти на уровне хора Александрова:
Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой советские солдаты.
Песня постепенно разгорелась, заполонила собой всю ширь и начала тихо замирать, как будто колонна поющих солдат прошла мимо и начала отдаляться, уходя в историю. И глаза присутствующих в самом деле искали их, этих уходящих...
Вдруг перед Борисом Павловичам возник мальчишка в солдатской форме, громко щелкнул каблуками и взял под козырек, задумчивую тишину прорезал его звонкий отчетливый голос:
— Товарищ разведчик 61-й армейской разведывательной роты 58-й стрелковой дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта, разрешите доложить!
— Докладывайте! — Борис Павлович дрогнул от неожиданности, поэтому подыграл мальчишке неуверенно, однако же главное, что не растерялся окончательно и все-таки подыграл.
— Силами нашего отряда добыты языки, вот эти хлопчаки, — мальчишка в настоящей гимнастерке, в галифе и сапогах стоял по-военному и докладывал очень серьезным тоном; при последних словах он кивком головы указал на кого-то в шеренге других юношей в форме солдат Советской Армии: — Серега Блинов, Олег Сокольский и Митька Перегудов. Языки согласились сотрудничать с нами и по доброй воле укажут вам дорогу до Александра Ивановича Гонтаренко.
— Во-ольно! — догадался скомандовать Борис Павлович.
Тут же откуда-то возникла группа мотоциклистов, окружила автомобиль Бориса Павловича, требовательно заурчала. Гости поняли, что им надо возвращаться в свою «Тамару». Машины у ребятни были не бог весть какие, но зато на одной из них развевались флаги СССР и УССР. Этот мотоцикл стал впереди, как бы возглавляя процессию. Остальные, украшенные разноцветными флажками и цветами, пристроились по бокам и сзади Лады. Все происходило как в сказке, но было до щемления в сердце настоящим. Смотреть на это без слез не было сил! Не спасала даже мысль об игре, потому что игры тут не было — люди, окружающие Бориса Павловича и Прасковью Яковлевну, не играли, а жили своей природной жизнью, и со старанием и чувством долга делали свое дело. В машине Прасковья Яковлевна всплакнула, да и у Бориса Павловича повлажнели глаза.
А в открытые окна к ним долетала попутная песня, означающая, что послушную рукам водителя «Тамару», окруженную почетным кортежем, провожали в новый путь:
Через реки, горы и долины
Сквозь пургу, огонь и черный дым
Мы вели машины, объезжая мины,
По путям-дорогам фронтовым.
Эх путь-дорожка, фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая,
А помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.
Путь для нас к Берлину, между прочим,
Был, друзья, нелегок и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Трудно было очень,
Но баранку не бросал шофер.
Эх путь-дорожка, фронтовая,
Не страшна нам бомбежка любая,
А помирать нам рановато —
Есть у нас еще дома дела.
Под эту песню, сопровождаемые мотоциклистами, гости с неспешной торжественностью отъехали от стадиона, где оставалась дымиться походная кухня и продолжали гореть живописные костры, где поджаривались лук и жаркое. Запахи от полевого застолья разносились далеко от места события. Жители Лиман, остающиеся на площади, старающиеся справиться с наготовленным угощением, встали с мест и вслед гостям махали разноцветными платками.
При подъезде к нужному месту мотоциклисты начали несильно, но дружно сигналить, создавая не шум, а мелодию встречи. У нужных ворот они остановились, пропустили «Тамару» вперед и окружили ее сзади. Откуда-то к ним присоединились новые люди.
И, словно вырвавшись из оков времени, возникшую тут напряженную тишину прорезал звонкий мужской голос, поющий под аккордеон песню на мотив «Каким ты был...»:
Я помню тень деньков суровых,
И страшный сон небытия.
Но ты пришел и мне сказал полслова,
Что сильный я, и ожил я.
Хор подхватил, исполняя свои слова:
Но ты сказал уверенное слово,
То слово подняло меня.
Солирующий мужчина пел сильно, но и проникновенно. Голос у него был чистый, высокий и настоящий, как звон родника, — удивительный голос!
Каким ты был, таким останься,
Солдат лихой, орел степной...
Я рад, что ты со мною повстречался,
Вернул мне веру и покой.
Женские голоса вторили свое:
Как хорошо с тобою повстречаться,
Солдат лихой, орел степной...
И пусть другие ждут нас сроки,
Но нам держаться не впервой.
Еще пройдем мы многие дороги,
Мой побратим, товарищ мой.
Тихий голос хора, вторил задумчивым эхом:
Мы не сойдем с проторенной дороги,
Мой побратим, товарищ мой...
Александр Иванович незаметно появился у ворот, действительно, как было написано в стихах. Немного располневший, чуть согнувшийся, потерявший часть волос, он все равно был узнаваем. И как в юности, когда не хотел уходить от Бориса Павловича, он застенчиво, но капризно улыбался — так и остался большим ребенком. Рядом стояла его жена, щуплая симпатичная женщина с обветренным лицом и натруженными руками. Короче, это были свои трудящиеся люди.
Старые знакомые обнялись, наконец, расцеловались. Гости познакомились с женой Александра Ивановича, которую звали Раисой. За ними скромно жались две девочки дошкольного возраста. Гостей провели в беседку во дворе.
— Сейчас я организую душ, — простодушно сказал Сашко, как будто они и не расставались на двадцать лет. — А потом напою вас чаем, и мы пойдем встречать гостей. Там и за столами посидим.
— О, это хорошо, — поддержала его Прасковья Яковлевна. — А то начнете сейчас вспоминать свои воспоминания, да только расстроитесь.
— Я сам этого не люблю, Прасковья Яковлевна, — обернувшись к ней, сказал Сашко, — потому что такой сентиментальный, как женщина. Чуть тронь мою больную тему — я сразу в слезы...
Гостями оказалось все село — все встречающие и артисты и другие жители Лиман. А их всего там было чуть больше тысячи. Если отбросить стариков, детей и бессемейную молодежь, а также тех, кто имел уважительные причины отсутствовать, то наберется человек 100-150 — вот они тут все и были.
Оказалось, что Александр Иванович работает в рыболовецком совхозе. Должностей больших не имеет, но уважением пользуется. И этот праздник для него сделали администрация села, местная самодеятельность и просто его сотрудники и друзья. О Борисе Павловиче он им так много рассказывал, что они ожидали увидеть вообще заморского богатыря. Правда, видом своим Борис Павлович народ не разочаровал. А в остальном — кто знает... Говорить он старался поменьше, люди-то все равно чужие, с другими нравами... Это чувствовалось. Что значит, профессия, — думал Борис Павлович, наблюдая за друзьями Сашка, — все у этих рыбаков другое: и шутки-прибаутки, и поверья, и представления о вещах, и весь фольклорный строй.
Пока он их рассматривал, вновь и вновь звучала музыка — теперь тут появились скрипки, еще какие-то инструменты, названия которым Борис Павлович не знал. Исполнители, одетые в цыганские костюмы, обратили лица к нему, и ему пришлось выдвинуться вперед, чтобы артистам было удобнее выступать. Зазвучала известная величальная песня, исполняемая в цыганском стиле.
Поздравим Вас с Победою,
Начнем «Ура!» кричать,
Заветам предков следуя,
Вас станем величать.
Пусть в этой песне слышится
Достоинство царей.
Пусть женам легче дышится,
За спинами мужей!
Хор наш поет припев старинный,
И слова журчат рекой:
К нам приехал наш любимый
Борис Павлович дорогой!
Боря, Боря, Боря!
Боря, Боря, Боря!
Боря, Боря, Боря,
Наш любимый, дорогой!
Ее сменила другая величальная песня «Будем по росе гулять», исполняемая хором. Ее Борис Павлович и Прасковья Яковлевна слышали впервые. Но вот чудесным образом цыгане исчезли и появились парни с гитарами. В честь гостя, который во время войны был разведчиком, исполнили песню М. Ножкина «Последний бой» и песню «Махнем, не глядя» из кинофильма «Щит и меч».
Интересно было то, что тут нигде не звучали записи, все исполнялось вживую! Причем на таком высоком профессиональном уровне, который трудно было ожидать в маленьком совхозном селе. Это была почти загадка, ввергавшая гостей в непреходящее удивление.
Вечер был недолгим, потому что гости с дороги устали, но поесть они успели. Успели и выпить, хотя тут пили мало — в основном слушали песни и подпевали певцам. А певцы не пытались «завести» слушателей и все превратить в балаган, наоборот, старались сохранить классическое исполнение репертуара. Видимо, у них была своя программа, и они от нее не отступали.
Даже провожая гостей на отдых, одну за другой пели им колыбельные. Это было страшно трогательно, но зато, действительно, сняло напряжение дня — истинные чудеса!
Второй день прошел спокойнее. Сначала гости долго спали. Потом был завтрак вчетвером, где они наговорились досыта.
— Знаете, — говорил Сашко, — вы не удивляйтесь нашим людям. У нас тут давние боевые традиции. Правда! В 1861 году, например, здесь произошло выступление крестьян. Вот нигде не было, а у нас произошло. Чего они хотели, когда их освободили от крепости, сейчас уже никто не помнит, но факт такой имел место. Потом в 1905 году опять наши крестьяне бастовали, причем так крепко, что об этом остался след в истории. А наш житель М. С. Ярошенко вообще был участником восстания на броненосце «Князь Потемкин-Таврический». Так что мы — народ активный и патриотичный.
— Это чувствуется, — сказал Борис Павлович.
— Вообще люди у нас правильные, — добавила жена Александра Ивановича, — нет пьяниц и драчунов. Правда, в семье не без урода — есть воришки и лентяи, но, если разобраться, то их и осуждать трудно. Это больные люди, неполноценные. Ну, мы их уже знаем, так что терпим малое зло, чтобы большое не завелось.
— Главное, что вы живете открыто, так мне показалось, — поддержала разговор Прасковья Яковлевна, — коллективной жизнью. Это легче да и интереснее, чем закрываться от людей. Опять же глупостей много не наделаешь. Человек, он когда шкоду производит? Когда надзора за собой не чувствует.
Потом мужчины отправились на рыбную ловлю — испытывать невод, подаренный Борисом Павловичем. А женщины смотрели фотографии, обсуждали рукодельные достижения хозяйки — она оказалась мастерицей по вышивке гладью.
Вечером к ним опять пришли гости — развлекать Бориса Павловича и Прасковью Яковлевну. Тут уж они снизошли до эстрадного стиля исполнения, самодеятельного, или балалаечного, как они говорили. Пели современные популярные песни: «Я буду долго гнать велосипед», «На дальней станции сойду» и другие.
А на третий день гости уезжали. С утра чуток перекусили и начали прощаться.
— А давайте мы напоследок споем вашу любимую военную песню? — предложил один из певцов.
— Только рад буду!
— Так назовите ее.
— «Марш артиллеристов».
И зазвучали прекрасные слова:
Пробьет победы час, придет конец походам.
Но прежде чем уйти к домам своим родным,
В честь нашего Вождя, в честь нашего народа
Мы радостный салют в победный час дадим!
Артиллеристы, Сталин дал приказ!
Артиллеристы, зовет Отчизна нас!
Из многих тысяч батарей
За слезы наших матерей,
За нашу Родину — огонь! Огонь!
И опять их провожали всем селом, и опять пели фронтовые и солдатские песни:
Путь далек у нас с тобою,
Веселей, солдат, гляди!
Вьется знамя полковое,
Командиры впереди.
Солдаты, в путь, в путь, в путь!
А для тебя, родная,
Есть почта полевая.
Прощай! Труба зовет,
Солдаты — в поход!
И вот, уже за селом, Борис Павлович и Прасковья Яковлевна в последний раз помахали провожающим из окон автомобиля, а те проникновенно запели песню «Ой, вы гуси, до свиданья»:
В час предутренних туманов
Гуси в край родной летят:
«До свидания, Лиманы,
Улетаем мы назад».
Ой, вы, гуси, до свиданья,
Прилетайте к нам опять!
Оправдайте ожиданья
Слышать вас и вас встречать.
Вы, Борис, и вы, Прасковья,
Будьте счастливы всегда,
Вам желаем мы здоровья
На грядущие года.
Ой, вы, гуси, до свиданья,
Прилетайте к нам опять!
Оправдайте ожиданья
Слышать вас и вас встречать.
До свиданья, до свиданья!
Легких вам путей-дорог.
Светлых дней и процветанья,
И добра на ваш порог.
Ой, вы, гуси, до свиданья,
Прилетайте к нам опять!
Оправдайте ожиданья
Слышать вас и вас встречать.
Машина Бориса Павловича начала постепенно отдаляться от провожающих, тихо сигналя, словно постанывая, словно страдая по-человечески. Потом стремительность ее возросла, и скоро уезжающие и провожающие казались друг другу маленькими движущимися точками — и те, и другие растаяли на родных просторах, слились с ними воедино. И стали одним целым.
А планета вращалась и покачивалась, оставляя в прошлом недавние праздничные дни.
Искупаться в Тихом океане
Светлана окончила школу и начала готовиться к поступлению в вуз. Конкретного желания, куда идти, у нее не прорисовывалось — как все талантливые дети, она одинаково хорошо знала школьные предметы и могла поступать хоть на технаря, хоть на гуманитария. А поскольку школу она оканчивала у дедушки и бабушки, где и они учились в свое время, и их дети, то Прасковья Яковлевна и Борис Павлович были возле нее первыми советчиками.
Кто-то из них высказал мысль, что есть профессия, где надо знать и математику, и остальные предметы в равной мере, — это экономика. А в экономике самое сложное и важное направление — это сельское хозяйство, поскольку в нем заложен такой независящий от человека фактор, как погода. Погоду в руки не возьмешь, это вещь не материальная. И тут с кондачка цифирью сыпать не будешь. А чтобы ее учитывать, да еще закладывать в планы, надо иметь как физическое родство со стихиями, так и иное качество ума, стоящее над человеком. И иную смелость. Как этот конгломерат назвать, неизвестно, но без него нельзя.
— Ни в какой другой отрасли Бог так близко не соприкасается с человеком, — рассуждала Прасковья Яковлевна, — как в земледелии, в хлебопашестве. Чувствовать Его руку дано не каждому, а лишь избранникам.
В этой мистике рассуждений был свой резон, и мистикой они оставались не по человеческому решению — просто Бог не всем открывается, это правда.
Так был выбран сельскохозяйственный институт.
Прасковья Яковлевна нервничала — сельское хозяйство представляло собой отрасль, основы которой тут заложил ее отец, незабвенный Яков Алексеевич. Местный колхоз был его детищем, многое в нем сохранялось еще с отцовских времен. Она давно мечтала, чтобы кто-то из потомков продолжил тут дело ее отца. И вот Света, внучка, согласилась с этим выбором.
Чтобы это решение как-то закрепить, придать ему статус окончательного, Прасковья Яковлевна обратилась за помощью к председателю колхоза и попросила дать Светлане направление на учебу, то есть финансировать ее обучение в вузе за счет колхоза. Скорее всего, мотив ее поступка заключался в другом — в возрасте. Она боялась не успеть выучить внучку своими силами, с одной стороны. Но с другой стороны, боялась и того, что ее дом и двор, ее гнездо без них с мужем осиротеет, пойдет по чужим рукам, если тут никого не закрепить. И вот это председателю колхоза было очень понятно. Зная всю историю жизни Прасковьи Яковлевны, он пошел ей на встречу, тем более что, в самом деле, колхозу нужны были толковые специалисты.
Да здравствует совпадение интересов!
Теперь все зависело только от Светланы, которую нельзя было выбивать из колеи чьими-то переживаниями, сторонними эмоциями — как нельзя мутить чистый родник. Но как было их отключить, если Прасковья Яковлевна не находила себе места? Родные подумывали, как бы ее отвлечь на что-то другое...
И тут ситуацию спас Алексей Яковлевич — он пригласил Прасковью Яковлевну в гости, в Петропавловск-Камчатский. Близенький свет. Да еще лететь самолетом... Но она согласилась!
Начались сборы. Помнится, отдельным пунктом стояли свежие помидоры, надо было их туда хотя бы с ведро довезти. Оно бы и ничего, если бы не пересадка в Москве, которую Прасковья Яковлевна должна была совершать сама.
Был выбран день, куплены билеты и помидоры и обо всем сообщено на Камчатку. Тут готовились к отъезду, а там — к встрече.
В Днепропетровск Прасковью Яковлевну привез Борис Яковлевич, на Ладе, а тут их уже ждала младшая дочь с мужем — вместе поехали в аэропорт, дождались рейса и проводили путешественницу на посадку.
С чувством какого-то сосущего опустошения, как бывает при отъезде в дальний край близкого человека, о ком будешь тревожиться и скучать, провожающие вышли на улицу, подошли к воротам аэродрома. Оттуда хорошо виден был самолет на Москву. Скоро из внутренних дверей аэропорта вышла группа людей, села в полуоткрытые вагоны электробуса, и ее повезли к трапу.
Провожающие прилипли к решетке ограды, всматривались в дорогую фигурку, отдаляющуюся от них, вроде стремились поддержать ее, вселить ощущение, что она не одна. Они прямо своими телами чувствовали волнение Прасковьи Яковлевны, никогда раньше не путешествующей в одиночку, да еще в такие многолюдные места и так далеко.
Но вот самолет замер перед стартом и потихоньку покатил. Затем начал набирать скорость и где-то в скрытом от глаз месте оторвался от земли, доверившись воздуху. Борис Павлович и Люба с мужем побежали на привокзальную площадь, откуда открывался свободный вид на небо. Самолет там уже чертил дугу, по которой поднимался выше и выше.
— Полете-ела наша мама, — с какой-то незнакомой протяжной грустью сказал Борис Павлович.
Он вздохнул и остался стоять на месте, глядя в небо, где скрылась Прасковья Яковлевна. Наверное, ему казалось, что это все происходит не по-настоящему, что сейчас шутка кончится, самолет вернется и его жена займет свое законное место рядом с ним. Но истекали минуты, а ничего не менялось.
— Поехали домой, — тронув отца за рукав, сказала Люба.
— Как она в Москве справится?.. Еще затеряется и не туда сядет...
— По прилете она позвонит мне, а я позвоню тебе.
— Самое трудное для нее не прилететь, а правильно улететь, — он с трудом оторвал себя от места, где расстался с женой; молча пошел к машине.
Сейчас ему все мешали, он хотел думать только о Прасковье Яковлевне.
Но посадка в Москве прошла благополучно. Прасковья Яковлевна благополучно прошла регистрацию и только потом позвонила дочери, сказала, что пошла на посадку.
— Счастливого полета, мамочка! — прокричала в трубку Любовь Борисовна.
Она тут же набрала Славгород. Борис Павлович взял трубку после первого же зуммера.
— Все, теперь мама не потеряется, — весело сказала Любовь Борисовна. — Она прошла регистрацию и пошла на посадку. Можешь спать спокойно.
— Спасибо, — Борис Павлович не скрывал подавленности.
Никому он не мог сказать того, чего боялся. А сильно боялся он одного — что после всех его фокусов жена останется возле брата и к нему не вернется...
К обеду следующего дня от Прасковьи Яковлевны получили телеграмму: «Полет перенесла хорошо. Встретили. Камчатка нравится. Целую».
А потом в течении двух недель у нее был насыщенный камчатский отдых. Каждый день с утра Алексей Яковлевич возил ее в Паратунку на лечение термальными водами. Там она лечила больные суставы рук, да и просто оздоравливалась. Потом он забирал ее с санатория и вез на экскурсии по местным достопримечательностям.
Тесное знакомство с полуостровом, где он прожил большую часть жизни, который считал второй родиной, начал издалека, где проделал первые шаги по его земле. Постепенно он провез старшую сестру по всем-всем местам, куда забрасывала его судьба, где он работал и проживал. Наконец завел в свой рабочий кабинет. На то время Алексей Яковлевич занимал пост директора центральной снабженческой организации всей Камчатки, кажется, она называлась «Камчаткаснабсбыт». По работе он был номенклатурой Совета Министров СССР, так что ему было чем гордиться.
А по вечерам у них были праздничные обеды! Но что-то о них Прасковья Яковлевна помалкивала, иногда позванивая по телефону, а в отношении экскурсий просто заливалась восторгом. Ведь это было еще до того, как сель уничтожил уникальные гейзеры на Камчатке. Беда случилась позже, ровно через 30 лет, 3 июня 2007 года, тогда в Долине гейзеров под слоем грязи и камней оказались погребены две трети территории уникального природного парка.
И вот Любови Борисовне позвонили из Петропавловска-Камчатского и сказали, что Прасковья Яковлевна села на самолет до Москвы. Это было ближе к вечеру...
Ночью ее разбудил телефон. Она схватила трубку и со сна не могла понять, что происходит. Вдруг в трубке услышала бодрый голос ее мамы.
— Привет, — сказала Прасковья Яковлевна. — А что вы делаете?
Любовь Борисовна посмотрела на часы, по-прежнему, не соображая, откуда пришел звонок. Было три часа ночи.
— Я... спим... — невпопад ответила она. — Ты где?
— Я в Москве. А почему ты спишь? Ты заболела или что случилось?
— Так ведь ночь на дворе, мама. Сейчас три часа ночи.
— Ой, прости! — с другого конца провода донеслось сожаление. — Тут везде свет... я не сориентировалась. Только что приземлилась. Еще голова кружится от полета. Завтра буду у вас.
Назавтра было воскресенье. С утра Любовь Борисовна ее муж Юрий Семенович готовили обед для мамы. Встречали они ее с самолета или она сама к ним приехала, это в памяти участников не сохранилось...
Зато хорошо помнится, как Любовь Борисовна купала маму в ванной, а ее свекровь, в квартире которой это происходило, ходила вокруг да около и недовольно сопела. Но Любовь Борисовна умела настоять на своем — все прошло отлично!
Светлана к моменту возвращения Прасковьи Яковлевны из своего полукругосветного путешествия, как она говорила, сдала все экзамены и была зачислена в институт. Выяснив этот вопрос, Прасковья Яковлевна успокоилась и расслабилась.
— Меня ведь брат возил на берег Тихого океана! — похвасталась она за обедом. — Это страх божий... сколько воды.
— В Авачинскую бухту?
— Не-ет! Мы ее объехали. И бухту Завойко тоже объехали и выехали почти на самый нос полуострова, на самый-самый настоящий океан.
— Но там же должны быть какие-то селения? Или как?
— Селения... — Прасковья Яковлевна задумалась. — Помню, брат Долиновку называл, и Заозерный, — припомнила она. — Где-то там мы смотрели на три скалы в океане. Долго любовались ими. Но это было в другой раз.
— Это, наверное, Три брата, — предположил Юрий Семенович, раскрывая карту.
— Да-да, и Леня так говорил — именно Три брата. А что, это официальное название? Я думала это так... по-местному у них...
— Вот они, — показал Юрий Семенович на карту. — Видите?
Прасковья Яковлевна посмотрела на карту...
— Ну... тут они на себя не похожи, — засмеялась она.
— И как океан? Нам-то его никогда не доведется увидеть.
— Большой и холодный, — нахмурилась Прасковья Яковлевна. — Слишком большой. Сначала Алексей Яковлевич посоветовал просто ополоснуть в нем ноги, чтобы было, о чем дома рассказывать. Но я все же решила полностью искупаться! Валентина Ильинична даже купальник мне для этого случая подарила, и я его еще дома надела. Так что искупаться я обязана была. — Прасковья Яковлевна вдруг замолчала, словно раздумывая, стоит ли продолжать. — Там все не по-нашему, — почему-то шепотом продолжила она. — Даже песок черный. Кажется, что это просто грязь. Так неприятно! Особенно когда солнца нет.
Она махнула рукой, словно отгоняя те картины от себя, затем порылась в своей сумке и вынула пол-литровую бутылку с какой-то жидкостью.
— Везу мужу в подарок, — пояснила она. — Тихоокеанская вода. Хотите понюхать?
— Нет уж, пусть папа первым понюхает! — запретила откупоривать бутылку Любовь Борисовна. — А почему ты про обеды тети Вали молчишь? Чем она тебя угощала?
— Ой, не напоминай, — погрустнела Прасковья Яковлевна.
И она под большим секретом рассказала, что только теперь открыла для себя жену своего брата, увидела ее в настоящем свете. Во-первых, Валентина Ильинична оказалась не такой уж чистюлей...
— Представь себе, квартира у нее неухоженная, — рассказывала Прасковья Яковлевна. — Я попыталась снять пыль с предметов, но просто утонула в ней и скоро бросила эту затею. Книжный шкаф нельзя сделать чище, если в нем стоят пыльные книги и пыльные полки... С сервантом — аналогичная история, сначала надо было перемыть всю посуду. Короче, анчутка наша тетя Валя, — с грустью констатировала она.
То же самое касалось и готовки — жена Алексея Яковлевича вроде и домовитая женщина, как смотреть со стороны, но все у нее как-то не так. Готовить она не любила, а значит и не умела. Праздником было, если она жарила картошку. А то в основном варила ее в кожушках да макароны отваривала. Первые блюда в их доме были редкостью, и Алексей Яковлевич, если хотел борща, шел в ресторан.
— К борщу мы с детства приучены, едим его часто, вы же знаете. Вот он после работы и ходит по ресторанам. А там женщины... Наконец, его жена очень прижимистая! Она так откровенно тряслась над каждой копейкой, которую брат тратил на меня, что я не знала, куда деться от стыда. При мне выговаривала ему! Это было ужасно.
— Но неужели она совсем не радовалась тебе? — Любовь Борисовна не удивлялась услышанному, она давненько в жене своего дяди замечала то, о чем сейчас говорила мама.
— Да вроде радовалась, но по-своему. Все дни кормила меня пересушенной жареной рыбой. Я уже не могла слышать ее запах.
— А почему пересушенной?
— Потому что масла постного жалела! Не лила на сковородку.
— Надо было тоже в рестораны ходить на обеды, — засмеялась Любовь Борисовна.
— Мы с братом пару раз так и сделали — исподтишка ходили поесть первого. Кстати, он жалуется на желудок, говорит, что страдает запорами. И не удивительно при таком питании. Я-то раньше не понимала, чего он отпуска проводит по санаториям. Оказывается, едет туда свежей пищи поесть и кишки подлечить.
Долго Прасковья Яковлевна хранила океанскую воду и купальник от Валентины Ильиничны. Потом воду пришлось вылить, а купальник, наверное, износился. Еще со времен школьной юности Любовь Борисовна научила свою маму во спасение от жары ходить летом по двору в купальнике.
— Хорошо на Камчатке, — часто вспоминала Прасковья Яковлевна свою поездку к брату, — летом совсем не жарко и океан близко. А в нем вода прохладная и чистая-чистая!
Таллин, здравствуй!
Описываемые ниже события происходили 29 июня — 14 июля 1983 года, о чем свидетельствуют дневниковые записи Любовь Борисовны, младшей дочери Прасковьи Яковлевны.
В жизни Любови Борисовны был один интересный факт, особенно красноречиво характеризующий ее натуру. Класс, в котором она училась, в своем выпускном году занял первое место в одном из районных соревнований и был премирован десятидневной туристической поездкой в Ленинград. Начиналась она сразу после выпускного бала.
Казалось бы, все складывалось лучшим образом, ибо позволяло выпускникам отдохнуть после школьных экзаменов, набраться сил перед вступительными... Но Любовь Борисовна на экскурсию ехать отказалась.
— Ты почему не едешь в Ленинград, вместе со всеми? — спросила обеспокоенная Прасковья Яковлевна.
— Надо готовиться к поступлению в вуз.
— Неудобно перед людьми, — настаивала Прасковья Яковлевна. — Люди подумают, что мы денег на тебя пожалели.
— Посмотрим, что они подумают, когда я поступлю, а остальные срежутся.
— Такой редкий шанс посмотреть красивый город, и ты его упускаешь.
— Успею еще...
— Жаль, однако, — ответила Прасковья Яковлевна.
— Мы с тобой вдвоем там побываем, — пообещала Люба. — Сначала поступить надо.
С тем Люба засела за учебники — начала готовиться по всем вступительным предметам. Зачем золотой медалистке это надо было? Чтобы быть зачисленной в вуз, ей хватило бы сдать только один предмет, который она знала идеально, — математику; правда в двух видах, письменном и устном, и с одним условием: на обоих экзаменах обязательно надо было получить «отлично». Взвесив все шансы, учтя свои слабые стороны и напряженное состояние психики в непривычной обстановке, Люба допустила, что на одном из экзаменов может получить четверку, и тогда ей придется сдавать все экзамены, а для этого надо подстраховаться и готовиться по всем предметам.
Как оказалось, она все правильно рассчитала! По чистой случайности, вызванной нервным напряжением, на письменной математике она сделала ошибку и получила четверку. После этого она не могла воспользоваться льготами медалистки и поступала на общих основаниях. Ей пришлось сдавать все экзамены.
И вот настал 1983-й год. Настал тот момент, который она в юности обозначила фразой «успею еще». Она должна была ехать в Таллин с итоговым докладом по диссертации. Это занимало всего несколько дней, зато от учебного отпуска оставалось еще две недели, которые вполне можно было употребить на отдых. Тем более, что Юрий Семенович находился на военных сборах. Не сидеть же ей дома одной!
В Ленинграде она уже бывала, неоднократно и подолгу, но одна. А тут вспомнила свое поступление почти двадцатилетней давности, обещание маме... и решила взять маму с собой.
Сказано — сделано! Любовь Борисовна мотнулась в кассу, купила билеты туда и обратно. Сообщила Прасковье Яковлевне, когда той надо появиться у нее дома в полной форме. Все!
Оформление отпуска она оставила на последний момент, ведь это была простая формальность — ей никто не имел права отказать в нем. Такого за все годы ее обучения в аспирантуре не случалось. Правда, в их институте недавно сменился директор и вместо интеллигентнейшего Виталия Антоновича Сацкого пришел некий Урчукин В. Г. — чинуша, никогда раньше не работавший в науке, не имеющей о ней представления, не просто дремучий мужик, но тупой и необучаемый ордынец. С какой тмутаракани он вылез, что не знал законодательства и вообще был очень далек от науки, не понимал, что такое аспирантура и диссертация? Он не подписал заявление Любови Борисовны, полагая, что она обратилась к нему с просьбой, исполнение которой зависит только от его личного желания. Поразительный примитивизм и дебилизм! Любови Борисовне с утра по телефону сообщила об этом его секретарша.
— Беги к нему на прием, — посоветовала она.
Хорошо, что Любовь Борисовна жила рядом с институтом. Через пять минут она была в приемной, стояла возле Галины Михайловны и та, выбрав момент, засунула ее в кабинет надутого индюка.
Разговор был коротким, просто новый директор хотел видеть смелую женщину, прорывающуюся к научной степени через толпы мужиков-металлургов, давно одичавших в постоянных командировках. Любовь Борисовна ему объяснила, что к чему, причем с таким видом и таким тоном, что он понял бесполезность своего упрямства и подписал заявление.
Вопрос решился, но чего стоила эта нервотрепка!
В планах Любови Борисовны еще значилась стрижка, а времени до приезда Прасковьи Яковлевны оставалось все меньше — нельзя было заставлять ее ждать во дворе на скамейке. В конце концов, все дела были переделаны, в аэропорт они прибыли вовремя.
Но тут оказалось, что вылет задерживался до 23 часов. И это среди благополучного лета — 29 июня.
— Все, — расстроилась Любовь Борисовна, — придется Клейсу ждать нас в аэропорту Таллина до утра. Бедный Ильмар Романович, хватит ли ему терпения?
— А без него нас не поселят в гостинице? — поинтересовалась Прасковья Яковлевна.
— Скорее всего, нет. Там такие люди...
В 2-15 ночи они прилетели в Таллин, и, к счастью, там их встречал сонный Клейс, научный руководитель диссертационной работы Любови Борисовны. Через пустынную столицу советской Эстонии он привез путешественниц в самый центр и поселил в «Олимпию» — новенькую гостиницу, построенную к летним Олимпийским играм 1980 года. Тогда парусная регата проводились в Олимпийском центре парусного спорта{18} в районе Пирита, на берегу Таллинского залива. И специально для ее гостей — кстати, проживавших там всего лишь неделю, с 22 по 29 июля, — и была выстроена эта гостиница европейского уровня.
В гостинице он, по местным правилам гостеприимства, провел Любовь Борисовну и Прасковью Яковлевну в номер и показал, как крутить непривычные для них краны и включать-выключать другие премудрости техники.
— Вам спаль и отдыхаль, а нам — пошель до свидания, — попрощался он, сообщив в котором часу придет днем для обсуждения семинара, назначенного для заслушивания диссертации Любови Борисовны. — Вы нам готовь, да?
— Да-да, я готова и буду ждать вас. Приходите, — успокоила своего руководителя Любовь Борисовна. — Спасибо за все, Ильмар Романович.
— Ты была права, — заметила Прасковья Яковлевна после его ухода, — эти женщины у стойки регистрации так сопели, что точно без твоего руководителя не поселили бы нас.
— Самое интересное, что эстонцы прекрасно сознают свои дурные качества, поэтому и опекают приглашенных или приезжающих к ним по работе гостей с такой приветливостью, которая нам кажется гипертрофированной.
— Словно она фальшивая... — Прасковье Яковлевне были неприятны такие прибалтийские настроения, от которых приходилось защищаться.
— Она-то настоящая, — возразила ей дочь, — только идет не от сердца, а от ума.
— Ну, хотя бы это кажется довольно обнадеживающим, — сквозь сон произнесла Прасковья Яковлевна. — Авось когда-нибудь они станут людьми.
В номере с открытыми окнами, куда проникали мягкие ароматные ветры с Балтийского моря, они спали крепким здоровым сном и проснулись поздно. Солнце давно поднялось, когда они встали.
— Слушай, — вдруг испуганно зашептала Прасковья Яковлевна, собираясь к выходу в город, — это они и в кафе не захотят нас кормить, а?
— С мужиками они так иногда и поступают, а с женщинами держатся чуть культурнее, — засмеялась Любовь Борисовна, за время учебы в аспирантуре хорошо изучившая эстонские нравы. — Так что накормят, не волнуйся.
Направляясь по коридору в кафе, расположенное двумя этажами ниже, они заприметили знакомого мужчину и, наверное, слишком пристально посмотрели на него. Или, скорее, удивленно. Он это заметил.
— Здравствуйте, — сказал он, поравнявшись с ними. Глядя на Прасковью Яковлевну, спросил: — Откуда вы приехали?
— Из Днепропетровска, — ответила та, ничего не понимая.
— Посмотреть город?
— Дочь тут в аспирантуре учится, — кивнула Прасковья Яковлевна в сторону, не спуская глас с собеседника.
Любовь Борисовна видела, что ее мама никак не может узнать того, с кем разговаривает, но настроена к нему доверительно. Она редко бывала так приветлива с людьми, значит, этот человек того стоил.
— Во как! Тогда желаю вам удачи! — мужчина удался, а они прошли в кафе.
Там их тоже окружили знакомые лица, что в такой дали от дома было до испуга странно, как будто они выпали из реальности и очутились в Славгороде, как будто не было ночного перелета, Ильмара Романовича и вредных теток в гостинице...
— Откуда я их всех знаю? — не выдержав, прошептала Прасковья Яковлевна на ухо дочери, стоя у стойки за едой.
— Из фильмов, — ответила Любовь Борисовна. — В коридоре ты беседовала со Станиславом Любшиным. А это...
— Со «Щит и меч»?
— Именно.
— А почему он первый заговорил со мной?
— Наверное, ты увлеченно рассматривала его.
— Ну да, я оторопела и старалась узнать его.
— Он это понял, не сомневайся.
К их столику, из вежливости буркнув: «Можно?» — и не дожидаясь ответа, подошла высокая грациозная женщина. В одной руке она держала тарелку с салатом, а в другой книгу. Она была одета в белоснежный комбинезон с капюшоном, глаза прятала за темными очками с огромными стеклами. Тем не менее ее легко было узнать.
— Гуттиэре? — одними губами прошептала Прасковья Яковлевна, когда их соседка, поставив тарелку, отошла к стойке за напитком.
Любовь Борисовна утвердительно кивнула.
В такой обстановке беседовать было невозможно. Обменявшись понимающими взглядами, Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна завтракали молча, хотя их чувства кипели и им очень хотелось говорить об этом, обсуждать многие открытия и неожиданности. Наговориться можно было только вне этих стен, но тогда они не видели бы тех, кто вызвал их приятное оживление и кто своим присутствием дарил радость и какую-то необъяснимую уверенность, что все везде будет хорошо. По этой причине им не хотелось уходить отсюда, где создалась такая легкая и светлая обстановка, совершенно раздвинувшая границы эстонской неприветливости и вернувшая им благожелательный человеческий мир.
Наконец Анастасия Александровна позавтракала и ушла. Перед изумленными Прасковьей Яковлевной и Любовью Борисовной, не дав им перекинуться хотя бы парой фраз, снова возник Станислав Андреевич, просто проходивший мимо. Он наклонился к ним и сказал:
— Зря вы постеснялись взять у нее автограф. Она милая женщина и не отказала бы вам.
— Мы как-то не придумали... — растерялась Любовь Борисовна. — И у вас тоже не взяли.
— Со мной вопрос решается легко, — рассмеявшись, сказал Станислав Андреевич своим проникновенным голосом, от звуков которого мир становился чище и прекраснее. — В вестибюле продаются открытки с моим фото. Мне до вечернего спектакля делать нечего, и я буду крутиться там, раздавать автографы, говорить с людьми и попивать сухое вино. Приходите и вы, я с радостью подпишу вам открытку.
— Вы тут на гастролях?
— Да, — сказал великий артист. — Я в Таллине первый раз и буквально схожу с ума от белых ночей. Спать совсем не могу!
— Значит, встретимся в вестибюле, — попрощалась с ним Любовь Борисовна.
Наконец они с мамой вышли в коридор и остались вдвоем.
— Ты скажи, что мы ели? — спросила Прасковья Яковлевна. — Я понять не могла. Как и эти артисты, желтые кубики казалась мне чем-то знакомым, но неузнаваемым. Как в сказке. Так что это было?
— Ты о приправе к пюре говоришь?
— Ну да.
— Это салат из тушенной тыквы.
— Вот это дела-а, — изумилась Прасковья Яковлевна. — Гарбуз?! Стоило лететь через всю Европу... Да мы пареным гарбузом свиней кормим!
— Ты только никому не говори об этом, потому что здесь тыква считается изысканным деликатесом.
— Ладно, — согласилась Прасковья Яковлевна. — А еще ты хотя бы скажи мне, кто были эти артисты, а то у меня голова кружится и память покоя не дает. Перед глазами мелькают и мелькают их лица!
— А что толку, что я тебе их назову, не указывая на них пальцем? Ты даже не поймешь, о ком я говорю.
— Да... такое возможно.
Они договорились, что сейчас пойдут в каубамайя{19}, купят подарки себе и всем родственникам, а потом вернутся в номер, уложатся и пойдут гулять в вестибюль, где наверняка увидят всех актеров.
— Вот тогда я тебе всех их назову, — предложила Любовь Борисовна.
— Договорились, — согласилась ее мама.
Они спустились вниз на скоростном лифте, ощущая, как опасно твердь ускользает из-под их ног, а сердце стремится выскочить вверх, вышли в вестибюль, затем на улицу и оглянулись по сторонам, чтобы понять, где находятся.
Универмаг располагался в двух кварталах от «Олимпии», около оперного театра «Эстония», и они прошли туда пешком, по дороге рассматривая старую часть и достопримечательности Таллина. На ближайшей рекламной растяжке увидели новость — в Таллине впервые гастролирует МХАТ. Вот оно что! Вот откуда столько оживленных кумиров!
В каубамайя сразу направились в отдел тканей. Купоны{20} всегда у них ценились, считались лучшим подарком. В то время в Днепропетровске почему-то исчезла хлопчатобумажная материя, а здесь от нее глаза разбегались. Правда, ситцев не было, зато можно было выбрать любую марлевку — легкую ткань из льна. По рыхлости и прозрачности она схожа была с марлей, откуда и пошло название. Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна увидели эту ткань впервые и им понравились ее пестрые многообразные рисунки. Они решили, что больше ничего искать не надо — каждую родственницу отрез на платье непременно порадует.
Стоя у прилавка отпуска тканей, они вместе с продавщицей, подошедшей к ним для обслуживания, посчитали, что им надо купить семь отрезов, и выбрали их расцветки. Продавщица отмерила и отрезала заказанный метраж от рулонов, сложила отрезы в стопку и посчитала общую стоимость покупки. Прасковья Яковлевна осталась у стойки рассматривать другие ткани, а Любовь Борисовна отошла к кассе и скоро вернулась с чеком. Стопка купленных ею отрезов уже была упакована в бумагу. Поблагодарив продавщицу, Любовь Борисовна в последний раз скользнула по ней взглядом, отмечая прозрачную розовую блузку с брошью из черного чешского стекла. Этот наряд показался ей нелепым, но думать над этим она не стала.
В гостинице они первым делом развернули пакет и начали обсуждать, кому из родственниц какой отрез подарят, и тут обнаружили, что у них на руках оказалось только шесть отрезов. Одного не хватало. Как же так, ведь при них же продавщица отмерила семь отрезов?!
— Я сейчас! — Любовь Борисовна решительно схватила отрезы, упаковку, копию чека и побежала назад в каубамайя.
Прасковья Яковлевна от горя заломила руки — она терпеть не могла скандалы и готова была отказаться от одного отреза, только бы их избежать. Но так нельзя было поступать, от таких поступков мир портится! Понимая это, она понимала и то, что в ней сказывался возраст, что нервы ее не выдерживали больше боев за справедливость. Она рада была остаться в номере и не быть свидетельницей тягостной сцены, которая обязательно разыграется в универмаге, когда Любовь Борисовна появится там с претензией.
Любовь Борисовна вернулась в номер через полчаса — глаза ее сияли, и она потрясала над головой седьмым купоном.
— Странное приключение! — рассказывала она. — Представь себе, шельма-продавщица исчезла, и никто не мог сказать, куда она вышла. А без нее разговор не клеился. Нас-то именно она обслуживала! Очень трудно было убедить остальных, что я получила на руки шесть купонов, а не семь. Ну почему я не проверила ту упаковку, что она мне сунула? Теперь я не уверенна, что там и метраж правильный.
— Да, мы брали разные отрезы...
— В том-то и дело...
— Господи, но как тебе удалось? — спросила Прасковья Яковлевна.
— В некотором смысле я тут чувствую себя как дома, — оживленно говорила Любовь Борисовна, — и была уверенна, что отрез мне отдадут. Этот настрой много значил! Помогла, конечно, копия чека, указанная в ней сумма и то, что от момента покупки прошло всего четверть часа. По сути, мы только что отошли от прилавка и даже могли не выйти из зала.
— Как хорошо, что мы сразу кинулись рассматривать покупки, а не пошли под душ...
— Это судьба! Так вот — они упирались. Пришлось говорить им, что я учусь тут в аспирантуре и имею дело с порядочными людьми. Я называла фамилию Йоханнеса Хинта, которого весь мир знает, обещала с его помощью поднять на ноги всю культурную Эстонию, устроить крупный скандал, если со мной поступят нечестно. Правда, отрез найти им не удалось. Наверняка, продавщица с ним исчезла! Пришлось отмерять новый... Я, конечно, не помню, какого именно по расцветке не хватало, поэтому указала на первый попавшийся. Но хоть такой отбила, и то хорошо!
— Слава Богу, есть правда на земле, — прошептала Прасковья Яковлевна.
— Дороговато она нам обходится...
— Честно говоря, у нас бы такого никогда не случилось, — подводя итог, сказала Прасковья Яковлевна.
— Да нам просто какая-то хуторская неумывака попалась... Ты помнишь ее дурацкий наряд?
— Помню, — блузка с тяжелой брошью...
— Да, — кивнула Любовь Борисовна. — Эта хуторянка распознала в нас чужаков и подумала, что мы проездом, что распакуем покупку не сразу, возможно в поезде...
Не скоро они успокоилась, раздосадованные тем, что им попытались испортить так хорошо начинающуюся поездку. Потом сделали над собой усилие, вымылись в душе и пошли на обед. В кафе было тихо и пусто, видно, артисты пообедали раньше и отдыхали перед вечерним спектаклем.
После обеда Любовь Борисовна и Прасковья Яковлевна сидели на балконе 24-го этажа и, лакомясь разными вкусностями, любовались видом Таллина. Они ждали Ильмара Романовича.
Клейс пообещал приехать в 15-00, цель визита — посмотреть доклад, с которым завтра должна была выступать на семинаре Любовь Борисовна, его аспирантка, и обсудить с нею вопросы по подготовке к защите диссертации. На это у него был запланирован ровно час. Так что Любовь Борисовна должна была сосредоточиться и ничего не упустить.
Обсуждать практически было нечего. По предварительной договоренности, защита должна была состояться в МАИ, о чем будет хлопотать Роман Григорьевич Перельман. Для него это, можно сказать, честь — еще в 1980 году он на своем семинаре познакомил Любовь Борисовну с Борисом Викторовичем Раушенбахом,{21} и тот готов был поддержать ее защиту. Тем более что его об этом просил Рис Владимир Федорович, на тот момент зам. главного инженера ПО «Невский завод» им. В. И. Ленина (НЗЛ), его старинный друг, рекомендациям которого Борис Викторович доверял.
Все это Любовь Борисовна изложила Ильмару Романовичу, так что от него требовалось подготовить документы, требующиеся от научного руководителя, и обеспечить отзывы коллег. И вообще держать в руках ситуацию. Ну и присутствовать на защите, когда вырисуется ее срок. После этого Клейс ушел воодушевленный — не так много у него было аспирантов с такой железобетонной подготовкой, — думал он по дороге домой. А эта девушка идет хорошо, молодец! Он гордился Любовью Борисовной.
А тем временем она и ее мама спешно оделись и пошли на прогулку по прохладным улицам старого города, где пахло кофе и хорошими парфюмами. Незаходящее солнце освещало землю странным сероватым светом, почти ощущающимся тактильно; непривычная архитектура, словно вынырнувшая из Средневековья, несущая дух истории, окружала их со всех сторон — и от всего этого им казалось, что они попали в сказку то ли Андерсена, то ли братьев Гримм.
Рассчитав время, когда артисты начнут возвращаться с вечернего спектакля, они вернулись в гостиницу и присели в вестибюле. И точно, первым они увидели легендарного офицера Абвера Шлоссера из фильма «Вариант Омега». Актер был одет в отутюженный белый костюм и казался картинкой, сошедшей с модного журнала, ожившей прекрасной игрушкой. Неулыбчиво сосредоточенный, не смотрящий по сторонам, он стремительно прошмыгнул к лифтам.
— Смотри, — показала на него Прасковья Яковлевна, — с первого взгляда видно, что этот... барон Шлоссер...
— Ага, Игорь Алексеевич Васильев, — подсказала Любовь Борисовна.
— ...этот актер, — продолжила Прасковья Яковлевна, — очень порядочный и умный человек. Весь его вид об этом говорит, да?
— Мне нравится, что он не выставляет напоказ свою личную жизнь, — Любовь Борисовна сделала жест рукой, говорящий о силе воли того, кого она характеризовала: — Закрытый человек, серьезный. Да он и на артиста не похож — природа наделила его аристократизмом, проницательным взглядом, благородной осанкой и интеллигентностью.
— К сожалению, нынешние поколения изменили типичный образ артиста, — Разочарованно сказала Прасковья Яковлевна. — В наше время великие артисты все такими были — солидными, интеллигентными. Возьми Николая Константиновича Черкасова, его Александра Невского, Дона Кихота.
— Ты его помнишь? — удивилась Любовь Борисовна.
— Еще бы! Он пять раз получал Сталинскую премию! Я даже помню, за что он их получал. И вообще всех великих людей искусства помню. Не думай, что мы были забитыми крестьянами. Это теперь нас жизнь такими сделала. Заботы не красят человека.
— Мы в Ленинграде обязательно побываем на его могиле!
В короткое время мимо них вальяжно прошествовали Евгений Евстигнеев с Иннокентием Смоктуновским, не нуждающиеся в представлении.
— Этого знаю, — увидев их обрадовалась Прасковья Яковлевна, — это «Берегись автомобиля». Он же? А второй кто? Того не знаю.
— Это также и «Гамлет» и «Чайковский»... Великий актер. А по сути, говорят, совсем простой. Даже примитивный. Ничем не интересуется. Кривляка с элементами нарциссизма. А второй — это... Петр Ручников из «Место встречи изменить нельзя». Помнишь?
Прасковья Яковлевна неуверенно пожала плечами, всматриваясь в спины удалявшихся актеров.
— Ну, профессор Вернер Плейшнер из «Семнадцать мгновений весны»...
— Этот?! Это он?
— Ну да.
— Но там он такой простой и нелепый. А тут — прямо не подступись.
Казалось, Евстигнеев и Смоктуновский никого не хотели замечать и вообще устали от внимания. Барственные субъекты. У лифта их догнал знаменитый Шурик, выскочивший откуда-то сбоку, — Александр Демьяненко. Он шел хоть и быстрой походкой, но с не менее барским видом, чем двое старших корифеев МХАТа. Как же не уподобиться таким людям, регулярно имея дело с ними?!
Затем в окружении нескольких ребятишек показался Александр Калягин, одетый в хлопчатобумажный спортивный костюм, выгоревший и с обвисшими коленями. Где он только его откопал?
— Это кто? — спросила Прасковья Яковлевна.
— Ой, да это Бабс Баберлей из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя». Я его не понимаю...
— Не смотрела...
— Мне он нравится в роли Михаила Васильевича Платонова из фильма «Неоконченная пьеса для механического пианино».
— А, что-то помнится. То, как его жена в воде обнимала, успокаивала...
— Да-да, есть там такой эпизод.
— Там он мне понравился, с женой...
— Самое интересное, что та артистка и по жизни — его жена, — засмеялась Любовь Борисовна.
Но вот с женой и ребенком зашел в вестибюль Евгений Киндинов, и Любовь Борисовна удивленно уставилась на него — в фильмах он казался ей высоким, стройным. А тут... стоял обыкновенный человек среднего роста, даже, кажется, с кривоватыми ногами...
— О! Это «Приключения принца Флоризеля» зашло! Да? — простодушно воскликнула Прасковья Яковлевна.
— Да, это знаменитый Саймон Роллз. Евгений Киндинов.
— Я его узнала! — глаза Прасковьи Яковлевны светились чистым счастьем нечаянно обретенной сопричастности.
Как рада она была прикоснуться к большому миру этих людей и к тому миру, который они изображали на экране! Теперь она чувствовала себя гораздо более значительным человеком, чем раньше. Как же она не понимала — ведь именно с нее и с других таких же незаметных людей эти актеры берут образы и потом показывают в кино. Эти люди... они, как ароматы полевых цветов, — думала она, покачивая ногой, — а мы все — цветущий луг. Мы для них вырабатываем нектар — материал для работы...
Ее размышления прервал Станислав Любшин. Он появился в вестибюле в окружении трех молодых актеров — такие группы поддержки вьются возле каждого маститого артиста. Это она уже заметила. Ах какой красивый мужчина, этот Любшин, — теперь-то она разглядела его! Но что же в кино он смотрится проще? И даже красавцем таким не кажется. А тут — посмотрите! — что рост, что походка, что длинные седые волосы. И синие глаза... А голос — вообще волшебный.
Станислав Андреевич был хорошо под шафе. Глаза его лучились лицо выражало спокойное достоинство. Окинув взглядом вестибюль и заметив всех, кто его интересовал, он подошел к киоску, что-то купил, постоял у стойки и, развернувшись, направился прямо к ним.
— Как ваше имя? — приблизившись, обратился к Прасковье Яковлевне, которая тихо назвала себя. — А ваше? — спросил у Любови Борисовны.
После этого дописал имена в открытки и вручил им.
— Постарайтесь запомнить нашу встречу! — сказал значительным тоном, глядя на Прасковью Яковлевну.
— А... почему? — вырвалось у той. — Почему надо запомнить?
Любовь Борисовна толкнула ее локтем, но было уже поздно.
— Потому что в мире очень-очень много людей, — с какой-то мистической грустью сказал Станислав Андреевич, — даже в нашей стране очень много. Так ведь?
— Да, — согласилась Прасковья Яковлевна.
— А встретил вас только я, а не другие и не все остальные. Это же редкостное счастье для меня! Не находите?
— Шутите!? — Прасковья Яковлевна засмущалась. — Вот вы — другое дело! Вы — известный человек! Это нам с дочкой повезло видеть вас и слышать вас.
— Вы правы, меня встретить — тоже счастье, — с улыбкой согласился Любшин. — И все же не такое редкое, как выпало мне. Смотрите, вы ведь живете в селе и редко куда выезжаете... Правильно?
— Правильно. Куда нам...
— А я постоянно езжу. Так кого легче встретить: меня или вас?
— Ой, как вы все повернули! Но что вам встреча со мной... А я вас запомню!
— Спасибо вам, — Станислав Андреевич на прощанье с улыбкой, говорящей о полном взаимопонимании, кивнул Любови Борисовне и ушел в ресторан.
Словно выполнив главную работу, Прасковья Яковлевна поднялась идти в номер. Любовь Борисовна молча сопровождала ее, ей тоже надо было отдохнуть перед завтрашним докладом. Впрочем, она дважды докладывала свою работу в МАИ, где во второй раз присутствовал Раушенбах Б. В., и на республиканских семинарах, так что волнения совсем не испытывала.
Только они подошли к лифту, как к ним подскочил Валерий Леонтьев — маленький, шустрый, оживленный — с огромным букетом цветов, в половину его роста.
— Меня с собой не прихватите?
— Обязательно прихватим, — с бьющимся сердцем сказала Любовь Борисовна. — Мы тут как раз вас поджидали, — пошутила она.
— «Все ждала и верила сердцу вопреки...» — запел Леонтьев. — Вам куда?
— На 24-й.
— Тогда вас везу я, — Леонтьев вдруг весело засмеялся, — мне выше!
Уходя из лифта, Любовь Борисовна и Прасковья Яковлевна, тоже узнавшая певца, дружно пожелали ему успехов.
Доклад на семинаре прошел успешно. Теперь можно было о нем забыть и сосредоточиться на отдыхе.
— Пошли гулять, город посмотрим, — вернувшись из института, сказала Любовь Борисовна. — Я со своими делами справилась!
Не успели они пройти несколько сот метров, как их обогнали две машины с флажками над фарами и остановились впереди. Из одной из них вышел Карл Генрихович Вайно — первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Эстонии. А из другой, как ни в чем не бывало, вышел Министр обороны СССР Дмитрий Федорович Устинов. Любовь Борисовна и Прасковья Яковлевна остолбенели! И невольно остановились, наблюдая за происходящим. Перед ними стоял, гася улыбку от их растерянного вида, Маршал Советского Союза, дважды Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, великий человек, награжденный одиннадцатью орденами Ленина — высшей награды СССР! Это его усилиями была вывезена за Урал военная промышленность СССР, поднята там и развернута к работе. Он ворочал планетарными делами! И вдруг сейчас он тут появился без охраны, словно какой-нибудь славгородец приехал в Славгород навестить земляков. Вместе два руководителя направились в здание Министерства иностранных дел Эстонии.
Проводив их взглядами, Любовь Борисовна и Прасковья Яковлевна, пошли дальше.
— Ничего себе, какие люди тут разгуливают так запросто... — сказала Прасковья Яковлевна. — Да во время войны — это не дай бог... За его голову не знаю, что отдали бы... А он ходит без охраны... Расскажу Борису Павловичу — он не поверит.
— Я подтвержу твой рассказ!
Наверное, только из-за сильного потрясения, вызванного беспокойством за безопасность Устинова, они пошли не куда-нибудь, а в тюрьму магистрата, то есть зашли куда глаза глядели. Правда, никаких других следов от этого осмотра со временем у них в памяти не осталось, кроме записи об экскурсии в дневнике Любови Борисовны. Так что и добавить тут нечего, кроме недоумения от такого выбора.
Зато в 17-00 к ним опять приехал Ильмар Романович и повез на экскурсию в морской порт, где они видели знаменитый паром «Георг Отс». Это была невообразимая четырехпалубная громадина! Клейс назвал им параметры парома: длина 134 метра, ширина 21 метр, мощность 5440 л. с., водоизмещение 10 000 тонн, максимальная скорость хода 18,9 узла. Экипаж состоял из 200 человек, они обслуживали 600 пассажиров, располагающихся в 101-й каюте. Для вип-пассажиров на пароме имелись апартаменты и каюты класса полулюкс. Дополнительно паром мог взять на борт 150 автомобилей.
Об этом пароме можно было бы и не вспоминать, если бы в его более поздней истории не случилось одного исторического факта — именно на нем в 1986 году предатель-Горбачев отправился в Рейкьявик на встречу с Рейганом.
Конечная судьба парома печальна, о чем можно прочитать в интернете, но это к нам не относится.
Весь следующий день Любовь Борисовна и Прасковья Яковлевна отдыхали: спали, ели, гуляли, а также, войдя в роль настоящих театралов, на открытки с видами Таллина собирали у мхатовцев и других артистов, что им попадались, автографы. А взамен вручали тем по скромной чайной розе из таллинских садов, с которыми тут сидели старушки. Розы представляли собой символ любви и извинения за беспокойство. К Вертинской, Демьяненко, Евстигнееву и Смоктуновскому подходить не стали — те слишком явно показывали своим видом, что в любви публики не нуждаются.
— Ой, доця, вся эта беготня только тут представляет интерес и значение, — с грустью сказала Прасковья Яковлевна. — Как забава. А вот приеду я домой и даже не смогу кому-то рассказать про собирание автографов, потому что меня не поймут. Подумают, что я заболела. Все-таки жизнь в селе очень приземлена...
— А ты расскажи так, чтобы они поняли, как приятно и даже полезно для здоровья побывать рядом с людьми, распространяющими вокруг себя славу, восторг и успех. И не только это, они ведь несут на себе аромат времени и какую-то невидимую материю вечных истин. Та материя проникает в плоть человека своими молекулами, после чего мир становится ему более понятным. А душа чувствует себя частью единого космоса. Это сродни тому, что поклониться Богу в намоленном месте. После разговора с такими людьми возникает особенное состояние ума и души, многое в мозгах проясняется и никакие беды больше человеку не страшны.
— Как же так можно рассказать? — удивилась Прасковья Яковлевна.
— В народе по этому поводу говорят: «Не соврешь — не расскажешь».
— На что ты меня толкаешь? Врать нехорошо! У нас высмеивают лгунов, как Петра Доду, например.
— Дядя Петя свои истории выдумывает, а тебе надо истинные факты изложить, только доходчиво. Просто усугуби немного. Скажи, например, что Любшин нашел тебя похожей на его мать или бабушку и поэтому он...
— Наверное, где-то так оно и было, — перебила Прасковья Яковлевна дочь. — Я уже думала об этом. Иначе чем объяснить его внимание?..
— Вот! И дальше будешь излагать в том же духе.
— Получится какая-то мешанина правды и того, что я сама о ней думаю...
— Получится правдоподобный рассказ, — засмеялась Любовь Борисовна. — Ты же о себе-то и будешь рассказывать! Правда, она штука относительная. Понимаешь? Она привязана к обстоятельствам, к состоянию рассказчика, к уровню и настроениям слушателя... Ее надо так донести, чтобы слушатели кожей ощутили!
— Странно...
Это был последний день их пребывания в Таллине, где они практически ничего не успели посмотреть. Успели только схватить его основные черты — неприветливость и грубоватость сухопарых эстонок, особый запах воздуха, необычные очертания зданий, эти волшебные белые ночи, очарование покрученных узких улочек... Было невозможно за такой короткий срок, да еще с такими важными задачами, с какими они прибыли сюда, проникнуть в древность, содержащуюся в Таллине. Но чувствовалось — прикосновения, чтобы помнить его и потом всегда тосковать по нему, им хватит!
Прогулку этого дня они начали с Вышгорода, части Старого Города, расположенной на возвышенности. В средневековье Вышгород делился на Большое городище, Малое городище и прилегающие территории — и все это было обнесено крепостными стенами. Теперь все стало проще.
В Вышгороде они посмотрели один из старейших храмов Таллина — Домский собор, который оказался совсем маленьким. Они туда пошли не из приверженности католичеству, а исключительно ради Ивана Федоровича Крузенштерна, который там похоронен. Это русский мореплаватель, руководитель первой русской кругосветной экспедиции в начале XIX века.
А также в Вышгороде посетили построенный в 1900 году православный собор Александра Невского. Александр Невский был их культурным и историческим идеалом. Как же они могли бы ему не поклониться?!
— Как подумаю, что мужество этого двадцатилетнего мальчишки определило нашу сегодняшнюю жизнь, так страшно становится, — тихо говорила Прасковья Яковлевна, рассматривая иконы с его изображением. — А что если бы у него Невская битва или Ледовое побоище не получились?
— Тогда не было бы России. И нас не было бы...
— И значит, он — наш Создатель и славянский Бог. Так же?
— Про создателя это смелая мысль, но, возможно, по глубинной сути и правильная. А касаемо Бога, то он и есть русский Христос, тем более что обстоятельства его последней болезни очень туманны и двусмысленны.
— А еще я от кого-то слышала, что Иисус тоже был воином... участвовал в битвах, — потирая лоб, сказала Прасковья Яковлевна. — Как и наш Александр Ярославович. Не знаю, так ли...
— Так, — подтвердила Любовь Борисовна. — Есть версия, что Иисус был зелотом, даже предводителем зелотов, которые затеяли Иудейскую войну и воевали против римского порабощения.
Так рассуждая, они спустились в Старый город, прошли на Ратушную площадь — маленькую, целиком умещающуюся в поле зрения человека. Здесь со всех сторон обошли ратушу — наиболее сохранившееся здание из ратуш Средневековья в Северной Европе. Трогая ладонями ее шестисотлетние стены, путешественницы вполне сознавали, что до них этим стенам отдавали свое тепло многие поколения предшественников. И Прасковье Яковлевне с Любовью Борисовной очень хотелось дотянуться до тех древних людей, пожать им руки — хотя бы через эти камни. Так они, словно святым вином, причащались непобедимым временем для жизни долгой и счастливой. Они словно впитывали в себя корпускулы времени, как противоядие старению — так люди впитывают малые порции яда, чтобы не отравиться им в другой ситуации.
— Зачем здесь башня, не знаешь? Как в минарете... — спросила Прасковья Яковлевна.
— Это колокольня, — пояснила Любовь Борисовна, — ее высота 34 метра. Когда-то городские стражники смотрели с ее площадки не приближаются ли к городу вражеские войска и не разгорается ли где пожар.
— Для скученных европейских городов пожары были настоящим бедствием. Про это я читала даже у Дрюона.
— Ну вот. И если городу грозила опасность, стражники били в набатный колокол. Он там до сих пор висит! Знаю, что он страшно древний, и нижний край его украшает надпись со словами: «Да хранит каждый свой огонь и пламя, чтобы защитить город от беды».
Постепенно идя по периметру площади, они дошли до Ратушной аптеки. На ней висела табличка с надписью: «Самая старая (с 1442 г.) работающая аптека в Европе». И это производило впечатление! Причем надпись не лгала — аптека действительно работала, в ней продавали современные лекарства и прочие традиционные аптечные товары.
Внутри витал дух оккультизма, дух мистического целительства. Со стен на посетителей смотрели портреты Парацельса и Соломона Трисмозина, а на полках музейного уголка были выставлены лечебные средства: сушеные лягушки, ежи со снятыми иголками, загадочные зелья и прочие жуткие снадобья.
— Ой, пойдем отсюда, — потянулась к выходу Прасковья Яковлевна. — Не могу смотреть на этот мрак.
— Хорошо, что мы теперь живем, а не тогда, да?
Наконец они завершили свои экскурсии, пообедали в ресторане «Норд» и пошли смотреть фильм «Вокзал для двоих».
На следующий день они покинули Таллин, чтобы навсегда сохранить его в памяти и никогда больше сюда не вернуться, увы...
О, белый город
О, Ленинград!
Ступив на твердь, путешественницы с благодарностью оглянулись на самолет, которым прилетели, и вдохнули светлый воздух северной столицы. Тут они были дома и спешить им было некуда. С одной знакомой они предварительно договорились, что на время приезда арендуют у нее комнату, и теперь за пристанище не волновались. Разве что сегодня был понедельник, будний день, и та с утра ушла на работу — вот в чем проблема. Раньше, чем она вернется домой, идти туда не стоило.
Они проехали в исторический центр города, пристроили поклажу в одну из камер хранения и пошли гулять. Начали с осмотра универмага «Гостиный двор», который занимал площадь в целый квартал — между Невским проспектом (дом № 35), Садовой улицей, улицей Ломоносова и Перинной линией. Несмотря на то что универмаг был размещен в здании, являющемся памятником истории и архитектуры XVIII века, Любови Борисовне он никогда не нравился, потому что товара там было много, а покупать его не хотелось. То же впечатление осталось и у Прасковьи Яковлевны, поэтому они с легким сердцем вышли на Невский проспект, прогулочным шагом направились в сторону Невы.
Дошли до Мойки. Вышли на мост, который почему-то назывался Народным{22}.
— Странные реки в Ленинграде, — выдохнула Любовь Борисовна. — Нигде таких нет. Представь, и Мойка и Фонтанка вытекают из Невы и впадают в нее.
— Так тогда это протоки, а не реки, — заметила Прасковья Яковлевна.
В свое время у нее в культмаге продавались глобусы. Маленькие экземпляры людьми разбирались быстро, а один большой застрял и много лет стоял как деталь интерьера. Прасковья Яковлевна ухаживала за ним, смахивала пыль. А потом, видя такое дело, приспособила для себя: поставила у окна и в свободное время изучала по нему географию земного шара. Нравилось ей рассматривать условные обозначения, читать названия столиц, считать количество горных массивов, прослеживать извивы рек... В ее воображении все эти места превращались в реальность, и она как будто путешествовала по материкам и странам. А заодно наблюдала за тем, что происходило за окном, на центральной улице Славгорода.
Как живо ей припомнилось это посреди Ленинграда! И какой болью зашлось сердце, что прошли те золотые деньки. Она даже остановилась: откуда такая боль? Ведь в магазине зимами она мерзла, и ей приходилось самой топить печь, засыпать уголь, выбирать золу, глотая пыль... Но эти маленькие беды отсюда, с Народного моста, казались пустяками. Наверное, и тогда она не мучилась ими, потому что плакала, когда неожиданно пришлось распрощаться со своим детищем ради правнука... И как было не плакать? Магазин, который она взлелеяла от самой его постройки, знала в нем каждый гвоздь, каждую трещинку, был частью ее жизни, частью ее самой. И вот неожиданно она должна была оторвать его от себя и навсегда отдать в чужие руки...
О, жертвы невосполнимые! О раны неутолимые...
И никто не пожалел ее тогда, в 60 лет нагружая искусственно вскармливаемым младенцем... Никто не подумал, каково ей будет с ним... Никто не спросил, высыпается ли она, наедается ли... А ребенок был беспокойный, очень плохо спал... Сон его длился не дольше получаса, и она никак не успевала отдохнуть за это время. Она запредельно уставала и постоянно плакала... Каждый день тех лет оплакан ею сполна...
Слезы молодых и слезы стариков имеют разную цену, потому что первые все же замешаны на надежде, а вторые наполнены горечью и немым криком беспомощности.
Господи, как не любила она возню с детьми, это однообразие нескончаемого труда, жизни не для себя, дней без радостной минутки! За что же ей послано поднимать и поднимать поколение за поколением — от детей до правнуков? Что она сделала такого непростительного?
Но сегодня она тут, где ширь и свобода! Она уже и не надеялась, что когда-нибудь, хоть на недолго, вырвется из адского плена пеленок и поносов...
— Ну да, а части города между ними называются островами. Сейчас, например, мы переходим с Казанского острова на 2-й Адмиралтейский, — перебила воспоминания своей мамы Любовь Борисовна.
— Хочу постоять тут...
— С какой стороны ни рассматривай, а Народный мост имеет свою прелесть, — Любовь Борисовна, поддерживая маму под локоть, продолжала выполнять роль экскурсовода. — Но почему-то он не входит даже в двадцатку самых красивых мостов Ленинграда... Смотри, какая тут красивая ограда.
— Название странное. Почему вдруг Народный? — глуховато спросила Прасковья Яковлевна, поглаживая ажурный парапет, на который опиралась, глядя на воду. Она еще оставалась в плену своих воспоминаний, как будто переносила их сюда или, скорее, как будто стремилась с их помощью сама вплестись в ленинградские просторы и без остатка стать их частью.
— Кажется, раньше его называли Зеленым мостом, по цвету окраски, — между тем говорила Любовь Борисовна. — А после революции переименовали. Ты не устала?
— Я-то нет. А ты?
На Дворцовую площадь они прошли через арку Главного штаба, задерживая каждый шаг — так им тут все нравилось.
— Я такой красоты даже представить не могла, — с придыханием говорила Прасковья Яковлевна. — Когда видишь такую архитектуру на фото, то не воспринимаешь ее как реальность, и она не производит такого... такого восторга. Как прекрасно, что у нас все это есть!
— Эту арку еще называют Триумфальной из-за Триумфальной колесницы, на которой богиня Слава возвышает штандарт и лавровый венок.
От открывшегося за аркой вида у Прасковьи Яковлевны и вовсе перехватило дыхание. Площадь явно была очень большой, но казалась уютной и компактной из-за того, что была обрамлена памятниками, снискавшими мировую известность, — Зимним дворцом, Триумфальной аркой, Зданием штаба Гвардейского корпуса и Зданием Главного штаба. Именно здесь стоял монумент, выше которого вознесся памятник нерукотворный, воздвигнутый А. С. Пушкиным самому себе, — Александрийский столп, приуроченный к победе Александра І над Наполеоном Бонапартом. Медленно-медленно Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна подошли к нему, благоговейно обошли вокруг...
— История, — шепотом сказала Прасковья Яковлевна. — Тут я ее чувствую наощупь. Честно. Теперь я понимаю, что такое патриотизм. Все это, — она раскинула руки, — защищать надо!
— А до этого не понимала?
— Понимала, только умом. А теперь понимаю сердцем. Знаешь, если бы у меня было сто жизней, то 99 из них я бы положила за Родину.
— Почему именно 99?
— А последнюю оставила бы для семьи, чтобы жить с вами.
Любовь Борисовна, видя опасную растроганность своей мамы, постаралась перевести ее на другую волну, архитектурную.
— Столбик этот, между прочим, не закреплен и удерживается лишь собственным весом, — предупредила она.
— Тогда поспешим в Эрмитаж. А там можно перекусить? Тебя кормить пора уже...
— И тебя!
Кафе в Эрмитаже располагалось почти у входа, стоило за порогом повернуть направо и спуститься этажом ниже. Есть хотели не только Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна, проголодавшихся оказалось много, и у раздаточной стойки стояла очередь. Да и с местами за столиками наблюдался дефицит. Тем не менее им удалось купить отличные горячие биточки со свежим пюре и тушеными овощами и сок манго, жутко дорогой.
Увидев освобождающиеся места, они подошли к столику. Там оставался сидеть один мужчина лет до тридцати. Он протянул руку, указывая на свободные стулья:
— Прошу, земляки! — произнес энергично с веселыми нотками.
Правда, они и без приглашения там приземлились бы, а так пришлось благодарить его, не обращая, однако, внимания на то, что он назвал их земляками. Хотя это заинтриговало их, но... они решили не попадаться на кавалерские крючки.
Порции оказались большими. Съев по половине, Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна почувствовали первый прилив насыщения. Им захотелось просто посидеть и отдохнуть. Едва они отложили вилки, как глазастый сосед заметил это.
— Ешьте, ешьте, будьте как дома! — пошутил он, — вы же находитесь не где-нибудь, а в царском дворце. Не стесняйтесь. Доедайте, день еще длинный предстоит.
Почему-то это показалось им очень смешным, и они расхохотались. Затем принялись подбирать остатки еды, понимая, что молодой мужчина прав.
— Откуда вы приехали, такой весельчак? — спросила Любовь Борисовна.
— Со Львова, — мужчина закончил трапезу и начал раскланиваться: — Я-то уже ухожу, — сообщил он, — а вы, вижу, только что пришли. Так что желаю вам успешного просмотра экспозиции.
Он убежал, а следом за ним собрались покинуть кафе и Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна. Отметив, что сок манго оказался слишком сладким и им после него обязательно захочется пить, Любовь Борисовна вернулась к стойке и взяла бутылку воды.
В залах Эрмитажа ни к какой экскурсии они присоединяться не стали, решили просто побродить по ним без всякой системы. Описывать впечатления, которые у них рождались, не стоит, ибо безуспешная это затея. Эрмитаж и его шедевры на несколько порядков выше простых человеческих слов. Сколько гениев ни пытались живописать его, они не достигли совершенства, и именно по причине несоотносимости одного другому, по причине разномасштабности живого восприятия искусства и его переложения на буквенную вязь.
Через годы и годы помнился Прасковье Яковлевне зал Рембрандта и его картины, еще раньше известные ей по репродукциям. Она иногда говорила о них, запомнив их расположение в зале. Каждая из его картин тогда открылась ей своим смыслом и затронула трагические ноты в душе. Увидев «Возвращение блудного сына», например, она прошептала, повернувшись к Любови Борисовне:
— Вот, пожалуйста — в семье не без урода, — и после паузы добавила: — Но вряд ли урод прозреет. Вот этот, что стоит справа, понимает, что это за канитель начинается. А как быть отцу?
Чуть позже, когда они найдут уголок, в котором сядут отдохнуть, она вдруг скажет дочке:
— Помнишь, как ты учила меня производным?
— Ой, когда это было! — засмеялась Любовь Борисовна. — На первом курсе. Помню, конечно.
— Но ты так доходчиво объясняла! И я тогда подумала, что тоже могла бы хорошо знать математику.
— Значит, у тебя в школе был плохой учитель? Я так подозреваю...
— Не знаю, — сдвинула плечом Прасковья Яковлевна. — Но за тебя я всегда была спокойна. Даже когда ты болела, я знала, что ты меня не огорчишь и выкарабкаешься.
— Спасибо, мама. Я это чувствовала.
Этот пронзительный диалог в зале Эрмитажа многое открыл Любови Борисовне о печалях ее мамочки, про которые она десятилетиями молчала.
А эпизод, о котором она вспомнила, имел место в 1966 году. Тогда приближался июнь, Люба готовилась к летней сессии и в приезды домой закрывалась в своей комнате, чтобы штудировать математический анализ. У нее не складывались отношения с преподавательницей, вредной старой девой, так что знать этот предмет надо было что называется на зубок.
И вот однажды в комнату зашла Прасковья Яковлевна.
— Да выйди ты хоть немного погуляй, господи, сколько можно сидеть над учебниками! — сказала она.
— Надо учиться, мама.
— Что именно ты учишь? — Прасковья Яковлевна присела за стол, посмотрела на первый том Г. М. Фихтенгольца, внушительный по толщине. Медленно прочитала название: «Курс дифференциального и интегрального исчисления». Что это за наука? Про что она?
Люба на мгновение задумалась.
— Это раздел высшей математики. А нужен он для описания... движения, — пояснила не очень уверенно, полагая, что мама может не понять сказанного.
— Движения? Математика? — удивилась Прасковья Яковлевна. — Я думала движение изучают в физике. Ну, и как же его описывают?
Люба воодушевилась и начала объяснять, что такое производная и как можно применять производные к решению, допустим, экономических задач, где есть свои виды движения. Она терпеливо писала и объясняла формулы, рисовала графики и что-то показывала на пальцах, пока не увидела огонек понимания в глазах слушательницы.
Прасковья Яковлевна вздохнула.
— Да, такую дисциплину надо настойчиво изучать, — она встала и добавила: — И все же не забывай проветриваться в саду. Там уже полно спелых ягод на шелковице.
Запомнились Прасковье Яковлевне «Поклонение волхвов» и «Флора». Она с интересом рассматривала их, впервые тогда поняв, что в картине надо прочитывать смысл, а не просто смотреть на линии и цвета...
Долго она стояла перед картиной «Даная». Конечно, сам древнегреческий миф был ей хорошо известен, но картину она, кажется, видела впервые, и что-то поразило ее в ней.
— Нравится? — спросила Любовь Борисовна.
— Я представляла Данаю красивой девушкой, как у Тициана, а тут — какая-то старая тетка, толстая распутница с отвисшим пузом, — разочарованно произнесла она. — Ты говорила, что дело не во внешней стороне, тогда в чем тут суть?
— Возможно, во всепобеждающей похоти, — Любовь Борисовна смешалась, ей нечего было сказать. — На самом деле, у нее очень красивое тело, смотри, какое свежее... Просто тогда мужчины любили пышек. И вообще Рембрандт на всех картинах рисовал одно лицо — своей Саскии... Знаешь, — присматриваясь к полотну, сказала Любовь Борисовна, — кажется, она прощается с любовником, оставшись беременной после их встречи. На ее лице видна откровенная чувственная улыбка. Возможно также, это предчувствие материнства...
Если бы Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна знали тогда, когда так заинтересованно и неравнодушно обсуждали этот мировой шедевр, что через два года, а именно 15 июня 1985 г., тут, где они стоят, появится смертельный враг... который совершит акт чудовищного вандализма против человечества, против искусства. Подстрекаемый черными силами, он дважды полоснет картину «Даная» ножом, а затем обольет серной кислотой.
Обе женщины узнают об этом из телевизионных новостей и испытают потрясение. Прасковья Яковлевна почувствует вдруг тот же ужас, который она называла «Убийцы в нашем доме» и который впервые познала в день убийства Евлампии Пантелеевны. Она всю жизнь помнила его, и вот опять он объял ее...
Она переживала случившееся как личное несчастье и радовалась, что сотрудники Эрмитажа не растерялись и бросились спасать шедевр практически мгновенно — тут же начали промывать его водой и уже к вечеру остановили химическую реакцию. И все же центральная часть картины, где в живописном слое кислота прожгла глубокие борозды, заполнившиеся стекавшими сверху картины темными красками, около трети авторского письма было утрачено безвозвратно.
Долгих 12 лет, пока длилась реставрация, Прасковья Яковлевна следила за судьбой картины. Только в 1997 г. шедевр вернулся в «Эрмитаж», на этот раз под бронированным стеклом, но — увы! — времена трагически изменились и поехать на встречу с картиной они с дочкой уже не смогли, что было бы ими незамедлительно сделано, продлись благоприятное время СССР.
Исполнителем диверсии оказался вполне зрелый мужик, некий литовец{23}. Свидетели говорят, перед этим он выкрикнул: «Свободу Литве!». Урод! А литовцы этот факт отрицают, как будто доподлинно знали, как он должен был себя вести, а как не должен. Этим они выдали свою причастность к преступлению! Преступника признали душевнобольным и освободили от уголовной ответственности. Знакомый ход, не так ли? Характерны слова, сказанные им после этого в американском стиле: «Никакого сожаления в том, что я уничтожил шедевр мирового значения, я не испытываю. Значит, его плохо охраняли и берегли, если мне это так сравнительно легко удалось сделать».
Типично англосаксонское поведение — глумливое, наплевательское, бахвальское. Как любой преступник, они лишены сочувствия и всегда обвиняют пострадавшую сторону. Да, по наглости, циничности, бесчеловечности преступления в нем угадывался почерк наймитов ЦРУ... Через два года они совершат диверсию в Чернобыле...
Это были первые покушения на нашу страну, на СССР.
Но тогда две обычные советские женщины, стоящие к рембрандтовской «Данае» ближе многих других, ни о чем не догадывались. Каждая из них отреагировала на встречу с шедевром по-своему: Прасковья Яковлевна вспоминала и с безжалостной критикой переоценивала начало своей взрослой жизни, а Любовь Борисовна придумала написать роман «Наследство от Данаи».
И, по-своему воодушевившись этим полотном, они прошли дальше, где им суждено было в общей сложности провести еще не менее четырех счастливых часов жизни. В конце экскурсии зашли на третий этаж, где экспонировались экспрессионисты. Здесь были выставлены работы самых ярких представителей живописного и графического искусства прошлого века: Ван Гога и Сезанна, Эрика Хеккеля, Эрнста Кирхнера, Пабло Пикассо, Эдварда Мунка, Оскара Кокошки, Эмиля Нольде, Амадео Модильяни и других западноевропейских мастеров.
Странными были их полотна, например, выполненные вертикальными разноцветными черточками: подойдешь ближе и увидишь просто мазню, а издали — вроде ничего... Запечатлеть беснующиеся изменения вещей, их вид в неуловимый миг времени — какая гордыня! Не дано это человеку, не дано.
Дольше всего они стояли у картины «Танец» Анри Матисса. Прасковья Яковлевна за время пребывания в Эрмитаже прониклась духом живописи, вошла в мир ее особенных образов, вообще надышалась искусством и стала лояльнее в этическом плане. Больше ее не раздражало то, что сразу по приходу с улицы казалось нарушением морали.
— Красные фигуры на фоне травы и неба... Что-то в этом есть, — рассуждала она вслух. — Припоминаю теперь «Купание красного коня» нашего К. С. Петрова-Водкина. Помнишь?
— Ну еще бы! По-моему, она известна каждому советскому человеку.
— Теперь, я понимаю ее, — мечтательно сказала Прасковья Яковлевна. — Только кому в моем положении расскажешь и про красный образ огромной грозной России, и про образ бледного мальчика — народа, пытающегося ею управлять... В моем окружении это никого не интересует. А ведь сколько об этом написано! Достаточно припомнить небезызвестную «птицу-тройку» Гоголя — да? — или «степную кобылицу» А. Блока...
— Главное, каким-то чудом у Матисса не бросается в глаза обнаженность танцоров... — заметила Любовь Борисовна, повернувшись к полотну.
— Да, но экспрессионистов не стоит смотреть сразу после классиков. Как много я поняла на этой экскурсии! Словно слепой жила, а тут прозрела.
На улице исчезла жара, успокоившееся солнце опустилось к горизонту и там надолго зависло.
— Где-то я читала, — продолжила разговор о картинах Любовь Борисовна, когда они начали удаляться от Эрмитажа, — что картина, о которой ты вспоминала, «Купание красного коня», входит в число первых 33-х шедевров мира. Ну, всемирно известных картин, безусловно, больше, чем 33. Их несколько сотен. Но вот оценщики почему-то выделили первые 33, и как раз та, о которой мы говорили, попала в это число. Это тебе о чем-то говорит?
— Да, говорит о том, что мы с тобой кое-что соображаем. Эх, нам бы в свое время чуть больше возможностей поиметь... Если бы не погибли мои родители, мы сейчас совсем по-другому жили бы, доця, — грустно констатировала Прасковья Яковлевна. — Ты помнишь Шурину подругу Инку Кириленко?
— Конечно, помню!
— Так вот они выживали за счет вишневого сада. А вишни-то у них были самосейки, косточка да шкурка... И кислющие, до оскомины! И все равно Инка все лето ездила в Запорожье с двумя ведрами вишен, продавала их там по 3 рубля ведро. А в сезон и по 5 рублей брала... Пусть она 40 раз съездила, вот и посчитай — как минимум 240 рублей заработала. Это трехмесячная зарплата ее матери. Понимаешь, о чем я говорю?
— Ну, вроде да...
— А у нас какой сад?! Да с нашего сада, с пасеки дедушка бы такие деньги получал, что всем хватило бы на учебу. Что говорить... Он умел хозяйничать, копейку добывать.
— Так я же училась...
— Да что это за учеба была, когда тебе и язык пришлось менять и соревноваться с городскими умниками... Без подготовки и умения. Для настоящей учебы надо было дать тебе на годик репетитора — конечно, в университете. Дедушка бы все организовал...
— Пусть отдыхают... — Любовь Борисовна хотела поддержать маму, но не знала, как это возможно. — Спасибо им, что тебя родили, мамочка!
Тем временем они прошлись вокруг Зимнего дворца, весьма пристально осматривая его, стараясь все запомнить и понимая, что с первого раза это не удастся. Дальше осмотрели горделивый памятник Петру I, Исаакиевский собор, памятник Николаю I...
Вернувшись на Невский проспект, пошли по нему в обратном направлении. Подошли к знаменитому памятнику императрице Екатерине Второй, воздвигнутому в центре площади Островского.
— Этот сквер, — повела Любовь Борисовна рукой вокруг себя, — разбит специально для ландшафтного оформления этой скульптурной композиции. Вообще вся эта площадь многое под собой похоронила. Ради нее была снесена была часть усадьбы Аничкова дворца, вместе со строениями.
— Значит, этот памятник оказался нам нужнее?
— Ну, все-таки русская царица...
Они прошли дальше от Невского проспекта, подошли к Александринскому театру.
— Государственный ордена Трудового Красного Знамени академический театр драмы имени А. С. Пушкина, — подходя к нему произнесла Любовь Борисовна. — Давай сходим на спектакль?
— Бери билеты на завтра и поехали домой. А то наша хозяйка спать ляжет, не дождавшись нас.
И они уехали к знакомой, где их ждала комната и хороший отдых.
На следующий день они вернулись за своей поклажей, опять зашли в «Гостиный двор». Заодно сделали там некоторые покупки — от них осталась только запись в дневнике Любови Борисовны, больше ничего. Отвезли поклажу домой и налегке отправились в Александро-Невскую лавру.
Как известно, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра основана в 1704 году Петром Первым на месте, где, по преданию, князь Александр Ярославич, получивший впоследствии имя «Невский», разбил войска шведов во главе с Биргером. Нам этот Биргер также известен как основатель Стокгольма. Он был серьезным законодателем — в частности, запретил пытки раскаленным железом, бывшие у шведов обычной практикой со времен викингов; признал за дочерями право на наследство — не меньше половины от наследства сына; поощрял строительство церквей как центров культуры и грамотности. Кстати, поддержка церкви, вместе с династическими связями с соседними странами, позволила основанной им династии править в Швеции и Норвегии до середины следующего века. Вот таким непростым был тот, кто посягал на Россию и кому юный Александр Ярославич дал отличный отлуп. Зачем этого дядьку понесло к нам?
Попав сюда, Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна первым делом прошли в Свято-Троицкий собор, где внутри находится рака с мощами Александра Невского, и поклонились ему, гению земли русской, русскому Христу.
Затем побывали в Благовещенской церкви-усыпальнице, где похоронен Александр Васильевич Суворов, постояли у его могилы, вспомнили великого человека благодарственным словом. Рядом нашли захоронения Никиты Ивановича Панина, первого дипломата, и дочери Меньшикова Александры Александровны Бирон. Тут же находятся могилы царских родственников: младенца Петра Петровича, сына Петра I; царевны Натальи, младшей сестры Петра I.
Собственно, с нее все и началось... Сначала Наталья Алексеевна была похоронена в Александро-Невской лавре на Лазаревском кладбище. Над ее могилой и могилой похороненного рядом Петра Петровича была возведена часовня во имя Воскрешения св. Лазаря, от которой кладбище и получило свое название. Через несколько лет их останки были перенесены в стоявшую там же Благовещенскую церковь и перезахоронены в самой почетной алтарной части. Над их могилами были положены плиты, получившие название царских, и Благовещенская церковь Александро-Невской лавры стала превращаться в первую царскую усыпальницу Петербурга.
Там же почивают другие родственники Петра I по линии брата Ивана: жена Прасковья; дочь Екатерина Иоанновна и ее дочь Анна Леопольдовна; Иоанн VI — сын Анны Леопольдовны, российский император, который в малолетстве был заключен Елизаветой Петровной в Шлиссельбургскую крепость, а затем убит Екатериной II в 23-летнем возрасте; княгиня Настасья Ромодановская, сестра Прасковьи.
Вернувшись к входу на территорию Александро-Невской лавры и взяв влево от него, Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна попали на Лазаревское кладбище, некрополь сугубо XVIII века со множеством необычных надгробий. Долго ходили там, читая эпитафии.
Тишина и покой царили среди могил, не мешая дивиться разнообразию памятников и читать знакомые по русской истории фамилии. В конце концов посетительницы поклонились великому Ломоносову Михаилу Васильевичу, выдающемуся математику Леонарду Эйлеру, теоремы которого Любовь Борисовна изучала в университете, и Наталье Николаевной Ланской, вдове Александра Сергеевича Пушкина.
— Как жаль, что Наталья Николаевна изволила сменить фамилию, — покачала головой Любовь Борисовна, стоя у ее могилы. — Это не в духе любви к мужу, прославившему ее.
— Другая вообще не вышла бы замуж повторно, несла бы имя гения до конца своих дней, — согласилась Прасковья Яковлевна. — Но мы не знаем ее обстоятельств. Она же бедная была...
— Чего не сделаешь за кусок хлеба.
Напротив Лазаревского располагается Тихвинское кладбище. Его называют некрополем мастеров искусств, хотя сразу у входа посетителей встречают погребения мореплавателя Юрия Лисянского и некоего А. И. Косиковского, занимавшегося продовольственным снабжением армии в 1812 году. Если трактовать искусство в широком смысле слова, то все нормально, они оказались на месте.
Тут набрели они на захоронение графа М. М. Сперанского, реформатора времен Александра I. Дальше рядом упокоились друзья и соратники Пушкина, в частности Антон Дельвиг, князь Петр Вяземский, адмирал Ф. Ф. Матюшкин и К. К. Данзас, секундант на роковой дуэли поэта. Нашли они и могилы баснописца Ивана Андреевича Крылова, поэта Василия Андреевича Жуковского и историографа Николая Михайловича Карамзина. Конечно, многие захоронения были семейными, как два последних...
И вот! Рядом с пушкинскими соратниками похоронен Достоевский, непревзойденный гений русской и мировой литературы. Федор Михайлович... Тут все слова померкли, горело лишь восторженное и сожалеющее сердце...
В юго-западной части кладбища они нашли могилы театральных деятелей, в частности актера Николая Черкасова. Отдельной группкой пребывали в вечной жизни художники: Иван Иванович Шишкин, Иван Николаевич Крамской, Архип Иванович Куинджи, Борис Михайлович Кустодиев, Александр Андреевич Иванов, автор картины «Явление Христа народу». А рядом с ними архитекторы и скульпторы: лауреат Сталинской премии Михаил Иванович Авилов, знаменитый скульптор Иван Петрович Витали, Петр Карлович Клодт — автор Аничкина моста, который что называется поселился среди своих работ — тут же рядом стоит много созданных им памятников.
На северном участке похоронены в основном композиторы.
В конце 1850-х и начале 1860-х годов в Санкт-Петербурге возникло творческое содружество русских композиторов, названное Балакиревским кружком, или «Могучей кучкой». Так вот здесь покоятся большинство из них: сам Милий Алексеевич Балакирев, Модест Петрович Мусоргский, Александр Порфирьевич Бородин, Николай Андреевич Римский-Корсаков. Идейным вдохновителем и основным немузыкальным консультантом кружка был художественный критик, литератор и архивист Владимир Васильевич Стасов, кстати, тоже покоящийся неподалеку.
Рядом были Александр Сергеевич Даргомыжский и гордость каждого русского человека — Михаил Иванович Глинка (со своей сестрой).
— Господи, — прошептала Прасковья Яковлевна, подойдя к нему, — какие люди! Михаил Иванович Глинка — это же буквально гордость русского музыкального мира, такой большой труженик! И такой талант! Хочешь, я назову лучшие его произведения? Когда у нас только появилось радио, — пояснила она, — я в свободные минуты любила просто сидеть и слушать передачи, не зажигая свет. Тогда много передавали классической музыки. Я ее всю знала!
— Я все равно не смогу определить, правильно ли ты называешь.
— Ну как не определишь? «Ивана Сусанина» и большую волшебную оперу «Руслан и Людмила» ты не можешь не знать!
— Ну, когда ты сказала... Во, я вспомнила — «Камаринская»!
— Да-да, а особенно широко известны его вокальные произведения: романсы, песни, отдельные арии... «Ах ты душечка, красна девица», «Ах ты, ночь ли, ноченька», «В крови горит огонь желанья», «Не искушай меня без нужды», «Не пой, красавица, при мне», «Ночь осенняя, ночь любезная». Это я так, навскидку перечислила. А то могла бы и больше припомнить. Да-а, доця, твоя мама многое знала, да, видишь, не пригодилось оно ей в жизни и начало забываться...
— А вот, смотри, знаменитый пианист и музыкальный деятель Антон Григорьевич Рубинштейн, — показала Любовь Борисовна. — Между прочим, как пианист он стоит в ряду величайших представителей фортепианного исполнительства всех времен и народов. Кроме того, он также является основоположником профессионального музыкального образования в России. Это его усилиями в Петербурге была открыта первая русская консерватория. Среди его учеников числится сам Петр Ильич Чайковский.
— Да он тоже тут! — воскликнула Прасковья Яковлевна, действительно, рядом они нашли Петра Ильича Чайковского, у которого было самое пышное надгробие. — Его музыка живет вне времени, — отвесив ему поклон, сказала Прасковья Яковлевна. — Уж не знаю, как его назвать...
— Чайковского?
— Его...
— Назовем просто: русский гений... — Любовь Борисовна тоже подошла к его могиле. — А его произведения ты тоже можешь перечислить? Я не решилась бы... к стыду.
— Могу. Та-ак... — начала припоминать Прасковья Яковлевна: — "Славянский марш", "Лебединое озеро" — это вообще непревзойденный шедевр, "Двадцать четыре легкие пьесы для фортепиано"...
— О, помню, помню! Их еще называют «Детским альбомом». Помнишь, вы меня отдавали учиться игре на пианино? Так вот нас тогда учили именно по этому альбому. Мне так нравилось...
— Мы тогда строились, доця... Не хватало денег на все... Не смогли тебя долго учить. Ты уж прости нас!
— Я без претензий, мама. Мне и месяца хватило. Просто к слову сказала. Прости.
— Идем дальше, — слава богу, хорошее настроение не покинуло Прасковью Яковлевну. — Ну, конечно, "Евгений Онегин", затем "Спящая красавица", "Пиковая дама" — три карты, три карты! Ах да, еще "Щелкунчик".
— Еще «Вальс цветов»... Ты молодец, я не назвала бы столько. Клянусь, даже «Детский альбом» забыла бы.
Медленным шагом они покинули Александро-Невскую лавру, унося с собой память о произведениях высокого искусства, что оказалось не лишним перед походом в театр.
— Мы сюда ведь еще придем? — спросила Прасковья Яковлевна. — Тут осталось много интересного.
Оставалось найти место, где их накормили бы обедом и где можно было отдохнуть после долгого гуляния на воздухе. Зашли в какой-то ресторан с полупустым залом — день-то был рабочий... К тому же многие ленинградцы разъехались по отпускам. Сделали заказ.
— Это будет не скоро, — предупредила официантка. — Минут сорок придется ждать.
— Подождем, — Любовь Борисовна посмотрела на маму и подмигнула ей, дескать, отдохнем заодно.
— Давай принарядимся перед спектаклем, — вдруг предложила Прасковья Яковлевна.
— А у меня нет с собой лучшего наряда, — растерялась Любовь Борисовна.
— Я не о том. Гляди, за ту неделю, что мы были в Таллине, мои руки отдохнули, кожа на них разгладилась, отечность сошла... Даже ногти отросли. Мои руки просто похорошели! Видишь?
— Ну? — Любовь Борисовна начала догадываться, чего хочет ее мама. — Давай пойдем в парикмахерскую, сделаем маникюр, а? — предложила она.
— Я никогда не делала маникюр...
По пути в парикмахерскую им встретился актер Николай Крюков.
— Ой, это же «Последний дюйм» идет, — почти закричала Прасковья Яковлевна, — и тут же напела «Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня!»
А Любови Борисовне вспомнилась «Туманность Андромеды» и ее горькое разочарование фильмом. Книга ее завораживала, и было обидно, что она многое потеряла при экранизации, да и актеров на главные роли подобрали неудачно — слишком тяжеловесных, коренастых. Не молодых!
И вот тот, кто сыграл Эрга Ноора, члена Совета Звездоплавания, начальника 37-й звездной экспедиции, командира звездолета «Тантра», издалека шел им навстречу — приземистый, кривоногий, старый и толстый. Ну, на роль мужественного летчика Бена Энсли он как раз годился. Но какой из него романтический герой?..
Сближаясь с актером, Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна разглядывали его — да, та же узнаваемая походка, угрюмая внешность, короткая шея, недобро-острый взгляд человека, не упускающего шанса. На нем были обычные темные брюки и блузон, на голове — летний берет. В руках он нес авоську с продуктами, тогда пластиковых пакетов еще не было. Видно, выскочил из дому за покупками.
Проходя мимо рассматривающих его женщин, резанул их взглядом, но все же улыбнулся.
— Ух ты, какая сила! — передергивая плечами, словно от чего-то отряхиваясь, сказала Любовь Борисовна. — Я прямо почувствовала исходящий от него ум, глубину и человеческую значительность.
— Да, взглядом он просвечивает человека насквозь, — согласилась Прасковья Яковлевна. — Коршун. Старый хищник…
— Вот сейчас я вспомнила его героев, — продолжала Любовь Борисовна. — И поняла, что все они у него суховаты, словно говорят, что эмоции приводят только к чему-то худшему.
— Может, этому научила его собственная судьба… — предположила Прасковья Яковлевна.
Это был не пустой разговор. Позже у Любови Борисовны вызрел роман «Побег аферистки», куда она поместила много из появившихся тогда, при встрече с Н. Крюковым, мыслей.
Да и Прасковья Яковлевна оказалась права. Биография этого актера однозначно и очень показательно удостоверяла, что ждало бы Бориса Павловича, если бы он позволил немцам угнать себя в Германию. Хорошо, что он по дороге сбежал от них — второй раз сбежал! Вот какой молодец был!
В театр они пришли в прекрасном настроении. И в течении всего спектакля Прасковья Яковлевна украдкой посматривала на свои узкие ладони, после ванночки с травами и массажа почти возобновившие прежний молодой вид. У Любови Борисовны, видевшей это, сердце сжималось от нежности к маме.
На третий день пребывания в Ленинграде, Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна поехали на Большую Невку, посмотреть крейсер «Аврора», а там купили билеты, прошли на борт и прослушали полный рассказ об участии крейсера в революции 1917 года, о всей его истории.
— Как долго он трудился, если находится на вечной стоянке почти столько же, сколько ты живешь на земле... — сказала Прасковья Яковлевна.
— Наверное, много, — согласилась Любовь Борисовна.
Рассматривая северную столицу, Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна от «Авроры» дошли до Домика Петра I — первой постройки в Санкт-Петербурге, летнего жилища царя Петра I в первые пять лет после основания города. Его построили царю солдаты-плотники всего за три дня. Справа при входе в Домик висит бронзовая табличка с указанием роста царя — 2 метра 4 сантиметра. В домике экспонируются его личные вещи.
— Какая старина, — потрясенно шептала Прасковья Яковлевна, впервые видевшая столь старинные предметы, принадлежащие конкретному человеку, которого, казалось, она хорошо знала. — Его вещам в этом году стукнуло ровно 280 лет! Это же не какие-нибудь предметы из кургана или вообще выкопанные из земли, да? Обезличенные.
— Да, давно все это было, что мы тут видим... Я вот другое думаю — не зря он болел почками, им же очень тяжело приходилось работать в таком высоком организме.
— Пожалуй, ты права... — прошептала Прасковья Яковлевна, покосившись на дочь. — Но тебя ведь почки сейчас не беспокоят?
Любовь Борисовна только улыбнулась, прижавшись в матери.
Оттуда их маршрут опять лежал в Александро-Невскую лавру. На этот раз они обошли Никольское кладбище, где увидели много знакомых имен. По памятникам улавливались типичные скульптурные течения той эпохи: многие из них были украшены родовыми гербами, на части других виднелись скорбящие ангелы и изображения срубленных деревьев. Оригинальных памятников было меньше. Так, на могиле архитектора Андрея Никифоровича Воронихина они разглядели изображение Казанского собора, что красноречиво поведало о всей его жизни.
А после обеда и отдыха они успели сходить на спектакль Ленинградского ТЮЗа «Борис Годунов», где видели в ролях Бориса Годунова и Самозванца актера Николая Николаевича Иванова, который в популярном в те годы сериале «Вечный зов» играл Ивана Савельева. Очень понравился!
Прасковья Яковлевна давно любила театр, и в молодости они с Борисом Павловичем часто бывали на спектаклях театров Запорожья и Днепропетровска. И только когда правнуки, а затем и старость пригвоздили их к дому, ездить туда перестали. Но душой очень скучали по этому миру. Так что в Ленинграде Прасковья Яковлевна просто упивалась театрами, спектаклями, актерами и общей атмосферой искусства. Не повезло ей только в том, что летом серьезные театры со своими лучшими спектаклями уехали на гастроли, как тогда было заведено, и на месте оставались не самые популярные актеры со старыми постановками. Но им, провинциалам, и то было за праздник.
В четверг они целый день провели в Эрмитаже. Наслаждались живописью! Перечень того, что они там смотрели в тот день, вынесен в дополнение 2. Дневниковые наброски просмотренного в остальные дни пребывания в Ленинграде — в дополнение 3.
В пятницу после гуляния по городу и всех запланированных экскурсий Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна смотрели спектакль «Кафедра» в Театре драмы и комедии (Литейный проспект, 51), поставленный по мотивам одноименной повести И. Грековой. Повесть эта впервые увидела свет в 1978 году в одном из толстых журналов и была несколько лет на вершине популярности. Каждый образованный человек считал своим долгом прочесть ее. Ну а посмотреть спектакль — это было верхом возможного.
Весь следующий день они посвятили посещению Русского музея. Из тех картин, которые они для себя отмечали, можно назвать такие:
Василий Григорьевич Перов — Рыбная ловля, Парижские тряпичники, Дети-сироты.
Владимир Егорович Маковский — Ночлежный дом.
Архип Иванович Куинджи — Лунная ночь на Днепре, Осенняя распутица.
Илья Ефимович Репин — Запорожцы (Запорожцы пишут письмо турецкому султану). Проводы новобранца. Юбилейное заседание государственного совета.
Василий Иванович Суриков — Покорение Сибири Ермаком, Взятие снежного городка, Переход Суворова через Альпы.
Виктор Михайлович Васнецов — Витязь на распутье, Бой скифов со славянами (зал 38, эскиз)
Александр Андреевич Иванов — Явление Христа народу (весь зал 15, малый вариант, был посвящен этой картине, тут висели многочисленные наброски и эскизы к ней, отдельные образы), тут они провели много времени, ибо картина не отпускала от себя.
Опять находившись до предельной усталости, они подумывали о том, чтобы покинуть музей и посидеть где-нибудь в парке на скамейке. Но ведь так много оставалось залов, куда они даже не зашли... И тут через открытую дверь, ведущую в соседний зал, они увидели диванчики для посетителей, на которых никто не сидел.
— Там можно сесть! — почти дуэтом сказали они и поспешили туда.
Их ноги гудели от долгого хождения, тела изнемогали от усталости, руки и лица просились к холодной воде, чтобы ополоснуться. Ленинградское влажное тепло ими плохо переносилось...
Зал оказался маленьким, уютным и не проходным. Он представлял собой отличный закуток с царящим покоем и какой-то вековой, застывшей умиротворенностью. Тут можно было долго оставаться, наслаждаясь покоем, дыша воздухом столетий, напитываясь энергиями страстей, рождающих шедевры. Они сели лицом к двери и в таком состоянии видели только публику, мелькавшую в покинутом ими зале.
— За спиной у нас — «Последний день Помпеи» Карла Брюллова, — мечтательно сказала Любовь Борисовна, — я мельком увидела, но у меня нет сил встать и подойти к ней. Посмотрим ее после отдыха.
— Народ любит его «Итальянский полдень», — присаживаясь на диванчик, сказала Прасковья Яковлевна. — У меня в культмаге постоянно продаются плакатные репродукции известных полотен, так что я хорошо знаю мировую живопись. Ты не думай... Да, так «Итальянский полдень» — помнишь, где девушка собирает виноград? — покупатели разбирали мгновенно, — она протянула ноги и от удовольствия закрыла глаза: — Посидим хоть с полчасика... — произнесла затухающим голосом.
Публики в зале было мало, так — проходили зеваки по одному и по двое, нигде особенно не задерживаясь. На женщин, отдыхающих на диванчике, они не обращали внимания. Помнится, там даже музейных смотрителей не было.
Музейные смотрители Любови Борисовне нравились, она даже завидовала им. А чего? Они работали в прекрасных залах, где внимательно и ненавязчиво присматривали за посетителями — труд не тяжелый. Правда, заодно обеспечивали сохранность экспонатов, следили за чистотой и соблюдением правил поведения в музее. Но советские люди отличались высокой культурой, так что и этот труд давался легко. Не зря эти должности занимают женщины пенсионного возраста, — думала Любовь Борисовна, — для которых скромная зарплата — не главное счастье жизни. Музейный работник — это, прежде всего, призвание, любовь и преданность профессии. Да... вот бы себе так на старости устроиться...
Наконец Прасковья Яковлевна открыла глаза — резко, как приходят в себя от минутной дрёмы — и повела ими по сторонам. Казалось, что ее потревожили необычные видения, да и слух уловил что-то тонкое, неразличимое другими. Она резко встала и пошла в угол, что был справа от входа в зал. Там висела только одна картина — «Девятый вал» И. К. Айвазовского.
Она подошла к ней, глянула — и остолбенела! Как застыла там, так и простояла не меньше часа... Ничто ее больше не интересовало. Иногда Прасковья Яковлевна прохаживалась вдоль картины, пыталась со стороны заглянуть под нее, едва не прикасалась, чтобы попробовать на зуб. Но сдерживала себя. По всему виделось, что что-то беспокоило ее, казалось странным.
Тем не менее Любовь Борисовна не мешала ей, да и устала она едва ли не больше своей мамы — здоровьем против Прасковьи Яковлевны она похвастаться не могла, — так что ловила минуточки покоя.
— Иди сюда, — позвала Прасковья Яковлевна свою дочь. — Ты ничего постороннего или подозрительного тут не видишь?
— Вроде нет. А что?
— Мне кажется, картину подсвечивают с обратной стороны, изнутри.
Любовь Борисовна с настороженным видом прошлась вдоль полотна, осмотрела стены у его торцов, присела и заглянула под него снизу...
— Ничего не нахожу, — констатировала она наконец.
— Неужели это ее настоящий свет? Невероятно... — озадачено произнесла Прасковья Яковлевна.
— Что тебя смущает?
— Понимаешь, в тех репродукциях, что много раз поступали мне в магазин, основной тон картины бывал разным — от лимонно-желтого неба и прозрачно-изумрудных волн до бурых туч и иссиня-черной непроглядной воды. В зависимости от полиграфического исполнения. Но общим оставалось одно — зловещесть картины, обреченность людей, плывущих на обломках корабля, витание смерти над ними. А тут? Тут же — совсем другое!
— Да, — раскрыла глаза Любовь Борисовна. — Теперь и я это вижу... — Причем же тогда девятый вал? — недоуменно сказала она.
— Ах, девятый вал... — отмахнулась Прасковья Яковлевна. — Всё одни слова... В реальности его не существует, — вдруг она пристально посмотрела в глаза дочери: — Знаешь, оказывается, я о многом начитана. Только раньше об этом не знала. Думала: ну сижу в каком-то захолустном культмаге, ну листаю от скуки книги... А оно все не зря было, накапливалось. Да! — вернулась она к обсуждению картины. — Так про девятый вал... Это всего лишь расхожий художественный образ, символ роковой опасности, наивысшего подъема непреодолимой силы. Никакой правильной периодичности волн в морских бурях до сих пор не выявлено. Например, у древних греков самым большим и опасным валом считался третий, у древних римлян — десятый, а у американцев вообще седьмой. Тем не менее в этой картине, — она направила на полотно И. К. Айвазовского указательный палец и потрясла им в воздухе, — мне видится триумф жизни! Ликование видится, оттого что главная опасность отступила, осталась позади. Картина просто лучиться сиянием, оптимизмом, избавлением от страха! Разве нет?
— А знаешь, кажется, да. Ты права!
— Я не обращаю внимания на продолжающееся волнение моря и мне кажется не страшным, что к терпящим бедствие приближается еще одна высокая волна. Я вижу свет, и он меня убеждает, что эти люди уже спаслись! Они выжили в разъяренной стихии, разнесшей их судно в щепки. После такого погибнуть уже нельзя. Да об этом говорит и обломок мачты! Обрати внимание, он выполнен в виде креста — символа спасения. Это же еще одна подсказка нам!
Выйдя из зала, в котором провели не менее двух часов своей жизни в состоянии чистого наслаждения, они приободрились пошли смотреть русскую живопись дальше. И вдруг удивились — в Русском музее нашелся зал с полотнами европейских живописцев. Как было не зайти туда?!
Тут они увидели Сандро Боттичелли, Иеронима Босха, Леонардо да Винчи, Бартоломео Эстебана Мурильо, Рафаэля Санти, Петера Пауля Рубенса.
— Кстати, Рубенсом много восхищались другие художники, — остановившись, сказала Прасковья Яковлевна, — что редко бывает. Они даже состязались в похвалах ему, каждый хотел перещеголять другого. Только я уже не помню, что они там говорили...
— Я тоже об этом читала. Кажется, Эжен Делакруа назвал его Гомером живописи, а наш Илья Ефимович Репин пошел дальше и сказал: «Рубенс — это Шекспир в живописи». Вот так!
— И все это, — вдруг прочувствовано сказала Прасковья Яковлевна, переполненная впечатлениями от экскурсии, — защищал Алешка, мой брат. Ты знаешь, что Алексей Яковлевич еще долго после войны разминировал Ленинград?
— Да, он нам с Юрой рассказывал.
— Он защищал этот город, он ходил тут в атаку на врага, возможно, дорогами Александра Невского... Он хоронил тут товарищей... А потом еще долго очищал Ленинград от нечисти, избавлял от мин.
У Прасковьи Яковлевны помокрели глаза, но это были слезы счастья — от понимания того, что ее брат воевал не бесславно.
После этой экскурсии их окончательно оставил комплекс провинциальности, пришла уверенность в себе, и это помогло им в последующие дни чувствовать себя здесь как дома, чувствовать общую с Ленинградом духовность, неразделимую судьбу и ту субстанцию, которой они были пропитаны и о которой прекрасно сказал Пушкин: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».
— Давай завтра съездим в еще одно печальное место? — предложила Любовь Борисовна. — Хотя старинные кладбища — это уже просто объекты культурного наследия, и я хожу на них как в музеи, — пояснила она дальше, — и даже как в гости к их обитателям. Правда!
— Это о чем ты говоришь?
— О Волковом кладбище, — Любовь Борисовна вдруг испугалась: — Как я могла забыть о нем? Вот был бы ужас, если бы я тебе его не показала. Там же Блок похоронен! И не только он — там есть целый участок, который так и называется «Литераторские мостки». А еще в 1848 году там был похоронен неистовый Виссарион! Ему непременно надо поклониться — он же является истинным творцом русской классической литературы.
— Ты о Белинском говоришь? Так его принципы не в меньшей мере повлияли и на советскую литературу. Они вообще стали ее канонами! Кстати, до войны, когда я училась в институте, мы его основательно штудировали, а теперь что-то я не слышу об этом.
— Не знаю. Мы в школе его изучали. Но истинное значение этого критика для развития нашего менталитета я поняла сама, когда читала книгу Доры Бреговой «Дорога исканий». Потрясающая вещь, хотя написана для детей.
— Да-а... — серьезно посмотрела на нее Прасковья Яковлевна. — Это было бы непростительное упущение. Виссариону Григорьевичу надо поклониться, он, без преувеличения сказать, жизнь за нас положил.
На Волковом кладбище повсеместно царила растительность, отчего оно казалось хмурым и мистически загадочным.
— Как странно и важно понимать, что это святая земля, что в ней покоятся люди, чьи имена мы знаем и любим по книгам с детства, чьи труды двигали вперед литературу, на которой мы выросли, двигали вперед отечественную и мировую науку, — рассуждала Любовь Борисовна у могилы Менделеева, где рядом с ним покоятся его дочь Любовь Дмитриевна Блок и великий поэт Александр Александрович Блок.
— После таких экскурсий невольно возникает желание узнать больше про их жизни и про историю своей страны, — согласилась с дочкой Прасковья Яковлевна. — Вот вернусь домой и перечитаю книги о Н. В. Гоголе.
— Говорят, — сказала Любовь Борисовна, — когда делали этот музей, который теперь называется «Литераторскими мостками», то тут были бесследно утрачены или затеряны могилы многих выдающихся петербуржцев, совсем древних деятелей отечественной истории. Например, я запомнила про одного участника последней дуэли А. С. Пушкина. Как так могло получиться?
— И могила Александра Николаевича Радищева не сохранилась, защитника народного... Жаль. Только памятная доска и осталась.
— Просто он смешался с этой землей... Правильно ты сказала, мама, что это святая земля — мысли этих великих людей воспитали нас, мы несем их в себе и отдает другим. Мы — часть этих людей. Их продолжение.
На «Литераторских мостках» похоронены писатели И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Н. С. Лесков, Г. И. Успенский, А. И. Куприн — всех их Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна нашли и всем поклонились. Здесь же покоится мать В. И. Ленина и его сестры.
Несколько поездок они потратили на загородные экскурсии, в частности в Петергоф. Ездили также смотреть Приоратский и Гатчинский дворцы, три дворца Ораниенбаума, дворцово-парковые комплексы Павловска и храмы Царского села. От каждой поездки у них остались какие-то главные впечатления, но о Петергофе они могли бы сами писать книги.
Только 14-го июля, в день рождения Любови Борисовны, они никуда не поехали, а просто ходили по центральным улицам Ленинграда и смотрели на дома, на людей, на виды города. Подолгу сидели в парках, дышали особенным ленинградским воздухом, и Любовь Борисовна рассказывала маме, как она тут бывала первые разы, как заводила знакомства по работе, как однажды опасно заболела и попала в больницу, где пролежала две недели...
Конечно, был обед в ресторане, потом еще один поход в парикмахерскую для освежения маникюра и интересный вечер в театре. Правда, смотреть пришлось что-то такое, что не запомнилось. Но главной для них была атмосфера театра!
Последний день они посвятили теплоходной экскурсия по рекам и каналам Ленинграда — Фонтанке, Мойке, Крюкову каналу… Всего Фонтанку с Невой соединяет 65 рек и каналов — все их после одной экскурсии запомнить невозможно.
Незаметно истекли дни, посвященные Ленинграду, с которым они встретились в лучшую его пору — в волшебные летние ночи...
— Прощай, белый город... — печально повторяли они, садясь 17-го июля в самолет на Днепропетровск. — Прощай, город Пушкина и Достоевского. Спасибо тебе за все!
Лечение в санатории
Настали годы перестройки, и Любовь Борисовна поняла, что научная работа на долгий период потеряла перспективу. Главное, что она доказала свою научную состоятельность, — как и ее муж, выполнила диссертацию, которую хвалили на самых престижных научных советах. После этого она без сожаления рассталась с исследовательским институтом и ушла в местную промышленность, а именно — в полиграфию, в новую отрасль, где ей пришлось постигать работу с азов.
Тем не менее, на втором году пребывания в новой системе она вполне освоилась, стала заметной фигурой в районе. Ее избрали членом промышленной комиссии райкома партии, в связи с этим она регулярно участвовала в проверках работы промышленных предприятий. Да и в городе ее знали — по общественной работе в горкоме партии, где она была членом ревизионной комиссии.
Как-то в обкоме профсоюза работников культуры ей предложили путевку в санаторий, где можно было полечить опорно-двигательный аппарат, колени, другие суставы. И она сразу подумала о Прасковье Яковлевне, о ее больных руках!
Она приложила усилия и переадресовала путевку на имя своей мамы.
Наверное, тут уместнее всего рассказать о здоровье Прасковьи Яковлевны и вообще о ее отношении к себе.
В зале нового дома, выстроенного самолично Борисом Павловичем, стоял буфет, купленный к новоселью. Естественно, был он советского промышленного производства, изготовленный из древесной плиты, крытой тонким лакированным шпоном, и ни в какое сравнение не шел с довоенным буфетом, взамен которого встал в строй.
Старый буфет был чудом, задолго до войны изготовленным мастерами-краснодеревщиками по индивидуальному проекту — из вишневого дерева. Вследствие долгого служения людям он почернел, утратил внешний защитный слой, покрылся мелкими трещинами и за это в послевоенное время был жестко выкрашен Борисом Павловичем в синий цвет.
Не знаю, где этому некогда роскошному предмету мебели было место при жизни первых хозяев, но в описываемое время он стоял в углу кухни, справа от входа. По сути такая изношенная мебель имела право на бессрочный отдых, и ничуть не возражала бы против самой заброшенной свалки. Но этот буфет был предметом памяти о родителях и служил Прасковьи Яковлевне кухонным посудником. О, сколько всего он помнил, в частности, настоящий чай, которым навеки пропах!
Наконец никакая краска ему уже не помогала, никакие запахи не шли в зачет, и перед переездом в новый дом его выбросили. А взамен купили новый буфет, о котором речь. В нем хранилась дорогая посуда, используемая не каждый день, а по праздникам.
Место новому буфету выбрали удачно — у простенка со спальней, где он вписался от двери до наружной стены. В новом буфете под столешницей было два выдвижных ящичка. Так вот в левом из них (если стоять лицом к буфету) лежали лекарства в маленьких картонных упаковках, а во втором, в правом, — стопочки накрахмаленных и отутюженных носовых платочков Прасковьи Яковлевны и ее мужа. В этом ящике всегда приятно пахло. Наверное, платочки где-то соприкасались с парфюмами. Там же лежала нехитрая косметика: пудра и пара тюбиков губной помады. Другими средствами Прасковья Яковлевна не пользовалась. Да и пудру с помадой употребляла только в исключительных случаях.
Обязательно были у нее и духи — очень дорогие, с тонким ненавязчивым ароматом. Они несли дразнящий, головокружительной дух богатства, лучшей зазывной жизни. Прасковья Яковлевна хранила их в кармане своего выходного костюма, что висел в гардеробе. Использовала крайне экономно. И при всяком использовании повторяла, что это довоенные духи, с абсолютным качеством.
— Не знаю, чем я буду пользоваться, когда они у меня закончатся, — горестно говорила она. — Теперь таких нет.
В самом деле, когда этот флакон опустел, он долго лежал открытым в комоде среди постельного белья. А когда и там от него уже пользы не было, она его выбросила: когда и как — того никто не видел. Распрощалась без свидетелей с наиболее долго хранимым подарком от родителей... С тех пор Прасковья Яковлевна практически никакими другими духами не пользовалась. Изредка у нее появлялись какие-то пробнички, но, кажется, она к ним едва прикасалась — от современных духов, в которых использовались вредные для человека вещества, у нее возникали головные боли. Можно только представить, какой яд нам продают нынче в качестве духов...
С годами, когда кожа стала терять упругость, Прасковья Яковлевна перестала пользоваться пудрой, предоставив своему естеству жить природным образом. Дольше всего из предметов косметики у нее задержалась помада, но и ей был определен свой срок.
Инструменты для ухода за ногтями у нее лежали отдельно, а именно в выдвижном ящике письменного стола, что стоял около кровати. Их было не много — ножницы, копье и пилочка. Маникюр она, конечно, себе не делала, но ногти держала в чистоте и аккуратности — обрезала и подпиливала.
Попутно стоит упомянуть, как Прасковья Яковлевна одевалась.
Первое тут надо сказать вот что: Прасковья Яковлевна никогда не разводила злыдни, не ходила в потертой, изношенной или заплатанной одежде. Конечно, тем более не ходила грязной, неопрятной. Как-то ей это удавалось, хотя бывали периоды, когда она пухла от голода.
Родителями она была приучена к носким основательным вещам — дорогим, хорошего качества, приличных моделей, или, как теперь бы сказали, стильным. Поскольку фигура у нее была практически идеальная, то сидели на ней эти вещи очень красиво и носить их она умела. Если одежду приходилось изготавливать на заказ, то шилась она только самыми лучшими мастерами. Помнятся ее потрясающие пальто: зимнее ратиновое с объемным шалевым воротником из черного каракуля и демисезонное из толстого драпа с крупным елочным рубчиком по поверхности, оба приталенные и расширяющиеся к низу — по довоенной моде.
Привычку, полученную в родительском доме, она пронесла через всю 90-летнюю жизнь.
Гардероб ее не ломился от вещей, но и не был скудным. Два дня подряд в одном и том же наряде она не ходила. Носила одежду чрезвычайно аккуратно, так чтобы стирать как можно реже. Тяжелые вещи вообще не стирала, а если они занашивались и не выглядели свежо, то чистила или вообще выбрасывала. Иногда, если это были особенно любимые вещи, распарывала, стирала и отдавала в переделку, если требовалось, то с перелицовкой. В крайнем случае, шила из них одежду для детей. Короче, одевалась со вкусом: добротно, нарядно и изыскано, без броскости.
Ее любимые цвета — все оттенки коричневого, от черного до палевого. Синий и зеленый не любила, даже путала их — зеленый называла синим. Пожалуй, зеленый цвет она просто не видела{24}, и старательно скрывала это.
Такой же была и ее обувь — обязательно кожаная, непременно качественная, которую можно носить годами, на среднем каблуке. Шаг у Прасковьи Яковлевны был легким, ногу она ставила ровно, поэтому обувь не искривлялась, не затаптывалась и не изнашивалась. Любой выход в люди был для Прасковьи Яковлевны праздником, поэтому она отдавала предпочтение модельной обуви классических образцов, за счет чего все время выглядела модной и современной. Шпильку не носила, выбирала каблук средней толщины, видя преимущество таких туфель в том, что они одновременно комфортные и красивые. В таких туфлях она выглядела стильно и женственно, а ее ножки не уставали, тем более что на работе она переобувалась.
Предпочтение Прасковья Яковлевна отдавала кофейным цветам. Такие туфли считались весенней и осенней обувью, их можно было носить сезон за сезоном, они были универсальны на межсезонье, и не выходили из моды. Правда, в летнее время, когда стояла жара и ноги от долгого хождения отекали, она надевала босоножки попроще, хотя все равно не ходила в шлепанцах.
Помнится, Борис Павлович побывал за границей и привез ей оттуда прекрасные кожаные босоножки — белые с красной отделкой. Ни у кого в селе такой красивой обуви не было, какую носила Прасковья Яковлевна!
В преклонные годы каблучки на ее обуви не исчезли, а стали ниже — но не ниже 3-4-х сантиметров.
К слову сказать, так же она относилась и к постели, которая всегда была у нее в идеальном состоянии. В течение одного-двух лет Прасковья Яковлевна собирала пух и перо и регулярно мыла и пересыпала подушки. Каждую из них она распарывала, высыпала на листы старое содержимое, перебирала, затем просеивала на специальном решете, освобождаясь от потертой и измельченной мелочи и пыли. Оставшееся помещала в марлевые мешки и мыла в воде с мылом, стирала. Дальше раскладывала на листы и высушивала на солнце. Затем добавляла туда пуха-пера и заново делала подушку. Количество пера для подушек брала на вес. Так она освежала за сезон все подушки.
Ну а белье, одеяла, покрывала, накидки на подушки просто вовремя заменяла. Обязательно они у нее имели красивые вышитые метки, вязанные прошвы, подзоры, уголки. Чуть в каком-то изделии появлялась ветхость, она сразу же изымала его из употребления. Старые простынки и одеяла Прасковья Яковлевна стелила на металлические сетки кроватей, под матрацы. А еще на старых одеялах мы любили сидеть в тени сада, расстелив их на земле.
Белье меняла раз в неделю, после стирки крахмалила. Выравнивала скалкой и рубилом, а когда появились электрические утюги, то утюжила.
Говоря об отношении Прасковьи Яковлевны к своему здоровью, надо прежде всего сказать о питании. Тут главный секрет заключался в том, что она ела исключительно свежеприготовленную пищу. Возможно, такая привычка выработалась из-за того, что в старые времена не было холодильников, кто знает. Хотя другие люди хранили стряпню в погребах. Но никогда, никогда, никогда Прасковья Яковлевна не ела остывшую или подогретую пищу. Только свежую! Исключение составлял борщ — его она могла брать на обед и назавтра. Для мужа и детей жарила котлеты впрок, чтобы хватило дня на три, но сама ела только свежие. Остатки еды отдавала животным. Просто счастье, что она жила в тот период, когда продукты были качественные, а уголь и газ стоили копейки, так что поддерживать свой неукоснительный принцип питания ей не составляло труда. Ну разве что уходило время на готовку — три раза в день Прасковья Яковлевна стояла у плиты! Но этим она никогда не тяготилась, готовить еду для нее было, как дышать.
Приблизительно таким же было и отношение к своему здоровью — умеренным и разумным. Она сохраняла то, что получила от природы, не пытаясь что-то исправить или усовершенствовать. В молодые годы врачи находили у нее пониженное давление и приписывали внутривенные уколы глюкозы. Но она отказывалась их принимать.
Болела ли Прасковья Яковлевна простудными заболеваниями? Ну, иногда после переохлаждения у нее развивалась риновирусная инфекция, но она ее не лечила, а подавляла иммунитетом. Возможно, иногда пила «Кальцекс» или таблетки от головной боли. Как-то осенью она проехала на заднем сидении мотоцикла, не будучи хорошо одетой, и у нее началось воспаление легких — поднялась температура, появился кашель, она почернела с виду, ничего не ела... Но, кажется, кроме горячего молока с медом ничего не употребляла. Где-то с месяц недомогала, ничем не изменив свой режим работы — с ног падала, а трудилась... И все прошло. Это было самое затяжное и опасное заболевание, которое у нее наблюдали близкие.
Правда, всю молодую жизнь она сильно мучилась приступообразными головными болями, которые ей диагностировали как мигрени. Говорила, что приступы головных болей начались у нее после расстрела родителей, то есть в 23 года... А в дальнейшем были прочно привязаны к менструациям — три дня голова болела до того, что лицо ее превращалось в черный уголь, а на четвертый день просыпалась здоровой, только измученной. Но быстро восстанавливалась. Эти приступы исчезли в период климакса так незаметно, что она лишь спустя заметила их отсутствие.
Наверное, узнай она, что мигрень нередко становится спутницей гениев, то гордилась бы ею. Это шутка, конечно. На самом деле известно другое, что точь-в-точь характеризовало и ее: люди, страдающие мигренями, очень ответственно и добросовестно относятся к своему труду, работают на совесть. По сути, это трудоголики. Не удивительно, что мигренями страдали такие выдающиеся личности, как Понтий Пилат, Петр Чайковский, Эдгар По, Карл Маркс, Антон Павлович Чехов, Юлий Цезарь, Зигмунд Фрейд, Дарвин, Ньютон.
О том, как она простудила суставы рук, уже писалось. С руками она мучилась все время... Да и ноги побаливали. И вот появилась возможность поехать в специализированный санаторий и полечить их.
Это был «Хмельник» — как и все лечебно-профилактические заведения в советское время, профсоюзный санаторий. Находился он, естественно, в Хмельнике, Винницкой области. Как узнала Любовь Борисовна, позвонив туда, там было все, что требовалось для оздоровления и отдыха. Спальные корпуса стояли в окружении хвойного леса, и это создавало приятные ощущения, что отдых протекает на природе. Уникальные по своему составу радоновые минеральные воды, большие залежи лечебной торфяной грязи, благоприятный климат, чистый высокоионизированный воздух, близость реки и больших лесных массивов — все служило лечебным целям.
Прасковья Яковлевна сомневалась ехать или нет, ибо полагала, что Борис Павлович, подозревающий санатории в разложении нравов, все равно не отпустит ее туда. Да еще скандал устроит. Но что-то повлияло на «воззрения кота Мурра» и он не стал сопротивляться настоянию дочери. Так Прасковья Яковлевна единственный раз лечилась в настоящем санатории, если не считать камчатского Паратунка, конечно. Хорошо было еще и то, что в лесах летом прохладнее, чем в степи. Кто знает, может, Прасковье Яковлевне больше понравился бы санаторий у моря, но не пришлось ей сравнить. Да и то сказать, море больше подходит молодым.
К сожалению, времена тогда были суровые, так что Любовь Борисовна купила Прасковье Яковлевне билеты на проезд туда и обратно, встретила ее со Славгорода и проводила в поездку, но сопровождать не смогла. Хотя это был уже июль 1986 года, и Прасковье Яковлевне шел 66-й год. Ездить одной в таком возрасте было уже и трудно, и неудобно.
По возвращении домой, Прасковья Яковлевна восторгов не выражала. Кажется, ей там было одиноко... и очень непривычно. Она никогда не умела особенно придирчиво ухаживать за собой, нежить себя, да и просто жалеть. А тут надо было это делать. Рассказывала, что принимала ванны, лечилась грязями. Кажется, ей помогло. Судить можно по тому, что до санатория Любовь Борисовна все время возила ей таблетки от болей в суставах, а после лечения она о них забыла, и больше никогда не принимала.
И все же думается, что ей там было не так уютно, как в Ленинграде... Не по духу были те места, не по нутру.
Этой поездкой заканчиваются дальние путешествия Прасковьи Яковлевны без сопровождающих. После этого она еще 20 лет ездила сама по городам и весям, но это были уже ближние маршруты.
Последний раз ей пришлось ехать самой в Днепропетровск в сентябре 2005 года, когда у Любови Борисовны заболел муж и его положили в больницу. Она 21 марта начала работать в издательстве «Зоря» на должности начальника редакционно-издательского отдела, очень уставала на работе и плохо переносила одиночество в пустой квартире.
Прасковья Яковлевна согласилась побыть у нее, пока муж не вернется домой. И приехала сама! В 85 лет!
— Я еле-еле нашла тебя, — призналась она дочери, когда та открыла ей дверь. — Забыла уже дорогу, пришлось спрашивать.
— Почему ты не позвонила и не сказала, когда приедешь? Я бы тебя встретила.
— Потому что не думала, что я уже так стара, вот почему, — с обидой ответила Прасковья Яковлевна. — На силы я не жалуюсь, а вот город меня задавил. Как чужой стал.
— Тут многое изменилось против твоих прежних приездов по работе, — объяснила Любовь Борисовна. — Не стало ориентиров, которые тебе подсказывали дорогу... Так что дело не в тебе, мама.
Кажется, этот аргумент ее успокоил.
— Как бы там ни было, но эта поездка к тебе — моя последняя гастроль, — с печалью в голосе констатировала Прасковья Яковлевна.
Вообще, путешествовать она любила, и, наверное, часто думала о разных краях. Когда-то, когда ее младшая дочь еще была юной, Прасковья Яковлевна сказала ей, что мечтает увидеть Байкал, побывать на его берегах, выплыть на глубину и посмотреть в воду. Это при том, что водоемы она не любила и плавать не умела. Что это было за желание, с чем связано? — не объяснила. Может, сказались ее прогулки по глобусу, так и не проданному и навеки оставшемуся частью интерьера культмага? А может, услышала где-то о проблемах уникального озера и заинтересовалась им? Больше она о Байкале никогда не заговаривала, а дочка, тем не менее, запомнила тот первый разговор. И жалко ей теперь, что желание ее мамы так и осталось неосуществленным.
Вообще Любовь Борисовна считала, что мало сделала для своей мамы, сожалела, что не смогла сделать большего. Прасковья Яковлевна достойна была лучшей участи и родителями готовилась к лучшей доле, но — увы! — сама себе она все испортила, сама повернула стопы свои не на пути счастья, а на пути страданий. Вот это и стремилась исправить в ее жизни младшая дочь — стремилась преодолеть в ней страдания, избавить от них. Она хотела показать Прасковье Яковлевне, что во всех сражениях с роком она вышла победительницей. Ведь по сути многотрудными стараниями своими она добилась всего, чего хотела: ее избранник стал ее мужем и во все годы оставался рядом с нею, и с годами сделала она из него почти сносного спутника жизни, и дети ее жили не хуже других... Но не могла Любовь Борисовна снять с души Прасковьи Яковлевны чувство вины за поступки, омрачившие последние годы жизни Евлампии Пантелеевны и Якова Алексеевича, да и ее собственную жизнь тоже.
Что толку от побед, если они никому не принесли радости? Ни ей, ни ее мужу, ради которого совершались, ибо он часто возмущался и буянил. Прасковья Яковлевна сражалась не за то, за что должна была, за что стоило сражаться с ее уникальными качествами — упорством, верностью и старанием.
Но судьбу не перепишешь заново.
Уже одному тому стоило радоваться, — понимала Любовь Борисовна, — что много хорошего, что есть в мире, она открыла и показала Прасковье Яковлевне. А ведь ради познания мира человек и приходит в него.
Дела домашние
Так получается, что основной заботой Прасковьи Яковлевны было служение кому-то очень дорогому. Сначала это были родители, ее обожаемая мамочка, которая тяжко страдала грыжами. Но Евлампия Пантелеевна, видя самоотверженность дочери, не эксплуатировала это ее качество, а старалась свои обязанности выполнять самостоятельно. Она увязывалась платком и работала без скидки на болезнь. Кто знает, при таком безжалостном отношении к себе, возможно, она и не прожила бы долго. Хотя в советское время, переживи она войну, медицина была уже такой, что ей обязательно легко помогли бы.
Но случилось то, что случилось. Евлампия Пантелеевна ушла в вечность и главным человеком для Прасковьи Яковлевны стал муж. А он был другой натуры — таким, что на самом деле нуждался в направляющей руке и знал это, хотя никогда не признавал вслух. Он интуитивно чувствовал, что без Прасковьи Яковлевны долго и трудно будет искать путь, по которому надо идти в тех или иных обстоятельствах. Но даже не это было главное, не принятие решений, а их поиск и реализация.
Основной проблемой совместного существования Бориса Павловича и Прасковьи Яковлевны, особенно резко проявившейся в мирное время, стало то, что Борис Павлович был абсолютно не домашним человеком. Душе его требовались новые и новые события, чтобы мелькали они перед ним, кувыркались калейдоскопом, нужны были порции внешней динамики. И скорее всего не для участия в ней, а для созерцания. В нем сидел какой-то ненасытный и безжалостный демон, который преследовал его и лишал покоя, заставляя гоняться за новыми впечатлениями. При этом впечатления непременно должны были быть истинными, рожденными живыми событиями, — со зрелых лет и до конца жизни кино и телевизор он не любил. Едва поняв принцип условности, на котором строится любое искусство, он обозвал его ложью и больше не признавал. Борис Павлович после работы куда-то ехал, изобретая поводы, и возвращался домой в состоянии загнанности, когда у него оставалось сил только на то, чтобы умыться, поесть и в крайнем утомлении лечь спать.
Конечно, Прасковья Яковлевна не могла не контролировать его местопребывание и занятия. Она только этим и занималась. И все, что ей мешало, что отвлекало от мужа, не любила. Она не любила того, что забирало ее последние силы.
Легче всего держать глаз за Борисом Павловичем было тогда, когда он оставался в поле зрения, то есть дома. Вот она и изобретала всевозможные затеи, которые привязывали бы его к родному порогу. Дома всегда было много работы, по крайней мере в старом дворе. Там очень нужны были хозяйские руки дому и саду — прекрасному и молодому детищу рано ушедшего Якова Алексеевича. Но — увы! — самому Борису Павловичу не все нравилось. В уходе за домом и садом он видел только обузу. Как теперь становится понятно, у него на них не оставалось сил. Он так уставал на работе, что после нее уже ничего не мог делать, мог только сидеть и смотреть, как работают другие. А Прасковья Яковлевна, слишком быстро забывшая о тяжком ранении мужа, слишком уверовавшая в его полное исцеление, этого не понимала и требовала от него помощи в хозяйских делах. В селе ведь не принято было бездельничать, после работы все работали на своих участках дотемна. Что ему оставалось делать, если не уклоняться от этого, не уезжать по надуманным предлогам то в одно место, то в другое?
Неугомонная женщина постоянно изобретала для мужа виды приемлемых для него занятий. То книги он читал и потом пересказывал ей (так была перечитана вся приключенческая классика, вся рождающаяся советская фантастика и все шпионские романы), то осваивал транспортную технику, то еще что-то. Все это было по мелочам, не все из которых запоминались. Но одна ее затея была особенно масштабной — строительство нового дома.
В новом доме нужды не было, достаточно было дать капитальный ремонт старому дому, и в нем можно было счастливо дожить свою жизнь. Еще и детям оставить. Однако Прасковья Яковлевна повернула дело так и нашла такие резоны, что Борис Павлович с нею согласился. И выстроил дом от основания до конька — сам-один. При этом — страшно сказать! — они потеряли две трети своей усадьбы, где был сосредоточен почти весь отцовский сад... Все это отошло к старому дому и перешло в чужие руки. Вот такую жертву принесла Прасковья Яковлевна безымянному идолу, который смог увлечь Бориса Павловича хоть каким-то полезным занятием.
Тема нового дома была долгоиграющей — в новом дворе потребовались новые хозяйственные постройки: колодезь, погреб, сарай с летней кухней, гараж, помещение для угля и пр. На долгие годы Борису Павловичу было найдено занятие.
Но вот он все переделал. И вышел на пенсию. К тому моменту перестала существовать страна, которую он защищал на войне. В новую страну внедрились враги и порушили социализм, защищавший рабочего человека, развалили все системы, упорядочивавшие жизнь. Все! — труженика опять затоптали паразиты и эксплуататоры, опять сделали из него быдло. Не стало у людей надежды и опоры. В ужесточившихся условиях надо было самому что-то делать, чтобы выживать.
Казалось бы, не Борису Павловичу было искать, чем заняться, — дело само шло в его руки! Ведь он на уровне всей республики был орденоносным человеком, признанным «механиком с золотыми руками», как его называли — мастером по монтажу и ремонтам оборудования. Ничего другого ему придумывать не надо было — при его умении чувствовать душу машин и механизмов, при его приверженности технике, при том, что у него дома была прекрасно оборудованная слесарная мастерская, — можно было, как минимум, открыть частное техобслуживание и потихоньку расширяться. Представить нетрудно, сколько бы у него появилось заказов! Ведь такие заведения открывали даже те мужики, у кого руки не с нужного места росли. Да еще приезжали к Борису Павловичу консультироваться.
А можно было, как в послевоенные годы, ездить по городам и новым хозяевам монтировать оборудование на их предприятиях. А он — нет. Ему даже в голову не пришло воспользоваться своими знаниями и навыками! Оказавшись на пенсии, он растерялся и даже плакал, не умея приспособить себя к новому образу жизни.
Пришлось Прасковье Яковлевне на старости лет покупать корову, чтобы регламентировать жизнь мужа.
Животных в семье, где вырос Борис Павлович, никогда не держали. Ну, может, традиционно жили возле них коты и собаки, которые в хозяевах не очень-то и нуждались; в селе они и без хозяев способны прожить.
Мира, который несут с собой животные, где есть их жизненное пространство, потребности и судьбы, где с этим надо считаться, он не знал. А когда, женившись, в семье тестя и тещи узнал этот мир, ему он не понравился. Животные требовали слишком много внимания к себе, их надо было кормить по часам, после них надо убирать, с ними надо было решать вопросы размножения, охраны здоровья, зимовки. Их даже забавлять надо было!.. Все как у людей. Он этого не принимал, и обращался с животными не как с живыми существами, а как с объектами получения дополнительной выгоды, — без привязанности и внутреннего тепла.
Ну, заниматься настоящим домашним животноводством, когда все заботы ложатся на одни руки, очень тяжело, даже немыслимо. Поэтому Прасковья Яковлевна, привыкшая сосуществовать с миром живых существ, держала только курочек. Да и от тех столько потехи имела, что получались целые истории{25}. Уметь надо было видеть в них живые души!
Изредка заводила гусей, но их надо было пасти или держать в вольерах с обязательным выгулом. Но ни вольера, ни времени на выгулы у бедной женщины не было. Однажды их гусиное стадо пошло в соседский огород и сделало там потраву. Соседи предъявили счет о понесенных убытках и по нему пришлось платить. Так что с гусями было покончено.
А как хорошо бывало, когда по вечерам Прасковья Яковлевна выносила блюдо с большими гусиными яйцами, разбивала их, расколачивала и затевала замешивать на них тесто на пироги, на хворост, на коржики или на пасхальные куличи! Это священнодействие ввергало семью, особенно детей, в трепетное ожидание чуда. И поедание испеченных изделий было продолжением этого чуда.
Делались попытки держать свиней, но тоже не на регулярной основе. Дольше всех остальных животных у них держались утки, но они тоже не угодили хозяину, своими ластами затаптывая двор, после чего там трава не росла.
А тут — корова! Невиданное дело, сложное, подчиняющее себе всю жизнь хозяев без остатка. Тут уж не уедешь на целый день гулять у родни да у друзей. Ее же регулярно доить надо и каждый раз толк молоку дать. После отела количество доений вообще доходит до четырех-пяти раз в день — не шутка! И только через месяц переводят кормилицу на двух-трехразовое доение. Конечно, Прасковья Яковлевна все знала о коровах, умела их держать, но без помощника обойтись не могла. Перед покупкой коровы, надо полагать, она обсуждала эту проблему с мужем и тот обещал помогать ей, так что Прасковья Яковлевна, рискнула. Отчаянная была женщина!
В самом деле, корова во дворе — это ежедневный труд, без отдыха, порой без сна, особенно в ожидании отела, да и сразу после него... Опять же теленочка ежегодно поднять надо было, это же сущий ребенок. Пока выбрали себе ту корову, которая пришлась ко двору, несколько раз меняли, продавая одну и покупая другую. Но вот попалась им Красавка, да и прижилась.
Поначалу Борису Павловичу понравилось одно: ездить с женой на сенокосы. Там он мог накосить травы, улечься на нее и лежать часами, слушая пение птиц, а то и подремывая. Дома с травой тоже возился с удовольствием: просушивал ее, укладывал на хранение в сеновал, который сам соорудил... Дальше — больше. Наконец привык к корове, и ее кормление взял на себя, а затем и уборку коровника...
Машиной возил Прасковью Яковлевну на дневную дойку, иногда стоял у сепаратора, отбирая из молока сливки и отделяя от них обрат. А то еще нашел рецепт изготовления домашнего сыра из творога и регулярно варил его. Помогал как умел.
Прибыли от коровы они не имели, но радовались ей, ибо была у них забота и постоянная еда в доме. Под конец жизни Борис Павлович боялся остаться без коровы, ему казалось, что жизнь его станет совсем пустой.
Держать корову без хозяина стало невозможно, и Прасковья Яковлевна объявила о ее продаже. Покупатель объявился сразу. Отогнала она свою Красавку на новое место, договорилась, чтобы оставили ей старое имя, затем посидела рядом в коровнике, облила слезами свою многолетнюю кормилицу, попрощалась с нею навеки. Как ей было дома после этого, не спрашивайте. О том только стены немые знают.
Прошло несколько дней. Как-то под вечер вышла Прасковья Яковлевна из дому по делам, а там зашла развеяться то к родне, то к своякам. Возвращается домой чуть ли не на закате, а соседи ждут ее у своего двора.
— У вас, Прасковья Яковлевна, гости были, пока вы где-то ходили, — сообщили они.
— Какие гости? — всполошилась Прасковья Яковлевна. — Я никого не жду.
— Красавка ваша приходила.
Оказывается, новые хозяева начали приучать Красавку самой ходить домой, как она ходила у Прасковьи Яковлевны. И та, сердечная, пошла-таки в положенный час с пастбища, но не на новое, а на старое место — к Прасковье Яковлевне. То-то она по ней скучала, видать...
— Долго стояла Красавка у ворот, — билась в слезах соседка. — И так горько мычала, так звала вас... Душенька моя разрывалась смотреть на нее. Но тут новые хозяева нашли ее, увели...
Прасковья Яковлевна горестно покачивала головой, слушая рассказ соседей. Ласково смотрела на них за сочувственное отношение к Красавке.
— Бог спас меня от такой боли, — в конце сказала она, — иначе бы я не выдержала ее и умерла.
Жизнь без мужа
В наследство — разлука
На Рождество 1999 года Борис Павлович проснулся в прекрасном настроении, вышел в веранду, наклонился над умывальником, и вдруг его грудь пронзила сильнейшая боль, от которой он чуть не потерял сознание. Он расставил руки, ухватился за холодильник и откос входной двери, и это помогло удержаться на ногах. Преодолевая головокружение, он переждал, пока боль отпустила, затем осторожно пошел в комнаты, лег на диван перед телевизором. Испуг не проходил, дыхание участилось и его начало медленно окатывать влажной волной.
Прасковья Яковлевна управлялась на улице. До него долетали звуки ее шагов, отдельных фраз, сказанных корове или собаке, позвякивания ведер. Но все это было вроде не здесь, не в этом мире, а в каком-то вчерашнем, откуда он уже ушел. Тем не менее он ждал ее возвращения. Казалось, будь она рядом, это обязательно что-то изменит. Может, он еще не проснулся и это ему снится?
Рука невольно потянулась к столу, нащупала пульт — скоро включился телевизор и на экране возникли знакомые лица. Борис Павлович прислушался к их монотонной речи, и это его немного успокоило. Он закрыл глаза и незаметно задремал.
Вернувшаяся в дом Прасковья Яковлевна застала мужа спящим. Она тихо вышла в веранду, где была у нее кухня, закрыла дверь в комнаты и начала готовить завтрак.
Дальше утро продолжалось по заведенному сценарию, супруги позавтракали, наметили то, чем будут заниматься днем, начали обсуждать какие-то детали.
— Так я и не понял, — озабочено почесывая плечо, сказал Борис Павлович. — То ли это было со мной, то ли приснилось.
— Что такое? — встревожилась Прасковья Яковлевна.
И Борис Павлович рассказал ей про утреннее приключение с приступом боли.
— Скорее всего, тебе приснилось, — думая о своем, сказала Прасковья Яковлевна.
А думала она о том, что еще как минимум три дня будут продолжаться рождественские каникулы и обращаться в больницу бесполезно, надо потянуть время. Она давненько присматривалась к мужу, обращая внимание на его бледность. Всякие мысли посещали ее в это время. Но иногда бледность сменялась обычным легким румянцем, к тому же Борис Павлович не жаловался, и она гнала от себя подозрения. Даже еще ругала себя за них, что накликает беду на дом. Успокаивало то, что Борис Павлович, как и прежде, был бодр и неутомим — четверти часа ему хватало для отдыха, и опять он готов был к новым походам и к приключениям. Хоть недомогание не повторялось и хоть он думал-таки, что это был сон, но все равно в понедельник обратился в больницу, полагая, что во сне организм подает ему знаки о приближении болезни.
В советское время надолго задержавшаяся здесь Полтавец Анна Федоровна не считалась большим диагностом и знатоком болезней. Она даже хорошим человеком не считалась в силу равнодушия к больным и к их судьбам. Можно было подумать, что на ниве нанесения ущерба советским гражданам она некогда сотрудничала с немцами, если бы не ее неподходящий возраст. Впрочем, его ведь можно было изменить, — эта мысль частенько приходило в голову женщинам, которых она обирала на абортах. Но, выйдя на пенсию, эта деятельница сбежали из Славгорода, а на ее место приехали новые врачи, более знающие, отзывчивые и совестливые.
— Вас что-то беспокоило перед этим? — спросили у Бориса Павловича при осмотре.
— Да зачесалось как-то в левой подмышке. Я кинулся чесать, а там затвердение, величиной с камушек. Я помазал то место «Троксевазином», а оно вот... — он поднял левую руку и показал небольшой волдырь.
Пока его ощупывали, он следил за выражением лица врача. Но тот улыбался.
— Это обычный авитаминоз, — вынес он вердикт. — В вашем возрасте такое случается, особенно зимой. Вот, — он протянул Борису Павловичу рецепт, — попьете эти таблетки, и у вас все нормализуется. В любом случае через недельку опять приходите на прием. Обязательно!
Специально Прасковья Яковлевна не ходила к врачу, но когда увидела его в центре, то отважилась обратиться с вопросом о здоровье мужа.
— Я действительно прописал Борису Павловичу витамины для укрепления иммунитета, — успокоил он ее. — Не беспокойтесь, мы понаблюдаем за ним. Он поправится.
Через неделю симптомы болезни вроде действительно исчезли, и врач похвалил больного, назначив, однако, опять показаться через неделю. Воодушевленный Борис Павлович, придя домой, позвонил младшей дочке и все ей рассказал, успокоив, что его страхи и тревоги уже позади.
Любовь Борисовна находилась в своем магазине, когда позвонил Борис Павлович. После разговора с ним в ней поселилось беспокойство, казавшееся беспочвенным. Припоминая веселый голос и уверенные интонации отца, она старалась обуздать свое воображение и восстановить душевное равновесие. Удавалось это плохо. К ней заходили знакомые и, видя ее без улыбки, спрашивали о причинах непривычно хмурого вида. Участие трогало ее, она плакала и жаловалась им, что у нее опасно заболел отец. Почему-то это сразу стало понятно ей. В ответ на жалобы знакомые сказали ей две ценные фразы: одну щадящую, а другую подбадривающую.
— То же было и с моей мамой, — выслушав ее, Людмила Левченко по своей привычке улыбнулась. — Не плачь, сильный организм долго сопротивляется болезни, так что твой отец еще не один год проживет.
Правда, она не уточнила, какая это будет жизнь, и сердечко Любови Борисовны воспрянуло от надежды...
А Фидель Сухонос, узнав о горе, что постигло Любовь Борисовну, принес лекарства, оставшиеся от лечения его тещи. И хоть в дальнейшем те лекарства отцу не пригодились, но этот сочувствующий жест оказал свое поддерживающее воздействие.
— Сейчас вы должны набраться мужества и делать для отца то, что надо, — видя ее слезы, сказал Фидель. — Пусть плачут те, кто ни на что больше не способен. Вы не из них!
Эти фразы, сказанные в разное время, запомнились Любови Борисовне и помогли ей справиться с горем.
Прошло какое-то время, и опухоль опять возникла на старом месте. Тогда Бориса Павловича направили на лечение облучением.
— Вы не должны беспокоиться, — выписывая направление, говорил врач, — лучевая терапия применяется при лечении многих болезней, в том числе и опасных. Так что кого бы вы там, в онкоцентре, ни встретили, не обращайте внимания на разговоры. Просто я не хочу пичкать вас таблетками, от нескольких сеансов облучения у вас все быстрее пройдет.
В онкоцентр на процедуры Бориса Павловича возила Александра Борисовна, не допуская его разговоров с другими больными и вообще ограждая его от лишних разговоров с кем бы то ни было.
Облучение в самом деле привело к тому, что опухоль почернела и исчезла. Тем временем Бориса Павловича направили в лечкомиссию{26} на полное обследование и выявление очага заболевания, поскольку в его крови были выявлены атипичные клетки. Ему эти тревожащие данные не сообщали, а дочери сказали. Борис Павлович чувствовал себя здоровым и не понимал, что с ним происходит, почему вокруг него поднялся этот сыр-бор.
Успехов обследование не принесло, очаг выявлен не был, и Бориса Павловича решили просто наблюдать. Видимо, он кое о чем начал догадываться, потому что ничуть не удивился, когда ему назначили химиотерапию. На этих сеансах его сопровождала Александра Борисовна. Перенес он химиотерапию сравнительно легко, хотя, конечно, очень чувствовал нагрузку на организм. После последнего сеанса, как всегда, добирался домой самостоятельно. По дороге зашел в магазин Любови Борисовны, а дальше идти не смог, попросился где-то полежать. Хорошо, что в магазине была комната отдыха с диваном. Там Борис Павлович и пролежал полдня. А вечером уехал.
Настало лето и захватило его своими заботами. После лечения он окреп, восстановился в силе и отвлекся от медицины, даже начал забывать о своих проблемах. А в начале осени неожиданно погиб муж Александры Борисовны. Это был страшный удар для ее родителей, для всех родных. Видимо, перенесенный Борисом Павловичем стресс запустил механизмы, ухудшающие его здоровье. Он резко начал сдавать.
Что сказать?
Настало 16 октября, и в его доме за столом собралась вся семья по случаю дня рождения Прасковьи Яковлевны. Борис Павлович тихо спросил у Любови Борисовны:
— Я могу рассчитывать на тебя, если мне понадобиться помощь?
— Конечно! — ответила та.
А через месяц он позвонил и сказал ей коротко:
— Со мной все кончено. Приезжай.
Любовь Борисовна приехала к нему с мешком лекарств, где были ампулы и флаконы для внутривенного капельного введения и для простых уколов, таблетки для перорального приема, разные препараты для снятия болей, для остановки кровотечения и пр. Она основательно проконсультировалась с врачами и расписала себе полный план того, когда что и как вводить отцу.
Поговорив с местными врачами, которые одобрили ее план помощи отцу, она контролировала все действия процедурной медсестры; уколы, протирания делала сама. До конца она боролась с болезнью отца, главное — вовлекала его в эту борьбу, отвлекала от пессимистичных мыслей, скрашивала его последние дни.
Любовь Борисовна постоянно твердила, что у Бориса Павловича воспалились зарубцевавшиеся после ранения ткани. Отсюда и температура, и скопления жидкости, выступившие буграми на груди и по боку. Этот недуг преодолеть можно, только надо очень стараться. А он делал вид, что верит ей.
Пока был на ногах, Борис Павлович показал Любови Борисовне, как надо отключать и включать газовый котел, обогревающий дом, — готовил ее к неизбежному... что последнюю ночь его труп надо будет держать в холодном доме. Пару раз она при нем проделала процедуру с котлом, пока он не убедился, что дочь все усвоила. Он также все время беспокоился, есть ли в доме мужчины — боялся, что его смерть напугает женщин. Но с ними никого не было, и они ему говорили, что они одни.
С Борисом Павловичем успел попрощаться и родной брат и единственный оставшийся в живых друг детства — Колодный Григорий Назарович. Конечно, приходили они просто проведать больного. Григорий Назарович даже принес чекушку и перекинул стопарик за здоровье друга. Все было в лучших традициях нормальных мужиков...
Борис Павлович, сколько мог, находился на ногах, выходил на улицу, благо зима была необыкновенно теплая, словно Бог специально так приязненно провожал его в лучшую жизнь. В какой день он вышел в последний раз, не запомнилось. Но в тот раз он попросил открыть гараж. Трудно передвигаясь, прошел туда и показал Любови Борисовне, как надо ставить аккумулятор на подзарядку, как снимать с нее. Опять же попросил ее повторить все действия, показанные им.
Затем сел за руль «Славуты» — нового автомобиля, на котором ездил в последнее лето. Завел мотор, включил музыку. В какой-то миг глаза его забегали, словно он решился на что-то отчаянное и окончательное, и руки задвигались резче. Любови Борисовны показалось, что сейчас он выедет из гаража, поедет куда-то подальше от дома, разгонится там и направит машину в столб или в дерево, чтобы разом покончить с мучениями... Она не препятствовала, предоставляя отцу делать так, как ему лучше. Он колебался несколько мгновений, а потом посмотрел на дочь, стоящую в сторонке, и понял, что угробит не свою машину, а дочкину. И пожалел ее. Вдруг поднял правую руку и, весело глядя на Любовь Борисовну, покрутил ею в такт музыке.
Гараж он покидал уже смирившимся. Пока Любовь Борисовна справлялась с замком, стоял во дворе, смотрел на старые абрикосы.
— Вон, смотри, дятел! — показала ему на одну из толстых веток подошедшая дочка.
— Где, не вижу? — заинтересованно всматривался Борис Павлович в крону абрикоса.
— Сюда смотри! — протянула Любовь Борисовна руку.
— Да, теперь вижу. Маленький какой...
Болезнь прогрессировала, настали такие дни, что Борис Павлович уже не мог сам подниматься с постели. Но все равно делал такие попытки — вдруг где-то брал силы и рывком вскакивал, по инерции проделывая пару шатких шагов. Тогда Любовь Борисовна ловила его в объятия, доводила до дивана и усаживала. После продолжительного отдыха медленно отводила на кровать.
Однажды он опять так вскочил и после нескольких шагов всей массой начал валиться на пол. Подхватившаяся Любовь Борисовна не имела сил удерживать его в вертикальном положении. Так вдвоем они и осели вниз. Единственная помощь от Любови Борисовны была та, что она смягчила падение отца, предотвратила удар о предметы и возможные травмы. Борис Павлович лежал в каком-то невероятно скрюченном положении и даже выпрямиться не мог. Дочь вскочила и засуетилась возле него. Подавала ему то одну руку, то две — старалась поднять так, как поднимала с кровати, чтобы он сел. Но и сесть у него не получалось.
Любовь Борисовна брала отца в объятия и тянула вверх, потом пыталась волочить по полу до дивана — все было безрезультатно. Ни на один сантиметр они не сдвигались с места. Было проделано нескольких таких попыток, представляющих собой просто жуткие кувыркания, ибо она рывками отрывала отца от пола и тут же падала вместе с ним, изворачиваясь, однако, так, чтобы отец оставался сверху и не травмировался. В один из таких кувырков Любови Борисовне каким-то чудом удалось приподнять отца, взвалив себе на грудь и сохранив при этом равновесие. Хотя ее поза оказалась весьма неудобной, но это был успех! Дальше она уперлась коленями в стоящее неподалеку кресло, и начала подниматься вместе с Борисом Павловичем. Затем совершенно неестественно перегнулась набок и передвинулась так, что больной оказался у нее на плече. Борис Павлович, понимая намерения дочери, тоже очень старался помочь, обхватил ее за шею и удерживался в таком положении. Его ноги беспомощно волочились по полу. Переместить свою ношу на спину, что было бы удобнее, Любови Борисовне никак не удалось бы, она даже не пыталась это сделать, чтобы опять не рухнуть вниз. Главное было удерживаться на ногах и делать мелкие шажки так, как получалось. Пятясь в какой-то перекошенной позе, она приближалась к цели вместе с отцом. Почувствовав ногами диван, медленно опустилась на него и уже лежа развернулась и столкнула отца с себя.
Когда в дом вошла Прасковья Яковлевна, они успели отдохнуть. Прасковья Яковлевна сразу поняла суть происходящего. А Борис Павлович, увидев ее, как-то на глазах приободрился.
— Ты опять пытался ходить? — ласково спросила Прасковья Яковлевна.
— Та ну да... Пробую силы.
— Пока что их маловато, — Прасковья Яковлевна присела перед мужем: — Ну что, еще полежишь тут?
— Нет, ведите меня на место.
В последние выходные к Борису Павловичу приезжала Светлана, внучка, — попрощаться. Он уже не вставал, но еще был в сознании. А 15 января 2001 года, после Светиного отъезда, впал в кому. Через сутки очнулся, пожаловался на боль в области шеи — пальчиком по ней провел.
— Болит... — сказал.
Любовь Борисовна сделала ему первый обезболивающий укол.
Он опять впал в беспамятство, и уже не чувствовал, как в последний раз его навещала и осматривала Светлана Александровна, врач; не наблюдал, как она изменилась в лице и вздрогнула, почти отпрянула, увидев его сильно исхудавшим...
И опять через сутки Борис Павлович очнулся.
— Мне в бреду видятся подводы, — показал в угол комнаты, — вон оттуда они едут в мою сторону и везут квашеную свеклу.
— Почему вдруг такое привиделось?
— Не знаю, но я прямо слышу запах и даже чувствую вкус той свеклы. Мне очень надоел этот бред, — пожаловался он Любови Борисовне.
— Да ты не бойся, я тебя из любого бреда вытащу. Вот посмотри, сколько у меня всего есть для этого, — Любовь Борисовна кивнула на прикроватный столик, где стояли наготове все препараты, что могли понадобиться для остановки кровотечения, если оно случится.
Врачи почему-то твердили ей, кто кровотечение обязательно возникнет. Может, оно и возникло, не зря же Борису Павловичу чудилась квашеная свекла, но не внешнее, а внутреннее?
И опять Борис Павлович пожаловался коротко:
— Болит.
— Сделать укол? — спросила Любовь Борисовна, и он в ответ только закрыл глаза и попытался кивнуть.
Любовь Борисовна сделала ему второй обезболивающий укол. Вскоре он уснул или впал в беспамятство...
В последнюю ночь, с 18-го на 19-е января, Прасковья Яковлевна с вечера поспала, а затем сменила Любовь Борисовну у постели Бориса Яковлевича, чего ни разу до этого не делала. Любовь Борисовна просто не допускала маму к больному, потому что та начинала плакать и беспокоить его. Но теперь он был в коме... Теперь можно было. Прасковья Яковлевна просидела возле мужа до пяти часов утра, а затем ушла управляться возле коровы.
Любовь Борисовна спала в соседней комнате так, что в открытую дверь видела отца. Она слышала, как мама прошла мимо нее, и понимала, что наступает утро, но продолжала спать. И вдруг проснулась от какого-то изменения. Это Борис Павлович перестал дышать. Она подошла к нему, взяла за руку. Рука была как восковая — мягкая и теплая, но неживая. Что-то изменилось в ней, какая-то легкость из нее ушла...
Стараясь не шуметь, Любовь Борисовна вышла на веранду, выключила отопление, как показывал ей Борис Павлович, и посмотрела в окна. Маму увидела на хозяйственном дворе. Любовь Борисовна высунулась в открытую форточку и позвала ее.
— Что случилось? — спросила Прасковья Яковлевна, выпрямляясь. Видно было, что она ничего плохого не ждет, ни о чем не подозревает.
— Папы не стало, — вынуждена была на расстоянии сообщить Любовь Борисовна.
Это была пятница, Крещение, раннее утро — половина седьмого. Вместе они пошли в спаленку Прасковьи Яковлевны, к телефону, позвонили Алексею Яковлевичу, мужу Любови Борисовны и Александре Борисовне, всех застали дома и всем сообщили печальную новость.
Похороны состоялись 20-го января при прекрасной теплой погоде, так что поминки справили во дворе.
Грустя из-за подступающей старости, Борис Павлович частенько говорил жене:
— Как хорошо нам вдвоем, Паша. Только ведь разлука все равно наступит... Разлука навек.
В такие минуты сжималось сердечко Прасковьи Яковлевны от боли и страха перед днями грядущими, от желания разбиться на осколки, но не допустить разлуки с мужем! Она вспоминала своих родителей, расстрелянных в один день. Евлампия Пантелеевна так и мечтала, чтобы умереть в один день с мужем. Правда, — думала Прасковья Яковлевна, — за осуществление той мечты мои родители заплатили слишком высокой ценой: ранней смертью, да к тому же лютой, насильственной. Жестокосердный бог отнял у них старость и послал страшные душевные пытки перед кончиной, особенно Якову Алексеевичу. Кроткие Евлампия Пантелеевна и Яков Алексеевич никому не мешали, никому не встали поперек дороги, никому не сделали зла. За что же господь так с ними обошелся?
Слушая Бориса Павловича, Прасковья Яковлевна боялась думать о будущем, чтобы не возникло желания просить у бога какой-то особенной смерти, по своему сценарию. Боялась, что Бог и ее накажет за это. Только сжимала зубы и трудно помалкивала.
И вот свершилось... пришла разлука, разлука на все времена.
Хорошо помнила Прасковья Яковлевна тот вечер, когда Борис Павлович их разлуку сделал именно такой — на все времена. Тогда он еще ходил.
Любовь Борисовна, приехав по его вызову, привезла ему в подарок красивую импортную сорочку из фланели в сине-черно-белую полоску и много маек с короткими рукавами из мягкого натурального трикотажа. В этих одежках его телу хорошо дышалось, и он носил их с особенным оттенком услады. Утром поднимался, умывался и с видимым удовольствием надевал полюбившиеся вещи. Затем прохаживался по дому, смотрел в окна, а потом ложился на диван и весь день гулял, беседуя с дочкой или посматривая на экран телевизора. Вечерами к ним присоединялась Прасковья Яковлевна, и они втроем о чем-нибудь душевно разговаривали.
В тот вечер он вспоминал свою старшую сестру Людмилу. Уже четыре года как ее не было на свете — умерла в далеком Нью-Йорке, и прах ее был развеян над чужой землей. А в Славгороде остался лежать на кладбище Сергей Емельянович, ее муж, и рядом стояло заготовленное для нее место. Иногда, проведывая в праздники почивших родных, Борис Павлович заходил в тот уголок, и, видя, что место сестры пустует, успокаивал себя, что она не умерла, а просто живет с сыном за океаном и приехать уже не может. Он знал, что сестра его не была ни умной, ни доброй, что она ненавидела свою мать, которую сам Борис Павлович очень любил, но она была сестрой, и он скучал по ней.
Желая оторвать отца от грустных мыслей, Любовь Борисовна спросила:
— Папа, а как была девичья фамилия твоей бабушки Аграфены, маминой мамы?
— Ну как? Феленко, — как-то рассеянно ответил Борис Павлович, явно продолжая думать о другом.
— Нет, это по мужу она была Феленко. А я про девичью спрашиваю. Ты никогда ее не называл.
— Про девичью... — Борис Павлович нахмурился. — Ты не спрашивала.
— Теперь спросила.
— Да нерусской она была! — с нотками досады ответил Борис Павлович то ли из-за того, что его отвлекают от затаенных мыслей, то ли из-за копания в его родословной. — Мейн ее девичья фамилия. Четыре буквы.
Любовь Борисовна от неожиданности растерянно посмотрела на Прасковью Яковлевну, дескать, вот так сюрприз.
— Похожа на немецкую, — вслух сказала она, подыскивая новые темы для разговора, коль уж и эта тема оказалась скользкой.
— Не знаю, — равнодушно ответил Борис Павлович. — Может, и на еврейскую.
Вдруг он приподнялся и внимательно посмотрел в глаза своим собеседницам, обратился, однако, к дочери:
— У меня будет просьба к тебе, дочка. Обещай исполнить.
— О чем речь! Конечно, все исполню, — не ожидая подвоха, сказала та.
— Похорони меня на месте тети Люды, — и, видя, что Любовь Борисовна растерялась, добавил: — Это ее дом, а я хочу к своим.
— Но... — Прасковья Яковлевна не стала продолжать, потому что в это время Борис Павлович взял жену за руку.
— А то положат возле Сергея кого-то чужого... — сказал ей. — Понимаешь, Паша, будет обидно. Из нас всех только мое право там лежать.
— Ой, надо записать девичью фамилию бабушки Аграфены, а то забуду, — Любовь Борисовна вышла в кухню и действительно записала в свой дневник названную отцом фамилию.
Больше к этому вопросу они не возвращались. Отец знал, что его просьба будет в точности исполнена, потому что у младшей дочери слово с делом не расходилось.
И его действительно похоронили там, где он сказал.
А Прасковья Яковлевна осталась не просто без места — в наследство от мужа она получила разлуку на все времена.
Последние полеты души
— Я не могу поверить, что его уже никогда не будет, — как-то сказала Прасковья Яковлевна младшей дочке. — Это нелепость какая-то!
После похорон Бориса Павловича она почти не плакала. Братьев оплакивала с невероятными рыданиями, криками и причитаниями, а тут вела себя вполне адекватно. Хотя, скорее всего, ревмя голосила, когда все разъезжались и она оставалась в доме одна.
Первое время, наверное, месяца два-три, с нею оставался правнук Алеша. Умелый ко всему, он помог ей при отеле коровы. Сама бы она с этим не справилась, и попросить помощи было не у кого — поселок страшно обезлюдел, а оставшиеся жители на глазах теряли человеческий облик и умения. Прасковья Яковлевна вдруг обнаружила, что они с мужем уже долго-долго жили в каком-то особом уединении, представляя собой островок благополучия в этом безликом растерявшемся человеческом омуте. А теперь ей даже опереться не на кого было — все соседи, знакомые и родственники давно уже были убиты жизнью. Все они сами нуждались в поддержке и смотрели на окружающих с ожиданием спасения в глазах.
На смену Алеше приехала Любовь Борисовна, затеяла ремонт в доме. Она подправила отклеенные и потрескавшиеся обои в угловой спальне, когда-то отцовой, и в зале, переклеила обои в коридоре и в веранде, также покрасила потолок в веранде. Но главное — подшпаклевала и покрасила пол и входные двери, где были щели в полсантиметра.
Три недели истекли быстро, дольше Любовь Борисовна оставаться не могла — ее муж тоже требовал ухода и внимания. Начался период, когда жизнь ее дробилась на время пребывания у Прасковьи Яковлевны и дома, с мужем. И всякий раз при приезде в Славгород Прасковья Яковлевна встречала ее словами:
— Почему ты так долго не приезжала? Я устала ждать тебя, — и это вырывало сердце Любови Борисовны из груди.
Она не знала, что делать, как организовать жизнь Прасковьи Яковлевны, чтобы ее мама не страдала. Мучила финансовая беспомощность. Ведь можно было устраивать ей небольшие путешествия, что она любила, но... Бог не дал такой возможности. А дальше было только хуже...
И все же Любовь Борисовна сообразила, что надо делать, — надо взяться за книгу о славгородской истории и подключать к работе Прасковью Яковлевну, ведь в душе она всегда была филологом. Любовь Борисовна была уверенна, что мама близка писательству и согласится помогать, вспомнив свою молодую профессию. Постепенно созрел план.
Собравшись с духом, она, взяв в качестве угощения белое полусладкое вино «Легенда Инкермана» и жаренные в кляре крабовые палочки, вдвоем с мамой отправилась в гости к Сидоренко Николаю Николаевичу. Цель преследовалась одна — получить согласие, чтобы на материале его жизни написать книгу и рассказать в ней о Славгороде и о славгородцах. Но едва войдя во двор и увидев гостеприимных хозяев, Любовь Борисовна поняла, что жена Николая Николаевича тяжело больна, доживает последние месяцы. Вряд ли этим людям будет дело до моей задумки, — подумала Любовь Борисовна.
Но она ошиблась! И Николаю Николаевичу, и Анне Сергеевне их встреча оказалась нужной, и они ухватились за нее. Им нужно было что-то такое, что хоть на время поглощало бы их и отвлекало от трагедии с болезнью Анны Сергеевны. Гости и хозяева одинаково рады были встрече, засиделись за беседой и обо всем договорились. Провожая Любовь Борисовну и Прасковью Яковлевну, супруги Сидоренко назначили день, когда готовы будут рассказать о себе.
Так начала создаваться книга, известная теперь под названием «Нептуну на алтарь». Правда, рассказы Анны Сергеевны касались только истории ее родительской семьи и истории Славгорода, поэтому полностью войдут в книгу о Борисе Павловиче и в книгу о Славгороде, которые будут продолжением цикла «Когда былого мало»{27}.
Рассказчиками они были не одинаковыми. Николай Николаевич оказался косноязычным человеком, стеснялся этого и все толкал жену в бок, что-то уточняя.
— Расскажи, у тебя лучше получится, — иногда просил ее, когда речь шла об их общей жизни.
Зато Анна Сергеевна превзошла ожидания. Столько в ней всего накопилось, столько она всего стремилась рассказать, что им пришлось встречаться еще несколько раз.
Прасковья Яковлевна исправно выполняла работу литературного секретаря. Она держала тесную связь с героями книги, помогала собирать материал и семейные реликвии, надиктовывала в книгу свои воспоминания. А там, где речь шла о родословных ее предков, использовала также изыскания Алексея Яковлевича Бараненко, своего брата.
С этой миссией она часто встречалась с людьми, и ей, конечно, хотелось хорошо выглядеть, ведь в юности ее так любовно одевали родители. Да она и сама себя по жизни содержала очень прилично! А тут засиделась дома, обносилась, осталась без обновок... У Любови Борисовны не было денег поменять маме весь гардероб, как ни хотелось ей это сделать, тем не менее она купила два отреза и сама сшила Прасковье Яковлевне красивые летние платья. В этих платьях Прасковья Яковлевна очень хорошо выглядела и понимала это, поэтому они просто поднимали ей настроение.
Кроме дел, связанных с написанием книги, Прасковья Яковлевна теперь смелее и охотнее ходила в гости, чаще наведывая тех, кто практически сидел дома: Галину Игнатьевну Ермак, Веру Янченко и Татьяну Сергеевну Янченко — все они были женами ее двоюродных братьев. Не забывала также семью родного брата Бориса Павловича, регулярно бывала у них. Иногда заходила к его друзьям и сотрудникам, в частности к Григорию Назаровичу Колодному, Георгию Бриленко, Екатерине Изотовой, Марии Сухановой. Бывала у кумы и бывшей сотрудницы Нюры Трясак, проведывала своих соседей и одноклассниц Алексея Яковлевича — Марию Сергеевну Ермак, Нину Максимовну Тищенко, Мотрину Жарову, Фросю Ивановну Хохленко. Под вечер могла посидеть на скамейке с Голощаповой Екатериной, Осмоловской Раисой Григорьевной и Тищенко Зоей Григорьевной.
Особенное место занимали импровизированные творческие вечера, происходящие у нее дома. На них Прасковья Яковлевна рассказывала приглашенным о том, как пишется книга, как собирается материал, как вообще варится вся эта кухня, и они с интересом ее слушали.
— Мне полезно было бы это знать в пору, когда я работала в культмаге и общалась с детьми, — признавалась Прасковья Яковлевна. — Тогда бы я больше полезного сделала для тех из них, которые крутились возле книг. Был у меня в магазине такой неформальный кружок книголюбов.
На этих вечерах Любовь Борисовна показывала фильмы о Прасковье Яковлевне, о Борисе Павловиче, об Алексее Яковлевиче, которые она снимала как редактор ДТРК.
Иногда в ее доме собирались подруги Любови Борисовны. Разговоры велись все о том же — о книге, которая писалась, о судьбах ее героев, многие из которых тогда еще были живы, об истории Славгорода.
На написание книги ушло два года, и все это время Прасковья Яковлевна находилась среди людей, встречалась с ними, что-то уточняла, передавала героям книги корректурные оттиски на вычитку, собирала замечания, распространяла по сельским и районным библиотекам журнальные публикации книги под названием «Заручники долі». Попутно Любовь Борисовна организовала съемку документальных фильмов о Прасковье Яковлевне, об Алексее Яковлевиче и о Николае Николаевиче, к тому времени овдовевшем. Это была невероятно сложная в организационном плане работа! Но интересная. Прасковья Яковлевна вблизи увидела людей, которые пишут книги, снимают телевизионные передачи, увидела журналистов — вообще создателей региональной культуры, о чем она раньше не задумывалась.
— Мы не гении, Прасковья Яковлевна, — присев рядом, доверительно признавался Сиренко Владимир Иванович, писатель и телевизионный редактор. — Мы обычные служители слова, пахари на ниве писательства. Наша задача — поддерживать художественную среду, в которой зарождаются и вызревают настоящие таланты. Без таких пахарей, как мы, они не возникнут, вот в чем дело.
— Это как в школе без троечников нет отличников? — уточняла Прасковья Яковлевна.
— Вот именно! — радовался Владимир Иванович. — Все относительно. И мы должны создавать условия для этой относительности, поддерживать объективные процессы.
— А я думала, как писатель — так уже и большой талант.
— Для появления большого таланта мы все должны много потрудиться.
Это было лучшее время в жизни Прасковьи Яковлевны — она уже продала коровку, отдохнула от тяжелых ведер и от работы без присяду, смирилась с одиночеством и перестала оплакивать мужа. Она опять окунулась в атмосферу своего девичества, книг, умных рассуждений и высших сфер. После юности такое время у нее было только в Ленинграде, среди спектаклей, картин и прекрасных видов этого города. Новые заботы, которыми ее окружила Любовь Борисовна, ей нравились, ибо ни о чем материальном печься не заставляли, и можно было заниматься только собой, своей душой.
Она много читала — Любовь Борисовна привезла ей целый ящик книг, — а по вечерам пересказывала прочитанное своим собеседницам. Конечно, возраст давал о себе знать. У нее начали появляться бессонницы. Но ей они даже нравились, ведь, когда сон убегал прочь, она могла сесть в зале перед телевизором и смотреть его, щелкая пультом и включая громкость хоть на всю катушку. Наслаждение свободой и беззаботностью — вот чем были наполнены эти годы для Прасковьи Яковлевны. И она не думала, что кто-то помешает ее блаженству.
Но случилось неожиданное... что до основания разгромило ее мир — она дала кров старшей дочери.
Многое Прасковье Яковлевне не нравилось в ней. Всякие высоковольтные отношения и многоэтажные коллизии, которые приходилось наблюдать в дочке, были ей не по сердцу и уже не по здоровью. Привыкшая в некоторых ситуациях поправлять мужа, за что по большому счету тот бывал только благодарен, Прасковья Яковлевна попыталась и тут сказать свое слово. Но дочь слишком резко дала понять, что ничьих советов слушать не хочет. В итоге между Прасковьей Яковлевной и старшей дочерью возникла напряженность, даже отчужденность. Внешне они старались ее не выявлять, но Прасковье Яковлевне, не имеющей другого круга общения, эта ситуация отравляла жизнь.
Такие отношения в возрасте добропорядочной Прасковьи Яковлевны вообще поддерживать тяжело и невероятно вредно для здоровья. Она нуждалась в тишине и покое, а вместо этого нагружалась эмоционально, нравственно и психологически, поскольку раньше думала о дочери в превосходных степенях, а теперь убедилась, что семь десятков лет ошибалась на ее счет.
Но горше всего было то, что у бедной Прасковьи Яковлевны была отнята милость божья — в который уже раз за жизнь — обретенная свобода.
Отнятая благодать
Благодать, как понимала Прасковья Яковлевна, настает тогда, когда нет угнетения, когда розданы долги и когда, живя для себя, можно подумать о душе. Говорить об этом она не любила — считала невозможным, не позволительным касаться сокровенного в человеке. Это все равно, что срывать с него одежду — нельзя. Но думать о благодати не запрещалось, ибо в ней был смысл жизни. И чем больше Прасковья Яковлевна уставала от жизни, тем больше думала о благодати, жаждая ее и стремясь к ней.
Короче, в списке ценностей Прасковьи Яковлевны на первом месте стояла свобода, дальше чувство долга и только на третьем месте была забота о себе и о своей душе. Можно представить, как она, сердечная, мучилась, разделяя жизнь с человеком, который с ее свободой не считался, взваливал на нее долги всех поколений (детей и даже внуков), что не оставляло ей места для себя!
Прасковья Яковлевна прожила свои дни в спешке, в гонке за исполнением долга, чтобы хоть минуту выиграть для отдыха. А уж возможности для обретения свободы и для исполнения своих желаний пыталась выкраивать из остатков сил и времени. Но что-то выкроить у нее не получалось: то сил не хватало, то времени. Поэтому ее желания не сформировались в окончательной форме, не имели четких очертаний. От них осталось лишь одно томление, тоска по чему-то неясному, где-то рядом витающему, прекрасному, но несбыточному.
Она часто узнавала себя в младшей дочке, и тогда невольно сравнивала себя с нею и думала о том, что у них не совпадало. Она видела, что Любовь Борисовна стала тем, кем ей самой стать не удалось, хотя и хотелось. Как бы в продолжение ее затаенных мечтаний Любовь Борисовна выполняла свой долг по крайнему минимуму, ограничивая себя в самом естественном и насущном — например, в рождении детей. Ее младшая дочь, слава Богу, не жила под игом и на свои желания оставляла силы и время, хотя ее желания и были простенькими, но качественно иными: читать, смотреть фильмы, знать о музыке, живописи и скульптуре, развиваться самой. Любовь Борисовна точно так же любила мужа, как и Прасковья Яковлевна — стремясь стать призмочкой, через которую к ее мужу приходил бы другой мир, не тот, который способен был создать он сам. Но дело-то заключалось в том, что Любовь Борисовна изначально к выбору мужа отнеслась не стихийно, а осознанно. Если исходить из народной мудрости о том, что супруги бывают трех типов: напарники (сошедшиеся по выгоде), половинки (сблизившиеся по страсти) и суженые (породнившиеся по духу) — то Любовь Борисовна в своем муже нашла суженого, в то время как сама Прасковья Яковлевна — лишь половинку.
Вот поэтому возле Прасковьи Яковлевны крутились сытенькие младенцы-купидоны, символы смятой постели и пеленок. А Любовь Борисовну носили на крыльях мужи-архангелы, охранители души.
Оставшись одна в четырех стенах, Прасковья Яковлевна по крупицам перебирала прошлое и, глядя на него со стороны, заново оценивала.
Она находила, что после гибели родителей по-настоящему осиротела, иначе говоря, осталась внутренне одинокой, без возможности опереться на кого-либо в своих мыслях и чаяниях. Никого больше не было рядом, кто бы интересовался ею, стремился помочь из бескорыстной любви, кто бы постоянно разгонял тучи над ее головой. Может, где-то есть титаны, не нуждающиеся в такой любви, но она к ним не принадлежала — она тосковала по молчаливому взаимопониманию и по безоглядной преданности, чем были богаты ее родители и чем самоотверженно одаривали свою дочь.
Братья в счет не шли хотя бы потому, что разъехались далеко, где с трудами вживались в совсем другие заботы. Они завели свои семьи, а с ними — и новую родню. Все старое ими было отброшено и забыто, как детство.
Борис Павлович тем более таким другом для Прасковьи Яковлевны не стал, ибо был плодом совершенно другого мира, с иными ценностями и взглядами. Это она, конечно, поняла, но далеко не сразу, и много грустила от своей поспешности в выборе спутника жизни. Но так уж сложилось, и что-то менять она не собиралась, даже не думала об этом.
Оставшись одна, она однажды скажет Любови Борисовне:
— Слишком поздно ты привезла мне Голсуорси, дочка. Вот я тут у него, — Прасковья Яковлевна вынесла 8-й том огоньковского 16-томника, показала фразу, отмеченную закладкой, вычитала умные слова: — «Нет на свете худшей тюрьмы, чем неудачный брак». Вот так... Получается, прожила я в тюрьме. Но все равно хорошо, что теперь вы у меня есть, память о моей жизни...
Правда в тех словах была, ведь все в ее муже происходило по-другому — восприятия и понимания реалий. Его чувство меры, этика и нравственность были воспитаны другими традициями, и в таком виде в нем закрепились, отличая его поступки, а то и деяния, от представлений Прасковьи Яковлевны о правильном поведении. Вообще, как она находила, наблюдая за мужем, наука разумного поведения не усваивалась путем чтения книг или общения с окружающими — она брала начало в столь глубоком детстве, за которое человек не мог нести ответственность.
Примеры находились повсеместно. Взять неосведомленность и отношение к ней: один несведущему человеку поможет, а другой на чужой неосведомленности наживется. У советских людей пользоваться чужими ошибками да заблуждениями было не принято. Они презирали это, называли мошенничеством и даже преследовали законом. Такие пережитки буржуазной идеологии повсеместно искоренялось: в школах отличники бескорыстно помогали отстающим ученикам, а на производстве создавалось движение наставничества для обучения новичков. А в том мире, где вырос и сформировался Борис Павлович, наживаться на необразованности людей не считалось зазорным. Как теперь говорят в буржуазном мире, необразованность — проблема необразованных, и окружающие без стыда этим пользуются.
Получалось, что в то время как советские люди боролись с неграмотностью и развивали систему непрерывного образования{28}, Борису Павловичу больше нравился порядок вещей, при котором знания принадлежали избранным. В свое время он получил их в индивидуальном порядке и интуитивно хотел сохранить свое преимущество. Любое массовое явление он рассматривал как нечто низкопробное, и тем более не хотел вливаться в ряды людей с рядовым сознанием. Он чисто по-детски верил в пользу тайных знаний, считая, что они более качественные. Обладатели тайными знаниями были для него не презренными захребетниками, а героями, овеянными мистической романтикой древних времен.
Это лишь один из многих-многих примеров того, что природа этих двух людей — Прасковьи Яковлевны и Бориса Павловича — была совершенно разной. Свои различия она проявляла не только на понятиях внешней жизни или на отношении к внешнему миру, но и в ближнем круге. Мыслями и желаниями Борис Павлович вообще мало принадлежал семье, предпочитал оставаться независимым и даже жить на других широтах. Он вел себя так, словно не был вместе с окружающими, и только кое-кого по необходимости терпел рядом с собой, а тем временем в воображении вынашивал планы новых тайных удовольствий и путей их достижения. И эти качества в нем никак не менялись ни под давлением времени, ни под воздействием обстоятельств.
Именно от его чужеродности и отчужденности Прасковья Яковлевна больше всего и уставала. Малыми долями успеха она приземляла мужа, перековывала на свой лад хотя бы в той степени, которая помогала бы им находить общий язык. Но и это забирало все ее силы. В этой-то борьбе с кардинальной инаковостью мужа ей и требовалась иногда эмоциональная разрядка и психологическая поддержка.
Но других близких людей возле нее не было.
И вот подросли дочери, на которых она, пока растила их, держала надежду. Только ведь надежда — это не то, что вера и любовь. Не зря в народе утвердилось выражение «пустые хлопоты», что по содержанию тождественно выражению «пустые надежды». Осуществление надежд не подвластно тем, кто их лелеет, а зависит, например, от Бога, иногда от людей. С дочками Прасковьи Яковлевны тоже так получилось — против всех ее упований они оказались совершенно разными, как и их родители. Старшая стала точной копией отца, и только младшая пошла в Прасковью Яковлевну.
Настоящая благодать, благодать с привкусом взаимопонимания коснулось Прасковьи Яковлевны, когда муж отбывал наказание, а она осталась вдвоем с младшей дочерью, внезапно обнаружив ее как сложившуюся личность с определенными качествами. Трудно ей тогда жилось или нет, не о том речь — речь о сердечном настрое, о силе, которой ее душа подпитывалась. А сила эта струилась от 12-летней девочки, проявлявшей себя так, будто Прасковья Яковлевна находилась под ее опекой. Иногда казалось, что в ту девчонку вселилась душа погибшей Евлампии Пантелеевны. Прасковью Яковлевну, тонко чувствующую отношение дочери к себе, это радовало, только радость свою она показать боялась — чтобы не сглазить.
И вдруг в 1964 году, будучи в выпускном классе, младшая дочь ее сильно заболела{29}. Диагноз был грозным. Прасковья Яковлевна теряла почву под ногами от страха не только за дочь, но и за себя — ей не то что очень не хотелось опять оставаться совершенно одной в мире, ей казалось, что без младшей дочери она в нем просто не выживет. Тогда она второй раз вспомнила о Боге и молила Его о спасении девушки, понимая, что просто так Бог ничего не делает — Ему нужна жертва. В 1944 году, молясь за мужа, она обещала беречь его и жертвовала просьбами о себе. А теперь уж не знала, от чего еще отказаться, какие обеты давать, чтобы Бог услышал ее. Но вдруг Прасковью Яковлевну осенило, что сами по себе обеты, если непосильные, — тоже грех, ибо суета бесполезная. И она продолжала просто молиться. Попав же по работе в город, тихомолком посетила Свято-Троицкий Кафедральный собор, где заказала молебен о здравии дочери целителю Пантелеймону. Наконец, Бог услышал ее, послал юной Любови Борисовне спасительницу Екатерину Георгиевну — жаль, что фамилия ее в памяти не сохранилась.
И когда после лечения дочь пошла на поправку, Прасковья Яковлевна мужественно совершала подвиг деятельного самоотречения, многими трудами поднимая свое дитя на ноги. В течение года она радела над правильным питанием для девушки, готовила для нее щадящие яства — диетические, хоть это стоило неимоверных усилий и по времени, и по доставанию продуктов. А также щадила дочь по части физических нагрузок, даже не разрешала утюжить белье.
Гораздо позже в семью Прасковьи Яковлевны вернулась внучка Светлана и всецело заполнила ее дом своим особенным миром, еще неустоявшимся, еще безгрешным. В результате этого духовное единение с Любовью Борисовной значительно ослабло. Прасковья Яковлевна с головой погрузилась в заботы о внучке.
Благодати не стало, на смену ей пришла черная рутина быта, обслуживания земных человеческих нужд со всей неприглядностью плоти. Лишь слегка эта чернота была разбавлена нежностью к внучке.
А затем Прасковья Яковлевна почувствовала, что сил ее хватит на еще одно деятельное старание — будущему Светланы. И она пошла на подвиг сотворения условий для становления и укрепления Светланы в жизни, на подвиг споспешествования, способствования ей. Это был самый каторжный и продолжительный ее подвиг из всех. Та самая черная рутина — переживаемая ею с ужасающе реальной невыносимостью, никак не забывающаяся — стала платой за достижение Светланой своих целей. Это примиряло Прасковью Яковлевну с бесповоротными потерями — своих годов, сил и упущений в реализации желаний. Как ни горько-тяжко ей пришлось, но она успешно завершила свое последнее радение во имя родной кровинки!
А потом жизнь снова расцвела благодатью — когда Любовь Борисовна повезла ее в Таллин и Ленинград. Какое упоение она там познала, к какой прекрасной жизни прикоснулась! Музеи и театры всегда привлекали ее, а тут их было так много и таких вершинных, что от них никуда не хотелось уходить. Во время учебы в институте она изучала культуру Днепропетровска... Но сколько там того Днепропетровска и что она тогда понимала? О любви больше думала... И вот дочь показала ей иной мир, без эмоциональной грязи, без моральной нечистоплотности, зато с грустью о несовершенствах жизни и с откровениями о вечных истинах — и ее это окрылило.
Она вспоминала парикмахерскую, как ей делали единственный в ее жизни маникюр... Помнила, как украдкой посматривала на него, любуясь своими аккуратными узкими кистями. И конечно, помнила «Данаю», а пуще всего — «Девятый вал» и свое стояние перед ним, и невозможность уйти — казалось, без этой картины мир ее обеднеет.
Ленинград словно поднимал ее ввысь на своих мостах, и открывал перед нею мир — прозрачный и бесконечный, как свет белых ночей. Нигде больше не видела она таких странных рек, как там, — с морской водой.
Но все это длилось до ее возвращения в Славгород, а потом снова — платок на голову, глаза в землю, руки по локоть в работу.
Может, и неправильно так говорить, что благодать еще раз пришла к ней — именно тогда, когда она осталась одна, потому что само по себе одиночество есть наказание для человека. Но видно, для нее это наказание, при том, что дочери не забывали о ней, было менее тяжким, чем несение креста долгов и служений.
Ей было так утешно, так любо сердцу вместе с Любовью Борисовной заниматься воссозданием истории Славгорода в телевизионных фильмах, участвовать в написании книги о линкоре «Новороссийск», потом еще одной — «Наследство от Данаи». Правда, последняя — художественная. Но сколько в той книге было из рассказов Бориса Павловича, Галины Игнатьевны Ермак, да и ее, Прасковьи Яковлевны! Помнила она, как Любовь Борисовна читала на одном из их домашних творческих вечеров, где присутствовали Галина Игнатьевна и ее подруги, рассказ о депутате по прозвищу Яйцо. Это был почти документальный очерк об Иване Тимофеевиче Ермаке, муже Галины Игнатьевны, в пору, когда он исполнял обязанности депутата местных советов. Господи, какие были наивные и прекрасные времена! Только тогда люди его деятельность воспринимали всерьез, а теперь Любовь Борисовна описала свои отроческие впечатления с юмором. И они с Галиной Игнатьевной хохотали от каждого слова и только успевали промокать невольные слезы, глотать воздух и опять хохотали.
А потом Любовь Борисовна сидела тихо-тихо, а разгулявшиеся женщины вспоминали свою молодость, войну, как детей поднимали, как тайком крестили... Катя Изотова и Нина Тищенко вспоминали жизнь в Германии, куда их угоняли. После таких встреч, несмотря на их грусть, душа оживала и крепчала от чувства единения, товарищества, что все это пережито ими совместно, в одной беде-истории.
Помнила она и вечер, посвященный памяти Бориса Павловича. Как тот вечер хорошо был организован! Людям очень понравился: и молебен по усопшему батюшка отслужил, и любимые песни Бориса Павловича попели, и за столом его помянули — хорошие поминки получились. Для того и делаются они, чтобы дольше помнили тех, о ком на них говорилось.
Но вот у Прасковьи Яковлевны поселилась Александра Борисовна, и ее налаженная жизнь изменилась. Роковое сочетание помощи, получаемой от дочери, и платы за ту помощь начало свою схватку. А пока схватка длилась, рухнул у Прасковьи Яковлевны весь уклад быта, не стало условий для вольного времяпрепровождения. Ни телевизор смотреть она больше не могла, ни по дому бродить в часы бессонницы... Задвинутая в маленькую спаленку, что раньше была детской, она ночами плакала безутешно и не видела выхода для себя, чтобы прорваться к прежней независимости.
Прасковья Яковлевна забеспокоилась, подавляемая безысходностью. Она почувствовала, что антагонизм, поселившийся в ее доме, не временен, он свалились на нее навсегда — просто потому что она его уже не переживет.
О жизни рядом со старшей дочерью она старалась не говорить — не находила слов. Что значит прожить хозяйкой самой себе, а потом, потеряв силы, стать зависимой от человека, чужого по духу?! Да и по другим причинам не хотела. Пусть, думала она, Бог за все воздаст и правым, и виноватым, и ласковым, и злым.
Болезнь, впоследствии названная в эпикризе старостью, подступала к Прасковье Яковлевне незаметно и вела себя совсем не как болезнь, а как продолжение ее неудачного брака, поспешного, ошибочного — с утеснениями и обидами. Врачи рекомендовали ей жить с легкой душой, а она нагружалась тяжелыми впечатлениями от чужой жизни — той, что была ей не по нутру, что давила на нее как камешек в башмаке. Ей надо было не мучиться прошлыми ошибками да потерями и радоваться тому, что есть, а радоваться было нечему. Ей достаточно было бы простых забот о себе, покоя и простора в своем доме, возможности спать и бодрствовать в нем в любое время и возможности делать то, чего хотелось, — но все это у нее отняли. Казалось, в ее дом опять пришел каратель, который каждый день вскидывал винтовку и стрелял, — на этот раз целясь в ее висок.
Ее наития становились материальными, и чем больше дряхлела плоть, тем выше поднималась душа. Она постепенно наполнялась божественным светом, отдалялась от забот и мерок земных и превращалась в легенду. И понимала это! Она осознавала свою уникальность, ибо редко кому дано было перемолоть в своей крови столько бед, переломать и закопать их, утверждаясь в победе. В каждом прожитом дне она осиливала, одолевала бессердечие собственной судьбы и доказывала свое величие, свою соразмерность титанам, тоже сражавшимся с феноменальными испытаниями. Ей все это оказалось под силу! Тем с большим презрением относилась она к тем, кто не понимал ее масштаба и ждал ее смерти.
Иногда от этого делалось пусто и горько на душе, и прошлые годы казались проклятыми и неприглядными. Но потом это проходило, потому что книга о ней уже писалась, еще при ее жизни, она читала и правила отдельные главы и была довольна тем, что получается. На это она и уповала — правда о ней должна была восторжествовать.
Последние свидания с солнцем
Было в жизни Прасковьи Яковлевны событие, когда она после очередной крупной ссоры с Борисом Павловичем приехала к младшей дочери и попросила забрать ее к себе. Обещала: «Я вам обузой не буду, пойду работать».
А Любовь Борисовна, преодолев ошеломление, подробненько расспросила обо всем, что у нее дома случилось, выслушала и сказала: «Приезжай». Затем, как бы рассуждая вслух, добавила, что, с ее точки зрения, жить с ними в однокомнатной квартире она не сможет, ибо привыкла иметь свой дом и быть в нем хозяйкой. Да и город — не село, не понравится ей.
Чем отозвались те слова в бедной Прасковье Яковлевне теперь можно только представить... Настрадавшееся сердце ее получило удар с той стороны, откуда меньше всего ожидало. Водилась ли истина в словах Любови Борисовны или нет, но ее мысли были чересчур рассудочны, высказаны не вовремя, слишком прямо. Они не соответствовали моменту — эх, глупая молодость... Они не ранили, а убивали! Воистину, простота хуже воровства.
Но Прасковья Яковлевна выдержала и этот удар. На следующий день уехала домой и больше никогда этот эпизод своей жизни не вспоминала. Распря с мужем как-то улеглась, дни покатились прежние...
Возможно, то была ее первая серьезная попытка исправить ошибки молодости и изменить свое будущее, чтобы старость провести в покое... То был последний ее шанс. Не состоялось... Дочь не подала руку помощи, не вытащила маму свою из трясины, в которой та погибала...
Лет через двадцать, когда не стало Бориса Павловича, Любовь Борисовна вдруг прозрела и поняла, какую боль и муку доставила своей маме. И запечалилась душой, заболела — не найти слов, чтобы рассказать, как после этого она корила себя. И при первой же возможности спросила, как ее мама пережила те дни, когда она так жестоко поступила с нею, практически не приняла в свою семью. Спросила, чтобы попросить прощения, покаяться и сказать, что с тех пор все годы она невероятно пеклась душой и мыслями о маме, но и посейчас думает, что другого выхода тогда не было. Они долго беседовали вдвоем, все-все обсуждали-выясняли... И не могли понять, правильно ли тогда получилось, что Прасковье Яковлевне пришлось возвращаться к мужу и дальше нести свой крест.
И вот шел 2008-й год. При отнятой благодати Прасковья Яковлевна начала таять. Никого это не интересовало, на кого она жизнь положила, а она таяла и таяла у всех на глазах — теперь уже без жалоб, бессловесно... Просто ждала, пока у кого-нибудь совесть проснется... Дождалась, что однажды потеряла силы и больше не могла встать с постели. Умерла бы тогда, да вовремя младшая дочь приехала и забрала ее к себе — вдвоем с мужем на простынке вынесла из дому, усадила в машину и повезла к себе в город.
Прасковья Яковлевна смотрела в окошко по сторонам, узнавала дорогу и понимала, что с мозгами у нее все в порядке. А что же тогда заболело? Не могла понять.
Приехали во двор. Юрий Семенович, зять, побежал за стулом. Вытащили Прасковью Яковлевну из машины, на стул усадили, кое-как вдвоем с Любовью Борисовной донесли до подъезда, а выше внести не могут. И тут где взялся сосед, вроде мальчишка совсем. Так им казалось, потому что он незаметно вырос на их глазах. Отодвинул Любовь Борисовну в сторону, попросил отойти Юрия Семеновича, подхватил стул с Прасковьей Яковлевной и чуть ли не как пушинку вынес на третий этаж.
— Хоть бы на годик продлить ей жизнь, дать попрощаться с белым светом, — плача, говорила Любовь Борисовна врачам, пригласив их на следующий день. — Пусть бы она спокойно на солнце насмотрелась.
Врачи осмотрели больную, поставили диагноз, соответственно диагнозу назначили лечение. А браться самим за лечение отказались — боялись возраста, мол, больная может его не выдержать.
— Лечите под мою ответственность! — решила Любовь Борисовна. — Она никогда по-настоящему не лечилась, должна выдержать.
Так и поступили.
Организовали лечение Прасковьи Яковлевны по всем правилам — и капельницы ей ставили на дому, и уколы делали, и массажи, и зарядку, и режим правильный для нее держали. Три недели поднимали ее, и таки подняли. Купили ей ходунцы, научили с их помощью перемещаться по квартире. Прасковья Яковлевна и сама старалась, постепенно окрепла и скоро ходила сама, без ходунцов. А там начала домой проситься.
— Куда домой? Живи тут, — всплеснула руками Любовь Борисовна. — Теперь-то у нас не одна комната, а три — места хватает.
— Нет, не мое тут все. Везите домой, — настаивала Прасковья Яковлевна.
Решили, что сначала повезут ее в гости, а там видно будет. Как раз близящееся 8-е марта, день гибели ее родителей, выпадало на субботу, выходной день. Поехали. Побывали в Славгороде на официальных мероприятиях, проведали усопших, навестили соседок по улице, посидели в доме и поехали назад в город, долечиваться.
Еще недели через две потребовала Прасковья Яковлевна, чтобы ее насовсем везли домой. Не находила она себе места в городской квартире, не находила заботы, тосковала по земле и по воздуху.
— Дома я похожу по двору, выйду на улицу или на огород, подышу запахами земли — и мне уже хорошо. А тут что? Все чужое, — признавалась она. — Правильно, дочка, ты не стала срывать меня с места да в город забирать, когда я к вам попросилась. Не казнись и не ругай себя — не смогла бы я с вами жить. Ничего бы тогда не получилось.
— Да, наверное. Но надо было дать возможность тебе попробовать.
— А чего пробовать? Вон, тетя Галя досиделась у сына в Киеве на десятом этаже, что не чаяла домой попасть да на живую землю ступить. И хоть теперь у двоюродного племянника свои дни доживает, а благодарна вам, что вы с Юрой забрали ее от Сашка и привезли в Славгород. Все вспоминает вашу поездку, как ты, Люба, заботливо горшок для нее прихватила... И как ты догадалась?!
— Дело житейское, — улыбнулась Любовь Борисовна, — а дорога дальняя.
Так Прасковья Яковлевна вернулась в свой дом.
Соседки обрадовались ее появлению, обнимали, признавались, что не надеялись ее живой увидеть. Даже Зоя Григорьевна, очень высокомерная особа, и та расцеловала Прасковью Яковлевну и сказала, что рада снова встретиться с нею.
Через год Прасковье Яковлевне дома повторили лечение, которое она принимала в Днепропетровске. Эти старания продлили ей срок жизни на два с половиной года.
Теплый сезон 2010-го года начинался многообещающе, без сбоев. Весна наступила вовремя и неспешным вальяжным шагом продвигалась широко, размашисто. В начале мая зацвели сады и кустарники — классический вариант хорошей погоды. Все дни Прасковья Яковлевна, сидя в одном из садовых кресел, однажды привезенных ей младшей дочерью, гуляла во дворе и вдыхала ароматы флердоранжа{30}, шедшие с юга, и долетающие из палисадника запахи сирени — при восточном ветре. Второе кресло стояло рядом и одним своим присутствием напоминало и о дочери, и о том, что иногда тут посиживают собеседники, — рядом с этим пустым креслом витала надежда и не чувствовалось одиночества, вроде его и не было в мире.
Отшумел Первомай, настало 9-е Мая. С утра у Прасковьи Яковлевны поселилось на душе какое-то тревожное ожидание. Она связывала это с тем, что в этом году впервые не пойдет на сельский митинг, ежегодно проводящийся на площадке у завода; не пройдет вместе со всеми к месту расстрела отца ее, не проведает братские могилы... Так она решила по нескольким причинам: не хочет утруждать своих детей, которые должны будут возиться с нею; хочет сохранить силы и подольше пожить на земле; не хочет, чтобы односельчане видели ее совсем постаревшей, с согнутой спиной; а еще потому, что нет уже никого из тех, кого бы она рада была видеть. Никого уже нет из ее поколения, одна она осталась — всех пережила. Стала старейшим жителем Славгорода. Даже Галина Игнатьевна, уж на что гвоздь была, а и та этой весной отошла в мир предков. Правда, где-то проживает еще Хохленко Ефросинья Ивановна, отданная невесткой в богадельню... Так это уже не в Славгороде.
Само решение отойти от общественной жизни поселка, устраниться от прежних ритуалов — никому не поведанное, сокровенное — волновало Прасковью Яковлевну, как будто оно должно было дать некий ответ, как будто вслед за ним должно было случиться что-то значительное. И в этом была правда, ведь она затеяла самый настоящий эксперимент — хочет выйти из событий и посмотреть, как будет продолжаться жизнь без нее. Хочет убедиться, что все пойдет по-старому, по давно заведенному порядку. Такой итог эксперимента ее бы устроил.
Утро началось необычно — над Славгородом долго кружил самолет и разбрасывал открытки. Это были поздравления с Днем Победы, написанные от лица Президента Украины, с его автографом. Дети шумными стаями гонялись за небесными посланиями, собирали их и тут же раздавали тем, кому они не достались. Одна открытка опустилась прямо во двор Прасковьи Яковлевны, к ее ногам. Прасковья Яковлевна уже понимала, что это, потому что слышала детские крики на улице, их беготню. Взволнованно подняла столь оригинально доставленное поздравление, прочитала и после этого все время посматривала на небо, как будто еще чего-то ждала от него. В самом деле, думала невольно, раньше она боялась неба и его сюрпризов. Чего только не сыпалось оттуда на головы несчастных людей: и град, и громы-молнии, и бомбы, и устрашающие фашистские листовки... А тут вот — поздравление, как вещий знак. А вдруг и в самом деле знак? Вдруг теперь жизнь станет лучше?
Она все еще держала в руках открытку, когда во двор въехал седан «Шевроле» цвета разогретой морской волны, — приехала Любовь Борисовна с мужем.
Старшая дочь начала собираться на митинг.
— Не пойдем сегодня, — остановила ее Прасковья Яковлевна. — Давайте дома посидим, пообедаем, посмотрим друг на друга. А то ведь до конца лета уже не соберемся.
— На твой 90-летний юбилей обязательно соберемся, — пообещала Любовь Борисовна.
Каждое лето она с мужем ехала в Алушту, где у них была квартира, и жаркое время пересиживала там, на побережье. Квартира хорошая, просторная, в три комнаты, с видом на море. Вода в доме — как родниковая, такая чистая и холодная. Тишина кругом. Дорога на пляж забирает не более десяти минут, потому что море рядом, всего 500 метров до воды. Утром и вечером выйдешь на балкон и дышишь натуральным морским воздухом, почти что с брызгами. Запах воздуха — непередаваемый. Там ее простуды проходили, аллергия унималась, немного укреплялось здоровье.
Отметили 9 Мая своим небольшим кругом, посидели в тени яблони, переждали, пока спала жара. Затем распрощались со слезами, и поехали гости к себе в город, чтобы завтра с утра ехать в Крым.
Жизнь Любови Борисовны в Крыму начиналась с генеральной уборки квартиры после долгого стояния без жильцов... Полагалось сразу после заезда обмести стены, вымыть окна, кафель, светильники, мебель, всю кухню, перестирать и переутюжить покрывала. При слабом здоровье Любови Борисовны на эту работу уходило недели две. Вместе с этим надо было побегать по сервисам, чтобы включили кабельное телевидение, интернет, квартирный телефон.
Почти сразу по их приезде в Алушту позвонила Александра Борисовна, заговорила озадаченным голосом.
— Что-то наша мама запечалилась, — сообщила первым делом. — 9-го Мая, сразу после вашего отъезда, как встала у окна, так и стояла до темна, глядя вам вслед.
— Скажи, что мы немного уберемся и заберем ее к себе, — всплакнув, сказала Любовь Борисовна. — Пусть потерпит.
Прасковью Яковлевну Юрий Семенович еле довез до Крыма, такая она была слабенькая. Любовь Борисовна, узнав, что муж уже во дворе, встречала маму на своем этаже. Та еле вышла из лифта, за стенку взялась и остановилась. Дальше идти не могла. Любовь Борисовна подхватила ее и почти на руках внесла в квартиру. Обмыла, уложила в постель, накормила.
Она знала, чем лечить Прасковью Яковлевну и все уже заготовила, кроме внутривенных уколов, на которые больная не соглашалась. Две недели поднимала Любовь Борисовна свою маму, билась над ней как могла.
Постепенно Прасковья Яковлевна опять поднялась на ноги, начала ходить по квартире, потом с Любовью Борисовной выходила на улицу и гуляла по скверику Черемушкинского жилмассива, сидела на скамейке у подъезда.
— Мамочка, как ты себя чувствуешь, — однажды спросила Любовь Борисовна, — может, завтра поедем на прогулку?
— Куда?
— А куда ты хочешь?
— Вон в то село, — показала Прасковья Яковлевна в окно, откуда был виден Чатыр-Даг с прилепившимся к нему селом.
На следующий день так и сделали — устроили поездку к подножию Чатыр-Дага, в селение Лучистое. Потом провезли Прасковью Яковлевну к озеру Кастель, что лежит в восьми километрах от Алушты, под горой Парагильмен.
Однако на крымские красоты Прасковья Яковлевна взирала без энтузиазма, потухшим взглядом, как на что-то чужое.
— Хочешь, завтра поедем в Ялту? Погуляем по набережной, — предложила Любовь Борисовна.
— Да, хочу, — согласилась Прасковья Яковлевна.
В Ялту дорога чуть длиннее. Прасковья Яковлевна внимательно рассматривала ее в окно, смотрела на море.
— Все здесь чужое, — наконец, тихо сказала она. — Камень, камень, горы... Это козой надо быть, чтобы здесь жить. У нас лучше. И зелени у нас больше.
Любовь Борисовна не стала спорить, потому что любой уголок земли хорош по-своему. А у ее мамы, она видела, настроение не очень хорошее. Не настроена она на путешествия.
Против ожидания в Ялте они хорошо погуляли. Юрий Семенович, правда, остался сторожить машину, а Любовь Борисовна с Прасковьей Яковлевной прошлись по набережной, постояли у самой воды, посмотрели на яхты, на большие корабли.
Потом прошли на алею со скамейками, сели отдохнуть. Для разнообразия съели по порции мороженого, после него выпили по чашечке кофе. Прасковья Яковлевна смотрела на прохаживающихся людей, думала о своем.
— Вот так гулять, как эти люди, мы с твоим отцом не умели. Он же непоседой был. И я его понимаю. Скучно нам было бы ходить туда-сюда без дела.
— Ну, эти люди придумывают себе всякие маленькие дела, чтобы не скучно было.
— Какие?
— На других посмотреть, свой новый наряд или туфли новые надеть, покрасоваться...
— Не понимаю я этого.
— Всему учиться надо. Просто тебе не пришлось. Но ты ведь любила гулять в Ленинграде?
— О, сравнила! В Ленинграде есть на что посмотреть, там, куда ни глянь — везде история. А тут что?
— И тут есть история. Хочешь, поедем завтра в Ливадию, посмотрим зал, где проходила Ялтинская конференция союзных держав в феврале 1945 года?
— Да, очень хочу! — с энтузиазмом ответила Прасковья Яковлевна. — Там же Сталин был...
Наутро Прасковья Яковлевна долго не выходила из своей комнаты, а Любовь Борисовна боялась ее тревожить. Думала, что мама устала вчера и теперь долго спит. Но вот терпение ее иссякло, и она заглянула к ней. Прасковья Яковлевна сидела давно одетая, да еще в платке на голове, что свидетельствовало о ее намерении ехать домой.
— Ты почему так долго не заходила? — встретила она дочку.
— Думала ты спишь.
— Везите меня, дети, домой.
— Зачем, мама? — спросила Любовь Борисовна — Разве тебе у нас плохо?
— Мне у вас очень хорошо, — призналась Прасковья Яковлевна. — Но я вам ничего хорошего не сделала. Я жизнь прожила для Шуры, значит, она и должна досмотреть меня до смерти. Не хочу вас отягощать. Не заслужили вы такого наказания. Поехали!
Делать было нечего, пошел Юрий Семенович готовить машину к поездке. Прасковья Яковлевна тем временем вынула из своей давно сложенной сумочки кошелек, достала из него последние 400 гривен и протянула дочери.
— Это вам с Юрой по 200 гривен в подарок от меня на дни рождения, — вывернув кошелек, показала, что он пуст. — Больше у меня нет.
— Спасибо, мамочка. Нам с Юрой по 100 гривен хватит, — Любовь Борисовна вернула половину денег. — Бери, чтобы до пенсии ты не оставалась без копейки.
Прасковья Яковлевна долго прощалась с квартирой — прошлась по ней, на все внимательно посмотрела. Вышла в коридор.
— Спасибо, что приняли меня погостить.
— Мама, ну что ты, — Любовь Борисовна обняла ее. — Может, останешься?
— Нет, пора мне, — Прасковья Яковлевна вышла за порог, еще раз оглянулась на квартиру, слегка поклонилась ей, совсем слегка, но это ее движение Любовь Борисовна заметила.
Прошли к машине.
— Простите меня за все, — глядя дочери в глаза, со значением сказала Прасковья Яковлевна.
— За что? — Любовь Борисовна взяла маму за руку. — Ну что ты? Тебе не за что извиняться, мамочка. Тебе за все спасибо.
Прасковья Яковлевна и Любовь Борисовна обнялись и расцеловались. Наконец, машина тронулась. Любовь Борисовна стояла и смотрела, пока она выедет на шоссе и поравняется с их домом. Вот она появилась из-за поворота. Юрий Семенович остановился на видном месте, посигналил жене, а она в ответ помахала рукой.
Больше Любовь Борисовна свою маму живой не видела.
Домой Прасковья Яковлевна ехала бодрее, чувствовалось, что лечение и отдых в Крыму пошли ей на пользу.
Судьба послала Прасковье Яковлевне еще одну встречу с зятем. Дело было в самую жару, когда вся природа страшно устала от ее долгого гнета, чем 2010 год вошел в историю. Юрий Семенович был в Днепропетровске по делам и на обратном пути в Крым заехал к Прасковье Яковлевне повидаться.
Посидел возле нее, рассказал новости, отдохнул в тенечке.
— Пора мне ехать, — встал и поцеловал Прасковью Яковлевну в щеку.
Она поблагодарила зятя за приезд и провела на улицу, где оставалась машина. А потом стояла и смотрела ему вслед, пока он не повернул на главную дорогу. Юрий Семенович видел это в зеркало заднего вида.
Он вернулся в Крым в пятницу, а в воскресенье позвонила Александра Борисовна с печальным известием — Прасковьи Яковлевны только что не стало{31}.
Пропуск в бессмертие
Не каждый человек достоин вечной памяти, а лишь проживший жизнь для людей, трудом своим обогативший страну и пустивший в народ не потребителей, а радетелей. Память — понятие духовное, оно не касается плоти, а относится исключительно к душе, к созиданию, к сохранению нетленных ценностей. И в этом смысле Прасковья Яковлевна заслужила и этой книги, и вечной памяти, и пропуска в бессмертие.
Бог послал ей немилосердную судьбу. Словно в отместку за счастливое детство Он наслал на нее «десять казней египетских»{32}. Все самое страшное, что может случиться с человеком, она, что называется, изведала на своей шкуре.
Опыт ее, слово ее — это мудрость высшей пробы, испытанная в самых суровых земных юдолях, выдержанная, настоянная на болях и слезах. Прасковье Яковлевне, прошедшей через ад наяву, дано было проникнуть в такие тайники бытия, куда путь беспечным и счастливым заказан. Ее мудрость полита потом, выкована из страданий, рассчитанных на людей особенной категории, на исполинов духа. Они сотканы из страданий души от сознания, что выхода из них нет. Это убийственное знание! Жить с ним невозможно. Но уж кто смог выжить под игом беспощадной правды, тот многого стоит, и его достижения уникальны и бесценны.
Такой мудростью, которая созрела в Прасковье Яковлевне, не обладает ни эрудит, ни любитель чтения, ни ученый, ни философ, ни просто старый человек, если он не был обижен, обманут, предан и оскорблен, если его не сиротили, не обирали до нитки, не оставляли нищим, не держали в атмосфере бездуховности, не заковывали в кандалы навязанных обязанностей. Прасковья Яковлевна все это изведала, прошла через огонь, золу и прах, через пули, кровь и смерть. Ей были не в диковинку любые лабиринты, в которых теряется простак, — выходы из них она знала, ибо находила сама. Кто может сравниться с мудростью такого человека, видавшего невиданные виды?
Судите сами.
Прасковья Яковлевна в юности натерпелась страху за отца, попавшего в плен и когти врага, откуда героически вытащила его и спасла.
А чего стоил расстрел родителей, случившийся у нее на глазах, и чудесное спасение мужа и братьев? Это события одного порядка, приводящие к такому потрясению, после которого не каждый человек сохраняет здравый рассудок.
Был в ее жизни угон мужа и братьев в Германию, в вечное рабство, из которого тогда не виделось выхода. Казалось, что оно упало на их головы навсегда. И как было ей жить после этого, оставшись одной с ребенком и больной бабушкой на руках, о том она не рассказывала, надеясь, что умный поймет.
Пережила Прасковья Яковлевна «похоронку», известие о гибели мужа. Возможно, уготована была Борису Павловичу верная смерть от ранения. Да вот Прасковья Яковлевна отмолила мужа у Бога, горячо обещая хранить его, то есть оставаться рядом с ним, дабы отводить от опасностей. И это обещание свято исполняла до последнего дыхания.
Уже в мирное время, когда от людей смерть отошла, Прасковью Яковлевну она продолжала преследовать, забрав младенца-сына. Кто не терял детей, тот не проникнется всей болью этой потери.
А дальше был труд и труд, пот и темнота в глазах. Каждая копейка, попадавшая в руки Прасковьи Яковлевны, доставалась ей с надрывом живота, с неимоверными усилиями ума, воли и физических сил. Чтобы заработать, она изобрела и кормление детей в школе, и решилась восстановить в своем селе старую пекарню и запустить ее в работу, и в течение нескольких лет кормила все население поселка полноценным хлебом домашней выпечки.
Мало этого? Для одной хрупкой женщины — мало?
Бог решил, что мало. Эх, Бог...
Он послал Прасковье Яковлевне два горя сразу — тюрьму и суму, что сравнимо по жестокости со смертным приговором, который перенес Достоевский. Борис Павлович попал за решетку как раз тогда, когда она ушла с работы в связи с его награждением Орденом «Знак Почета» и последующими хорошими заработками. Только Федору Михайловичу тот смертный приговор отменили, а Прасковью Яковлевну силы небесные не пожалели, а наоборот, отняли малейшую возможность прожить без трудов — забрали заработанный мужем орден и причитающиеся к нему льготы.
А она не ожесточилась. Она все равно служила добру и светлым силам! Добравшись до своего берега, начав работать на культурном поприще, все силы отдавала педагогическому призванию, приклоняла детей и подростков к книге, к чтению, посвятила себя пропаганде знаний и полезных увлечений.
Каждый ли человек приложил руки к постройке нового дома? Наверное, нет, а Прасковья Яковлевна строила дом, когда была уже немолода, в 40 лет. Другие ее сверстники в этом возрасте уже готовились к отдыху, а она трудилась, чтобы заработать деньги на жилище для потомков, чтобы помочь мужу на стройке, чтобы кормить семью горячей и вовремя приготовленной пищей. Да еще параллельно поднимала искусственно вскормленную внучку, что упала на ее руки. Конечно, внучку можно рассматривать, как лекарство, чтобы душа не задохнулись от бесконечной жестокости Всевышнего по отношению к ним, к Прасковье Яковлевне и к Борису Павловичу.
Ну хватит испытаний, хватит горя на одну хлипкую душечку!!!
Нет, подумал Бог, не хватит — плохо, когда тебе наступают на ноги, но видеть, как топчут того, кого ты любишь, — еще хуже. Пожалуй, этого еще не испытала Прасковья Яковлевна. Вот это Бог и приготовил ей в качестве очередного «подарка». Он наслал на младшую дочь Прасковьи Яковлевны смертельную болезнь, да еще в самый ответственный период, когда она оканчивала школу — чтобы сломать девочку, истребить, уничтожить. А нет, то хотя бы оставить инвалидом, столкнуть на дно, сгноить в селе, не дать пройти к своей мечте. И опять от Прасковьи Яковлевны потребовалась годичная аскеза! От всего отрешившись, она на себе выносила дочь из болезни, спасала для дальнейшей жизни.
Что, отдохнуть? Не бывать этому!
Бог не долго думал и послал Прасковье Яковлевне заботу о внучке, о ее поступлении в вуз, об учебе и параллельном воспитании двух ее детей. Прасковье Яковлевне было уже за 60 лет, когда ее оторвали от здорового коллектива и принудили в одиночку поднимать беспокойного младенца-правнука. О, этот нескончаемый изматывающий год...
Только последнего наказания Прасковья Яковлевна пережить не смогла — когда воздух у нее отобрали, простор... да и на доброту поскупились, чего уж скрывать.
Все казни Господни пропустила Прасковья Яковлевна через свое сердце, чтобы представить своим потомкам образец несгибаемости под ударами судьбы.
Не лишне еще раз подчеркнуть, что Прасковья Яковлевна никогда не действовала импульсивно, непродуманно, никогда не жалела себя в ущерб возложенным на нее обязанностям. В их исполнении она видела высший смысл служения миру, своего пребывания на земле. Это главная ее черта. Неважно, нравилось ей то, за что она бралась, или нет, но если она что-то делала, то делала старательно, со всей душой, со всем прилежанием.
Говорят, человек не может прожить так, чтобы не согрешить, ни разу не пойти против совести, не уклониться от лишних хлопот...
А вот Прасковья Яковлевна смогла так прожить — мужественно и безупречно! Она оставила своим наследникам главное — пример достойного соблюдения долга, кристальной душевной чистоплотности. И этим достоянием они должны гордиться и дорожить, храня память о ней.
Славгород – Днепропетровск – Алушта
13.05.2002-14.08.2018
Дополнения
1. Мирные жители пос. Славгород, расстрелянные немцами 8 марта 1943 года
1. Антоненко Алексей Дмитриевич
2. Антоненко Михаил Дмитриевич
3. Антоненко Федор Дмитриевич
4. Багнюк Виктор Григорьевич
5. Бараненко Алексей Федорович
6. Бараненко Владимир Михайлович
7. Бараненко Евлампия Пантелеевна
8. Бараненко Петр Павлович
9. Бараненко Семен Иванович
10. Бараненко Сергей Семенович
11. Бараненко Яков Алексеевич
12. Бачурин Николай Федорович
13. Бебченко Леонид Михайлович
14. Бигуненко Карп Иванович
15. Биленко (Максим?)
16. Ведмидь Михаил Петрович
17. Голубенко Михаил Федорович
18. Горовой Андрей Гаврилович
19. Гудым Иван Мефодиевич
20. Демченко Виктор Яковлевич
21. Дзюба Иван Михайлович
22. Дураев Николай Яковлевич
23. Еременко Михаил Иванович
24. Ермак Иван Петрович
25. Ермак Николай Дымович
26. Ермак Николай Иванович
27. Ермак Николай Ильич
28. Жбанков Ефим Никитич
29. Жбанков Никита
30. Жмудов Ефим Дорофеевич
31. Коваленко Александр Захарович
32. Кожумякин Анисим Тихонович
33. Коломоец Яков Яковлевич
34. Кондра Иван Семенович
35. Коробка Алексей Иванович
36. Коровкин Евгений Степанович
37. Кошевой Георгий Ефимович
38. Крышня Иван Харитонович
39. Лемешко Павел Григорьевич
40. Лунин Иван Иванович
41. Максимов Ефим Федорович
42. Максимов Иван Федорович
43. Мезин Сергей Федорович
44. Мелашич Иван Михайлович
45. Мирошниченко Григорий Карпович
46. Мирошниченко Филипп Карпович
47. Мищенко Аким Михайлович
48. Муховик Юрий Львович
49. Неплюев Иван Петрович
50. Нестеров Андрей Егорович
51. Нестеров Иван Андреевич
52. Нестеров Иван Харитонович
53. Нестеров Михаил Романович
54. Нестеров Роман Егорович
55. Нестеров Федор Андреевич
56. Николенко Прокофий Григорьевич
57. Николенко Федор Григорьевич
58. Онипко Кирилл Кондратьевич
59. Пивень Артем Антонович
60. Пивень Владимир Антонович
61. Почтовой Яков Леонтьевич
62. Приходченко Степан Яковлевич
63. Пуценя Захар Васильевич
64. Пуценя Иван Яковлевич
65. Пуценя Петр Нестерович
66. Рапота Георгий Яковлевич
67. Репий Григорий Яковлевич
68. Рощин Николай Иванович
69. Руденко Григорий Данилович
70. Серых Павел Михайлович
71. Сидоренко Прокофий Андреевич
72. Сиренький Иван Иванович
73. Сиромаха Яков Федорович
74. Соболь Иван Лукич
75. Солдатов Андриан Иванович
76. Солдатов Михаил Андрианович
77. Стрельник Алексей Филиппович
78. Стрельник Николай Филиппович
79. Таран Пантелей Максимович
80. Татаренко Михаил Елисеевич
81. Терещенко Алексей Дмитриевич
82. Тищенко Григорий Владимирович
83. Тищенко Иван Гаврилович
84. Тищенко Игнат Васильевич
85. Тищенко Михаил Трофимович
86. Тищенко Никифор Иванович (или Данилович)
87. Тищенко Николай Илларионович
88. Тищенко Николай Петрович
89. Тищенко Семен Владимирович
90. Тищенко Семен Степанович
91. Тищенко Федор Илларионович
92. Тройной Дмитрий Иванович
93. Тройной Павел Иванович
94. Туник Семен Андреевич
95. Федоровский Даниил Стеникович (Степанович?)
96. Харитонов Яков Борисович
97. Феленко Порфирий Сергеевич
98. Шалагуров Федор Васильевич
99. Шаповал Василий Григорьевич
100. Швец Петр Иванович
101. Швец Филипп Иванович
102. Щербина Николай Константинович
103. Яковлев Федор Павлович
104. Ясько Константин Михайлович
4. Хроника жизни Николенко Прасковьи Яковлевны
Основные события
1920
13 октября — рождение в семье Бараненко Якова Алексеевича, колхозного агронома, и Бараненко (Сотник) Евлампии Пантелеевны, рядовой колхозницы.
1927
1 сентября — пошла в школу.
1937
25 июня — окончила среднюю школу. С сентября — начало работы учителем (имела право как окончившая среднюю школу с тремя учительскими классами — 8-м, 9-м и 10-м, представлявшими собой общеобразовательный курс педагогического института).
1938
1 сентября — поступление в Учительский институт (так как старшие классы средней школы считались педагогическими, то тут это учительское образование продолжалось всего два года и этим завершалось). Поступала по направлению Синельниковского районо как отлично проявившая себя на работе.
1939
26 октября — брак с Николенко Борисом Павловичем, (т. к. в конце лета сблизилась с будущим мужем и почувствовала последствия).
1940
3 июня — рождение дочери Александры и окончание учебы в Учительском институте.
1941
22 июня — начало Великой Отечественной войны.
Октябрь — организация побега отца Якова Алексеевича из немецкого плена.
1943
8 марта — трагическая потеря родителей — Якова Алексеевича и Евлампии Пантелеевны.
1945
9 мая — окончание Великой Отечественной войны, Победа.
1946
1 марта — рождение сына Алексея.
17 апреля — смерть сына Алексея.
29 апреля — начало работы секретарем Синельниковского народного суда.
1947
9 апреля — увольнение из Синельниковского народного суда.
14 июля — рождение дочери Любови.
1960
Март — начало строительства нового дома.
13 марта — рождение внучки Светланы.
1962
Сентябрь — переезд в новый дом.
1965
Май — поездка к фронтовому другу мужа.
1977
Август — поездка на Камчатку, в гости к брату Алексею.
1984
Июнь — поездка в Таллин-Ленинград, поездка продолжалась две недели.
1986
Июль — поездка в санаторий, Хмельник, Западная Украина.
2001
19 января — смерть мужа Николенко Бориса Павловича.
2010
22 августа — конец жизни в 7-00–7-30 утра, был воскресный день, первый погожий день, с утренней прохладой после аномальной августовской жары.
Выписка из трудовой книжки
Трудовая книжка выписана 28 сентября 1954 года взамен пропавшей во время войны
1954,28 сентября — принята на должность продавца школьного буфета Славгородского сельпо, расп. № 9 от 28.09.1854
1957,27 августа — переведена в овощной лоток в должности продавца, расп. № 23 от 27.08.1957
1958,14 июля — переведена в должности рабочей пекарни, расп. № 35 от 14.07.1958
1961,3 августа — переведена в должности продавца дежурного магазина, расп. № 12 от 3.08.1961
1962,1 сентября — переведена в должности заведующей сельмага № 1, расп. № 51 от 1.09.1962
1965,24 марта — переведена заведующей культмага Славгородского СПО, расп. № 16 от 24.03.1965
1980,7 мая — уволена по собственному желанию, расп. № 67 от 16.05.1980
1985,22 мая — принята кассиром сельпо, расп. № 41 от 22.05.85
1990,5 июня — присвоена квалификация кассира, расп. № 49 от 5.06.1990
1991,23 января — уволена по ст. 40′, п. 1, расп. № 7 от 23.01.1991
1991,2 сентября — принята кассиром сельпо, расп. № 81 от 2.09.1991
1991,6 декабря — уволена по собственному желанию, расп. № 105 от 6.12.1991
1992,15 января — принята буфетчиком сельпо в столовую САЗ, расп. № 3 от 15.01.1992
1992,18 февраля — уволена по собственному желанию, расп. № 12 от 18.02.1992
1992,26 мая — принята кассиром сельпо, расп. № 31 от 26.05.1992
1993,2 февраля — уволена по собственному желанию, расп. № 4 от 2.02.1993
Поощрения и награждения
1972, 20 апреля — за хорошую работу объявлена благодарность и награждена почетной грамотой, протокол № 4 от 20.04.1972
1973, 19 октября — по итогам соц. соревнования за сентябрь и ІІІ квартал 1973 года присужден переходящий вымпел за первое место и денежная премия, постановление от 19.10.1973
1978, 10 ноября — за хорошую работу в честь 61-й годовщины Великого Октября награждена денежной премией, расп. № 203 от 10.11.1978
Свекла против шоколада
В окна проникают пылеобразные, туманные лучи солнца, прорезают пространство комнаты и стелются по полу желтой повиликой, ложатся узорчатыми пластами ярких пятен, перемежаемых тенями от встретившихся на их пути преград. Свет греет старые, покрытые сетью мелких трещин кафельные плиты, поднимает от них легкие пары случайно упавшей влаги. Открытые везде форточки взрываются щебетом ласточек и приторно-сладкими запахами отцветающих лип, шумом огрубевших тополиных листьев, куриным кудахтаньем о снесенном яйце и игривыми лаями собак.
Июль, Любови Борисовне недавно исполнилось два года. Но она все помнит.
Борис Павлович стоит в кухне, у входа в недавно отгороженную от нее комнату, и держит дочку на руках, а Прасковья Яковлевна возится где-то сзади, вокруг снуют еще какие-то люди. Царит всеобщее оживление, бурлит поток эмоций в радостных голосах. Захваченная общим взбудораженным настроением, маленькая Люба вертится, поворачиваюсь то туда, куда смотрит отец, то в противоположную сторону и заглядывает ему за спину, боковым зрением ища мамин силуэт. Мама здесь, Люба ведь слышит это: от волнения мама — умеющая не производить звуков, тихая, бесшумная — суетилась чуть громче обычного. Папа, наоборот был непривычно притихший. Нервничая, он слегка подбрасывает дочь на руке (чукикает), пошлепывает по ягодичкам и при этом подкашливает. Ничего не стряслось, просто родители самочинно перестроили внутренность родительского дома: выбросили русскую печь и за счет освободившегося места сделали дочкам детскую комнату. Теперь же волновались, гадая, как на это отреагирует Алексей Яковлевич, вчера приехавший из Полтавы, чтобы попрощаться с сестрой перед поездкой на Камчатку, куда он «завербовался» с молодой женой. Он имеет на дом такие же права, как и Прасковья Яковлевна, а она не спросили его согласия на перепланировку. А ну как он запротестует? Конечно, печь назад не вернешь, но и скандала не хотелось.
Но Алексей Яковлевич выглядел весьма респектабельным и успешным человеком, не расположенным покушаться на то немногое, чем располагала его старшая сестра. Жить в родительском доме он не собирался, ибо уезжал в новую жизнь, строя большие планы, ему было не до мелочей.
Люба же с высоты отцовых рук изучала необыкновенно красивого гостя, подмечая его смущение от чрезмерного к нему внимания и наблюдая его благодушное желание снять тревогу с сестры и ее мужа. Осматривая поблескивающим от веселости взглядом результаты произведенной реконструкции, он теребил свисающие вниз усы и где-то там прятал улыбку, а все выжидающе молчали. Девочка обеими руками держала огрызок вареной свеклы и доедала его с ленивым аппетитом.
— Все получилось хорошо, — на незнакомом языке сказал Алексей Яковлевич, который девочке понравился мягкой мелодичностью, тем более что оказался понятным. — Вы правильно сделали.
— Понимаешь, — Борис Павлович с облегчением вздохнул и заговорил: — нам на заводе обещают отпускать уголь. А это топливо совсем не для печи. Да и хлеб в село теперь привозят, люди сами уже не пекут. Зачем она нам, печь? Только тепло из дома выдувает да место занимает.
— Правильно. Настало другое время, отставать от него нельзя. Ну что, малышка, растешь потихоньку? — обратился Алексей Яковлевич к племяннице и потянулся к свекле. — Ну-ка давай это сюда.
Маленькая Люба с основательной неспешностью отдала свеклу, облизалась и сложила ручки на груди, перебирая липкими от сока пальцами. С внимательным, вопросительным интересом посматривая на родственника. Дядя достал нечто в яркой обвертке, странными движениями пальцев снял ее, извлек на свет почти черный кусочек и протянул Любе.
— Ешь, это вкуснее, — с лучащейся оживленностью сказал он и стал ждать ее реакции.
Угощение оказалось твердым, каким-то расползающимся на языке и горьковатым. Его вкус девочке не понравился. Она скривила мордочку, высунула язык, выталкивая изо рта откушенное угощение. Протянув к дяде растопыренную руку, она невольно выронила шоколадную конфету и паучьими движениями пальчиков затребовала вернуть кусок свеклы, который отдала ему.
— Адяй! — в ее голосе прозвенела требовательность.
Окружающие дружно захохотали.
— А что? — сказал Борис Павлович. — Это нам привычнее. Да, доця?
— Дя, — согласилась девочка, ничем не смутившись, и принялась энергичнее доедать сельское лакомство, чтобы у нее его больше не отобрали.
У Прасковьи Яковлевны, подошедшей вытереть от шоколада руки и мордочку дочери, глаза светились нежностью и счастьем.
Комментарии
1
Мытарства угоняемых в Германию мужчин детальнее описаны в книге Л. Овсянниковой «Эхо вечности. Багдад – Славгород» — о Борисе Павловиче.
(обратно)2
Танталовы муки — глубокие переживания, связанные с невозможностью получить желаемое, которое находится на расстоянии вытянутой руки.
(обратно)3
Читай об этом в моей книге «Преодоление игры», во 2-й главе «Проигранные бои», рассказ называется «Роковая беспечность».
(обратно)4
Фраза из фильма «В степах України», 1952 г.
(обратно)5
Особисты — сотрудники особого отдела. Особый отдел — наименование военной контрразведки ВЧК—ГПУ— ОГПУ— НКВД— Комитета государственной безопасности СССР.
(обратно)6
Синдром младенческой смерти встречается довольно часто. При полном благополучии ребенок до года умирает. На вскрытии, как правило, ничего не могут обнаружить. Однако есть признаки удушения. Ученые склоняются к тому, что это врожденная аномалия работы головного мозга.
(обратно)7
Первый отдел — отдел в организациях, осуществляющий контроль и наблюдение за секретным делопроизводством, обеспечением режима секретности, хранением секретных документов. Такой отдел был в каждой организации, имевшей какое-то отношение к секретной информации.
(обратно)8
Однажды при разминировании объекта, где работал Алексей Яковлевич, взорвалась опора высоковольтной линии. В этом увидели диверсию. Алексея Яковлевича ждал приговор военного трибунала. Но суды не затевались с бухты-барахты. Была создана комиссия, проведено расследование со специальным экспериментом. И эксперимент показал, что во взрыве не было человеческого умысла, что он произошел случайно. В результате этого Алексей Яковлевич был оправдан.
(обратно)9
Тут Алексей впервые увидел свою племянницу, которую спас от смерти, когда та была еще в утробе его сестры. Сидя на руках у отца, девочка ела вареную свеклу и отказалась от шоколада, которым Алексей ее угостил. См. в дополнении рассказ «Свекла против шоколада», а также книги Л. Овсянниковой в серии «Когда былого мало».
(обратно)10
Номенклатура (лат. nomenclatura, обозначающего «роспись имён, перечень, список») — это правящий класс, власть имущие, политическая элита. В данном случае — принадлежность к руководителям, подотчетным непосредственно Совету Министров СССР.
(обратно)11
Паратунка — село в Елизовском районе Камчатки, административный центр Паратунского сельского поселения, находится в долине гейзеров и знаменито своими лечебными термальными водами. Находится в верховьях реки Паратунки, в 70 км юго-западнее Петропавловска-Камчатского.
(обратно)12
В сентябре 1948 года в семье Прасковьи Яковлевны и Бориса Павловича случилось два важных события — «воскрешение из мертвых» Павла Емельяновича и возвращение домой Петра. Так что описываемый вещий знак Борис Павлович в своих рассказах относит то к своему отцу, то к Петру.
(обратно)13
О рождении и жизни младшей дочери см. цикл книг Л. Б. Овсянниковой «Когда былого мало»: «Шаги по земле», «С историей на плечах», «Преодоление игры», «Вершинные люди», «Нептуну на алтарь».
(обратно)14
Заготзерно — зернозаготовительный пункт, Всесоюзная контора по заготовкам и сбыту зерна.
(обратно)15
В то время холодильников еще не было.
(обратно)16
Непоседа.
(обратно)17
ПТУ — профессионально-технические училища, заведения по подготовке рабочих для разных отраслей промышленности.
(обратно)18
Архитекторы: Хенно Сепманн, Аво-Химм Ловеер, Пеэп Янес, Антс Райд, Велло Аси, Ауло Падар, Лео Леэсаар (при участии Алар Орувеэ, Илмар, Хейнсоо, Кристин Лоовеер).
Объект расположен в районе Пирита, относительно недалеко от Певческого поля и Цветочного павильона. Как правило, на многочисленных открытках этот объект представлен в виде умещающегося в кадр здания яхт-клуба на фоне парусных яхт. На самом же деле, Центр парусного спорта — это огромный комплекс сооружений, нанизанных на единую ось длиной 450 метров, в число которых входит собственно яхт-клуб, гостиница, спортзал, бассейн, ресторан, ремонтные мастерские и даже некое загадочное "Церемониальное здание".
(обратно)19
Kaubamaja (эст.) — универмаг.
(обратно)20
Купон — отрез ткани на швейное изделие.
(обратно)21
Раушенбах Борис Викторович — советский и российский физик-механик, один из основоположников советской космонавтики, доктор технических наук, профессор. Академик АН СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии.
(обратно)22
С 1998 года этому мосту вернули старое название — Зеленый мост.
(обратно)23
Бронюс Майгис, имя такого гада не хотелось в основном тексте писать.
(обратно)24
Невосприимчивость зеленого цвета называется дейтеранопией.
(обратно)25
Достаточно прочитать книги цикла «Шаги по земле» Л. Б. Овсянниковой, где рассказывается о курочках Лале и Нане.
(обратно)26
Лечкомиссии — крупные медицинские центры. В 1931-м году приказом Совнаркома такие лечебные учреждения были созданы практически в каждой республике Советского Союза. Их главной задачей было оказание профилактической и лечебно-диагностической помощи в первую очередь руководителям государства и заслуженным лицам.
(обратно)27
Первый том книги о Борисе Павловиче уже опубликован в Сети под псевдонимом Лора Сотник, его название «Москва-Багдад».
(обратно)28
Система непрерывного образования предполагала, что на любом этапе жизни, в любом коллективе человек имел возможность продолжать как общеобразовательное обучение, так и профессиональное — через политические семинары, информационные часы, творческие общества, общества популяризации знаний и пр.
(обратно)29
Подробнее об этом в книге Л. Б. Овсянниковой «Преодоление игры», главы «Просто дежурная медсестра» и «Ночная санитарка».
(обратно)30
Цветок апельсина, но поскольку он — традиционная часть свадебного убора выходящих замуж девушек, то в широком смысле флердоранжем называют то, что украшает невесту. В степных широтах это цветы абрикоса.
(обратно)31
Более подробно о последних мгновениях жизни Прасковьи Яковлевны можно прочитать в книге Л. Овсянниковой «Преодоление игры», глава «Упование не умирает».
(обратно)32
«Десять казней египетских» — описанные в Ветхом Завете бедствия, постигшие египтян за отказ египетского фараона освободить евреев из рабства.
(обратно)


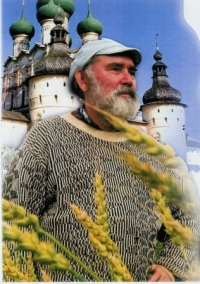


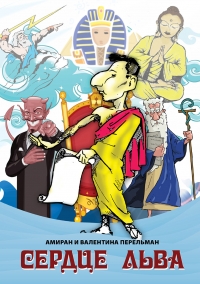
Комментарии к книге «Презирая дымы и грозы», Любовь Борисовна Овсянникова
Всего 0 комментариев